I
Лес, лес и лес… Настоящий дремучий сибирский лес, сохранившийся в этой местности каким-то чудом, потому что кругом, на сотни верст, все настоящие леса давным-давно сведены и выжжены заводчиками. Этот лес известен под именем «середовины», потому что лежит на границе казенной дачи и дачи Пластунских заводов; по мнению главного пластунского лесничего, он принадлежит Пластунским заводам, а по мнению казенных лесничих, — казне. Это спорное положение спасло «середовину» от конечного истребления, но в недалеком будущем ее постигнет общая участь всех уральских лесов — она будет, конечно, истреблена до последнего дерева, как умеют истреблять леса только на Урале.
Одним краем «середовина» упирается в широкое торфяное болото, а другим прилегает к каменистой грядке невысоких увалов; болото уходит далеко на север, где в синеватой мгле встают уже настоящие горы. Если смотреть на окрестности с вершины одной из этих гор, картина представляется довольно оригинальная, особенно рано утром, когда болото покрыто еще туманом; болото разлеглось неправильным разливом на десятки верст, на нем отдельные горки и увалы выдаются, как острова или гигантские бородавки, а «середовина» кажется громадной черной овчиной, растянутой по неровной, чуть заметно всхолмленной поверхности. В Среднем Урале таких картин слишком много, и с каждым шагом на север эти болотины разрастаются все шире и шире.
Лес в «середовине» сосновый, дерево к дереву, как восковые свечи, и только по опушке образовался смешанный подсед из березняков, рябины и черемухи, который на болоте переходит в настоящий болотный «карандашник», то есть в чахлые и корявые березки, в кривые тонкие сосенки-карлицы, тальник, ивняк, и кусты смородины. Этот карандашник точно заражен золотухой или английской болезнью, но сосны-карлицы имеют по сту лет и более. Тяжело смотреть на такое дерево-урод: ствол непропорционально тонок, узловат, во многих местах согнут и покрыт совсем особенной мертвой корой, есть даже гнилые язвы, из которых сочится мокрота; рядом с этим золотушным, чахлым лесом середовинский бор является какой-то лесной гвардией, где каждое дерево — богатырь…
Здесь необходимо заметить, что «середовина» служила гранью между северным дремучим лесом и лесными породами средней полосы: там, где высились синие горы, залегли беспросветные ельники, пихтарники и кедровники, там тянутся к небу своими распростертыми коряжистыми ветвями едва опушенные бледной зеленью листвени, а к югу пошли веселые светлые бора, березняки, липовые острова. На севере сосна является исключением, как ель на юге, да и северная сосна такая жалкая, вытянутая и голая сравнительно с коренастыми гвардейцами той же «середовины». В настоящем северном лесу-таежнике чувствуется какая-то глубокая печаль, точно вся природа закуталась в темно-зеленый траур; не то в «середовине», где было так светло и просторно, как под высокими стрельчатыми сводами какого-то гигантского храма. Всякая дичь любила держаться около этой «середовины»: по опушкам кормились табуны поляшей (косачи), рябчики, вальдшнепы, в глубине — глухарь, в болоте — дупеля и т. д. Одним краем через «середовину» протекала река Пластунья, очень болотистая и иловатая в верхотинах, но делавшаяся чище в низовьях, точно она проходила чрез какой-то невидимый фильтр, в котором оставляла ил, тину и крутившуюся в ее струях желтоватую муть.
Около этой «середовины» была отличная охота: весной по опушкам тянули вальдшнепы, на лесных прогалинках токовали косачи; в перелет Пластунья покрывалась утками и гусями, — летом здесь кормились отличные выводки, а глухой осенью, по первой пороше, били косачей с подъезда и на чучело. Прибавьте к этому зайцев и волков, которые перебивались около «середовины», а по весеннему «насту» здесь была отличная охота на диких коз и даже оленей, хотя олень редко заходил в «середовину», потому что кругом было уже слишком голо. Ввиду такого разнообразия дичи охотников всегда тянуло в «середовину», которая во всем своем составе на двадцативерстном расстоянии находилась под наблюдением всего одного сторожа, известного у охотников под названием Прохорыча, или попросту — «Секрета». Кто дал Прохорычу это название: Секрет — неизвестно, но оно как нельзя лучше шло к нему: Секрет так секрет и есть. Самая физиономия Прохорыча изобличала его «секретное» происхождение: широкое русское лицо, узенькие голубые глазки, глядевшие как-то тревожно и таинственно, рыжая окладистая бородка, сдвинутые заботливо брови, особенно когда Прохорыч начинал закручивать длинный тараканий ус. Говорил он отрывисто, какими-то обрывками фраз, и любил выражаться иносказательно и даже своим особенным высоким слогом, потому что сильно понаметался около господ. Костюм Секрета составлялся очень замысловатым образом из разного тряпья, хотя он и держался в нем с большим гонором, потому что чувствовал себя записным охотником, а записные охотники всегда щеголяют в сборных костюмах — это своего рода мода и щегольство.
Сторожка Секрета приткнулась к самому бору и была заслонена со стороны болота редким березняком, так что незнакомый человек по самым точным указаниям, когда приходится поворачивать десять раз направо и столько же налево, едва ли отыскал бы замысловатое жилище Секрета, особенно летом, когда оно совсем пряталось в зелени.
— Как-то я сам плутал-плутал по лесу-то, а своей избушки не нашел, — объяснял Прохорыч знакомым охотникам, молодцевато закручивая усы. — Конечно, маненько в разу был… от знакомого барина ехал… славный такой барин в городу у меня есть. Ну, поднес мне стаканчик, да три стаканчика на свои выпил, в глазах-то и задвоило… Почитай, цельную ночь по середовине ездил да в лесу и заснул, а избушки не доехал, будет — не будет, сажен двести.
Снаружи сторожка Секрета была просто вросшая в землю лачуга, сильно покосившаяся на один бок; вместо крыши была насыпана толстым слоем земля, покрытая густой травой и даже молодыми березками. Около этого дворца из сухарника была пригорожена «стая» для скотины и небольшой пригон. Внутренность сторожки заключалась всего в одной комнате — направо небольшая русская печь, налево в углу стол, сейчас от двери около стены деревянная кровать, две скамьи, колченогий стул — и только. На стене над кроватью висело два ружья, около печки полочка с посудой, под кроватью разбитый сундук с движимым, на покосившемся окне вечный горшок с красным перцем — дальше этого желания Прохорыча не шли, потому что Прохорыч в душе был немножко философ и, как все философы, жил по преимуществу духом. В этой избушке Прохорыч проживал со своей женой Власьевной и с двумя белоголовыми ребятишками и, кроме того, ухитрялся держать еще квартирантов — то каких-то каменотесов, то приисковых старателей, то гуртовщиков; кроме того, у него останавливались всегда охотники, особенно летом, когда кругом «середовины» было настоящее раздолье. Жена у Прохорыча, бабенка лет тридцати пяти, была как раз ему под пару и постоянно ходила с каким-то испуганным лицом.
— А вы вот что мне скажите, барин, — приставал Секрет к каждому новому знакомому, — чем я теперь живу в лесу?..
— Как чем: ведь ты жалованье получаешь, как лесник…
— Я? Жалованье?.. Мое жалованье вот какое: приду к казенному лесничему за месячным, а он мне: «Ты проси у пластунского управителя жалованье-то, потому середовина-то ихняя», ну, я в Пластунский завод, там немец Бац управителем, ну, он гонит за жалованьем к казенному лесничему, потому, говорит, середовина казенная… Уж ходишь-ходишь, кланяешься-кланяешься. А бывает и так, что два жалованья получишь… Ей-богу!..
В качестве записного охотника Секрет врал любую половину, но его средства действительно были сомнительны, и он больше кормился от приезжавших охотников.
— Кабы не господа — пропадай! — заявлял Секрет сам. — От господ только и питаешься, особливо к Ильину дню, когда из Пластунского завода, из Боровков и из прочих местов народ страдовать начинает. Баб тогда по покосам множество, а господам это даже весьма любопытно бывает… Боровские-то кержанки вон какие, Христос с емя: точно ямистая репа, ну и гулеванки тоже, когда мужиков близко нет. Что этого вина в те поры с господами выпьешь — страсть!.. Ну, зимой, обыкновенно, тишина, а к лету опять и оттаешь… С ранней весны кружить-то начинаем, только тут смотри: одних господ не успел проводить — другие катят, да так кругом и идет. Народ все прахтикованный, сейчас к каждому применяешься: кому и что — один насчет водки, другой за бабами, третий куликов стреляет, а есть и такие, что едут просто сами себя удивлять… Ей-богу, такие фокусы строят — кто что придумает!..
Господа, приезжавшие на охоту в «середовину» из города и с заводов, для Секрета служили неистощимым источником для самых пикантных рассказов, причем одним из главных действующих лиц являлась всегда водка.
— Лучшие самые господа приезжают, — объяснял Секрет при каждом удобном случае. — Пьешь, пьешь, даже совестно в другой раз сделается… а нельзя, потому я должен уважить.
Одним словом, в качестве «прахтикова иного» мужика Секрет умел «утрафить» всем и благодаря такой изворотливости ухитрялся существовать почти безбедно. Но у Секрета была и своя хорошая сторона: он горой стоял за свою «середовину» и постоянно сражался с лесоворами, которые делали набеги на его участок. Лесоворный промысел на Урале распространен как нигде и обратился в настоящую профессию, потому что отвода лесных наделов населению еще не произведено. Вы услышите очень часто стереотипную фразу, что такой-то «занимается по лесоворной части», как другие занимаются по части приисковой, кожевенной, сундучной и т. д. И нужно заметить, что эта «лесоворная часть» организована отлично, на разбойничий манер, так что с лесоворами происходят у лесной стражи настоящие сражения. Секрет лез на стену при одном имени лесоворов.
— Варнаки и душегубы все до единого, — кричал Секрет, начиная показывать полученные в разное время рубцы и членовредительства. — Во как по пояснице изуважили в позапрошлом году, — пять ден вылежал… А то по глазу хлобыснули в том году, так думал: смерть моя, а уж что было по затылку кладено — и счет потерял.
— Да ведь и ты им не пирогами откладываешь?
— Обнакновенно, разговор короткий; я их, варнаков, вашескородие, сухим горохом стреляю… На, носи — не потеряй, голубчик!.. И только расшельма и народец: один беспалый ездит, а другой — с одной левой рукой. Такие кряжи заворачивают — страсть, вершков двенадцати. Что же, должен я на них смотреть, вашескородие, сложа руки?.. Сколь мога и я их веселю… Больно уж зимой одолевают: цельную ночь сторожишься другой раз. Не однова меня спалить начисто хотели, да пока бог хранит, что дальше. Боятся они меня, потому как я вполне отчаянный человек насчет лесу… Бож-же сохрани!
Иногда на Секрета от этих воспоминаний нападало тяжелое раздумье, и он с неподдельной грустью прибавлял:
— А несдобровать, барин, середовине-то… ох, несдобровать!..
— Почему так?
— Да уж так: сердце чует… Пятнадцать годов я здесь выжил, а теперь сумлеваюсь. Как-то Бац говорит мне: «Ну, Секрет, пиши духовную своей середовине, скоро мы ее за себя переведем, и сейчас только одни угольки останутся». Точно он меня ножом полыхнул… И переведут, беспременно переведут, потому кругом голо — один карандашник, ну, на середовину теперь зубы и точат. Ноне ведь в Пластунском заводе сплошной немец пошел… Уйму леса извели проклятущие, точно они его жрут, потому известно — чужое, разе жаль его: повертится немец-то год — два, сведет лес, да и хвост убрал. Нет, видно, шабаш середовине…
Однажды в конце июля я сильно опоздал на охоте, до города было далеко, и я отправился переночевать к Секрету. В лесу уже было совсем темно, когда я подходил к сторожке со стороны «середовины». Секрета не оказалось налицо, а Власьевна даже не повернула головы в мою сторону и только сердито ткнула рукой по направлению горевшего огонька, разложенного под березками, саженях в двадцати от сторожки.
— Мне бы самовар, — попросил я, но Власьевна и на этот раз точно так же не удостоила ответом, а только махнула рукой в прежнем направлении.
Эта немая сцена в переводе обозначала то, что самовар под березками и что Секрет прохлаждается там с какими-то хорошими господами. Оставалось идти под березки — очень веселое и тенистое место днем, — господа весьма «уважали» эти березки. Ночевать летом в избушке Секрета нечего было и думать, потому что там вечно стояла какая-то отчаянная кислая духота, и охотники обыкновенно располагались под открытым небом у огонька.
— В самый раз, вашескородие… прреотлично! — встретил меня Секрет, торопливо вскакивая с земли. — А мы тут с Евстратом Семеновичем чаишко швыркаем и насчет мухи…
Прямо на траве стоял кипевший самовар, тут же торчала початая бутылка водки и какая-то сомнительная снедь в измятой газетной бумаге; огонек едва дымил, отгоняя зудевших в воздухе комаров, а около него, растянувшись на траве, лежал громадного роста «мушина», как говорят горничные. По длиннополому сюртуку, красной рубахе навыпуск и подстриженным в скобку волосам лежавшего «мущину» нельзя было отнести в разряд настоящих господ, а скорее это был какой-нибудь гуртовщик или прасол. Прислоненное к дереву дешевенькое тульское ружье и развешанные на сучьях какие-то лядунки доказывали несомненную принадлежность «мущины» к лику охотников.
— Они по торговой части, из Пластунского завода, — лебезил Секрет, закручивая усы. — Может, слыхали: Важенин, Евстрат Семеныч?.. Бакалейное и колониальное заведение и галантереи…
— Не ври ты, ради Христа, — отозвался лениво Важенин, не поворачивая головы в мою сторону. — Полфунта чаю да голова сахару — вот и вся наша колониальная торговля…
Важенин тихо засмеялся пьяным самодовольным смехом и сел. Это был видный черноволосый мужчина под сорок; свежее румяное лицо, окладистая черная, как смоль, бородка, белыезубы и певучий грудной тенорок делали его моложе своих лет, и он смотрел настоящим молодцом. Серые глаза, опушенные длинными загнутыми ресницами, заметно слипались, потому что Важенин был «в разу» и сильно раскачивался на месте. Это лицо и особенно ленивая улыбка показались мне знакомы, но я не мог припомнить в числе моих знакомых фамилию Важенин.
— Побаловаться чайком, — приглашал Важенин, улыбаясь блаженной улыбкой захмелевшего человека. — А мы вот тут того маненько… разгрызли полштофчик.
Пока Секрет рассказывал, как они «дрызнули» после чая, я успел освободиться от разной охотничьей сбруи и с удовольствием растянулся на траве; около меня улегся мой Бекас, коричневый пойнтер, уставший, кажется, больше меня. Положив свою лобастую умную голову мне на сапог, собака, прищурив желтые глаза, внимательно смотрела на суетившегося около самовара Секрета и с видимым удовольствием нюхала воздух.
— Это ваша собачка? — спрашивал Важенин, когда я уже допивал второй стакан. — Ничего, форменный песик… А вот я, грешный человек, не люблю собак. Вы чему это смеетесь?
— Да так… Извините, нескромный вопрос: вы из старообрядцев?
— Около того… по родителям-то совсем кержак, а самто по себе, пожалуй, и православный. А вы почему подумали обо мне, что я из старообрядцев?
— Потому что все старообрядцы не любят собак…
— Верно, есть такой грех. А знаете, почему не любят-то?
— Нет.
— А потому не любят, что бес являлся многим угодникам в образе пса… Это и в книгах написано.
Мы разговорились, и я окончательно убедился, что гдето встречал этого Важенина, но где — не мог припомнить никак.
— Вы меня не узнаете? — спросил я, наконец. — Я гдето вас встречал, а не помню, где…
Я назвал свою фамилию. Важенин внимательно посмотрел на меня и с улыбкой проговорил:
— Даже, можно сказать, весьма вас помню… Этому уж лет шесть будет, как вы у меня даже в гостях были в Пластунском заводе. Запамятовали? Да и то сказать, что вам и помнить-то трудно этот самый случай, потому как вас ко мне привезли в лежку….
— А, теперь вспомнил, — обрадовался я и тоже засмеялся.
Моя встреча с Важениньм была действительно довольно оригинальна. Поздней осенью я был на охоте в горах около Пластунского завода и схватил сильнейшую простуду, кончившуюся плевритом; больного меня отправили на место жительства, и я в первый раз пришел в себя в каком-то совершенно незнакомом доме. Как теперь вижу маленькую комнату с крашеными лавками, я лежал на кровати, а против меня у русской печки сидел вот этот самый Важенин и внимательно смотрел на меня. Помню, что мне ужасно было тяжело — томила жажда, кружилась голова и перед глазами ходили какие-то круги, но одна фраза, сказанная Важениным с какой-то детской наивностью, заставила меня рассмеяться. Смотрел, смотрел он на меня, встряхнул намасленными волосами и каким-то необыкновенно добродушным тоном проговорил:
— А ведь вы, господин, помрете… ей-богу, помрете!..
Я напомнил этот эпизод Важенину, и мы посмеялись вместе.
— А плохо ваше место было тогда, — говорил он, наливая себе и мне по стаканчику. — Конечно, в животе и смерти один господь волен, а вот и встретились… Может, еще и меня переживете, — прибавил Важенин и грузно вздохнул своей могучей мужицкой грудью. — Мы так думаем по своему разуму, а господь строит другое… Пожалуйте!..
В конце июля летние ночи на Урале бывают особенно хороши: сверху смотрит на вас бездонная синяя глубина, мерцающая напряженным фосфорическим светом, так что отдельные звезды и созвездия как-то теряются в общем световом тоне; воздух тих и чутко ловит малейший звук; спит в тумане лес; не шелохнувшись, стоит вода; даже ночные птицы, и те появляются и исчезают в застывшем воздухе совершенно беззвучно, как тени на экране волшебного фонаря. Чтото такое торжественное и великое чувствуется в такой ночи, которая проходит над спящей землей неслышными шагами, как таинственная сказочная красавица, чарующая все кругом уже одним своим присутствием. Именно была такая ночь, когда мы прохлаждались у Прохорыча под березками. Несмотря на усталость после охоты, спать совсем не хотелось, да и нужно было потерять всякую совесть, чтобы проспать такую ночь, как спал, например, Бекас, свернувшись кренделем около огонька. «Середовина» превратилась в темную сплошную глыбу, затаившую в себе все звуки; по болоту ползал волокнистый туман, сквозь мертвую тишину чуть-чуть проносился какой-то смутный шепот, заставлявший собаку вздрагивать.
Секрет подбрасывал в огонь щепочек, закручивал усы и облизывался, поглядывая на бутылку с водкой.
— Так ты, Евстрат Семеныч, значит, приходишь[1] на свовото родителя? — спрашивал Секрет, очевидно продолжая разговор, который они вели до меня.
— Приходить не прихожу, а к слову сказать, — уклончиво ответил Важенин, перевертываясь на другой бок. — Рассуди, голова с мозгом: кабы ежели тогда покойный родитель определил меня к Михряшеву, да ведь я бы теперь деньгам счету не знал, а тут изволь по копеечке да по грошику сколачивать… Михряшев-то тогда по заводам страсть гремел — первый человек был, потому деньжищ уйма и везде кабаки и лавки с панским товаром. Приказчиков одних у него двадцать человек было, а он меня еще у Ивана Антоныча видал… Я тогда в казачках при Иване Антоныче состоял, и все, бывало, в передней торчишь, ну, Михряшев бывал у нас и заметил. Денег даже давал, когда под пьяную руку приедет. У Ивана Антоныча разливанное море было, потому прежние заводские приказчики жили не по-нонешнему: вон наши пластунские управителя не живут, а жмутся. Тогда и жалованьишка малюстенные были, а ничего, жили. Н. у, Михряшев свой человек был и приметил меня, потому как был я парень чистяк: кровь с молоком. Как-то разговорились они промежду себя пьяные, ну, Михряшев и выпросил меня у Ивана Антоныча, чтобы в лавку посадить. Совсем дело на мазе было, да родитель поднялся на дыбы: не хочу и кончено, потому Михряшев хоша и из наших старообрядцев, а совсем обмиршился и все компанится с бритоусами и табашниками.
— Да ведь и Иван-то Антоныч миршил тоже?
— Вот поди ты… «Ты, говорит родитель, у приказчика служишь в казачках не по своей воле, — потому крепостной человек, — и греха на тебе нет, а как перейдешь к Михряшеву — и грех примешь на душу, — потому своя воля…»
— А ведь оно, пожалуй, и тово, верно сказано-то…
— Уж на что вернее!.. Покойный родитель постоянный был человек и как слово сказал, как ножом обрезал. Он в те поры в заключении находился…
— А все-таки жаль: из-под носу ушло богачество-то, — жалел Секрет, мотая своей беспутной головой. — Все михряшевские приказчики вон как ноне живут: все до единого в купцы вышли, и ты бы вылез, кабы не родитель.
— Беспременно бы вылез, потому Михряшев напоследки сильно ослабел, а приказчикам это и на руку: все растащили… Даже жаль было со стороны глядеть: Михряшев гуляет, а приказчики волокут из лавок товар сколь мога.
— Экая жалость, подумаешь, а и ты на руку охулки не положил бы, Евстрат Семеныч; пожалуй, еще больше бы других волок…
— Уволок бы, потому я тогда этой самой водки даже не прикасался… Прямо сказать, — настоящим бы купцом сделался.
— Ишь ведь… а-ах, жаль, право, жаль! Кажись, доведись даже до меня экой случай, так я бы не одну лавку уволок у Михряшева-то… — соболезновал Секрет, ерзая по траве.
— Барин-то спит? — шепотом осведомился Важенин про меня, протягивая руку к бутылке.
— Спит… Так, совсем пустой человек: набегается по болоту, ну, и сейчас спать, — рекомендовал меня коварный Секрет.
Они выпили, пожевали какую-то закуску и долго молчали; Важенин был совсем пьян и начинал дремать, но Секрету еще хотелось «дрызнуть», и он, как «прахтикованный» человек, «из-под политики» старался поддержать разговор:
— А где Харитина-то, Евстрат Семеныч?
— Померла нонешним годом…
— Вместе, значит, с Михряшевым?
— На одном месяцу.
— Добрая была душенька, дай ей, господи, царствие небесное! — вздохнул Секрет и даже перекрестился. — Заступалась она за нашего брата, когда Иван Антоныч зачинал лютовать. До смерти бы меня закатал, ежели бы не Харитина… И то замертво в лазарет унесли… Ох, лют был драть покойник!.. Я тогда у кричных молотов ходил, ну, тяну полосу, а Ивана Антоныча и принесло на грех в кричную. Поглядел, поглядел на мою полосу, а она с жабриной, ну, известный разговор: «Ты, миленький, зайди ко мне, как обед ударят…» Троихто нас позвал. Пришли. Он на крылечке этак летним делом сидит, в одном халате, и посмеивается: «Ну, миленькие, обижаете вы меня…» Тут же перед крыльцом меня первого и разложили, два здоровенных конюха у него были, ну и давай прикладывать. Только и драли — из кожи из своей рад вылезти, а Иван Антоныч посмеивается да приговаривает: «Не я тебя, миленький, наказываю, а сам себя бьешь… Попомни, ангел мой, жабринку-то, да и другому закажи! Еще миленькому-то поднесите горяченьких да харроших… Ну, ангелы мои, постарайтесь!..» Ну, слышу я, что уж из ума меня вышибает, и базлать[2] перестал, а только молитву сотворил про себя, а Иван Антоныч все приговаривает да посмеивается — чистая смерть приходила… Спасибо, тогда Харитина на крыльцо вышла и отняла меня, а то запорол бы насмерть. На рогожке без памяти тогда меня в лазарет сволокли, три недели вылежал… Ведь он тогда в скором времени до смерти запорол Никешку Зобнина, так под розгами и душу отдал.
— Ничего ему не было за Никешку?
— Ничего… все дело замяли, потому какой на Ивана Антоныча в те поры суд — темнота одна была.
—: Сказывают, Харитина-то в большой бедности проживала напоследях… И куда, подумаешь, все девалось: у Ивана-то Антоныча вона сколько добра было накоплено — невпроворот!
— Что уж говорить… Только детей после Ивана Антоныча не осталось, умер он наскоре, духовной не оставил, ну, Харнтину племяннички и пустили в чем мать родила. Ейбогу… Вместе с Михряшевым бедовала в городу: и тот без гроша и она тоже Жаль глядеть было… Да что еще было: у Михряшева-то кой за кем были должишки в Пластунском, вот он как-то по зиме и соберись — с обратьними ямщиками к нам на Пластунский и прикатил. Шубенка-то на нем плохонькая, сам седой весь, отощал… И что бы думал, братец мой, походилпоходил по зазоду — ни одна шельма ну гроша не отдала, а над ним же, над стариком, потешаются, потому как есть совсем бессильный человек. А те ироды-то, приказчики-то его, даже чаю напиться не позвали старика… Ну, увидал я его и позвал к себе, так он даже заплакал. Ей-богу… «Вот, говорит, Евстратушка, наша судьба человечецкая: весь тут, и стар, и хладен, и гладен!» Переночевал у меня, покалякали… «А я, говорит, на них-то, на иродов-то, не прихожу — в ослеплении, говорит, поступают, а одного жаль, что вот ты тогда ко мне в приказчики не угодил — может, тебе бы тоже польза была, по крайности в люди вышел бы». Ну, и Харитина страсть как бедовала в городу… на господ платье стирала и этим кормилась. Привезешь ей ситчику на платьишко или чаю — уж как рада была… Худая стала, да все кашляла, — так на работе и изошла вся..
Важенин вздохнул и налил стаканчик; Секрет заметно нагружался и начинал коснеть языком, но он пил до последнего издыхания.
— Хочу я тебя, Евстрат Семеныч, давно спросить… — говорил Секрет после выпивки, — то есть насчет этой самой Харитины… разное болтают… хе-хе!..
— Ну, чего болтают? — грубо спросил Важенин, приподнимаясь на локоть.
— Да насчет тебя, что будто имела она большое прилежание к тебе… хе-хе!.. Ей-богу, вот сейчас провалиться…
— Дурак!!. Я вот тебе такое прилежание покажу.
— Да ведь я так, Евстрат Семеныч… не серчайте… с простоты.
— То-то, с просроты… Знаем мы твою простоту, черт!..
Пауза. Важенин тяжело ворочается; вопрос Секрета, очевидно, задел его за живое, но он крепится. Опять стаканчик и глухое кряканье.
— Дурак!., черт!.. Разве ты можешь это понимать, образина? — ругается Важенин, сжимая кулаки. — Я тебе такую проволочку пропишу. «Прилежание»?! Подлецы вы, вот что…
— Да ведь я…
— Поговори еще… ну, поговори?.. А ты знаешь, на скольком году Харитина вышла замуж-то?.. То-то вот и есть… «Прилежание»! Дьявола… Ивану-то Антонычу было под шестьдесят, когда он Харитину взял, а ей шестнадцатый годок шел… Из бедных была, ну, старик на ее красоту польстился. На моех глазах все было… Иван-то Антоныч на фабрику уйдет, а она ребячьим делом в куклы играть али ребятишек назовет да с ними давай кувыркаться… Право, черти!.. «Прилежание»… Какой у ней разум в те поры еще был: так, девчонка-девчонкой… А Иван Антоныч не разбирает — свое взыскивает, — потому муж. Сильно они вздорили по ночам, потому у ней еще ребячье на уме, а ему подай свое…
— Бил он ее, сказывают?..
— Бивал… Как-то раз приходит из фабрики, а Харитина заигралась в куклы, да пирогом с осетриной и опоздала — не дошел маненько пирожок-то. А Иван Антоныч уж за столом сидит и свою рюмочку предобеденную налил, ну, она со страхов-то недопеченный пирог и велела подавать… Тронул его Иван Антоныч да сейчас же Харитину за косы и давай обихаживать по всей горнице, — та ревет не своим голосом, а ой приговаривает таково ласково: «Вот тебе, Харитинушка, пирожок с осетриной!.. Вот тебе, ангел мой, еще пирожок с осетринкой… Вот тебе, душенька, и еще… не я тебя, голубчик, наказываю, а сама себя бьешь!» Уж он ее таскал-таскал, колышматил-колышматил, пока не натешился, ну, пирог-то в это время и допекся, а Иван Антоныч обедать… Не красно ей жилось, уж что говорить. Плачет, бывало, как одна останется, рекой льется. Ну, сначала меня стеснялась будто, а потом примне плакала… Убираешь, бывало, со стола или там что, а она сядет в уголок и примется причитать, — тоску такую наведет, хоть самому плакать, так в ту же пору. Конешно, дело наше маленькое: видишь — не видишь, слышишь — не слышишь… А потом уж стал я примечать, что будто Харитина стала на меня поглядывать, а как встретится глазами, вся всполыхнет. Ну, стала как будто избегать меня и придираться: и то не ладно, и это не ладно, и пошел не так… Мое дело тоже молодое, так и захолодит на сердце, когда мимо идет, а ты стоишь в передней дурак-дураком, как статуй. А надо тебе сказать, что покойный родитель, чтобы я не избаловался, взял да женил меня… Жена-то дома сидит, а Харитина на глазах постоянно, да и куда же жене до нее, потому барыня, одета всегда форменно и обращение свободное и всякое прочее. Глядели-глядели мы так-то друг на дружку, а тут Иван Антоныч куда-то уехал, оставил жену одну, ну, а Харитина меня тогда и заполучила по всей форме: и милый, и ненаглядный, и красавец, и сухой, не пареный… Известно, женская слабость.
— Уж что говорить… обнакновенно… уж тут музыка… А поди, страшно было Ивана-то АнтоныЧа?
— Так страшно, так страшно, что коленки сами подгибаются, как он взглянет… а Харитина, как есть, хоша бы бровью повела: веселая такая стала, и все ей надо помудренее чтонибудь над стариком посмеяться. Под носом у него такие штуки укалывала… Вот, поди ты с этими бабами — чистое помраченье!.. Ночью даже от мужа приходила ко мне в переднююто… и смеется и плачет.
— И поди, подарки дарила… а?..
— Уж это по всей форме: всячины надарит, а я все беру…
— И деньгами, поди?
— И деньгами… Своими руками шелковую рубаху вышила да подарила. Только эта рубаха чуть меня не завела в гору, в медный рудник… Да. Обнакновенно, в доме-то уж начали за нами примечать, кто-то позавидовал мне, ну, и в полной форме Ивану Антонычу лепорт: так и так, миленькаято женушка, Харитинушка, вот какие художества устроила с Евстратушком… Ха-ха!.. Ну, тогда-то и полсмеху не было. Идет раз Иван Антоныч, и такой веселый, я вытянулся перед ним в передней, а он меня прямо за ворот: «Славная у тебя, ангел мой, рубашка… Жена тебе вышивала, миленький?» — «Точно так-с…» — «Славная у тебя жена, ангел мой». Ну, и пошел мудрить, пошел наговаривать, а у меня душа в пятки: учуял, старый пес… Только что бы ты думал, братец ты мой, пошел Иван-то Антоныч от меня, пошатнулся и конец — кондрашка его хватил… На третий день преставился. Перед смертью-то пришел я прощаться к нему… узнал и едва так внятно проговорил: «В гору тебя, миленький… в гору». Это он хотел меня сгноить в медной шахте и сгноил бы, кабы господь веку дал.
— Ну, а потом-то как ты с Харитиной?..
— Чего как?.. Чистый ты дурак, Секрет… Она уехала в город жить, а я в Пластунском остался. Когда бывал в городу, захаживал к ней… Только уж тут совсем неспособное дело было.
— Обнакновенно, никакого интересу, потому забеднела Харитина-то… Чего с нее было взять-то!..
— Дурак, совсем не то… Неподходящее дело эта Харитина нашему брату мужику: жидка уж очень собой, в руки взять нечего.
— Ну, а раньше-то имел все-таки прилежание к ней?
— Опять дурак… «Прилежание»?! Тьфу!.. Мы как две цепных собаки у Ивана Антоныча сидели, вот и вышло прилежание, а как попали на волю, даже совестно стало обоим, потому какая же это музыка, чтобы барыня вязалась с мужиком.
Конца этого разговора я уже не слыхал, потому что под шумок заснул и все время видел какой-то безобразный сон: видел Ивана Антоныча, Харитинушку, разорившегося купца Аихряшева и т. д.
II
Перед самым утром пал маленький дождичек, и утренняя охота пропала. Я проснулся уже довольно поздно, когда Секрет орудовал для гостей самовар. Только что откупоренная бутылка водки свидетельствовала о том, что и Важенин и Секрет успели уже опохмелиться; около бутылки стояла деревянная тарелка с дымившимися блинами.
— Долгонько вы таки поспали, вашескородие… — говорил Секрет, обращаясь ко мне. — А мы тут, грешным делом, уж разгрызли по стаканчику.
Важенин молчал, придавленный еще вчерашним хмелем; глаза у него были совсем мутные, лицо красное. Он не чувствовал жарившего его голову солнечного луча, который пробивался меж березок. Это место под березками было замечательно хорошо: назади шапкой стояла «середовина», впереди расстилалось болото, окаймленное по бокам синевато-серыми увалами. Умытая росой и дождем зелень смотрела особенно весело, в «середовине» заливались даровые лесные певцы, в болоте слышался подозрительный шорох, заставлявший Бекаса вздрагивать и чутко нюхать воздух. Легкий ветерок проносился над осокой, шептался в березовой листве и пропадал сейчас же; по голубому небу плыла кучка белоснежных облаков, круглившихся и надувшихся, как парус. Трава успела просохнуть, и воздух курился ароматными испарениями, пахло лесной душицей, шалфеем, свежей сосновой смолой. Дневной зной усиливался с каждой минутой, и хотелось лежать неподвижно без конца. Налитые стаканы чаю стыли, и Секрет очень обижался этим обстоятельством.
— Вы давно охотитесь? — спросил я молчавшего Важенина.
— Мы-то?.. Да так, пустым делом иногда побалуешься, — уклончиво ответил он. — Ружьишко вот попалось в третьем годе, почитай даром, ну, так вот и шатаешься с ним. В заклад принес его один мастерко, да в полуторых рублях и оставил. С даровщинкой-то оно и любопытно…
— Уж это ты верно, Евстрат Семеныч, — почтительно вторил Секрет, — на что лучше… Вот еще воровское, сказывают, хорошо тоже, особливо насчет собаки или птицы — первое дело.
— А ты пробовал? — иронически спрашивал Важенин.
— Бывало дело… Собачка была у меня, цетерок[3]. Не то чтобы настоящий цетерок, а так смяток. Ну, так я его упер еще щенком, и денег мне он много нажил. Умный такой издался, напрахтиковал я его — любо глядеть, как почнет орудовать по лесу али в болоте. Господа наедут, я его и пущу — всех ублаготворит, и сейчас его у меня покупать. Ну, я его и предал цалковых за десять, а он, цетерок-то, непременно убежит от нового хозяина и опять ко мне. Раз пять с веревкой прибегал… Раз восемь я его эк-ту, пожалуй, продал.
— Вот это молодец! — похвалил Важенин.
— А то как же, Евстрат Семеныч? Надо же и мне жить, а господам что значит десять-то цалковых: тьфу — и только.
Этот рассказ очень понравился Важенину, и он повторял про себя: «Ловко… отлично!.. Вот так цетерок… Восемь раз, говоришь?» С одной стороны, его радовала непроходимая господская глупость, а с другой — ловкость Секрета приятно щекотала его собственные хватательные инстинкты: это был, очевидно, настоящий кулак, любивший всякую «дешевинку» даже в чужих руках, если особенно дело обделано «мастеровато», как в данном случае. Тип собственно заводского кулака только еще нарождается, и Важенин меня заинтересовал в этом отношении, тем более что в нем к специально кулацким чертам примешивалась еще лакейская крепостная закваска.
— Вы, собственно, чем же торгуете? — спрашивал я.
— А чем придется… больше по заводской части, что простому мастеровому надобно, — харч, обуй, одежа, бакалеи.
— Выгодно?
— Да ничего… слава богу, жить можно помаленьку. Прежде-то на Пластунском народ зажиточнее был, так торговля хуже шла, потому богатый мужик все норовит в городу купить, в свое время, а у нас так брали — самые пустяки. А как теперь захудали все, к нам…
— Да ведь много торговых у вас в Пластунском?
— Ничего, на всех прохватит… С богатого не много возьмешь, а бедный у тебя весь в руках, потому он и муку аржаную фунтиками покупает. Примерно, пуд муки стоит восемь гривен, а фунтиками продаешь по три копеечки… И чай тоже и сахар. Вообще, который темный товар — большая от него прибыль.
— Какой темный товар?
— А на который цены не знает мужик… даже лучше не надо. Возьмите теперь сапоги или полушубки — на них не много наживешь, — потому цена им вся известная, а бакалея — темный товар, бумага и всякое прочее.
— Как же вы на охоту ходите от торговли?
— Да летом какая наша торговля: самое тихое время. Жена в лавке управится… А я больно вот места люблю, собственно за этим* и хожу.
— Какие места?
— Ну, все места… весьма даже любопытно, потому как здесь совсем особенные места — угодные… В допрежние времена по этим местам сколько разного народу хоронилось, хоть взять из наших старообрядцев… Да вот хоть это самое болото: сколько скитов было поналажено по островам, доступу к ним нету, особливо летом. Ну, старцы и хоронились от начальства: где их в болоте-то найдешь…
— И нынче живут?
— Как не жить — и нынче живут, только далеко, а поблизости всех разорили.
— Да вон на моих глазах скиток сожгли, — заявил Секрет. — Отседова его видать было… вон там налево к увалам островок, так на нем и проживали старцы-то. Ну, зимой их и выследили лесообъездчики, да и выжгли… Попользовались, говорят, всемс и мукой, и медом, и воском», и деньгами. А лучше нет места, как ваши Боровки, Евстрат Семеныч: уж такое место, такое место — на целую округу.
— Древнее место… — задумчиво ответил Важенин. — Еще этих заводов и званья не было, как отцы-то наши прибежали сюда с Выгу-реки. Много таких-то местов здесь… Может, одних угодников сколько спасалось, не говоря о других прочиих людях. Только нынче ослабел народ супротив стариков-то: куда!.. Измотались… малодушие везде…
— А мне ваши боровковские вот где сидят, Евстрат Семеныч, — проговорил Секрет, указывая на затылок, — такие охальники—страсть… Каждую зиму с емя смертно бьюсь за середовину. Больно уж меня донимают…
— Станешь донимать, когда есть нечего… Тоже не от добра лесоворничают. Взять хоть тех же Мяконьких… Вон каких четыре братана[4] чистяк народ.
— Уж это что говорить: осетры… Болыпак-от Мишка, вон какой лоб, и проворен, окаянный, ну, идругие ничего — чистые ребята.
Кончив чай, Важенин и Секрет переглянулись между собой.
— Теперь самая пора… — проговорил Секрет, поднимаясь с земши, — залобуем дичины, Евстрат Семеныч, уж я тебе говорю. Она тоже время знает…
— Да какая в полдень дичь? — удивился я.
— А мы найдем, вашескородие… — ухмылялся Секрет. — Вы в город к вечеру али здесь заночуете?
— Нет, в город… Вот только жар спадет — и отправлюсь.
Обвесив себя лядунками и взяв ружья, Важенин и Секрет отправились на охоту, а я из-под березок, где начало сильно припекать солнце, перешел к самой избушке и улегся в тени. Власьевна обещала приготовить обед и накормить Бекаса. Около избушки на завалинке играли ребятишки Секрета, но в моем присутствии заметно стеснялись и все больше смотрели на собаку. Зной все увеличивался, так что становилось тяжело дышать, и я невольно пожалел Власьевну, которая должна была жариться у жарко натопленной печи. Это была бойкая городская мещанка, худая, как щепка, обладавшая способностью вечно быть не в духе; она походя тузила ребятишек и жаловалась встречному и поперечному на свою горе-горькую участь, то есть на своего мужа, который только и знал, что жрать водку и т. д. Громыхая теперь ухватами, Власьевна несколько раз принималась причитать самым отчаянным образом, как причитают по покойнике. До меня без всякой логической связи доносились слова: «погубитель», «наплодил ребятишек, а сам только водку жрет», «ужо вот я тебе покажу, бесстыжие твои шары», «пропасти нет на вас, окаянных», «утямились»[5], «прорвы этакие», «беспременно я утешу» и т. д.
— Кого это ты, Власьевна, бранишь? — спросил я, когда обед был готов и подан прямо на траву.
— Известно, кого… одна у меня винная-то капля!.. — каким-то пришибленным голосом заговорила она, отмахиваясь рукой. — Жисти я своей не рада, барин, вот те Христос, потому для кого я маюсь здесь, в лесу-то?.. Вон он, Секрет-от, какой у меня: склался, только его и видел… И везде-то у него дружки да приятели, и везде он свою водку найдет. Теперь дни на три закатились с Важениным…
— А Важенин часто бывает у вас?
— Заходит по-времю, когда водкой зашибет… Запой у него, вот он и бредет в лес. Пил бы у себя дома, а то нет, в середовину надо, моего Секрета спаивает только… Я ведь их обоих наскрозь вижу, барин, даром что хитры. Вот что… «Мы-ста на охоту…» Тьфу!.. Знаем мы ихнюю-то охоту!.. Ужо вот Мяконькие-то наломят им> бока-то. костей не соберут… Ты думаешь, куда они пошли, охаверники?
— Не знаю…
— Да в Боровки… всё туда шляются. Там у братанов Мяконьких сестра есть, Ульяной звать, так вот Евстрат-то Семеныч и увязался за ей… И девка только: высокая, белая, ядреная, на речах бойкая. Евстрат-то Семеныч вон какой бык — ему и любопытно такую девку оммануть… Вот и шатаются с Секретом, чтоб Секрет помогал. Тьфу… рассказывать-то про них тошнехонько! Мяконькие-то уж пообещали Евстрату Семенычу шею сломать, так он и подсылает Секрета: придут к Боровкам, Евстрат Семеныч в лесу спрячется, а Секрет и подсылает Ульяну за грибами или за ягодами идти. Только не та девка… Она и то одинова так отдубасила моего-то Секрета — взяла палку, да палкой и давай его обихаживать, только стружки летят. Одним словом, могутная девка, где же она им живая-то в руки отдастся… ни в жисть!..
— Откуда ты это все узнала-то? — сомневался я.
— Да сам-то Секрет все пьяный и рассказывает, а как прочухается — в отпор… Ох, и жисть только моя, не приведи никому, истинный Христос!.. Подумаешь с подушечкой об этаком! угаре, как мой-от, а ребятишки-то вот они… Секрет-от мой хоша и ослабел насчет водки, а ведь он прост, вот я и боюсь, кабы ему где башку не отвернули.
Местность между «середовиной», деревушкой Боровками и Пластунским заводом действительно в прежние времена представляла самую удобную почву для людей «древлего благочестия», хоронившихся здесь от никонианских властодержцев и «духоборного суда». Но уральские заводы быстро выжгли все леса кругом и загнали раскольничьих старцев в непроходимые болотные места, дебри и раменья, но и отсюда их выкурили, как выкуривают из нор и «язвин» разное зверье. Все это, без сомнения, было очень печально и еще более несправедливо, но печальнее были такие галантерейные фрукты, как Важенин… Воспоминания о несчастной Харитине, искреннее сожаление, что не удалось попасть в число разорителей Михряшева, торговля темным товаром и этот удивительный расчет высасывания последних грошей из заводской голытьбы — все это отлично говорило за себя и совершенно логически заканчивалось запоем и дикой травлей «могутной» Ульяны Мяконькой.
С охоты я вернулся уже поздно вечером. Над городом N. висело целое облако пыли, окрашенное розовым огнем заката.
После картины леса глухой уездный город, с его пылью, пьянством и чем-то таким усталым и щемящим душу, всегда кажется какой-то помойной ямой, в которой несчастные обыватели копошатся, как черви!
III
Года через два мне случилось ехать через Пластунский завод. Стояла глубокая зима, дорога была адская — бесконечные ухабы, снежные переметы, — одним словом, все прелести зимнего путешествия по совершенно открытой местности, предоставленной в жертву всем четырем ветрам. Округ Пластунских заводов в Среднем Урале, кажется, единственный по варварскому истреблению лесов на громаднейшей площади в семьсот тысяч десятин, — везде на Урале леса истребляются напропалую, но пластунская дача стоит, без «мнения, на первом месте.
Подъезжая к Пластунскому заводу поздно вечером, когда везде уже в окнах горели огни, я вспомнил про Важенина и велел ямщику ехать к нему, потому что, с одной стороны, не хотелось провести ночь где-нибудь на постоялом дворе, а с другой — меня заинтересовал этот типичный заводский кулак. Пластунский завод—один из самых старинных заводов и залег своими кривыми улицами в глубокой горной лощине, точно спасаясь от разгуливавшего по окружающим пустыням) северо-восточного ветра. Найти дом Важенина нам было легко, потому что его лавочку нам сейчас же указал. Мы подъехали к двухэтажному деревянному домику в три окна — лавка помещалась в нижнем этаже, а вверху было хозяйское жилье. Я послал ямацика спросить, не пустят ли переночевать, и получил утвердительный ответ, хотя предварительно был произведен самый подробный допрос: кто, куда и зачем, как обыкновенно делается в таких случаях.
Только тот, кому случалось по целым дням ехать в тридцатиградусный мороз, когда весь точно оледенеешь и когда от холода больно пошевелиться[6], — только тот поймет то удовольствие, с каким входишь в жарко натопленную избу. Самого Важенина не было дома, а меня встретила старуха, его мать, повязанная широким тешшм платком по-раскольничьи, то есть с распущенными по спине двумя углами платка.
— Где Евстрат-то Семеныч? — спрашивал я, с трудом вылезая из двух стоявших коробом шуб.
— Да в волость ушел, родимый, в волость… — ответила высокая, еще крепкая — старуха, пытливо разглядывая меня большими серыми глазами. — Ужо, поди, скоро воротится, давно уж ушел.
Я извинился, что потревожил их своим визитом, и объяснил причины, почему это сделал. Старуха выслушала меня как-то недоверчиво и, вероятно, из вежливости прибавила:
— Как быть-то, родимой, потеснимся как ни на есть, а то кому охота по постоялым трепаться… Городской будешь?
Получив утвердительный ответ, старуха вышла похлопотать насчет самовара.
Дом Важенина хотя и был в два этажа, но внутри был устроен как крестьянская изба: передняя половина, широкие сени и задняя изба. Передняя деревянной крашеной перегородкой делилась на две комнаты — прямо из дверей приемная, гостиная и все, что угодно, а за перегородкой крошечная кухня. Прямо у дверей стояла широкая двуспальная кровать, завешенная ситцевым пестрым пологом; деревянные нештукатуренные стены были обиты дешевенькими обоями, около стен шли широкие, крашенные синей краской лавки, в углу большой зеленый киот с врезанными в дерево старинными медными складнями и осьмйконечным раскольничьим крестом. У перегородки деревянный шкаф с чайной посудой, под образами крашенный желтой краской стол, на полу тряпичные половики домашнего тканья, на стене знакомое уже мне ружье-дешевка с лядунками, рядом» с киотом небольшая укладка с книгами, ладаном и восковыми свечами, как это бывает во всех раскольничьих домах. Меня удивило только то, что в этой укладке, вместе с псалтырем и часовником, были поставлены с пестро раскрашенным обрезом судебные уставы и еще какие-то «законы», судя по формату, все анисимювских изданий[7].
— Это кто же у вас по части законов? — спросил я, когда в комнату вошла с чайной посудой жена Важенина, немолодая, какая-то опухшая женщина с засыпанным веснушками лицом.
— Да это Евстрат Семеныч в городу накупил… — нехотя ответила она, расставляя посуду на железном чайном подносе. — Да вот он и сам идет.
Из сеней в облаке хлынувшего пара действительно показался сам Важенин в дубленом полушубке и мерлушчатой шапке; раздевшись, он положил три поклона на киот и грузно подсел к столу. Завязался обыкновенный в таких случаях разговор: давно ли из города, какова дорога, нет ли каких новостей в газетах и т. д. Таким образом, мы сидели за кипевшим самоваром до седьмого пота, калякая о разных житейских разностях. Со мной была бутылка коньяку, и я предложил дорожный стаканчик Важенину, но он как-то конфузливо махнул рукой и проговорил:
— Трекнулся[8]
— Давно ли?
— Да вот второй год пошел на святках… Ну ее, эту водку!.. Когда это я вас у Секрета-то видел? Никак года два с залишком будет!.. Так. Как раз после Ильина дни я тогда в середовине был… После того еще с полгода занимался этой слабостью, а потом — шабаш!..
— Что так: немножко-то можно, особенно с устатку или с мороза?
— Нет, уж кончено… Хворал я, так зарок дал. Да и то сказать — неподходящее совсем дело.
Мой вопрос, очевидно, задел «трекнувшегося» человека за живое, и он принужденно замолчал. Самовар потух и только изредка выпускал одну длинную ноту, обрывавшуюся, как туго натянутая нитка; мороз заметно крепчал, заставляя трещать даже старые бревна. По улицам мела жестокая метель, и ветер несколько раз принимался с каким-то стоном завывать в трубе, точно он жаловался, что никак не мог ворваться в этот теплый дом, где все было поставлено так крепко, как умеют ставить только кулаки и сшибаи, когда заберут в себя силу. Важенин сидел у стола и задумчиво барабанил пальцами; он заметно похудел и как-то осунулся, в темных волосах серебрилась седина, вообще выглядел обстоятельным, настоящим торгашом. Чтобы поддержать оборвавшийся разговор, я спросил, как идет торговля.
— А что нашей торговле сделается, — неохотно ответил Важенин, встряхивая волосами. — Народ кругом бедует, а нам это на руку… На заводе-то сокращают работу, всё машины ставят, ну, народу большое от этого утеснение, и деваться некуда. То же вот и по деревням: прежде дрова рубили, уголье жгли, металл возили, а нынче тоже сократили и их…
— Чем же теперь занимаются рабочие, которые остались без дела?
— Разным: кто на приисках старается, кто по лесоворной части, кто так по домашности шишлится… Тесное житьишко подходит, что говорить: всем одна петля-то. Ежели бы еще землей наделили мужичков, так оно бы другой разговор совсем, а то не у чего биться совсем. Обижают землей народ по заводам; всем крестьянам наделы даны, а только одних мастеровых не могут наделить… Двадцать лет как уставные грамоты подписали, а надела все нет — это уж не порядок: ни пашни, ни лесу, ни покосу—все от завода, ежели робишь на фабрике. За каждую жердь попенные взыскивают, пашни отбирают. Ну, заводские еще, худо ли, хорошо ли, около фабрики околачиваются, а взять, к примеру, Боровки — и работы нет, и угодья никакого не дают.
— Что же, хлопочут ваши общественники или нет?
— Как не хлопотать—теперь лет уж пятнадцать стараются, да все толку нет. Да и то сказать: глуп народ-то, прямо сказать — от пня, ну, а там господа всем ворочают. Вон к нам нонче немцев нагнали — везде немец… А все-таки поманеньку хлопочем. Теперь обчество меня ходоком выбрало по этим делам… так уж я хочу, чтобы все по закону утрафить. Закон один для всех, ну, и нам давай по закону, как в прочиех местах. Это прежде темнота была, а ноне закон… Я теперь третий год законы-то почитываю, так там все обсказано, а дело наше со-, всем правое.
Важенин достал из сундука целую кипу разных деловых бумаг и принялся объяснять обстоятельства своего дела, которое являлось в таких сбивчивых и запутанных подробностях, что на первый раз просто голова шла кругом: какие-то памятные записи, копии с грамот и указов, окладные листы, приговоры сельских обществ, сенатские решения, постановления и отвывы по крестьянским делам присутствия — словом, непроходимый дремучий лес всевозможной канцелярщины, и нужно было иметь такую слепую веру в закон, как у Важенина, чтобы надеяться выйти целу и невредиму из этой отчаянной путаницы. Я долю перебирал все эти документы и бумаги всевозможного формата, цвета и почерков, точно это была куча осеннего листа, сбитого с всевозможных пород деревьев, но, чтобы разобраться в этой куче, нужно было, во-первых, специальное знание, а во-вторых, — массу свободного времени, и, в-третьих, — беззаветное желание «послужить миру».
— Вы, конечно, обращались к члену уездного по крестьянским делам присутствия? — спросил я, чтобы сказать что-нибудь.
— Было и это-с… Член-то говорит, чтобы обождать, — потому будут межевать, так тогда уж все обозначится, а мы до этого межеванья перемрем, как мухи. Шибко меня уговаривал член-то, ну, как я его припер законом — он только рукой махнул… Даже весьма не советовал, ежели беспокоить высшее начальство, а я ему закон представлял. Это, видите ли, о заводских мастеровых одно дело, а о деревне Боровках другое… Я уж заодно хлопочу об них. Боровки совсем) на особицу пошли — потому как они были основаны раньше Пластунского завода, — значит, и земля у них своя, а не заводская. Я ведь сам из Боровков и знаю это дело… Первые-то насельники пришли в Боровки в тысяча шестьсот восемьдесят третьем году, когда Пластунского завода и званья не было, ну, и заняли всю землю, значит, земля ихняя. Все с Выгу-реки пришли в Боровки, ну, и пашни пахали, и росчисти делали, и покосы, и всякое прочее крестьянское обзаведенье. И после настоящими крепостными они не были, а только приписаны к Пластунскому заводу в работу, да и земля-то у Пластунского завода посессионная… Вот оно, какая штука получается!..
Напав на тему, мы разговорились — предо мной был совсем другой человек, точно недавний кулак вышел куда-нибудь в другую комнату. Собственно, выражался Важенин довольно темно и постоянно путался в мудреной юридической терминологии, но по всему было заметно, что это был глубоко, убежденный человек, проникнутый сознанием своей идеи. За разговором время пробежало совершенно незаметно, и старушка мать подала ужин; она, видимо, прислушивалась к на-, шему разговору и все вздыхала.
— Вот и мамыньку спросите про Боровки, она отлично знает это дело, — заметил Важенин.
— Как не знать: известно, наша земля… — ответила спокойно «мамынька», степенно оправляя ситцевый длинный передник; она была в косоклинном раскольничьем сарафане с глухими проймами и в белой холщовой рубашке с длинными рукавами. — Все это знают, родимый, только оно сумнительно очень… насчет то есть начальства…
— Ну, это пустяки, мамынька. Мало ли что в прежние времена было, — тогда темнота одна была, а нынче — другое, нынче везде закон, мам<ынька.
— Закон-то закон, милушка, да вот и покойный родитель… так в заточении и помер, сердешный. Все правды искал тоже… Двенадцать лет в остроге высидел.
Старушка вытерла передником показавшиеся на глазах мелкие старческие слезинки и тяжело вздохнула.
— Ах, какая ты, мамынька!.. — недовольным тоном заметил Важенин и нахмурился… — Покойный родитель был не глупее нас с тобой…
— Да я, мллушка, ничего не говорю… — торопливо оправдывалась старушка, стараясь принять спокойный вид. — Только будто к слову пришлось…
Только распухшая жена Важенина, державшая себя на городской манер, очевидно, была недовольна затеями мужа и не принимала в разговоре никакого участия.
— Я уж наладила там в задней избе гостеньку-то все… — проговорила старушка, когда мы кончили ужин. — Здесь-то негде, так я уж в задней избе.
Задняя изба, только что отделанная в качестве парадной половины, была совсем по-городски: на полу тюменские ковры, триповый диван с десертным столом, венские стулья, два зеркала в простенках, плохие олеографии в золоченых рамах, кисейные занавески на окнах — словом, все было устроено форменно. Постель была мне сделана на полу, около «галанской» печи с герметической заслонкой.
— Уж не обессудь на нашей простоте, — извинялась старушка, провожая меня в заднюю избу, — чем богаты…
— Да не беспокойтесь, бабушка… Все отлично. Благодарю…
— Как не беспокоиться-то… Ох-хо-хо!.. — вздыхала старушка, еще раз взбивая подушки и, очевидно, желая что-то высказать. — Вот что, родимый ты мой, скажи ты мне ради истинного Христа: засадят Евстратушку-то в острог… а?
— Зачем засадят, бабушка?
— Да вот за закон-то за его… Отец-то ведь тоже о земле хлопотал, да так и кончился в остроге, ну, и Евстратушка как бы туда же не утоднл. Вон как он разговаривает… Все жил ничего, все ничего, торговлишку справил, обзавелся, а тут накося — всему попустился. И в кого это он уродился такой-то?
— Вероятно, в отца, бабушка?
— Так, верно, родимый, в отца и евть… Ох, чажало эта родительскому сердцу!.. Уговаривали — пытались, так куда — приступу нет. Жена-то в ногах валялась… Отец-то, Семен-то Евстратыч, такой же вот был неуговор: наладит, что хошь расколись для него тут. Все за Боровки тогда хлопотал, об земле об этой, ну, его в острог—так и сидел по смерть по самую, а не покорился. Строго прежде-то было, при Иване еще Антоныче: уж он драл-драл Семена-то Евстратыча, голубчика, а ничего выбить не мог. Евстратушка-то, видно, в родителя изгадал… Не взыщи иы на мне, на старухе, за глупый мой разговор: все ведь сердечушко издрожалось.
Я постарался успокоить горевавшую старуху, как умел, и она ушла, охая и причитая об ухватившемся за закон Евстратушке. Заснуть я долго не мог: в комиате было жарко даже на полу, за обоями шуршали тараканы, слышно было, как сам хозяин несколько раз входил и выходил из избы, вероятно задавать корму скотине; метель не унималась и продолжала завывать в трубе, нагоняя тоску.
Это неожиданное превращение Важенина из кулака в человека, решившегося «послужить миру», являлось одним из тех диссонансов, которые в общем житейском омуте как-то идут вразрез решительно со веер и служат почти неразрешимой загадкой. Откуда? как? почему? С одной стороны, подарки Харитинушки, расчеты на темный товар и общую бедность, чистосердечные сожаления о пропущенном случае принять участие в разорении купца Михряшева, а с другой — желание постоять за мир и принесение в жертву этому желанию туго сколоченного, копейка за копейкой, благосостояния. Все это было непримиримым противоречием, и негде было искать того переходного критического момента, который должен был существовать. Даже прецедент в виде сгнившего в остроге родителя, Семена Евстратыча, по общечеловеческой логике не мог слу» жить особенно побудительной причиной повторить ту же историю вторым изданием, хотя, конечно, знаменитого Ивана АнТоныча давно уже не было на свете, и прежняя крепостная темнота сменилась новыми порядками. Вся эта история казалась такой невероятной, что я даже усомнился в искренности намерений Важенина и с этой мыслью уснул в его кулацком гнезде, уснащенном и венской «небелью», и «зеркалом», и разной другой благодатью, наверно купленной по случаю в полцены.
Пластунские заводы пфедставляют интересную страничку в истории Урала. Первый, так называемый Старый завод основан был на реке Пластунье в половине восемнадцатого века, когда на Урале заводы росли, как грибы, десятками. Место под заводы было выбрано чрезвычайно удачно: богатые руды, дремучие леса, несколько горных рек, удобных для запруды, — все условия точно нарочно сгруппировались в интересах вящего развития заводского дела. И действительно, новые заводы пошли бойко в ход и стали приносить своему основателю миллионные дивиденды. Этот первый заводчик, по фамилии Кученков, выбился в большие люди из полной неизвестности и целую жизнь работал за четверых. Впрочем, приблизительно такова история возникновения почти всех уральских горных заводов, за исключением) казенных, где были свои порядки. Как все первые уральские заводчики, Кученков обладал самой завидной энергией, хорошо понимал свои интересы и специально заводскую часть и, как все первые уральские заводчики, не церемонился с рабочими, а в случае ослушания расправлялся с ними зверски.
Кученков, в смысле типичности, был замечательный человек: ходил в полушубке и в валенках, с завода на завод переезжал часто с «обратьними» ямщиками, вообще жил крайне просто и только любил щегольнуть перед начальством. Наследники Кученкова начали с того, что разделились: один взял заводы, другому выделили часть деньгами, третий получал известный дивиденд и не вступался ни в какие дела. Все трое жили или в Петербурге, или за границей, безобразничая напропалую. Внук Кученкова, к которому перешли заводы, получил воспитание в Париже, под влиянием какого-то иезуита, и до конца своей жизни не мог научиться говорить правильно порусски, хотя жил набобом и уронил заводы окончательно, опутав их неоплатными долгами. Никакое крепостное право и никакие Иваны Антонычи не могли спасти падавших заводов, и они сейчас после воли за казенные долги перешли в опекунское управление, где всем делом верховодила сплоченная кучка горных инженеров. Эти опекуны повели дела чрезвычайно ловко и в видах «усиления заводского действия» разными «хозяйственными способами» увеличили казенный долг вдвое, так что в конце концов Пластунские заводы пошли с молотка и достались какой-то сильной иностранной компании.
Владычество новой компании началось с того, что на смену старых доморощенных управителей и служащих была выслана настоящая армия «немцев» и заведен был в делах чисто немецкий бесконечный порядок. На одном Пластунском заводе было восемьдесят человек служащих, из которых шестьдесят пять были «немцы», а пятнадцать из старых заводских служащих.
Конечно, эти немцы разобрали самые лучшие места: главный управляющий Фридрих Баз (Секрет называл его «Бац») получал двадцать пять тысяч годового жалованья, за ним» следовал помощник главного управляющего Копачинский, заводской управитель Бадер, заведывающий канцелярией Берх, главный бухгалтер Баль, начальник контроля Банг, заведывающий хозяйственным отделением Барч, главный лесничий Бартельс, инженер по разным поручениям Адельсон, главный врач Абрагамсон, главный кассир Аншельзон, и т. д., и т. д. Русские фамилии-жались на самых последних ступеньках этой канцелярской лестницы — писцами, дозорными, запащиками и тому подобной мелкой сошкой, даже не имевшей подчас названия своей должности, — так она была мелка и ничтожна. Заведение такого образцового порядка являлось только одной стороной дела, за которой непосредственно выступала вторая, правда, логически связанная с первой, — это целая система хозяйственных сокращений и урезок в мелочах, в маленьких должностях и особенно на рабочих. Была введена артистически выработанная система вычетов и штрафов, подробные правила, как ходить и дышать, и этот аптекарский способ экономии на первых же порах дал самый блестящий результат.
Рабочие, прижатые всевозможными правилами к стене, скоро поняли, в какую попали западню, и протестом! с их стороны послужил так называемый «книжечный бунт». Новая администрация завела расчетные книжки, и вот эти книжки послужили яблоком раздора, потому что какие-то темные личности заказали накрепко не брать этих книжек ни под каким видом.: кто возьмет такую книжку — превратится опять в заводского крепостного. Свои начетчики и грамотеи указывали на заводскую печать на книжках, как на «антихристов знак», — одним словом, разыгралась самая печальная история, потребовавшая даже приостановки на некоторое время заводского действия. Все это происходило в таких смешных формах, что призванная к содействию власть не нашла никакой возможности прибегнуть к энергичным мерам, практикуемым в таких случаях. Когда улеглось первое волнение, дело уладилось само собой, и книжки пошли в ход, хотя старухи раскольницы пророчили малодушествовавшим рабочим, по меньшей мере, геенну огненную. Конечно, со стороны этот «книжечный бунт» кажется только смешным, но он имел за себя очень веские основания: кабала явилась, хотя и не со стороны «антихристова знака». Меня особенно удивляла та единодушная ненависть, с какой пластунские обыватели относились к новой немецкой администрации: это было тем более удивительно, что эти же самые обыватели относились почти без ненависти к зверствам какогонибудь Ивана Антоныча, поровшего рабочих прямо насмерть.
Даже такой независимый человек, как Важенин, и тот чуть не оправдывал зверства вечно улыбавшегося крепостного управителя.
— Помилуйте, тогда кругом темнота была, — объяснял Важенин, встряхивая волосами. — Разве бы Иван Антоныч стал зверствовать, ежели бы не тогдашняя темнота?.. На других-то заводах не лучше нашего было. А все потому, что с управителей спрашивали: подай столько-то дивиденту, хоша расколись. Ну, и драл Иван Антоныч… тоже ему не свою спину было подставлять за нашего брата. А нынче совсем другое дело: господам закон и нам закон… да. Им ихнее, а нам наше… Конечно, немцы теперь большую силу забрали, а только старинные люди говорили так: «Клоп клопа ест, последний сам себя съест».
В этой запутанной и перепутанной истории было замечательно особенно то, каким способом, при расстроенных заводских делах, получались сравнительно высокие доходы. Секрет, как все великие открытия, был очень прост: заводская администрация не делала никаких нововведений, не заводила ничего, что пахло большими издержками, и даже на ремонт списывала самые незначительные суммы и благодаря такому хозяйству возвышала доход. Кроме печей Сименса и горячего дутья, не было капитальных усовершенствований, да и эти новинки были устроены только ввиду самой настоятельной и вопиющей нужды в древесном топливе, на котором исключительно работают все уральские заводы. Собственно, эта система практикуется и на других заводах, и было уже несколько примеров полного краха целых заводских округов, но разорившие таким образом заводы главные управляющие получили свои десятки тысяч — «что и требовалось доказать», как говорится в учебниках математики. Роковым вопросом, conditio sine qua поп[9] для всех уральских заводов является переход с древесного топлива на каменный уголь, но все заводы тянутся из последнего, чтобы хотя на неделю отсрочить неизбежное решение этого вопроса, потому что такой переход потребует сразу громадных затрат на приспособление всех огнедействующих заведений к употреблению каменного угля, а это неизбежно отразится на количестве получаемого дохода с заводов, — какой же управляющий решится не только взять на свою ответственность подобный риск, но даже просто посоветовать владельцу. Это было бы двойным самоубийством: лишить заводовладельцев их доходов и, главное, лишить самих себя министерских окладов. Остается только идти вперед до последнего полена дров, что и практикуется всеми заводчиками в одинаковой мере.
Таким образом, вопрос о лесе является в уральском горнозаводском хозяйстве самым больным местом: заводы увеличивают свою производительность, параллельно идет уменьшение лесных дач, и впереди полный крах. Но упорное нежелание переходить на минеральное топливо имеет еще и другую сторону: все заводчики вопиют о недостатке лесов, и поэтому замедляется надел заводского населения землей, потому что такой надел Должен ipso facto[10] уменьшить лесные дачи. Этим путем аграрный вопрос на Урале получил совершенно особенные Осложнения и в недалеком будущем должен повести к очень печальным недоразумениям. Трудность размежевания увеличивается еще и тем обстоятельством, что, кроме частных и казенных земель, сотни квадратных верст принадлежат своим владельцам на посессионном праве, которое само по себе является почти неразрешимой юридической загадкой. Пластунские заводы в этом случае были не лучше и не хуже других посессионных заводов, хотя и с некоторым специальным «букетом» в виде «сплошного немца», как выражался Секрет.
IV
На другой день утром, когда я пил чай в задней избе, туда вошел Важенин, огляделся, припер дверь поплотнее и присел к моему столу с видом человека, который желает что-то сказать, но не решается.
— Погодка-то как будто успокоилась… — тянул он, заглядывая в окошко. — Вот все я собираюсь как-нибудь внутренные ставешки наладить, железные… Очень даже это способно по нашему делу, а то неровен час — пошаливают у нас на Пластунском: недавно четверых зарезали. Вот этак же во втором этаже: намазали медом лист бумаги, прилепили к стеклу, выдавили и в лучшем виде залезли…
Поговорив о разных пустяках и еще раз оглянувшись кругом, Важенин достал из кармана своего длиннополого сюртука вчетверо сложенный лист и, развернув его, подал мне. Бумага начиналась стереотипной фразой: «Во имя отца и сына и святого духа. Находясь в здравом уме и твердой памяти, я при живности своей» и т. д. Это было форменное духовное завещание, составленное Важениным на имя жены Платониды Васильевны, причем он отказывал ей все движимое и недвижимое, с условием, чтобы она по смерть «воспитывала» старушку свекровь, оказывала ей «всякую покорность и почтение». Завещание было подписано тремя душеприказчиками.
— Все форменно? — шепотом спрашивал Важенин, оглядываясь на двери. — Ежели в случае, например, меня сцапали бы, как родителя… Не отберут от жены-то дом и лавку?
— Да зачем вас сцапают?
— Ну, так, я это к примеру только… Форменно все?
— Нет, не совсем форменно… Это духовное завещание составлено домашним образом и может всегда возбудить спор со стороны родственников, племянников, например, а чтобы окончательно обеспечить себя — вы засвидетельствуйте это же завещание у городского нотариуса.
— И тогда уже форменно будет? То есть ни под каким видом, чтобы племянники… как вон Харитину пустили по миру?
— Да вы напрасно беспокоитесь, Евстрат Семеныч: никакой опасности нет.
— Уже вы, пожалуйста, не говорите такие слова, — шепотом отвечал Важенин, придвигаясь ко мне ближе. — Были уж такие случаи-то… Ей-богу! На — ских заводах этак же мужичок вздумал хлопотать насчет земли, ну, его сцапали, да и выслали административным порядком тысячи за две верст. Это как? Все под богом ходим… Меня-то высылай, да только жену, да вот мамыньку не тронь. Про себя-то я уж порешил… Будет уж мне… да.
— Чаю не хотите ли?
— Благодарствуйте, я уж напился… По-деревенски рано встаем, да и сну у меня нынче настоящего не стало! Вертишься-вертишься ночь-то.
— Вероятно, нездоровы?
— Нет, ничего, слава богу, не могу пожаловаться, а так… от мыслей. Раздумаешься да раздумаешься…
— Послушайте, Евстрат Семеныч, меня удивляет, как это вы так вдруг… переменились?
Важенин внимательно посмотрел на меня и улыбнулся.
— Да и сам я дивлюсь… — ответил он после короткой паузы. — Так уж, видно, кому что на роду написано. Видите ли, случай тут был… Долго, пожалуй, рассказывать-то.
Для безопасности Важенин припер дверь на крюк, подсел опять к столу и заговорил:
— Помните, тогда встретились в середовине-то у Секрета? Пировал я тогда до неистовства… страсть пировал. Ну, известно— мужик могутный из себя, недели две без просыпу закачиваешь. А охота, это уж другое… Оно одно к одному, пожалуй, шло. Про Боровки-то, чай, слыхали? Мы с Секретом будто на охоту уйдем, а сами в Боровки и закатимся. Есть там четыре братана Мяконьких, а у них есть сестра Ульяна… Только и семейка: здоровенные все, могутные, красавцы, а всех лучше эта самая Ульяна. Мы ведь тоже из Боровков, и я эту самую Ульяну махонькой еще знал, а как выросла высокая, да широкая, румяная, руки у ней, ну, одним словом, богатырь-девка.
И на речах при этом очень бойка, да и веселая-развеселая — только слушай… Ну, и запади эта самая Ульяна мне в башку: думаю об ней день и ночь, и шабаш. По душе пришлась… Ну, уж я около Ульяны и так и этак — ничего не берет. На заводах-то у нас балованный народ, и насчет женского полу даже весьма свободно, а тут не дается девка в руки, и меня уж озарки взяли, себя не помню, как другой бык, например. Здоров я был, ну, кровь-то как заходила — смерть… Уж я гонял-гонял Секрета с гостинцами и с подарками — толку все мало: возьмет, поблагодарит, а настоящего дела нет. Все мне хотелось Ульяну в лесу где-нибудь взловить, когда она по ягоды пойдет, — так нет, дошлая, шельма, не идет в лес. Кружили мы таким! манером, кружили с Секретом, дело хоть брось. Зима наступила, слышу — сватают Ульяну… После рождества свадьба. Меня это из ума вышибло: будет моя Ульяна… Подослал к ней Секрета выспросить, а Ульяна и говорит ему: «Кланяйся Евстрату Семенычу… люб он мне, да не умел взять девку, а теперь братаны замуж отдают». Запировал я пуще прежнего, а тут и святки на носу… Ну, и укололи мы с Секретом штуку!.. Тоже придумали: напоим, мол, всех четырех братанов и Ульяну выкрадем. Ей-богу… чистое зверье какое-нибудь, такое рассуждение имели. Хорошо. Была у меня лошадка припасена нарочно для этого случая — невеличка из себя, а так бегала, так бегала — стрела, а не лошадь. Ну, этого бегунчика заложили в кошовку, поставили ведро водки и сейчас в Боровки, к Мяконьким… Они по лесоворной части, и я прикинулся, что сруб мне надо поставить. Давай мы пировать в избе у Мяконьких — праздничное дело… А Ульяна тут же в избе вертится и будто сном дела не знает. Ну, удовлетворили мы братанов так, что ухом по земле. Выхожу я в сени, свистнул Секрета, а он мне и говорит: «Ульяшка-то убежала…» — «Куда?» — «Да куда, говорит, ей убежать, здесь где-нибудь в деревне же, не велико место». Отправились мы искать ее и, точно, на вечорке нашли в одной избе, и как была в одном сарафане, так мы ее и заполучили, завязали рот платком да в кошовку: трогай в середовину… Секрет на козлах, а я снял с себя шубу и в шубу завернул Ульяну, чтобы не замерзла. Сначала сильно билась, а потом присмирела и сидит вроде как деревянная. Ну, а там, в Боровках-то, все на ноги, сказали братанам, те кое-как прочухались и сейчас на лошадей: два брата по дороге в Пластунский завод погнали, а двое в середовину к Секрету. Место тоже не близкое, едем мы и слышим, что за нами погоня, а у Мяконьких кони первые по деревне — потому по лесоворной части это первое дело. Тут уж и моя Ульяна всполыхнулась: «Ох, убьют тебя братаны… дай. я лучше убегу в лес, тогда им нечего с вас взять». — «Куда ты, говорю, дура, в лес пойдешь, когда везде снег по пояс… Оборонимся, говорю, да и середовина недалеко…» Совестно тоже загородиться девкой-то: наша вина — наш и ответ. А погоня все ближе… Видим, наша лошадка из сил выступает, тоже трое нас, чертей, — добрый воз. Не доехали мы до середовины будет — не будет с версту, как братаны Мяконькие налетели на нас… Ну, повернули мы лошадь поперек дороги, у меня с собой оборонка была маленькая, леварверт-кулачок, шестицволый, значит — и пошла свалка. Нагнали нас двое братанов: большак Мишка и середняк Прошка — и приняли нас в стяги…[11] Выпалил я разика два, а потом как царапнули меня стягом по плечу — кулачок вылетел… Ну и били они нас— страсть!.. Сначала все стягами, а потом по дороге за волосы да топтать… Здоровенный народ, чисто два медведя из берлоги вырвались. Помню только, как перво меня полыхнули стягом по правому плечу, а потом по крыльцам. Так замертво нас бросили в кошовку, понужнули лошадь, ну, она нас и предоставила прямо к Секретовой сторожке, — потому дело знакомое. Ну, очнулся я у Секрета в избушке и не думал, что жив останусь: ни рукой, ни ногой, ни шеей повернуть, а рожа, как чугунный котел. И Секрет тоже в лучшем виде… Одним словом сказать, братаны Мяконькие чистенько свое дело сделали…
Важенин перевел дух, встряхнул волосами и даже засмеялся, вероятно от удовольствия, что братаны Мяконькие очень уж «чистенько» поучили его с Секретом.
— Ну, привезла меня Власьевна прямо к жене: «на, получай любезного супруга», и, натурально, все дело ей начистоту выложила… Мамынька ревет, жена ревет, а я лежу и пальцем пошевелить не мюгу. Позвали этого доктора, Абрагамсона, поглядел-поглядел он на меня и только головой покачал: «Ловко, говорит, устряпали… это, говорит, не человек, а котлетка». Ейбогу, так и сказал… Не стал и лечить, все равно, говорит, помрет; ну, так мамынька догадалась, сгоняла за одной старухой и предоставила ей пользовать меня… Уж и принял я только муки от этой старухи: в баню да в баню, да травами меня натирать, да мазями мазать, да пластырями облепила, да поит какой-то такой дрянью, что с души воротит. Ну, известно, дело смиренное мое было: что хотят, то и делают — ихняя воля вполне, потому как я ни рукой, ни ногой, все равно. И ведь отлежался… три месяца вылежал, а все-таки стал на ноги. Ну, шея с год не ворочалась, а потом ничего, отлежался, только вот к ненастью каждая косточка ломит да ноет. Нарошно после сходил к этому самому Абрагамсону и отрекомендовался в полной форме, так он только ахнул: «Ну, говорит, вы, подлецы, из котельного железа, надо полагать, сделаны… Поглядел бы, говорит, ты на себя-то, в каком ты, например, образе был: весь под один пузырь и при этом чернее опойка… Кто это тебя так уважил?» — «Есть, говорю, ваше благородие, добрых-то людей…»
Важенин опять засмеялся и прибавил:
— Секрет скорее мого выправился и все водкой: и снаружи водкой мазался и внутрь принимал… Ему все-таки меньше моего досталось, потому он только так, под руку подвернулся. Потом меня проведовать приходил, пес, да моя жена его в три шеи… известно, женская часть, тоже обидно…
— Ну-с, так вот, например, когда я лежал, все мне проволоки представлялись, — продолжал Важенин после небольшой передышки. — И не то чтобы настоящие проволоки, а вроде как мысли у меня в голове проволоками тянулись… Ей-богу! Лежу я в собственном доме, на своей кровати, ходит за мной моя собственная жена, и я слышу, как она вздыхает… Должон был я восчувствовать себя подлецом али нет? Даже очень восчувствовал: не только подлец, но и душегуб… Еще господь сохранил, а то бы прощай, Ульяна. Вот до чего дошло!.. И стал я думать, стал думать. Как-то этак забылся немножко, открыл глаз, а она стоит передо мной…
— Ульяна?
— Нет, Харитина Петровна… значит, жена Ивана-то Антоныча, у них я в казачках состоял. И с чего приснилось, подумаешь! Гляжу, а за ней покойный мой родитель, Семен Евстратыч, стоит… Вот как сейчас я их вижу! Она-то такая молоденькая да жиденькая, какой замуж вышла, смотрит это на меня таково жалостливо и головкой качает, а родитель глядит кудато вбок, потому совестно ему за меня, так надо полагать. Постояли и ушли — только и всего… Ну, тут-то я и понял, зачем ко мне родитель-то приходил. Кровь это сказалась, надо выкупать родительскую кровь. Все мне так ясно сделалось вдруг… Как я жил-то до этого случая? Какие у меня мысли были в голове? Обмануть, да пировать, да за девками гоняться, да из-за этих же девок чуть смертного часа не получил. Ведь это что же такое, если разобрать: родитель-то живот свой положил за правду, а я душегубством занялся. Наколотил всяким обманом копейку, ел сладко, пил, спал вволю, ну, накопил дикого-то мяса и давай дурить… Еще как выжимал, бывало, каждый грош из тех, кто победнее, потому придет такой бедный человек в лавку — он весь твой. То удивительно, что мне приятно было содрать с него этот вот самый распоследний грош, чтобы он, например, чувствовал, каков я человек есть. Тепло, светло, сытно — сидишь себе в горнице да радуешься, на дворе стужа, клящий[12] мороз, а тебе еще приятнее, — потому, как в это время беднота колеет да зябнет. Жену постоянно обманывал, да еще Ульяну чуть не загубил из-за своего дикого-то мяса… И все-то было мне мало, все завидовал, как другие богатые купцы живут. Ей-богу, совестно даже рассказывать… От этой самой подлости и пировал. Ну, а как пришел я в себя, сейчас же себе зарок крепко-накрепко дал: первое, чтобы вина ни капли, а второе, что ежели господь подымет на ноги — беспременно родительскую кровь выкупать и охлопотать мужичкам землю. Отцы-то наши какую муку принимали за старую веру. Прибежали сюда, место было совсем дикое, зверовое — опять ихними же трудами все устроилось. А мы как живем? То-то вот и есть… Конечно, оно жалко, когда подумаешь, что надо вот все это бросать… жена ревет, ну, да как-нибудь. Вот меня только эта самая духовная весьма беспокоила, а теперь к нотариусу, и шабаш.
Мы расстались друзьями. Важенин вышел проводить меня на улицу и долго стоял за воротами без шапки, заслонив глаза рукой. Мне сделалось очень грустно, когда я припомнил слова Важенина: «Одно плохо: грамюта-то наша больно дубовая, надо, значит, к адвокату обратиться, например, а уж эти адвокаты… Ах, кабы не темнота-то наша, кажется… ну, да что об этом толковать!..» Моя почтовая пара тащилась по узким кривым улицам, уставленным старинными дворами, каких уж нынче не строят: высокие коньки, свесы под окнами и на воротах с узорчатой прорезью, шатровые крыльца — все это было поставлено крепко и плотно, как нынче не ставят изб. В центре завода разлегся довольно большой) пруд; на одном берегу стояла каменная церковь, у плотины в березовой роще потонул старинный господский дом. Он был выстроен в один этаж, как строились старинные помещичьи дома; маленькие окна вот уже пятьдесят лет как добродушнейшим образом смотрят кругом, как умеют смотреть очень хорошие старички, а между тем сколько драм разыгралось за этими окнами, когда царил Иван Антоныч… Сколько народа было перепорото насмерть, а Иван Антоныч любовался из окошечка на экзекуцию и приговаривал: «ангел мой», «миленький», «голубчик». Тут же и томилась, и чахла, и обманывала Ивана Антоныча «душенька» Харитинушка, вероятно, скоро выучившаяся печь «пирожки с осетринкой», и тут же стоял казачок Евстратушка в дареной шелковой рубахе.
Теперь в старом господском доме, полном еще крепостными слезами и напастями, поселился «сплошной немец», сразу напустивший сухоту на тридцатитысячное население всех Пластунских заводов, и «быша последняя горше первых». Вон на горке строят новые дома — это тоже для представителей выс" шей заводской администрации, которая быстро доведет заводы до полного краха и пустит население по миру, но — прежде чем доведет до этого — будет вытягивать правительственные субсидии, будет хлопотать о повышении пошлин на привозимые из-за границы дешевые металлы, будет донимать рабочих штрафами и т. д. Очень и очень невеселая картина.
— А знаете, сколько мы нынче взяли за кабаки-то? — говорил Важенин, уже стоя за воротами. — Двенадцать тысяч целковеньких… Давно бы нечем было платить подати, ежели бы, спасибо, кабаки не выручили: ими, можно сказать, только и держимся.
V
Важенин действительно начал дело о неправильном завладении Пластунскими заводами землей, принадлежащей деревне Боровки, постоянно приезжал в город, ходил по адвокатам, собирал какие-то справки, ездил в губернский город Мохов за Какими-то таинственными документами, писал какие-то «копии, с копии копии» и опять исчезал. Заходил он ко мне раза два «перевести дух», как говорил, садился в уголок и, оглядываясь, подавленным шепотом рассказывал свое хождение по мукам и мытарствам.
— Адвоката, слава богу, приспособил… — говорил он с счастливой улыбкой. — Ваше, говорит, дело правое, только сперва пожалуйте на пошлины и гербовую бумагу, вообче предварительные расходы. Очень обходительный человек и притом: пасть… По фамилии: Человеколюбцев.
— Кто вам его рекомендовал?
— Да уж я об них обо всех стороной наводил справки и вызнал вполне…
К особенностям Важенина принадлежала чисто мужицкая черта: величайшее недоверие к господам, даже совсем не заинтересованным в деле, как я, например. Он везде стал видеть подвох и обходил все рекомендации и советы, как очень опасные подводные камни: ему нужно было вызнать непременно самому, притом через каких-то темных «своих» людей, которым он доверял.
Пластунская заводская администрация с своей стороны тоже зашевелилась: и Баз, и Берх, и Барч, и Адельсон — все приняли участие в завязавшейся борьбе, как гудит шмелиное гнездо, когда в него ткнут палкой. Прежде всего, конечно, «сплошной немец» тоже поехал наводить справки, писать коТши, собирать документы и, пользуясь удобным» случаем, увеличил свою канцелярскую лестницу еще одной ступенькой, заграфленной под названием «Юрисконсульт Пластунских заводов», и на эту лесенку сейчас же влез присяжный поверенный N-ского окружного суда Бартельсон, который сделался таким образом) естественным противником Человеколюбцева, тоже состоявшего при N-ском окружном суде в качестве присяжного доверенного. Словом, каша заварилась.
— А мы все-таки покажем им>, как лягушки скачут… — говорил Человеколюбцев, человек очень строптивого и неуживчивого характера.
Человеколюбцев действительно повел дело самым энергичным образом, для первого раза совсем растворился во всех этих указах, данных, купчих крепостях, справках, протоколах, сенатских решениях, окладных листах, специальных планах и т. п., так что поддерживал свои слабевшие силы только тем, что в течение суток выкуривал полфунта табаку. Он несколько раз ездил в Боровки и производил осмотр самого места, из-за которого вышло все дело, а также вызвал официальный осмотр его от лица гражданского отделения N-ского суда. Но пластунская администрация тоже не дремала и даже хотела предупредить Человеколюбцева по части науки о скачущих лягушках, — она послала через урядника в надлежащее место довольно безграмотный донос на Человеколюбцева, который в качестве «странствующего неблагонамеренного адвоката» обвинялся в том, что он, Человеколюбцев, из-за корыстных видов возбуждает тлетворное волнение доверчивых умов, за что и заслуживает немедленного удаления в соответствующие прохладные Палестины. «Надлежащее место» навело справки, но Человеколюбцев оказался не только сыном отечества, а даже великим патриотом: в N-ске не было лавки и магазина, где он не был бы должен, затем выяснилось, что решительно все — даже гораздо больше, чем все, что он получал от своих клиентов, — он немедленно провинчивал, и, наконец, что у него в разных судах накопилось двенадцать дел о незаконном присвоении чужого имущества и подлоге в разных формах. Один остроумный чиновник особых поручений где-то сострил, что даже душа у. Человеколюбцева взята где-то в долг и давно просрочена. Невинность Человеколюбцева была очевидна, и дело пошло своим Порядком.
— Вот возьми-ка его, Аристарха-то Аристархыча, — торжествовал Важенин, оказавшийся очень проницательным человеком!. — Уж это такой человек, такой человек, что его ни с какого боку не уколупнешь: весь в щетине…
Бартельсон был несколько иного мнения о Человеколюбцеве и терпеливо ждал судьбища. N-ское общество приняло самое живое участие в этом деле, сейчас же разделилось на партии и в день суда наполнило собой почти всю залу гражданского отделения N-ского окружного суда, которая в обыкновенное время стоит совсем пустая или «черная» публика заходит в нее только погреться.
Мы не будем утомлять читателя подробностями всего происходившего в суде. Скажем только, что левую половину скамеек для публики занимали Баз, Берх, Барч, Адельсон а их сторонники, а правую — Важенин, четыре братана Мяконьких, знакомый уж нам Секрет и еще несколько любопытных, явившихся сюда из того любопытства, которое некоторых людей неудержимо тянет на пожары вообще к каждому месту, где собралась какая-нибудь публика. Бартельсон и Человеколюбцев стояли пред судом и усиленно строчили на своих пюпитрах с задумчивым видом людей, решившихся пожертвовать собой для общего блага. Пока шло чтение доклада, продолжавшееся битых часов шесть, я рассматривал Важенина и братанов Мяконьких, которые представляли собой в высшей степени типичную группу.
Глядя на братанов Мяконьких, я долго старался припомнить, где я раньше видал этих богатырей, настоящих людей «от пня», как выражался Важенин, — но память «захлестнуло», и конец. А между тем эти страшные руки, крепкие, как столбы, затылки, эти совершенно невероятные спины и могучие груди так были знакомы, точно вот я их видел где-то на днях. Каково было мое удивление, когда я, наконец, припомнил все: да ведь эти братаны точь-в-точь как те библейские братья, которые нарисованы во всех священных историях для детей — убийство Каином Авеля, сцена, как продает Исав за чечевичную похлебку свое первородство Иакову, продажа Иосифа братьями измаильтянам..: Положительно это они: такие же библейские руки, спины, затылки, ноги. У меня стояли в ушах слова благословения, которое дал престарелый Иаков библейским сыновьям!: «Ты, Рувим, первенец мой—ты крепость моя и начаток силы моей… Иуда, рука твоя на хребте врагов твоих…» Нужно было видеть, как теперь эти «рослые теревинфы» напрягали все свои силы, чтобы понять все происходившее у них перед глазами, — они делались жалки в своей физической силе, которая была придавлена их темнотой, как тяжелым камнем. Вот большак Михалко в сотый раз вытирает капающий с лица пот, точно на нем целый воз привезли; середняк Мяконькой сдвинул брови, наморщил лоб, уперся глазами в «суд» да так и застыл в одной позе; меньшаки потели, вздыхали и всё смотрели на спину Человеколюбцев а, который во фраке, в белом галстуке и в золотом пенсне был положительно великолепен. Важенин сидел впереди у самого барьера и ужасно походил на тех великопостных причастников, которые с благочестивым спокойствием ждут своей очереди; для него никого и ничего не существовало, кроме того, что было перед барьером. Меня поразило именно это спокойствие, которым дышало не одно лицо, а вся фигура Важенина, — не было больше ни прежнего недоверия, ни скрытного искательства, ни страха, потому что он один знал здесь, зачем он пришел сюда и что он прав. Именно, прав, и это сознание делало его неизмеримо выше торжествовавших заранее противников: он переживал великий психический момент, когда человек делается рабом известной идеи и больше не знает сомнений.
Сидевший рядом с Важениным Секрет был под хмельком и "больше зевал по сторонам, время от времени закручивая свои тараканьи усы чрезвычайно молодцеватым жестом. Он часто оглядывался к братанам Мяконьким, глупо подмигивал и делал какие-то необыкновенно таинственные знаки посредством пальцев. В суде Секрет был как у себя дома, потому что чувствовал непреодолимое тяготение ко всяким господам, — это был пропащий человек, счастливый собственным ничтожеством. Глядя на братанов Мяконьких, на Важенина и Секрета, я никак не мот представить себе ту дикую сцену, которая разыгралась около «сереДовины», когда Мяконькие «произвели» Важенина и Секрета «под один пузырь»; дальше выступали еще более дикие несообразности: «прилежание» Харитинушки, темный товар, вылущивание грошей и копеек из пластунских "мастерков, облава на могутную девку Ульяну… Действительно, нужно всю силу «родительской крови», чтобы довести Важенина до того, чем он был в настоящий момент.
После докладчика говорили сначала Человеколюбцев, потом Бартельсон, затем опять Человеколюбцев и опять Бартельсон. Нового они ничего не сказали и, кажется, больше всего заботились о том, чтобы показать противнику, «как лягушки скачут». Человеколюбцев в интересах своих доверителей ссылался на jus primae occupationis[13] и земскую давность; Бартельсон досказывал, что заводское дело имеет величайшее государственное значение в наш «железный век», перечислял бесконечные права заводовладельцев, выяснял юридическое значение права на «недра земли», значение посессионного права и в конце концов сказал, что если суд признает требования боровковского общества правильными, то тем самым подаст сигнал к бесконечным аграрным беспорядкам. Все это судоговорение закончилось тем, что суд признал требования боровковского общества правильными, хотя и с некоторыми оговорками. Оказалось, что Бартельсон и остальные «немцы» еще ранее предвидели такое решение суда, но зато надеются на большую справедливость следующей судебной инстанции; Важенин ничего не сказал, а только положил на свою широкую грудь широкий мужицкий крест.
— Теперь надо будет пластунские народы вызволять… — говорил он задумчиво, выходя из залы суда.
На другой день рано утром забежал ко мне Секрет; он иногда заходил поздравить с праздником или попросить на похмелье, но на этот раз лицо у него просто сияло.
— Ты уж здоров ли? — спросил я.
— Слава богу, как следовает быть: в полном составе, — ответил он молодцевато. — А ведь я, вашескородие, того, середовину-то, того, сфукал.
— Как так?
— А уж так… На, не доставайся же она Бацу — и шабаш. В лучшем виде… Железная дорога пройдет через середовинуТо, а я буду сторожем. Верно… Наехало теперь господ страсть: земипо меряют, столбы ставят, планты делают, орудуют вполне… Все-таки выходит, что я отстоял ее, середовину-то: никому Не доставайся! И только господа наехали… ах, какие господа!.. Набольший-то у них и говорит мне: «Ты прикармливай волков…» Ну, натурально насчет охоты. Как приду, он сейчас двугривенный: «На двугривенный, купи бараньих голов волкам…» Куплю я бараньих голов, брошу их в лесу, а потом опять к барину: «Съели, барин!» — «Ну, еще купи… вот тебе двугривенный». Ну, так-ту мы бились с ним цельный месяц: он мне деньги, я — бараньи головы волоку, а волки едят… Уж такие господа, такие господа прахтикованные! И жалованье обещают… Буду себе с зеленым флачком на рельсах постаивать, — вот оно какое дело-то подошло, вашескородие!..
— Что же, стреляли волков-то?
— Какое стреляли: мы им бараньи головы валим, а они лопают — только и всего…
Примечания
1
«Приходишь» — в переносном смысле, по местному говору, значит «жалуешься». (Прим. Д. Н. Мамина-Сибиряка.)
(обратно)2
Базлать (обл.) — кричать, горланить, реветь.
(обратно)3
Цетерок — от сеттер, порода собак.
(обратно)4
Братан — брат. (Прим. Д. Н. Мамина-Сибиряка.)
(обратно)5
Утямились (обл.)—привязались, пристали.
(обратно)6
Шевелиться — копаться, возиться; медлить с каким-либо делом.
(обратно)7
Анисимовские издания — судебные уставы, кодексы законов и юридические справочники, изданные петербургским нотариусом А. Н. Анисимовым.
(обратно)8
«Трекнулся» — по-заводски, отрекся. (Прич. Д. Н. Мамина-Сибиряка.)
(обратно)9
Непременным условием (лат.).
(обратно)10
Тем самым (лат.).
(обратно)11
…приняли… в стяги — стали колотить дубинами; стяг — дубина, кол, толстая и длинная палка.
(обратно)12
Клящий (сиб.)—сильный, большой.
(обратно)13
Право первого захвата (лат.).
(обратно)

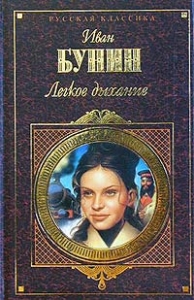
Комментарии к книге «Родительская кровь», Дмитрий Наркисович Мамин-Сибиряк
Всего 0 комментариев