Александр Амфитеатров Питерские контрабандистки
Из всех городов Российской империи Петербург — наиусерднейший по торгу с Парижем произведениями моды, подлежащими высокой таможенной пошлине. Из всех городов Российской империи Петербург — наиуспешнейший по контрабанде парижскими и, вообще, европейскими модами. Петербургские магазины завалены товаром парижских модных мастерских, никогда не виденным глазами, никогда не ощупанным руками таможенных досмотрщиков, хотя доехал этот товар к месту своей продажи отнюдь не в выдолбленных осях экипажей, не под шинами колес, не в двудонных сундуках и двубоких чемоданах, — вообще, без всяких плутовских ухищрений старого чичиковского времени. Нет, его не прятали, везли в открытую, без всякой опаски, даже представляли на таможенный досмотр.
Кто же и как провозит эту дорогую и изящную контрабанду?
Нечаянный ответ на вопрос я получил от одной бессознательной преступницы по этой части, очень молоденькой и хорошенькой русской дамы из более чем «порядочного» общества.
— В последнюю свою поездку за границу, — смеясь, говорила она, — я вела себя немножко неумно. Истратила гору денег. Накупила всяких пустячков в Берлине, в Вене, в Италии, а все главное и необходимо нужное оставляла купить, конечно, в Париже. Прибавьте, что не удержалась — заглянула в Монте-Карло, — и… комментарии излишни. В Париже, как водится, влюбилась в магазины, увлеклась. Носили ко мне пакеты, носили; платила я по счетам, платила… В один печальный день подсчитываю свои финансы и с ужасом убеждаюсь, что зарвалась: кредит в банке истощен, в номере у меня целый Монблан ненужных, но безумно дорогих вещей, а в кармане сто двадцать франков. Приходится телеграфировать мужу, чтобы выручал, и ужасно перед ним совестно. Мы далеко не богачи, дела наши в настоящее время очень не блестящи, — у кого, впрочем, они хороши? — денег мне муж и без того уже выслал чересчур щедро, гораздо больше, чем я имела право тратить — в последней телеграмме просил быть экономной, покупать осторожно. Нет, как ни повернуть дело, — нельзя беспокоить мужа: позор и стыд. Думаю про себя: не найду ли в Париже кого-нибудь из петербургских друзей? Нет, как нарочно, ни души: конец сезона, все разъехались. Такое отчаяние. И вдруг, нечаянно-негаданно, — спасена! Прямо с неба слетел ангел-избавитель и все устроил в двадцать четыре часа… Угадайте, как?
— Вероятно, вы продали часть вещей?
— Как бы не так. Разве я затем их покупала, чтобы потом продавать? Могла ли я с ними расстаться? Я в них просто влюблена была…
— Заложили свои bijoux?[1] Кредитовались в отеле?
— Как можно? Что вы! С моим то положением? С моей фамилией?
— Тогда, простите, отказываюсь понимать.
— И ни за что вам не догадаться, если не расскажу сама. А между тем, ларчик открывается очень просто, и все уладилось так мило, учтиво и приятно, что вы не в состоянии и вообразить. Мы, бедные, грешные русские дамы, способны хранить свои маленькие секреты от кого угодно, только не от француженки-горничной или модистки. Вот и разговорилась я однажды с прелестной барышней, которую один крупный магазин прислал ко мне, как примерщицу, а в разговоре выложила ей свое горе. Она выслушала, улыбнулась и отвечает:
— Это очень частая история, и в ней нет решительно ничего трагического.
— Ах, вы не знаете моего мужа…
— Вашему мужу незачем и знать о вашем безденежьи. Вы можете прекрасно заработать эти деньги сами, здесь, в Париже.
— Я, мадемуазель? Бог с вами! Я выросла баловницей… Я не имею даже понятия, как и что можно работать для денег…
— Мадам, неужели я осмелилась бы предложить вам какую-нибудь грубую работу? Слава Богу, я умею различать людей и вижу, с кем имею дело…
Тут у меня явилось новое сомнение. Женщина я молодая, собой, говорят, недурна, путешествую одна, без компаньонки, — не принимает ли меня эта госпожа за искательницу приключений, не собирается ли предложить мне… Вы понимаете?
— О, очень понимаю!
— Но — нет, не то. При одном намеке на мои сомнения, она так и вскипела… «За кого мадам меня считает? Разве мадам неизвестно, какой фирмы я представительница? Разве честь дома позволила бы моим патронам терпеть на своей службе особу, способную на подобные проделки и предложения?»… Даже отпаивать водой ее пришлось и извиняться потом: так расходилась… Ну, а как и чем она меня спасет, все-таки не сказала… Положитесь, говорит, на меня: вам не придется сделать ничего неловкого, даже неприятного, — просто, можно сказать, ничего от вас не потребуют, совсем, совсем ничего!..
— За ничего, Люси, денег не дают. Поставят какие-нибудь обязательства.
— Никогда. Уверяю вас: не вас обяжут, вы обяжете. Да так, что если бы вы и в Петербурге оказались не при деньгах, то можете хоть совсем не платить. Вот, значит, какую услугу вы в состоянии, шутя, оказать.
Отвечаю:
— Не платить я не могу и не хочу, потому что принимать подарки от неизвестных людей не в моих правилах. Но, если дело сводится к тому, чтобы услуга шла за услугу, тем лучше, с тем более легкой совестью я займу деньги…
Назавтра утром подают мне карточку какой-то мадам Дюран. Имя ровно ничего не говорит: во Франции Дюранов и Ламбертов чуть ли не больше, чем у нас Ивановых. Принимаю. Входит дама лет сорока пяти, буржуазка, очень приличная, одета просто и элегантно, заметно, что туалет стоит больших денег.
— Мне сообщили, что вы в маленьком затруднении. Не позволите ли мне вам помочь? Сколько вам надо?
— Думаю, что обойдусь двумя тысячами франков.
— Пожалуйста, не стесняйтесь… Если надо больше…
— Нет, я разочла, что обойдусь.
— Прекрасно. Я могу ссудить вам эту сумму.
— А условия?
Мадам Дюран пожала плечами.
— Какие же условия между двумя порядочными женщинами? Я не процентщица. Когда будут деньги, пришлете мне долг. Вот и все.
Прямо благодетельная фея какая-то!
— А вот, — продолжает, — об одолжении небольшом я буду просить вас очень усердно…
— Все, что могу… Вы так меня выручили… Я не знаю, как вас благодарить…
— Дело пустое: я только попрошу вас взять с собой в ваш багаж ящик, который я посылаю в Петербург.
— С удовольствием, если только в нем не будет трупа, разрезанного на части. А то с полицией выйдут хлопоты и, главное, я боюсь покойников.
Смеется:
— О, нет! Я только хочу просить вас передать подарки моей племяннице. Моя сестра живет в Петербурге, у нее большая модная мастерская, и вот теперь она выдает дочь замуж. Это свадебные дары.
— Прекрасно. Большой ящик?
— Да, порядочно велик. Но, мадам, перевозку я, конечно, беру на свой счет.
— Да я не к тому. А, может быть, посылаете много вещей? Тем более, если к свадьбе, то, значит, дорогие…
— Да, есть ценности.
— В таком случае, простите, но я могу принять их от вас только по описи… Мало ли что может случиться в пути, и какие потом возникнут недоразумения?
— Конечно. Вы правы и благоразумны. Очень хорошо. Будет сделана опись.
— А кому я должна буду отдать ящик в Петербурге?
— О, не беспокойтесь об этом! К вам явится мой брат или племянник. Отдайте тому, кто предъявит вам рекомендацию от меня.
— Тогда все в порядке. Привозите ваши сокровища.
Привезла сундук. Действительно, целая башня. Как открыли мы его, я так и ахнула. Глаза разбежались. Вещи ослепительные. И чего-чего там только не было! С ума можно сойти: такие прелести. Никогда ничего не видала богаче и лучше. Поахала я над сундуком, повздыхала — приступили к делу. Отсчитала мадам Дюран мне две тысячи франков, взяла с меня расписку в них, под описью сундука мы обе вместе тоже подписались, — откланивается. А меня любопытство мучит.
— Простите, но я страшно заинтригована: что побуждает вас кредитовать меня, незнакомую вам женщину, на таких льготных условиях, да еще доверять мне этот ценный сундук? Ведь в нем, по меньшей мере, тысяч на сорок франков дорогого товара.
Мадам Дюран, на это в ответ, спрашивает меня с искренностью:
— Ведь вы действительно госпожа N.?
— Самолично.
— Ваш муж занимает в Петербурге такой-то пост?
— Да.
— В прошлом году вы ездили за границу и возвращались на родину тоже с большим багажом?
— Ваша правда.
— И пограничная таможня не осматривала ваших сундуков?
— Нет, осматривала, но очень поверхностно: только поотпирали замки да подняли крышки. А внимательно, как у других дам, моих вещей никогда не осматривают…
— О, конечно! Вот, видите ли, нам все это прекрасно известно. И потому-то я решилась поручить вам этот сундук, что, среди ваших вещей, его осматривать не станут и, следовательно, родные мои получат вещи без пошлины. А пошлину им пришлось бы заплатить в размере гораздо большем двух тысяч франков, которыми вы желаете у меня кредитоваться.
В Петербурге ко мне явился тоже как-то утром очень учтивый и порядочный на вид француз, — по типу commis[2] из очень хорошего джентльменского дома. Он рекомендовался мне племянником мадам Дюран, показал доверенность от нее и принял сундук по описи… Больше я его не видела.
Зато из вещей, бывших в сундуке, стала видеть очень много потом в сезоне — то на одной нашей mondaine,[3] то на другой…
Спрашиваю Лили Беззубову:
— Где вы купили этот валансьен? В Париже, конечно? Здесь у нас нельзя найти такого.
— Нет, представьте, — именно здесь, в Петербурге.
Называет адрес и шепчет:
— Только не выдавать. Это я вам — по дружбе. Мне самой продали под страшным секретом. Говорят, что контрабанда.
А я отлично узнаю, что это тот самый, который, по поручению мадам Дюран, приехал из Парижа в знаменитом сундуке. Следовательно, не посылала она никаким родственникам никаких подарков, а все вещи были просто-напросто для торговли и отчаянно контрабандные. И мне вдруг стало стыдно и страшно:
— Как же это так? Ведь я, кажется, нечаянно попала в контрабандистки?
И так меня мучила эта мысль: ах, что, если узнают? Ах, что тогда со мной сделают? — что я не выдержала, во всем призналась мужу. Он ужасно рассердился, бранил меня, каялся, что сам, собственноручно напишет письмо главному таможенному начальству, чтобы тот отдал приказание впредь осматривать мои вещи как можно строже, напугал меня, расстроил, пригрозил, что больше не пустит меня одну за границу…
Сижу и плачу. Приезжает мой друг Фофочка Лейст. Вы ее знаете.
— Что с вами?
У меня от нее тайн нет. Рассказала.
Она подняла свой маленький нос, посмотрела на меня с видом неизмеримого превосходства, точно она на вершине пирамиды, а я на дне глубокого колодца, и сказала, картавя:
— Милая, какое вы еще дитя.
— Да! Дитя! И вы были бы дитя, если бы муж вам сделал такую сцену.
— Все мужья делают сцены.
— Сцены сценам рознь. Если сцена из пустяков и я права — пусть. Это даже приятно. Но когда сознаешь себя виноватой…
— А зачем же вы сознаете себя виноватой? Вы не сознавайте! Это не надо!
— Как не надо? Говорю вам: муж совершенно прав…
— О нет, муж никогда не может и не должен быть совершенно правым.
— Но поймите, ведь я действительно попала в очень некрасивую историю и провезла через границу дорогую контрабанду.
Фофочка опять:
— Дитя! Нет, вы дитя!..
Я рассердилась, наконец:
— Дитя! Дитя! Легко говорить: дитя, — а посмотрела бы я вас на моем месте. Дитя! Дитя! А почему я «дитя»?
А Фофочка, ничуть не смущаась:
— Потому что — с кем же из нас, бедных путешественниц, того же не бывало? Но только дети имеют наивность говорить вслух о своих маленьких секретах…
* * *
Лет семь тому назад я жил в центре Петербурга, в огромном доме, на четвертом этаже. Окна моего кабинета приходились как раз к внутреннему углу квадратного корпуса, так что, живя на одном катете каменного прямого угла, я в каких-нибудь двух саженях по гипотенузе имел перед собой ближайшее окно другого катета и часто волей-неволей становился свидетелем протекавшей за ним жизни. Хозяйка окна была дама пожилая, восточного типа, со следами былой красоты. Часто мелькали за окном по-домашнему одетые барышни, довольно красивые, тоже полувосточного неопределенного типа. Мужчин за окном я не видал ни разу. Зато дам — множество и, к изумлению моему, часто очень мне знакомых. Посещали таинственную квартиру актрисы, иногда даже знаменитые; проносились бледные профили тех львиц, которых «Листок» и «Газета» поминают «оазар», описывая балы, концерты, рауты; бывали и обыкновенные смертные, нарядные, сытые буржуазки.
Грешный человек, сперва я думал, что передо мной — тайная квартира для свиданий. Но, во-первых, повторяю: за окном никогда не видно было ни одной мужской фигуры; во-вторых, однажды я заметил у окна в живом разговоре с хозяйкой квартиры, супругу моего соседа и приятеля — даму пожилую, прекраснейшую и добродетельнейшую, которой, как жены цезаря, не должно было и не могло касаться подозрение.
Встречаю вскоре потом почтеннейшую Анфису Гавриловну на лестнице: подъезд у нас был общий. Говорю:
— А я вас видел на днях вот где и вот как…
Милая дама залилась румянцем, да — как расхохоталась:
— Да ну? Что вы? Вот так попалась я. Вы смотрите: мужу не расскажите. Он мне задаст.
— Вот как? Однако! Ой-ой! Анфиса Гавриловна! Что-то неладно…
— Что уж хорошего? — вздыхает она, — но знаете: баба я слабая… соблазн так силен… Согрешила на старости лет, окаянная…
— Анфиса Гавриловна!!!
— Да полно вам… Не то, что вы думаете… И вообще, ничего особенного… А только ваша братья, мужчины, не очень то долюбливают хозяйку этой квартиры.
— За что?
— Говорят, будто много мы, бабы, ей денег носим.
Я смиренно повторил:
— За что?
— А уж это не ваше дело. Много будете знать — скоро состаритесь.
В другой раз, много позже, приезжаю к приятелю, чиновному литератору, как зван был, завтракать. Хозяина еще нет дома, не приходил со службы. Хозяйка встретила меня какая-то растерянная, с заметным смущением, сунула мне в руки газету и, извиняясь, что сейчас-сейчас вернется меня занимать, скрылась куда-то внутрь квартиры. Из соседней комнаты долго доносилось ко мне оживленное шушуканье двух женских голосов. Но вот — в передней задребезжал резкий хозяйский звонок. Шушуканье оборвалось и сию же минуту мимо меня во весь дух, опрометью, бурей помчалась по направлению к кухне, на черный выход, с узлом подмышкой хозяйка знакомого мне окна. А жена моего приятеля проходя мимо меня навстречу мужу, сделала мне такой выразительный знак молчания, что я поспешил принять самое невинное выражение, на какое только способно мое лицо:
— Никого видом не видал, слыхом не слыхал…
Жена моего приятеля — хорошая дама, совестливая. Не любит и боится, чтобы о ней не только говорили, но даже думали дурно. Поэтому, возымев со мной общую тайну, она возымела и настоятельную потребность оправдаться, «чтобы вы не вообразили чего-нибудь худого».
— Поверьте мне: эта дама очень милая, она не занимается ничей дурным. Но я не смею принимать ее явно, потому что Лев ее терпеть не может. Ее все мужья ненавидят.
— Но кто же она, наконец?
— Фамилии не знаю. Никогда не знала. Да, кажется, и никто не знает. У нее нет фамилии.
— Батюшки, да это Расплюев какой-то в юбке! Ведь только почтеннейший Иван Антонович пытался уверить квартального надзирателя, что — «я без фамилии, у меня нет фамилии»…
— Да нет же! Какой Расплюев? Очень скромная, честная… Ну… ее все знают… Вероятно, приходилось слыхать… Это — Дина-контрабандистка…
— Ах, вот в чем дело… Слыхал, слыхал… Своего рода знаменитость.
— Что делать, мой добрый друг? — трагикомически вздохнула собеседница, — мы получаем так мало, а одеваться прилично в Петербурге так дорого. Если бы не Дина-благодетельница, мы, жены чиновников среднего оклада, все были бы одеты, как чумички.
— Но, в таком случае, за что же ненавидят ее мужья? Им бы, наоборот, следовало чтить ее и любить, — адрес бы ей благодарственный, что ли…
— И, конечно, следовало бы. Но разве с вами, мужчинами, можно сговориться по-человечески? Вы сотканы из предубеждений. Мой супруг, на что добр и мягок, а при одном имени Дины просто тигром каким-то становится. Послушать его, так и краденое то она нам продает, и записки то любовные из дома в дом переносит, и в уголовщину то нас когда-нибудь запутает и шантажа то мы не оберемся…
— Я, не зная вашей Дины, не решусь быть столь мрачным пророком, однако, по-видимому, личность, действительно, темная и большого доверия не заслуживает.
— Ах, Боже мой! Как будто я рада знать ее? Я была бы очень счастлива никогда не видать ее, не пускать к себе на порог и позабыть о ее существовании. Пусть мой Левушка отпустит мне сто рублей в месяц на туалеты и я изменяю Дине навеки: все буду закупать в магазинах. Но ведь ему это не под силу, — тогда о чем же и толковать? У Дины я имею за тридцать, за сорок рублей вещи, за которые в Гостинном надо отдать сто, полтораста, а уж про Морскую я не решаюсь и мечтать…
— А вы не находите, что сто рублей в месяц на туалет — это немножко чересчур широкая роскошь, при пятитысячном годовом доходе?
— Очень нахожу, — серьезно возразила она, — но что же делать? Моды растут в цене с года на год. А Петербург — точно с ума сошел: с года на год надо одеваться все роскошнее, все дороже. Дешевле, чем я вам сказала, трудно одеться не только хорошо, — где уж нам! — но просто хоть сколько-нибудь прилично, по нынешним диким требованиям. А то — хоть не выезжай вовсе, сиди дома: хуже других не радость быть… Да и супруг первый же начнет воркотню: «Что это ты, матушка? На что похожа? Всякую женственность утратила, даже собой заняться лень, одеться хорошо не умеешь. Клеопатра Львовна, Нонна Сергеевна — словно картинки, а ты, рядом с ними, допотопная какая-то точно горничная в старом платье, подаренном барыней… Еще люди дурно подумают, станут говорить, что я скуп, мало выдаю тебе на туалеты… Так вот и понимайте: надо, чтобы и одета была по последней картинке, и чтобы за грош пятаков наменять…» Голь на выдумки хитра: умудряемся кой-как, при помощи Дины. А вы, господа, видя, что она вечно при нас вертится, да деньги мы ей платим, да в долгу мы у нее все, как в шелку, воображаете, будто она наша грабительница и соблазнительница, женский Мефистофель какой-то… И, уж если бы вы знали, сколько неприятностей переносит она от вашего брата! И — каких! Подумать страшно.
— Неужели даже до «бокса»? — пошутил я, все держа в памяти бесфамильного, как Дина, Ивана Антоновича Расплюева.
Но дама пресерьезно мне возразила:
— А вы думаете, нет? Очень просто!..
* * *
Случай вскоре доставил мне знакомство с Диной-контрабандисткой и, вместе с тем, убедил меня, что, действительно, нелегка ее жизнь от нашего брата, мужчины. Как-то раз, поздно ночью возвращаясь из театра, я заметил у ворот нашего дома беспомощно ковыляющую женскую фигуру: не то больная, не то очень пьяная… судя по поступи с наклоном не в «правую-левую», а все вперед, скорее больная. Я прибавил шагу, догнал: Дина-контрабандистка!.. Но — в каком виде! Волосы сбились на лоб, лицо, при свете фонаря, белое, как плат, щека вздутая, под глазом не то синяк, не то царапина: именно уж Расплюев в юбке после трепки…
— Виноват, — решился я сам заговорить с ней, — вы, кажется, нездоровы. Не помочь ли вам?
Она взглянула на меня с диким видом, потом, узнав меня, закивала головой и зашептала:
— Ах, пожалуйста, будьте так добры… Мне очень трудно идти… Я упала, разбилась… Дворника звать не хочется… Люди грубые, я в таком безобразии… Бог знает, что могут подумать…
Я помог Дине подняться на лестницу, в четвертый этаж. Должно быть, нога у нее была очень ушиблена, потому что она, бедняга, даже зубами скрипела, переступая со ступеньки на ступеньку. На звонок наш выбежали Динины барышни и, увидав главу дома своего в столь беспомощном состоянии, конечно, пришли в ужас. Поднялся крик, визг, охи, ахи. Дина же, едва ввалилась в переднюю, беспомощно опустилась на стул под зеркалом и взывала истошным голосом:
— Динку били! Ой-ой-ой! Динку били, ой, как били! — воскликнула она, не стесняясь моего присутствия и, по-видимому, даже позабыв, что я, чужой человек, стою в дверях.
Стон и рыдания барышень удвоились. Я поторопился уйти и, спускаясь по лестнице, позвонил мимоходом к знакомому доктору:
— Зайдите в квартиру № 11, там хозяйка больна.
Он засмеялся.
— Опять избили, небось?
— А разве уже бывало?
— Это, на моей практике, уже в четвертый раз.
— Так что вы в некотором роде, выходит, состоите при этой квартире постоянным побонным врачом?
— Да… Что-то вроде чего-то…
Дней пять спустя, Дина явилась благодарить меня. Она слегка прихрамывала, но синяк под глазом был тщательно затерт белилами и пудрой. Разговорились, Дина оказалась крещеной еврейкой, но столь удивительно обрусевшей, что если бы не восточный облик, то и не догадаться о ее семитическом происхождении: так чист был ее акцент, так истинно русские обороты речи. Она говорила, как типичная петербургская мещанка или мелкая торговка. При всей странности ее промысла и образа жизни, Дине нельзя было отказать в симпатичности и даже в привлекательности: глаза умные, мягкие очертания рта говорят о доброте и кротком, податливом характере. Смолоду, должно быть, была совсем красавица.
История ее увечий оказалась такова. Некий бравый экс-вивер, некогда изгнанный товарищами из полка за чересчур постоянное счастье в штоссе и макао, застал Дину с товаром у своей содержанки.
— Черт его принес. Мы думали, он в театре, оттуда в клуб поедет. Ан тут как тут, словно домовой или зловредный привидений…
Сперва экс-вивер Дину ругательски обругал, потом стал гнать из квартиры.
— Позвольте, — говорит Дина, — что же вы мне кулаки под нос суете? Я сама уйду… Только дайте мне собрать мои вещи…
— Нет тут никаких твоих вещей!..
— А это вот?
— Мое благоприобретенное!
— А если берете, то заплатите деньги…
— Вон!
— Как — вон? Мой товар… мои деньги…
— Твой товар? Товар твой? А вот я отправлю тебя в полицию вместе с твоим товаром, там посмотрят, какой у тебя товар.
— Помилуйте, — возражает Дина, — как вы можете такое говорить? Кажется, я служу барыне не в первый раз, достаточно она переносила моих вещей.
…А она, клиентка то моя любезная, слыша эти слова, чем бы меня поддержать, вдруг вся всполошилась и, покрасневши, говорит:
— Нет уж, пожалуйста! Это зачем же? Вы на меня, сделайте одолжение, ничего не взводите. Никаких товаров я у вас до сегодня никогда не брала, и вас в глаза не знаю, не видала, — кто вы такая, ведать не ведаю…
— Позвольте, — говорю, — сударыня милая! Коль скоро вы меня не знаете, то каким же способом, объясните, очутилась я у вас в ночное время в квартире?
— А это вас спросить надо…
А горничная ейная, — красивая такая, здоровая девка, шельма на вид, сразу понимай: из той же компании, — тем временем, мимо нас шнырит, да шнырит… Я гляжу: чего она шнырит? — глядь, а узла то моего уже нет… Мигнуть не успела, как она, горничная то есть, его в спальню спроворила. Тут я поняла: «Угодники, у них подстроено! Сговорились, подлецы, все трое меня в ловушку поймать! Попала я на добрых плутов! Ну, дело бывалое: стало быть, пропадай все, унести бы только ноги».
А тот знай орет:
— Вон! Вон! Вон!
— Да иду, батюшка, иду. Что вы надсажаетесь? Сама минуты не останусь в вашем вертепе.
— Вон! В полицию!
И, между прочим, обращается к горничной, к шельме своей:
— Маша, идите за дворником…
Тут я не стерпела. Очень уж обидно показалось. Как? Меня же обдули, как липку, да меня же к дворникам в лапы?
— Нечего, говорю, меня дворниками пугать: сама ушла, не впервой грабеж то терпеть. Возьмите себе кровные мои денежки на могилу, крест да саван. Не господа вы, а шувалики, — говорю. Моры, мазура несчастная, — говорю.
Сама, как услыхала мою аттестацию, взвизгнула да в обморок, на диван. Горничная, — ученая каналья, — из спальни выбегает, кричит:
— Ах, какие несносные оскорбления! Беспременно эту негодяйку надо в участок отправить. Я свидетельница.
Но барину, как он ни лют, в участок вести меня неохота. «Мы, говорит, — и без участка обойдемся. Своим судом. Маша, приведите барыню в чувство, — стакан холодной воды барыне. А эту голубушку я провожу по-свойски…»
Да кулачищем меня в подглазье раз, два, три… Кулачище огромнейший, пудовик… Света не взвидела… Слышу: повернул, в шею толкает, через все комнаты, злодей, за плечи сзаду — одной рукой ведет, а другой кулачищем по затылку наяривает… Довел до черной лестницы, да как вдарит!.. Так я с поворота на поворот, из этажа на этаж, до самого двора и докувыркалась.
— Черт знает, что такое! — возмутился я. — Жаловались вы на этого господина?
Дина потупилась.
— Нет. Как же я могу жаловаться? Пойдут суды, полиция… Мне, знаете, оно — дело неподходящее.
— Да. И еще от прежних покупок за ней должишко был, рублей до двухсот. Теперь, конечно, тоже пиши пропало…
— Разве у вас нет на нее документа?
— Нет.
— Как же вы так?
Дина улыбалась.
— А на что документ? Что он мне поможет? Документы хороши, когда в торговле все чисто, а мое дело особое, деликатное. Оно все на взаимном доверии живет. Которая дама доверие к себе внушает, зачем мне с нее документ брать? Сама заплатит, когда деньгами раздобудется, без документа. И прибавить еще прибавит, хорошее вознаграждение подарит за долгое подождание. А у которой характер подлый, обманный, и никакой совести в ней нет, той я и с документом ничего не поверю. Потому что много ли я остаюсь при всем моем документе «галантированная»? Которая несовершеннолетняя, которой муж долги не платит, которая под чужой фамилией живет, до которой, ежели долг по закону получать, то и рукой ее не достанешь. Бывает и так, господин, что иной задолжалой сама лучше, какой она хочет, документ рада выдать, только отвяжись, не губи, не стращай… Была у меня одна: муж видное место занимал. Задолжала она мне до двух тысяч рублей. Намекаю: «Анна Прохоровна, нельзя ли получить деньжонок?..» — «Ах, Дина, я без гроша. Да разве ты мне не веришь? Беспокоишься? Ты не бойся. Ну, хочешь, я тебе вексель выдам?..» Была дура, согласилась: пожалуйте хоть вексель. Проходит срок. Не платит. Переписали. Опять не платит. Опять переписали. И так-то раз пять или шесть. А мне не векселя нужны, у самой денег нет ни копейки для оборота. Афера тут у меня одна сорвалась, да кое-кому нужно было сунуть: барашка в бумажке, колесца смазать… Говорю: как, Анна Прохоровна, хотите, а пожалуйте денежки, а то я документ протестую и до суда пойду… Принялась она меня тоже срамить, ругать: и воровка то я, и контрабандистка-то, и в тюрьму то меня, и в Сибирь… Однако я выдержала характер, настояла на своем. Уж не знаю, из каких сумм-доходов она извернулась, но заплатила… А дней этак шесть, семь спустя, вбегает ко мне знакомый сыщик… «Динка, — говорит, — ты того: остерегайся. Коли что плохо лежит, припрячь. На тебя у-у-ух какой доносище был, и велено за тобой следить в оба… В большое тебя подозрение одна барыня поставила…» — «Кто такая, голубчик? Разузнай, хорошо заплачу». «Такая-то…» Смекаю: Анны Прохоровны этой самой троюродная сестра… Вон оно, откуда ветер то дует… Нет уж, ну их к дьяволу, докуменщиц этих… Тогда на две тысячи векселишко заплатила — да и то бумажонками какими-то завалящими, рублей полтораста потеряла я на одном промене, а торговли испортила на десять тысяч…
— Мудреная у вас коммерция, Дина!
— Что ж? Какое кому дело дано, что кто умеет оправдать.
— И часто вас надувают в платежах таким образом?
— Да считайте, что из десяти клиентов три не платят.
— Однако! И все-таки выгодно торговать?
Дина уклончиво улыбнулась.
— Живу.
— Имеются у вас конкурентки? Много таких промышленниц в Петербурге?
— Да, есть… Порядочно много… Эльза Чухонка, Берта Егоровна, мадам Юдифь, Ольга Кривая…
— И все имеют свою булку с маслом?
— Не жалуются. Я-то, конечно, не чета им, в первый номер иду, в большие дома вхожа, репутацию имею. Но некоторые, — вот мадам Юдифь, например, даже больше меня зарабатывают. Ну, только это потому, что их коммерция нечистая, приторговывают…
— То есть?
— Мой товар модный и галантерейный, а они и от живого товара не прочь. Свидания устраивают, сводничают. Юдифь — та прямо эту специальность имеет. Конечное дело, выгодно. Как не выгодно? Ну, это — кому в охоту, и совести если нет. Я вот не могу. Доходно, а руки не поднимаются. Видно, дурна ли я, хороша ли, а совести, кому она от рождения дана, не изживешь… Вон Ольга Кривая и краденое покупает, с воришками знается… Еще выгоднее. Стыдно, не умею… Помилуйте! У меня племянницы взрослые, с образованием девушки… Очень хорошие, честные, порядочные… Даю вам благородное слово…
Дина задумалась.
— Вообще, хотелось бы кончить все это. Пора. Двадцать лет бьюсь как пан Марек мычется по пеклу. Шутка сказать: мне пятьдесят лет, я старуха, мне бы внучат качать, чтобы бабушкой меня звали, а вот она — жизнь то моя, покой мой…
Дина выразительно поднесла руку к замалеванному синяку:
— Только и заслужила.
— Да, завидовать нечему…
— А, если бы вы знали, сколько других беспокойств!
Дина даже рукой махнула.
— Всякий то норовит отщипнуть у тебя кусок себе; со всяким то делись; от всякого то бойся доноса. Получишь дорогой, фартовый товар — думаешь: вот наживу сто на сто. Куда там! Не тут-то было! Как начнут рвать направо, налево подлипалы всякие, — благодари Бога, если останется в свою пользу двадцать процентов: остальное — так вот все само, в руках твоих, зримо и растает… Не будь у меня племянниц бедных, давно бы бросила. Племянницам хочется хорошее приданое дать… Вот, нет ли у вас женишка? — засмеялась она.
Я ответил ей в тон:
— Как не быть? У вас товар, у нас купец. Охотников взять красивую невесту с деньгами в Петербурге сколько угодно. По многу ли сулите?
— Да уж куда ни шло, по большой красненькой на каждую расшибусь.
— По десяти тысяч? Ого!
— А для хорошего человека, если с ручательством, что верный — не обидчик, пить не станет и девку не заведет, можно и прибавить…
— Дина, да ведь у вас их с руками оторвут: по нынешним временам ваши племянницы — клад…
— Да уж я, что касательно домашнего интереса, люблю так, чтобы все было по-хорошему… Да… Награжу всех, выдам, устрою — и забастую. Мне, старухе, много не надо. Сохраню себе малый кусок. Авось, буду сыта.
— По монастырям, поди, станете ездить? Грехи замаливать?
Дина сжала губы.
— Не очень то я, знаете… Не охотница… Нет, просто на покой хочу… Ну, буду у племянниц гостить, от одной к другой ездить… Ничего, они у меня добрые, любят меня, не поскучают…
Дина — контрабандистка настоящая. Но огромный спрос на всякого рода запретный товар породил в Петербурге особые промыслы контрабанды мнимой, притворной: таков уж наш цивилизованный век, что даже контрабанда — и та стала жертвой фальсификации.
Обедая у иных петербуржцев, вы часто замечаете на столе бутылки со странными ярлыками, непохожими на этикетки обычно ходовых фирм. Содержимое бутылок иногда оказывается никуда негодным месивом, а то вдруг случайно выпадает — нектар. В последнем случае, вы, конечно интересуетесь:
— Где вы достаете такую прелесть?
Хозяева улыбаются таинственно.
— Это секрет.
В настоящее время — уже секрет полишинеля, потому что он неоднократно обнаружен, уличен, выведен на свежую воду и даже, кажется, побывал под судом.
К вам является неопределенное существо женского пола, полудама, полубаба.
— Что вам?
Существо оглядывается с видом заговорщицы.
— Дельце к вам… В особенную поговорить хотелось бы…
— Лиза, выйдите… Ну-с?
— Наслышаны мы, что у вас бывает много гостей.
— Случается… Так что же?
— Стало быть, вина у вас много идет… В магазинах берете? Дорого оно в магазинах-то. Да и нехорошее. Чистого вина нонче днем с огнем не найдешь в магазинах. Либо надо платить бешеные деньги…
— Совершенно верно. Дальше?
— Хочу вам предложить: не пожелаете ли, чтобы я вам поставляла вина? Самых высших сортов, за чистоту и качество ручаюсь; если не понравится, хоть и денег не платите.
— А как дороги?
— По рублю бутылка огулом.
— Какие марки?
Баба-дама называет очень высокие заграничные вина: шамбертен, мутон-ротшильд…
— Ну, голубушка, — рекомендуете вы ей, — проваливайте, откуда пришли, и благодарите Бога, что я не зову полицию. По рублю за бутылку продавать мутон-ротшильд в состоянии только вор: очевидно, вина ваши краденые.
Баба-дама, ничуть не смутясь, возражает:
— Никак нет. Как можно, чтобы краденые? Мы только что без патента торгуем, а на каждую партию, которую будем доставлять, мы в полном своем праве.
— Как же так? Откуда вам достаются дорогие вина дешевле, чем они продаются на месте?
— А это вина, которые остаются из погребного отпуска на придворные обеды. Которые бутылки не поступают на столы, то экономия уже не возвращается обратно в погреба, но остается в подарок прислуге. Официанты делят вино между собой, а я у них скупаю и перепродаю. Вот-с и весь секрет, какое наше винцо выходит. И, стало быть, ничего в нем запретного нет, и совсем незачем вам беспокоить полицию.
— Если так…
Вы заинтересованы.
— Хорошо. Принесите на пробу несколько бутылок. Вино действительно превосходное…
— Благодетельница, волочите еще.
— С удовольствием. Но только, извините, могу доставить лишь большой партией. Бутылок этак в двести, не меньше.
— Ой, куда мне?
— Сударь, сами извольте рассуждать: по рублю за бутылку беру. По мелочам продавать — не стоит и мараться. На извозчиков, почитай, столько же проездишь, да на машину: ведь мы петергофские. А у вас винцо разойдется. Чего в доме не выпьют, с великой радостью разберут знакомые.
— И то правда. Хорошо. Доставьте двести бутылок.
Двести бутылок принесены. Они совершенно той же формы и с теми же этикетками, что пробные. Деньги заплачены. Продавщица исчезла. Вы хвалитесь приятелю:
— Вот попотчую тебя винцом. Слово даю: такого ты еще и не пробовал.
Приятель пьет и делает страшную гримасу.
— Бррр… Уж именно, что еще не пробовал!.. Кто тебя наградил этой бурдой?
Пьете. Ужас, что такое: и сусло, и уксус, и сивуха.
— Должно быть, испорченная бутылка, плохая пробка… Откроем другую.
Напрасно. Можете откупоривать вторую, третью, пятую, десятую, сотую: все будет — сандал, фуксин, жженый сахар, слегка заправленные плохим лафитом или кагором для запаха. Месиво, гнуснейшее на вкус и весьма мрачное желудочными последствиями. По крайней мере, один небезызвестный журналист, рискнув по ненасытности утробы своей опорожнить бутылку такого «вина», едва не отдал Богу душу.
Ясно, конечно, что вино это никогда не видало не только дворцовых погребов, но даже обыкновенных купеческих подвалов.
Мошенничество это рассчитано на, так сказать, «психологию молвы». Легенда об остающихся после придворных парадных обедов драгоценных винах, действительно, существует в Петербурге и, кажется, вина действительно дарятся прислуге, и та действительно продает их в свою пользу, но… конечно, не по рублю за бутылку и не в частные руки, а крупным виноторговческим фирмам, дающим очень хорошие цены и являющимся постоянными, многолетними, систематическими покупателями. Они приобретают товар, а вы легенду о товаре и карикатуру на товар.
Ну, а первое-то вино?
Кусок сала, положенный в мышеловку, чтобы заманить мышь. Три-четыре бутылки хорошего вина приобретаются промышленницей рублей за двенадцать. Остальные расходы производства: рублей на пять бурды для наполнения бутылок, да около восьми копеек с бутылки за посуду со всей укупоркой. Следовательно, рублей за двадцать пять приготовляется вся приобретаемая вами партия. Вы платите двести рублей. Барыш — сто семьдесят пять. Кажется, недурно?
Но, скажет читатель, принимая вино, вы можете попробовать его вторично?
А на сей случай, в корзине или подвешенные под юбками продавщицы имеются в запасе две-три бутылки хорошего вина, которые и будут ловко подсунуты вам как вторичная проба. Вы платите такой хороший процент, что продавщице не жаль угостить вас на прощанье винцом порядочным. А затем для нее главное — поскорее выбраться из вашей квартиры и, по возможности, не повстречаться потом с вами на улице. А впрочем, если и повстречается, то что за беда?
— Какую ты мне бурду продала, чертова кукла?
— Окреститесь, батюшка! Никогда я вам ничего не продавала, впервой вас в глаза вижу… А за чертову куклу ответите… Не в бессудной стране живем… Господа прохожие! Господин городовой! Будьте добры прислушаться!
Примечания
1
Украшения (фр.).
(обратно)2
Приказчик (фр.).
(обратно)3
Светская дама (фр.).
(обратно)


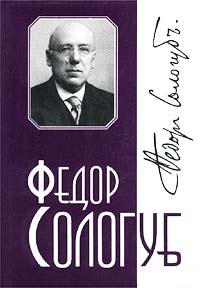

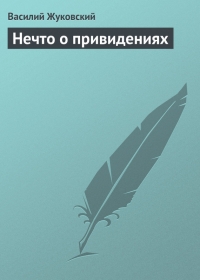
Комментарии к книге «Питерские контрабандистки», Александр Валентинович Амфитеатров
Всего 0 комментариев