Александр Одинцов Дмитрий Юферев ДЕРЗКИЕ РЕЙДЫ Повести
ОТРЯД СПЕЦНАЗНАЧЕНИЯ
1
В сосновом перелеске быстро темнело. Растянувшиеся вереницей бойцы двигались почти бесшумно: ни лязга оружия, ни бренчанья котелками. Разве что хрустнет сухая ветка. Но вот пронеслось по цепи:
— Помкомвзвода задело!..
Еще стремительнее передалось в оба конца приказание командира отряда Шеврука:
— Залечь!..
И не потребовалось других распоряжений — каждый знал свое место, знал, что делать. Арьергардный полувзвод разведчиков ринулся обратно, к опушке, рассредоточился там и залег.
Однако все обошлось. На ночь глядя каратели не решились отойти слишком далеко от шоссе, чтобы преследовать участников рейда. Боялись они перебегать от перелеска к перелеску по топким ложбинам, которые простреливались вдоль и поперек.
…А ранее, при переходе линии фронта, из девяносто четырех участников дальнего рейда не было ни одного, кто не тащил бы на себе весьма солидный груз. Кроме собственной винтовки с двойным боекомплектом патронов, кроме своих гранат и пищевого НЗ еще посменно несли оцинкованные ящики с патронами да пачки тола. Конечно, повымотаешься за двадцать часов почти безостановочного марша по таким зарослям, где черт ногу сломит!.. И несколько самых юных скисли, заподозрили, будто разведчики комдива Доватора, которые взялись провести весь отряд через фронт без единого выстрела, сами же заплутали в лесной глухомани… Вообще-то все понимали, что нельзя проскользнуть незамеченными, если напрямик шагать, однако слишком уж часты и резки были внезапные повороты.
Заслышав нарекания на проводников, командир Шеврук подходил к ворчуну и оглядывал его с головы до ног… И только! Но провинившийся бледнел под этим колючим взглядом голубых глаз.
А комиссар отряда Клинцов подшучивал над повесившими носы с очевидным добродушием, но в то же время с ехидцей. Однажды он выхватил патронный ящик из рук обессилевшего бойца, взвалил его на плечи и занял место в общей колонне.
Наконец между чахлыми березками зажелтело рокадное шоссе. Первыми пересекли его командир и комиссар с проводниками — разведчиками Доватора, за ними двинулись все остальные… Неподалеку от шоссе сделали остановку. Когда бойцы выстроились на пышном мху среди замшелых елей, комиссар Клинцов, которого привыкли в пути видеть улыбающимся и подшучивающим, вдруг заговорил строго:
— Гитлеровцы продолжают наступать. И неизвестно, сколько времени придется нам воевать во вражеском тылу. Впереди — трудности, страдания, утраты… Кто раскаялся в своем, возможно, поспешном решении добровольно вступить в отряд особого назначения, может вернуться с разведчиками Доватора назад — в свое подразделение. Передумавшим — выйти из строя. Две минуты на размышление!..
И комиссар, чтобы ненароком не встретиться глазами с теми, кто не прочь возвратиться, повернулся к бойцам боком.
Истекли две минуты. Строй не шелохнулся. Тогда командир отряда Шеврук объявил:
— Даю на раздумье еще две минуты в дополнение к тем, якие предоставил комиссар. От имени командования фронтом заверяю: вернувшихся никаким взысканиям не подвергнут. Прошу не стесняться… Одна добавочная минута прошла. Поторопитесь! Еще одна в запасе!
Шеренги по-прежнему не шелохнулись. Тогда Шеврук и Клинцов подошли к разведчикам, обняли их благодарно и наказали передать комдиву Доватору большое спасибо.
Отряд по команде взял винтовки «на караул» и смотрел вслед разведчикам, пока они не скрылись из виду.
— Вольно! — скомандовал Шеврук и отступил в сторону.
Слово взял Клинцов.
От комиссара ждали воодушевляющей речи. Прежде всего, поздравлений по поводу того, что ни один доброволец не передумал и не покинул отряд… Но Клинцов ограничился лишь напоминанием о разносторонней боеспособности отряда, в котором есть и подрывники, и снайперы, и артиллеристы, и саперы. Он знал, что бойцы не растеряются, когда захватят оружие гитлеровцев… Затем он крикнул:
— Кому со мной побегать охота? А?! Выйти из строя!..
Многие скосили глаза на соседей: шутит комиссар, что ли? А в следующий миг одновременно шагнули вперед разведчики Хомченко и Ковеза, а также восемнадцатилетний переводчик Лева… Тот еле стоял на ногах от усталости.
— Хомченко, за мной! — скомандовал комиссар и добавил: — Хватит нас двоих!
Он сказал это, чтобы не брать Леву, выбившегося из сил, но пытавшегося держаться молодцом.
Минут пять спустя отряд переместился к развилке проселочных дорог. Здесь стояли столбы со стрелками-указателями на немецком языке. Названия ближайших поселков были аккуратно выведены готическим шрифтом. Комиссар и Хомченко поменяли стрелки-указатели местами.
И поначалу никто бы, вероятно, не сумел объяснить, отчего вдруг полегчали тяжелые «сидоры» за плечами, в которых кроме сухарей да консервов — еще и немалый груз патронных ящиков. Отчего в слезящиеся от недосыпания глаза внезапно хлынула задумчивая прелесть предосеннего леса?.. Родного леса с нагло врезающимися в его красоту стрелами, испещренными остроконечной готикой… Ничего особенного не произошло. Но понятно: теперь фашистам покоя не будет.
Отряд увидел, что комиссар Клинцов умеет не только с умным расчетом отмочить шуточку, встряхнуть и взбодрить этим приунывшего. Не только! Может, оказывается, б какие-то секунды целиком отдаться радости своей слитности с новыми, еще не знакомыми товарищами, которые, как и он сам, на все готовы: на мучения и гибель. И одновременно способен к мгновенной оценке положения… Эта оценка, та самая свежесть и непосредственность восприятия, которая далее, с годами, все более вытесняется трезвой всеохватывающей сдержанностью.
Да, комиссар знал силу слова. Но чутье подсказывало ему, что бывает иногда нужнее — без слов и доверчиво — распахнуть перед бойцами свое жизнелюбивое и щедрое сердце. Самые правильные и безупречно отчеканенные формулировки не столь живо согрели бы и расшевелили измученных до предела бойцов, как этот мгновенно возникший духовный контакт.
Те, кому довелось уцелеть и в этом рейде, и во всей почти четырехлетней войне, вспоминали потом, собравшись, что многим рядовым сначала передалось это непосредственное восприятие ситуации двадцатитрехлетним их комиссаром; а в следующие минуты сменилось ощущением, что и сами сумели бы воспарить зажигательной речугой, потребуйся таковая, да и найдись для нее время.
Мы здесь, мы на ваших путях, господа фашисты! Лезьте из кожи, мастерите да расставляйте всяческие подспорья да подпорки, чтобы не сбиться, чтобы в точности блюсти предписания. Вот они ваши указатели — все впереверт и навыворот… То ли еще будет — раз уж мы здесь! И наши тропы и дороги — везде. Наперекор вашим устремлениям. Через болота и реки, сквозь ливни и ваш заградительный огонь — мы пройдем всюду!..
Еще километра три прошагал отряд в глубь чащи до желанного привала — недолгого отдыха на лесной поляне. В первой смене караульных были командир и комиссар.
Разумеется, им не положено взваливать на себя обязанности караульных. Однако в особых условиях рейда по вражеским тылам, требующего постоянного напряжения физических и духовных сил, приходилось искать новые способы воинского воспитания, больше полагаться на личный пример. Не положено командиру и комиссару ходить в разведку, но они отправились. Опять-таки с воспитательной целью. Вернулись с четырьмя застигнутыми врасплох «языками» и пятью трофейными шмайсерами.
Боевые будни начались!
2
— Давай продлим отдых, — предложил Клинцов. — Скажу дежурному, что откладываем подъем. Говори: на сколько?
— Да, нехай по-твоему… На полчаса! Дольше нельзя ждать Ковезу.
Клинцов, отдав распоряжение дежурному, снова побывал у постового Корытова, который сменялся.
— Теперь в стороне шоссе темь и тишь, — сообщил Клинцов Шевруку, когда вернулся. — С той минуты, когда Корытов кричал нам вслед, больше ни одной ракеты не взлетало.
— Угомонились фрицы, — пробурчал Шеврук. — В казармы Велижа покатили, как думаешь? Или только вид делают, будто сняли засады?
— Скорее, второе. Видать, так мы допекли немцев на этой магистрали, что еще засветло притаились. Ожидают, когда сунемся… А потом постараются догнать.
— Какой, к бису, прок от обманных наших шараханий при отходе, — вздохнул Шеврук. — У фрицев хватает смекалки! Мол, ежели советские диверсанты с утра до вечера колобродят на шоссе, так, наверно, повымотались. А значит, у них и сил, и времени нехватка для отвлекающих маневров.
— И все же каратели должны ошибиться в расчетах.
— А командир обязан предусмотреть худшее.
Клинцов повернулся к Шевруку. Уловил в темноте беспокойный блеск его глаз. Уже было немало случаев убедиться, что командир, при всей его внешней холодности, был человеком увлекающимся и горячим в бою: не всегда соразмерял размах действий с реальными силами отряда… А как человек наблюдательный и самокритичный, наверняка распознал эту свою особенность. Поэтому побаивался излишней горячности у подчиненных. Вероятно, сейчас командира тревожило, что Ковеза, желая выведать побольше, чересчур далеко зашел.
Клинцов спросил напрямик:
— Что — худшее? Думаешь о Ковезе?
— А ты будто не беспокоишься? Каков ни пробойный он хлопец, а ведь у немцев оказаться могут не хуже разведчики!
— Бесспорно.
— То-то и оно. Ракетами суматошничали, зато шмайсеры и пулеметы — молчок!.. И допусти, что был пистолетный хлопок. А такого Корытов мог и не расслышать.
— Да, не исключено, что Ковезу могли ранить из «вальтера» или парабеллума… Но в одном уверен: ничего не скажет он.
— Эх! — с досадой вздохнул Шеврук. Секунду спустя добавил еще шепотом и с явной горечью: —Твое счастье!.. Тебе не пришлось испытать, как в прах разбиваются наикрепчайшие уверенности.
Клинцов нащупал его руку, молча сжал, коротко и сильно.
— Рассветает в пять, — сказал он. — Успеем затемно километров пятнадцать отмерить. Параллельно шоссе. Чтобы прорываться через него на северную сторону поближе к Велижу.
Шеврук принял этот крутой поворот темы.
— Может, пофартит какой-нибудь «опель» с ихним офицерьем зацапать. А только ты не суйся поперед батьки в пекло! — Шеврук дернул товарища за ремень портупеи. — Какого биса везде сам суешься?.. Твое дело воспитывать, а не самолично переть.
— Мы с тобой еще в штабе фронта договаривались! Вернейший способ воспитания — личное мужество плюс воинское мастерство.
— Для начала! — Шеврук слегка повысил голос. — У Щучьего озера показали пример. Однако треба ж и край знать! И выражаю тебе мое командирское недовольство.
— Глянь, уже пробудилась наша братва, — перебил его Клинцов и показал рукой на красные подмигивающие точки цигарок.
— Товарищ комиссар! Интересуюсь я… — Хомченко, пока не прозвучала команда «Подъем», спрашивал лежа. — Существует ли такое слово — «рейдяне»?
— По-моему, нет, — ответил Клинцов, предугадывая, что сейчас последует очередное подначиванье.
— Вот именно. А наш Левочка сотворил стишок о том, как рейдяне тихою толпой под Велижем кочуют…
— Вместо «рейдяне» лучше поставить «славяне», — посоветовал Клинцов, оглянувшись на Леву.
Тот резко шевельнулся на своей шинели, раскинутой по бугрящимся корням, но ничего не сказал.
Этот худенький паренек — бывший студент университета, становился комиссару все более симпатичен. С первых дней войны он просился в разведку и добился зачисления запасным переводчиком в их отряд… А вскоре Лева, к изумлению всех, показал себя метким стрелком, и это почти без тренировки! А если позаниматься?
Клинцов вспомнил, как однажды он полюбопытствовал, почему Лева укладывается на корнях, хотя земля совсем сухая. Лева отозвал комиссара в сторонку и, убедившись, что никто не слышит, рассказал… Выяснилось: он дал маме слово остерегаться простуды. Поэтому и стелет себе на корнях. Так надежнее…
Клинцов отбросил эти мысли. Сейчас надо думать о другом — о взаимоотношениях бойцов друг с другом. Отряд должен стать надежным коллективом. Мало ответственности перед командирами. Необходима ответственность и перед товарищами. А главное, пора приучить бойцов мыслить самостоятельно. Настоящий, храбрый воин всегда полон сдержанного достоинства. Ему претит, когда политруки разжевывают навязшее в зубах. Плох командир, который стремится думать за рядового даже в неподдающихся пересказу житейских сложностях.
Радостный возглас с северного поста прервал мысли Клинцова:
— Ковеза пришел!..
— Где командир? Он только что был здесь и тревожился.
Клинцов поднес к глазам часы со светящимся циферблатом. Ноль пятьдесят шесть. И тут же услышал голос Шеврука:
— Подъем!..
Клинцов подошел к северному посту почти одновременно с Шевруком. Ковеза вскинул ладонь к фуражке:
— Товарищ командир отряда! Задание комвзвода лейтенанта Алексаева выполнено. Разрешите доложить о результатах?
Какие-то секунды командир отряда колебался. Он почувствовал в хрипловатом баритоне Ковезы нотки удовлетворения. Конечно же, разузнал что-то важное. Скорее выслушать. Но все помнят слова комвзвода разведчиков о назначенном Ковезе сроке возвращения… Раскатистый бас командира отряда становился жестким, режущим:
— Когда комвзвода приказал вам, старший сержант, вернуться?
— До двадцати четырех.
— А сейчас… — и собравшиеся вокруг уловили взметнувшийся к лицу командира светлячок его наручных часов, — сейчас ноль пятьдесят девять!
— Разрешите доложить, това…
— Не разрешаю! — отрубил Шеврук. — Доложите через три минуты. Пока слушайте!.. За недисциплинированность отстраняю старшего сержанта Ковезу от форсирования шоссе с головной группой разведчиков. А перед завтрашним утром вы с бойцом Нечаевым обязаны втихую провести через шоссе вьючных лошадей и прибыть в пункт, який после вашего доклада покажу на карте. Если же, старший сержант, снова проявите недисциплинированность, отстраню от боевых дел на все время рейда. Закатаю в хозвзвод!
— У нас же нет хозвзвода, товарищ командир, — заикнулся Ковеза.
— Будет! Организуем! — заверил Шеврук. — Пока что пара наших кобыл составляет ядро хозвзвода. После, может, и паршивенькую телушку заведем. А к ней треба погонщика.
Минуты через три пришли командиры взводов, чтобы выслушать сообщение Ковезы.
…Дело было так. Ковеза догнал карателей, когда те в густеющих сумерках сочли за благо прекратить преследование и повернули назад. Следуя за ними по пятам, он остановился: каратели расположились на ночлег вдоль шоссе. Очевидно, решили подождать, когда советские бойцы снова сунутся минировать.
Убедившись в этом, разведчик хотел было поспешить восвояси, но тут послышалось урчанье мотора… Ковеза подался вперед, чтобы определить, что за машины. Утробное гуденье чем-то неуловимым отличалось от хорошо знакомого рокота немецких грузовиков… И вот в каких-нибудь семи-восьми метрах прокатила неразличимая в темноте машина с замаскированными фарами, пропускавшая свет лишь через узкие щели. За ней — вторая. Она остановилась почти рядом с разведчиком. Вспыхнули фары, и Ковеза увидел лакированную портупею, которая могла принадлежать только немецкому офицеру. Машина оказалась броневичком.
— Портупея? — быстро спросил Шеврук. — Не ошибаешься? Разглядел ее хорошо?
— Хиба ж я стал бы докладывать! — повел Ковеза своими широченными плечами. — Портупея — це дрибность. Але ж броневики на шоссе…
— Портупеи носят только эсэсовцы, — тихо напомнил Клинцов.
— Потому спрашиваю! — увидев, как, воспользовавшись паузой, Ковеза с изумительной быстротой скрутил себе цигарку, Шеврук щелкнул зажигалкой, поднес огонек разведчику. — Потому и спрашиваю… Привидеться могло! Свет фар — обманчивый, дюже много теней в кустарнике…
Ковеза только снова повел плечами, пыхнул дымком. Помолчав, добавил:
— Крушина кругом вся была порублена пулями… Плотный огонь ихняя засада вела по нас… А фашистика бачил ясно. Блызенько!.. Финкой мог бы достать. Воздержался.
— Правильно поступил, — одобрил командир и резко повернулся к подбежавшему сержанту Хомченко: — Чего тебе?
— С поста на южной стороне моторы слышны. Примерно в километре.
— Вот и подтверждение, — усмехнулся комвзвода разведчиков Алексаев.
— Снимай посты, лейтенант! — приказал ему Шеврук. — Выстраивай походную колонну!
Алексаев вскочил. Но прежде чем прозвучали слова его команды, Ковеза с видимой неохотой заметил:
— Сдается, воны все ж учуяли меня. Может, убачил кто при высверке… залопотали: «Рус, рус!..» Ракетами сыпанули.
Он умолк, хотя чувствовалось, что чего-то не досказал. И комиссар сделал это за него:
— Искали тебя, но не стреляли. В своих попасть опасались… Так?
— Не иначе!
Перебросились этими словами уже на ходу. Хомченко сказал Ковезе громко, рассчитывая, что приотставший комиссар услышит:
— А я нипочем бы не воздержался! Полоснул бы того портупейного. Рискнул бы ради всяких его аусвайсов!
Ковеза промолчал. Командир и комиссар подошли к выстроенному в две шеренги отряду.
По команде «Смирно» строй замер. Сейчас всем стало слышно рокотанье моторов с юго-западной стороны. Там — закругление тесной проселочной дороги, непроходимой для широких грузовиков вермахта. Значит, разведчики не ошиблись. Это медленно продвигаются немецкие броневики. Разумеется, в сопровождении пехоты. Далее, уходя к востоку, проселочная дорога распрямится, броневики рассредоточатся, чтобы простреливать все заросли вдоль обочины. Пехотные же подразделения постараются прижать отряд к шоссе Велиж — Новель. К шоссе, на котором ежесуточно автоматно-пулеметным огнем, минами отряд уничтожал грузовые машины вермахта.
Командир выдержал долгую паузу, давая каждому бойцу возможность послушать и отчетливо представить себе, что произошло бы, окажись командование отряда «подобрее» — разреши подольше поспать.
После команды «Вольно» перед отрядом выступил комиссар:
— Мы вправе гордиться не только взорванными и сожженными грузовиками, но и тем, что сейчас оттянули на себя крупные силы с бронемашинами. А они позарез нужны гитлеровцам для наступления. Пускай враг еще более ослабит свои фронтовые части. Тем больше чести для нас!
Минуту спустя колонна тронулась в путь. Ковеза и Нечаев с вьючными лошадьми замыкали колонну. Взвод разведчиков уже успел облазить все перелески впереди: вплоть до полосы захиревших лесопосадок, в трех километрах от Велижа.
Уже близко до облюбованного заросшего оврага. Там удобно затаиться и выждать, когда зарокочут длинные очереди наших «дегтярен».
В полукилометре от Велижа — один из пересыльных пунктов вермахта. Поэтому поближе к городу — оживленное, почти безостановочное движение машин. Мишени для «дегтярей» непременно будут. Длинные очереди послужат сигналом, чтобы отряд пересек шоссе и углубился в лес. Тотчас об этом станет известно командирам карателей. Они снимут засады или поубавят их количество, а броневики будут, вероятно, переброшены обратно — в гарнизон или пересыльный пункт Велижа. Тогда удастся незаметно провести через шоссе вьючных лошадей.
А сейчас вдоль него притаились гитлеровские засады. Правее слышно негромкое, но многоголосое гудение броневиков. Крадучись, осторожно пробираются по проселочной: боятся оторваться от пехоты.
А бойцы отряда особого назначения думают не только об опасности. Кто вспоминает мать, кто — школьных друзей, кто мечтает о будущем. И мечты эти часто приятны. Даже о недельной стоянке в обширном чернолесье, об этом всего лишь за считанные дни обжитом мирке, думается чуть ли не с нежностью. Наверно, смешной… Хотя что тут смешного?
Хорошо было возвращаться к полуночи на стоянку, восстанавливать во взбудораженной памяти, как подбросило миной головной грузовик автоколонны гитлеровцев, как вильнула в сторону следующая машина, но пробитый пулями немецкий шофер не успел довернуть руль, и грузовик, резко накренясь над кюветом, опрокинулся. Хорошо было возвращаться к утру, после успешного ночного рейда, когда сзади, на шоссе, огромными кострами горели вражеские автомашины. А главное, в отряде пока ни одного убитого. Да и раненых немного.
3
Вялый осенний рассвет. Серое небо, серая изморось.
Между картофельными полями — полоса чахлых, побуревших лесопосадок. Она тянется к пологим пригоркам у самого шоссе, которое пока что пустынно. Эти пригорки рассматривали в бинокли четверо суток назад. Тогда между ними мелькали вымахнувшие со стороны Велижа немецкие бронемашины, а за ними — грузовики с ремонтниками и солдатами-охранниками. Они спешили к месту боя, чтобы скорее заровнять на шоссе воронки от минных взрывов, убрать остовы сожженных автомашин. А сейчас туда ползли разведчики во главе с лейтенантом Алексаевым. Одолели, наверно, метров полтораста. Лесопосадки реденькие, неухоженные. Среди них — стрелковые ячейки. Советские бойцы приготовили их еще в июле, когда обороняли запасные подступы к Велижу. Надо разведать: не заняты ли? Что ни говори, а наблюдательный пункт здесь хороший.
И вот лейтенант Алексаев уже на среднем, самом высоком, пригорке и призывно машет рукой.
— До нас прозябала здесь какая-то сволочь, — Алексаев протянул Шевруку и Клинцову окурки дешевых немецких сигарет. — Еще тепленькие. Курили только что.
Резкий скрип прервал его слова. Тощая лошадь втащила на шоссе телегу с двумя громадными бидонами. Между ними притулилась малоприметная фигурка, укутанная в темный платок.
— Молочные бидоны! Сметанкой бы подзаправиться! — Хомченко потер ладонями с уже просохшей грязью. — С паршивой овцы хоть шерсти…
— Тихо! Всем пригнуться! — перебил Клинцов.
Выехав на утрамбованный гравий, лошадь зарысила с резвостью, неожиданной для ее худобы, Колеса уже не скрипели, а визжали.
Клинцов и Лева перемахнули вязкий гребень окопа. Сбежали вниз — к шоссе, навстречу повозке.
Бабенка крикнула «тпру!», и лошадь остановилась.
— Ой, дядечки!.. Ничегошеньки у меня нет сёдни!.. Даже хлебушка нет!
На Клинцова и Леву глянуло маленькое смуглое личико с большими, поблескивающими глазами и заостренным подбородком. Искривились нежные лепестковые губы:
— Ей-бо, паночки!.. Ничегошеньки!
Не бабенка, а девушка. Нельзя дать и шестнадцати. Голосишко хриплый, простуженный.
— Чего ж ось не смажешь? — спросил Клинцов.
— А гады не дают, — воскликнула девушка и хлопнула себя по губам ладошкой. — Ой, паночки!.. Не подумайте. Не про немцев я… Я насчет управляющего… Жмот управляющий…
— Ты за кого же нас приняла? — улыбнулся Клинцов. — Обозналась, товарищ девочка!..
Он распахнул плащ. На гимнастерке его багряно сверкнул орден Красного Знамени.
Девушка живо соскочила с телеги. В истертой спортивной мальчишечьей фуфайке, худенькая, но крепкая, словно мальчишка, потянулась к ордену: потрогать, погладить…
Опомнилась, отдернула руку.
— Миленькие!.. Да что вы на самом виду маетесь! Уходите, спасайтесь! Я ж думала — караульщики вы, фашистами нанятые… Везу вот с молокозавода начальникам ихним на пересыльный пункт… И всякий раз из окопов караульщики ссыпаются хоть малость урвать. А вы спасайтесь: пушки сюда везут. И солдатни — орава!
Она перевела дыхание, взглянула на подбежавшего Шеврука. Тот догадался: речь идет о чем-то важном. Девушка сообщила, что вчера вечером расчеты трех больших орудий на тягачах свернули с магистрали в шоссейный тупичок, где автодорожные мастерские. Рано утром ремонтники откинули брезент и в моторе ковырялись, а сейчас, наверное, выезжают.
— Да, может, им еще до полудня процувать, — вздохнул Шеврук.
— Не может! — Она стремительно повернулась к нему и потрясла кулачками перед лицом. — Уже с телеги, когда бидоны привязывала, видать было: на других тягачах усаживались по десятку… Выезжать изготовились.
— Глазастая дивчина!
— Я ж и говорю — уходите отсюдова!.. Пушки у них страшенные!.. Ка-ак сыпанут картечью!.. Ведь испотрошат вас!..
— За справку тебе поклон! — и повеселевший Шевчук наклонил голову. — Теперь гони свою худобу! Будь здоровенька!..
— А вы?! — Она со страхом и с жалостью смотрела на Леву, который рядом с рослыми командирами И румяным, плечистым Хомченко казался особенно тщедушным и бледным.
— Мы не спасаться пришли сюда, — прошептал Лева дрогнувшим от внезапного волнения голосом. — Уезжай скорее!
Она растерянно переводила взгляд с одного на другого. Глянула на гребень окопа. Наверно, увидела еще кого-нибудь из бойцов. Потом подскочила к Леве — от резкого рывка распустились наспех уложенные на голове косички. Обхватила паренька, скользнула замурзанной лентой по шинельной скатке, и горячо, звонко поцеловала в губы.
— А меня? — Крикнул ей скатившийся с пригорка Хомченко.
— Так я ж… — она отгородилась растопыренными ладонями. — Ведь я ж его… Как самого младшенького!.. Братишка мой только чуть поменьше…
Слитный гул моторов оборвал ее.
Клинцов отстранил Хомченко.
— Сестренка! — комиссар легко подхватил оцепеневшую девушку, посадил в телегу. — Уезжай скорей!.. Да не пугайся!.. Мы возьмем их орудия.
Говоря это, он смотрел в маленькое, смуглое, неумытое личико и чувствовал, что у девочки нет сомнения в успехе его замысла.
И мгновенно подумалось: ведь и в глазах бойцов сейчас читается то же самое. Бойцы меньше волнуются, потому что доверяют командиру и комиссару.
— Захватим их орудия! — повторил Клинцов. — Уезжай!.. Торопись!..
Она почти механически сжала хворостинку, всунутую ей в ладошку.
— Я сейчас догадалась, — побелевшими, едва повинующимися губами проговорила она. — Подъезжала когда… В полоске-то, промеж елочек… затаился кто-то. Не иначе караульщики. Стреканули от вас.
Клинцов уже сердито воскликнул:
— Гони! Поживее!..
Девушка взмахнула хворостиной.
— Нно!.. Пошла-а!..
Лошадь рванула с места, но сразу же выбилась из сил. И девушка, небольно трогая ее хворостиной, ласково приговаривала:
— Ну миленькая! Ну, пожалуйста, поспеши! Она обернулась. А сзади все как вымерло. Пригорки кажутся безлюдными, шоссе — снова пустынным.
Но гул дизелей нарастал. Тягачи с орудийными расчетами на открытых длинных сиденьях осторожно поворачивали влево. Лязгали стальные коленчатые скрепы — тяжко выкатывались на магистраль крупнокалиберные орудия.
Грозный гул подгонял клячу. Жалобно всхрапнув, она припустила мелкой рысцой.
Лева неотрывно смотрел вслед удаляющейся повозке. Вот укутанную платком фигурку почти заслонило громадным бидоном: устала девушка, назад откинулась и прилегла. «Вот и все. Неужели — все, никогда больше не увижу ее? Нет, нет. Снова показалась, снова выпрямилась. Значит, еще полминутки можно смотреть на нее. А может, и целую минуту».
— Растаял наш хищный зверь Лев, — ухмыльнулся Хомченко.
— Он у нас будто Снегурочка, — Клинцов, как и всегда в критический момент, поддерживает любую шутку. Но, как и всегда, ничто не ускользает от его улыбчивых светло-карих глаз — он перебирается в соседний окопчик: там в спешке взяли непрочный упор для «дегтяря».
А тягачи все ближе и ближе. Скрежет и гул, казалось, заполнили всю округу.
В окоп спрыгнул лейтенант Алексаев.
— Артиллеристам в атаке не участвовать, — передал он приказание Шеврука. — Они поработают, когда захватим орудия!
…Прицельными очередями «дегтярей» и автоматов расчеты передних двух орудий были уничтожены полностью. Лишь несколько солдат из третьего расчета успели спрыгнуть в кювет. Отстреливаясь, стали отползать к елочкам-саженцам.
Последнюю точку в этом коротком бою поставил Хомченко. С отчаянной удалью вспрыгнул он на сиденье третьего тягача. Разрывом своей метко брошенной «эфки» сразил отстреливавшихся гитлеровцев.
И тотчас взялись за дело артиллеристы отряда. Навесным огнем из трех 105-миллиметровых орудий они размолотили гитлеровский пересыльный пункт в полукилометре от Велижа.
Расстреляв все снаряды, облили бензином тягачи, подожгли… Взорвали орудия.
…Недели две спустя, когда установили контакт с только что организовавшимся партизанским отрядом, стало известно: после разрыва первых снарядов офицеры гарнизона высыпали на площадь и всматривались в небо, затянутое пасмурной наволочью. Вахмистры и фельдфебели службы воздушного оповещения панически суетились у своих приборов: страшились нагоняя за то, что не засекли приближение советского бомбардировщика.
В первые минуты никто в гарнизоне Велижа не мог представить себе, что пересыльный пункт громят советские артиллеристы из немецких орудий.
4
Когда у шоссе внезапно вспыхнула пулеметная и автоматная стрельба, а затем загремели орудия, Ковеза уверенно сказал Нечаеву:
— Наши працюют. А мы послухаем…
— Громче стало! — воскликнул Нечаев. Ему в глубине оврага слышалось, как по стонущим лугам и перелескам стелется беспрерывный тяжкий, давящий гул.
— Зараз бьют залпами! — вставил Ковеза. — Сначала бахали поодиночке.
Грозный гул теперь разливался перекатами.
— Тридцатый залп! Тридцать первый!.. — считали Ковеза и Нечаев. Они подвели лошадей к мочажине в самой глуби. Не развьючили, а только освободили рты от стальных мундштуков. И лошади стали жадно пить, вздрагивая и тревожно всхрапывая.
Сорок четвертый залп оказался последним.
— А наш боевой комплект богаче, — с некоторым разочарованием сказал Ковеза. — Наш-то — шестьдесят снарядов!.. Или они, гады, неполный комплект везли?
Нечаев так и прыснул от смеха при этом упреке.
Они отвели напившихся кобыл от мочажины. Затем Ковеза лег на землю и принялся ползать, ловко извиваясь между беспокойно переступающими конскими ногами.
Нечаев изумленно смотрел на него. Но после того, как разведчик сбросил вниз, к мочажинам, несколько камней, Нечаев стал догадываться.
Ковеза вскочил так стремительно и легко, будто вспорхнул. И пояснил:
— Убачил ты, как спускались лошадки? Не швыдко, осторожно. Воны же знают: склизкая палая листва. Не можуть, однако, знать, як опасно нам, ежели подковой о камень цокнут.
— Думаешь, немцы станут искать нас?
— Ни! То — не нас. Але вздумают, що после боя какие-то наши раненые решат сховаться. Воны ж, немцы-то, не знают, що николы ни бросим раненых! И, може, шукать станут.
— Ясно, — сказал Нечаев. — Разреши, старший сержант, я наверху подежурю. Постараюсь отвлечь, если… Сам понимаешь, я пока — в деревенской одежде.
Ковеза перебил:
— На шоссейку тебя першим отправлю в цивильной твоей. Но пока — не в том задача.
Помолчали. Все тихо. Только лошади неторопливо рыли копытами песчаник и примятую траву.
— Треба не пропустить час, когда снимут засады. Кабы наверняка. Патрончики для шмайсеров опять же захопим у немцев, а боезапас для наших «дегтярей» нигде не добудешь.
— Понимаю. Постараюсь усвоить твои навыки. Впрочем, навыки — неточно. Разведка — целая наука.
Сейчас, под гнетом ответственности за драгоценный боезапас для ручных пулеметов отряда, Нечаев не мог отделаться от опасения, что не хватит у него сил и уменья стать в критические минуты вровень с Ковезой, человеком не только храбрым, но и обладающим талантом разведчика.
— Думку думаю, — тихо сказал тот. — Может, и справди шныряют поисковые группы карателей. Пиду в гору, послухаю… Та не паникуй. Просклизнем, як рибоньки чрез рваный бредень.
Ковеза вытащил из вьюка увесистую противотанковую гранату. И со шмайсером на ремне через шею и тяжелой гранатой в руке начал взбираться наверх, стремительно и бесшумно лавируя среди кустарников.
Часов у Нечаева не было. По его расчету минуло минут сорок пять. Поскорее бы вернулся разведчик. Если же не вернется, если каратели набредут на овраг — тоже поскорее бы!
Доносились отдаленные голоса, как будто перекликающиеся. Выстрелов же — после орудийного гроханья — не было. Но так перекликаться могли только немцы.
И вдруг глухой взрыв. На секунду Нечаев оцепенел. Он слыхал, и не раз, как рвутся противотанковые… Затем — стукотня автоматов. Ясно теперь. У Ковезы не было другого выхода. Может, и сам подорвался? Но может, еще жив, отстреливается?
Нечаев отмотал одну из тонких проволочек, скрепляющих вьюки. Вытащил из карманов тулупа свои две рубчатые «эфки»; отогнул усики на запале — чтобы легче выдернуть, и, продернув проволочку в проушины взрывных колечек, бережно сунул обе «эфки» в малый вьюк с противотанковыми гранатами и толом. Снова завязал этот вьюк, однако так, чтобы тянущаяся наружу длинная металлическая нить скользила свободно. Пропуская проволоку между пальцев и следя, чтобы нигде не свилась и не зацепилась за веточку, Нечаев обогнул мочажину и направился в самую чащу зарослей терновника.
Здесь, надежно укрывшись, он и будет ждать в готовности выдернуть взрывные колечки «эфок».
Нечаев раздвинул желтеющий терновник. Он выбирал, где примоститься. И вздрогнул: сзади проволока натянулась. Выпустил ее. Схватил обеими руками шмайсер и резко повернулся, готовый стрелять. Перед ним стоял Ковеза с финкой в руке.
— Це я… — улыбнулся бесшумно спустившийся разведчик. — Я перерезал! Трохи свился твой дрот.
Нечаев бросился к Ковезе. Обнял. Послышалась орудийная пальба.
Нечаев вопросительно посмотрел на Ковезу. Тот, сдвинув кубанку на затылок, вытирал влажный лоб и, слушая, долго молчал, соображал что-то.
— Это по нашим? — спросил Нечаев.
Ковеза разразился ругательствами. Но звучали они весело.
— Це ж икру мечут немцы! — воскликнул он, уже хохоча. — По площадям садят. От злости!.. Наши-то, видать, их на шляху крепко шарахнули… Вот и решили немцы — вслед отряду!..
— Смекаю. Но как тебе удалось цепочку фрицев в сторону увести.
— Удалось и точка!.. — отмахивался разведчик.
И Нечаев смотрел на его вконец протершиеся локти стеганки, на травинки, налипшие на грязную вату… Нечаев догадывался о главном. Единственной противотанковой гранатой Ковеза вселил опасение в карателей — не широкий ли заминированный участок перед ними?..
— На мой взгляд, никакой ты не артист, товарищ старший сержант, а сумел мистифицировать.
— Як тая клушка из дедовой казочки! Квокче пид калиной, а яйца несе в кропиве! Згода, расскажу потом. А зараз — нема колы.
Теперь они стояли, словно в окопе неполного профиля. Терновник, окаймляющий край склона, щекотал им затылки. Приходилось напрягаться, чтобы ноги не скользнули вниз; и все же такая выжидательная позиция была подходящей. Хоть и нет кругового обзора, зато сейчас, когда смолкли гарнизонные пушечки, расслышишь заблаговременно чье-либо приближение.
— Зараз я краще про першую нашу разведку, — сказал Ковеза почти шепотом. — От хлопцев ты чув, як от Щучьего озера ползли мы вчетвером к сараю на отшибе?
— Ну да… Смеялись, когда вспоминали. Кравченко, заглядывая в щель, стоял на ноге комиссара. Дальше не успели — спать завалились.
— Це так. А словечко твое «мистифицировать» — як раз туда подошло бы. Кравченко разглядел: внутри сарая нимцы в картишки резались. Один — цап ведерко, да к озеру, за водой. Мы — тишком — обогнули сарай. Два советских автомата ППД — на четверых фрицев и «хэндэ хох!». Тепленькими взяли: разморило фрицев от игры. На стенке — пять шмайсеров… Взять-то взяли, да только со стороны озера, откуда мы заявились, уже гомон голосов. А спереду сарая — открытое поле. Только что безлюдно было… Но как обратно да с богатым уловом — и бачим: за две хвилины все переменилось!
И справа и слева — нимцы! В полкилометре друг от друга — да с лопатами! Стало быть, нам треба — промеж их. А как? Бачим, а воны рыть начинают. Як бы могилы нам! А до лесу впереди трохи поменей, чем километр. Усек?.. Швыдко разрядили мы шмайсеры, всучили фрицам. И свои ППД, и пятый заряженный шмайсер — под шинели; а в руках — одни лишь ТТ. И пошагали по бокам фрицы с разряженными шмайсерами, а промеж их — мы вчетвером, якобы пленные. Другие фрицы подалей — могилы нам роют, а сами на нас позирают.
— Одного не понимаю, — вставил Нечаев, улучив паузу. — Какие могилы?
Ковеза хохотнул.
— Шуткую. Це мне з переляку тоди помстилось. Ты ж подумай стоило лишь одному фрицу в сторону броситься, и все прахом! А на полпути — знов заковыка. Фриц, який за водой ходил к озеру, вернулся. В перший миг лишь одно заметил: нема в сарае солдат. И давай вопить: «Ганс! Ганс!!» Мы зашагали швыдче. Чуешь, Нечаев? С каждым криком ближе к лесу — грозьба меньшает. И вместе — с каждым мигом грозьба растет. Пятый-то фриц убачил — нема шмайсеров!.. И завопил: «Партизанен!.. Казакен!» Аж я похолодал!.. Але ж — успели.
Нечаев долго и тщетно ждал пояснений. Спросил наконец:
— Успели, поскольку справа и слева появились всего лишь военизированные рабочие, — так я понял из отрывочных упоминаний. Верно?
— Ни. Позирали-то за подневольными самые кадровые!.. Выручили нас — открытость и выдатнее спокойствие. Вось и не поверили кадровые своему же крикуну в першие хвилинки. Може, вин сказився?.. Но кинься мы тикать до лесу — срезали бы.
— А пригнали подневольных — дзоты рыть, верно? Цепочкой до самого озера. Нового рейда конников Доватора боялись, верно?
— То так.
Нечаев громко вздохнул. Угасала надежда выжать из разведчика еще что-либо.
Внятное в наступившей тишине гуденье броневиков доносилось уже с той стороны, откуда вслед за стукотней «дегтярей» и россыпью автоматов раскатывались орудийные залпы.
— Стянулись обратно, к Велижу, — заключил Ковеза. — Еще трохи почекаем и пидемо.
Снова безмолвие. Непосильное для Нечаева: слишком он был переполнен всем пережитым за последний час: ожиданием Ковезы, поднявшегося наверх, едва стали слышны близкие голоса немцев, нарастающей горькой уверенностью в гибели разведчика и приготовлениями к тому, чтобы взорваться вместе с врагами, спускающимися к навьюченным лошадям.
И сейчас Нечаева так и подмывало рассказать о своей тоскливой покорности всем навалившимся в июле бедам, и о том, что горюя о вероятно погибшем разведчике, сам он уже, готовясь погибнуть с честью, не чувствовал и следа прежней обреченности… Рассказать о том, как изначальная благодарная радость его первых дней в отряде постепенно соединялась с удивлением и жадным любопытством и чуть ли не мальчишеским восторгом… Ему, глубоко мирному и тихому человеку, в эти минуты чудилось, будто бы он издавна мечтал единственно лишь о том, чтобы воевать именно в таком отряде, рядом с такими, как старший сержант Ковеза, политрук Клинцов и старший лейтенант Шеврук… Сорокалетний учитель ощущал себя сейчас первоклассником, счастливым от сознания, что вскоре перейдет уже во второй класс. И не утратив склонности к тому, чтобы посматривать на себя как бы со стороны, он в душе и посмеивался над этим своим ощущением, и радовался ему. Да и всей разгорающейся ребячливой своей любознательности.
Не найдя способа снова разговорить славного разведчика, Нечаев решил попросту рассердить его. Надо полагать, это не столь уж трудно. Раз уж явно не по нутру Ковезе критические замечания об отсутствующих, раз уж он живехонько заступился за разухабистого Хомченко, то не стерпит, если проехаться насчет самого командира.
— Как по-твоему, старший сержант… А почему наш командир иногда… вроде бы хмурый?
Ковеза прищурился. Пристально оглядел напарника. Словно впервые встретил.
— Ишь, чего тебе взбрело!
— Я затем это спрашиваю, чтобы… Как иногда случается, не разбередить бы ненароком душевную рану какую-то…
— Не задавайся! Не твоим рылом хрен копать. И помощней тебя субчики были, которые метили разбередить. А не вышло.
— Признак сильной души, — подхватил Нечаев, нащупывая должный тон. — Умышленным наскокам она неподвластна… Зато чисто случайные зачастую способны.
Козеза перебил:
— А ты по какой пауке наставник?
— Литературу в старших классах. И русский язык.
— Видкиля вин узявся, такий закон, щоб и наставников на войну тягать?! — горестно вздохнул Ковеза. — Без вас управились бы…
Однако Нечаев ощутил в этой жалобе на закон едва прикрытое самоосуждение собственной, внезапно прорвавшейся грубости. Поэтому помалкивал, давая дозреть этому раскаянию.
— Не згода балакать о тим, чего сам не бачив, — нерешительно начал Ковеза и замолк.
Нечаев ждал.
— Слухай же… Був у них в полку храбрый командир. И був его замисник, хитрован и скорохват. Вин и зробыв — наклепав на старшего. И — на его место! Полк — поблиз границы. Фашисты шандарахнули — замисника чуток зацепило. Вин швыдко на газике вдогон лазарету. Зато наш командир огнем «максима» прикрывал всех, когда прорывались… А ночью разведчики вытягнули. Не то истек бы кровью. Вось и щемит у него сердце до сей поры.
Разведчик ухватился за обнажившийся корень сосенки. Да, не красноречив он был. Однако за немногие секунды рассказа — почти насильно выжатого из него — так волновался, что не сразу ощутил, как скользнула нога по откосу.
…Прислушиваясь к разрывам снарядов — немцы обстреливали лес из «самоходок», Клинцов сказал:
— Слово «малодушие» у нас имеет лишь один единственный смысл. Это недостаток отваги. Попросту трусоватость, узковато, по-моему. Хотя в главном и правильно. Прислушайтесь к звучанию: малодушие… Мало души, значит. И самое отвратительнее малодушие, когда стараются не ради победы, а ради своей шкуры.
Клинцов помолчал. Переждал: где громыхнет «отшелестевший» над головами снаряд? Многие взглянули на компасы, когда рвануло…
— Снова очередную площадь обрабатывают, — заключил Шеврук. — Зараз подадимся в уже крапленую…
Клинцов наклонил голову, соглашаясь. И продолжал:
— По-моему, у нас важнее, чем в обычном фронтовом подразделении, сознать емкость этого понятия — мало души… Мы с командиром видели, когда набирали добровольцев: некоторые вызвались идти в тыл врага прежде всего потому, что видели множество возможностей отличиться. Притом лично. В этом, вообще говоря, нет ничего плохого. Кому только двадцать, ясное дело, тех обуревает стремление проявить себя. Помнишь, — Клинцов быстро повернулся к Шевруку, — как мы перед отходом свои восемнадцать лет вспоминали?..
— Еще бы! — кивнул тот. — И ты рассуждал о нашем социалистическом гуманизме. Полезно б и хлопцам послушать.
— Это при случае!.. — ответил Клинцов и продолжал: — Как видите, ожидания оправдались. Каждый новый день у нас чем-нибудь отличен от предыдущего… Но вместе с тем убедились мы, что и наши враги также не трусливы. Редко поддаются панике даже при внезапнейшем на них налете. Не трусливы, но малодушны!.. Вот она, по-моему, самая суть. Обесценена человеческая жизнь в их глазах — вот основа гитлеровской военной муштровки. Ведь подлинно человеческие чувства, — к примеру, чувство боли за убиваемых неарийцев — недостойны верноподданного фюрера. Значит — опасны! Замысел нацистов — уничтожение целых народов — требует омертвления человеческих чувств. Отсюда и беспощадность объявляется доблестью. Малодушие ведет к бездушию, цинизму. Издеваясь над светлыми чувствами, фашистский «зольдат» самоутверждается, возвышается… Надо ли говорить, что этакое самоутверждение чуждо нам! Цинизм — тоже наш враг. Советским бойцам отвратительны всякие насмешки над искренними чувствами, даже над внезапно возникшей симпатией. — Мельком взглянув на Хомченко, Клинцов продолжал: — Сегодня прибавились к нашим трофеям еще шмайсеры и пистолеты. Поделимся с партизанским отрядом. Оружие нужно как воздух. Однако вполне ли сознаем, насколько мы сами нужны друг другу? Настоящие ли мы побратимы? У нас, к счастью, нет погибших. Только нельзя надеяться, что будет везти и дальше. Поэтому запомним: если кто-то сегодня обидел товарища, то завтра может и не успеть загладить свою вину…
Клинцов кивнул командиру: беседа, мол, закончена.
Начали строиться. В километре к северу все еще бухали снаряды. Но сейчас они уже не привлекали внимания.
Отряд направился к изувеченному снарядами сосняку. Бойцы знали, что немцы не будут еще раз обстреливать этот участок леса. Сорок залпов — вот их боезапас. А он уже израсходован. Когда до сосняка — значит, и до привала — осталось не более двухсот метров, командир и комиссар пошли рядом.
— В общем, люди наши лучше, чем они считали сами себя в мирной жизни, — сказал Шеврук. — Правда ведь?
— Именно так.
— Я хоть и в сторонке держусь, а всегда слушаю твои беседы на привалах… И соглашался, когда ты толковал о том, что сделаться авторитетным в глазах других бойцов можно, лишь научась не выделять себя среди них.
— А немного позже ты внушал лейтенанту Алексаеву: чем шире и глубже познаешь индивидуальность отдельных бойцов, тем убедительнее вырисовывается наша общность. Единство наше. Верно?
— Вполне. Тут одна и та же идея. Но повертывается различными гранями. Смелый и находчивый Алексаев имеет слабинку: видит в подчиненных лишь исполнителей.
Перед следующим броском был сделан часовой привал. Шеврук прилег между двух с корнями вывороченных сосен. Он слушал, как тихо хрустят ветви под ногами часовых: они прохаживаются, прогоняя сон. Старался отключиться от неуемной тревоги за Ковезу и Нечаева, которые остались с боезапасом в овраге.
Уже в полусне ему вспомнился один новоиспеченный командир полка. Тот уверял, что антипатриотично толковать о ценности отдельного человека, поскольку незаменимых у нас нет.
Шеврук сплюнул. Усилием воли прогнал это неприятное воспоминание.
Командир и комиссар шагали за разведчиками. Приостановились, когда те вдруг бесшумно залегли. И тотчас явственно донесся гомон множества голосов.
— Колонне — визуальный знак: «стой!»
Командир и комиссар подобрались к разведчикам; оттуда подали знак: «ползком!»
До сих пор плотный туман скрадывал также и звуки. Но сейчас — будто сразу все придвинулось. Туман исчезал.
Отряд сомкнулся неровной тесной шеренгой, залег за деревьями. Впереди — широкие полосы пышной картофельной ботвы, а дальше — метрах в двухстах — окаймленное огородами небольшое село. Единственная, просторная улица наводнена перекликающейся и гогочущей солдатней. Пестрое мельтешенье: френчи, шинели, нательные рубахи.
В самом разгаре ловля поросят и прочей живности. Визг поросят, крики кур, блеянье овец тонули в торжествующем хохоте и гомоне немцев.
Шеврук и Клинцов не отрывали глаз от биноклей. Не сразу различили за широченной каймой огородов неровный пунктир яблоневых саженцев. А пониже — совсем уже мелкий, но ровный пунктир одинаковых, чернеющих среди зелени колышков. Это для походных палаток.
Следовательно, гитлеровцы более многочисленны, чем представлялось, когда прикидывали на глазок. Окажись тут лишь одна рота — целиком разместилась бы в избах.
Легко прострочить из пулеметов занятую врагом улицу. Но, во-первых, на улице могут оказаться и советские люди. Например, женщины, которым приказано готовить овощи для походных кухонь. А во-вторых, уничтожение двух-трех десятков гитлеровцев — для отряда успех не так и велик. Ведь вражеское оружие не захватить! Очевидную беспечность немцев надо использовать полнее.
Шеврук повернулся к командирам взводов. Они, как более опытные стрелки, сами прилаживали пулеметы.
— Отставить! — приказал Шеврук. — Алексаев с полувзводом останешься наблюдать. Остальным — назад, к просеке.
Отряд отошел в глубь леса. Вероятно, многие бойцы негодовали на командира и комиссара. Упустить такой случай! Но те будто ничего не замечали.
Время шло, сменялись караулы вокруг стоянки, необычно близкой к селу, битком набитому немцами. Разведчики-связные сновали туда и сюда. Невыносимо томительным становилось ожидание. Слышалось громкое перешептыванье:
— Отцы-то наши, а?.. Чего мешкают?
В эту секунду очередной связной звонко доложил:
— Убирают… Колышки палатные!
— Строиться! — скомандовал Шеврук.
5
Теплым, солнечным выдалось начало сентября сорок первого.
В реке, вблизи которой ночью проходил отряд, купались немецкие маршевики. Двое часовых прохаживались между песчаных проплешин затравеневшей, обрывистой кромки берега. На проплешинах — поверх сложенных рядком френчей и бриджей — лежали вороненые шмайсеры и пистолеты.
…Тем временем от ельника, чернеющего метрах в трехстах от речки, ползли, извиваясь между замшелых кочек, наши бойцы. Просоленные, взмокшие гимнастерки все же сохранили зеленый цвет, хоть и поблекший… Задача — захватить оружие купающихся.
Впереди с автоматами ППД и гранатами — Шеврук и Клинцов. Едкий пот заливает глаза. Сентябрьский поздний зной. Между кочек с розовеющей клюквой — жесткая трава. Шуршит и режет пальцы. Но добрая сотня метров уже позади.
За спиной, на опушке, — снайперы. Сегодня намечено снова применить бесшумные винтовки. Снайперам предстоит уничтожить сторожевых автоматчиков. А в какой момент?.. Приказ предусматривает: если часовые заметят подкрадывающихся — то немедленно. В благоприятном же случае — расстрелять сторожевых, когда командир и комиссар достигнут поймы с ее густой, но невысокой травой, где никак уже не укроешься…
Сколько еще ползти?.. Приподняться, чтобы поглядеть, — нельзя. Заметят. А так видны только головы часовых. Вжимайся в мох и ползи! Дыхание соседа кажется чересчур шумным. А сердца стучат беспокойно и часто. Нельзя спускать глаз с часовых, хотя слепит едкий пот. Снайперы-то не подведут. Но если вот сейчас обнаружат, то опоздаешь к оружию — автоматам целого взвода!.. Вжимайся в мох и ползи!.. Глаза слепит. И все труднее дышать. Вжимайся!.. Ползи!..
…А глаза сторожевых гитлеровцев тоже слезятся — река переливчато сверкает под солнцем. И брызги, как искры.
Шеврук оборачивается назад — к Алексаеву:
— Пусти приказ по цепи. Напрячь последние силы! Быстрее!..
Клинцов улавливает: один из сторожевых уставился как раз сюда, на них… И всматривается, заслонив глаза ладонью от яркого солнца.
— Фриц насторожился, — шепчет Клинцов командиру.
— Еще трошки!.. Наши снайперы начеку! — отвечает командир.
Только десять секунд пролетело с момента, когда сторожевой ефрейтор заприметил какое-то шевеление метрах в двухстах от берега. Тогда старший чином напарник отмахнулся… Может, и вправду померещилось? Ефрейтор опять напрягает зрение. Чертовы кочки! Надо попросить у фельдфебеля бинокль… О, действительно!.. Что-то движется.
Ефрейтор уже непочтительно толкает старшего по чину. Тот, окинув младшего напарника пренебрежительным взглядом, все же смотрит в направлении протянутой, подрагивающей руки.
…Рискуя получить пули от своих же снайперов, командир и комиссар вскакивают и видят: кочкастая мшара тянется впереди еще на полсотни метров.
Очереди шмайсеров и ППД стучат одновременно. Помогла внезапность. Очереди немцев слишком торопливые. Выстрелы бойцов отряда — точнее. Сторожевые падают. Шеврук и Клинцов строчат по ним уже на бегу.
До чего тяжко бежать по губчатым кочкам — вязким, пружинящим! А невысокий обрывчик берега словно вспучился.
Еще наддай!.. Вот и край мшары. Начинается ровная пойма. Но с десяток врагов уже на берегу. Кто-то падает, однако поднимаются другие. Один выход!.. Командир и комиссар, стрелявшие на бегу, приостанавливаются, пускают прицельные очереди. Бойцы, которые рвутся к шмайсерам, обтекают командиров.
Шеврук, Клинцов, Алексаев почти одновременно бросают гранаты.
— Ложись, братва!..
Бойцы мигом залегли. Но и гитлеровцы — тоже. Разрывы ближе к врагам. Уцелевшие хватают свои шмайсеры.
Снопы брызг и — толкотня, сумятица, месиво голых тел. Разрывы гранат — в самой гуще.
Секунды решили все. Отряд захватил шмайсеры целого взвода.
По солдатским книжкам установили, что все убитые помаршировали по дорогам Бельгии, Нидерландов и Франции.
Теперь отряду есть чем поделиться с партизанами. А «бесшумки» пока не пустили в ход. Обошлось.
Девять наших бойцов было ранено; четверо — осколками своих же гранат.
…Утром у той же излучистой речушки, но за десяток с гаком километров от места вчерашней схватки остановились. Впереди две деревни — впритык: соединенные бревенчатым мостиком через речушку.
Часа два ждали, пока разведка выяснила, что в обеих деревушках немцев вот уже месяц, как и духу не было, и селяне не дочиста ограблены.
Комиссар Клинцов решил самолично попросить у местных жителей для смазки ран гусиного жира. Взял с собой младшего лейтенанта Астапова, Ковезу, Леву Конторовича и еще пятерых разведчиков. А только что добытые шмайсеры оставили на стоянке. Раз еще не совсем ограблены деревни, то немцы могут явиться.
На случай, если поиски гусиного жира затянутся, а тем временем стрясется непредвиденное, был условлен аварийный пункт сбора.
Конечно же, если бы задача состояла лишь в приобретении целебной мази, Клинцов ограничился бы посылкой в деревню двух или трех разведчиков. Однако ж он, как и раньше в часы передышки, не упускал случая потолковать с местными советскими людьми.
С большой радостью встретили в деревне Гута девятерых советских воинов. И хотя в крайней избе, первой, куда они зашли, гусиного жира не было, все же не пришлось тратить время на поиски: тотчас откомандировали ребятишек.
Клинцов расставил постовых-наблюдателей. Затем вдвоем с Астаповым направился в просторный дом в середине деревни, к их приходу уже переполненный женщинами и стариками. Поэтому решили провести беседу во дворе. Ворота на единственную улочку распахнули. Посыпались вопросы: «Как идет война? Где находится фронт? Скоро ли придет освобождение?..» Это продолжалось около двух часов.
От постовых у мостика примчался Лева. По большаку через поле приближается грузовик. Несколько женщин бросились восвояси. Другие, словно закаменев, смотрели на политрука, на младшего лейтенанта Астапова. Комиссар Клинцов без малейшей торопливости велел всех постовых стянуть к нему. А потом поблагодарил жителей за березовые туески с гусиным жиром и на прощанье посоветовал не разглашать о появлении девяти товарищей в красноармейской форме.
Комиссар Клинцов был уверен в командире Шевруке непоколебимо. И раньше случалось заходить в избы на отшибе или даже в большие села, и всегда Шеврук надежно охранял бойцов разведки от вероятных опасностей.
Глаза Астапова тоже не отрывались от ручных часиков. Он ждал того же… Текли секунды. Шум мотора нарастал.
Примчались разведчики. Вбежал и Лева Конторович. Одновременно загремели «дегтяри».
Все ехавшие в машине каратели были убиты, в живых остался лишь один. Шеврук допросил его еще до возвращения Клинцова. Захваченный вахмистр показал: «Командиру маршевой роты, накануне потерявшему целый взвод, было приказано по радио: приостановиться, настичь советских бойцов, истребить их и доставить командованию все документы уничтоженных…» За невыполнение предстоял расстрел.
6
На следующие сутки отряд спецназначения встретился с партизанами. Произошло это случайно. Только приготовились открыть огонь по колонне грузовиков с солдатами вермахта, как правее, метрах в полутораста, раздался нестройный винтовочный залп. И второй!..
Эхо второго залпа потонуло в ответных автоматных очередях гитлеровцев, посыпавшихся из кузова. Еще секунда — и зарокотали МГ-34 — станковые, крупнокалиберные…
Скоротечным, но плотным огнем отряд прикрыл отход товарищей. Затем — уже на многих засадах отработанным броском — оторвался от противника.
Отряд спецназначения вскоре догнал нежданных помощников. Почти час ушел на переговоры. Наконец все эти недавно сплотившиеся в боевую единицу советские патриоты направились за Астаповым и Ковезой — к стоянке отряда.
Оказалось, что костяк партизанской группы составили партийные работники Велижского района. В том числе немногочисленные уцелевшие бойцы истребительного батальона, который в первые недели войны успешно вылавливал вражеских парашютистов. Позднее к ним примкнули семеро юных комсомольцев и четверо выздоровевших после ранений пехотинцев. Всего двадцать девять человек. И на них — двадцать четыре винтовки да семь старых наганов. Надо ли говорить о том, с какой радостью они приняли трофейный МГ и десяток шмайсеров с запасными кассетами? Отряду спецназначения было не впервой делиться трофеями. Содействие росту партизанского движения являлось одной из важнейших задач рейда.
Впервые посчастливилось Шевруку и Клинцову разом заполучить столько разнообразнейших сведений, подтвердивших и дополнивших уже добытое своей разведкой.
Лесные массивы севернее шоссе Невель — Велиж обширнее и гуще, чем леса южнее. На многие километры раскинулся высоченный, так называемый корабельный сосняк. Оккупанты, вывозящие в свой фатерланд скот, картофель и лен, зарились также и на лесные богатства. Грабили и с более далеким прицелом. Приступили, например, к заготовке на местах дегтя, скипидара и сосновой живицы.
Сейчас к этим общим данным прибавились и более определенные. Впрочем, Шеврук и Клинцов сначала поостереглись взять их на веру. Дело в том, что сведения шли от малоизвестного лесника Вацевича.
Лесничество располагалось на расстоянии четырех километров от филиала совхоза, где комсомольцы недавно работали. Полмесяца назад Вацевич показывал знакомым хлопчикам предписание: «В трехдневный срок прибыть на стройку скипидарного завода». На следующий день, однако, последовало другое указание: «Оставаться и ждать инструкций».
— Может, отменили намеченную стройку? — спросил Шеврук.
— Нет, завод уже сооружен, — ответил один из партизан.
Шеврук и Клинцов переглянулись. Отрывочные сведения комсомольцев совпали с данными разведчиков.
— Дюже подходящее для вас дело, — заметил Шеврук. — Внезапным ударом истребить охрану. Завладеть оружием. Заодно уничтожить оборудование завода. Мы поддержим, если там охраны больше, чем предполагается.
С этим согласились все. Марш-бросок решили начать на заре, чтобы до темноты добраться до завода и не торопясь выбрать исходные позиции для атаки.
Шеврук и Клинцов предложили партизанам переночевать на стоянке отряда спецназначения, который поставит своих часовых на ночь.
Перед сном они снова потолковали с пареньками, знающими лесника Вацевича. Конечно, слово «знающими» принималось лишь условно: к леснику еще не успели присмотреться. Въехал он со своей семьей в усадьбу прежнего хозяина, скончавшегося глубоким стариком перед самой войной.
Точно было установлено лишь одно: Вацевич отослал жену и детей на восток, едва стало известно о захвате гитлеровцами Невеля.
В том самом дружелюбном и, по-видимому, откровенном разговоре, когда Вацевич поведал юным знакомцам о предписании работать на немецкой стройке, комсомольцы предложили ему примкнуть к партизанскому отряду. Вацевич отказался: «Маю ли право покинуть я свой пост? И лучше ли будет, если на мое место воткнут сволочь какую-нибудь?»
Сколько ни внушали ребята, что фашисты постараются принудить служить им, — лесник уперся. Поначалу забрали у него старую двустволку — наследство предшественника, потом решили предъявить ультиматум: кто не с нами, тот против нас!
Все это происходило месяц назад в самые первые дни формирования отряда. Комсомольцам было сказано, что они уже приняты в отряд, но возьмут их на боевые дела только после оборудования запасных землянок в глухой чащобе. Покамест ребята получили наказ: приглядываться к окружающим работникам совхоза.
В действительности медлительность старших товарищей — партийных работников — объяснялась желанием проверить в боевых делах недавних окруженцев, вылеченных в ближайших деревнях.
Но комсомольцев обуревала жажда деятельности. Вот и взялись за лесника.
Накануне запланированного комсомольцами визита к Вацевичу наконец-то пришел за ними заместитель командира партизанского отряда. Приведя ребят к отлично замаскированной землянке, пустующей и пропитанной смолистыми ароматами, пояснил: «Отряд на боевом задании. Выставьте часовых и ждите».
Вернулся на рассвете. Успел сказать лишь: «Больше не вяжитесь к леснику. Человек он советский, а забот и без вас у него хватает…» И завалился поспать. Вскоре вернулся и весь отряд. А через полчаса в землянку ввалились двое легкораненых: скомандовали занимать круговую оборону. Некогда было заниматься с юным пополнением: партизаны уже потеряли пятерых, а с южной стороны слышался лай немецких овчарок, идущих по следам. Оставив небольшой заслон, отряд углубился в заболоченную глухомань. Заместитель командира, возглавлявший группу заслона, был убит.
Вот и все, что могли рассказать юные партизаны. Напрашивалось предположение: возможно, лесник связан с партийным подпольем Велижа. Но это необходимо проверить.
7
Налет на скипидарный завод был поручен партизанам. Отряд спецназначения подстраховывал их. Для этого выделили мобильные группы автоматчиков.
В девять утра скрытно приблизившиеся партизаны атаковали солдат-охранников. А в девять сорок уже выливали в канавы скипидар, предназначенный для отправки в рейх, и сжигали бочки с березовым дегтем и сосновой живицей.
Партизанский отряд потерь не имел.
На коротком привале Шеврук и Клинцов разговорились о леснике Вацевиче. Такого человека нельзя упустить. Он лучше всех знает в лесу укромные места, может показать проходы между болотами.
— Не промахнуться бы, — Шеврук вздохнул. — Когда взбираешься по крутому откосу, опираться на мелкие обкатанные камешки — пропащее дело.
— Камешек сразу виден. А человек — только в деле.
— Похоже, ты решил уже?
— Решаем вместе. Пока что хорошо бы познакомиться.
— А через этого загадочного лесника, чего доброго, можем и на гестаповцев нарваться.
— Будем осмотрительны.
— А если он завербован врагами? — усмехнулся Шеврук. — В такой лабиринт заведет, где кругом топь…
Клинцов мог возразить, что партийные работники, надо полагать, имели основания довериться леснику. Но вместо этого проговорил:
— Придется исходить из худшего. Допустим, что нас опередили…
— Добре. Прощупаем этого Вацевича, — после долгого молчания сказал Шеврук. — Но будем настороже.
Оба откинулись на свои шинели, разостланные по сосновой иглице. Как раз шла смена часовых. Оба привычно напрягли слух. Едва уловимое похрустывание сухих веток под сапогами на расстоянии более двадцати шагов можно и не расслышать.
Клинцов опять глянул на тучи. Медленно подползают. Около часа можно поспать и вожакам отряда.
Сумерки наплывают быстрее. Нечастый подлесок в южной стороне будто сделался гуще.
Клинцов повернул железное кольцо калитки, и она, взвизгнув, распахнулась. За комиссаром в просторный двор лесника вошли Алексаев и Хомченко.
Крылечко с облезлыми перильцами — справа, совсем близко. По левую сторону, а также впереди — в виде буквы «Г» — обширный навес. В его тени сразу-то и не разглядишь хозяина.
Подошли ближе. Автоматы по-прежнему на заплечных ремнях. Лесник, бородатый здоровяк в безрукавке на собачьем меху, вогнал топор в колоду, снял кепку, откинул сединой пересыпанные волосы, вытер влажный лоб.
Он с любопытством скользнул взглядом по кургузым воротникам трех одинаковых ватных курток. Незастегнутые у горла, они все-таки скрывали знаки различия на гимнастерках. И конечно, подметил нестандартное вооружение: отечественный ППД и два шмайсера.
— Здравствуйте, товарищ лесник! — сказал Клинцов.
И три ладони вскинулись к трем фуражкам с красными звездочками.
— Дзень добжий, червонны боевники!.. Небось вам охота поесть? Я зараз спроворю. На загнетке чугунок вареной бульбы, да я ж еще баранчика заколю, возьмете на дальнюю стежку…
Всю эту смесь белорусских, польских и русских слов проговорил он чересчур уж ровным тоном. Правильные черты загорелого лица как бы излучали спокойствие, даже невозмутимость. Однако Клинцову подумалось, что это, скорее всего, от умения владеть выражением своего лица.
Клинцов поблагодарил. И только сейчас разглядел обувь лесника: неизношенные опорки. Подошва — из автомобильных покрышек. Но главная диковина — в другом. За аккуратной саженью мелконаколотых дров, примыкающей к забору и высящейся почти до кромки навеса, теперь стала видна вторая поленница. Она тянулась от забора вдоль бревенчатой стены вплоть до дверцы в хлев.
Командир взвода Алексаев, успев обшарить зорким взглядом все доступные глазу дворовые щели, заключил, что внезапной автоматной очереди можно ждать лишь из хлева. Правда, впереди еще калитка, поуже… Видимо, в огород. Однако с той стороны сам лесник заслоняет. Алексаев шагнул вперед и загородил собой комиссара со стороны хлева. Решил, что надо ближе к делу.
— Этак запасаются, — заговорил Алексаев язвительно, — лишь когда намерены поладить с немцами. Наши, советские, люди не поладят. А ты, видать, уверен, что столкуешься. Так?
— Не так.
— Будто бы?..
Клинцов счел недипломатичной чересчур явную настороженность Алексаева. Взглядом остановил его. Хозяин же перехватил это невысказанное предупреждение.
— Ниц! Нема уверенности, когда война! — хозяин махнул зажатой в руке мятой кепкой. Вероятно, забыл о ней и, спохватясь, насунул чуть ли не по брови. — Хворые мои детишки, вот и гну хребет. Отослал мелюзгу к бабке в дальнюю деревню, да назад уже просятся. Коли не верите — кепско. Только не згода время терять. А то хватим лиха — нагрянут швабы. Где тоди вас укрывать?
— Не целой же ротой нагрянут, — возразил Клинцов.
— Вядомо — не ротой… Да на вас-то хватит!
— А немцы, стало быть… — сейчас Алексаев старался говорить как можно мягче, — тут уже бывали? Гостили у тебя?
— Заезжали… Долго ли на моторах прикатить? И забрали двух баранчиков, един остался. Так лепей вам подарить остатнего.
Эта подчеркиваемая щедрость становилась навязчивой. Поэтому как ни пытался Алексаев (отлично понявший многозначительный взгляд Клинцова) быть сдержанным, а распалился. Выходило, что хозяин как бы равнял советских бойцов с оккупантами.
— Заезжали, стало быть. И ждешь еще, — голос Алексаева перекинуло в зловещую ласковость. Почти черные, слегка на выкате глаза щурились, будто прицеливался. — Ждешь еще… Чтоб окончательно снюхаться?
Лесника передернуло.
— Ниц, червонны панове! Снюхиваются-то псы. Ниц! — он осекся на полуслове.
Скрипнула калитка. Вошел еще кто-то… Это был старший сержант Ковеза.
— Товарищ комиссар! — раздался его хрипловатый басок. — Доложить бы треба.
Этим «бы», то есть отступлением от уставных форм обращения к старшим, Ковеза намекнул на желание поговорить наедине.
В тот же момент Клинцов встретил взгляд лесника. Быстрый взгляд, почти мгновенный. Но в нем уже не сквозило наигранное спокойствие. Скорее — надежда. У Клинцова мелькнула догадка, что ранее хозяин попросту не поверил обращению «товарищ». А сейчас, после слов «товарищ комиссар», поверил?
Прошла секунда. Клинцов отвел глаза от лесника. Повернулся к Алексаеву.
— Ладно, товарищ лейтенант, выслушай своего разведчика.
Клинцов еще на шаг подступил к леснику, уловил запах полыни от его меховой безрукавки.
Тот хотел что-то сказать, но замер при виде ворвавшегося во двор Алексаева. Ковеза, перешагнув следом за лейтенантом порожек калитки, привычным движением заставил свой шмайсер на ремне скользнуть из-за плеча прямо в руки.
Круглое лицо командира разведки, вообще довольно полнокровное, стало сейчас багровым. На какие-то секунды он забыл о присутствии комиссара.
— Та-ак, хозяйчик… Обиженного разыграл? Ему, видите ли, слово «снюхались» не по нраву. Мол, ежели фашисты — псы, то я не таков. Ишь ты! Маху дал хозяйчик. Песьи прислужники гаже, чем сами псы. Песьи прислужники лезут из кожи — затаптывают следы песьи. Лезут из кожи, влезают в автомобильные покрышки.
В этот момент Клинцов раскаивался, что взял с собой лейтенанта. Быстро подыскать удобнейшие подходы к шоссе для минирования, разведать надежность обороны гарнизона железнодорожного узла — в таких делах лишь немногие вровень с Алексаевым. Но для осторожного прощупывающего разговора он не подходит.
Между тем Алексаев уже совладал с захлестнувшим его приливом злобы и заставил себя говорить спокойно.
— Халхин-Гол вспомнился мне, товарищ комиссар. Со штабом самураев угодил в наш плен и газетчик английский. Тертый парень, ему с лордами да баронетами довелось охотиться. Покуда ждал самолет в Москву, выболтал, например, и такое. Породистые лордовы пойнтеры да сеттеры только вынюхивают дичь и стойку делают. А приносит убитых или подранков уже не вышестоящий пес, а лакей песий. Так называемый «ретривер»… Словом, собачья собака. Вот и наш хозяин из такой породы. Недавно специально приспособленными подошвами следы фашиста затаптывал и переобуться не успел и где-то сейчас его прячет. Только не уйти ему! Крикни же вышестоящему псу, чтобы добровольно сдался!
А лесник все эти минуты, пока говорил командир, стоял слегка сгорбясь и пристально глядя исподлобья…
Со своей стороны и комиссар не отводил испытующий взгляд от заподозренного. Похоже, тот успокаивался и даже странно веселел по мере того, как лейтенант все более накалялся.
— Крикни фашисту, пускай выползет, — приказал Алексаев. — А ты живи, черт с тобой.
Раздались женские и детские возгласы. Возгласы не боли, не страха, а радости. Это наши бойцы привели во двор семьи пограничников, прятавшиеся у лесника.
И лесник разрыдался.
8
Когда танковые колонны гитлеровцев прорвались к Невелю, Вацевич собрался было со всем семейством уходить на восток, подобно тысячам других беженцев. Однако перед отъездом явился к нему работник райисполкома, который в мае оформлял его на новое место работы. Райисполкомовец от имени партии попросил беспартийного Тадеуша Вацевича остаться и помогать организующемуся подполью патриотов. Отказаться?.. Горько было отправлять без своего присмотра трех дошколят-хлопчиков и жену на сносях. Однако Вацевич согласился ждать связных от райкома партии и выполнять их задания.
Он ждал. Почти два месяца — безвылазно. Благо картошка своя, морковь и капуста — тоже. Наконец пришел человек средних лет, вооруженный наганом и «бутылочными» гранатами. Он прежде всего возвратил Вацевичу старую двустволку, отобранную комсомольцами. Далее, после обоюдного прощупывающего разговора, гость обещал ему восстановить утраченную связь с городскими большевиками… Прощаясь, условились о тайничке. Наведываться в тайничок — до полудня по вторникам и субботам.
В минувший вторник, заглянув для верности в тайник уже вторично после полудня, Вацевич отправился в сельпо. Очередь за керосином протянулась до околицы. Протоптавшись час, он продвинулся только наполовину… и вдруг — общее смятение: проверка документов!
Жандармы, проверив документы и допросив лесника, преобразились в благожелателей. Бидончик через полминуты наполнился керосином. Жандармы заверили пана Вацевича, что отныне да процветает он под покровительством великого рейха. Приказали не отлучаться из дому, ждать инструкций.
Вацевич побрел восвояси. Успокаивал себя тем, что немецкие чиновники вряд ли прикатят до субботы… А в этот условленный день он извлечет из тайника долгожданную весть от товарища, пообещавшего восстановить связь с партийцами. Если сегодня в тайнике пусто, тем вероятнее, что будет весточка в следующий условленный день. Именно так! Простая логика приводит к этому выводу.
Но чем старательнее успокаивал и утешал себя Вацевич, тем тревожнее становилось на душе. Тревожнее и гаже! Ведь вполне возможно, что приедут к нему не только с инструкциями, но, в первую очередь, затем, чтобы тотчас отрезать ему все пути к советским патриотам. Увезут его с собой и заставят совершить какую-нибудь подлость. Например, избить арестованного. Не выйдет у них!.. А тогда? Чести своей он не уронит, однако ж и борцам против оккупантов ничем не поможет. Но что же делать? Что?
Не стало сил на раздумье. Вацевич спрятал бидон в кустах и бросился в город Велиж. На бегу гнал от себя горестную мысль, что нелепо надеяться на случайную встречу с товарищем, от имени партии говорившим с ним еще в июле… Старался вызвать в памяти также и другие лица, которые видел в райисполкоме перед войной. Твердил себе, что, существуй хоть один шанс из сотни тысяч, он и тогда должен ухватиться за него.
Уже на окраине Вацевич угодил в облаву: эсэсовцы забирали кого попало… Повели через пустырь к безлюдному базару.
Там, в толпе, Вацевич увидел того, кого мечтал встретить, чьи боевые задания хотел выполнять. Увидел крайним в ряду четырех приговоренных. Каждый с петлей на шее и со связанными за спиной руками.
Прочли приговор. Оказалось, что осужденные швырнули гранаты в окна гостиницы германских офицеров.
Уже начало смеркаться, когда Вацевич, прошагав три километра по шоссе, а затем около километра вдоль еловых саженцев, добрался до частого сосняка. Тут, на корнях, он и провел ночь.
Едва рассвело, Вацевич побежал к опытному филиалу совхоза. Вот и просека, вот и знакомый бочажок, заросший камышом… И на секунду померещилось: не заплутал ли? Вокруг — не раз исхоженные места. Но почему же тогда между редеющими стволами мачтового сосняка все еще не видны — на другой стороне стручкового поля — два дома?
Вацевич, озираясь, остановился. Неужели вправду сбился с тропы? До того пришибло казнью коммунистов.
Но вот сквозь редеющие к опушке стволы потянуло встречным ветерком и удушающим смрадом гари. Задыхаясь от предчувствия чего-то страшного, лесник бросился вперед, к домам деревни, но увы! — домов совхоза не стало. Меж обугленных, еще курящихся головешек стояли опечалено люди… То были старики из глухой соседней деревушки Ольхино. Вместе с ними Вацевич похоронил расстрелянных, сгоревших. От них и услышал, что произошло.
Вскоре после того как из деревни ушли семьи пограничников, туда нагрянули немцы. Все переворошили. Потом выгнали всех жителей на улицу. Поставили под яркие фары грузовиков и начали допрашивать стариков и старух, которые укрывали своих постояльцев. А потом принялись избивать дядю Сеню — заведующего опытным участком. А сын его, десятиклассник, протиснулся сквозь толпу к немцам и стрельнул дважды из ружья. Два немца упали замертво.
Когда убитые и обгоревшие были преданы земле, Вацевич побрел домой. Четыре километра от пепелища до своей усадьбы показались ему бесконечными. А когда переступил порог дома, застыл на месте.
Ребятишки!.. Безмятежно спали они, закутанные поверх пальтишек в шали… Спали на разостланных на полу одеялах.
До того приковали взгляд эти малыши, что не сразу рассмотрел четырех женщин. Три еще моложавые, а одна старуха. Услышав шаги, одна молоденькая рывком повернулась и крепче прижала к себе мальчонку с льняными кудрями. А тот — обеими ручонками обхватил полосатую кошку… Черноволосая девочка-подросток застонала во сне.
Учуяв хозяина, кошка выскользнула из теплых ручонок мальчонки, перескочив через босые ноги молодых женщин, жалобно мяукая, начала тереться о сапоги Вацевича.
Испуганно вскочила большеглазая черноволосая девчушка. За ней, держа на руках маленького кудрявого мальчугана, тяжело поднялась худощавая, но с розоватым и мягко округленным лицом женщина. Яркие серые глаза смотрели строго, испытующе. Она подождала, когда заговорит сам хозяин. Поправив сбившиеся набок густые с рыжинкой косы, повернулась к смертельно бледной девочке-подростку:
— Не пугайся, Ревекка. Наш человек это.
В полукилометре от усадьбы лесника стояла покосившаяся, но еще прочная «егерская сторожка». Сюда на весь день Вацевич отправлял семьи пограничников. Возвращались они в потемках. Ночью гитлеровцы вряд ли нагрянут.
А командир Шеврук, скрепя сердце согласившийся с намерением Клинцова, безмолвно дал самому себе клятву. Если жандармы или эсэсовцы опередили комиссара отряда спецназначения, если запугиваньем, а может, и пытками, сумели намертво привязать к себе лесника, то вполне вероятно, какая-то сволочь старается не спускать с него глаз и, чего доброго, бывает в усадьбе… «В этом случае пускай же не ускользнут вражеские вербовщики», — решил командир.
Еще до того как Клинцов, Алексаев и Хомченко вошли во двор, вокруг усадьбы была уже сильная цепь обложения.
Из егерской сторожки, укрывшейся в зарослях крушины, острые, настороженные глаза различили мундир гитлеровского офицера. Никто не мог предположить, что это советский офицер в трофейной форме. Им был младший лейтенант Астапов.
Дети и женщины бросились обратно, к усадьбе. Предупредив хозяина, залегли в углублениях между картофельных гряд с пышно разросшейся ботвой.
Вацевич же поспешил затоптать уличающие следы. Но такому разведчику, как старший сержант Ковеза, не трудно было разгадать эту хитрость.
Стало понятным и то, как изнуренные женщины, старавшиеся пройти с детьми через лес подальше на восток, оказались у лесника — всего только в четырех километрах от совхоза. Семьи сбились с направления, когда обходили заболоченную низину. Стало также понятно, почему лесник остерегался и не доверился сразу же военным людям, по виду и разговорам — советским.
Шеврук и Клинцов уже не расспрашивали, а ждали, что сочтет нужным сказать сам хозяин. А тот сидел по другую сторону кухонного столика, спиной к залитому тьмой окошку. Сверху, с широкой печи и полатей слышалось невнятное бормотанье спящих детей, а три женщины и пятнадцатилетняя девочка затаились в горнице, за ситцевой занавеской.
— Счастье, что сюда забрели, — повторил Вацевич уже таким тоном, будто внушал это самому себе. — Да, счастье… Не хцел, не хцел, а пора дочиста выложить.
— Пора, — сдержанно подтвердил Шеврук.
Лесник поднялся, подкинул самых тонких дровец в уже прогорающую печь и, садясь, уперся взглядом в холодноватые пристальные глаза Шеврука.
— Ты, товарищ командир, упомянул, как самолично допрашивал охранников скипидарного завода… Помнишь, у них, у немцев, словечко «митхеррен»?
— Хиба ж не помнить! Означает оно: совластители, совладельцы.
— Так. Як раз! Перекинулись им, а потом и перевели мне. Чтобы покрепче шибануть. Уж если вы, пане лесовик, обязались нам служить и скрепили подписью, то мы — совладельцы души вашей. Спробуйте переметнуться к партизанам, а мы зараз изловчимся переслать им фотокопию…
Вацевич умолк. Ожидал обвинений, клеймящего негодования. Может быть, и приговора.
Клинцов повернулся к Шевруку, к едва колышущейся справа от него ситцевой занавеске:
— У молодок обувь совсем истрепалась, а в чемоданах охранников завода нашлась и женская обувь… Однако всего не предусмотришь.
Вацевич благодарно глянул на комиссара. Догадался: вожаки отряда вовсе не хотят учинять судебное следствие. Продолжал уже ровнее, как бы спокойнее:
— Я же чую свой позор… А может, скажете, как я мог иначе? Трохи обогрел своих гостей, накормил. — Он покосился на пустые стручки сладкого горошка на полу, недавно, пока не заснула малышня, дождем сыпавшиеся с печи. — Но дальше что было делать? Судите сами. В среду гости, а в четверг — шасть и машины с немцами! Богу дзенькуе не на зорьке, и — сначала каву пили… Мои гости в сторожке досыпают, една пана — дозорная.
— А сколько было машин? И какие? — спросил Шеврук.
— Кепско зробыв я. Не фиксировал, — Вацевич оборотился, пристукнул о подоконник ребрами ладоней. Злость его взяла на себя самого, что лишь сейчас это пришло в голову: — Мог! Истина правда! Ворота слегой замкнуты, зато калитка-то сбоку не на запоре… Но до чего ж они, лайдаки, сторожкие! Загрюкали сапогами по калитке — «виходи, лесовик, виходи!..» Ворвались, едва подбежал и распахнул им.
— То так. Остерегаются. Проучены! — и неулыбчивый Шеврук усмехнулся. — Чихать на машины, вдосталь их побачили. Про себя говори!
Вацевич встал. И смотрел поверх голов Шеврука и Клинцова на босые ребячьи ступни.
— Уже выложил я про себя. Снова, спрашиваю: как иначе было поступить?.. Я же не свою шкуру спасал. Еще добже главные двое в черных плащах — прямо с ходу быка за рога! Мол, пане лесовик, обязательно подпишешь или, связанный да бензином окропленный, дымом вознесешься…
Неторопливо, тут же уточняя и додумывая, Шеврук и Клинцов составляли примерный план действий для лесника в самых общих чертах. Всего не предусмотришь. Конечно же, гитлеровцы тоже выработали свой план, как использовать лесника… В чем и когда схлестнутся эти планы?
Дважды за это время сменились дозорные патрули вокруг усадьбы.
Вацевич, слушая и вспоминая, прохаживался — медленно, бесшумно. Тень его то выпрямлялась на потолке, то изламывалась в углах.
9
Старшему сержанту Ковезе и запасному переводчику Леве было приказано проводить семьи пограничников к затерявшейся в глухомани деревушке. Там, почти в сотне километров к востоку, отряд отдыхал в конце августа целые сутки…
Блеснули в последний раз уложенные короной пышные с рыжинкой косы круглолицей женщины. Мелькнул и прощально размахиваемый над головой пунцовый платок Ревекки.
Семьи пограничников ушли, а отряд, наполнив фляги родниковой водичкой, выбрался на широкую просеку. Налетевший студеный ветер сорвал набекрень заломленную фуражку Хомченко. Тот успел подхватить ее на лету. И как бы про себя, но довольно слышно пробурчал насчет того, что пора бы подумать о теплой одежде. Небось Ковеза с Левкой запасутся по дороге.
Командир пропустил мимо ушей ворчливо-многозначительные намеки. Он спешил догнать Клинцова, шедшего в голове походной колонны.
— Думка моя, комиссар, такая… Для верности большей треба взять Вацевича на боевую засаду. Хоть разок, а?
— Следовало бы. Не по недостатку доверия. Но чтобы присмотреться, хватает ли у него должной выдержки.
— Як раз о том и забота. Це ж не каждому дано. Хитрить, а самому на хитрости не поддаться.
— Не поддаваться, но хранить вид, якобы поддался, — добавил Клинцов. — Конечно, ты прав, это далеко не каждый сумеет. И все же лучше, на мой взгляд, отставить такой вариант. Если немцы-вербовщики не застанут Вацевича дома, да прождут его несколько часов, — все насмарку. Ведь ему велено пока не отлучаться. Помнишь, он подчеркнул это «пока».
— Памятую. Зато фашисты после принудят отлучаться. Чтобы нас выслеживать.
— Именно так! Именно! Тогда вот и сможет он развернуться.
— В которую сторону?
Но комиссар притворился, будто не уловил иронии командира:
— И мы развернемся. Станем их дезинформировать через ими же завербованного. Но — нашего!
В этот день отряд получил радиограмму: «Одобряем самоотверженную работу на коммуникациях благо дарим тчк усильте разведку движения частей и соединений противника к Москве».
Следующим утром зарядил холодный крупный дождь. Гулко на разные лады стучал по раскинутым над головами плащ-палаткам. Едва просветлело — началось партийное собрание отряда. Оно было посвящено требованию Центра: «Усилить разведку движения частей и соединений врага». Каждому коммунисту предложили высказать свои соображения.
Комиссар Клинцов, избранный секретарем партийной ячейки, и командир отряда Шеврук избегали «наводящих» вопросов. Однако все члены партии говорили о новых возможностях разведки, открывшихся в результате новых данных.
Клинцов высказал на этот счет свои соображения:
— Во-первых, вербовщики предусматривают вероятность животного страха лесника перед обеими непримиримыми сторонами. Для фашистов это — не худший вариант. Поэтому они постараются добиться того, чтобы лесник страшился кары немцев сильнее, чем кары партизанской. Заодно следует и покрепче привязать к себе завербованного подачками и посулами. Во-вторых, немцы могут допустить, что завербованный — фанатичный приверженец советских порядков и с готовностью содействует партизанам. Такой вариант, с точки зрения немцев, маловероятен: слишком очевидным был испуг лесника во время проверки документов и в еще большей степени — при визите гитлеровцев в его дом. Угрозу спалить его жилище он воспринял как абсолютную реальность. И еще больше испугался. Когда фашисты подбирают себе пособника, — продолжал Клинцов, — они делают ставку не только на его инстинкт самосохранения. Они выискивают в нем зернышки жадности, зависти, злобы. Заботливо взращивают самое низменное, чтобы предатель стал безотказным в любых подлостях и жестокостях. Боюсь, фашисты скоро заметят, что Вацевич не обладает такими «данными», — закончил комиссар.
Когда гитлеровцы во второй раз приехали к Вацевичу, тот сразу же протянул им наган, подаренный Шевруком. И торопливо, проглатывая от волнения слова, рассказал о вторжении «красных офицеров» из «мобильного отряда». В точности так рассказал, как обговорено было с Клинцовым и Шевруком. Сначала вымаливал разрешение перебраться на жительство в гарнизон (мог бы, например, сгодиться переводчиком), а под конец упомянул о том, что красные офицеры, конечно же, не простые вояки. Присочинил, что у каждого по два, по три ордена: и Красное Знамя, и Красная Звезда…
Когда Шеврук и Клинцов инструктировали Вацевича, они, конечно, рисковали: неопытный в притворстве лесник мог и переборщить, показаться чересчур запуганным. Тогда его сочли бы непригодным к выполнению поручений. Чего доброго, и впрямь увезли бы в гарнизон или спровадили бы в Германию… Но все обошлось.
Наигранный страх лесника перед советскими мстителями не вызвал подозрений. Выслушав его, вербовщики велели спрятать наган в домашнем тайничке, но так, чтобы всегда был под рукой. Пусть красные разведчики думают, что лесник готов пустить в ход оружие против немцев.
Гитлеровцы приказали Вацевичу обойти лесные массивы, вверенные ему «прежней» властью, и выявить партизанские базы. На это отводилось двое суток. Затем лесник обязан в сумерках явиться к той лавочке сельпо, где неделю назад у него проверяли документы. Там к нему подойдет человек в цивильной одежде и заберет собранные сведения.
Поскольку рейдовый отряд Шеврука и Клинцова успел к этому времени причинить немалый ущерб немецким частям, двигающимся на восток, нетрудно было предвидеть это задание. Поэтому рейдовый отряд и партизаны оставили в заранее согласованных с Вацевичем местах следы «в чрезвычайной спешке» брошенных лагерных стоянок.
Но, разумеется, «хитрости» нельзя было применять длительное время. Рано или поздно немцы догадаются, что к чему. Вожаки отряда учитывали это. Они не упускали из виду и то обстоятельство, что гитлеровцы постараются представить вербовку Вацевича как свою немалую заслугу. Наверняка преувеличат риск посещения усадьбы среди густого леса, где укрываются отлично вооруженные бойцы спецотряда. Гитлеровцы цеплялись за Вацевича, хотя и не доверяли ему полностью.
В конце сентября отряд намертво перекрыл шоссе Невель — Велиж. Едва оторвавшись от немцев, Шеврук и Клинцов вели бойцов к другой опушке леса, прилегавшей к шоссе.
В этих ожесточеннейших скоротечных схватках отряд понес первые потери. Погибло пятеро бойцов.
Погибших товарищей подобрал взвод разведчиков лейтенанта Алексаева. Весь отряд посменно нес их. Похоронили бойцов на поляне в трех километрах от шоссе Невель — Велиж.
Еще раскатывалось эхо прощального залпа над братской могилой, а бойцы повалились — тут же, где стояли, — в траву: спать, спать!..
Как и в первый ночлег за линией фронта, командир и комиссар не спали. Они тихо прохаживались вокруг спящих. Чуть в стороне «колдовали» радисты. Сначала открытым текстом неоднократно послали в эфир:
«ЦЕНТРУ ТЧК ЗАДАЧА ВЫПОЛНЕНА ПОНЕСЛИ БОЛЬШИЕ ПОТЕРИ»
Эта радиограмма предназначалась для немецких радиоперехватчиков. Ее передали в эфир трижды, хотя строго экономили радиопитание.
Сочетание открытого и закодированного текстов явилось важным звеном в дезинформации врага (начатой Вацевичем с одобрения командира и комиссара). Расчет был на то, что немцы дешифруют радиограмму и получат ключ к коду. А потом… А потом откроют широкие возможности для их дезинформации.
Чтобы дать возможность Вацевичу в случае необходимости уйти в отряд, была оставлена лошадь.
— Тадеуш Юзефович, — сказал Клинцов. — Когда почуешь, что исчерпал свои возможности — не мешкай! Бери лошадь и скачи в Ольхино. Там на опушке березняка тебя встретят.
Затем Ковеза на глазах Вацевича оборудовал среди лозняка отлично замаскированные взрывные устройства: две гранаты Ф-1 с протянутой в траве проволокой. Это на случай, если Вацевичу понадобится задержать погоню.
Поначалу шло так, как и было намечено.
Спустя четыре часа после радиограммы, сообщавшей о том, что отряд якобы выполнил боевую задачу, Вацевич, спавший одетым, проснулся от гула моторов. Сойдя с крыльца, он бросился к воротам. Едва открыл калитку, как гитлеровцы толкнули его назад, во двор.
Вацевич вырвался.
— Мина, панове, мина!.. — завопил он. — Червонных офицеров мина! Бардзо страшусь я! За вас, панове!
Он вывел опешивших карателей за ворота. Здесь стояли два трехосных грузовика с кузовами, полными солдат. А дальше, приминая поваленный дубок, буксовал третий.
Через несколько минут Вацевич извлек из углубления под забором обернутую клеенкой мину. Захлебываясь от волнения, выкладывал:
— Червонные командиры требуют доказать свою лояльность — заложить эту дьявольщину на пустынном шоссе. Иначе — не пощадят меня, выходца из белопанской Польши. Срок исполнения — трое суток — истекает следующей ночью.
Вацевич снова попросил перевезти его в какой-либо гарнизон: там он больше пригодится. И уставился на грузовики, словно высматривая для себя местечко.
В действительности Вацевич прикидывал, сколько солдат в каждом грузовике. Почти сотня. Не ради него, завербованного лесника, понаехало столько карателей. Решили покончить с отрядом. Широкой полосой пройдут вдоль шоссе, где наготове подкрепление и, вероятно, обнаружат лошадь. Лучше сказать о ней сейчас.
— Един момент, Панове! — Вацевич напряженно вслушивался в свой голос, не дрожит ли от волнения? Нет, все в порядке. — Момент!.. Я сейчас ешче вспомнил!
Он сообщил, что наблюдающие за ним советские разведчики пообещали коня, если он заложит на шоссе мину.
— Касательно беспрерывного надзора за вами, господин лесовик, — это блеф, — усмехнулся один из офицеров. — Это русские запугивают. Но рысак обещанный? Не назвали ли вам ориентиры места, где вручат эту награду за преступление против рейха?
— Так, Панове! Так, сообщили…
— И вы не догадались удостовериться — может, конь уже там?
— Якже мог я, панове? Повинен я — вас ожидать… И молил Езуса: скорее бы приехали.
Офицер благосклонно кивнул. И, поворотясь к ближайшему грузовику, махнул рукой.
Через несколько секунд шофер уже набросил на плечи Вацевича черный плащ. Почти такой же, как на офицере.
Ровное рокотанье моторов прорезалось отрывистой командой.
Вот и пологий спуск к лозняку. Три гитлеровца с ручными МГ опередили на два десятка шагов Вацевича.
Сзади — дугой — взвод автоматчиков. Впереди показался трухлявый пень, а за ним — раздвоившаяся в комле береза… Вот они, приметы!
Вацевич напрягся. Крайний справа пулеметчик сейчас заденет проволочку. Секунда, еще секунда… Холодные капли сползают по лбу Вацевича. Почему не рвануло? А, понятно. Пулеметчики высоко поднимают ноги. На миг охватывает его страх: вдруг изобличил себя волнением? Тут же успокаивается. Нет. Не заметили.
Лозняк уже близко. Доносится ржанье лошади, почуявшей людей. Радость охватывает Вацевича. Все происходит так, как надо. Раз конь на месте, значит, он, лесник, не врет. У гитлеровцев нет повода не доверять ему.
Цепи автоматчиков сближаются — подходят с обеих сторон к привязанной лошади. «На этот раз кто-нибудь заденет», — мелькнуло в сознании Вацевича.
— Тррах!
Перед глазами осколком срезало ветку. Вацевич опустил голову, боясь, что лицо выдаст его мстительное торжество.
Сзади — стон…
— А вы даже не повернулись, господин лесовик! — жалит Вацевича шипящий голос офицера. — Даже не повернулись! Ожидали взрыва, да? Не молчать! Отвечать бистро! Бистро! Шнелль!
Вацевича тут же избили. Так, на всякий случай. Потом, мол, разберемся.
10
Целый батальон карателей был снаряжен для прочесывания леса к северу от шоссе. А в усадьбе лесника организовали засаду. Взвод гитлеровцев разместился в кухне и горнице, а также — в пустующем хлеву и на сеновале. Каратели были уверены, что лесник не связан с партизанами. Прекрасно, если так… Однако измученные, голодные красноармейцы или партизаны, возможно, сунутся к нему хотя бы за харчами.
Но командиры отряда предвидели возможность засады и были настороже.
Немцы же смазали синяки Вацевича раствором йода, на кровоподтеки наложили пластыри. Офицер попросил господина лесовика понять его «горячность» при гибели двух камрадов. Обещал добавочный профит…
Трое суток Вацевич, сверкая белоснежными пластырями, беспрепятственно расхаживал по двору, выходил и за ворота. Но он ясно сознавал свое положение заложника. На четвертый день часть солдат отозвали. Однако засада по-прежнему располагала походной радиостанцией и в любой момент могла попросить из гарнизона подкрепление.
Более трех суток разведчики отряда спецназначения следили за маневрами карателей в пришоссейной полосе. По просьбе Шеврука и Клинцова местные партизаны отошли на время к северу. Делалось все возможное, чтобы убедить немцев в передислокации рейдового отряда.
Не обнаружив его, батальон карателей разместился ночевать в самом Велиже. Видимо, немцы опасались повторения какой-либо каверзы вроде артналета на перевалочный пункт. Но вечером отряд стремительным броском пересек уже много раз обследованную врагом полосу и устроил засаду у шоссе. Бойцы надеялись подстеречь ценную добычу и заполучить нужные Центру разведданные. Но на шоссе никакого движения за всю ночь!.. Лишь на рассвете дозорные доложили о приближении тех самых семитонных «бюссингов», на которых каратели вечером убрались. Пришлось быстренько уходить.
Незадолго перед этим часовой Кравченко заприметил мальчишку, пересекавшего поляну, заросшую чапыжником. Часовой послал за ним Хомченко. Через четверть часа тот привел опоясанного чересседельником яркорыжего подростка, вооруженного двустволкой.
Когда паренек увидел красные звездочки на фуражках, то заплакал от счастья. Выяснилось, что он второй день бродит по лесу — партизан ищет. Сначала странным показалось: если это правда, то почему же у него мешок сухарей даже не початый?
— А неуж я не соображаю?! — паренек ухмыльнулся. — Партизаны не жрамши воюют!..
И мальчугана оставили в отряде.
Около полуночи снова пошел мелкий въедливый дождик. Однако ненадолго. Часа через полтора поиссяк. С намокших еловых ветвей стали падать лишь редкие капли. Звучно шлепали они об отсыревшие плащ-палатки. Бойцы скинули их; свернули, бесшумно перебрались еще ближе к шоссе.
Над головами теперь — открытое небо. На нем светлел расплывчато-белесый, неотточенный серпик.
— Какой тощенький, бедненький!
— Некормленый, как и мы.
— Отставить скулеж! Завтрашний день сухой будет. Отоспимся, по крайней мере.
— Во сне и пообедаем. И не спеша, солидно… Не как вчера. Только возьмусь за жареного гуся — брр!.. Ледяная струйка по плащ-палатке — прямо в ухо.
— Кончай, братва, про еду!
— А что ты хочешь?
Ответа не последовало. Все замолкли. Об одном думали: неужели командиры снова не разрешат заскочить в Ольхино или в другую какую-нибудь не слишком отдаленную деревушку, чтобы хлебца попросить или хотя бы самим картошки накопать? Только одними шинельными скатками нагружена в дальней чащобе оставленная кобыла. Только патронами да гранатами понабиты заплечные «сидоры», даже запах сухарный выветрился, а по-прежнему никаких контактов с местными!.. Чтобы ни в коем случае не дошел до немцев слушок о местопребывании тех, за кем они охотятся. Впрочем, неизвестно еще, кто за кем охотится. Настоящие-то охотники засели снова под самым носом противника. И телефонисту на дубке сейчас видны холмики, с которых атаковали орудийные расчеты на тягачах.
Блеклый, бескровный рассвет. Седые космы тумана сползают с шоссе, тускло поблескивают дробные камешки гравия. Постепенно прорезываются острые верхушки елей по обеим сторонам — чуть слева и чуть справа — цепи залегшего отряда. Но как раз напротив — еще непроницаемый туман. Угадывается распадок леса.
Да, да — так и есть. Спустя какие-то минуты прямо перед глазами расстилается вдали серый низинный луг, испещренный странными темными прямоугольниками.
— Торфяные копани, — поясняет Клинцов скорчившемуся рядом рыжему пареньку.
— Знаю сам! Еще получше вас!
И обладатель двустволки сплевывает. Шеврук, сидящий на бугорке замшелого корня, протягивает ему миниатюрный вальтер с перламутровой рукояткой.
— Бери, новобранец! Пока — на предохранителе. Гляди, как на боевой взвод переставить.
Рыжий мальчуган внимательно следит за движениями пальцев командира. Кивает. А минуту спустя вытаскивает пистолетик из-за пазухи, так и сяк поворачивает перед глазами.
— Бабская цацка, — бормочет он. — Вот парабелл бы мне!
— Заказ принят! — отчеканивает Шеврук.
— Цыц, зачуханные! — слышится сзади. — Замрите!
Командиры оборачиваются к старшему сержанту Ковезе. Тот отличается необыкновенно чутким слухом. Сейчас, прижимая правой рукой к уху телефонную трубку, он одновременно уставился в циферблат часов.
Тягуче ползут секунды.
— Танки! — возглашает Ковеза. — 3 Велижа!
— Побачимо, — с рассчитанной медлительностью отзывается Шеврук. — Нехай не слазит. Может, ще поталанит.
Ковеза повторяет в трубку приказ: оставаться на посту. Между тем уже докатывается равномерный, вибрирующий гул.
Отряд отходит от шоссе. Всего лишь метров на двадцать. Бойцы залегают за толстыми елями.
Неотвратимо надвигающийся гул забивает уши. Словно прибойным девятым валом накрыло, вглубь затягивает, и над головами прокатываются тяжелые вспененные волны. Воздух застревает в легких — изнутри душит, и трудно вытолкнуть его из груди.
К счастью, такое обессиливающее оцепенение долго не длится. Гул — уже не сплошной. Различимы вой моторов, и гусеничный лязг, и скрежет траков. Еще миг — и в просветах меж еловыми замшелыми стволами и понурой нависью бородатого лапника мелькают смутно-черные громадины.
— Хоть гирше, та инше!.. — восклицает Шеврук, оборотясь к Ковезе.
В скрежете и громыханье металла Ковеза не улавливает отдельных слов, но сразу же безошибочно схватывает смысл целой фразы. Возможно, догадывается по движению губ; а может статься, потому, что самому подумалось о том же… По цепочке бойцов — от одного к другому — перелетает немудрящая поговорка; все веселеют.
Лязг и скрежет, лязг и скрежет… Ох какая прорва на восток прет! А в глазах уже не мельтешат. Сизый туман выхлопов стелется от шоссе. Поначалу бензиновая вонь разгоняет сырую мглу, но постепенно смешивается с нею. Снова трудно дышать.
Прибой лязга и скрежета перекатывается влево. Запоздало звенит и потрескивает в ушах. И вдруг — игольчатые вспышки! Неяркие, в сизой пелене между стволов и ветвей. В частой заглушающей стукотне танковых пушек ошеломляюще немо валится высоченная ель. Обламывая, корежа ветви соседок, она прикрыла верхушкой сапоги Левы Конторовича — крайнего на левом фланге.
И — стихло… Так же внезапно, как и загремели залпы.
Шеврук и Клинцов переглянулись, явственнее, чем когда-либо раньше, читая в глазах другого свою собственную мысль: «Неспроста!.. Танкистов, видать, упросили шагануть на всякий случай!»
Мельком они подумали также, что, расположись отряд чуточку левее — не в прореди, а в самой гуще ельника, — не миновать бы потерь.
Ковеза, все время прижимавший телефонную трубку к уху, подскочил, рывком отвернул угол отяжелевшей плащ-палатки. Свалилась его светлая кубанка, влажный чуб разметался, налипая на брови. Скорчась и уткнув голову под угол плащ-палатки, Ковеза слушал.
— Мотоциклисты, — определил Ковеза и приподнялся. — А за ними автобус!
— Штабной, братва! Наконец-то! — раздались голоса.
— Насилу дождались!
— Не кажи гоп, покеда…
— Не высовывайся допрежь! А не то обстригут башку по самые плечи!
Шеврук подал команду перебежать с выжидательных позиций на исходные. Здесь, на уже облюбованных местечках, раздается лишь одно замечание — дружески насмешливое:
— Пригнись!.. Или ты, Левка, приладился пули брюхом ловить?
И слышится только стремительно надвигающееся стрекотанье мотоциклов. Оно заглушает рокот автобусного мотора.
Вот они! Двухрядной вереницей.
Лица мотоциклистов, как бы укороченные касками, неразличимы. Но в глаза бросаются черные воротники зеленых кителей.
— Эсэсовцы!
Пропустив три пары, Клинцов вскакивает, швыряет гранату под брюхо автобуса.
Этот бросок — сигнал. Разрыва не слышно: перекрыт очередями шмайсеров и «дегтярей».
Несколько порожних мотоциклов уже в кювете. Автобус наезжает на убитых эсэсовцев, останавливается. Окна по-прежнему зашторены.
Штабные офицеры, похватав оперативные документы, выпрыгнули из автобуса. Черные выемки на торфяном лугу показались им желанным укрытием. Велиж-то близехонько! Подмога живо подоспеет!
С портфелями, прижатыми к груди, гитлеровцы ринулись через сырой, вязкий луг, но попали под фланговый огонь автоматчиков. Никто из них не остался в живых. Схватка длилась всего четыре минуты. Из двадцати мотоциклов оказались исправными — девять.
Астапов, Ковеза и еще пятеро разведчиков, знающих толк в мотоциклах, натянули на себя кители эсэсовцев и, усадив на багажники бойцов, помчались выручать Вацевича.
За эти считанные секунды командир и комиссар запихнули в свои заплечные мешки еще и бумаги из ящиков автобуса. И тогда над комфортабельным автобусом, в котором был оборудован даже душ, взвихрился огненный факел.
Полчаса спустя засада карателей получила по радио приказ: «Покинуть усадьбу, а лесника доставить в гестапо Велижа».
Когда связанного Вацевича бросили в кузов и полувзвод карателей разместился на продольных скамьях — спина к спине — унтерштурмфюрер приказал спалить усадьбу.
Алексаев и Астапов увидели взметнувшийся столб пламени, когда до усадьбы оставалось не более трех километров. Они разделили разведчиков на две группы. Те, кто был в эсэсовской форме, выстроились на обочине дороги, другим предстояло затаиться, пропустить машины и уничтожить карателей фланговым кинжальным огнем.
Вернулся посланный вперед Ковеза и, едва переводя дыхание, доложил о приближении лишь одного грузовика. Алексаев и Астапов уже не сомневались в успехе. Будь с ними хоть один боец, отлично владеющий немецким языком, Вацевича удалось бы вырвать из рук гитлеровцев живым и невредимым. Но командир отряда не счел себя вправе подвергнуть опасности ни переводчика, ни его помощника Леву. Слишком увесистым оказался тюк захваченных оперативных документов, которые надлежало немедленно рассмотреть и рассортировать.
Завидев впереди эсэсовские фуражки и кители, унтерштурмфюрер остановил машину. Астапов доложил, что он якобы послан на подмогу. Произнесенная им фраза была грамматически правильной. Однако подвело произношение. Немцы поняли, что перед ними переодетые партизаны. Завязалась схватка.
Вацевича отбили. Но — с несколькими пулями в животе — он скончался в пути к пункту сбора.
А ночью в условленный час радировали Центру о захваченных документах. На следующий день пришел ответ. Командир зачитал радиограмму перед строем:
«ВОЗВРАЩАЙТЕСЬ ДОКУМЕНТАМИ ТЧК ПОЗЖЕ СООБЩИМ ОРИЕНТИРЫ ПЕРЕХОДА ФРОНТА».
Слово взял комиссар Клинцов:
— До сих пор, — сказал он, — мы редко заходили в деревни. Теперь же, на пути к Москве, не откажемся от встреч с местными советскими людьми. Не только ради теплых ночлегов. Главная цель — другая!.. Прежде чем отчитаться перед Центром, отчитаемся перед населением. Отчитаемся захваченным оружием врага. Отчитаемся двумя с половиной сотнями зольдбухов и офицерских удостоверений. Их владельцы не смогут больше жечь, убивать и грабить… И пусть убедятся все — от мала до велика, что советские воины умеют воевать и в тылу врага.
После короткого митинга командир и комиссар очень придирчиво отобрали специальную группу для доставки документов, захваченных главным образом из штабного автобуса. Этим товарищам отныне запрещалось участие в боях. Единственная их задача сводилась к тому, чтобы в целости доставить свой груз штабу фронта.
От разрывной пули Восьмушин потерял слишком много крови. Решили оставить его на попечении партизан отряда имени Коминтерна: партийные работники, сделавшиеся бойцами этого отряда, превосходно знают окрестных колхозников и выберут лесную, далекую от коммуникаций деревеньку, где Восьмушина поставят на ноги.
В отряде имени Коминтерна захотел остаться и шестнадцатилетний Троша, недавно в поисках партизан забредший к стоянке бойцов.
Командиром группы сопровождения, в которой, кроме военфельдшера Увалина, было еще пять автоматчиков, назначили старшего сержанта Ковезу.
После завтрака отряд спецназначения снова построился на поляне. Когда командир и комиссар посадили ослабевшего Восьмушина в седло, когда военфельдшер Увалин повел под уздцы Савраску вдоль строя, бойцы взяли «на караул» автоматы и ручные пулеметы так, как августовским утром салютовали разведчикам Доватора.
Ковеза бесшумно шагал впереди. Справа и слева боковым охранением пошли двое автоматчиков. А в арьергарде группы — сержант Хомченко и Трофим, которому в придачу к его двустволке подарили трофейный парабеллум и гранату.
Когда Восьмушин попросил снять его с лошади — дать ему прилечь хоть на минутку, — Хомченко решил ухватиться за подвернувшуюся возможность… У рыжего Трошки, как тот, между прочим, сообщил ему, живет в Ольхино сродная сеструха. Пока Восьмушин отлеживается — заскочить бы к ней: наверное, не пожалеет молочка для раненого воина. Ковеза посмотрел на заострившийся нос раненого, на восковую бледность его и — разрешил.
Едва подошли к Ольхино — снова рев моторов! И с запада и с юга — со стороны шоссе! Кинулись к ближнему перелеску. Рухнувшая сосна — прибежище, поистине свыше ниспосланное: с десяток фрицев расположились на опушке с блокнотиками на коленях. А когда с вымахнувшего на равнину грузовика кликнули их, когда укатили — появился одинокий велосипедист!..
Многоопытный Хомченко на миг растерялся, когда немец поперся прямо на них. Убить его бесшумно?! Но как? Трошка не растерялся. За немногие секунды до того, как немец увидел бы двух притаившихся, он легонько катнул по скользкой хвое навстречу немцу гранату без взрывателя.
Немец отпрыгнул и приник лицом к земле, закрыв голову руками. Хомченко смекнул, в чем хитрость. Опередив Трошку, бросился вперед и обрушил на затылок немца рукоятку автомата.
Когда стемнело, Лесик и Трошка пришли в отряд имени Коминтерна, пришли одновременно с Ковезой и Увалиным, благополучно доставившим совсем обессилевшего Восьмушина.
Коричневый телефонный провод был почти неразличим на влажной земле, присыпанной рыжей хвоей да еловыми шишками. Но младший лейтенант Астапов и старший сержант Ковеза тотчас заметили его. Остановились. Ковеза шагнул к проводу и, когда встретились взглядами, лишь досадно щелкнул языком. В ответ на это Астапов выразительно развел руками: «Понимаю, сочувствую, но придется не трогать эту гадюку. Приказ есть приказ. Иначе отряд будет обнаружен противником».
Часа через два разведчики и комиссар отряда Клинцов вышли на опушку леса. Замаскировавшись в зарослях крушины, стали рассматривать в бинокли шоссе, по которому, подвывая на ухабах, тащился крытый даймлер. Справа виднелось село Борки. Не доезжая до него метров сто, грузовик остановился. К нему подскочили трое в серо-зеленой форме: проверка документов. Минуту спустя даймлер скрылся между крайними избами. Затих рокот мотора, но почти сразу же со стороны села донеслось суетливое тарахтенье мотоцикла. Клинцов, не отрывая бинокля от глаз, спросил:
— Спины постовых фрицев — не горбатенькие ли? Не разглядел?
— Точно, товарищ комиссар, — отозвался Астапов. — За плечами ранцы… Стандарт, из телячьей кожи.
— И стало быть?..
— Не похоже на тыловую часть.
— Послезавтра двадцать четвертая годовщина Октября, — тихонько, будто только самому себе, напомнил Астапов и поправил на шее сбившуюся повязку.
Клинцов успел заметить: фурункулы младшего лейтенанта, мешающие поворачивать голову, все еще не зажили. Выходит, из лучших разведчиков отряда здоров лишь Иван Ковеза.
Тот подхватил:
— Три постовых фрицика при въезде. А у нас — четыре бесшумки.
— Этих серо-зеленых наверняка страхуют оставшиеся в укрытии за бревенчатым сараем.
— Як смеркнет, языка приволоку, — пообещал Ковеза.
— Хорошо бы, да немцы всполошатся, — ответил Клинцов. — Лучше вернемся, доложим командиру. Там видно будет.
Он приказал Ковезе продолжать наблюдение за селом пока не стемнеет, а сам с Астаповым ушел к стоянке отряда, где отдыхал Шеврук, недавно раненный в ногу.
Ковеза вернулся, когда бойцы ужинали. Доложил, что немцев в селе много, а неподалеку от пруда оборудован наблюдательный пункт с пулеметом.
— Село Борки примыкает к лесу, — доложил комиссар Шевруку. — Завтра еще раз все уточним. Но уже теперь ясно: если ударить внезапно, крепко можно пощипать немцев. Учти, труднее всего придется нашим группам прикрытия. Тебе целесообразно возглавить ту, которая обеспечит отряду путь отхода.
— Чтобы швидче! Недалеко чтобы драпануть было, — усмехнулся Шеврук, — слегка уязвленный. — Побачимо! Сам и присмотрюсь. Нечего ждать до завтра.
Шеврук и Ковеза отправились в разведку. Ковеза вторично. Выбравшись на опушку, начали приближаться к селу ползком. Выстрел ракетницы вспорол темно-серую мглу низкого осеннего неба. Блики рассыпающегося света скользнули по траве.
— Близенько фрицы, — пробормотал Ковеза, но продолжал ползти.
Когда впереди стала отчетливо видна верхушка мельницы, он замер. Шеврук поднес к глазам светящийся циферблат наручных часов: почти полночь.
Над мельницей взмыла очередная ракета.
— Сдается, стреляют с интервалом в десять минут, — шепнул Шеврук.
— Кажуть, що не сплять. Эх! Коло млына… — Разведчик осекся.
От села вдруг явственно донесся топот подкованных сапог по дощатому настилу. Наверно, кто-то шел по крыльцу. Следом отрывистые возгласы команды. И все стихло. Слышался только шелест дождя.
Очередной хлопок ракетницы. И снова немецкая речь. Но теперь вперемешку с женскими голосами.
— Обыски, — определил командир. — Почему же ночью? Сдается, разыскивают кого-то.
Командир и разведчик отползли к опушке и замаскировались в ельнике. Когда начало рассветать, они увидели неподалеку полуразрушенный сарай.
— Чуешь, командир? — оживился Ковеза. — Кажись, в сарае никого нема. А пункт для наблюдения подходящий. Разреши, командир, осмотрюсь я там! Покуда фрицы дозорные зенки протирают.
Шеврук кивнул:
— Только не задерживайся. Прикинь: чем эта развалюха пригодится?
— Есть, не задерживаться! — И разведчик пополз к сараю.
«И похоже, Ковеза не ошибся: никого там нет, — размышлял Шеврук. — Кого заставишь торчать в этой развалюхе под готовыми обрушиться перекрытиями?»
Прошло минут двадцать. Почти рассвело. Шеврук перебрался подальше в поросль ивняка, где надежно укрылся от самых зорких немцев на мельнице. Ковезы все еще нет. Однако со стороны сарая — ни малейшего звука.
Шеврук взглянул на часы. Уже семь. Что же произошло? Что предпринять? Неужто Ковеза попался в засаду? Тогда немцы спешно принимают меры. Может быть, уже подняты все взводы по боевой тревоге. Еще какие-то минуты — и патрули автоматчиков зашныряют вдоль кромки леса. А дальше? Все зависит от того, каковы силы противника в этом селе… Окажись тут одна рота — ограничатся усилением караулов. Но если батальон — тогда выделят солидные силы, чтобы нащупать стоянку отряда и зажать в клещи советских воинов.
Шеврук напрягает зрение. Впереди что-то мелькнуло. Еще и еще! Похоже, подкрадываются ползком немцы. Сколько?.. Пока видны только двое. Надо полагать, остальные — на большем отдалении.
Первый — в фуражке с высокой тульей (все гитлеровское офицерье щеголяет в этаких). А второй — с непокрытой головой, видна его густая, курчавая шевелюра. Да это же Ковеза! А рядом Астапов в форме немецкого капитана.
Когда разведчики подползли к зарослям ивняка, Шеврук приподнялся им навстречу. Принял рапорт Ковезы.
Оказалось, тот наткнулся в сарае на семилетнего мальчика. Парнишка бежал из села ночью, когда немцы схватили его деда, который прятал раненого красноармейца.
— Вот такие дела, — Ковеза стряхнул присохшие ошметки глины со стеганки. — Должен я был выручить хлопчика. Доставить на лесной шлях. Должен!
Астапов доложил, что он, по совету комиссара, уточнял, куда тянется обнаруженный в лесу телефонный провод. По-видимому, к отдаленному гарнизону. Сообщил, что поблизости есть лесная деревушка. Она называется Улейка.
— Найди в ней мужичка, который не побоится сходить в село под предлогом навестить родных или знакомых. Пусть уточнит, сколько там немцев, — приказал Шеврук.
— Найдем такого! — заверил Астапов.
12
— Бульбочки сейчас рубанем и отоспимся, — сказал Шеврук Ковезе. Потом повернулся к Клинцову: — Вернется Алексаев — растолкайте меня!
— Меня тоже, — добавил Ковеза.
…Когда они управились с еще теплой картошкой, Ковеза последовал было за командиром в наскоро сооруженный шалаш, но Клинцов остановил разведчика. Комиссар долго расспрашивал его: с какой стороны лучше атаковать село, какая у гитлеровцев охрана? Выяснил, что единственная непростреливаемая полоска — вдоль земляной гати у пруда. Только надо идти согнувшись.
— Если та гать не ниже полутора метров, — заметил Клинцов. — Уверен?..
— Хиба ж я не казав? Уверен, уверен!.. Як и в том, що не мерин.
— Ладно. Ступай спать, — приказал Клинцов.
Он понимал, что главное — быстро и без шума ликвидировать дозорных на вышке. Это станет залогом успеха. Потом надо подавить огневые точки. Не удастся — это лишь полбеды. Группа, которую возглавит Шеврук, не позволит немцам вести прицельный огонь по ударной части отряда, которая ворвется в село… Земляная гать — неоценимое прикрытие, но все же лишь временное.
Да, залог успеха — в меткости снайперов с их бесшумками. А если хоть один из дозорных на вышке окажется лишь легкораненым и сразу поднимет тревогу? Тогда обстановка подскажет. Пока незачем голову ломать. А группе Шеврука предстоит обойти не только пруд, но и дальнюю окраину села, перекрыть дорогу на Улейку, откуда следует ожидать вражеских подкреплений. Необходим еще заслон и при въезде в село с накатанной дороги через поле. В общем, есть о чем подумать…
Командиру довелось поспать минут двадцать, а Ковезе — и того меньше. Хотя лейтенант Алексаев был в отлучке, разведотделение бдительно несло службу. Цепи автоматчиков противника, прочесывающих окрестности села Борки, были замечены вовремя: в полутора километрах от стоянки отряда. Их общая численность не превышала сил отряда. Но пока неизвестно, сколько в селе немцев, и принимать бой неразумно. Гитлеровцы тотчас могли получить подкрепление. Поэтому Клинцов приказал бесшумно сняться и отойти на три километра к юго-западу от Борок.
Через четыре минуты на месте стоянки остались только залитые водой кострища. Были унесены даже жерди от шалашей. Придут сюда немцы — обнаружат: какие-то шедшие лесом люди варили скудные харчи.
Надо полагать, окруженцы: вот и картофельные очистки остались; но ни одной консервной банки.
Часа через полтора немцы, прочесав лесную полосу шириной в два-три километра, отошли в село.
Ковеза в условленном месте поджидал Астапова. Тот явился незадолго до темноты, сообщил, что в Улейках найден старичок, согласившийся побывать в Борках. Велел передать командиру, что подождет его возвращения. В это время они заметили в лесу прогуливающегося фрица. Решил, видно, совершить вечерний моцион.
Взяв «языка», Астапов и Ковеза обследовали его солдатскую книжку, допросили. Оказывается, в Борках размещается маршевая рота вермахта, прибывшая из Ливии. Ей предоставили пять дней отдыха. Ковеза отправился в отряд с донесением.
В одиннадцать утра командир и комиссар, очень довольные данными разведки, подъехали к одному из своих наблюдательных постов. Здесь они узнали, что гитлеровцы повесили семидесятилетнего пчеловода Никона Матвеича за помощь красноармейцу.
— Сегодня третий день их отдыха, — заметил Шевчук.
— Только бы не решили пораньше смотаться, — добавил Клинцов.
День седьмого ноября прошел в чистке и проверке оружия. Шеврук с группой разведчиков обследовал намеченный путь отхода после боя. А вечером он отобрал самых опытных автоматчиков и приказал залечь в засаду на дороге в Улейку. Это на всякий случай, если маршевики сократят свой пятидневный отдых в Борках и выступят ночью. Враг не должен уйти безнаказанным.
Вечером седьмого ноября Шеврук и Клинцов отбирали добровольцев в группу ночного удара на случай (весьма нередкий), если офицеры маршевой роты гитлеровцев намеренно распустили слух о пятисуточной стоянке в Борках; если на самом-то деле рота возобновит свой марш этой же ночью или под утро. Не исключена также вероятность и внезапного приказа роте сократить отдых и спешить на пополнение одной из дивизий, рвущихся к Москве.
Предусматривая такие неожиданности, командир и комиссар из нескольких десятков добровольцев избрали только самых опытных в ночных боях автоматчиков, дюжину всего-навсего. К ним подключили трех пулеметчиков с ручными МГ. Зато обладатели двух ППД получили по четыре диска патронов.
Выступи маршевая рота ночью для очередного многокилометрового броска — и небольшая группа советских бойцов, бесшумно занявшая выжидательные позиции возле дороги от Улеек, сумеет использовать выгоднейшие минуты, чтобы фашисты не смогли быстро развернуться в боевую цепь. Группа, руководимая лейтенантом Барундуковым, откроет с фланга внезапный огонь такой плотности, что можно надеяться: маршевая рота потеряет до половины личного состава.
Напутствуя группу, комиссар сказал:
— Мы теперь двигаемся на восток, к Москве, и фашистские маршевики — туда же. Вроде бы попутчики. Так уж постарайтесь поуменьшить их количество. Чтобы наш лесной воздух почище стал! Старшим назначаю Барундукова.
Группа бесшумно скрылась в чащобе. А через час опять ушел командир с двумя разведчиками. К той же разрушенной мельнице.
Если немецкие дозорные покинут свой пост — это явится признаком предстоящего выхода гитлеровцев из Борок. И тогда Шеврук пошлет связного с приказом к Барундукову: заблаговременно перебраться с выжидательных позиций на исходные.
13
Однако немецкая маршевая рота в эту ночь не собиралась уходить из Борок. Ей действительно сократили время отдыха: с пяти суток — на четверо… Но командир роты хауптман Зилле, получив под вечер этот приказ по радио, счел за благо не оглашать его покамест, а прежде всего, с воспитательной целью, загодя приучать подчиненных к неожиданностям, которые могут обрушиться на их головы во фронтовых условиях, объявить об экстренном выступлении на восток завтра в пять вечера. На сборы предоставить только десять минут и наложить строгие взыскания на неуспевших снарядиться по всем правилам…
А пока в бездействующей сельской лавочке стыли на полках и на прилавках ободранные туши двух коров и семерых овец — последнее, что смогли награбить в Борках для сытного обеда солдаты вермахта. Хранитель ротного продовольствия служил одновременно и караульным.
На маленькой площади перед лавочкой чернела виселица в виде неровной буквы П. Ее несимметричность и даже уродливость объяснялись поспешностью сооружения. Один опорный столбик, в пол-аршина обхватом и глубоко врытый, ранее служил для коновязи приезжавших сюда подвод; а вторая опора была составной из двух толстых жердей, туго прикрученных одна к другой прочнейшей проволокой; для верхней же перекладины была использована отбитая от потолка лавочной кладовой балка с массивным, уже давно заржавевшим железным крючком.
После ранних морозцев снова потеплело в эту ночь. И чуть ли не поминутно менялся ветер. Восемнадцатилетнего постового Хорста Кюна, с раннего детства страдавшего тонзиллитом и поэтому лишь месяц назад мобилизованного, терзало поскрипыванье виселицы. Кюн по праву гордился своей музыкальностью. Поскрипыванье виселицы резало и оскорбляло его великолепный слух. Однако мало-помалу в этом стоне безжалостно перегруженных жердей Кюну стали слышаться человеческие стоны. Все неотвязнее, все томительнее появлялись нелепые мысли, что в едва заметно покачивающемся казненном еще теплится остаток жизни, что старик продолжает страдать и молит прекратить его муки.
Ах как не повезло Хорсту Кюну! Довелось ему караулить в самое глухое, в самое безотрадное время. Предыдущий караульный торчал здесь до половины двенадцатого. До последних минут своих собратьев развлекали веселые голоса, еще не улегшихся в постели… Да и последующему придется полегче, потому что с двенадцати ночи дозорные на мельничной вышке примутся пускать ракеты… Вчера-то светили ракетами с девяти вечера, и хауптман заподозрил: а не от трусости ли? Поэтому сегодняшним дозорным разрешено страховаться только с полуночи. Не повезло Кюну.
Ветер менялся. Когда задувало с севера, когда широкое строение лавочки загораживало виселицу от ветра, вдруг воцарялась тишина. Кюну казалась она еще нестерпимее. Зловещая догадка стучалась в его рассудок: казненный замолк лишь на секунды, сейчас он снова застонет.
Что-то подтолкнуло Хорста Кюна. С автоматом наперевес, он осторожно сошел с шатких ступенек. Шагнул, озираясь, к виселице, чернеющей в темно-серой мгле. Как скользко! Ноги затекли, мозжат. И Кюн покачнулся. Хлюпнула оттаявшая грязь.
Кюн осторожненько переминается с ноги на ногу. Сначала робко, но мало-помалу все решительнее.
Скрип-скрип! Это изнемогает шаткая перегруженная виселица.
Скрип-скрип-скрип!.. Это — отсыревшие, прогибающиеся доски крылечка.
Наконец-то полночь.
Солдат Кюн отбыл уже половину своей смены. Тяжко выстаивать неподвижно. Все же вторая половина будет куда легче. Дозорные вблизи опушки опасного леса вот-вот начнут себя страховать от неожиданностей.
14
Разведчики долго и напряженно прислушивались к отрывистым и невнятным восклицаниям дозорных на вышке. Настораживало: почему не пускают в ход ракетницы? Не снимают ли посты, не собираются ли тронуться втихую? Вчера дозорные уже с девяти вечера страховались, а нынче? Неужели запас истощился? Беспокойство нарастало. Командир и разведчики постепенно подбирались все ближе к вышке, чтоб улавливать и приглушенный говор.
И когда, громко шипя и потрескивая, взмыла наконец долгожданная ракета; когда, не дав отгореть ее рассыпающимся блесткам, взвилась и другая, все трое вздохнули облегченно. Противник на месте. Теперь — отползать подальше. Менялся ветер и суматошно метались отсветы и тени в неровно колеблемых кустарниках. И вдруг затихающее шипенье россыпи огоньков заглушила резкая стукотня ручного МГ с вышки. Темноту прорезали светящиеся нити… В сторону дороги к Улейке! А значит, в сторону притаившейся группы Барундукова!
Командир и разведчики замерли. Тотчас и над их головами рассеялся веер светящихся трасс. И трое наших опять, уже второй раз за немногие минуты, порадовались: наугад стреляют, сволочи, нервничают.
— Быстрей за высокие ели, — поторопил Шеврук. — Кабы не зацепили ненароком.
Восьмое ноября на исходе. Белесо-дымная мгла заволокла все небо, и дальние перелески стали едва различимы. Стушевалась еще недавно отчетливо черневшая колея на шоссе.
Клинышек елового молодняка в полусотне метров. Здесь расположились в засаде Нечаев и только что принятый в отряд бухгалтер Лепилов. Лепилов рыхловат, оброс соломенно-пегой бородой.
— Глянь на свой хронометр, — Лепилов пошевелил плечами, чтобы хоть немножко согреться.
— Я только что смотрел, — напомнил Нечаев. Он плотнее запахнул у горла товарища воротник тулупа. — Впрочем, изволь… Было без двадцати двух четыре, теперь — без восемнадцати.
— Вот проклятье! Каждая следующая минута ползет все медленнее! Я думал — уже без пяти.
Молчание. Лепилов зябко передернул плечами. Нечаев стал протирать платком затвор шмайсера.
— А часишки-то твои… дамские ведь! Явно! — снова заговорил Лепилов. — А?..
Нечаев не выносил пустой болтовни. Но чувствуя, что напарник его изнемог от ожидания, ответил:
— Они трофейные. Как автомат немецкий мой, как твой карабин, как этот бинокль и как…
Не дав товарищу договорить, Лепилов снял бинокль с шеи и приник глазами к окулярам.
— По-прежнему никакого движения, — пробормотал он. — Вполне можно было поразмяться до четырех. Боюсь, руки затекут. Как тогда ловить на мушку? А, Нечаев?..
— Приказано затаиться. Не двигаться. Неужто не соображаешь? Если ты зыркаешь в бинокль, то немцы тоже не спят!.. Насчет прочего — не беспокойся. Если промажешь, то я подстрахую.
— Тогда на кой нас вдвоем снарядили сюда? Коли ты один справишься? На кой?
— А ты подумай. Может, и смекнешь.
Помолчали. Лепилов перевалился на бок. Принялся сгибать и разгибать ноги.
— А что за люди командир и комиссар? — начал он опять. — А?..
— Ты же был вчера в Улейке, когда они всех наших поздравили с двадцать четвертой годовщиной. Слышал и видел. Еще тебе надо?
— Простачка строишь? Я ж не внешностью интересуюсь.
— А души, видимо, ты разгадал. Раз в отряд попросился.
— Учти, я вдоль и поперек исходил здешние места, — сменил тему Лепилов. — Безошибочно провожу тебя к условленному месту сбора. Не сомневайся! — И добавил: — Пока доберемся туда — хлебнем лиха. Нам отсюдова дальше всех.
— Зато самое легкое задание досталось. Другим не из укрытия стрелять, а идти в атаку. Лезть напролом!.. Преимущество внезапности лишь на первую минутку. Группе прикрытия, которую возглавил командир, еще тяжелее придется. Многих, возможно, не досчитаемся, — и, толкнув Лепилова в бок, приказал: — Дай-ка оптику! Живо!
Тот, будто не расслышав, судорожным рывком прижал окуляры к глазам. В следующий момент бинокль был отброшен, а в руках Лепилова оказался карабин. Лязг затвора — патрон в стволе.
— Единственный шофер в грузовике! Слышь, Нечаев, — один только! Видел я. При выезде часовые подзадержали, борт откинули… Да и бачок бензиновый — туда, легким махом! Ясное дело, порожняя машина… Слышь! Этот шофер — наша добыча!
Нечаев, который и сам разглядел шофера в приближающемся даймлере с открытым кузовом, скользнул взглядом по циферблату часов.
— Открывать огонь можем только после четырех!.. — напомнил он. — Таков приказ. А сейчас без шести минут.
Лепилов ошарашенно взглянул на товарища, не зная что сказать.
Грузовик приближался. Утробное урчанье дизелей все нестерпимее резало слух. Нечаев уже не смотрел на часы, но чутье подсказывало, что сейчас — без пяти… А даймлер миновал уже почти полпути до участка дороги напротив засады. Когда поравняется с двумя бойцами, до предписанного срока недостанет четырех минут. Значит, обязаны пропустить немца, выполнить приказ.
Равномерно нараставший рокот сменился надсадным воем. Даймлер остановился, шофер вылез из кабины.
— Теперь, гад, не уйдешь! — воскликнул Лепилов. — Скаты за три минуты не сменишь.
Немец откинул борт, извлек еловый лапник из кузова и проворно подложил под задние колеса. Все за какие-то полминуты! Выбоину шофер не разглядел — и только!.. Вот он уже в кабине, поддал газу. Взревел мотор, грузовик рванулся вперед и покатил.
— Нечай!.. — крикнул Лепилов. — Ежели дашь уйти немцу — пеняй на себя.
— Я выполняю приказ!.. И тебя заставлю выполнить. Из нас обоих я назначен старшим.
Нарастающий рокот дизелей почти заглушил голос Нечаева. Но Лепилов его понял или угадал.
— Пособник ты, сволочь!.. Я сам управлюсь!
Лепилов навел карабин на поблескивающее ветровое стекло. Немецкий грузовик словно разбухал на глазах. Уже меньше километра до него.
Нечаев метнул взгляд на стрелки часов.
— Лепилов, не балуй! Внезапность нужна нашим! Иначе провалим все дело! Приказ есть!..
Что-то дрогнуло в душе Лепилова. Теперь он тоже просил, почти умолял. И проглатывал окончания слов от лихорадочной спешки:
— Я с единого разу! Не робь, Нечай! Немцы на одиночный бах — ноль внимания.
Грохнул выстрел. Грузовик прибавил скорость.
— Упустили! — давясь подступившими к самому горлу ругательствами, прохрипел Лепилов.
«Раз даймлер укатил — немецкие постовые, может, и не подняли тревогу от одиночного выстрела», — подумал Нечаев. Но все же насторожился. Сейчас, наверно, обшаривают «цейсами» шоссе и ближайшие перелески… Лепилов, пожалуй, способен опять садануть. Попробуй за таким уследить.
Раздался хриплый, растерянный голос напарника:
— Нечай, слышь? Уже перевалило за четыре! Цельных три минуты пятого. Наши не начинают. Неужто отменили?.. Нам-то что делать?..
Теперь они лежали бок о бок.
— Видать, заметили немцы… Нашим пришлось драпануть, — предположил Лепилов. — Оторваться от противника, деликатно выражаясь. Единственный шансик угодил в наши руки, так упустили… Наши-то как пить дать уже далеко.
— Обнаружь немцы наших — не пожалели бы патронов! Значит, иное что-то.
— Какое там иное?!
— Может, из-за твоего баханья и перестроились на ходу?.. Выстрел насторожил противника. А раз немцы начеку — не попрешь на них сразу-то… Вот наши и выжидают, когда поуспокоятся, — и Нечаев снова потянулся к биноклю.
15
Вороны, вспугнутые гулом немецкого самолета, который пронесся над селом, опять уселись на макушки лиственниц. Хриплое карканье мешало младшему лейтенанту Астапову прислушиваться к неровному, с перебоями, тарахтенью мотоцикла. Его вновь и вновь пытались завести. Астапов уже четверть часа назад занял отведенную ему позицию на склоне заросшего оврага. Он очистил свою форму хауптмана от налипшей глины и сейчас, поглядывая из укрытия на трех дозорных, ютящихся на тесной мельничной вышке, наводил блеск на шмайсер.
Уже десять минут пятого, а комиссар все еще не подал сигнала. Он выжидал, когда этот единственный связной мотоцикл маршевой роты покинет село. Тогда гитлеровцам не просто будет вызвать подмогу. А телефон не поможет: после первых выстрелов бойцы перережут провод.
Но долго медлить с атакой нельзя. Надвигающийся туман усложнит проведение операции. Трудно будет вести прицельную стрельбу. Придется положиться на гранаты, а от них могут пострадать и жители. Все это хорошо понимал Клинцов.
Подполз Ковеза и доложил, что обследовал полосу леса за спиной ударной группы и за прикрытием. Вплоть до шоссе на Улейку. Немецких патрулей не обнаружено.
— Жду еще… — начал было комиссар и осекся: совсем охрип за долгие минуты молчания. Вытянул блокнот из планшета, нацарапал на обложке крупными буквами:
ПЕРЕДАЙ АСТАПОВУ: ОГРАНИЧИВАЮ ЕГО ЗАДАЧУ. ПУСКАЙ ЗАЙМЕТ БРЕВЕНЧАТЫЙ СРУБ НАИСКОСЬ ОТ ЛАВКИ И ВЕДЕТ ОГОНЬ ТОЛЬКО ИЗ УКРЫТИЯ, КАБЫ НАШИ СГОРЯЧА НЕ СТРЕЛЬНУЛИ ПО ЕГО НЕМЕЦКОМУ МУНДИРУ.
Ковеза прочел, скользнул взглядом по напряженным взглядам снайперов и попрощался с ними кивком. Слева между голых побегов ольшаника показалась и тотчас исчезла его светлая кубанка.
Клинцов прикинул: через четыре или пять минут разведчик доползет до оврага, поднимется Астапов… Дозорных на вышке, конечно, насторожит незнакомый офицер вермахта, задами пробирающийся в село. Но сразу стрелять не решатся. Вдруг это и вправду капитан вермахта?.. Скорее всего окликнут. Значит, приподнимутся на вышке. Подставят себя. Покамест же над низкими дощатыми стенками видны лишь головы да плечи, мала мишень… Если Астапов не отвлечет внимания дозорных, вряд ли удастся обезвредить их первыми выстрелами.
— Надеюсь, никто не забыл свою цель? — громким шепотом спросил Клинцов и добавил: — Не торопиться!
Он глубоко вдохнул сырой, горьковатый воздух, чтобы команда «Пли» прозвучала внятно, чтобы расслышали ее также и те, что за спиной. Но команды не последовало.
Кажется, не зря отложили атаку. Да, не зря. Связист и не думает уезжать, а просто еще раз проверяет машину. Впрочем, сейчас все выяснится. Ждать осталось недолго. Треск усилился. Мотоциклист помчался налево. Значит, через поле!..
Клинцов прицелился. Он не глядел на снайперов: они знали свое дело туго.
— Пли! — скомандовал он и плавно нажал на спусковой крючок.
Через мгновение он пружинисто оттолкнулся от земли и крикнул:
— За мной!..
Вот они, минуты, когда стираются грани между командиром и бойцами. Все охвачены общим порывом, и вместе с тем каждый выполняет свою задачу.
Уже не деревья кругом, а одни лишь кустарники. На мельничной вышке — все немо, за земляной гатью — рябая поверхность пруда. От воды потянуло стылым ветром. В горле пересохло…
— Пригнуться! Пригнуться!
Клинцов бросает взгляд налево, где только что разорвалась мина. Она угодила в сарай. От него летят стропила. Дружно зарокотали «дегтяри», застучал немецкий крупнокалиберный, залились автоматы.
Группа прикрытия во главе с Шевруком ударила по секрету немцев в лозняке…
— Вперед!.. Не задерживайтесь!.. — крикнул раненый Лева.
Бойцы преодолели зону огня и ворвались в село.
16
Нечаев вытащил финку и начал ковырять подмерзшую землю.
— Сделаем окопчик, — сказал он Лепилову. — Сейчас уже нелегко нас из села разглядеть. Можно копошиться.
— Зачем? Повторяю тебе, смотались наши. Мы-то добросовестно дрогли тут, и все впустую… Коли не поспеем своих догнать — пришьют дезертирство.
— Ступай!.. А я подожду.
— А приказ? — ехидно прищурился Лепилов.
— Комиссар сказал: после четырех двадцати разрешаю снять засаду. Понимаешь? Отход разрешается, но не предписан! А ты можешь идти. Не держу. И хронометр забирай!
Лепилов снова приподнял часы.
— Еще минута… Нет уж, я — в точности по приказу.
И, переждав минуту с часами в руках, Лепилов начал отползать.
Нечаев не обернулся. Между тем его напарник, отдалясь шагов на тридцать, остановился.
— Ладно, Нечай… Так и быть. Обожду еще малость.
Нечаеву стало слышно его брюзжание. Да не до того! Много ли нароешь финкой? Приходилось вдавливать пальцы в тугую землю, загребать и отшвыривать. Нечаев был уверен, что боевая операция всего лишь отсрочена. Фашистам еще придется послать за подмогой. Только б успеть!..
Ветер унялся. Нечаев и Лепилов слышали, как снова завели мотоцикл. И сейчас, еще напряженнее, чем стрельбу, ждали: вот-вот вымахнет из села. Наконец зачернело на дороге пятнышко, разбухающее, все злее режущее слух.
— Нечай! — Лепилов схватил карабин. — Еще в коляске двое! Трое немцев! И с ручным пулеметом! Разрывными врежут — и кишки вон! Уже двадцать три пятого! Зачем же сверх приказу?
— Утекай, хлюпик! — крикнул Нечаев. Он уже не сдерживал голос: приближающиеся немцы не услышат из-за тарахтенья мотора.
Странно, грузовик-то побыстрее катил… А может, старенький мотоцикл, поизносившийся? Подскакивает и переваливается на колдобинах. Истошно взревывая, пугливо объезжает выбоину, где недавно забуксовал грузовик.
И сейчас Нечаев уже разглядел: ручного пулемета нет! Лепилову со страху померещилось. У того, кто за рулем, на груди десантный автомат. У сидящих в прицепе — шмайсеры… Держат их наготове, стволами вперед.
Захотелось ободрить напарника. Главное — предупредить, чтобы не бахнул раньше времени… Так всех новичков предупреждают в засадах…
Вспомнилось, как разведчики замаскировались на опушке сосняка в полусотне шагов от изгиба автомагистрали. И повеселевший, как всегда перед рискованным делом, Алексаев торопливо наставлял:
— Машины перед поворотом сбавляют скорость, и легче прошить очередями шоферов первых машин автоколонны, чтобы головные грузовики — прямехонько в кювет.
Однако немцы понимают, сколь выгодно это место для засады, и, наверно, пальнут из кузова страхующими очередями… Мол, разглядели вас, не надейтесь застать врасплох солдат вермахта! Не отвечайте на провоцирующий огонь!
С ускорившего ход мотоцикла хлестанули шмайсеры. Мелкие щепки посыпались на вспотевшую шею Нечаева. Он вжался в свой недоделанный окопчик. Ждал, когда немцы подъедут ближе.
Мотоцикл уже в двухстах метрах. Пора!.. По тому, кто за рулем! Ага, заменяют кассеты… Самая пора.
Нечаев уже не старался остаться незамеченным. Эх, пробить бы мотор, а там — будь, что будет… А мотоцикл подскакивает на колдобинах. Теперь — уже в сотне метров. И Нечаев пустил длинную очередь. Патронов не жалко, только бы попасть!..
Лязгнул затвор, отскочил назад. Истрачена кассета. Скорее новую… Нечаев помнил, что за секунды, необходимые для перезарядки, может, и его самого «прошьют». И все-таки какое-то время смотрел на врагов неподвижно, как одеревенелый.
Передний немец — по-прежнему за рулем! И мотоцикл, бодренько подскакивая да подвывая, катит себе. «Неужели промазал?» Нечаев с отчаянием снова вжался в землю, ладонью вбил запасную кассету. Сквозь остервенелую трескотню автоматов — гулкий одиночный выстрел.
— Бей! Лепилов! Бей!..
Из коляски вывалился немец! А сосед, уже с двумя шмайсерами подмышкой, втягивает его обратно… Убитого или раненого?
Мотоцикл поравнялся. Нечаев резанул очередью на всю кассету. Неужели снова промазал? Нет! Мотоцикл удалялся, но гораздо медленнее, чем две минуты назад. Отстреливался лишь один немец.
В Борках раздались гулкие взрывы. Гранаты? Нет, скорее, мины.
Бахнуло над самой головой Нечаева. Показалось, будто ударила в березу разрывная пуля. Мотоцикл удалялся медленно и не подскакивал — дорога ровнее стала… Нечаев взял на мушку голубовато-пульсирующий огонек мотоцикла… Дал очередь.
Сзади послышался вскрик. Это ранило Лепилова.
— Скорее!.. — торопил Нечаев.
А грузный Лепилов уже задыхался — и от ходьбы, и оттого, что говорил не переставая. Он был рад, что ранение оказалось пустяковым. Пуля слегка задела правую руку.
— Уважаю тебя, Нечай. Ты прав насчет отряда, — частил он. — Не драпанули, не отступили! Тебе легче было судить: уже два месяца в отряде. А я-то лишь со вчерашнего дня… Но тоже пособить успел. И вот он, алый знак доблести (так Лепилов назвал ранение). Потрепав простреленную руку, продолжил:
— Желаю всегда рядом с тобой сражаться! Бой в Борках идет, а коли подоспеем — и мы примем участие!
Нечаев отвернулся, чтобы скрыть улыбку. Он понимал состояние Лепилова. Тот гордился своим ранением и, по-видимому, считал, что стал уже настоящим бойцом.
В действительности же Лепилов наибольшую пользу принес позавчера: довольно толково — прямо перед глазами начальника разведки спецотряда лейтенанта Алексаева — по памяти нацарапал план проделанных немцами просек. Появление же в Улейках на следующее утро Шеврука и Клинцова, а вечером и Астапова снова круто повернуло воинскую судьбу Лепилова. Он сообразил, что все четверо подтянутых, остроглазых кадровых военных — старшие в едином, отлично организованном боевом братстве. Лепилов поклялся Астапову, что оправдает доверие, если тот и еще более ответственные командиры, которых он видел и слушал, согласятся принять его.
И со вчерашнего вечера Лепилов был одержим стремлением поскорее доказать обретенной боевой семье, что он — ничем не хуже других воюющих, и не менее храбр, и не менее губителен для врага. Столь сильно хотел он доказать свою храбрость, столь добросовестно заставлял себя сделаться храбрым, что и впрямь становился немножко храбрее. Показное и напускное тесно переплетались и почти сливались с искренним душевным порывом.
До прихода в отряд спецназначения Лепилов и вправду немножко помогал местному партизанскому отряду, но все время думалось ему, что его недостаточно ценят и не дают проявиться его возможностям во всей полноте. Райкомовцы и другие здешние видные партийцы погибли еще летом при защите Смоленска, вот и вышло: сердцевину сплотившихся немного позже в маленький отряд составили рядовые колхозники… Поэтому осевший в Улейках окруженец Лепилов не сомневался, что его законнейшее место только в штабе отряда.
Первую боевую операцию (скромную засаду на трех немецких интендантов, угнавших коров из Улеек) провели без всякого командира и лишь с единственной боевой винтовкой успешно, невзирая на то что прочие участники засады были вооружены только дедовскими дробовиками. Боевая винтовка же принадлежала ефрейтору Лепилову. Поэтому, когда отбитые коровы были возвращены в свои хлева, когда отряд, отойдя в лесок, открытым голосованием избрал конюха своим командиром, однорукого же секретаря сельсовета — комиссаром, Лепилову представилось это попранием основ… Его плохо скрытое недоумение перешло в разочарование, когда новоиспеченные командир и комиссар отряда решили: винтовку передать леснику-разведчику.
Лепилов не выдержал и раскричался. Потом принялся взывать к чувству справедливости рядовых бойцов отряда. Конечно же, никто не поддержал его: людям, издавна знавшим друг друга, были неприятны претензии человека пришлого… Наконец эти, весьма неравные, конфликтующие стороны договорились: столичный товарищ Лепилов, оставаясь в Улейках, возглавит партизанский перевалочный пункт. Многоопытный секретарь сельсовета, лишившийся руки еще в гражданскую войну, особенно напирал на словцо «возглавит»: этим он как бы отдавал дань прозрачным намекам Лепилова на свою неоспоримо большую ценность, чем все прочие люди формирующегося отряда. Лепилову торжественно был вручен наган со сбитой мушкой и пятью патронами в барабане.
В это время ударная группа забросала гранатами просторный дом сельсовета, где размещались офицеры маршевой роты.
Успех атаки был определен маневром Астапова, переодетого в форму капитана вермахта. Первой же очередью он «срезал» патрульных, а затем засел с Ковезой в бревенчатом срубе. Разведчики отвлекли внимание врага и дали возможность ударной группе прорваться к центру деревни.
За несколько секунд до того как наши бойцы подоспели к осажденному срубу, Астапова убило разрывной пулей, а Ковезу тяжело ранило.
Отряду достались трофеи: один крупнокалиберный МГ, а также ручные МГ и шмайсеры с большим количеством патронов. Были захвачены также карты Подмосковья и много документов. Среди них был и приказ соединиться с маршевой ротой, только что прибывшей в село Берники (4 км по шоссе), с тем чтобы утром 9 ноября совместными силами прочесать лес на участке Борки — Улейка. Здесь воздушная разведка немцев обнаружила партизан.
17
Смертельно раненный Ковеза, стиснув зубы, метался на плащ-палатке.
— Ваня, бинты не сдерни! — беспокоился Клинцов. — Тихо лежи. Лучше стони, ругайся — легче будет.
Из-за нестерпимых болей к разведчику редко возвращалось сознание. Не замечал он, что в шалаше лишь один комиссар. В полубреду шептал:
— Хлопцы!.. Дайте же мой парабел!.. Или — сами… Ридны хлопцы, мочи нема. Хиба ж я не заробыв?.. Як огнем пече. И не можу бильше. Вмерты хочу…
Клинцов наклонился над Ковезой, поправил под плащ-палаткой сбившийся лапник, вспомнил, что военфельдшер предупредил: «раненый проживет не более полутора часов. У него прострелена печень».
Однако уже скоро займется рассвет, а Ковеза жив. Похоже, военфельдшер ошибся. Хорошо бы!
В полудреме Клинцов уловил очередную смену часовых. Слабо донеслось всхрапывание трофейного скакуна. Комиссару подумалось: на рассвете Увалин снова осмотрит Ковезу и откажется от безнадежного диагноза.
С этими мыслями Клинцов уснул.
Проснулся он от смутного чувства: что-то вдруг изменилось… Осторожно привстал и вздрогнул от напряженного встречного взгляда. В черных впадинах влажно блеснули глаза Ковезы.
— Слухай, комиссаре… — Ковеза теребил рукой ватник, которым его укрыли после укола морфия. — Выполни просьбу!..
Клинцов помедлил с ответом, побоялся вчерашней просьбы товарища — вернуть ему парабеллум, однако сказал:
— Выполню.
— Мати моей ридной напиши…
— Ваня, друг… Ты держись, не поддавайся! Не будешь обузой. Партизаны помогут, устроят на лечение!..
— Выполни просьбу, — требовал умирающий.
— Выполню, клянусь!.. Убьют если меня, командир отправит письмо. Погибнет и командир — Алексаев отправит… Еще напишем, что ты — первый храбрец отряда.
— То мати моей не треба… Но легче будет ей… Что не мучився…
И разведчик затих. Клинцов прислушался.
Окрик часового. Тревожный, громкий… Потом все тихо. Странно! И вдруг голос Шеврука:
— Комиссар! А ну вылазь!.. Алексаев прискакал! С партизанскими разведчиками! Добыл ориентировку!
Лейтенант Алексаев и трое конных партизан побывали на рассвете в Борках. Немцев там не обнаружили. Остатки разгромленной маршевой роты вместе с подоспевшим из ближнего гарнизона подкреплением убрались восвояси. Воспользовавшись этим, бойцы отряда и жители села похоронили младшего лейтенанта Астапова и его девятерых погибших товарищей. Это произошло 9 ноября 1941 года.
А через три недели отряд спецназначения с боями прорвался через линию фронта. Трофейные документы и карты были переданы командующему Западным фронтом Г. К. Жукову. Их использовали при подготовке контрнаступления советских войск под Москвой. А через несколько дней приказом командующего Западным фронтом весь личный состав отряда был награжден боевыми орденами и медалями.
СТУПЕНИ МУЖЕСТВА
1
Гитлеровские танковые и механизированные полчища подходили к Можайску. Немецкие солдаты и фельдфебели перечитывали «Памятку» фюрера:
«…Ты, германский солдат, должен только действовать, ничего не бояться. Ты неуязвим для расслабляющих чувств. Нет нервов, нет сердца, нет жалости: ты выплавлен из германского железа. После победы ты вновь обретешь ясную душу и сердечность — для детей своих, для жены, для всей Германии. Но пока — вытрави в себе жалость и сострадание к побежденным. И вскоре целый мир будет стоять перед тобой на коленях…»
Четырнадцатого октября командующий группой гитлеровских армий «Центр» подписал приказ, где говорилось:
«1. Противник перед фронтом группы армий разбит и отступает, переходя на отдельных участках в контратаки. Группа армий преследует противника.
2. 4-я танковая группа и 4-я армия без промедления наносят удар в направлении Москвы, чтобы уничтожить еще находящиеся перед Москвой силы противника, а также плотно окружить город.
2-я танковая армия с этой же целью должна войти в район юго-восточнее Москвы, с тем чтобы, прикрываясь с востока, охватить Москву с юго-востока, а в дальнейшем — и с востока.
Линией прикрытия с востока после окружения Москвы должен стать рубеж: Рязань — Ока (у Коломны) — Загорск — Волжское водохранилище.
При окружении Москвы с юга и севера разграничительная линия между 2-й танковой армией и 4-й армией будет определена в зависимости от условий обстановки. Кольцо окружения Москвы должно быть постепенно сужено до Окружной железной дороги. Всякая капитуляция должна отклоняться».
Четырнадцатого и пятнадцатого октября танковые колонны прорвали наши оборонительные линии у Можайска. Чтобы закрыть ширящуюся брешь, Ставка Верховного Главнокомандования решила ввести в бой резерв, сосредоточенный в лесах восточнее Москвы, но требовались сутки, чтобы перебросить его и развернуть в боевой порядок. Поэтому Ставка была вынуждена, подняв по тревоге московские военные училища, направить курсантов к месту прорыва. Вооруженные только винтовками, небольшим количеством пулеметов, гранатами и бутылками с горючей смесью, курсанты продержались несколько часов, стойко удерживая занятый рубеж. В обход Москвы с севера гитлеровское командование бросило около тысячи танков.
На направлении главного удара гитлеровских танков — под Волоколамском у села Осташово — был первый батальон 1075-го стрелкового полка.
Комбат сказал перед строем:
— Все мы негодовали, что враг еще не остановлен. Вот и наступил наш черед остановить фашистов. Дадим клятву, что никто не сойдет с этого рубежа!
Комбат шел перед строем, и каждая рота гремела:
— Клянемся не отступить!
— Клянемся!..
Бои за село Осташово начались 16 октября. У батальона было ограниченное количество пулеметов. Приходилось рассчитывать на штыки да на бутылки с горючей смесью.
18 октября гитлеровцы прорвались в село Осташово не с основного направления, а с тыла.
Отряды московских рабочих спешно занимали подготовленные оборонительные рубежи на окраинах города, на Минском и Волоколамском шоссе.
Тем временем к столице с востока подходили эшелоны с новыми дивизиями, ранее дислоцированными в Сибири. Подходили полки и батальоны, только что сформированные из ополченцев, а также из бойцов, которые вырвались из окружения. Всего в Москве было 16 дивизий народного ополчения.
Только бы успеть избавить столицу от смертельной угрозы! Между тем гитлеровцы прорвали нашу оборону также и у Наро-Фоминска. У Волоколамска заняла рубежи стрелковая дивизия генерала Панфилова, прибывшая из Казахстана.
Геринг и Розенберг еще с июля 1941 грызлись в ставке Гитлера из-за поста рейхскомиссара Москвы и Московской области. Осенью 1941-го года в Берлине выпустили бронзовые медали с надписью «Покорителям Москвы».
А в Москве и Ленинграде жены, сестры, дочери ополченцев-рабочих, ушедших на фронт, занимали пустующие места в цехах. Вся страна поднялась на борьбу с сильным и коварным врагом. Советские люди не сомневались в победе. Но борьба предстояла упорная и длительная. Она потребовала мобилизации всех сил. В эти дни в МК комсомола поступили тысячи заявлений от юношей и девушек с просьбой отправить на фронт. Среди них были заявления от студенток Московского института физической культуры Зины Морягиной и Нины Шингаленко.
Студенткам Московского института физической культуры Зине Морягиной и Нине Шингаленко, долгие недели осаждавшим МК комсомола, военкомат, наконец-то прислали вызов.
Обеих подруг отвели в отдаленную, тесную комнатку. Сухопарый, морщинистый полковник поднялся им навстречу, руки пожал, усадил.
— Все бы хорошо, товарищи комсомолки, да есть одна заковыка. Весьма неприятная!
Подруги недоуменно переглянулись.
Полковник пристально посмотрел Нине в лицо. Потом выдвинул ящик письменного стола. Наклонил голову с ежиком коротких седых волос, не спеша перебрал тонкие папки, вытащил и раскрыл одну.
Подруги увидели сколотые и сошпиленные пачки разноцветных бумаг разного формата. Полковник, нахмурясь, поднес ближе к носу маленькую серую бумажку с несколькими строками машинописи. Слегка помахал ею, будто прикидывая, каков ее вес, и снова вонзил испытующий взгляд в светлые, широко раскрытые глаза Нины.
— Смотрите на меня, товарищ Нина Шингаленко, и не краснеете. Но должны бы!
— Еще чего!.. — и Нина, не вставая со стула, топнула ногой. — Ничегошеньки я не должна!
— Во-первых, на старших нельзя топать… А во-вторых, объясняю. Почему вы скрыли в райкоме комсомола, что болели туберкулезом? И притом уверяли, будто бы можете выполнить любое боевое задание, даже за линией фронта. Что же, заодно с вами лейб-медика снарядить, личного врача?
Нину словно подбросило.
— Чепуха какая! Ничего я не скрывала. Но если выискался чинуша, который за давнюю хворобу зацепился, да про нее настрочил, — ему надо морду бить! И не перебивайте меня, товарищ полковник! Я в райкоме подробно рассказывала. Я не только вылечилась, но и перед войной стала чемпионом Краснодара по бегу.
— Это записано, — быстро вставил полковник, едва Нина перевела дыхание.
— Если записано, чего же еще нужно?
— Нужна уверенность! Основа личности — воля. Нередко воля совершает чудеса: люди перешагивают через преграды, которые по логике вещей считались неодолимыми. Однако. Например, если надо втихую проскользнуть между немецкими постовыми? Если промокшая под ледяным дождем девочка с ее сильной волей, но не окрепшими легкими вдруг закашляет — обнаружит себя и товарищей?!.
— Задохнусь, а не кашляну! Рот себе замотаю, — и Нина стукнула кулаком по столу.
Чернильница подпрыгнула. Вокруг нее на бумагах и клеенке разлетелись брызги.
— Вот удружила, вот спасибочко! — и полковник схватил промокашку. — Верю! Включаю тебя в боевую группу. Но, пожалуйста, выйди. Подожди подругу за дверьми. Хочу поговорить наедине с ней. Лучше во дворе побудь.
Нина, выходя, очень осторожно и бесшумно затворила за собой дверь.
Полковник, отложив промокашку, взял резинку. Сокрушенно покачивал головой, подстриженной жестким ежиком. Зина сочувственно смотрела на запятнанные бумаги. Молчание длилось довольно долго. Полковник откинулся на спинку стула, спросил с усталой усмешкой и с видом уже вовсе не строгим, а скорее как старый знакомый.
— Ну а ты, Зиночка? У тебя какие заслуги? На какие дистанции чемпионка?
— Ни на какие, — виновато ответила она. Слишком была взволнована, перехватило дыхание.
— Ну вот видишь… И заслуг у тебя никаких, а тоже вызываешься. Наверное, потому, что подруга нахрапом на фронт лезет. И ты — за ней. Да?
— Нет, не да. Не потому!
— А почему же?
— Я бы — и без подруги! Конечно, с Ниной лучше. Но не будь ее — пошла бы одна.
— Пошла бы! — ворчливо передразнил полковник. — Еще пока тебе ничего не разрешили. Нам еще думать и думать. Уж сказала бы — напрашивалась одна!
Молчание. Полковник поднялся. Выразительно повел рукой, веля Зине остаться на месте. Дробными шажками прошелся по тесной комнатке.
— Никаких заслуг, а небось ребятам лихо головы кружишь! А? Хоть этим-то можешь похвастать?
— Не кружу, — багрово покраснев, шепнула Зина. Потом, вспомнив изнывающих сокурсников, улыбнулась украдкой.
— И напрасно!.. И зря! — Он круто повернулся на каблуках, и — длинный, сухопарый, как бы навис над пригнувшейся девушкой. — Зря! На то ты и девчонка, чтобы екали сердца парней, чтобы — счастливая семья, чтобы рос наш народ!
— Я не хуже других…
Уловив этот едва слышный ответ, полковник всплеснул руками:
— Что ты в голову забрала? Не хуже! Вовсе не о том речь! Ясное дело, не хуже. Крепко нас фашисты припекли, но чтобы страна огромная девчонок звала на помощь — это… Не постигаю!
— Никто не зовет, а мы сами… Притом еще до войны летчицы наши — Марина Раскова и Валентина…
— Про летчиц я знаю. Могу и сам порассказать. Одно дело с высот оземь долбануться, но совсем иное — живой в гестаповские когти… Там не краткие секунды мучений — там неделями станут жилы вытягивать… — он приумолк, словно выжидая. Не получив отклика, обошел стол, уселся. И продолжал: — А в райкоме комсомола, насколько мне известно, был разговор о том, что, вероятно, понадобится перейти фронт и в тылу врага воевать… Или ошибаюсь?
— Был.
— Ну вот видишь! — Он снова глубоко вздохнул. Уже, впрочем, не с той подчеркнутой грустью, с какой выслушивал подтверждение, что нет у Зины заслуг. — Формируется, милая девочка, такая воинская часть, из которой в живых останутся ко дню победы далеко не многие. На это вот и намекали в райкоме.
— Согласна на все, — тихо, но твердо сказала Зина. Подняла голову, посмотрела в запавшие, усталые глаза полковника. С полуулыбкой кивнула ему.
— Бывают же, Зина, совпадения. Те же самые слова — «согласна на все» — вчера вечером услышал от самой райкомовки. Вдобавок и у той на щеках ямочки. Выпалила — да и со смеху покатилась. И за эти самые хиханьки спровадил ее.
Полковник встал, выпрямился. Поднялась и Зина.
— Принимаете меня?
— Подумайте с Ниной вдвоем еще! До завтра. Да попридирчивее к себе! Может статься, лучше вас обучить на санитарок или на фельдшеров? Тоже бойцы, тоже большие, нужные дела. Проверьте себя, хватит ли стойкости перенести все. Запомни, Зина: вовсе не стыдно отказаться, пока есть время; другое стыдно — не отказаться, если не чувствуешь полнейшей в себе уверенности. К тому же, повторяю, мы не ждем отказа начисто, вообще отказа от военной службы. Медики тоже до зарезу требуются, телефонистки тоже. Вот я бы, на твоем месте, захотел бы сестрой милосердия… Право! Подходишь! восприимчивая, участливая, чуткая. Поразмысли еще, Зина. Прошу тебя, оцени свои силы!
…На следующее утро после короткого разговора с обеими подругами полковник, сам ведя машину, привез их к обширному зданию на одной из московских улиц.
У крыльца на холодном ветру, кутаясь в старенькую шаль, стояла высокая, статная, пышноволосая блондинка. Она побежала навстречу девушкам, протянула обе руки. Ярко-голубые ее глаза сияли.
— Пополнение, да? Мне сказали, полковник привезет разом двух девушек. Я-то до вас единственная была… Как я рада вам! Студентки, правда? Ну а я — недавняя пионервожатая и учительница. Леля Колесова.
Первый день девушек в особой, еще не вполне сформированной, воинской части был заполнен изучением различных мин и способов обращения с ними. Десятичасовой рабочий день — ох какой нелегкий! Наконец ужин, наконец отдых.
Юный и, к удивлению девушек, очень вихрастый сержант привел их в просторную, чисто вымытую комнату. Голые стены, два незашторенных окна, за которыми — темнота… Нет, все-таки не сплошная темнота: внизу ближайшего к двери окна тихонько скребется в стекло и смутно желтеет безлистая веточка. На противоположной стороне красуются четыре кровати с тумбочками подле изголовий.
Девушки блаженно потянулись. И тут же — стук в дверь.
Тот самый вихрастый сержантик объявил, что полковник вызывает товарища Колесову.
Полминутки спустя, когда подруги нырнули под свои одеяла, Нина спросила:
— Тебе, Зинка, тоже понравилась Леля?.. Верно?
— Еще бы! Очень-очень! Ужасно хочу, чтобы на задание — и с тобой и с ней.
— Наверно, так и выйдет. Однако…
— Разве она так говорила?
— Такая была мысль. Она, большеглазка-то, подразумевала, что Владику приходится преодолевать в себе чересчур многое ради единственно правильного для всех. Что вот она сама, пожалуй, озлобилась бы.
— Это она говорила, чтобы поднять его в наших глазах.
— Ну да. Внезапно вырвалось у нее затаенное, вглубь загнанное. Слишком тревожится за него. Даже саму себя считает без вины виноватой. Намекнула, что не может отвечать ему, как он давно надеется.
— Ясно. В ответ на безнадежную любовь и нехотя посочувствуешь. А все-таки я сомневаюсь, что полноценным бойцом он окажется. Издерганный чересчур. И как раз его надо бы постращать, а не тебя, Зинка. Выпугнуть из добровольцев.
Дверь распахнулась. Леля на ходу стянула через голову свитер и бросила его поверх тумбочки. Проворно разделась.
— А стулья-то нам и забыли принести… Ладно, зато простыни совершенно сухие — благодать! А мне, девочки, так хотелось поболтать с вами перед сном — и на тебе!.. После отбоя выслушивала поручение! Должна буду вот этак же, как вчера полковник нашу Зиночку, припугнуть очередных доброволок. Испытывать: а вдруг и впрямь устрашатся? Раз уж педагог, сказали мне, значит — сподручнее распознавать, кто на что годится.
— Я бы отказалась, — сочувственно вздохнула Зина.
— Я тоже отпихивалась, — подхватила Леля. — Но что поделаешь, если получила приказ. И против него не попрешь.
Она тут же выложила свое недоумение и недовольство: почему начальство не собирается вооружать их ничем, кроме разных мин? И Леля ответила — конечно же, такой вопрос она сама задавала, когда — денька три назад — ее включили было в наскоро сформированную группу ребят-спортсменов. Ей растолковали: за линией фронта нет оружия важнее, чем подрывные средства, чтобы резать артерии вражеских войск… И к тому же немцам известно: в их тылу осталось немало учащейся молодежи, мобилизованной на земляные работы. Следует использовать это: действовать как подрывники, но скрытно, под видом торопящихся домой, к мамам и папам.
— Это все понятно… Я почему отказалась бы? — сказала Зина. — Понимаешь, Леля… По-моему, даже самый проницательный человек не сумеет разглядеть в себе решительно всего, на что способен. Или, может быть, если постарше, то есть уже приходилось проверять себя, — такой, гораздо более опытный, сумеет. И поэтому вот я бы напрочь отказалась, вели мне хоть и Маршал Советского Союза проверять новеньких, испытывать их. Девчата, понимаете, чем оно может обернуться? Вот я втемяшу какой-нибудь отличной комсомолке, что стыд и позор не отказаться от похода во вражеский тыл, если не чувствуешь абсолютной в своих силах уверенности. Да пытками в гестапо постращаю, как наш полковник… И комсомолка — бац: откажется!.. Не потому на попятный пойдет, что струсит или слабенькая… Нет! А как раз от своей добросовестности! Понимаете? Ведь у нас гораздо больше таких, которые, поначалу сомневаясь в себе, в решающий момент не пожалеют жизни, перенесут все муки. Вот и выйдет: я застращаю правдивую девчонку до того, что вдруг откажется; но в результате все мы лишимся прекрасного бойца… Того, кто просто не разглядел сразу-то всех своих сил!..
— Молодчина, Зинка! — воскликнула Леля. — Да ведь и я чуть было не попала в чрезмерно добросовестные. Меня враз оглушили: представь-де себе, что ты сидишь перед эсэсовскими палачами… Сейчас они примутся тебя рвать раскаленными щипцами… Найдешь ли в себе силы молча погибнуть? И товарищей не назвать и даже не признаться, что ты — по особому заданию за линией фронта? Честно говори, Колесова, постарайся понять: если нехватка безоговорочной уверенности в себе, тогда нет у тебя права браться за наши дела… Да не спеши, Колесова, с ответом, а подумай… Чтобы — чистую правду! Хотя бы полчаса думай, хотя бы час, а мы подождем.
— А мне-то полковник велел до завтра думать, — вставила Зина.
— Помню, — усмехнулась Леля. — Да ведь у них, как в учительских методиках, — индивидуальные подходы… Сижу, девочки, да тревогой терзаюсь: ах, как бы невзначай не обмануть. А товарищ майор, симпатичный такой, вдруг снова поддал жару: «Загляни, Леля, в свою глубочайшую сущность!» А я отвечаю: «Если сию минуту меня бросить эсэсовцам, то не знаю — вытерплю ли все… Но если завтра — то выдержу, ручаюсь! Ведь она, „глубочайшая сущность“, именно в том и заключается, что подвластна человеческой воле. Поэтому к завтрашнему утру приноровлюсь крепко держать в руках мою „сущность“! Экзаменаторы мои переглянулись и в один голос: „Ладно, товарищ учительница. Годишься!“»
2
Холодное, дождливое утро двадцать восьмого октября.
Группа подрывников задержалась перед широкой просекой, ощетинившейся пнями. Впереди — затянутый дождем горизонт.
Просеку преодолели двумя рывками! Сначала — четверо парней во главе с командиром боевой восьмерки Колей Ефремовым. За ними — девушки.
От просеки потянулось мелколесье. Зачавкала под сапогами раскисшая земля. Сапоги девушкам великоваты. Не нашлось обуви по размеру.
Всего сутки назад подрывники влезали в открытый кузов грузовика, где притаились у самой кабины прикрытые брезентом. Но как далеко отодвинулось все вчерашнее, пережитое!..
Приглушенное ворчанье девчат (обидно, даже по нагану не дали) и — до свиданья, Москва. Вот уже Минское шоссе. Дремотно прикорнули на плащ-палатках ребята, но девушки все смотрели в убегающие назад иссиня-темные ели, на сиротливые, облетающие бело-рыжие березки. Вот мелькнули стволы, подрубленные разрывами. Вот уже отбежали от шоссе встречные деревья. Поворот на Дорохово, короткая стоянка. Пока семеро подрывников угощались консервами, Коля Ефремов и невесть откуда взявшийся капитан уточняли, где переходить фронт…
Внезапно раздалось гулкое разноголосье: «Во-о-здух!..» Все бросились от грузовика к опушке, и тут, прежде чем плюхнуться на землю, увидели, что меж елей, насколько хватал глаз, полно бойцов в зеленых касках и с шинельными скатками. Свист и разрыв, свист и разрыв!.. Еще свист — нарастающий, сверлящий душу. Разрыв — оглушительный, близкий. Возле прижавшихся друг к дружке девушек застонал немолодой усатый боец. Девушки вскочили, чтоб перевязать раненого, но раздалась команда Коли Ефремова: «Группа!.. В машину!» Обогнули дымящуюся воронку подле шоссе, перемахнули через борт кузова, и грузовик, натужно взревев, рванул с места. Уже в машине подняли головы и увидели девять фашистских стервятников. Они летели на большой высоте к Москве!..
— Здесь не эти сыпанули, — пояснил Коля. — По опушке жахнул Ю-52… Уже устарелый. Такие Испанию бомбили. А на Москву летают «хейнкели». С полутонными…
— Вот это командир! Успел распознать, — улыбнулась Нина.
— Не зря каждые каникулы на военных сборах, — коротко отозвался Коля.
— Нашего командира можно лейтенантом называть, — внушительно добавил румяный, толстогубый студент коммерческого института Самсон. — У них уже на пятом курсе Горного института присваивают звание. А ему просто не успели.
— Не успели, значит, нечего судачить, — хмуро перебил Коля.
Подругам, особенно Зине, командир понравился тем, что не задавался. Кроме того, девчата сочувствовали Коле, понимали, как трудно распоряжаться, когда не было времени приглядеться к подопечным. А Коля знал одного лишь однокурсника Генку — молчаливого, довольно неуклюжего на вид.
Грузовик, утомленно фыркая, полз уже по узкой проселочной дороге, изрытой колдобинами да вымоинами. У извилистой речушки с низкими, топкими берегами его встретил младший лейтенант в новенькой, необмявшейся еще гимнастерке.
— Тот берег — нейтральная полоса, товарищи, — сообщил он, — метрах в двухстах отсюда — кладки. По ним и перейдете.
…Уже вечерело, когда подрывники достигли глухого леса. Специалист по картам Тоня Рипина и командир определили, что до шоссе, прорезающего этот лес, остается чуть больше десяти километров. И пошагали на северо-запад, в ту сторону, где гремело и ухало. Подрывники спотыкались о замшелые, все хуже различимые в густеющих сумерках еловые корни. Наконец привал! Изнуренные девчата повалились на сырую землю, припорошенную палой хвоей.
Они прекрасно бы выспались, не начнись вскоре мелкий дождик. И хотя Коля набросил на девчат свою плащ-палатку, сна как не бывало.
Утром подрывники-комсомольцы набрели на поляну, где недавно произошел бой. Похоронили убитых красноармейцев, а их оружие — пять винтовок и оставшиеся патроны — спрятали в тайнике. Может, сгодятся. Мало ли что.
Березняк уже не сплошной; все чаще высились рослые сосны. Кругом следы разрывов снарядов или тяжелых мин. Вот замерла на весу подрубленная сосна. Поддерживают ее густые ветви молодых сосенок. А те поскрипывают едва слышно от тяжкого груза.
— Видите, ребята? — тихонько сказала Зина. — Смертельно раненная на руках товарищей.
— Если кого зацепит, девчата, — отозвался командир, — знайте, не бросим!
— Мы не тревожимся! Прекрасно знаем!
Коля поступил очень предусмотрительно: решил понаблюдать за движением по грунтовой дороге, прежде чем ее минировать. И через четверть часа томительного выжидания задребезжали за поворотом и вскоре показались крестьянские телеги. Вышла на дорогу лишь одна Леля, конечно же, с расспросами, вполне естественными для девушки-москвички, пробирающейся домой после земляных работ и ненароком отбившейся от товарищей. Но нелегко далась Леле эта маленькая разведка. Заглянуть в глубины горя многих людей, но притом оказаться бессильной хоть чем-нибудь помочь им — что может быть больнее? На телегах тряслись женщины, дети, старухи с убогим скарбом.
— Хорошо, что Коля, — глотая слезы, сказала Зина, — не стал с маху минировать…
— Командование части предусмотрело, — сердито возразил Коля. — Предупредили, что минировать только по ночам.
Пошли напрямик через перекопанное картофельное поле.
— Ладно, что ребята идут впереди, — тихонько сказала Зина. — Не то бы смеялись, что мы как утки переваливаемся. Гряды перекопанные, да раскиселенные вдобавок… Еле ноги выдираешь, поди-ка, по пуду, налипло.
Никто из подруг не отозвался, до того устали. Нина только досадливо махнула рукой, а Леля улыбнулась. И тут впереди — громкий голос Самсона:
— Командир! А пожалуй, надлежит остаться кому-то возле мин.
Все замерли на месте. Тыльной стороной ладони вытирали мокрые лица.
— Правильное предложение, — сказал Коля. — Может, ты останешься?
Самсон сразу же выразил полнейшую готовность. А Коля почему-то раздумывал. И наконец приказал самому молчаливому с мрачноватой, но зато невозмутимо спокойной физиономией.
— Останься, Ким! И давай твои портянки. Просушим. А пока натяни вот эти…
Коля вытащил из-за пазухи согретые, почти сухие носки; передал их разувшемуся; поддерживал его за плечо во время переодевания, неудобного посреди грязи, взял мокрые портянки Кима… Подумав, отдал ему и гранату. Девчата на ходу оборачивались, чтобы помахать оставшемуся, но Ким очень быстро возвратился к опушке в лощину.
А чем ближе к деревне, раскинувшейся на пологом пригорке, тем становилось светлее. Из деревни донеслось звяканье ведра. Потом — ни звука… Только чавканье грязи под ногами, только слабое похрустыванье жухлой ботвы.
— И пушки смолкли, как будто, — тихонько, себе под нос, пробормотала Зина.
— Не смолкли, — Леля замедлила шаг. — А просто ветер дует на запад. В открытом поле слышнее.
Вышли на дорогу. Тележные колеи уже залубенели, тускло поблескивали. За пологим холмом угадывались очертания сельской церквушки. Влево же одна из улиц между двумя рядами домишек дотягивалась до молодого сосняка. Сосняк подступал к огородам с другого боку деревни.
— Грузовых машин вроде не было здесь, — удовлетворенно сказал Коля.
Но тут же перемахнул дорогу, наклонился… Товарищи подбежали к нему: рядом с тележной колеей — размытый, едва заметный отпечаток рубчатой шины.
Группа рассыпалась вдоль дороги. Рубчатые следы нашлись еще и еще… Ребята смерили расстояния между параллельными отпечатками.
— Мотоциклы, — подытожил Коля. — И одноместные, и с прицепами. Он распорядился: бойцу Самсону занять пост в отдаленном конце деревни, куда через минутку подоспеет и сам; а своему сокурснику-геологу велел стать постовым в ближнем краю, где только что прошли.
Выслушав еще наставление о необходимых сигналах тревоги да о знаках зрительной связи, двое бойцов поспешили на свою караульную службу.
— Мы тоже не хворые, — упрямо сказала Нина. — Давай, командир, оставим Зину сушить стеганки. Мы с Тоней тоже сгодимся постовыми.
— Девчата, сюда! — Коля показал на темно-зеленый небольшой домик, открыто смотревший на пришельцев двумя незавешенными окошками. Жидковатый дымок из его трубы поднимался почти вертикально — верный признак, что печь уже истопилась. — Похоже, здесь только старушка с детьми…
3
Леля повернула входное кольцо и, чуточку приотворя дверь, спросила, можно ли войти. Последовал обычный ответ, что добрым людям всегда рады…
У стирального корыта стояла женщина, далеко еще не старая, с очень большими руками, в калошах на босу ногу и выцветшей черной юбке, усеянной мельчайшим белым горошком.
После поклонов Леля отрекомендовалась так, как и предписано: они — студентки, бывшие на земляных оборонных работах, а ныне пробирающиеся домой, вот хотели бы обсушиться.
Хозяйка, прежде чем девчата успели помочь ей, сноровисто поставила наземь корыто и чугунок с горячей водой, освободила проход в кухню.
Вскоре от стеганок, от портянок, расстеленных на загнетке, от носков, уткнутых в печурку, повалил пар, и кухонное окошко запотело. А девчата сели за столик, где красовался котелок, наполненный почти до половины еще теплой картошкой. Леля достала банку консервов и чуть поржавевший нож, чтобы вспарывать банки, но хозяйка с обидой заставила сунуть этот припас обратно. Большими и темными, в глубоких трещинах руками она взяла только несколько кусочков сахару, благоговейно положила их на полочку рядом с иконой, пояснила, что внучата, снова изгваздавшие всю верхнюю одежонку, получат гостинцы только вечером. Рассказала, что свекор ее еще до гражданской самого царя скидывал, что среди деревенских стариков и крепкие сыщутся… Скажем, Ермил или Флегонт.
После завтрака девчата улеглись спать.
— А я — достирывать, — сказала хозяйка. Она глянула на печь, откуда не доносилось ни звука. — Уснули, поди-ка, слава тебе… Пострелята без меня через огород и дыру в плетне, считай, уже в самый овражек угодили…
Насквозь изгваздились. «Мы в лазведке, ба, мы в лазведке», — передразнила она ребятишек, направляясь к своему корыту.
Осторожно затворила за собой дверь. Девчата заснули.
Зина вздрогнула во сне. Послышались ей тяжелые, беспощадные удары, после каждого — стоны: тонкие, дробно-прерывистые, почти нечеловеческие… Не ребенка ли бьют?.. И тут же, сквозь глубокое забытье, вдруг ее пронзило яркое воспоминание: лет пять назад она, плача, просыпалась от одной повторявшейся много ночей картины, как маленький Родя Раскольников умолял отца вступиться за насмерть избиваемую лошадку… Зина стряхнула обессиливающий бред, рывком приподнялась.
— Подъем!.. — крикнула Нина.
Тоня вскочила, метнулась к одежде. Но улыбка Зины, ворвавшейся в кухню со двора, всех успокоила.
— Ишь, разнежило тебя перед печкой, полуголая расселась, — ласково укорила Нину. — Одевайтесь живей, сейчас братва ввалится… И снимаемся!
Трое парней быстро съели по настоянию девчат почти половину мятой картошки с маслом и, захватив подогретую в котелке добрую долю для оставшегося на охране боевого имущества Кима, вылезли из-за стола. Девчата, едва сдерживая слезы волнения, попрощались с Дарьей Гавриловной.
…В ельнике зашагали в затылок друг дружке, чтобы не каждому спотыкаться о замшелые корневища. Только передние — командир и Леля, шли по-прежнему рядом.
— Леля, повтори девчатам, чтобы не забыли. Ты сумеешь сделать это неназойливо… Если в деревне мы говорили, будто в родную Москву пробираемся, то сейчас — на случай опасных встреч — надо иначе: мы — смоленские студенты. Нас из Смоленска привезли рыть окопы в Подмосковье, вот и плетемся назад.
— Напомню, Коля.
— И чтобы поуверенней держались! Это в случае чего. Через деревню до нас брели самые настоящие мобилизованные. Немцы знают о таких.
— Девчата не подведут.
В следующий миг они расслышали нетерпеливый вопрос Зины:
— Уже близко, наверно?
Самсон отозвался тоном ироническим и покровительственным:
— Близко — да склизко. Вернее, спотыкливо. Не стреляй глазками. Ребята сейчас охладелые, прозябшие, никого не подожжешь. А под ноги смотри!
К вечеру следующего дня подрывники-комсомольцы вышли к дороге, по которой гитлеровцы подбрасывали к передовой подкрепления.
Парни начали рыть углубления для мин, а девчата парами в обе стороны пошли в дозор.
Напрягая глаза, Нина и Зина всматривались в смутно сереющую полоску дороги, скрытую вдали темнотой. Показались бы грузовики с фашистской солдатней! А еще лучше — орудия или танки… Наверно, ребята заложили не только противопехотки.
Но вдали по-прежнему ни огонька. Громче, чем раньше, погромыхивало на северо-западе. Может, охватывают Москву танковой подковой?
Наконец прозвучал условленный короткий свист. Это командир вызывает по одному бойцу из каждой пары дозорных.
— Беги к командиру, Зинка!
— Ты беги! Согреешься. Не бойся, буду зоркой.
Нина помчалась на свист.
— Заложили мины?
Командир выждал какие-то секунды и, когда подоспела с другой стороны Леля, пояснил:
— К минированию готовы. Мелькни вдали фары — управимся в полминуты… Мне говорили, что немцы впереди пленных прогоняют для страховки… Но пока — ничего! На авось минировать негоже.
— Полной гарантии никогда ни в чем не получишь, — с разочарованием, которое не сочла нужным скрывать, ответила Нина. — Ведь этак, со всегдашней оглядкой, не побьем немцев.
— Не со всегдашней, — сдержанно возразил Коля. — Притом оглядка — неточное слово. Нельзя бить вслепую — в этом все дело.
— Ты прав, — согласилась Леля и снова, явно ища кого-то, посмотрела по сторонам.
— Самсона мы отрядили к тайнику за винтовками, — ответил командир на ее немой вопрос. — Ждем с минуты на минуту. Надо бы раньше вооружиться. Не догадались.
— Почему послал одного Самсона? — спросила Нина. — В дозорные можно бы поодиночке… Но за оружием — обязательно вдвоем или втроем.
— Отрядил самого здоровенного. Такому ничего не стоит и вдвое больше винтовок притащить, — пояснил Коля.
Далеко, за черной массой леса, по другую сторону дороги, взмыла ракета, разбрызгалась искорками.
— Над главным шоссе, — буркнул Коля. — Артерия!.. Страхуются. Но мы перережем! Чего бы то ни стоило.
Гулкий винтовочный выстрел заглушил слова командира.
— Беда! — выдохнула Нина сквозь стиснутые зубы. — В той стороне, где братская могила! Напоролся наш Самсон.
Еще бахнуло… Еще и еще!..
— Не похоже, пожалуй, — отозвался командир, — Одни только винтовочные, значит, не Самсон отстреливается. И автоматных очередей не слышно.
— Разреши, Коля… Разреши, мигом выясним, — вызвались одновременно Ким и Генка.
— Не разрешаю, — отрубил командир и, сунув два пальца в рот, коротко свистнул. Общий сбор!
Опять винтовочный выстрел. Уже пятый по счету.
— Вроде бы подальше теперь, — предположил Генка. — Может, он рванул в обратную сторону? Чтобы не навести на нас…
Подбежали Тоня и Зина.
— Чтобы ни случилось, мы обязаны предположить худшее, — сказал командир. — Возможно, следом за нами шли немцы, которые притаились, услышав одиночные шаги навстречу, и сейчас хотят взять Самсона живым.
— Коля логично рассудил, — заговорила Леля. — Нашу восьмерку, возможно, заприметили. Поэтому предлагаю разделиться. По четыре. Точнее, четверо девчат и трое вас.
— Правильно! В точку! Лучше без ребят! Одни-то всюду проскочим! — раздались голоса подруг. — Айда скорее!
— Я думаю, Леля права, — после колебания сказал командир. — Я согласен. Однако не сразу! Доберемся до шоссе да сообща заминируем — на совесть! И тогда разделимся!
— Снова нас оттереть? Это чтобы мы только взирали на вас и караулили? — воскликнула Нина. — Довольно!
— Молчать! Покамест я командир! Забросать ямки! Через минуту двинемся.
— Но если вправду… немцы следом? — шепнула Тоня лишь одной Леле. — Может, уже близко, а мы все чухаемся.
Не получила ответа. Грянул еще винтовочный выстрел с той же стороны, разве что подальше.
— Весьма странно, — в тягостном раздумье бормотнул командир. И вдруг его рука, вздернутая, чтобы выхватить лопату из неснятого, но развязанного мешка, замерла на весу. — Машины, братва, машины! Живо минируйте! — выкрикнул он. — А девчата — живо на другую сторону! Залечь, отползать! Я задержу перед поворотом! Ух, и дадим сволочам!
В руках Коли появились гранаты.
Конечно же, девчата остались. Ни Ким, ни Генка не пытались прогнать их. Общая работа! Шесть ямок, а двое ребят. Одни-то разве успели бы?
«Если немцы следом за нами — плевать! И что с нашей семеркой станется — плевать! Будь, что будет, а вот эти полминутки, вот эти секунды — наши! Только наши. Не отнимут эти секунды, не успеют отнять».
Ямки готовы. Взрыватели пока подальше от мин, а теперь… Спасибо придире-майору: десятки раз заставлял прилаживать взрыватели. Твердил и твердил: «Если, девочки, пальцы задрожат от волнения, так ударьте пальчиками об камень, об рельсу, только побольнее! Перестанут дрожать». Ах майор! Посмотрел бы сейчас на пальцы девушек.
Рокот нарастает. У всех ли готово? Еще секунда. Готово! Только землей забросать и заровнять ладошками. Ровнее, ровнее, чтобы не заметили, чтобы не зря!
— Готово! — послышались голоса Лели и Генки.
Готово! Теперь — на другую сторону, через кювет! За деревья!
Кювет позади, но под ногами вязко — мох… Падай, ползи! Хлопок гранаты. Еще!
Остервенелый лай автоматов. А свет фар все ярче, грузовик несется напропалую. Строчат автоматы. Кажется, два — по командиру! Поздно отползать — вжимайся в мох! Все ближе рокот мотора. Только бы не остановились!
Вспыхнуло, ослепило… Шибануло упругой, удушливой волной. Еще взрыв, еще. Больно в ушах. И посыпалась земля, камешки, сорванные ветви…
Оглохли? Нет, это тишина.
Леля и Нина сами вскочили. А Тоне и Зине ребята помогли подняться. Тошнило от чесночной вони тола, от чада догорающего бензина.
На дороге, над тлеющей грудой, заклубился дым. Подбежал командир. Он зажимал рукой висок. Сорвало кожу и клок волос. Леля проворно перевязала его.
Вот она, ощетинившаяся пнями полоса вырубок у гудронированного шоссе, — о ней предупреждали в части. Командир напомнил, что вырубки — страховка: немцы боятся нападений из леса. К счастью, вырубки не везде.
Семеро комсомольцев направились к западу, чащобой, держась от пришоссейной вырубки примерно в тридцати метрах. Вскоре оказались среди мачтовых сосен. Перемежающиеся отсветы фар на стволах и мгновенные наплывы густейшей тьмы, вновь постепенно разжижаемой…
Груза в заплечных мешках — наполовину меньше. Но и сил поубавилось, и еды. На привале в два часа ночи сразу прохватило мучительным холодом. И парни стянули свои свитеры, передали девчатам, которые положив в середку покашливающую Нину, поспали часок. А потом теплая одежда перекочевала к сменившимся с караула.
В четыре часа пополуночи — снова марш. Движение на дороге пошло на убыль, и подрывники надеялись, что перед рассветом и совсем прекратится. Но нет… И гул, и мельканье фар все же не столь редки, чтобы выскочить на дорогу.
Сосняк сменился лиственным лесом; а ходьба уже не согревала. Ветерком потянуло от шоссе. Душок бензина стал неотвязным. А шорох опадающей листвы затихал. Из редеющих сумерек угрюмо проступали темные, голые ветви. Прихваченные утренником, облетели за эту ночь и дубки. Только шелестела трава в мерцающих разводах инея.
Рассвело. Но командир не давал отдыха. Повторял:
— Вот уже вскоре сойдет на нет эта проклятая полоса вырубки, и тогда передохнем.
Грузовики встречались редко. Зато часто проносились мотоциклы с пулеметами в колясках — патрулировали шоссе. Неужто на весь день? Или, может, уверятся, что все спокойно, да снимут патрули на этом участке?
Зарябило в глазах от непрерывного напряжения, от слабости. Далеко простирающаяся гудронированная серая дорога словно стала струиться; мотоциклисты мчались как бы по течению.
Командир оглядел осунувшиеся лица девчат и велел отойти в глубь леса — поспать. И сам прокладывал тропу в глухую чащобу. Ким и Генка брели в арьергарде. В полукилометре от шоссе скомандовали всем девчатам — улечься. А часа через три, по заведенному порядку, парни сами растянулись на плащ-палатке.
Начало смеркаться, когда вместе съели по последнему сухарю. Покамест есть еще силы, надо решать. Гибель наступающего врага дороже своей жизни.
Вернулись к шоссе. Движение, как и в начале дня, было нечастым. Девчата, перебежав дорогу, сигналами предупреждали ребят, ищущих выбоины в гудроне, о приближении мотоциклов или грузовиков.
Выбоины, забросанные землей, нашли часа через полтора. Закладывали мины сначала в тех выбоинах, которые по краям шоссе: для больших грузовиков-даймлеров. А последние мины — посередине.
Потом изо всех сил бежали подальше! Метров на двести отбежали, когда сзади рвануло: раз, другой. Не определишь потери врага, но то, что не зря потратили мины, — это ясно.
— Сейчас и впрямь разделиться пора, — сказал Коля.
Наметили дальнейшие маршруты. Решили пробираться за рубежи фронта — двумя полукругами. По возможности — параллельными. Девчатам определен полукруг меньшей протяженности — как бы внутренний… Впрочем, и он охватывал около полусотни километров.
4
Как и было предусмотрено, Тоня вывела девичью группу к пионерскому лагерю, в двух километрах от Рузы. Два года назад Леля работала здесь пионервожатой. Эти места исходила вдоль и поперек…
Многооконные, очень вместительные дома целы. Но не пусты, как это с первого взгляда показалось. Подойдя ближе, девчата увидели, как между подсобными строениями, урча, полз тупорылый грузовик. Обогнул многооконное здание, показав высоко поднятый кузов, и, подвывая на ухабах, укатил к Рузе… Конечно же, здесь размещается какое-то тыловое подразделение.
Вероятно, не столь уж трудное дело — незамеченными прошмыгнуть по здешним, хорошо знакомым Леле перелескам да вновь углубиться в чащобу. Но… давно перевалило за полдень, а со вчерашнего дня девчатам удалось съесть лишь по одной вареной картофелине.
— Сейчас мы ничем не подозрительны, — проронила в раздумье Леля. — Конечно же, в Рузе сумеем обменять на еду какие-нибудь шмутки.
— Сумеем! — оживилась Зина, которую голод особенно мучил. — Нинка, давай — мы с тобой в разведку.
— Еще чего! — сердито перебила подруга. — С ободранными в кровь коленями!.. Чулки приклеились! Любой встречный немец, идиот последний догадается, что сломя голову по лесу мчалась! А зачем это понадобилось такой красотке?
Тоня молчала. Ей тоже не повезло после взрыва на грунтовой дороге. Тоже падала, тоже рассадила коленку.
— Девочки. Старшей назначаю Тоню. Затаитесь тут и ждите… — объявила Леля.
— Одной — в разведку!.. — воскликнула Нина. — Мы что тебе — бессловесные? Не пустим одну!
Было не до споров. Некогда. Леля согласилась пойти в Рузу вдвоем с Ниной. Сама Леля ни разу не произнесла слов «в разведку». Говорила только насчет обмена одежонки (или пустых уже, но добротных заплечных вещмешков) на продукты… Но и не возразила, когда подруги вели речь о разведке в Рузе, как о главном. Уничтоженный прямо перед глазами немецкий грузовик и два взрыва на шоссе внушили девчатам безграничную веру в свои силы. Потребуется — и наверняка пройдут без крошки во рту еще с полсотни, и даже сотню километров. Однако как довольствоваться только тем, что достигнуто совместно с ребятами? И, говоря начистоту, главным образом их руками. Почему бы не добыть и ценные сведения в придачу?
— Отойдите немного вглубь и наблюдайте за опушкой, — Леля пожала руки остающимся подругам. — Если не вернемся часа через два, не ждите больше! Сматывайтесь! Тоня, приказываю блюсти дисциплину.
— Слушаюсь! Однако прямо говорю: подождем и еще.
— Хорошо, но не дольше трех! — голос Лели звучал уже непреклонно. — Слышишь, Зинка? Тебя особенно предупреждаю. Выполняйте приказ. И — до свиданья.
Из-за старых, крапчато-темных берез Зина и Тоня долго и неотрывно смотрели вслед подругам… Те ни разу не оглянулись. И правильно! Вдруг со второго этажа памятного Леле здания кто-нибудь наблюдает за двумя в грязно-зеленых стеганках?
Шагали да шагали.
Изредка проносились грузовики, раскидывали ошметки грязи. Подруги проворно отпрыгивали на обочины, в поникшую ломко-хрустящую траву. Таскаетесь, гады, по нашим дорогам? Оттаскаетесь!
Вот и окраина Рузы. Теперь под ногами не проселочная слякоть, а булыжная мостовая, хоть и выщербленная. Глазам открылась улица, прямая и на два-три квартала безлюдная, только вдали — серо-зеленые шинели.
Подруги живо свернули в узкий переулочек. Сначала — добыть хотя бы вареной брюквы.
Зияющий провал в заборе, здесь когда-то были ворота, калитка… В серой глуби замусоренного дворика мелькает красная рубаха — худенький парнишка неумело колет дрова. Вот уж кому пригодятся теплые шерстяные носки! Наверно, хоть чутошную краюшку вынесет за эту мелочь.
Леля запустила руку во внутренний кармашек стеганки, вытащила носки. Держа перед собой, пошла вперед.
— Будь алы совсем одни, так и заработали бы хлебца, — на ходу шепнула Нина подруге. — Дровишки, например, я колю посноровистей…
Шумно, тяжело дыша, парнишка отбросил чурку с застрявшим в ней топором; сдвинул шапку на затылок, отер лицо рукавом рубашки…
Подруги, подойдя, ахнули: как обознались!.. Перед ними кряхтел и жался тощий старичина, которому, похоже, под восемьдесят. Леля, в явном замешательстве, безмолвно протянула ему носки. Старичок отмахнулся очень сердито, не спуская с пришелиц слезящихся, но зорких глаз, попятился, на ощупь ухватил пальтецо с козел и натянул на себя. Сизоватые озябшие руки чуть не до локтя вылезли из рукавов: женское пальтецо-то; наверно бабкино… Все еще прерывисто дыша, он бодренько засеменил к дому, вбежал на крылечко без перил и скрылся.
Леля бросила носки Нине. Пригнулась, ухватила топор, увязший в непобежденной, сучковатой чурке, трахнула обухом о колоду — чурка раскололась… А дедок уже вынырнул из домишка. Подбежал и протянул Леле три большие, слегка пригорелые лепешки, присыпанные отрубями. Взяв их, девчата благодарно поклонились.
Что-то вроде умной, понимающей усмешки мелькнуло на сморщенном лице старика. Глянул, с каким усилием сдерживает свой кашель тонюсенькая гостья, как она, все еще держа наготове теплые носки, уже не решается протянуть их, снял облезлую шапчонку, прощально помахал девушкам.
А те снова поклонились, и — за ворота. Там, отойдя немного, съели одну лепешку. Переулок оставался безлюдным.
— Сейчас подкрепим нашу легенду, что возвращаемся о Смоленск, — сказала Леля. — Добудем свидетелей.
Подруги подошли к угловому дому — кирпичному, большему. Поднялись на новенькое крыльцо веранды, постучали в застекленную дверь. Когда вышла хозяйка дома, Леля спросила:
— Как пройти на Смоленск?
— Ступайте к реке, да поторопитесь! А там — через мост! — женщина громко захлопнула за собой дверь.
— Странно, — брезгливо пожала плечами Нина. — Почему торопиться? До комендантского чеса еще далеко. Боится тетеха.
Леля раздумывала. Только когда пересекли поперечный переулок, ответила:
— Побаиваются. Может статься, к ним или соседям уже забредали молодые люди в таких же стеганках. И даже располагались на ночлег. А приказ такой: «Хозяин обязан предоставить свой кров любому, кто попросится; но сразу сообщить о гостях в комендатуру». Может, уже схватили кого-то…
— Тогда незачем отираться по глухим проулочкам, будто чего-то опасаемся.
— Подозрения могут явиться везде, — сказала Леля. — Но ведь, идя в разведку, не предусмотришь, как все сложится.
Сейчас они подходили к скоплению грузовиков на перекрестке.
С левой стороны показались трое немцев в фуражках с высокими тульями — офицеры… Остановились на перекрестке, словно поджидая кого-то. И вдруг оглушительно захохотали. Самого длинного пополам изогнул этот смех, безудержный, самодовольный… Офицеры, кажется, даже не взглянули на двух девушек в линялых, грязных стеганках.
Подруги свернули налево и зашагали по широкой, прямой улице.
— Большого скопления фашистской солдатни не видно, — тихо сказала Нина.
— Да, не заметно. Только не забывай, мы слишком усталые… Даже обыкновенное любопытство повыветрилось… Нам бы поскорее домой, в родной Смоленск!
— А я — что?
— Крутишься, туда-сюда зыркаешь. Кому-то может броситься в глаза.
Впереди — через квартал или немного дальше — двухэтажные дома как бы начали врастать в землю, постепенно сплющивались.
— Под уклон уже дорога, к реке… — Леля всматривалась в отдаленные, лишь смутно чернеющие меж оголенных берез домики на том берегу. Нина толкнула ее локтем. И взглядом показала вправо.
Там, посреди взрытого, бугристого пустыря, на высоких кольях была растянута маскировочная сетка.
— Жива не буду, а гляну, — воскликнула она, уже отбегая.
— Назад! — Леля слегка повысила голос, и Нина срезу послушалась.
— Лелька! — задыхаясь от возбуждения, шептала Нина. — Там же капонир! Из земли торчит орудийный ствол с набалдашником! Это же танк! Ага, вот и не зря мы пришли! Кое-что подглядели. Но только странно: здесь уже западная окраина, а линия фронта — на востоке.
— Мост стерегут, — сказала Леля. — Резерв охраны.
— Боятся, гады, нападения и с запада… Может, опасаются наших парашютистов!
Еще несколько шагов — и открылся грязный, кривой проулочек: насколько хватал глаз — сплошные заборы по обеим сторонам. В лица дохнуло сырым, с гнильцой, ветерком. Улица резко пошла под уклон, и стала видна река безрадостного свинцового цвета. Ближе к берегу дорога загибалась вправо, к серому деревянному мосту. Едва начнет смеркаться — мост и вовсе неразличим станет.
— Без охраны мост! — изумленно сказала Нина.
— Это только кажется, — возразила Леля. — Наверняка за ним наблюдают… — и добавила: — Поворачиваем в кривой проулок! По нему выберемся на параллельную улицу. Ведь она была безлюдной.
— Леля! Ты слишком осторожничаешь. И, пожалуйста, разреши дойти до моста! Снизу-то, наверно, заприметим еще что-нибудь ценное для разведки.
— Возвращаться от моста будет подозрительно, — раздумывала Леля. — Да и девчата ждут.
— Тогда спустимся к реке, будто попить. Оглядим берег. Надо все разведать как следует.
— Ладно, будь по-твоему, — согласилась Леля.
5
Когда подруги спустились к реке, они увидели автоматчика, расхаживавшего по широкой заасфальтированной площадке перед мостом. Значит, об охране не забыли. Не обнаружив больше ничего интересного, решили вернуться назад.
— Подниматься до проулка не станем, — сказала Леля. — Пойдем берегом. А будет скользко — ухватимся за жерди изгороди.
— Верно! — подхватила Нина. И неожиданно для себя добавила: — Почему-то кажется мне, застукали бы нас в переулке-то. Хотя никто вроде не следил. Давай поторопимся, девчонки ждут.
С трудом удерживаясь от подступающего кашля, она первой взобралась по скользкому склону до изгороди, за которой был огород. Обернулась, протянула руку Леле. А та?… Странно! Как уцепилась за космы репейника, чтобы не сползти вниз, так и застыла на месте! Дрогнувшим голосом она сказала:
— Нина, не озирайся. Гляди только на меня. Сверху за нами наблюдают.
— Понимаю, — в тон ей ответила Нина. — Может, пронесет. Ухватись за мою руку, поднимайся.
В этот момент сверху раздалось:
— Эй! Девотшки! Сюда!
— Влипли! — Нина глянула наверх на двух немцев в фуражках и распахнутых шинелях, и нашла в себе силы улыбнуться. Но тут же, глухим стоном, у нее вырвалось: — Из-за меня! Всех я подвела!
— Главное, не отступай от нашей легенды… — перебила ее Леля.
Немцы ждали молча.
— Когда карабкаются вверх, то розовеют, — отчетливо прозвучало на правильном русском языке; один из немцев шагнул навстречу Нине, которая поднялась первой: — А чего ты бледная? Словно тебя неделю в бочке отмачивали… Со страху, да?
— Когда вчера впервые на германских офицеров натолкнулись, — Нина старалась говорить как можно спокойнее, — очень испугались. Среди поля нас догнали мотоциклы, а потом легковушка… Сейчас во второй раз — уже не страшно.
— Не страшно, значит? Так, так…
Расстегнутая шинель немца распахнулась и на френче блеснула белесая бляха в виде полумесяца — значок полевой жандармерии. — Я извиняюсь, девочки, но вас придется задержать. Пригласить на собеседование. Следуйте за нами!
Миновав каменный дом с громадными окнами, они вошли в распахнутые ворота. Подруги увидели обширный, заасфальтированный двор с кирпичным флигелем посредине и навесом в глубине.
— Девочки, стоять здесь! Ожидать! — немец, знающий русский язык, скомандовал и ткнул пальцем в угол у каменного крылечка. А сам прошел внутрь дома.
— Нет мне прощенья! — вырвалось у Нины. — Ведь я подговорила спуститься…
— Брось! — тихо перебила Леля. — Что за командир, если подговаривают его. Нет, я тоже хотела побольше разузнать.
— Что теперь с нами сделают?
— Выявится при допросе.
— Вряд ли. Подозрения у них — лишь смутные, расплывчатые. Постараются выманить или выжать какие-то признания. С этой целью притворятся, будто что-то им известно…
Леля на какую-то секунду прижалась к подруге, схватила ее пальцы, сжимала их медленно, но все крепче. — Нинка, глянь искоса на окошко флигеля…
Нина повернулась лишь чуточку, незаметно для того, кто бы мог за ней наблюдать. И всматривалась исподлобья.
— Ничего не видать, Леля. Сплошная темь. И кажется, за стеклом с внутренней стороны — решетка.
— Вот-вот. А в решетку вцепилась рука, и лицо белело. Заключенный вроде бы, и знаки подавал. А сейчас — ничего.
— Может, почудилось от усталости?
— Не думаю. Вероятно, не хватило сил дольше держаться на весу. Ведь окошечко под самой крышей — это выше человеческого роста. Надо полагать — не один там. Взобрался на плечи товарища, выглянул, и догадался.
— Догадался? Неужели кто-то из наших? — Нина вздрогнула.
— Не думаю, — помедлив, ответила Леля.
— Когда захватывают вооруженного противника — такого прямо в гестапо тащат.
— Ждет очереди.
— Как и мы? Ты вот это подумала?
— В чем-то мы по-разному смекаем. А зато согласны в главном: быть готовым ко всему.
— Еще бы! — Нина набрала воздуху, чтобы сказать, что сколь она ни виновата, но сейчас-то командир четверки может на нее положиться. Ничего не выдаст, как бы ни выпытывали, как бы ни мучили. Не договорила — зашлась хриплым, надрывным кашлем.
Леля скинула свою стеганку, набросила на подругу. И, несмотря на сопротивление, закутав ее так, охватила поверх своей стеганки обеими руками — согревала.
— Лелька, прекрати! — с усилием, сквозь мучительный кашель и невольные слезы проговорила Нина, стараясь локтем отпихнуть подругу. — Сдурела, что ли! — почти выкрикнула она и, заметив, как рыжеусый немец выскочил из-под навеса и воззрился на них, уже шепотом упрашивала: — Не надо, Лелька… Сама-то в тонкой фуфаечке. Ведь если тоже простынешь…
— Нинка, ты обещала слушаться, — шептала ей на ухо Леля. — Когда Ефремов командовал, помнишь, он пригрозил: «Гарантирую, что за невыполнение приказа вышвырнут из части!..» Вот и я ручаюсь.
— Ха-ха! — Нина засмеялась, а чуть отдышавшись, твердо выговорила эти два слога. Но спустя секунду в ее хриплом голосе и вправду слышалась усмешка: — Ничего себе перспективочка!..
Леля поцеловала ее в ухо.
— Вот именно! Будем держаться до последнего. Помни главное. Нас мобилизовали рыть окопы. Но мы с тобой — смоленские. Ни с кем не дружили, только вдвоем держались. И нам ни до кого дела нет — лишь бы домой!
Уже отстранясь от подруги, Леля перехватила ее быстрый взгляд на темное окошечко под черепичной крышей.
— Сколько, по-твоему, прошло времени, как мы тут? — спросила Нина.
— Около получаса. Может, и больше.
— Стоим у распахнутых ворот, ожидаем. А за нами никто не следит.
— Неизвестно.
— Думаешь.
— Под навесом уже темновато. Нет уверенности, что там — единственно тот усатый. Притом из первого же, за крыльцом, окошка тоже могут посматривать. Удобно: и наискосок, и немножко сверху.
— А все-таки, — Нина придвинулась ближе. — Раз есть хотя бы малая возможность убежать и снова в строй… Ведь обязаны! Прямой долг — не упустить хоть и малые шансы!
В напряженно вскинутой голове подруги, в ее очень светлых, а сейчас — от расширившихся зрачков — почти черных глазах читалось такое неистовое стремление вырваться на свободу, что Леля, при всем ее самообладании, заколебалась. И принудила себя отбросить уже взвешенные доводы за то, чтобы ждать; принудила себя быстро пересмотреть все наново. Прежде всего: в ее, командира четверки, решение терпеливо выжидать не прокрался ли обманчивый инстинкт недоверия к чрезмерному риску? Ведь он, риск-то, во всем!.. Определи-ка с маху, где чрезмерный и где скромненький? Разве не может обернуться так, что опасение перед настигающими пулями при попытке бегства приглушает сознание неменьшей вероятности того, что вот сейчас втолкнут их обеих в карцер или просто в клетушку и примутся пытать, рассчитывая выбить хоть какие-то признания? Ведь уже приходилось слышать о нередких случаях, когда люди цеплялись за малейший шанс отстоять жизнь, упорствовали до последних секунд, и все лишь для того, чтобы погибнуть гораздо более медленной и тяжкой смертью?.. Верно вроде бы… Но в затопляющем страну потоке бед и горя значат ли что-нибудь ваши, двух девчонок, смерти — очень мучительные или не очень? Лишь одно важно: сумеете ли погибнуть, ничего не выдав?
А может статься, фашисты только и ждут вашей попытки бегства — хотя бы косвенного доказательства того, что предпочитаете пули в спину, только бы ничего, никогда не сорвалось с языка? Покамест — никаких улик. И даже то, что одна из двух рванулась поглазеть на маскировочную сетку и на капонир, — еще не улика. Всегда и всюду встречаются зеваки, оболтусы, охотницы подглядеть в замочную скважину, сунуть нос в любую щелку… Не улика и то, что сошли к реке, да тут же поплелись обратно. Кто бывал в походах, знает — как изматывает жажда, и не только в жаркое время.
А Нинка изводится раскаянием. Это она уговорила спуститься, надеялась еще что-то заприметить. А какому разведчику того не хочется? Но может, именно та ноша, хоть и не совсем отчетливо чувствуемая, подталкивает ее к безоглядной решимости? Когда возвращались в гору, прямо в когти фашистам, разве не чернело дикое, невыносимое отчаяние в прозрачных Нинкиных глазах? Отчаяние от непоправимости опрометчивого шага. Отчаяние, что провалила и подругу, да еще, может, и тех, которые в лесу ждут… Отчаяние толкает к безрассудству.
Но едва снова мелькнула мысль о том, что конечно же не за себя в первую очередь страшится Нина, так сразу возник единственный неотразимый для Нины довод. И Леля прошептала:
— Немцы похитрее, чем это нам помечталось. Они, может, и не только с горы, сами незамеченные, за нами следили, но и раньше? Дадим им зацепку нас обвинить, так и не нас одних к ответу притянут. Их логика примерно такая: за попыткой бегства кроется стремление любой ценой сберечь военную тайну, за вторжением к дряхлому дровоколу кроется, может быть, явочный пункт. Убийственная логика! Не нас одних избивать станут.
— Ты права, — быстро шепнула Нина. Она размышляла приблизительно о том же самом.
— Не пора ли поесть?
— Пора!
Подруги наклонились к вещмешкам, развязали. Нина вдруг спохватилась, отпрянула от мешка. Огляделась. Поблизости — по-прежнему никого. Тогда прошептала:
— Лелька, подумай-ка. Ведь эти лепешки — домашней выпечки… Подтверждение: мы задержались здесь только затем, чтобы выпросить еды.
— Правильно. Тогда давай — лишь ополовиним.
Сколько еще прошло времени?
Коричневые и красно-бурые черепицы на крыше сделались одинаково темными.
Леля и Нина примостились на краю крылечка, тесно прижавшись друг к другу.
Вдруг раздался отрывистый, пронзительный крик. Девчата от неожиданности пригнулись, как если бы за спиной прострочил автомат. А в следующий миг вскочили.
— Откуда? — едва повинующимися губами прошептала Нина. И прочла в глазах подруги тот же вопрос.
— Мне послышалось — из-под земли будто, — чуть помедлив, ответила Леля. — Из подвала, надо полагать.
Она увидела на губе подруги кровяные отметины. Хотела предупредить, чтобы та не прикусывала губы. Не успела — на крыльцо вышел жандарм!
— Баришни! Сюда!
Он посторонился, пропуская задержанных, а потом громко захлопнул дверь, грохотнул засовом.
Слегка подталкиваемые сзади жандармом, подруги протопали сапогами по кафельным плитам узкого коридора.
— Сюда! — Жандарм распахнул крайнюю слева дверь.
Подруги вошли и остановились перед обшарпанным канцелярским столом с тускло белеющей стопкой бумаги. Справа от единственного окошка — облезлый, продавленный диванчик, слева — стул с резной спинкой. Сквозь немытое окошко различим все тот же навес.
Жандарм указал на диванчик и удалился. Подругам с диванчика стал виден и флигель, расположенный ближе к воротам.
Через несколько минут в комнату вкатился кругленький человечек с узкой щеткой усиков над верхней губой. Был он во френче со следами споротых погон и в штатских брюках. Присев за стол, спросил:
— Ну, рассказывайте, как вас принудили… что заставили делать? Рекогносцировку, рейд по зафронтовому краю?… Не бойтесь, мы не злодеи. Честно во всем признаетесь — и скатертью дорога. Идите к маме и папе.
Следователь неплохо говорил по-русски. Подруги, как бы невольно вздернув брови, с наигранным недоумением смотрели, как он, с карандашом наготове, придвинул к себе стопу бумаги.
— Ну, да — принудили нас, — Леля мельком, искоса, поймала настороженный взгляд подруги. — Еще перед тем, как ваши войска заняли Смоленск, в июле. Мобилизовали рыть окопы в Подмосковье…
Она начала выкладывать все ту же, заранее подготовленную легенду.
Следователь перебил:
— В какой день убыли из Москвы?
— Не были мы там… Выгрузили нас у Можайска.
— Комсомолки?
Дверь, хорошо смазанная в шарнирах, беззвучно приотворилась. Леля мигом уловила это. Кто-то шагнул в комнату. Наверно, жандарм.
Леля развела руками:
— Что поделаешь? — Она перехватила сердитый взгляд подруги. «Не торопись возражать» — как бы говорила она. — Что поделаешь?… У нас так: если хочешь учиться, вступай в комсомол!..
— Люкс девочки! Прима! — одобрил следователь. — Нельзя напропалую выдумывать. А надо перемешивать с дозами реальности. Изложите главное: когда в рекогносцировку направлены? Какие волости, какие уезды рейдом прошли? Были с вами другие барышни?
— Мы сказали все! — упорствовала Леля.
— Бравада не спасет вас, девочки! Худо будет. Лучше своевременно признаться! Доставлю сюда вашего компаньона, коего мы схватили. Тогда каково станет?
Нине почудилось, локоть подруги чуть дрогнул. Нет, конечно же, Леля намеренно подтолкнула ее — мол, держись до конца! Наверно, Леля тоже вспоминает о странных выстрелах Самсона. Может статься, как раз его схватили?
— Передать мой запрос господам из гестапо прислать сюда захваченного! — приказал следователь жандарму.
— Его приводят в сознание, — извиняющимся тоном ответил тот. — Тюремного врача вызвали. — И вышел.
Следователь громко позвонил:
— Минна! Живо сюда!..
Когда в комнату вошла невысокого роста женщина с круглым обрюзгшим лицом, он приказал:
— Обыскать. Обследовать одежду.
Подруг увели в кладовку, заваленную немецким обмундированием. Заставили раздеться. Минна тщательно обследовала каждый шов, каждую складку. Ничего подозрительного.
— Слыхали про тайные разведчиков аусвайсы? — спросила она. — На тончайшей шелковинке — в бельевых швах?.. У вас — ничего. Полагаю, вас отпустят.
Предположение Минны не оправдалось. Подруг заперли в подвале.
— Доедим лепешки, — сказала Нина после приступа кашля. — Запас уж не понадобится.
— Только не паниковать! — отозвалась Леля.
— Думаешь, я скисла?
— Не думаю, Нинка! Просто так я, на всякий случай.
— Не скисла, но и несбыточных надежд не хочу.
Леля понизила голос до шепота:
— Несбыточных не надо, — она приумолкла как бы только затем, чтобы поскорее развязать свой мешок и достать остатки лепешки. — Но пока человек жив, он должен надеяться на лучшее.
— Отсюда не сбежишь, — вздохнула Нина. — Я слышу, поблизости потихоньку топчется кто-то.
— И я слышу. Пусть. Улик и вправду никаких. Надеюсь на здравый смысл немцев. Им выгоднее поуспокоить обширный свой тыл. Им выгоднее, чтобы мобилизованная молодежь, возвращаясь по домам, объявляла: «Немцы отпустили…» Смекаешь?
Нина прижалась к подруге:
— Лелька! Сознаюсь, и мне взбредало в голову… Вот это самое. Но гнала такую мысль. Уж больно заманчивая.
Незаметно подруги задремали. Проснулись от гулких раскатистых взрывов.
— Наши самолеты бомбят! — предположила Леля.
— Где?.. — Нина не договорила. Ее дыхание почти не чувствовалось.
Леля плотно обхватила ее руками. Согревала, как могла.
Вскоре Нина очнулась. Однако ей становилось все хуже… Легла на бок, спиной к Леле, скорчилась. И теперь уже не пыталась одолевать раздиравший грудь кашель.
Сквозь решетку тягуче сочился хилый рассвет.
Лязгнул замок, и дверь распахнулась. В подвал вошел немец. Был он в черном прорезиненном плаще. В руках держал стетоскоп.
— Подняйт больная, — приказал врач Леле и жестами объяснил, что надо поднять девушку.
Он всмотрелся в помертвевшее лицо Нины. Поднял и вновь опустил стетоскоп.
— Черт побирайт. Эта русишь кляча мы будет считайт разведчиц. Это же идиотство, мой бог. Выбросить их вон! — И ткнул пальцем в Нину и Лелю: Шнель! Шнель!
Леля помогла Нине выбраться наверх, во двор.
Подошел следователь.
— Через мост разрешено будет завтра, — проговорил он раздельно и внушительно. — Только завтра через мост! Пока попросите приюта где-нибудь. Уразумели?
— Конечно, мы понимаем, — кивнула Леля.
Переулок узкий, кривой казался нескончаемым.
— Подвал-то, Лелька, совсем такой, как… виделся мне в страшных снах.
Нина приостановилась, будто хотела сказать еще что-то. На самом же деле, чтобы совладать с опять навалившимся приступом тошнотной слабости.
Рябое, низкое небо, рваное от стрельбы зениток. Это — по нашему самолету, вновь и вновь прорезывающемуся в плотных облаках. И Нине, как эхом, донесло вдруг слова повстречавшейся женщины, отрывистые слова, которые Нина не смогла воспринять сразу: «Наверно, тот самый, что ночью сбросил две бомбы на подъезды к мосту». Нина обернулась. Женщина с двумя полными ведрами на коромысле все еще торчит посреди грязи, словно позабыв о грузе на плечах, исподлобья всматривается в небо.
А Леля, угадав, о чем подумалось подруге, добавила:
— Вероятнее всего, разведывательный… Не тот, что ночью бомбил мост, — и тотчас ее согнуло в очередном приступе кашля. Может, упала бы, не поддержи ее Леля. Потом еще долгие минуты лил пот с ее лба, щипал глаза, не давая видеть даже промоины под ногами. Нина шагала, держась за локоть Лели.
Наконец стало чуточку полегче. Впереди за жердевой оградой виднелся тонкий, молодой клен. Последние листья на нем казались издалека черными. И вот впереди замаячили острые верхушки. Неужели лес уже? Спасительный лес…
— Ура, Нинка! Проулок вывел к опушке!
— Лелька! На свободе мы! Помнишь, я, дура, не надеялась. Не бойся, мне сейчас лучше. Пройду сколько надо. Свобода! Лелька, ты счастлива?
— Еще как! Эх, если бы нам еще и оружие!
Нина повторяла, больше самой себе внушая, что сил у нее прибавилось. Однако нет — убывают силы. Ноги — будто чужие; шаркают, спотыкаются, едва отрываются от земли.
Начало смеркаться. Под ноги лезли кочки — скользкие и вязкие. Леля принялась на ходу всовывать в рот подруги крупные, освежающие ягоды клюквы. Силы снова прибавились, и Нина стала смутно различать багряные и бордовые накрапы клюквы на блекло-зеленом мху. Потянуло и самой нагибаться, но побоялась: если свалится — вряд ли встанет с этих пружинистых кочек. Опоры настоящей нет.
Леля скинула ватник, расстелила поверх выступающих корней, посадила Нину.
— Немножечко подождешь, я наберу клюквы про запас.
— Ну конечно.
Подул ветер, замелькал снежок, и Лелину фигуру на болотце затянуло зыбкой переливающейся белой сеткой. Леля вскоре прибежала, и хотя Нина взмолилась: «Не так уж холодно, потерплю, а вот ягод надо запасти» — Леля заставила больную подняться и брести дальше.
Нина все чаще впадала в забытье, но все-таки волочила ноги, все-таки не останавливалась… Очнулась от слепяще белого света ракеты. Вот она рассыпалась и погасла. Нина различила движущуюся цепочку огоньков. Машины! Одна за другой… И тут же, поверх цепочки, вспорол черноту вертикальный луч прожектора.
— Не беда, шоссе за целый километр, — успокаивал голос Лели. — Зато наконец-то нам попался неплотно сметанный стог. Сейчас уложу тебя. Да и сама высплюсь.
Нина проснулась, застонала. Боль в боку не дает глубоко вздохнуть, а щекочущий запах сена, чего доброго, снова заставит надрываться в кашле.
— Лелька, — Нина едва услышала свой шепот, стала собираться с силой, чтобы заговорить спокойно и ровно. Тут она почувствовала прикосновение Лениных рук: оказывается, та стянула с нее сапоги и тщательно наматывает портянки. Нина догадалась: Лелька свои собственные портянки просушила за пазухой, теперь эти почти просохшие наматывает обессиленному бойцу. А на свои ноги Лелька накрутит сырые.
— Лелька! Я невзначай простонала… Но ты не думай, будто мне хуже.
— Вовсе ты не стонала, — и Леля сноровисто натянула сапоги на согревшиеся ноги подруги. — Тебе во сне же и почудилось. Еще засни да наберись бодрости.
— Я набралась уже. Мне лучше… Пойдем!
— Сначала подзаправься малость. Я все же запасла клюквы. Хоть и немного.
— А сама?
— Ела! Думаешь, вру?
Под вечер того же дня произошло совсем странное: только что месили грязь у заброшенного хуторка с обугленными стенами, с зияющими провалами вместо окошек — и сразу же очутились в сухом сосняке, гудящем верхушками.
— Лелька! Почему вдруг изменилось все? Ты, негодяйка, на себе меня тащила?
— С чего ты взяла, дуреха? Ничего подобного! Ты сама ковыляла.
— Не смей нести меня.
— И не подумаю! Не хватало мне тащить этакую «разжиревшую!»
А когда сумерки заволокли кусты на старой просеке, Леля вдруг резко дернула к себе Нину. Та успела почувствовать — царапнуло пальцы. Колючей проволокой! И тут же они услышали милое, щемяще родное:
Каховка, Каховка, родная винтовка, Горячею пулей лети…— Наши! — выдохнула Нина. — Лель…
Подруга зажала ей рот.
— Патефон! — шепнула она. — Слышишь, немецкая речь? Это фашисты.
А дальше у Нины стали стираться грани между днями и ночами, между коротким урывчатым сном и явью. Лишь одно крепко, навсегда запало в память.
Леля сказала, что сейчас удалось ей собрать немножко калины. Как только минуют сырой луг и выберутся на пригорок — отдохнут и подкрепятся. Наконец одолели топкую низину, расположились на корнях. И Нина старательно жевала твердоватую лепешку и следила из-под слипающихся век, чтобы Леля тоже ела… Потом, уже в забытьи, почувствовала, как она жует и глотает хлеб. Откуда взялся? Нет, это не хлеб, а кусочек ячменной лепешки. Той самой!..
— Лелька! Ты не съела тогда, как уговаривались? И мне подсунула, пользуешься, что плохо соображаю. Твоя низость это — самой не съесть, а мне скармливать.
И Нина заплакала, ненавидя себя за то, что в забытьи съела сбереженную Лелей долю.
У Нины заболело и распухло горло. Не могла даже шептать. Однако брела.
Но вот иссякли также и Лелины силы. Укладывая ненадолго подругу на свой ватник, Леля заставляла себя стоять. А что, если не хватит силы подняться?
Выпрямясь и держась за ветви дерева, девушки заметили сквозь мельтешащий снежок две фигуры в серых шинелях. Один разматывал катушку. Донеслись обрывки русских слов.
Леля крикнула. К ней подбежали.
На расспросы телефонистов Леля ответила то, что предписывалось в таком случае:
— Мы — медсестры… Выбрались из окружения.
Телефонисты заверили: как только восстановят связь, сразу пришлют подмогу.
Леля вдогонку им выкрикнула вопрос, от которого Нина пробудилась:
— Какое сегодня число?
— Четвертое ноября!..
После шести суток боевого пути комсомолки Колесова и Шингаленко добрались до своих.
6
Лелю и Нину везли в Тучково на дряхленьком, чихающем «газике» с выбитыми боковыми стеклами.
Девушки смотрели на встречные грузовики, над кузовами которых виднелись ряды касок, и снова друг на дружку… И молча улыбались. У них не было сил даже говорить.
До КПП перед Тучково доехали, когда уже стемнело.
Работники медпункта направили девушек в Кубинку, в походный госпиталь.
— Немедленно в Москву! — приказала главный врач госпиталя после того, как обнаружила у Нины рецидив туберкулеза.
— Не лучше ли дать им отлежаться? — возразил ассистент. Уж больно слабы…
— Понимаю, коллега. Но я за девушек не беспокоюсь. У них такая воля, которую, — главный врач помедлила, выбирая слова, — назвать «железной», пожалуй, маловато.
Рано утром из госпиталя отправляли в Москву тех, кто нуждался в специальном лечении. У санитарной машины толпились выздоравливающие и легкораненые. Каждому хотелось сказать девчатам что-то теплое на прощанье.
И вдруг сквозь толпу протиснулась запыхавшаяся от бега кареглазая девушка в такой же линялой, измызганной стеганке, в каких накануне предстали перед связистами Леля и Нина. Это прибежала Зина Морягина. Она успела лишь обнять подруг и сообщить, что и Тоня здесь. Вскоре они тоже поедут в Москву… Потом, уже в последний миг шепнула Леле на ухо:
— Мы с Тоней в Особом отделе… Ненадолго!
Зина приостановилась в воротах, посмотрела, как санитарная машина поворачивает за угол, к шоссе, и снова припустила бегом. Обрадовать Тоню.
У водопроводной колонки ее догнал высокий, тощий особист. Уже знакомый. Вчера утром, едва их с Тоней доставили в его ведомство, он накормил подруг, дал им выспаться. Лишь поздно вечером расспросил их, каждую в отдельности.
— Извините, Марягина… Но через часок еще не отделаетесь от нас. Понимаете, еще один явился… Будто бы подрывник. Проверяем его россказни.
— Имя, фамилия? — нетерпеливо крикнула Зина и даже притопнула сапогом.
— Потом узнаете. А пока подождите меня с Тоней. Я помогаю пробку на шоссе ликвидировать. Того и гляди, налетят «юнкерсы».
Подруги долго ждали «своего» особиста. Когда наконец он явился, то позвал одну только Зину.
…В узком длинном коридоре полуподвального помещения они подошли к отдаленной двери. Зина вздрогнула от щелчка ключа в замке. Опередив особиста, вбежала в каморку, освещенную чахлым фитильком в консервной банке. На кровати, положив голову на тумбочку, сидел парень. Он встрепенулся:
— Зинка-а! Выручай!..
Только по голосу она распознала Самсона. Внимательно всмотрелась. Он резко изменился. Втянулись его полные, рыхловатые щеки, остро выступили скулы. Маленькие глаза потонули в глубоких темных впадинах.
Поначалу Зина не могла понять, в чем подозревают Самсона. Потому что никогда не слышала о «самострельщиках». Не представляла, откуда могут появиться такие…
Подозрения возникли на другой день, когда парня спрашивали, при каких обстоятельствах он откололся от группы… Замешательство Самсона побудило задать вопрос: уверен ли он, что товарищи слышали не только его выстрелы, но и немецких автоматчиков?.. И тогда напомнили ему, что ранившая его пуля была выпущена выстрелом чуть ли не в упор.
Зина подтвердила многое в его показаниях.
— Очень хорошо, — сказал офицер, — однако вы, товарищ Морягина, не слышали никаких иных выстрелов, кроме винтовочных? И как раз в стороне братской могилы, куда подследственный был послан за оружием. Потолкуйте-ка наедине с ним по-товарищески!
Офицер вышел.
Чтобы поскорее покончить с этим неприятным разговором, Зина принялась бить в одну точку: почему группа не слышала автоматных очередей?.. Самсон в конце концов признался: поначалу бахнул он трижды, так как в шелесте листвы послышалось, будто кто-то подкрадывается в темноте. Сразу же понял: померещилось. Однако живо представилось, как все примутся потешаться, когда откровенно расскажет об оплошке.
— На всех других я начхал бы, но в твоих глазах осрамиться, Зиночка, — свыше сил моих! — уверял Самсон. — Я же тебя люблю. Потому решил двинуть назад, к передовой. Воевать в общей, нормальной воинской части… Не казни презреньем, а посочувствуй.
И так далее, все в том же духе.
Офицер вернулся через час. Объявил, что отыскал в госпитале красноармейцев, которые видели, как мордатый парень с тремя винтовками бежал к их окопу. Его подкосило на глазах. Подозрения о «самострельстве» снято.
Зина обрадовалась, но все-таки не могла преодолеть неприязни к недавнему товарищу.
7
Нине Шингаленко разрешили побывать в части на праздничном вечере в честь годовщины Великой Октябрьской революции.
Майор, который договорился об этом с главным врачом, сам и привез ее в клуб.
Четверо подруг снова оказались вместе.
Нина была еще очень слаба. Не танцевали и ее подруги. Дружная четверка притулилась у стены и слушала, как из отдаленного угла зала струилась третья часть Восьмой — «Патетической» — сонаты…
Радость была не полной. Рядом с ними не было никого из комсомольцев-подрывников. Погиб геолог Генка. При переходе линии фронта ему загорелось во что бы то ни стало добыть языка. Зажег идеей и командира, и Кима. Комсомольцы захватили шофера порожней немецкой трехтонки, но в перестрелке Генку убило разрывной пулей.
— Понимаете, девочки, — заговорила Леля. — Ребята никогда не простят себе гибель Геннадия. Командир отказался от отпуска, попросил отправить его на передовую. Ким, из солидарности, — то же самое. Короче, праздник они отмечают в окопах.
…Старинный вальс «Березка» сменился маршем. Зина Марягина поднялась: захотелось разглядеть пианистку.
— Зинка! Мы же видим, тебя тянет станцевать. И — пококетничать. Чего теряешься, дурочка?
— Идите вы, — отмахнулась от подруг Зина. Лавируя между парами, она подошла к пианистке.
Та подняла раскрасневшееся круглое личико; с улыбкой глянула на Зину.
— Хочешь заказать свое любимое? Ну так и быть, выполню еще одну персональную заявку. Слушаю!
Зина отрицательно повела головой.
— Вовсе не заказать, а… Ты заговорила, и по голосу, только сейчас, я узнала тебя. Мы вместе дежурили на крыше. Ты была с задиристым парнем Владиком… А я — Зина. Твой Владик потом тушил зажигательную бомбу.
Пианистка всплеснула узкими длинными пальцами.
— Помню! Еще бы! Тогда с тобой на крышу поднялась еще одна ревизорша, построже.
— Нинка тоже здесь. Только мы не танцуем, потому что… Неважно — почему.
Пианистка вскочила, чмокнула ямочку на щеке Зины и сказала:
— Все дороги ведут сюда! Поверишь ли, вот этого очкастого брюнета, ценителя музыки, разок я тоже встречала. Тоже при запоминающихся обстоятельствах… Ему, однако, память отшибло. Вот и торчит здесь, уставясь на меня, старается припомнить. Сменив иронический тон на ласковый, крикнула кому-то через плечо: — Джана! Поиграй падеграс, это простейший танец, сумеешь! — Шепотом скомандовала Зине: — Ухвати меня левой за правую, стану кавалером. И так доберемся до твоей подруги.
— Ты все еще не назвала себя, — напомнила Зина. — Правда, говорила — недовольна своим именем. Однако раз уж мы в одной части…
— Никуда не денешься, — усмехнулась пианистка. — Точнее сказать, не люблю не самое свое имя — Винцента… Не по душе дисгармония его с прозаичнейшей фамилией — Грибанова. Мать полька, отец русский — вот и разгадка.
— А по-моему, хорошая фамилия. Совсем недавно брели по лесам и думали: какая бы радость найти рыжиков или подберезовиков.
— Вы, значит, уже побывали… Побывали там? — зашептала Винцента.
Зина подвела ее к своим подругам.
— Вы, как я понимаю, все вместе, — сказала Винцента. — Наверно, в одной комнате. Не разрешите ли прийти завтра к вам, хотя бы ненадолго?
— С удовольствием бы, — улыбнулась Леля. — Но ты же знаешь внутренний распорядок. Хождения в гости запрещены.
— Тогда после обеда прогуляемся по Москве, — предложила Зина. — Возьмем с собой Винценту. Надеюсь, не откажешься?
Та согласно кивнула.
К девчатам подошел черноволосый парень в очках. Это бывший студент «Цветмета» Виктор Бударов. Винцента встречала его в горкоме комсомола. Парень настаивал, чтобы его отправили на фронт. Просился в разведчики, но тогда ему отказали.
— Тебе приходилось выступать как пианистке? — спросил он Винценту.
— А что?
— Я читал о служителях искусства… Они непроизвольно вносят свое резко индивидуальное «я» и в те сферы, где надо руководствоваться совсем другим. Где, как говорится, не до искусства. Мне сейчас пришло в голову: вероятно, тебя тянет и самую свою жизнь исполнить, как мелодию. Или — поэму. Не надо бы этого. Где железо против железа, там уместны лишь боевые марши, но не сонаты, не всякие там си бемоли да ре миноры. Думаешь, я не прав?
Она ответила не сразу.
— Считаешь, пианистке не место на фронте? — Она говорила все тише, почти шепотом. — А я хочу быть там, где решается судьба страны. Вот и все. Кстати, я увлекаюсь не только музыкой, но и иностранными языками. И, между прочим, имею на тебя виды. Да, да. Я радовалась, что ты словно примерз к роялю и тебе не надоедает слушать. Старалась играть получше — прежде всего, для тебя! Потом охотно с тобой разговорилась. И знай: все это неспроста. С целью!.. Но об этом поговорим при следующей встрече.
— Уже без двух минут десять, — Леля взглянула на мужские ручные часы, которые накануне получила вместе с личным оружием — наганом. — Без двух… И последний на сегодня вальс.
Голос ее чуть дрогнул. «Не только на сегодня, — подумала Нина, — но может, последний и в жизни». А вслух произнесла:
— Не могу наглядеться на нашу Зинку… Какова? С партнерами без умолку щебечет. И хохочет, и кокетничает, а ножки — сами по себе. Фигуры выполняют уверенно, безошибочно.
Нина рассказала подругам о недавней студенческой вечеринке, о дурачествах одного ухажера. Тот на лету чмокнул Зину… Получив затрещину, притворился умирающим: упал и задергался, будто в конвульсиях. А Зина вдруг отчаянно разрыдалась: «Товарищи наши гибнут, а мы тут скоморошничаем, изображаем смертельно раненных!»
— А сейчас будто подменили Зинку! — изумлялась Нина. — Вам трудно представить, до чего долго не могли тогда успокоить ее.
— Удивляться нечему, — Леля выпрямилась, глаза ее вспыхнули. — Зина поняла, как зыбка грань, отделяющая нас от уже погибших. И радуется вот, что жива, танцует, веселится и больше себя не чувствует живущей за счет воюющих.
8
Утро 8 ноября. На каменных воротах — сверкающая изморозь. Ясное небо, леденящий ветер.
Бударов и Винцента долго шагали молча. Наконец он спросил:
— Ты обратила внимание на черноглазого паренька в подъезде по Красноказарменной?..
— Это к нему ты подходил?
— К нему.
— Не рассмотрела его.
— Плохо! Ненаблюдательная, выходит. Зато он каким-то образом узнал, что я формирую группу, и увязался за мной. А ты заметила, что возле горкома комсомола парни инстинктивно сбивались в дружные кучки. Вроде бы шестым чувством выбирали друг дружку.
— Как я тебя! — Винцента легонько сжала его локоть. — Думаешь, что я не наблюдательная? Напрасно. Пока вела в падеграсе симпатичную Зиночку, то подметила, как лейтенантик, украшенный шрамами, подскочил к тебе да на меня показывал.
— Ну и что? — Бударов смущенно покосился на Винценту.
— То самое… Ты бы должен — одернуть! Девушки не терпят, когда на них пальцем показывают.
— Но техник-лейтенант показывал вовсе не пальцем!
— Ну, всей пятерней. Ты должен был одернуть своего заместителя.
— Откуда взяла? Кто наболтал? — спросил Бударов.
Винцента приостановилась, отмахнула край шали. Стал виден один смеющийся глаз.
— Это допрос? Просто демонстрирую свои разведывательные таланты. Ведь я же хочу тебе понравиться! А для чего — сейчас узнаешь. — И рассказала о своем школьном товарище Владике, которого не хотят брать в разведотряд. Родители его — отважные польские коммунисты. Летом двадцатого года вели в дивизиях Пилсудского пропаганду за Красную Армию. Чудом избежали виселицы.
— Понимаю, ты искренне веришь в якобы допущенную несправедливость, считаешь, что его необоснованно не взяли в группу подрывников. Но минувшие заслуги не дают абсолютного свидетельства безупречности… Люди меняются, классовая борьба обостряется. Муссолини в пятнадцатом году был главным редактором социалистической газеты. А в двадцать втором сделался фашистским вожаком.
— Муссолини тут не при чем! — перебила его Винцента. — Владик честный парень. Наш человек.
— А кому расхлебывать плоды благородства?
— Не понимаю тебя. Если боец вызывается на самые опасные дела, — Винцента, тяжело дыша, остановилась, — то нетрудно сообразить, что уже не три-четыре шанса выпадет уцелеть. И нет ничего дурного в том, что Владик стремится не упустить и малую возможность. А я хочу помочь ему в этом. И потому сношу твой язвительный тон.
— Дело-то не в количестве шансов, — усмехнулся Бударов. — Я готов тебе верить, и тем не менее…
— Испытай Владика на деле. Проверь.
— Нет у нас времени ставить эксперименты! Лучше я приму пятнадцатилетнего радиста Витьку Рубахина, чей отец погиб на фронте. А Владик твой пойдет воевать на фронт, а не в тыл оккупантов.
9
В умывальной кто-то судорожно всхлипывал. Словно ребенок, уставший от долгого плача, но еще не успокоившийся.
Винцента в коридоре невольно прислушалась. В это время дверь распахнулась, и на пороге показалась девушка с полотенцем вокруг головы.
— Винька, ты?! — раздался знакомый голос.
Это была Зина. Она схватила Винценту за руку, потянула обратно, в умывальную. Плотно затворив дверь, сдернула полотенце с головы, нагнулась и ополоснула лицо под краном.
— Нехорошо реветь в такой праздник, — улыбнулась Зина. — А мне хоть плачь. Хотела помочь одному парню, да все впустую. Я видела, к тебе перед обедом родители приходили. — Ты счастливая, брата имеешь. Он что — фронтовик?
— Его не отпускают воевать с оборонного завода… Поэтому вот я. Повезло, что в такую часть попала.
— А мне, понимаешь, мамка приснилась. Да так ясно, каждой черточкой, как наяву. Утешала меня. Винька, понимаешь, я ведь единственная дочь. У мамки больше никого. Так она вот и утешала. «Ничего, доченька, не печалься за меня, сердечко не надрывай… Горе-то мое, доченька, ведь оно же не навеки. Со мной вместе помрет и горе мое, поэтому не печалься…» Понимаешь? Одинокая моя мамка старалась успокоить, утешить…
Зина уткнулась лицом в полотенце. Ее круглые плечи вздрагивали. Винцента обняла ее. Тоже захотелось всплакнуть, но пересилила себя.
10
Командование Западного фронта, накапливая резервы для контрнаступления, одновременно увеличивало количество разведывательных и диверсионных отрядов за линией фронта. Они бесстрашно действовали в самой гуще гитлеровских войск: взрывали мосты и железные дороги, истребляли автомашины с мотопехотой и боеприпасами, перерезали связь между подразделениями, громили штабы.
В ноябре в тыл противника было отправлено особенно много диверсионных отрядов. Большей частью это были подвижные группы приблизительно по десять человек, составленные исключительно из комсомольцев (например, отряд Бориса Крайнова — с девушками Зоей Космодемьянской и Верой Волошиной).
В ночь на 24 ноября неподалеку от Рузы перешел линию фронта отряд (приблизительно сто бойцов), в составе которого, наряду с комсомольцами, были добровольцы из московского ополчения. Отряд расчленялся на подгруппы по десять или одиннадцать бойцов. Каждая возглавлялась кроме командира также и политработником. Такая структура диктовалась особенностями поставленной перед ними задачи: предстояло, не задерживаясь в ближайшем расположении сил противника, пробраться за прифронтовую полосу, рассредоточиться там и наносить одновременные удары в разных отдаленных друг от друга местах.
Заместителем командира по воспитательной работе в одной из боевых подгрупп назначили молодую текстильщицу — кандидата в члены партии — Аню Колотову. Называли ее политруком.
Маршрут отряда и задание ему были тщательно продуманы. Однако формирование отряда было проведено Наспех. Отряд возглавили люди мужественные, но не Имевшие достаточного боевого опыта.
Обильный снегопад способствовал благополучному переходу фронта. Незамеченными перемахнули по непрочному льду речку Рузу, втянулись в перелески. Снег был неглубоким. За ночь отряд мог бы пройти километров тридцать и вырваться за прифронтовую полосу расположения частей противника. Вскоре позади остался березовый молодняк. Справа, с северной стороны, метались широкие огневые сполохи. Оттуда доносилось погромыхиванье канонады. Слева, с юга, сквозь мельтешенье снега вспархивали злые огоньки ракет и тут же гасли. Выбрались на поле — тихо зашуршала под сапогами присыпанная снегом стерня. Впереди показалось шоссе. Пересекли его и остановились на короткий отдых в ольшанике. Головной дозор сообщил: неподалеку недлинный, но глубокий, заросший кустарником овражек; за ним — снова поле.
— Машина сзади!.. — раздался чей-то возглас.
— Одна!..
— Да, да — только две фары!
— Грузовик!.. А в кузове наверняка полно фашистов!
— Разрешите, товарищ командир?
Пулеметчики, завидя две подрагивающие на выбоинах бледно светящиеся точки, очертя голову бросились обратно, к шоссе.
И командир, после мгновенного колебания, тоже помчался за ними. Залег рядом с пулеметчиками. Прильнул к своему ППД.
— Открыть огонь, когда я дам очередь!
Глазомер у командира был безупречен. Автомат ППД и четыре «дегтяря» заработали в ту самую секунду, когда грузовик подставил отряду левый борт. С врагом расправились в два счета.
Однако снегопад, помогший скрытности перехода, теперь подвел опрометчивых бойцов. Они не заметили, что за этой машиной шла с притушенными фарами целая колонна грузовиков.
Из кузовов выпрыгнули сотни солдат. Они стали поливать скучившийся отряд очередями из шмайсеров и МГ, стремительно обходить с флангов.
— К оврагу!.. К оврагу! — закричал командир.
Отряд, отстреливаясь на бегу, ринулся к оврагу. Была допущена вторая ошибка. Вместо того чтобы оторваться от противника, оказавшегося более многочисленным и превосходящим по огневой мощи, бойцы приняли бой, и почти все погибли.
— Девчата! Слышь?.. А, девчата?
Эти близкие выкрики тонули в залпах разрывов и стонах. Все же Аня Колотова расслышала их.
— Не хнычь, а стреляй пока жив!.. Или перевязать просишь? — Она повернулась было, но воспаленные глаза уже не могли различать ничего, кроме пульсирующих огненных точек со стороны шоссе, куда она целилась. — Винька, перевяжи!..
Винцента сбросила сырой ватник и насквозь промокшую трехпалую рукавицу, вставила новую обойму. Нагнулась, извлекла из санитарной сумки перевязочный бинт. В этот момент тугая волна разрыва шибанула ее о крутой, каменистый склон. Выронив бинт и цепляясь голой рукой за мерзлую траву, она съехала было вниз, но сильная рука помогла вскарабкаться. Винцента снова натянула промокшие трехпалые рукавицы.
— Эх, не до перевязок — один конец!.. А вы, девчонки, поимейте все же башку на плечах! Намертво прищучили нас, однако.
Вспышка — разрыв и визг осколков. Еще разрыв.
Темная фигура без шапки спрыгнула вниз. Уже не более десятка винтовок вели ответный огонь.
— Девки, слышь? — выкрикивал, быстро поднимаясь, боец без шапки. — Братская могила нам — овражек этот! А швырнуло меня, девки, в расщелинку. Там спрятаться можно, немцы не найдут. И времени у них нет долго задерживаться. Залазьте, девки! Христа ради, залазь! Авось хоть вы-то живы будете!.. Слышь!..
— Пошел ты. Разнюнился! — злобно крикнула Аня. — Погибать, так всем!..
Еще взрыв, еще…
Аня выронила винтовку, медленно осела.
Вдвоем ее подхватили. Вконец отупевшую и вдруг обессилевшую Винценту привел в себя тот же голос:
— Жива, не вой! Только скользом ее — по виску! Жива будет! А ты, пушистая, чего рот разинула? Подхватывай за другую руку! Спускай! Вона расщелинка-то близехонько! Не беда, ежели морду покарябает шиповником! Оставайтесь хоть вы-то живы! Так, укладывай. Да и сама втискивайся. Обойми подружку, да согревай! Вишь, сколько ты фуфаек на себя намотала! Поди, не смерзнете. Прощевайте, девки! Малость еще побахаю!
Опять взрыв. Горячая земля запорошила глаза Винценты. Она так и не разглядела пожилого, морщинистого бойца без шапки, который втолкнул ее с Аней в укрытие.
А тот сплевывал кровавые сгустки. Боясь глубоко вздохнуть, чтобы не потерять сознание от усиливающейся боли в раненом боку, медленно взбирался наверх. И молился:
— Господи! Просил я легкой смерти. Ну, не надо… Пущай — кишки наружу. Господи, зато возмести мне. Позволь одного хоть фашиста убить. Хоть одного! Господи, дай!.. Неужели зазря подыхать?
После того как в овражке разорвалось около сотни мин и замолкла последняя винтовка, гитлеровцы приблизились. Ракетами осветили искромсанные трупы на взрытой земле, сыпанули по ним автоматными очередями и, оживленно переговариваясь, поспешили обратно.
Минут через пятнадцать фашистская колонна двинулась к последнему водному рубежу перед Москвой — к реке Наре.
11
Аня и Винцента выбрались наверх, упали коленями в снег. И глотали, глотали его — свежий, пушистый…
Аня потрогала только что перевязанную голову, поднялась и сказала сипло:
— Потопаем обратно лишь после того, как укокошим не меньше десятка фрицев. Ясно тебе?
— Ясно, товарищ политрук! — и Винцента вскочила.
— Зови просто — Анькой. На двух бойцов политрук не положен. — И добавила: — Отряд шел на запад, и мы, выжившие, пойдем согласно приказу!.. Компас есть. Айда!
— Сначала давай посмотрим: может, остался кто живой?
Аня протянула ей свою винтовку, вытащила ТТ.
— Одна спущусь. А ты жди вон, у бугорка.
…Когда Аня выбралась наверх, ее било крупной дрожью, зубы стучали.
— Никого в живых, — наконец выдавила она, — нашла ППД командирский… Но расщепило весь приклад. Однако добыла целехонький ТТ. Это второй будет… Айда, Винька!
Она вынула из-за пазухи ватника два плоских вороненых пистолета. Прижала к помертвевшему лицу. И покачнулась. Винцента поддержала ее, обняла.
— Надо, Винька, идти, — проговорила Аня, освобождаясь от ее объятия. — Надо воевать.
А между тем в полутора километрах от оврага еще отбивались от немцев одиннадцать бойцов. Пятеро из них были ранены.
— Которых не зацепило, пусть пробиваются к лесу, — сказал парень с округлым девичьим лицом. — Мы прикроем.
— Кто из раненых может двигаться, берите гранаты, — скомандовал пожилой боец, которого все называли дядей Васей. — Вставьте запалы — и за пазуху. Пойдете за мной навстречу немцам. Сдаемся, мол.
— Лишь бы поближе подпустили! — буркнул кто-то.
Дядя Вася, вместо того чтобы взять карту-двухкилометровку, протянутую ему пока еще не раненным ординарцем, принялся заматывать свою жилистую шею пятнистыми обрывками рубахи. Все недоуменно смотрели на это: пули пронеслись выше, а ранен. Как же могло зацепить?
И вновь блескучие трассы над головами, вновь засек дядя Вася последние вспышки длинной очереди. Немецкий пулеметчик все там же… Доносятся все те же призывы сдаться.
— Ну, чего таращитесь на меня! — тихонько проворчал дядя Вася. — Правильно сказано: лишь бы подобраться поближе. Стало быть, обязан я постараться, поскольку верный глазомер имею. Без меня, чего доброго, не утерпите — швырнете гранаты за целые полсотни метров. А даже и с сорока прицельно не добросишь! А надо наверняка, чтобы хоть кто-то прорвался!
— Лежа и с двадцати не попадешь, — сказал солдат белорус, поправляя бинт на плече. — Но все одно пробиваться, потому что надоть далее воеваты.
— О том и речь! Хоть кому-то пробиться. Но чтобы поближе подпустил, должен быть я в цепочке раненых! — сказал дядя Вася и, торопясь, рассказал, что им задумано.
— Прежде всего надо ослабить настороженность немцев, если не совсем ее рассеять. Чуете, братцы? Ведь они ж осветят ракетами всю кучку «сдающихся». Вмиг углядят, как опустятся руки — да за пазуху… Срежут автоматами, прежде чем ослабевший товарищ успеет гранату выхватить. Смекаете? Первый сдающийся должен быть особенно проворным, а значит — и целехоньким. И притом ихним языком воспользоваться да вдобавок изобразить ихние повадки! Чтобы — как только я рухну в снег, а за мной вся цепочка, — чтобы заподозрили не нас, а в укрытии оставшихся!
Спустя несколько секунд уже не дядя Вася, а гораздо более молодой боец сильным, звонким голосом прокричал осаждающим:
— Сейчас поднимутся с поднятыми руками шестеро раненых! Если с ними обойдутся гуманно, сложат оружие и все остальные. Только тогда!..
Немцы прекратили стрельбу. Дядя Вася и пятеро раненых поднялись и медленно пошли навстречу врагу.
— Пока не пустили ракету, не подумайте опустить руки, — внятно шепнул, обернувшись, дядя Вася.
И тут же взметнулась огненная струя. Над головами, над вздернувшимися руками шестерых она взошла режущим зеленоватым светом.
— Внимайте корректировку направления! — донесся прежний повелительный голос от еще выжидательных позиций врага. — Требуется правее! Но немного правее!
Шагающий впереди дядя Вася выругался шепотом:
— Ах, сволочи! Заставляют идти на пулемет…
Он покорно забрал правее, потрогал свою камуфляжную перевязку, крикнул:
— Идем! Идем! Сдаемся!!
Последовал одобрительный ответ.
Ведущий шестерки на своем плохоньком немецком языке принялся торопливо выкрикивать. Знайте, мол, господа милостивые оберы и унтеры, он, старый солдат, уже побывал в германском плену четверть века назад… И поэтому вот сейчас убедил и прочих русских сдаться. Но лишь с огромным трудом и с опасностью для себя удалось ему сагитировать камрадов, ибо противился политрук и даже грозил…
На какие-то секунды он умолк — прислушался к надсадному рокоту далеко впереди. Понял, что по рокадному шоссе, где часа два назад изрешетили грузовик, идут сейчас вражеские танки. В мертвящем свете новой ракеты выкрикнул еще несколько корявых немецких фраз — все в том же духе, насчет «остервенелого» политрука… Зашагал быстрее, опередил раненых уже на полдесятка метров. Услышал сдержанный немецкий говор, определил, что враг — торжествующий, но все еще настороженный — уже близко. Тогда протараторил обещание сразу же разоблачить комиссара, который, возможно, попытается выдать себя за рядового…
— Русские штыки в земле! — повторил он призыв гитлеровских листовок и рупоров.
Трижды выкрикнутое немецкое «да» было условным знаком: чтобы оставшиеся в укрытии, как только взметнется очередная ракета, дважды стрельнули вверх, якобы по идущим сдаваться.
Но что такое?.. Почему медлили немцы с очередной ракетой? Впрочем, понятно. Ведь им неохота прерывать сладкую музыку: нарастающий рокот своих мощных танков. Пусть танки еще больше устрашат русских.
Но вот взлетела ракета, расплескалась слепящим злым огнем. При ее зеленоватом свете дядя Вася различил метрах в десяти немцев. Мгновенно упал в снег. Залегли и остальные.
Выиграны две-три секунды. Гранаты в руках. Сорваны колечки. Бросок! Разрывы… «Ура-а! За Родину!»
Оставшиеся в бомбовой воронке, ринулись на прорыв, но только одному из них удалось достичь спасительного леса.
Снегопад прекратился. Начало рассветать. Аня и Винцента брели по заснеженному полю на запад. У каждой за спиной — винтовка. Силы убывали. Подтаивал снег, набившийся в голенища. От промокшей одежды бросало в озноб. Девушки шагали с упрямой решимостью. Шагали, по-детски не веря, что с ними может случиться что-то более страшное, чем уже пережитое.
Сквозь сизоватый туман впереди проступили какие-то строения. Донесся короткий, бодрый гудок паровоза.
Аня проворно сняла винтовку, прикладом уткнула в снег, оперлась на нее. Винцента проделала то же самое; ждала молчаливо — что придумает и решит старшая.
— Винька, глянь! — Аня показала на свой правый сисок. — Уже затянуло, кажись?
— Разматывать еще рано.
— Чуток размотай. Ничего! Заживет как на собаке.
— Затянуться не могло. Немножко загустела кровь, и глупо бы разбередить.
Аня, по-прежнему опираясь на винтовку, поворачивалась и напрягала зрение.
— Ежели не поедим и не обогреемся — каюк нам! А значит, упрятать надо винтовки. Войдем в поселок. А пистолеты при себе.
— У меня — наган.
— С наганом нельзя. Заметен барабанчик… Скажи спасибо, что добыла в овраге плоский ТТ, — Аня зорко оглядывала окрестность. — Эх, некстати перестало снежком сыпать! Придется кругаля дать вокруг станции.
Спрятав винтовки и наган у одинокой березы, они свернули в сторону. Одолевала усталость. Сквозь неудержимо слипающиеся веки чудилось равномерное колыханье снега.
Аня потрогала рану на виске:
— Почти загустело! Шагай, Винька! Не робей.
Станцию обошли на расстоянии больше километра. Остановились у чернеющей на отшибе бревенчатой избы. Тихо постучали в окно. Никто не отозвался.
Огляделись.
Двор — голый: торчат только покосившиеся столбики от бывшей ограды. Метрах в двадцати от избы — дощатый сарай с приоткрытой дверцей, которая косо зависла на одной верхней петле.
Еще постучали. По-прежнему все тихо.
— А замка на двери нет, — сказала Аня. — Притом окошки не промерзлые.
— Наверно, дома только детки маленькие. — Винцента едва выговаривала слова. — Им велели не отворять.
Аня прильнула к окошку.
— Запотели! Не разглядишь. А значит, изба топилась.
Винценту трясло. Болел бок, а промокшие ноги как одеревенели.
— Заберемся в сарай, — предложила она, едва сдерживаясь, чтобы не стучать зубами. — Хоть бы в сено прилечь.
Аня шепотом выругалась. Еще постучала — сильнее. Задребезжало стекло.
— Прошу тебя. В сарай! — просила Винцента. — На сено прилечь! Опять у тебя кровь. Я сорочкой перевяжу.
— Ладно уж… Айда в сарай. Не то соседи заметят.
Аня пошла к сараю по темной затвердевшей дорожке.
Скрежетнула в ржавой петле свисающая дверь. Из сарая выскочила толстая женщина в темном платке, насунутом ниже бровей. На бегу распахнулась ее шубка с облезлым собачьим воротником, обнаружился под ней ватник без пуговиц.
Аня и Винцента невольно отступили с дорожки, давая дорогу.
— Это что? — хозяйка ткнула на мокрую трехпалую рукавицу Винценты.
Аня все поняла: такие рукавицы были только у тех, кому приходилось стрелять.
— Думаете, немцы дурее вас?! — Они, гадство, пригляделись уже к военным девкам! Этаких, как вы, многих переловили да перевешали!
Винцента сдернула рукавицы, комком сунула за пазуху.
— То-то! — женщина откинула платок, огляделась и шагнула к окошку, третьему от крыльца. Постучала.
Внутри звякнули засовы, дверь открылась.
— Входите! — уже мягко пригласила хозяйка.
Девушки вошли в избу.
— Это моя Верка вас выручила, — сказала хозяйка, одевая девочку лет восьми в истертый, дырявый ватник. — Из боковушки в малое оконце вас углядела. «Мамка, смотри!.. Прямиком прутся по снегу! Не иначе, к нам». А я ведь уже одемшись была, собралась к свекрови за картошкой. Но как глянула — задумала в сарае притаиться. Понаблюдать, кто такие, — и, не дожидаясь ответа, повторила дочке свои наказы: — Поживешь у бабушки, покеда не приду за тобой. Не хнычь. Бабушка тоже тебя любит. Уйдет ежели бабушка на толкучку — сиди тихо, никому чужому не отворяй!
Пока девушки ели картошку, хозяйка выложила свои заботы: приходится топить лишь по ночам. Немцы, отдежурившие свою смену на станции, повадились забегать в ближние домишки, где дымки над трубами, погреться, а заодно раздобыть съестного. Забор она специально пустила на дровишки. Где голый двор, туда немцев особо не тянет…
Потом хозяйка затопила железную печурку — высушить промокшую одежонку. Девушки повеселели. А потом хозяйка оглушила: потребовала состричь волосы, будто тиф перенесли. Немцы к таким и не подступаются… Неровен час — забредут они, пока гостьи дрыхнуть будут.
Аня сразу же ответила: «согласны!» Властным взглядом вытянула у Винценты нерешительное:
— Что ж, если надо… Мы не против… Аня, ты умеешь машинкой?
— Нету машинки! Да таких буйноволосых и машинка не возьмет! — объявила хозяйка. — Ножницами! Для гадов убедительнее. В такой-де жар кинуло, что некогда шастать по соседям за машинкой! Так и отбояритесь, ежели сцапать захотят!.. Они, гадство, цапучие!
Девушки клевали носом, а хозяйка проворно щелкала ножницами. Тяжелыми прядями упали густые черные волосы Ани, на них — слегка свалявшиеся темно-каштановые кудряшки Винценты.
— На соломенную крышу твоя башка смахивает, — улыбнулась ей хозяйка.
12
Длинный паровозный гудок разбудил Винценту. На ярком квадрате стены, как раз над изголовьем кровати, четко отпечатался угольно-черный крест… И опять темень.
Винцента потерла стриженую, непривычно зябнущую голову, усмехнулась. Ей вдруг явственно представилась другая девушка на ее месте… Той непременно стало бы жутко при виде черного креста. Не каждая догадалась бы, что ракеты со станции высвечивают и крестят стену…
Винцента повернулась на бок, лицом к Ане, и снова уснула.
Хозяйка разбудила их только под вечер. Заставила подняться, поесть. Сообщила, что сбегает к свояку, который сумеет связать их с теми, на кого можно опереться. Велела на стук не отворять.
— Если же нагрянут немцы, — сказала она, — то отвешивайте поклоны и бормочите: «Тиф, пан!.. Сыпной тиф!»
Обошлись без спектакля. До возвращения хозяйки так и не слезали с кровати. Поплакали. Вспоминали тех, с кем успели познакомиться в наскоро сформированном отряде. Но горевали по-разному. Аня сокрушалась и о расщепленном прикладе ППД, и о том, что запас мин и тола разметало впустую. Видать, от детонации. Винцента не тужила о пропавшем оружии: она помнила только о погибших…
Хозяйки долго не было. Девушки терзались тревогой. Вернулась около полуночи. Видать, едва держалась на ногах. И не смогла ни говорить, ни поужинать — полезла на печь и сразу же захрапела.
Винцента вздрогнула от резкого гудка. Паровозы работают — вражеские эшелоны с танковыми частями появляются столь же неотвратимо, как черный крест с очередной вспышкой… Жаль, нет взрывчатки. Аня права. Был бы тол, крепко бы досталось немцам.
А ракетчики без устали освещали станцию. Винцента опустила ноги с кровати.
— Чего тебе? — раздался с печки голос хозяйки. — На двор что ли приспичило?
— Окошко завесить бы… Мельканье ракет…
— Потерпишь! Не барыня! С пяти утра, гадство, пореже светят, экономят. Часы-то я на крупу сменяла. Это мне как указанье: скорей на работу!
— А вы разве работаете?
— А чего моей Верке жрать, ежели хребет не гнуть? А к свояку наведалась, он посулил узнать… Опять сбегаю завтра. Дрыхни, девка, не тревожь. Я и так вполглаза сплю.
Винцента медленно погрузилась в забытье. Но сразу снова проснулась: громко простонала Аня. Винцента подсунула ей под голову почти всю подушку. Аня смолкла, не проснувшись. А с печки доносилось тяжелое дыхание хозяйки.
Сутки назад — в такую же темь — она заслоняла собой потерявшую сознание, с окровавленным виском Аню. Обнимала товарища по судьбе. Выпало на долю вместе погибнуть. Но вот уже двадцать четыре часа минуло, а они живы! «Почему, за какие заслуги?» И вздрогнула: почудилось, что прошептала это вслух.
Винцента открыла глаза. Взгляд Ани — в первый миг — уколол ее! Настороженный взгляд и переменчивый — от перемежающихся отсветов.
— Ох и люта ты, Винька, дрыхнуть! — Аня тихонько засмеялась. — Мы с тобой когда завалились? Вчера утром, около десяти. Сейчас, поди-ка, четыре утра. Может, и пять.
— Еще нет. Хозяйка говорила, с пяти — уже пореже ракеты.
— Да, ведь я тоже слышала. Сквозь сон. И вскоре пробудилась. И слышу, ветер как будто сильнее становится.
— Похоже на то, — помолчав, ответила Винцента.
— Если зимой перед рассветом усиливается ветер — это к вьюге.
— Начнись вьюга прошлой ночью, — может, отряд, и прорвался бы.
— Пожалуй. Но сейчас я думаю: как дальше? Коли разгуляется метель, — Аня придвинулась к Винценте, зашептала в самое ухо, — то, может, удастся пришить кого-нибудь из офицеров. Прямо на улице. Когда завируха — пистолетные хлопки не разнесутся далеко. Согласна?
— Я готова. Но, по-моему, лучше подождать. Обещала же хозяйка. Может, через свояка взрывчатки достанем.
— Посмотрим, Винька… Но прикинь: идем, а навстречу нам эсэсовец. Один!.. А кругом вьюга высвистывает. Ужели дадим уйти?
— Я готова. Ты стрельнешь в упор. Я тоже!.. Для верности.
— Но если двое?
— Согласна!
Аня положила свою широкую ладошку на тонкие пальцы подруги:
— Молодчина, Винька! Вообще, ты неплохо себя вела. А командир предупреждал: ухо востро держите с этой чересчур образованной. А ты воевала не хуже других. И зря командир опасался.
— Опасался? — Винцента с трудом удержалась от смеха. — Чего же?
— Ясно, чего… Не жидковата ли на боевые дела? Вспоминал, какую ты музыку наяривала. Достаточно, говорил он, только глянуть на этакую сияющую мордашку — и сразу чуешь: мамзель и во сне-то не видывала, почем фунт лиха. Отбрыкивался поначалу, когда тебя включили в отряд. А ничего не поделаешь: нельзя без переводчика. Перед самым выступлением нам — политрукам, откровенней сказали про будущие задачи. Тебя наметили не только переводчицей.
— Я знаю.
— Кем же?
— Исходя из обстановки. Спрашивали: хватит ли сил у меня пристроиться на легальную работу у немцев?
— А ты?..
— Ответила — хватит.
Аня долго молчала.
— Ходил слух, будто на политзанятии, — наконец заговорила она, — когда выступавший товарищ повторял: «за все немцам отомстим!» — ты вякала против… Зря наклепали?
— Нет, я действительно возразила. Пойми, когда вступим в Германию, не станем же мы сжигать целые деревни, да детей бросать в огонь! Не станем брать десятки заложников и вешать их за каждого нашего убитого!
— Вообще-то, ты права… Но ты, Винька, смекай… Бойцу, например, если родных его поубивали немцы, легче воевать с такой верой.
— Это кому как!..
— Горе с тобой, Винька, — и заключила: — Договоримся, что ничего подобного ты больше говорить не будешь. Я тебе запрещаю!
13
Вместо стеганых армейских штанов хозяйка дала девушкам длинные заплатанные юбки, а взамен кирзовых сапог — подшитые валенки.
— Девки, давайте присядем! — предложила хозяйка. — Чтобы нам после войны вот этак же — за столом. И чтобы моя Верка наполнила стаканчики.
Аня и Винцента — в длинных, не по росту, стареньких тулупах — неуклюже примостились на тесной лавочке напротив хозяйки.
— Не забыли, как до свояка добраться? — снова спросила хозяйка и встала. — С конца проулочка направо, дальше влево, потом опять же направо…
— Спасибо, помним! Спасибо за все!..
Девушки обняли хозяйку. Она вытерла глаза уголком фартука, вышла проводить.
Едва сошли с крыльца, ветер швырнул в глаза снег, забрался под платки, пробежал по стриженым головам.
Осмотрелись. Даль замутило. Ближний сарай темнел только полоской под самой застрехой — так запорошило!
— «Легче таиться от взоров нескромных!» — Винцента попыталась было пропеть известную строфу, но сразу же захлебнулась ветром и снегом.
— Метель-поползуха, — пробормотала хозяйка. — Впрямь, облегчение. От недоброго глаза… Но беда — ручонки ваши замерзнут. Не добыла других-то рукавиц.
— Не бойтесь, не смерзнем. И ступайте домой, — настаивала Аня. — Простынете.
Но хозяйка проводила до поворота. По-прежнему никого поблизости. Под ногами — синий снег, а кругом — белесо-голубая муть.
— Девоньки! — воскликнула хозяйка. — Покеда не пойду за Веркой! До завтрего вечера хочу погодить. Ежели что — ко мне вертайтесь! — Она рывком охватила зараз обеих. И, всхлипнув, убежала домой.
Девушки ускорили шаг. Надо было добраться до свояка хозяйки пока не сгустилась темнота.
Аня обеими руками остановила Винценту, подбородком приотодвинула край платка, прокричала в самое ухо:
— Если немцы вдруг остановят — не плети про тиф, а скажи: была только простуда и сильный жар… Родные заподозрили тиф и остригли. Дошло?
— Дошло, — крикнула Винцента. — Но почему?
— Дуреха! Потому что не дома сидим… И патрульные на пути. Застрелить нас — им это плевое дело! Чтобы заразу не разносили!
Винцента энергично закивала.
…До свояка они не добрались. Их задержали и отвели в клуб, где выступал немецкий пропагандист. Гитлеровцы получили приказ обеспечить ему аудиторию.
— Бывает и хуже! — шепнула Аня, оттеснив подругу в самый угол. — Не робей, Винька! Может, и отсюда выберемся.
— Я не робею, — ответила та.
В это время лектор разглагольствовал о судьбе советских крестьян, которые якобы совсем обнищали. Призывал их быть лояльными к гитлеровскому рейху.
Винцента косила глаза направо. Старалась рассмотреть устало переминавшихся с ноги на ногу понурых женщин, закутанных в темные платки. Самая ближайшая — та, что почти касалась локтем Ани, зашлась в кашле. Похоже, совсем ослабела от удушающих приступов — даже пошатнулась. Винцента разглядела черные бороздки на шершавой руке, окалину, въевшуюся в глубокие трещинки… Рука рабочего человека, имеющего дело с металлом. Пятна машинного масла на брезентовой робе. Надо полагать, из ремонтных мастерских или со станции. Наверно, спешила домой с работы, да вот и заграбастали по пути вместе с десятками других подневольных.
Аня положила руку на плечо рабочей женщины приблизила лицо к едва видному под платком краешку уха… Наверное, подбодряет и ее… Наверно, и ей шепчет: «Не робей! Выберемся!..»
— Ишь, разоряется! Холера заешь его!..
«Это кто проворчал? Анина соседка или женщина, стоявшая еще правее?» Аня отодвинулась и вытянула шею вперед — изобразила внимание. Незачем настораживать охранников лектора.
— Преображение России творится немножечко со скрипом, — он повысил голос. — Имеются заядлые, закоренелые, преследуемые навязчивыми идеями о коммунизме. Прискорбно, что среди них попадаются молоденькие диверсантки! Снедаемые ненавистью, вдобавок одержимые жаждой мученичества… Ничтожные партизанки, несчастные маленькие зверушки!
— Небось поджилки трясутся у бургомистра, — прошептала Аня. — Не зря такая охрана, — и кивнула на гитлеровцев возле сцены.
— Аня, ты думаешь, он бургомистр?
— Говорят. Иначе кто же?.. Главное, не робей, Винька. Чую, тут многие — наши… Соседка, например. Если так — обопремся не только на хозяйкиного свояка. Тогда легализуем тебя. Преогромные дела провернешь.
— Поэтому, дражайшие слушатели, — продолжал выступающий, — предостерегаю некоторых малочисленных недовольных от посягательств на новый порядок. Ускользнуть от возмездия — немыслимо. Германские власти справедливы, но взыскательны. Строгость споспешествует избавлению от большевизма. Неукоснительное соблюдение предписанного поведения — священный долг освобожденного населения: каждого мужчины, каждой дамы…
Далее оратор подчеркнул, что все обязаны доносить властям о вызывающих подозрение поступках или высказываниях.
— Винька! — прошептала Аня. — Сюда, оказывается, привезли почти всех станционных работяг. И только мы с тобой попали случайно. Вдруг после этого внушения проверка документов? Обыск?
— На худой конец уловкой хозяйкиной прикроемся… Стрижеными волосами! Откинем платки — гляньте, господа фрицы! Недавно болели, не принуждайте тулупы скидывать — простынем.
— А если все же… ТТ — не иголка. Не утаишь.
Аня сама себя перебила:
— Тогда хоть парочку захватим на тот свет! Овраг страшнее был. Не сдрейфишь, Винька?
— Нет! — твердо прозвучало в ответ.
14
Выпив глоток воды, лектор развернул небольшого формата газету, начал читать:
— Господа, освобожденные русские! Сегодня, 27 ноября, войска вермахта широким фронтом форсировали реку Нара. Далее, до самой Москвы, перед победоносным вермахтом уже нет водных преград. Нет способных к сопротивлению войск. Освобожденная от большевиков столица колокольным звоном встретит своих избавителей… Зачем же продлевают агонию советские комиссары, на что надеются?..
— На русский народ! — перебил его женский голос. Это прозвучало спокойно и уверенно.
— Ха-ха, господа!.. Ха-ха!.. — поспешил с ответом лектор. — Нет войск, имеются готовые на все девицы!.. Ха-ха!..
Реплика из зала что-то неуловимо переменила в холодном и затхлом воздухе давно не топленного клуба. Винцента огляделась: почти все вокруг тихонько переговаривались. Мало кто слушал немецкого пропагандиста. Не мог он не видеть этого, однако сыпал и сыпал, как об стену горохом. Винценте подумалось, что сейчас, после реплики, усилия фашиста направлены, прежде всего, на то, чтобы скрыть собственную тревогу. Поэтому он начал повторяться. Опять завелся насчет каких-то лишений, кои претерпело многострадальное российское крестьянство.
— Проповедь идет к концу, — выдохнула Аня свистящим шепотом. Ее побелевшие губы были по-прежнему как отмороженные. — Закончит, и мы подойдем… Ты выпустишь в него обойму! Понятно?
Винцента промолчала, но заставила себя кивнуть. Аня, выждав, спросила.
— Помалкиваешь? Может, струсила? Я приказываю! Прихлопнуть холуя!
Аню толкнула в бок ее соседка справа:
— Заткнись! Осатанела совсем? Али припадочная? Забыла, куда занесло?!
Не обращая на нее внимания, Аня продолжала:
— Убить изменника на глазах у всех — это здорово! А я берусь охранников свалить. Тебе — только бургомистра. Бабахнем — все кинутся прочь! Тогда смешаемся с бегущими. А дальше — снегом нас укроет. Ясно? Приготовь оружие. Живее, Винька, живее!
Конечно, не только ближайшая соседка поняла, что задумали девушки, но — ни слова, ни резкого движения. Кругом — свои, советские… Не выдадут. Полминуты — и ТТ уже поставлены на боевой взвод. А девятый, сверх обоймы, патрон подан в канал ствола. Теперь можно вздохнуть свободнее.
А лектор все никак не мог закруглиться:
— Обеспечьте, господа, многострадальной родине покой, мир и благоденствие! Сотрудничайте с великой Германией! — бубнил он. — Сообщайте, доносите, информируйте! Даже один злоумышленник — серьезная помеха благоденствию. Например, электросварщик станционной мастерской оголил электропроводку. А кругом — легковоспламеняющиеся материалы. В результате короткого замыкания взорвался бак с горючим. Убит контролер-немец! Ужасно, господа!.. Натурально, что повешен электросварщик, а также — не донесшие на него подручные. Примите как предостережение. — Он сдвинул фуражку на затылок, платочком отер потный лоб.
Тотчас лязгнул засов запасного выхода.
— Дозволяется выходить! — буркнул охранник в штатском и показал автоматом на дверь.
Все молча потянулись к выходу. Пришлепывая большими подшитыми валенками, толкнула дверь и выскочила наружу женщина в телогрейке. За ней — сквозь клубящийся по полу морозный пар — простучала сапогами вторая… Следом спешил сухонький старичок с обвислыми усами. Локти его согнутых рук были прижаты к бокам зипуна.
— Стоять! — вдруг завопил охранник в штатском. — Прокламации наружу!
Он соскочил с помоста сцены, навел парабеллум на заподозренного. Между тем автоматчик взглядом охватывал всех и поводил шмайсером — от одной головы к другой. Будто не замечая этих угрожающих движений, передние женщины быстро обступили немца в штатском и задержанного. Немец рванул борт зипуна. С треском разошлись швы, и на пол посыпались лохмотья газет.
— Вот они, твои прокламации! Собирай!..
— Одежу-то ваши солдаты позабрали! Разуй гляделки! Даже пиджака нет, одна лишь исподняя рубаха! Да под ней — бумага для тепла…
— На работу загоняется силком!.. А каково без одежи, когда ее сами же пограбили?..
— Ох и бесстыжие вы, освободители!.. Чей на тебе полушубок-то?
Аня и Винцента радостно вздохнули. Кажется, пронесло? Да, пронесло. Не будет общего обыска. Значит, можно рассчитывать на внезапность.
Одна из кричавших женщин оттеснила плечом опешившего штатского, сгребла с полу газеты, сунула старику и подтолкнула его к выходу.
Оконфузившийся немец вскочил на помост, пересек сцену, пнул ногой дверцу второго запасного выхода.
Девушки только сейчас разглядели ее: дверца оклеена теми же серыми обоями, что и стены. Винценте пришло в голову, что это не выход, а какое-то подсобное помещение. Иначе бы в клуб хлынул морозный воздух, но она не успела сказать об этом Ане. Не успела, так как автоматчик, похлопав оратора по плечу, направился вслед за штатским.
Зал опустел. Немцы оставили своего лектора-холуя без охраны?!
— Господин бургомистр, — шагнула к нему Аня, — вы требовали сообщать о подозрительных.
Оратор отступил в глубь сцены, торопливо извлек из внутреннего пиджачного кармана дамский вальтер и сразу же сунул обратно. Потом достал из другого кармана записную книжечку в блестящем коленкоровом переплете. Пахнуло дешевыми духами.
— Хоть я не бургомистр, но готов заприходовать информацию, — усмехнулся он.
— Не бургомистр!.. — с явной досадой протянула Аня. — Кто же?
— Всего лишь абитуриент… В училище пропагандистов восточного министерства рейха, — он чуточку запнулся, может, оттого, что произнес это на одном выдохе. Раскрыл надушенную книжечку на первой странице. — Ну-с, итак?.. Смелее!
Аня молчала. Смотрела в бледное лицо с острым подбородком и молчала. Винцента догадалась: Аня разочарована, что вместо бургомистра перед ней оказалась мелкая сошка. Но поздно менять решение. Абитуриент уже насторожился. Надо завершить начатое. Пауза становилась угрожающе продолжительной.
— Но все-таки вы тоже заслуженный? — Винцента почувствовала, что следует улыбнуться. Но не владела мускулами лица. Сердце колотилось уже под самым горлом. Она повернулась к Ане.
— Да, да, тоже заслужил, — отозвалась та. И пистолет словно сам собой скользнул в ее руку. Хрипло скомандовала: — Клади оружие!
— Анька, не медли! — крикнула Винцента. — Прикрою тебя!..
Она вспрыгнула на помост, подлетела к левой дверце, накинула крючок. И только тогда, спохватясь, вытащила свой ТТ.
— Клади, гад, оружие!
Холуй, что-то шепча перекосившимися губами, послушно достал вальтер и протянул. Он, видать, надеялся, что сумасшедшие девчонки довольствуются такой добычей.
Аня выстрелила трижды. Подобрала вальтер, сунула за пазуху.
— Винька, не отставай!
Сзади раздались удары. Дверца затрещала.
«Я обещала прикрыть», — мелькнуло у Винценты, когда в несколько прыжков достигла выхода и увидела протянутые к ней из снежной мглы Анины руки. «Подхватит меня, когда выскочу…»
Винцента оглянулась. В это время дверь отлетела в сторону, и на пороге показались немецкие автоматчики.
Винцента стрельнула в них торопливо. Едва рухнул, схватясь за живот, опередивший других гитлеровец, как Аня, ловко подхватив Винценту, рывком вытянула ее наружу.
15
Стрельба осталась позади, начала стихать. Только справа и слева вспархивали ракеты. Глаза запорошило едкой кирпичной пылью. У самой головы черканула пуля.
Винцента пошатнулась от удара сзади. Тупого, не слишком сильного. Ниже правой лопатки. В первый миг подумалось, что шибануло кирпичным осколком.
— Винька, не отставай!..
— Глаза протру… Запорошило!
Аня цепко схватила Винценту за руку. Потащила за собой, полуослепшую. Снег становился все глубже. Вдруг они ухнули вниз. Снегом забило нос, уши… Винцента простонала.
— Цыц! Ушиблась, что ли? Пистолет не выронила?
— Нет, он в руке… Но варежку потеряла.
— Плевать! — Аня барахталась в глубоком снегу. Наконец встала во весь рост, но тотчас пригнулась: прямо над головой рассыпались ракеты. Снова бешено застрочили автоматы, примолкшие было на какие-то секунды.
— Винька! Во повезло нам! Это ж окоп! Немцы ни хрена не разглядят.
— Наверно, наших бойцов окоп? — прошептала Винцента. — Ей удалось, превозмогая подступившую тошноту, завести руку за спину. Осторожно потрогала — все мокро.
— Аня, ранило меня… Под лопатку…
— Зацепили-таки! Фашистская мразь! Отольется им сполна! Винька, ты крепись! Еще немного потерпи. Здесь они нас не найдут. Повзбивают очередями снег — и смотаются.
— Я потерплю…
Возгласы немцев доносились издалека. Прошло не меньше минуты — взвилась ракета… Прежде чем она рассыпалась, Аня набросала себе на голову снегу, встала во весь рост.
Поблизости никого…
— Малость подождем. Для верности. Покамест обследую во всю длину… Раз окоп в полный профиль — должны быть в передней стенке ниши для пулеметных лент и гранат. И донышко соломой выстилают, иногда — дощечками. Погляжу, может и найдется что… Для тепла тебе.
— Я не зябну, — прошептала Винцента.
Аня, с трудом переступая тяжелыми валенками, набитыми снегом, отошла. Окоп загибался полуподковой. Обнаружила большую нишу — пустую — с валиком снега вдоль нижней кромки. Зачем-то заставила себя разборонить эту слегка затвердевшую снежную загородку. Озябшие Анины пальцы вдруг нащупали рукав гимнастерки. Видимо наш смертельно раненный боец ухватился за кромку ниши: пытался подняться, чтобы стрелять по врагам еще и еще.
Аня медленно вернулась.
— Все пусто, Винька! Не беда. Ты заметила — не стреляют уже… Рассчитывают, что утекли мы далеко в поле. Там и замерзнем. А просчитаются! Да ведь и ракет уже нет, а? Потерпи, Винька, малость еще. Выберусь и разведаю, чтобы зря вдвоем-то не переться вслепую. Соображаешь? Я скоро вернусь.
— Анечка, нет, — шептала Винцента. — Вдруг и немцы выжидают? Повремени!
— Ладно, так и быть, обожду, — с нарочитой бодростью согласилась Аня. — Только боюсь, кабы ты вдобавок еще свою башку стриженую не застудила. Моя — зябнет.
— А я вроде согрелась, — уже громче сказала Винцента. — Хорошо, что снег идет. И снежинки теплые.
Ане стало страшновато: не бредит ли подруга? Но решила не выдавать опасений. Продолжала:
— Жалко, что не бургомистр откинул копыта… Что ж, и говоруну поделом! Ишь, сука, в ихнюю школу возмечтал. Вроде как у них политруком.
— Пропагандистом, — поправила Винцента.
Аня угадала, каких усилий стоило подруге достаточно внятно выговорить длинное слово. Помолчала, бережно и легонько нащупывая, не съехал ли платок с ее головы. Отгребла снег от бруствера, чтобы опереться о затверделую землю и выбраться из окопа.
— Винька, твой ТТ одолжи, пожалуйста. Хоть я ненадолго, да неровен час. Ежели напорюсь на фрица — так для верности чтоб из обоих пистолетов сразу!
Все нестерпимее жгла боль под лопаткой, все труднее становилось дышать. Сознание мутилось. Однако Винцента безошибочно поняла, что политрук Аня вовсе не случайного фрица опасается. «Повешены также недонесшие», — вспомнились гнусавые угрозы пропагандиста. Винцента собрала последние силы, чтобы голос ее не прозвучал ослабевшим и нетвердым… Чем грубее, тем лучше:
— Иди ты знаешь куда! Ведь еще холуйский вальтер есть у тебя! Ступай, разведывай! Не то, правда, замерзну…
Аня долго колебалась и наконец сказала:
— Ну и молодец! Я-то, соображаешь, и забыла про вальтер. Ясное дело, ты должна личное оружие — при себе. Сунется заблудший фриц — прихлопнешь. Из укрытия-то. Но помни, Винька: ты воинскую присягу давала. Мы с тобой повоюем еще, слышишь! И не вздумай ничего такого… — сама соображаешь чего. Слышишь?
— Слышу, — громко отозвалась Винцента. — Не теряй время, ступай.
Винцента вытащила пистолет и приставила к виску. Примерилась: хорошо ли владеет пальцами? Только вот этого не хватает Аньке — с тяжелораненой возиться! Она повернулась, оперлась на локоть. И мгновенно перехватило дыхание. Закашлялась, плюнула кровью, простонала…
Осторожно, чтобы не вызвать приступ боли — вдруг не совладеешь с ней и потеряешь сознание, сняла тулуп. И задыхаясь, уже не сдерживая стона, содрала верхний пушистый свитер. Удивилась, до чего быстро снялся. Вспомнила: раньше волосы мешали.
Аня обязана надеть свитер. Чтобы не замерзнуть, выждать, когда немцы прекратят поиски. Только бы вот она уцелела. Винценте захотелось подождать ее возвращения. Но чересчур тяжелым стал пистолет и все труднее дышать. Наплывало забытье. Потеряет сознание — тогда сделается обузой.
Винцента поднесла пистолет ко рту и нажала спусковой крючок.
…Аня искусала себе руки, чтобы сдержать рыдания. Обессилев, прижалась к еще не охладевшей подруге. Корила себя за то, что оставила ее одну. Подул ледяной ветер, и Аня почувствовала, что замерзает. Залубеневшими, плохо повинующимися пальцами натянула на себя свитер — прощальный подарок Винценты. Поцеловала ее, затем осторожно вынула ТТ из коченеющих пальцев.
Увязая в снегу, проминая глубокую борозду, пошла в поле. К счастью, снова повалил снег.
В середине декабря, выполнив очередное задание в тылу врага, возвратилась группа девушек во главе с Лелей Колесовой. Четверо из них побывали за линией фронта уже дважды.
А обессиленную Аню подобрал в двух километрах от станции путевой обходчик. Девушка быстро поправилась и под руководством Клинцова начала готовиться к новому заданию. А впереди еще долгие годы войны. Многие комсомольцы, как и Винцента, не вернутся домой. Но все они мужественно выполнят свой долг.





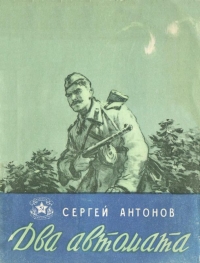

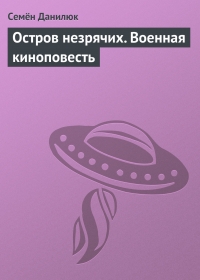

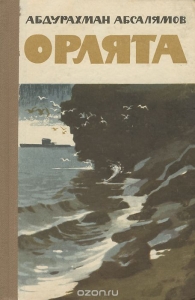
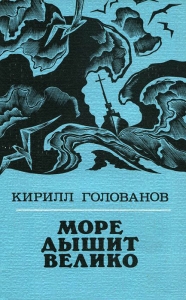
Комментарии к книге «Дерзкие рейды», Александр Иванович Одинцов
Всего 0 комментариев