Виктор Тельпугов ПОЛЫНЬ НА СНЕГУ Повести и рассказы
Москва
Советский писатель
1977
Художник А. Ф. Таран
ПОВЕСТИ
ПАРАШЮТИСТЫ
1
Устали, намаялись парашютисты: по две учебных ночных тревоги в неделю, и после каждой — марш-бросок «с полной боевой» километров на двадцать. Кто служил, тот знает, что это за штука.
Старшина Брага говорит: польза для дела. Это ребята потом уже усвоили, что польза, а тогда икалось кое-кому после изнурительных учений. В первую очередь старшине, конечно! Но он был ко всему привычен — старослужащий. Услышит ворчанье, одно только слово скажет:
— Разговорчики!
И еще круче сделается. Подымет ночью, построит на морозе, проверит, все ли в порядке, — и, предположим, в баню. Да, да, и в баню по тревоге водил, и главным образом по ночам.
Помоется десант, распаренный, шагает до казарм, продираясь сквозь метель, а Брага:
— Запевай!
Тут, понятно, не поется, унылой любая песня кажется. Тогда старшина остановит строй, новую команду подает:
— На месте шагом марш!
И опять:
— Запевай!
В конце концов одолеют ребята те самые ноты, которые требуются. Но и песня не греет на лютом ветру. Кто-нибудь потихоньку буркнет:
— Товарищ старшина, разрешите уши опустить.
— Что-о?..
Так он это спросит, что язык не повернется повторить. Топают десантники дальше с поднятыми ушами шапок, тем более что и он, старшина, шагает рядом. Только сапожки у него еще холоднее, чем у всех, — хромовые, куценькие, в такие лишнюю портянку не подвернешь. Скрипит на холоду каблучками, подбадривает приунывшего:
— Уши, значит, опустить захотели! Ничего себе защитники родины! Ну-ка, «Махорочку»!
И, не дожидаясь запевалы, сам выводит в морозном воздухе:
Эх, махорочка, махорка, Подружились мы с тобой. Вдаль глядят дозоры зорко. Мы готовы в бой!..Ночные тревоги чаще всего заканчиваются учебными прыжками. Если зазевается боец после команды штурмана, старшина даст ему легонько коленом под то место, где спина теряет свое название, и «рассеянный» ринется в бомбовый люк «ТБ-3». Поймает глазом землю, рванет красное кольцо на груди и через мгновенье услышит звонкий всплеск шелка за спиной. Парнишку встряхнет, как термометр, и начнет мотать по всему небу. Тут смотри в оба — даже при нормально раскрытом парашюте спускаешься со скоростью пять-шесть метров в секунду. Будь внимателен, не перебирай ногами, как на велосипеде, а развернувшись на лямках так, чтобы ветер дул тебе в спину, старайся принять землю мягко и сразу же гаси купол, иначе будешь носом пахать. И имей в виду: старшина, хоть и прыгнул после тебя, сейчас уже внизу и смотрит за тобой, не пропустит ни одного твоего промаха. Брага всегда раскрывает парашют возле самой земли и потому приземляется раньше всех.
Но сегодня никаких прыжков — воскресенье. Первая рота спит спокойно. Старшина не потревожит покоя роты, можно беззаботно нежиться до семи часов утра! В воскресный день побудка на час позже обычного.
В общей сложности за неделю недосыпают ребята чуть не целую вечность. Вот и наверстывают упущенное. Впрочем, Брага смотрит на это дело совсем по-другому. Он говорит:
— Одну треть жизни человек проводит в постели. Нормально это? Никуда не годна и пословица: «Солдат спит — служба идет». Я так понимаю: солдат спит — и служба его дремлет, проснулся солдат, взял в руки оружие — вот тут служба и зашагала.
Командир первой роты старший лейтенант Поборцев, как и Брага, в армии служит давно, многое знает и умеет. Это один из самых опытных парашютистов бригады. Когда начинаются прыжки, Поборцев почти всегда прыгает первым.
«ТБ-3» набирает обычную «учебную» высоту восемьсот метров, делает несколько разворотов, и тысячи устремленных в небо глаз замечают в открытой дверце самолета собранную фигуру человека. Он делает шаг в воздух, но не падает: одна нога остается в машине, другая находит точку опоры на самом краю плоскости. Вот он отделился, завертелся в воздухе осенним листом, выбросил вперед руки, борется со стихией, ловит глазами землю. Нашел. Теперь она уже никуда не уйдет! Теперь будет только лететь на него со скоростью восемьсот метров в секунду.
Но Поборцев все равно не рванет кольца раньше времени. Белое облачко за его спиной вспыхнет точно, когда ему положено.
Так прыгал Поборцев и в самый первый раз, когда свежее пополнение только прибыло под его начало в Песковичи и новичков надо было подбодрить. Так прыгал он и потом, когда ребята малость поняли, что к чему. Им даже иногда казалось, что он чуть-чуть бравирует своей удалью. Очень уж лихо все у него получалось.
Особенно поразил всех Поборцев, когда началась отработка прыжков с малых высот.
— Вот мы с вами прыгаем, прыгаем — и зимой, и летом, и над лесом, и над водой, и с затяжкой, и без затяжки, — все это хорошо. Но настоящего боевого прыжка еще не сделали.
Командир уже и раньше намекал на то, что главное и сложное впереди, но где оно, это самое главное и сложное, никто толком не представлял. И вот Поборцев решил наконец, что настало время серьезных испытаний.
— Слушайте внимательно, — сказал он однажды. — Десантник должен быть готовым к выполнению стремительных, неожиданных операций. На врага надо коршуном кидаться, чтобы он и опомниться не успел. Ну, сами посудите, что получится, если я вас над полем боя буду, как абажуры, развешивать? Перещелкают по одному еще в воздухе. Не сразу, конечно, буду я вас «крестить», но про восемьсот метров теперь забудем. Теперь попробуем, что такое сто пятьдесят.
— Сто пятьдесят? — ахнул кто-то.
— Как говорят некоторые, сто пятьдесят и кружка пива. Одним словом, считайте, метров двести будет. Завтра первым испробую эту дозу.
Когда на следующий день в три часа утра десантники прибыли на аэродром, Поборцев был уже там и прохаживался по зеленой, покрытой росой траве.
— Настроение, вижу, бодрое, — сказал он, поглядев на заспанные лица бойцов, — а это главное. Значит, прыганём!
Все было как обычно: и Поборцев шутил, как всегда, и бойцам передавалось его спокойствие. Удивило одно — на командире был только один парашют.
— Товарищ старший лейтенант, а запасной?
Моторы «ТБ-3» в этот миг уже взревели, Поборцев вместо ответа махнул рукой.
Только тут все поняли, какое сложное испытание предстоит командиру. Прыгать будет с предельно малой высоты, и если основной парашют не раскроется, для запасного все равно не останется времени.
Самолет с Поборцевым на борту ушел в зону. Машина развернулась, низко прошла над местом выброски и тут же направилась на посадку. Столпившиеся внизу едва уловили момент прыжка. Шелковый купол вспыхнул уже возле самой земли, и сразу же за динамическим ударом последовал удар ног парашютиста о землю. Было такое ощущение, что парашют не успел как следует наполниться воздухом. Ребята кинулись через пашню, чтобы помочь Поборцеву, хотя знали — командир терпеть этого не мог. Увидев сбежавшихся бойцов, он замахал руками, а первые слова, которые произнес, поразили всех:
— Осечка!..
— Товарищ старший лейтенант, вы же замечательно прыгнули!
— Если бы! — выпутываясь из строп, проворчал Поборцев.
Все стояли вокруг командира и молчали. Не могли и в толк взять, шутил он или говорил серьезно. Но Поборцев не шутил. Бойцы впервые видели его таким строгим. На худом, жестком, совсем еще молодом лице его, как всегда, была видна только единственная морщина — она проходила от одного виска к другому, через весь белый лоб, но никогда не казалась такой глубокой и резкой, как сегодня.
— Таких прыжков у нас быть не должно. Не имеем мы права без необходимости рисковать своей жизнью.
Поборцев посмотрел вокруг уже совсем спокойно и сказал как о само собой разумеющемся:
— Придется повторить.
Он тут же, на поле, уложил свой парашют и снова зашагал к самолету.
Если первый прыжок показался командиру в чем-то неточным, отработанным не во всех деталях, то второй едва не кончился трагически. Поборцев захотел, видимо, раскрыть парашют на какую-то долю секунды раньше, но не рассчитал — купол бросило на хвостовое оперение, зацепило, и парашютист беспомощно «завис».
На борту самолета уже поняли, что произошло, и мучительно искали выхода. Но что можно было предпринять? Если бы это случилось во время обычного прыжка, можно было бы действовать по совершенно ясному плану. Самолету следовало подняться повыше, а парашютисту достать из кармана всегда имеющийся у него в запасе кривой нож, отрезать лямки и раскрыть запасной парашют. Можно было бы с помощью эволюций самолета в воздухе попытаться сбросить стропы с хвоста. Но ни одна из известных мер сегодня не могла быть использована. Надо было найти какой-то другой выход. Какой?
Тысячи людей на земле ломали себе голову над тем, что предпринять, и ничего не могли сделать.
Как стало известно потом, с земли на борт передали: «Выйти к реке и идти вдоль нее. Высоту сбавить до минимальной». Сделано это было для того, чтобы в случае, если стропы соскочат сами, человек упал бы все-таки в воду, а не на землю.
Как только Поборцев разгадал маневр, он отрезал стропы и оказался в волнах Лебяжки…
К месту его падения мгновенно устремилось все, что могло двигаться, — санитарные машины, грузовики, люди. Десантники бежали через перепаханные поля, бежали, спотыкаясь, падая, подымаясь, чтобы снова бежать к разбившемуся командиру.
Каково же было изумление бойцов, когда навстречу им из воды, покачиваясь, вышел Поборцев — бледный, но, как всегда, чуть-чуть улыбающийся.
— Товарищ командир! Живы?! — кинулись ему навстречу ребята.
— Жив, кажется.
Только после этих слов он грузно опустился на землю.
Находясь под началом Поборцева, парашютисты привыкли ко многому, но сегодня он превзошел самого себя.
Всю ночь не могли уснуть бойцы под впечатлением случившегося. Даже Брага долго вертелся на своей койке, а под утро сказал:
— Думал я, хлопцы, не увидим мы больше командира. «Дывлюсь я на небо тай думку гадаю…»
— Какую, товарищ старшина? — спросил кто-то.
— Откуда у человека силы берутся? Вот я с ним сколько лет уже, а понять того не могу. Он же ж, хлопцы, израненный скрозь. Под Халхин-Голом мотался, финскую прошел, с польскими панами дело имел, в небе Прибалтики его тоже видали! А как на крыло самолета ступит — крепче его будто нет во всем свете! Такой один целой бригады стоит!
Бойцы молчали.
Через несколько минут тишину казармы снова нарушил неторопкий украинский говорок Браги:
— Слободкин, спышь?
— Сплю, товарищ старшина.
— Зовсим?
— Уже и сон начинаю видеть.
Все знали, в каких отношениях были Слободкин и Брага. Молодой, недавно пришедший в роту боец никак не мог привыкнуть к трудной десантной жизни. С парашютом прыгать боялся, его уже два раза «привозили» обратно. Старшину беспокоило это не на шутку.
Вся рота как рота, после команды штурмана ребята дружно высыпаются из люков «ТБ-3», только один Слободкин в страхе забьется в самый дальний угол самолета и сидит там, пока не почувствует, что колеса снова тарахтят по земле. Тогда выползает на свет божий и говорит:
— Не могу.
— Страшно? — спрашивает летчик.
— Не могу — и все.
— Значит, страшно. Честно скажи, что кишка тонка.
Старшина и так пробовал, и этак. И на комсомольское собрание вытаскивал Слободкина, и подшучивал над ним на каждом шагу — ничего не помогало. Поэтому все очень удивились, услышав, что на шутку Браги Слободкин ответил шуткой. А старшина даже обрадовался:
— Ну, раз шуткуешь, стало быть, ты еще человек! Сон, значит, начинаешь видеть?
— Сон, товарищ старшина.
Брага, обхватив колени руками, присел на койке.
— О чем же?
— Все по уставу, товарищ старшина, — о службе, о ночных тревогах, о маршах, ну, и о прыжках, конечно. Будто прыганул-таки!
— Правильный сон! Так держать, Слобода! Хоть во сне стрыбани, порушь свой испуг, Христа ради.
Старшина удовлетворенно вздохнул, повернулся на другой бок.
— А теперь дайте тишину, хлопцы, скоро ранок уже.
Брага зарылся в одеяло и почти сразу заснул. За ним заснули и все другие. Только Слободкин ворочался до самой команды дневального: «Подъем!», так, наверно, и не увидев в ту ночь своего «уставного» сна.
После этого ночного разговора отношения между старшиной и Слободкиным начали меняться. Брага, очевидно, решил предоставить событиям развиваться так, как они сами пойдут: довольно, мол, «давить» на Слободкина — не маленький, сам поймет. Слободкин, почувствовав это, повеселел.
— Это Брага жизни ему поддал! — смеялись ребята.
Слободкин молчал, но в душе его что-то зрело и зрело — все это видели. Однажды после вечерней поверки, накануне очередных прыжков, он сказал ребятам:
— Если я завтра опять… сбросьте меня, как сукиного сына, не пожалейте.
— Смеешься? — спросили ребята Слободкина, а сами видят — не шутит.
— Упираться буду — все равно…
Перед прыжками вообще плоховато спится, а тут еще Слобода со своими штучками-дрючками. Проворочались парашютисты в ту ночь, не заметили, как подъем подошел. Трех еще не вызвонило, как дневальный горлышко прополоскал.
Встали нехотя, зябко поеживаясь, ну, а у Слободкина вообще вид был такой, будто он и не ложился, — бледный, даже серый, весь в себя ушел.
До аэродрома ехали молча. Только перед самой посадкой в самолет кто-то спросил Слободкина:
— Не передумал?
— Нет, — попробовал ответить он как можно тверже, но в груди его все-таки сорвалась какая-то струнка.
Все решили: будь что будет, а толкануть его толканем. Пусть наконец испробует. Может, наступит у парня перелом.
Сговор молчаливый, без лишних слов, получился. Тем крепче и надежнее он был. Слободкин почувствовал это. Некурящий, он вдруг попросил у кого-то «сорок», а когда затянулся, закашлялся, на глазах появились слезы.
Ребятам смягчиться бы, отменить свой приговор, но где там! Будто бес в них какой вселился: сбросим — и все!
Поднялись. Летят. В полумраке искоса на Слободкина поглядывают. Видят — ни жив ни мертв, — а бес неотступно стоит за спиной каждого.
Когда штурман подал команду: «Приготовиться!», подобрались поближе к люку и стали смотреть на бежавшие внизу поля. Слободкин, обхватив обеими руками одну из дюралевых стоек, тоже смотрел вниз, но не на землю, а себе под ноги.
Все поняли: не прыгнет.
Вот уже команда: «Пошел!» — парашютисты один за другим исчезают в ревущем квадрате люка. Вот из двадцати в самолете осталось десять, семь, пять…
Ребята пытаются увлечь за собой Слободкина. Тщетно. Будто невидимые силы приковали его к самолету.
Только вечером узнали, почему двум десяткам здоровяков не удалось сдвинуть с места одного человека: с перепугу он пристегнулся карабином к дюралевой стойке.
Об этом рассказал сам Слободкин.
— Злитесь? — спросил он в наступившей после отбоя тишине.
— А… — многозначительно вздохнул кто-то.
— Значит, злитесь. А зря. Не от страха я на карабин заперся.
— Тогда, значит, от ужаса.
— Ну вот, я же говорю, злитесь, а когда человек зол, он не просто зол, он еще и несправедлив.
— Ты нам еще мораль читать будешь?
— Мораль не мораль, а объяснить должен.
— Ты зарапортовался совсем. То «прыгану», то «кидайте меня, ребята», а то уперся, как бык, — и ни с места. Да это же срам на всю бригаду! Чепе! Завтра в округ, а то, глядишь, и в Москву доложат.
— Я кому угодно скажу: не от страха. Честно. Просто обидно стало: все люди как люди, а мне, как последнему трусу, коленом под зад…
— Эти штучки, Слободкин, мы уже знаем! — рявкнул Кузя, самый справедливый человек на свете, в том числе и в первой роте. — Ты же просил тебя скинуть?
— Просил.
— Ну?
— Ну, а потом передумал, сам решил прыгать, без всяких толкачей. Принципиально.
— Ну, и прыгал бы себе на здоровье.
— Пока все прыгнули, пока я отцепился…
— «Пока, пока»… — передразнил Слободкина Кузя. — Вот я сам за тобой прослежу.
Ничего вроде бы особенного не было в Кузе, никаких не значилось за ним подвигов, как, например, за Поборцевым, прошедшим большую солдатскую школу, но Кузя в сознании ребят стоял с командиром рядом за свой прямой, справедливый и твердый характер.
Когда Кузя сказал Слободкину: «Я сам за тобой прослежу», тот понял — теперь пощады не жди.
В тот день, когда были объявлены очередные прыжки и пришла пора Слободкину взбираться в самолет, бедняга и не пытался скрыть охватившего его волнения. Он хотел махнуть кому-то рукой на прощанье, но у него получился такой беспомощный жест, что у каждого сжалось сердце.
Вечером бойцы собрались в ленинской комнате для разбора учений.
В самом начале своего выступления старший лейтенант Поборцев сказал, что прыгнули все отлично, в том числе и Слободкин, за которого волновалась вся рота.
Слободкин молчал. Только молчал уже не так, как там, в самолете, молчал совсем по-иному. Но вид у него был такой, будто он ничего особенного сегодня не совершил. Он ведь и действительно не сделал ничего выдающегося. Всего лишь первый шаг к тому, чтобы стать таким же, как его товарищи, как Брага, Кузя, как десятки и сотни других.
— А все-таки Слобода со всей ротой в ногу шагает! — сказал перед отбоем в курилке Кузя и как-то особенно вкусно и смачно затянулся махоркой.
Он всегда так вкусно и смачно затягивался, когда у него было хорошее настроение.
2
Первая рота спала крепко, видела сладкие сны. Как же еще спать, когда намаялись до чертиков? Какие же еще видеть сны, если тебе двадцать, и то, почитай, неполных?
Самый сладкий сон снился, конечно, Слободкину. Он тогда пошутил, что видел сон «по уставу», а сегодня именно такой ему и пригрезился. Будто подошел к бомбовому люку, оттолкнул локтями всех своих «опекунов», посмотрел, не стоит ли кто за спиной, и, убедившись в том, что ни одно колено в него не нацелено, ринулся в разверстую пасть люка, перепуганный насмерть и торжествующий…
Когда он проснулся, у него было такое ощущение, что сон продолжается, — вся рота только и говорила о прыжке Слободкина. Как отстранил всех от себя, как оглянулся, как бросился в люк и рванул кольцо…
Рота тем воскресным утром проснулась задолго до семи, без всякой команды дневального. И все Слободкин был виноват, его вчерашний прыжок.
Слобода, счастливый, лежал на койке и принимал поздравления.
— Ты, чертяка, весь мир потряс! Весь мир и старшину нашего Брагу Ивана Федоровича, — подвел итог поздравлениям Кузя. — Надо бы выпить по этому случаю, да вот беда — нет ни чарки, ни горилки, — подлаживаясь под украинский говорок Браги, продолжал Кузя. — Ну, так и быть, получай пол-литра из моего энзе.
Под дружный хохот всей роты Кузя достал из тумбочки флакон тройного одеколона, вылил содержимое в алюминиевую кружку, разбавил водой из бачка и с торжествующим видом, шлепая босыми ногами, подошел к Слободкину.
— Пей, Слобода, мировой коньяк «десанти́но». Пей, но не напивайся, один глоток, остальное — по кругу.
Слободкин отхлебнул, закашлялся, передал кружку соседу по койке.
— Экономь, братцы, горючее! — покрикивал Кузя.
Шутки шутками, а немало глотков оказалось в той кружке. Добралась она и до дневального, когда тот уже приготовился крикнуть: «Подъем!»
— Символически, — успокаивал дневального Кузя, — сами понимаем: на посту нельзя.
Дневальный увертывался от ребят, хотя по всему было видно — и ему страсть как охота разделить всеобщее торжество.
Когда уже вся рота, дурачась, пела «Шумел камыш…», в казарму вошел Поборцев. Но он не рассердился при виде такого зрелища. Подсел на край койки Слободкина и сказал:
— Поздравляю. Примите и мой подарок: через две недели в субботу увольняетесь в город на целые сутки. Довольны?
— Спасибо, — совсем не по уставу ответил Слободкин.
Давно у Слободкина не было такого праздника, как сегодня. Весь день он писал письма и балагурил с приятелями. Напишет письмецо — и к друзьям в курилку. Покурит, почистит и без того до блеска надраенные сапоги, поговорит о том о сем — и снова к столу.
— Ты как Наполеон у нас, — смеялись ребята, — тот, говорят, по сто писем в день строчил.
Слободкина этим удивить было трудно, он и в обычные-то дни писал в каждую свободную минуту, а сегодня у него был особый резон переплюнуть любого Наполеона. Да и адресов много: матери в Москву, другу на Дальний Восток, другому другу в Ленинград, а главное — той, кому посвящены все его мысли и дела, имени которой не знал пока никто в роте. На конвертах он старательно выводил: «И. С. Скачко». Но писарь, через которого шла вся корреспонденция роты, уже догадался, что «И» это вовсе не «Иван» и не «Илья».
Слободкин сидел в красном уголке первой роты и писал: «Добрый день, Иночка! Я был трусом. Слышишь? Самым настоящим. И мне не стыдно сегодня в этом признаться. А вчера я все-таки прыгнул. Сам, без всяких толкачей. Командир доволен. В следующую субботу дает увольнительную на целые сутки! Представляешь? Я так рад, что не могу сообразить сейчас, много ли времени до нашей субботы. Сколько часов? Сколько тысяч минут? Скорей бы, скорей летели дни, часы и минуты! А потом — целые сутки вместе! Ты знаешь, Инка, я сейчас такой храбрый, что, кажется, расцеловал бы тебя при всем честном народе. Чур, это между нами: командир узнает — отберет увольнительную…»
Слободкин перечитывал письмо, разрывал на мелкие клочки, принимался за следующее. Оно опять начиналось словами: «Добрый день, Иночка». Только о прыжках в нем уже ни слова. Нельзя же, в самом деле, рассекречивать часть, сто раз об этом говорено. Ну, а раз нельзя о прыжках, так и о трусости и о храбрости ни к чему. Слободкин писал: «Я жив, здоров, чего и тебе желаю». А потом с ожесточением уничтожал и это письмо. Принимался за новое: «Милая, милая Иночка! Мне дают увольнительную, я приеду в Клинск и опять скажу все те слова, которые тебе так понравились: дорогая, хорошая моя, я люблю тебя! Понимаешь? Люб-лю!»
Ни одного письма Слободкин в это воскресенье так и не отправил. Просто он стал действительно считать дни и часы, оставшиеся до встречи. Считал и потом — на марше, на стрельбах и, да простит его замполит Коровушкин, на политзанятиях…
Это были самые длинные дни и часы Слободкина. Если бы не служба, не железная необходимость выполнять свой солдатский долг, эти дни и часы, наверное, вообще никогда б не кончились.
Но служба есть служба, она из земли подымает солдат и кидает в бой, а с живыми и подавно не церемонится. Началась новая неделя, а с нею новые тревоги, новые учения.
Уже в понедельник, во время очередных занятий по укладке парашютов, по роте прошел слух — завтра прыжки.
Спокойно, с достоинством встретил эту весть Слободкин: ни один человек в роте больше не смотрел на него сочувственно, ни один! Он и сам теперь мог бы кого-нибудь пожалеть, только вот кого? Новеньких не было и ожидались не раньше осени. Правда, осень уже не за горами. Это особенно чувствовалось во время полета — с высоты хлеба выглядели совершенно желтыми, спелыми, почти совсем готовыми к жатве.
Бомбардировщики с десантом на борту шли над полями. Гудели моторы, гудела земля под широко распростертыми крыльями.
Парашютисты поглядывали на землю, и в эту торжественную минуту она казалась им как никогда могучей и необъятной — так беспределен был ее богатырский размах, так вольно колосилась она на десятки, сотни километров окрест. Такой хотелось запомнить ее навсегда ребятам, которым не раз приходилось принимать ее на свои бока, пересчитывать ее колдобины ребрами.
«Приготовиться! Сейчас начнем!» — поднял флажок штурман. Ребята еще тесней сгрудились возле люка. А земля все бежит и бежит, сливаясь в эти последние перед прыжком секунды в сплошную желтую массу. И совсем недалеко, по ту сторону границы, пылят и пылят дороги…
Много дорог, и над ними «только пыль, пыль от шагающих сапог». От солдатских сапог, от танков, от орудий на конной и мототяге — с высоты это видно отлично. Только вот непонятно: зачем, откуда и, главное, куда все это движется, спешит, обгоняя друг друга? К границе? К нашей? Но ведь с немцами договор. Совсем недавно подписан. Какого же лешего? Завтра на занятиях надо спросить замполита Коровушкина, а сейчас — пошел!
Штурман подал новый сигнал, и один за другим срываются вниз ребята. Тут только и гляди, чтоб не расшибить лоб в тесном проеме люка, мало приспособленном для прыжков. А зазевался, не рассчитал движений — обливайся кровавыми слезами до самой земли. Так бывало уже. Но десантники не горюют, не сетуют. Коли надо, так надо. Прыгай с самолетов, какие есть, бог увидит — хорошие пошлет. Это по секрету от Коровушкина. Он считает, что лучше наших самолетов не было и нет. С ним никто и не спорит. Все в бригаде даже гордятся техникой. И сами ее совершенствуют.
Самый большой рационализатор — полковник Казанский. Последнее его изобретение «троллейбус». Непонятно? Только на первый взгляд, а на самом деле — гениально. Прыгать в узкий бомбовый люк не только трудно — неудобно во всех отношениях: происходит большое «рассеивание» парашютистов в воздухе. Двадцать человек растянутся на два километра. В боевой обстановке попробуй-ка соберись для мгновенных согласованных действий. Вот полковник и придумал этот самый «троллейбус». От фюзеляжа к концам плоскостей натягивается стальной трос. По команде штурмана, держась за трос, на плоскости выходят парашютисты — десять на одну и десять на другую. Первый идет до самого конца, за ним остальные. Вот все двадцать, вцепившись в трос, пригнувшись, чтоб не сорвало раньше времени мощным воздушным потоком, стоят — приготовились, ждут. Вторая команда штурмана. Все разом разжали пальцы — и двадцать парашютистов в воздухе. Одновременно прыгнули, одновременно приземлились! Кучно, компактно, можно сразу же приступать к выполнению поставленной задачи, поддерживать, выручать друг друга. «Троллейбус Казанского» — так и запомнили в бригаде на всю жизнь это чудо находчивости, изобретательности, солдатской предприимчивости.
Десантники на аэродроме. Здесь же и Казанский. Вид у него загадочный, не иначе — задумал что-то новое, невиданное. Может, «троллейбус» усовершенствовал? Оказывается, да, и сам решил прыгнуть вместе со всеми, для тренировки. Он любил прыжки, давно уже под его значком мастера висел на тонком колечке серебряный ромбик не с каким-нибудь, а с трехзначным числом. Но полковник все прыгал, прыгал, на страх врагам рабочего класса, как он любил выражаться, ну, и, конечно, на зависть молодым. Это уж они сами так сформулировали, для себя. Казанский об этом не знал, но не чувствовать на себе восхищенных взглядов ребят не мог и защищался от них, как умел.
— Страшно? — спросит.
Те только рты откроют, чтобы ответить, а он:
— Ну конечно же страшно! Весь человеческий организм сопротивляется прыжкам. А что поделаешь? Надо!
Так он это скажет, что страх сам собой пропадает даже у тех, кто действительно из робкого десятка.
Слободкин был уверен, что с обычным своим вопросом Казанский обратится сегодня к нему. Но полковник ничего не сказал, только посмотрел на Слободкина многозначительно. Тот смущенно поправил какие-то складочки на обмундировании и вдруг тихо, но совершенно отчетливо сказал, уставившись куда-то под облака:
— Что поделаешь! Надо…
— Вот теперь я вижу, что вы солдат! Поздравляю, Слободкин, от всего сердца. А сегодня у нас «троллейбус», не сробеете?
— Нет.
— Хотя и страшновато?
— Хотя и страшновато, — в тон ему ответил Слободкин.
Прыжки прошли хорошо. Они всегда особенно хорошо проходили, когда Казанский прыгал вместе со всеми.
Целыми взводами приземлялись на один «пятачок». Полковник был доволен и не скрывал этого.
— Война начнется — цены вам, ребятки, не будет, — сказал и Коровушкин на политзанятиях вечером.
— Война? Как — начнется? И с кем? — забросали его солдаты вопросами.
— Оружие «потенциального противника» чье на занятиях изучаете? — спросил Коровушкин, хитро прищурившись.
Ребята молчали.
— Ну, недогадливые! А какой язык вам ввели?
— Немецкий, — за всех ответил Кузя. — Так ведь с немцами у нас договор. Недавно подписан.
— Договор будем соблюдать, — твердо сказал Коровушкин. — Обязательно будем. А если они его нарушат, первый ответ перед нами будут держать, перед воздушной пехотой.
Он сказал это так, будто людей важнее парашютистов нет во всей державе. Да и все так считали. А как же еще?
Стоят ребята опять на крыле бомбардировщика, смотрят на землю, проплывающую внизу, сердце каждого вздрагивает от пронзившей его мысли: «Твоя это земля, твоя! Ты за нее перед всем народом в ответе». Правая рука на кольце. Левая крепко сжимает стальной трос, идущий от фюзеляжа к концу плоскости. Только одна секунда нужна тебе, чтобы коршуном кинуться на врага. Одна секунда. Все готово у тебя и твоего отделения, у взвода и роты, батальона и всей бригады. Все готово, нужна только команда, только взмах флажка штурмана, и пошел!.. А ну-ка, суньтесь, кому охота!
Во время последней отработки «троллейбуса» особенно отличился, конечно, Кузя. Полковник поблагодарил его. На вечернем построении было объявлено, что Кузе за особые успехи в боевой и политической подготовке предоставляется отпуск. И какой? На целых пять дней! Послезавтра он поедет домой, в Москву, где у многих семьи, родные, близкие.
Вся рота стала готовить Кузю в эту поездку. Ребята строчили письма, забрасывали Кузю десятками адресов, и отпуск его грозил превратиться в сущее наказание. Но Кузя не унывал, он готов был собрать поручения со всей бригады, со всего соседнего авиационного полка и самым добросовестным образом выполнить их, лишь бы побывать в Москве. Служба службой, а тоска по дому точит сердце каждого солдата, даже такого, как Кузя, которого на любом занятии всем в пример ставят.
Не преминул воспользоваться оказией и Слободкин.
— К маме, прошу, забеги. Расскажи ей, как нам тут служится. В письмах всего не объяснишь. — Потом, помявшись, спросил: — Ты в Москву через Клинск?
— Как же еще? Другого пути пока нет.
Слободкин вздохнул с облегчением и протянул Кузе похрустывающий треугольник.
— Брось на вокзале в Клинске.
Кузя повертел конверт перед глазами и сказал:
— К маме зайду. Письмо опущу. Только открой секрет: кому ты все строчишь?
— Кому, кому! Тебе что, трудно?
— Нет, почему же? Но ты все-таки скажи. Влюблен? Да?
— Не надо, сам отправлю, раз так…
— Ну ладно, ладно. Знаю, кореш у тебя в Клинске, и ты ему каждый день пишешь. Верно? Кореш?
— Кореш.
— Скачко? И. С.?
— И. С.
— Иван, что ли?
Слободкин оглянулся по сторонам и тихо, но твердо сказал:
— Инесса.
— Имя какое-то редкое.
— Обыкновенное. Инесса, Ина, — обиделся почему-то Слободкин. — Только ты молчал бы, раз догадался.
Кузя, как мог, успокоил Слободкина:
— Видишь ли, догадался не я один, догадалась целая рота, и давно уже, но молчать я умею. И рота умеет молчать.
Слободкин не ответил. Вид у него был совершенно обескураженный.
— Ну, хорошо, хорошо, — сжалился Кузя, — нет у тебя никого в Клинске, никого, кроме кореша. Так и запишем: нет никакой Ины.
— Тише ты! — взмолился Слободкин. — Ну, есть, есть. И что из того? Кому интересно? Только мне да ей.
— Ишь ты какой! Все ребята свои письма из дома вслух читают?
— Читают.
— Ты слушаешь?
— Слушаю.
— А в свои дела пускать никого не желаешь? Здорово, значит, тебя забрало, если ни с кем не делишься. Точно я говорю?
— Точно.
— Ну, тогда прощается, — похлопал по плечу Слободкина Кузя. — Красивая?
— По-моему, очень.
— Фото! — протянул ладонь Кузя.
— Да я… Да у меня…
— Фото, говорят тебе.
Слободкин долго рылся в карманах гимнастерки, будто и в самом деле не помнил, есть ли у него фотография. Наконец извлек крохотную, с почтовую марку, карточку.
— Вот, смотри, только, чур…
— Иван Скачко?
— Ага.
— Ничего. Очень даже ничего. Одобряю.
…В эту ночь Слободкин рассказал Кузе историю своей любви. Их койки стояли рядом, у самого окна, и, когда все в роте заснули, Слободкин зашептал над самым ухом товарища:
— Познакомились мы случайно в Клинске. Помнишь, когда под Новый год к шефам ездили?
— Я не ездил.
— Ты-то в наряде был, а вот мне повезло.
— Так уж сразу и повезло?
— Ты слушай, она такая хорошая… Я думаю теперь о ней все время. Где бы ни был — на занятиях, на стрельбах, в самолете, — из головы не выходит. Ночью вижу ее.
— Кто ж такая?
— В школе учится.
Кузя тихонечко свистнул.
— Но ты не подумай, не девчонка какая-нибудь. Умница, и ямочка на щеке.
— Ямочка?
— Когда улыбнется, уползает вот сюда. — Слободкин показал на своем лице, куда именно уползает ямочка.
— Криворотая, что ли?
— Дурак ты, Кузя. От счастья это, понимаешь?
— От счастья?
— Ну да, от счастья. Неужели не понятно? Вот ты с парашютом лучше всех прыгаешь, но в жизни совсем не разбираешься.
— А ты откуда знаешь, что от счастья?
— Она сама пишет: «Твоя счастливая И.». В каждом письме. Хочешь, покажу?
— Чужие письма читать не полагается. Я человек интеллигентный.
— Интеллигентный? А когда ребята свои письма вслух читают, слушаешь?
— Когда читают, слушаю, но сам носа не сую.
На рассвете зашелестел Слободкин клинскими письмами над ухом Кузи. Каждое действительно кончалось словами: «Твоя счастливая И.».
— Значит, по-настоящему? — уже совершенно серьезно спросил Кузя, когда Слободкин дочитал последнее письмо.
— Я так понимаю. Только чтобы рота ни в коем случае…
— Вот затвердил: рота, рота… Рота, она тоже не каменная, все поймет, если надо.
— Я тебя умоляю.
— Не умоляй, я тайну хранить умею. Но рота, по-моему, кое о чем догадалась.
— Ты шутишь?
— Почему шучу? Ни людям, ни тем более ротам с любовью шутить не полагается.
Они рассмеялись — тихо-тихо, как смеются только очень счастливые люди. Даже дневальный ничего не услышал.
А может, просто у тумбочки стоял деликатный человек и, в нарушение всех уставов, делал вид, что не дошло до его слуха ни звука из того, что шелестело, жужжало, вздыхало всю ночь за его спиной?
Почти все ребята в роте действительно знали о том, что Слободкин влюблен, но никто над ним не смеялся, хотя над некоторыми подшучивали — будь здоров. Слободкину каждый хотел помочь.
— Так смотри же не забудь, опусти прямо на вокзале! — еще и еще раз просил Кузю Слободкин.
— Теперь уж не забуду, — многозначительно отвечал Кузя, — теперь я ваш болельщик. Два — ноль в вашу пользу, твою и И. С. Скачко…
Провожали Кузю всей ротой, всем наличным составом. Наверное, ни один дипкурьер в мире не возил с собой чемодана, так туго набитого письмами.
Вернулся Кузя ровно через пять дней, но успел справиться со всеми поручениями. Были, конечно, своевременно отправлены и письма, предназначенные И. С. Скачко. Именно письма, а не письмо, ибо Слободкин в последнюю минуту вручил Кузе целую пачку посланий, помеченных одним и тем же всей роте запомнившимся клинским адресом.
Сперва на вопросы ребят Кузя отвечал коротко и лишь вечером в курилке немного разговорился.
— Москва как Москва. Все на месте. Только одна вещь меня удивила очень.
— Какая?
— Немцы.
— Что немцы?
— Прохожу по улице Горького, от площади Пушкина к Моссовету. Представляете?
— Ну-ну?
— Поравнялся с Леонтьевским переулком. Он оттуда весь, до самого конца, просматривается. В глубине немецкое посольство стоит. На посольстве — флаг. Огромный. Со свастикой от края до края. Я как увидел, аж дрожь по всему телу прошла. Фашистский флаг в самом центре Москвы!
— Да… да… да… — задумчиво протянул Слободкин. — Но в то же время что поделаешь — договор. Взаимное ненападение…
— Я политграмоту знаю, — оборвал Слободкина Кузя. — Договор. Ненападение. Насчет договора дело ясное. Заключен, подписан, ратифицирован. Но фашист есть фашист. И дороги пылят не случайно. Согласны?
— Согласны.
— То-то и оно. Но надо было еще видеть, как он висит, этот флаг.
— Как же?
— Трудно, братцы, и придумать что-нибудь более наглое. Древко торчит из стены горизонтально, — Кузя вытянул перед собой руку, — вот так. С него почти до самого тротуара — огромное полотнище. Всякий, кто проходит мимо посольства, должен низко наклонять голову, чтобы не задеть флага. Идут москвичи и словно отвешивают поклоны черному пауку.
— Ну, это ты уж перехватил! — воскликнул кто-то.
— Да нет же, ребята! Я спектакль этот разгадал сразу. Все у них тонко и точно рассчитано, как в театре.
— А наши?
— Ни один милиционер пальцем не шевельнет.
— Милиция тут ни при чем.
— Одним словом, удивило меня все это. Разозлило даже.
— Меры принял? — полушутя-полусерьезно спросил Слободкин.
— Принял.
— Какие же?
— Плюнул, выругался.
— Ну вот и молодец!
— Но ведь зло берет: только всего и мог, что плюнуть.
— Но ведь и выругался?
— Это уж будьте спокойны!
Разговор был окончен, но долго еще не расходились ребята из курилки. Молча тянули одну папиросу за другой. Каждый думал о своем. Кто о доме, кто о родных, кто о рассказе Кузи про свастику. Но все в конечном счете думали одну общую невеселую думу. О войне. О войне, нависавшей над страной с неумолимой неизбежностью. Военная игра, в которую солдаты играли каждый день, каждый час, все больше поворачивалась к ним гранью настоящей войны.
На полигоне испытывали новые, пятидесятимиллиметровые ротные минометы, принятые в это время на вооружение и в немецкой армии. Парашютисты осваивали незнакомое оружие. Делалось это в таком спешном порядке, будто война должна начаться не далее как завтра, в крайнем случае — послезавтра.
Стреляли учебными деревянными минами. Деревяшки иногда застревали в стволе, и приходилось их доставать с большими трудностями и предосторожностями. Иногда и без предосторожностей.
Одна из мин застряла как-то в миномете, который пристреливал сержант Шахворстов, человек нетерпеливый и резкий. Нарушая всякие правила безопасности, он заглянул в ствол миномета. Мина, изменив положение в стволе, проскочила вниз, на боек. Прогремел выстрел. Через мгновение Шахворстов, широко разбросав руки, лежал на земле. Из правой глазницы его торчал стабилизатор мины, пробивший голову. Даже кровь не успела хлынуть, только несколько капель ее упало на зеленый ворот гимнастерки.
Разве могли в то утро предположить десантники, какие реки крови совсем скоро разольются по земле из человеческих жил? Не догадывались даже, но вид и цвет этих нескольких капель, обагривших гимнастерку Шахворстова, вселил еще бо́льшую тревогу в их сердца. Смерть уже охотилась за ними. На каждом шагу.
Этой осенью Шахворстов должен был демобилизоваться и ехать на Дальний Восток, к своей невесте, которая ждала его. Уже был куплен в складчину, втайне от Шахворстова, синий бостоновый костюм — «приданое» (Кузя купил, когда ездил в Москву). Уже готовили ребята и другие подарки, сочиняли поздравительные стихи, фотографировали Шахворстова, надев на него синюю командирскую пилотку, чтобы еще более бравым выглядел сержант перед невестой. Всем хотелось, чтобы смотрел он орлом. Для этого пилотка лихо заламывалась набекрень.
Хоронили Шахворстова на кладбище, расположенном неподалеку от казарм.
На свежий холмик земли рядом с цветами была положена синяя пилотка, поблескивавшая на солнце эмалевой звездочкой.
Над кладбищем прошли бомбардировщики. Они летели низко и тихо, бросая на землю косые ширококрылые тени.
А дороги за кордоном все пылили и пылили. Гудели моторы, громыхали колеса, звенели подковы.
Все более напряженным становился и без того изнурительный темп учений наших десантников. Тревога! Тревога! Тревога! И марш-бросок после каждой. Если такое совпадает с днем сухого пайка — собирай все свои силушки. Рыжая селедка, кремень сухаря да кружка жгучего чая. Вот и весь дневной рацион. Стискивай зубы, подтягивай ремешок. Ну, и песню, конечно, давай. Вынь да положь песню.
И как это все-таки мудро многое на свете устроено! Все уже выпотрошены. До конца. Старшина требует от бойцов невозможного. Откуда же взять эти силы, чтобы песня слетела с пересохших селедочных губ? Чтобы натруженные плечи распрямились, чтобы ноги обрели устойчивость? Запевают нехотя, со злостью даже. Вернее, не запевают, а вторят старшине — еле слышно. Проще говоря, чуть шевелят языком, чтобы не придрался старшина, не разгневался, не остановил строя.
Но вот происходит чудо. Шаг за шагом, вздох за вздохом. Все громче и стройней голоса, все увереннее ритм и такт. Про Катюшу. Про трех танкистов. Про махорочку…
Вырвалась, выстрадалась песня! Теперь уж не сникнет, пока не доведет до привала. И только тут оставит солдата, и то ненадолго. Привалы коротки, ой, как коротки привалы! Только лег, расстегнул ворот, разбросал руки в колеблемой стрекозами траве, не успел поделиться табаком с соседом, а старшина уже на ногах. Глаза бы в ту минуту на него не смотрели! Но не отведешь ведь глаз от старшины. Вот и смотришь на него. И от усталости даже не слышишь его голоса, по движению губ догадываешься:
— Подъем!..
Если встанешь точно в том месте, где лежал, если каждый встанет точно в том месте, где свалила его усталость, — будет уже готовый строй. По четыре в шеренге. Чуть подровнял, подправил кое-где — и двигай дальше. Запевай любимую. Любую запевай, только запевай, запевай, запевай поскорее, чтобы вновь не одолела тебя предательская усталость.
— Подъем!..
И все в строю. Строй двинулся, зашагал, запел. Его теперь не остановишь. Даже если песня кончится. Одну песню сменит другая, другую — третья. И клубится песня над всеми дорогами, над колонной каждой, над шеренгой…
3
Сегодня опять, как всегда в воскресный день, никаких прыжков и учений. Первой роте снова снятся сладкие сны.
Слободкин блаженно улыбается сквозь сон. Ему и сам бог велел. В прошлую субботу он побывал в Клинске, повидался с Иной и всю неделю после этого поглядывал на всех загадочно, смущенно и многозначительно. Тайна «И. С. Скачко» окончательно разгадана в первой роте. Слободкин не стесняясь начинает писать на конвертах: «Ине» — и, как ребенок, выводит это имя огромными печатными буквами. У ротного почтаря буквально рябит в глазах от этого бесконечно повторяющегося: «Ине… Ине… Ине…»
— Ине? Опять? — при всех громко спрашивал он Слободкина.
— Ине. Опять, — отвечал Слободкин. Громко. При всех. Гордо и торжественно.
— Ну, давай, давай.
Браге снится отпуск. Старослужащий. Давно дома не был. А тянет, ох как тянет к родному порогу, на Харьковщину, к Зеленому Гаю. Привык к роте, сроднился с бойцами, со службой, но иногда заскучает, застонет сердце, ничем не уймешь. Вот и грезится Браге, будто дома он. Идет от вербы к вербе, от хаты к хате, старикам кланяется, девчатам подмигивает, но не всем, с выбором, а сам выискивает глазом ту чернявую, которая еще помнит, не может не помнить его. Сейчас найдет, окликнет… Узнает ли? Первый раз Брага Зеленым Гаем в военной форме идет. И значка парашютного на нем никто не видел еще. Вот все и спрашивают: «Кто такой? Откуда взялся хлопец?» А под значком — подвеска блестящим ромбиком, на подвеске ротный умелец выбил цифирку 40. Кто из зеленогаевцев знает, что это такое? Никто, наверное, и не догадывается, что Брага сорок раз кидался в бомбовый люк самолета, сорок раз испытывал на себе тяжесть динамического удара, а он даже без полной боевой выкладки пятьсот килограммов весит, ну, а со снаряжением и того больше, как тряханет — только держись, не растеряй своих косточек. Потому-то так гордо позвякивает подвесочка под значком и сияет, тщательно надраенная мелом.
Сейчас заметит Брагу чернявая, выглянет вон из того оконца. Старшина замедляет шаг, поправляет пилотку, раздергивает складочки гимнастерки под ремнем…
Что снится Кузе? Он ведь недавно из отпуска. Но и Кузя тоже видит свой дом в Москве, на Серебрянической набережной. Видит старую мать, с которой так мало побыл из пяти коротких отпускных дней. Все бегал по городу, выполняя поручения ребят, — для родной матери времени почти не осталось. Но она не корила его: другие матери ждали сына ее. Материнские сердца все одинаковы…
И вдруг все эти сны спутал, скомкал один бессердечный, ничего, кроме службы, знать не желающий человек.
— В ружье! — прогорланил дневальный Хлобыстнев.
Но первый раз за все время службы ни один солдат не поднялся по этой команде. Только едкие, злые шуточки полетели изо всех углов казармы:
— Ты что, ошалел? В воскресный-то день?
— Дневального на мыло!..
— В ру-жье! — еще раз настойчиво рявкнул Хлобыстнев.
Рота лежала. Больше никто не ругался, не ворчал. Ребята просто перевернулись с боку на бок и, злые, возмущенные глупой выходкой, пытались заснуть.
В это мгновение отворилась скрипучая дверь, рядом с дневальным встал командир роты. Они пошептались, поглядели вокруг, и новое «в ружье!» сотрясло воздух казармы.
Сто двадцать одеял взлетели вверх одновременно, сто двадцать человек метнулись к тумбочкам, к сапогам, выстроившимся в проходах между койками. А потом — к пирамидам, к оружию.
Дневальный почему-то уже не мог остановиться. Может, и впрямь ошалел? Рота уже выбегала строиться, а он все кричал и кричал свое осипшее, уже нелепое, уже никому не нужное: «В ружье!»
Он так и остался стоять у тумбочки. Один в пустой казарме, среди воцарившейся тут тишины. Впрочем, тишина была недолгой. Где-то завыла сирена. Ее звук ворвался через открытые окна, заполнил все пространство от пола до потолка. Раскрытыми парашютами влетели в глубину казармы белые оконные занавески. Хлобыстневу стало жутко. Сирена выла и выла с маленькими паузами, от этого звук ее множился, казался хором десятков сирен, пытавшихся перекричать друг друга, перекрыть рокот самолетов, шум выстрелов. Да, да, это были выстрелы, дневальный все явственнее улавливал их сквозь общий гул, нараставший с каждой минутой. Но и этот шум скоро был задавлен громадой новых. Уже ухали тяжелые взрывы. Один, другой, третий… Все ближе, ближе, где-то совсем рядом.
Не зная, что делать, Хлобыстнев кинулся закрывать окна. В эту минуту одно из них хлопнуло с такой силой, что обломки стекол ударились о противоположную стену. В общем грохоте это произошло совершенно беззвучно, и дневальный удивился тому, как тихо могут биться двухметровые стекла. Он даже подумал, не показалось ли ему это, но кровь залила его иссеченное осколками лицо. Он перестал видеть.
Тут чьи-то руки легли на плечи Хлобыстнева, и он почувствовал, что его, как слепого, куда-то ведут. Он никак не мог понять, что происходит, и покорно двигался туда, куда влекли его властные руки.
— Скорей, скорей! — услышал он у самого уха голос Браги.
Они были уже за порогом казармы, когда стены ее, сверху донизу раскроенные силой фугасного взрыва, рухнули.
Небо было исполосовано трассирующими пулями. Самолеты со свастикой шли на небольшой высоте. Это Хлобыстнев уже отчетливо видел: Брага подобрал кусок белой занавески и осторожно, выбирая осколки стекла возле глаз раненого, делал ему перевязку.
— Что это, товарищ старшина?..
Слова его потонули в грохоте новых взрывов. Брага, схватив за руку Хлобыстнева, бросился с ним в придорожную канаву. Через минуту они поднялись и двинулись в сторону леса.
Они бежали по смятой множеством ног, полегшей траве, которая тысячами зеленых стрелок указывала дорогу к сборному пункту бригады.
На бегу, чертыхаясь и оборачиваясь, чтобы еще раз взглянуть на полыхавший городок, Брага крикнул Хлобыстневу:
— Ну вот, кажись, и началось.
— Неужто? Просто так, без всякого объявления?
— Шандарахнули сразу из всех калибров. Какое тебе еще объявление нужно?
Они добежали до леса в тот момент, когда бригада строилась для марша. Отдавались последние распоряжения. К аэродрому дорогой сейчас не пробиться. Двигаться нужно лесом, но быстро, очень быстро.
Марш-бросок… Сколько раз уже совершали его парашютисты от казарм до аэродрома, от аэродрома до казарм! Сколько пролито пота, сколько белых заплат из соли сверкало на зеленых плечах гимнастерок! И вот снова марш-бросок. Но таких еще не было. В конце тех, прежних маршей, какими бы трудными они ни оказывались, солдата ждал отдых. Пусть короткий, быстротечный, но обязательно полный отдых всем. А теперь?
Никогда еще дорога к самолетам не казалась Хлобыстневу такой бесконечно длинной, как сегодня. Повязка на каждом шагу сползала со лба, закрывая глаза. В раны на лице проник пот, и остановленное Брагой кровотечение началось снова. Хлобыстнев бежал самым последним, низко наклонив голову, временами почти теряя сознание, бежал, выставив вперед руки, но ветви деревьев все равно больно хлестали по лицу, по глазам.
Передышка наступила только перед самым аэродромом. Но лучше б не было такой передышки. На опушке леса, почти вплотную примыкавшего к летному полю, десантники залегли в траву и глазам своим не поверили — аэродрома и самолетов больше не существовало.
Поборцев вместе с другими командирами поднялся и направился к летчикам, безмолвно стоявшим возле края одной из воронок.
На аэродроме редко бывает тихо, но такой жуткой тишины, какая наступила тут сейчас, вообще никогда еще не было. Скрежет рваного дюраля на ветру делал тишину еще более зловещей и грозной.
…Когда солнце поднялось над лесом, из соседней деревни пришло несколько тракторов. Шум моторов как-то незаметно приободрил людей. Словно подчиняясь единой воле, без всякой команды на поле вышли десантники. Обломки самолетов оттаскивали в сторону тракторами. Парашютисты и летчики стали землекопами. Поборцев и другие командиры работали вместе со всеми. Даже раненый Хлобыстнев, которому сделали новую перевязку, нашел себе дело. Когда Поборцев увидел его в белых бинтах, он немедленно подошел к нему.
— Где это вас?
— Там еще, — махнул тот рукой.
— В казарме, товарищ старший лейтенант, — пришел на помощь Хлобыстневу Брага. — У тумбочки.
— Как себя чувствуете?
— Нормально, — ответил Хлобыстнев, запрокинув голову так, чтобы повязка не мешала ему видеть командира.
Кровотечение прекратилось, и раненый чувствовал себя действительно лучше.
— Буду работать, как все.
— А не тяжело?
— Обойдется.
— Ну что ж, тогда вам задание: пойдете в Песковичи, обследуете там все и доложите. С вами пойдет Кузнецов, хотя его тоже немного царапнуло. Найдите его, и отправляйтесь.
Хлобыстнев пошел разыскивать приятеля. Кузя сидел, привалившись к сосне, и жадно курил. Левая щека его была перевязана. Он что-то зло подбрасывал на ладони.
— Что с тобой, Кузя? — кинулся к нему Хлобыстнев.
— Ты лучше скажи: с тобой что?
— Меня стеклом просто, в казарме еще.
— И меня, к сожалению, не на поле брани. — Он поднес свою ладонь к глазам Хлобыстнева. — На-ка вот, посмотри.
— Откуда это?
— Отсюда вот. — Кузя дотронулся пальцем до своей забинтованной щеки. — Чуть всю фугаску не проглотил.
— Прямо в щеку влепило?
— Я и опомниться не успел, как почувствовал вкус крови. Плюнул, а на землю вместе с зубом упала вот эта чертовина. Если бы мне кто-нибудь сказал, что на войне с первой минуты придется чугун глотать такими кусками, я бы не поверил.
— А ты думаешь, я бы поверил, что можно быть раненым в родной казарме? И не крупповским чугуном, а самым обыкновенным стеклом…
Уже громыхнула первыми взрывами война, а им еще не верилось, что теперь все перевернется вверх дном, что неизвестно сколько будет висеть над ними, над их землей, смертельная опасность, что ученье кончилось, что теперь им предстоит по-настоящему, жизнью своей, защитить народ. Они еще по привычке отводили душу шутками, хотя получались те шутки уже совсем невеселыми.
Кузя и Хлобыстнев скоро сами почувствовали это и шли в Песковичи молча, лишь изредка останавливаясь, чтобы закурить, поправить бинты и перевести дух. Шли по той дороге, лесом, которая на каждом шагу хранила следы утреннего марша. То здесь, то там под ноги Кузе и Хлобыстневу попадались обрывки газет, недокуренные папиросы, а потом они набрели и на притаившийся в траве плоский штык автоматической винтовки.
Кузя, превозмогая боль, нагнулся, поднял находку, расчехлил и выругался.
— Раззяву сразу видно.
Хлобыстнев вздохнул и развел руками: на войне, мол, бывает всякое.
— Теперь все будут на войну сваливать. Ты погляди на это вот. — Кузя еще раз расчехлил штык. — Эта ржа тут давно завелась, до войны еще…
До войны… Слова эти, сказанные сейчас как бы между прочим, поначалу пропущенные мимо ушей, вдруг приковали внимание обоих.
— До войны, ты сказал? — Хлобыстнев снова поправил сползшие на глаза бинты. — Как-то чудно звучит это: до войны…
— Очень чудно.
Оба опять помолчали. Кузя пристегнул найденный штык к своему поясу.
— Пригодится еще.
Чем ближе подходили к Песковичам, тем быстрее шагали. Не терпелось увидеть, что стало с городком, что уцелело в нем. Не могли же бомбы порушить все за один раз: десятки современных зданий, склады, красу и гордость всего городка — недавно построенный Дом культуры.
Вон гора, за той горой еще одна, потом Песковичи — прикидывали они. Но ни один, ни другой никак не могли разглядеть знакомых очертаний парашютной вышки, которая вот с этого места уже бывала видна в любую погоду.
Кузя еще раз поправил бинты и полез на дерево. Оставшийся внизу Хлобыстнев нетерпеливо окликнул его, когда тот еще не добрался до середины ствола:
— Ну как?
Кузя молчал.
— Ты что, оглох?
— Не вижу, — послышался наконец сдавленный голос Кузи, — не вижу никаких Песковичей, Хлобыстнев…
Кузя молча спустился на землю, и молча пошли они дальше.
Вскоре им открылась вся картина разгромленного бомбежкой городка. В суматохе утренней тревоги они разглядели не все, что случилось. Думали, рухнула только их казарма, ну в крайнем случае еще соседняя. А тут повсюду только воронки и щебень…
Кузя и Хлобыстнев с большим трудом нашли то место, где всего несколько часов назад была их казарма. Они определили это по старой перекошенной раките, которая чудом уцелела, но казалась еще более кривобокой, как человек, постаревший в одно мгновение.
— Ракита? — спросил Хлобыстнев.
— Как видишь! — рассердился на него почему-то Кузя.
Ветви старого дерева, как руки, безжизненно упали к земле. Серебристая изнанка узких листьев стала видней, чем раньше, и ракита сделалась похожей на бесформенный кусок алюминия. Кузя и Хлобыстнев поглядели друг на друга, не сказав ни слова.
Налетел ветер, ракита зашумела, но не как всегда — грустно и жалобно. Опаленные огнем ветви заскрежетали металлическим скрежетом.
Ветер постепенно усиливался, завыл, как в аэродинамической трубе, и вдруг начал швырять под ноги десантникам охапки белых бумажных треугольников.
— Письма!.. — воскликнул Кузя.
Это было похоже на чудо, но в разоренном дотла, сожженном городке уцелели именно письма. Кувыркаясь и подпрыгивая, они короткими перебежками рвались сейчас в сторону аэродрома, будто стремясь вернуться к тем, кто их написал.
Кузя нагнулся, машинально поймал одно из писем и показал его Хлобыстневу.
— «Клинск, Садовая шестнадцать… Ине Скачко», — прочитал он вслух.
Они обошли всю территорию городка. Все обследовали, собрали все до одного письма и направились в обратный путь. Для экономии сил решили идти короткой дорогой — через луга. Фашистские самолеты больше не появлялись, и приятели надеялись через полтора часа быть на месте, но скоро поняли, какую совершили ошибку.
Вражеский истребитель пронесся над головами Кузи и Хлобыстнева в тот момент, когда они считали себя в безопасности. Сделав разворот, машина тут же вернулась.
Они побежали, то падая, то подымаясь, по мелкому кустарнику. Но самолет не отпускал их, делая заход за заходом. Парашютисты почувствовали себя в клетке. Куда бы они ни устремлялись, повсюду на пути стояла железная изгородь, прутья которой вонзались в землю.
Увидев невдалеке огромный дуб, Кузя и Хлобыстнев побежали к дереву, надеясь найти защиту от пуль за его могучим стволом. Но осатаневший летчик и тут не пожелал оставить их в покое. Двое метались вокруг ствола, третий, в самолете, неотрывно следовал за ними, то приближаясь, то удаляясь, стрекоча пулями по листьям дуба так, что они пачками сыпались на землю.
Не выдержав, Кузя вскинул автомат и дал длинную очередь по стервятнику. Это не причинило ему ни малейшего вреда, но самолет исчез так же неожиданно, как появился.
Поглядев ему вслед, приятели увидели далеко на горизонте зарево и услышали длинную серию взрывов. Даже в ясный, солнечный день огонь, подымавшийся над городом, был виден совершенно отчетливо, и отблески его падали на лица так резко, как будто горевший Клинск находился не за много километров отсюда, а в непосредственной близости.
— Эх, Клинск, Клинск… — вздохнул Хлобыстнев. — И где только наша авиация?
— Авиация в бою, — мрачно отозвался Кузя, — но ты сам видел, какие у него самолеты.
— Какие?
— Не прикидывайся дурачком, Хлобыстнев.
— Не читай мне лекций. Не на политзанятиях.
— Не на полит, — согласился Кузя, — а ты соображай все-таки лучше. У него летчик в бронированной кабине сидит. А наши еще в гражданскую научились под задницу сковородку подкладывать, чтобы от захода снизу защититься. Это тебе известно?
— Сковородку?! — переспросил Хлобыстнев.
— Да, самую обыкновенную, на какой бабушка твоя блины пекла.
— Ну, это ты кому-нибудь расскажи.
— Точно, сковородку. Русский мужик всегда был хитер на выдумку. Но одной выдумки мало. О самолетах больше надо бы там думать, — Кузя многозначительно ткнул пальцем над своей головой.
— Ну и гусь! — на ходу хлопнул себя по колену Хлобыстнев. — Сам чуть войну не проспал, а теперь на самый верх замахивается!..
— Я чуть не проспал?
— Не я же.
— Не совестно тебе? Дневальным был, а с заспанной рожей «в ружье!» орал.
Кузя и Хлобыстнев говорили сердито, горячо, как люди, лично ответственные за то, как началась война, какова была степень общей готовности к борьбе.
Перепалка эта была прервана неожиданно — новый рокот моторов прокатился над полем.
Метр за метром, теряя высоту, со стороны Клинска летел немецкий бомбардировщик, яростно отстреливавшийся от двух «ястребков». Превосходя тяжелую машину в скорости, «ястребки» делали отчаянные попытки увернуться от ее сокрушительного огня.
Немецкий самолет загорелся первым, все-таки успев напоследок прошить очередями крупнокалиберных пулеметов своих преследователей. Все три машины рухнули почти одновременно. Один за другим в наступившей тишине прокатились три взрыва, три огромных дерева дыма выросли на месте их падения.
А над Клинском все ширилось зарево.
Парашютисты еще раз с горечью поглядели в сторону горящего города и снова двинулись в путь.
4
Вернувшись к своим, Кузя и Хлобыстнев не узнали аэродрома. За несколько часов летчики и парашютисты заровняли воронки, расчистили взлетную полосу. Дело было за небольшим — за самолетами.
Доложив начальству о результатах своего похода в Песковичи, Кузя и Хлобыстнев отдыхали, улегшись на опушке леса. То и дело тут стали появляться товарищи по роте и батальону. Вроде между прочим подойдет то один, то другой и спросит:
— Ну, как там?
Получив указание до поры до времени языков не распускать, ребята отвечали односложно:
— Порядок.
Только голоса у них были такие, что никто даже и не переспрашивал.
— А у вас тут что? — спросил Хлобыстнев.
— И у нас порядок. Но у нас по-настоящему.
— Что о войне говорят? — обратился Кузя к одному из подошедших.
— Война идет полным ходом.
— Политинформация была?
— Была.
— Что сказали?
— То и сказали, что идет.
— Ты толком объясни, не виляй, — настаивал Кузя.
— По всей карте — от верха до низа. — Парень сделал охватывающее движение руками, после которого все слова оказались вдруг совершенно лишними.
— Шутишь?
Это Кузя так уж, машинально, спросил, на самом же деле он поверил в сказанное и деловито прикинул:
— Серьезное будет дело.
Кузя п Хлобыстнев, поразмыслив, решили скрыть от ребят найденные на пожарище письма: пусть не падают духом. Доложили об этом Поборцеву. Тот рассердился:
— Вы что, кисейные барышни? Приказываю — письма раздать.
— Понятно.
— Действуйте… Впрочем, отставить. Я сам.
Вечером, когда был выполнен ритуал поверки, командир роты при свете луны высыпал на разостланную плащ-палатку охапку белых треугольников. Он и в обычные-то дни был не очень разговорчив, а тут превзошел самого себя. Поглядел на вытянувшихся перед ним бойцов, на горку неотправленных писем и спросил:
— Ясное дело, товарищи?
— Ясное… — сорвалось у кого-то.
И еще кто-то буркнул:
— Так ясно никогда еще не было.
— А вот носа вешать никто команды не давал. Это ясно, по крайней мере?
— И это ясно, товарищ старший лейтенант.
— Ну вот, теперь совсем другой разговор. — Поборцев аккуратно расправил гимнастерку, как он всегда это делал, желая показать, что все в полном порядке, в задумчивости прошелся перед строем и еще раз провел большими пальцами за ремнем так, чтобы ни одной складочки под ним не осталось. — У кого есть какие вопросы?
— Когда будем немцев бить, товарищ старший лейтенант? — опять подал голос тот, кому все было «ясно». — И как теперь с самолетами?
— Что с самолетами, вы сами видели, и когда им замена будет, не знаю, но нас не оставят без техники, это я вам гарантирую.
— И парашюты сгорели?
— И парашюты. Придется пока на земле воевать. Но немцев бить будем скоро.
С наступлением темноты звуки взрывающихся бомб с новой силой докатились до леса, в котором укрылись парашютисты. Похоже было на то, что бомбили не только Клинск — всю белорусскую землю.
Первый винтовочный выстрел грянул здесь в эту же ночь: немцы выбросили десант.
Кто бывал на войне, тот знает: нет ничего более трудного, чем ночной бой в лесу. Особенно если это вообще твой первый в жизни бой. Тут уж гляди в оба, чтобы не стал он последним. А ведь очень просто: стреляют и с одного фланга, и с другого, и даже сзади. Ну, а если кому-то придет в голову мысль пустить в ход гранаты, тут вообще ад начинается.
Так случилось и в этом бою. Гранаты, ударяясь о ветви деревьев, не долетали до цели, рвались над головами своих.
Слободкин потом уж заметил, что каждый бой смывает с узкой полоски земли самых лучших ребят. В пылу сражения этого нельзя обнаружить, даже собственной раны не почуешь. Тебе кажется, все идет как должно идти: рывок, короткая перебежка, и сосед твой, как и ты, кидается на землю, плотно припадает к ней, чтобы ловчей прицелиться, снова рвануться вперед и снова кинуться наземь, — а он, может, уже и не встанет, лежит, насквозь прошитый пулей.
Кузя где-то совсем рядом. Слободкин его не видит, но знает — он здесь.
И вдруг сквозь треск перестрелки стонущий голос Кузи:
— Братцы…
Слободкин подымается во весь рост, бежит к нему, падает рядом, тормошит товарища за плечо:
— Кузя, Кузя!..
— Ну, чего раскричался? — хрипит тот в ответ. — Нога, нога вот совсем чужая… Пить…
Слободкин прижимается к Кузе вплотную:
— Больно?
— Ничего не чувствую.
Слободкин достает флягу, подносит ее к Кузиным губам. Но тот лежит так, что вода, не попадая в рот, выливается на землю.
— А ты-то как? — превозмогая боль, спрашивает Кузя.
Слободкин не успевает ответить — невесть откуда наваливается на него тишина. Сверхъестественная, совершенно необъяснимая тишина, оборвавшая бой. Только птицы щебечут где-то на самых верхушках деревьев. А ветви их распластались уже не в ночном и низком небе — в высоком утреннем. И раскачиваются там так мягко и в то же время так решительно, будто норовят стряхнуть с себя даже эти птичьи голоса, чтобы совсем стало тихо. Совсем…
Только вот где же Кузя? Куда он исчез? И что это за девушка в военной форме дремлет сидя, прислонившись спиной к дереву?
И вдруг:
— Сестра!
Он очнулся.
Это голос Кузи! Да, да, это определенно он.
— Кузя! Кузя!..
— Да тут, тут я, под боком твоим. Помолчи пока. Сейчас перевяжет тебя. Неопытная еще совсем, первую кровь увидела, — прошептал Кузя.
Лежа в высокой траве, Слободкин увидел подошедшую к нему девушку. Она принялась бинтовать ему бок. Когда перевязка была закончена, он поблагодарил, но в ответ вдруг услышал:
— Разве медикам говорят спасибо? Плохая примета. Немедленно возьмите обратно.
— Хорошо, беру.
— Ну вот, а теперь примемся еще раз за вашего Кузю. Так вы его назвали? Вот он, полюбуйтесь.
Девушка отодвинула низкую ветку орешника, и Слободкин увидел приятеля. Кузя лежал в двух шагах от него, бледный, осунувшийся, злой.
Пока девушка меняла Кузе повязку, Слободкин осмотрелся. Это место ничем не напоминало поле вчерашнего боя. Слободкин показал Кузе глазами на сестру, как бы спрашивая: откуда, мол? Тот в ответ только пожал плечами.
— Ну, а теперь отдыхайте, — сказала девушка. — Только ни звука чтобы! Шоссе от нас в двухстах метрах. По нему немцы идут, я сама видела.
«Шоссе? Немцы? Куда это нас занесло? А где же рота? Где наши?» — пронеслось в голове у Кузи. Но сказал он спокойно:
— Надо срочно прояснить обстановку. Эй! — как можно более тихо окликнул он человека в форме артиллериста, сидевшего шагах в десяти. — А ты кто такой? Ходить можешь?
— Ходить не велено, но если табак есть, побеседовать можем.
Кузя пошарил в кармане гимнастерки, наскреб щепотку махорки.
— Угощаю.
Худой незнакомый боец подполз на коленях, опираясь на одну руку, другую, забинтованную, прижимая к груди.
Скрутили по цигарке, затянулись.
— Ну, теперь рассказывай, — сказал Кузя. — Откуда такой?
Вид у артиллериста был странный. На изможденном, белом лице глаза запали так глубоко, что даже невозможно было разглядеть, какого они цвета. Пилотки на голове не было, только косой след загара, пересекавший оба виска, говорил о том, что артиллерист долго не расставался со своим головным убором. На гимнастерке пятна крови перемешались с пятнами масла.
Артиллерист продолжал жадно курить. Чтобы не обжечься, он перехватил почти дотла сгоревшую цигарку сложенной вдвое травинкой и делал одну затяжку за другой.
— Теперь порядок. Столько часов без курева! А вы? — спросил артиллерист, давая тем самым попять, что самое главное он высказал, а остальное — детали, не имеющие никакого значения.
В тон артиллеристу Кузя ответил:
— А мы последнюю махорку тебе отдали.
Разговор явно не клеился. Стена какой-то взаимной подозрительности встала между ними, и разрушить ее было не так-то просто.
Помолчали.
Выручил общительный характер Кузи, умевшего расположить к себе любого человека.
— Это где же ты такие баретки отхватил? — после паузы спросил Кузя, глянув на сбитые в кровь босые ноги артиллериста.
— Там, — беззлобно ответил артиллерист. — Там и не такое можно было отхватить.
— Жарко было?
— Постреливали.
Постепенно разговорились.
Началось с того, что Слободкин с Кузей сбивчиво, с пятого на десятое, попытались восстановить события минувших суток.
Парашютный городок одним из первых подвергся нападению врага. Спалив его, разбомбив аэродром, немцы бросили под Песковичи свой десант, и ночью в лесу наши парашютисты получили первое боевое крещение. Трудный был бой, сложный, только не довелось Слободкину с Кузей участвовать в нем до конца.
— Но наши где-то рядом, — уверенно сказал Кузя, — еще денек-другой, и мы в часть воротимся. А твои где?
— Мои… — Артиллерист вздохнул. — Если б знать, где мои!
— Зовут-то тебя как?
— Сизов.
— Да ты не стесняйся, выкладывай все как есть, мы же сами, видишь, какие.
И артиллерист рассказал все как было.
— Деревню Днище знаете?
— Ну?
— От нее рукой подать до границы. В ночь на двадцать второе отправились мы на стрельбы. По шестнадцать учебных на орудие. От казарм до полигона не ближний край, пока добрались, светать начало. Получили ориентиры, изготовились, начали. Половину боезапаса израсходовали, перекур объявили. Сидим под кустиком, дымим. Кони пасутся…
— Ближе к делу, — перебил его Кузя. — Давай суть самую.
— Сидим, значит, мы, покуриваем, — повторил Сизов, укоризненно взглянув на нетерпеливого Кузю. — Покуриваем — слышим, стрельба. Из таких же, как наши, бьют, серьезного калибра. Откуда? — думаем. Ни о каких «соседях» говорено не было. Чудная, выходит, вещь. Посылаем конную разведку — не возвращается. Звоним в штаб округа — ни ответа, ни привета. Провода молчат, как неживые. А стрельба между тем идет полным ходом. Снаряды начинают ложиться в нашем расположении. И совсем не учебные. Враг, значит, с границы повалил. Нам бы ответить, рубануть как следует, да не можем — деревяшки в стволах.
— Ну, и как же вы? — опять не вытерпел Кузя.
Но артиллерист не спешил. Рассказывая всю неприглядную правду первых часов войны, он мучительно искал слова, чтобы нечаянно не обидеть тех беззаветных бойцов, которые ничем, решительно ничем не были виноваты в том, что произошло на границе. Солдаты не боялись боя, они искали встречи с противником, не остановились бы и перед самой смертью. Но были вещи, которые оказались выше их сил.
— Так вот и встретили мы войну, не сделав ни одного выстрела, — продолжал артиллерист. — А когда до казарм дотопали, там щебенка одна. Мы в лес и подались. Куда же еще деваться?
— А ранило-то тебя где?
— Ранило там еще. Не знаю, как ноги унес.
— Это ты до казарм со своим ранением топал? — тихо спросил Кузя.
— Потопаешь. Да я и сюда тоже не на такси ехал.
— А что это за девочка тут?
— Из какого-то медсанбата.
— Руки у нее золотые, — нарочно чуть погромче сказал Кузя. — Это теперь медицина наша персональная. С нею нас четверо будет?
— Четверо, — подтвердил артиллерист.
— Еще немного — и отделение. — Кузя вытянулся на земле, грудь, как в строю, расправил. И вдруг боль перекосила его лицо — раненую ногу потревожил неловким движением. Но он, превозмогая боль, заставил себя улыбнуться.
Когда начнется война и когда тебя ранят в первые же двадцать четыре часа или двадцать четыре минуты, хорошо оказаться рядом с таким вот Кузей. Он и дух твой поддержит, и все на свои места поставит. Сизов тоже парень что надо. Уже через десяток минут парашютисты с ним совсем освоились и начали вместе думать, как быть и что делать. Лучше всего, конечно, быстрей пробраться к своим.
— Только вот как быть с медициной? — спросил артиллерист.
— Мы все ей растолкуем, что к чему. Поймет: девочка, но не ребенок. Найдет и она свою часть, — не очень уверенно сказал Слободкин.
— Учтены не все детали, — заметил Кузя, а про себя подумал: смогут ли они, трое раненых, встать на ноги и идти? Идти не до автобусной остановки — бог знает, сколько километров по болотам, лесам, бездорожью. Серьезны ли их ранения? — Надо бы посоветоваться с медициной, — сказал он вслух.
Он окликнул девушку и, когда та приблизилась, начал разговор:
— Значит, воюем?
Получилось не очень-то деликатно. Девушка сердито посмотрела на Кузю.
Он даже смутился, второй его вопрос был не лучше первого:
— А где ваша часть?
— Там же, где ваша, — отрезала она, и все трое поняли, что перед ними такой же солдат, как они, а то, что косы из-под пилотки торчат, так это в порядке вещей. Война есть война, еще и не такое увидишь.
— Правильно сказала, молодец! — поддержал ее артиллерист. — Как звать-то тебя?
— Инна.
Слободкин вздрогнул. Кузя спросил:
— Инесса? А фамилия? Не из Клинска случайно?
И тут же понял, как нелеп его вопрос.
Нет, не Инесса, — ответила девушка, — а Инна. Через два «эн». Фамилия Капшай. Из Гомеля я. А что такое?
— Да нет, ничего, так просто, — смущенно пробормотал Кузя.
— Это уже нечестно, — обиженно сказала девушка, — сразу начинаются какие-то секреты, подозрения. Вы мне не верите? Так и говорите прямо.
Пришлось рассказать Инне о ее тезке. Больше всего девушку тронуло то, что Слободкин каждый день писал письма в Клинск. Она даже не поверила сперва, но когда Слободкин поклялся, что не врет, вздохнула:
— Вот это любовь! А где же она сейчас, ваша Ина? И что теперь будет с любовью?
— С любовью ничего не будет, — опередил Слободкина артиллерист. — Отвоюем, живы будут — найдут друг друга. А вот с письмами подождать придется.
— С письмами придется подождать, — поддержал Кузя, но, взглянув на мрачно потупившегося Слободкина, ободряюще заключил, подводя разговор к главному: — Только не здесь же нам ждать. Пробираться надо к своим. Во что бы то ни стало — в путь!
Инна всполошилась:
— Сейчас? Ни в коем случае!
— Что ж, нам немца тут дожидаться? Сама говоришь — рядом он, — сердито рявкнул Слободкин.
— Но вы ведь раненые… — начала было Инна, однако Кузя оборвал их перебранку.
— Разговорчики! — совсем как Брага выпалил он, только что песню не велел запевать: враг где-то близко. — Собираемся в путь! Решено!
Инна смирилась. «И впрямь, не дожидаться же здесь, пока немец нас прикончит. Может, свои еще не успели далеко уйти, повстречаем их скоро. Отправлю тогда ребят в госпиталь».
Ипна успокоилась и деловито принялась помогать раненым подняться на ноги, сделать первые, самые трудные шаги, разыскала подходящие палки — костылики Слободкину и Кузе, перевязала заново всем троим раны.
И они тронулись в путь.
Медленно, спотыкаясь и часто останавливаясь, чтоб давать передышку то одному, то другому, они побрели на восток, держась подальше от шоссе, прислушиваясь к каждому непонятному звуку.
Так началась их новая, лесная жизнь. Сколько продлится она? Этого никто из них еще не знал. Они скоро вообще потеряли всякую ориентацию во времени и пространстве. Где фронт? Где свои? Долго ли придется искать их? Все окружавшее — дремучий лес, тишина с ее таинственными шорохами — стало похожим на страшную сказку. Они приглядывались и прислушивались ко всему — к лесу, к небу, к собственным голосам. Все, что они слышали и видели вокруг, стало каким-то неестественным, странным, будто нарочно кем-то придуманным.
И только раны, причиняемая ими боль все время возвращали к реальности.
Хуже всего были дела у Сизова. Рана его гноилась и никак не затягивалась. Перевязывая Сизова, Инна каждый день сокрушалась. Однажды, меняя бинты, она заметила зловещую черноту на руке артиллериста и под секретом сообщила об этом Слободкину и Кузе.
Чернота на руке быстро распространялась. Через день Сизов уже метался в бреду, из груди его вырывалось только два слова:
— Мама… Люба… Мама… Люба…
— Что это? — спросил Инну Слободкин дрогнувшим голосом.
Инна отвернулась. Плечи у нее вдруг стали совсем узкими, детскими. Не оборачиваясь сказала:
— Ему поможет только лед. Лед или холодная вода. Вон там, у шоссе, есть родник, я видела.
После этих слов Кузя тяжело поднялся, взял в одну руку котелок, в другую палку и, хромая, пошел в сторону шоссе.
Сжав в руках автомат, Слободкин направился вслед за другом.
Скоро лес начал редеть, и в просветах между деревьями блеснул на солнце асфальт. Выбрав удобную позицию, приятели залегли.
— Шоссе? — спросил Слободкин так тихо, что не расслышал собственного голоса. — А почему же нет никого?
Вместо ответа Кузя ущипнул Слободкина за руку, и оба замерли: прямо перед ними, на обочине, одна за другой вырастали фигуры всадников. Слободкин машинально начал считать:
— Один, два, три…
Кузя снова вонзил ногти в руку приятеля. На этот раз так, что тот чуть не взвыл от боли. Но все-таки сосчитал: двенадцать.
Немцы, громко разговаривая, остановились возле воды, подступившей почти к самой дороге, спешились. Больше всего Слободкина поразили почему-то лошади. Огромные, рыжие, с лоснящимися от пота тяжелыми крупами, они были похожи на чугунные памятники. Немцы тоже были рослыми, широкоплечими верзилами. Автоматы в их руках казались детскими игрушками. Только отполированная, вытертая по углам сталь поблескивала серьезно и холодно.
Так близко врага Слободкин и Кузя еще не видели. Можно было разглядеть все, даже мельчайшие детали снаряжения. Можно было слышать, как позвякивают шпоры. Забыв об опасности, парашютисты глядели и слушали, будто старались получше запомнить, как выглядят те, с кем предстоит скрестить оружие.
Немцы поили коней. Слободкин никогда не думал, что лошади пьют так долго и так много. А Кузя шепнул ему, что это, оказывается, очень хорошо.
— Пусть хлебают, сколько влезет. Чем больше, тем лучше.
— Почему?
— День жаркий, кони в мыле, вода ледяная.
— Ну?
— Вот тебе и ну. Человек и тот от такого с копыт, а конь и подавно.
Когда немцы наконец удалились, Кузя сказал:
— Теперь будешь меня страховать.
Он пополз к роднику, далеко выбрасывая вперед руку с зажатым в ней котелком. При каждом движении дужка стукалась о пустой котелок, но Кузя этого не слышал. Не слышал он и слов Слободкина, несшихся ему вдогонку:
— Да тише ты, чертушка, тише!..
Набрав воды, Кузя поднялся во весь рост и не торопясь заковылял обратно. Только поравнявшись со Слободкиным и осторожно опустив котелок с драгоценной влагой, он вдруг распластался в траве.
— Теперь-то уж чего? То по-пластунски, а то строевым. Соображаешь?
— Соображаю. Но ползать с полным котелком я не умею.
Холодные компрессы действительно немного уняли страдания Сизова. Но ненадолго. Через час он застонал снова. Жадно облизывая сухие губы, бормотал что-то уже совсем бессвязное. Любу и маму теперь не звал.
Пришлось снова отправиться за водой. А потом еще и еще. Выискивая просветы между двигавшимися по шоссе колоннами немцев, Слободкин и Кузя подползали к роднику, потом спешили к Сизову.
Умер он в мучениях и так быстро, что Слободкин, Кузя и даже Инна не сразу поверили в смерть. Артиллерист уже лежал вытянувшийся, оцепеневший, а они все еще суетились вокруг него.
Тихо поплакав где-то в стороне, Инна первая пришла в себя, сказала, что Сизова надо похоронить.
Не осознав еще до конца случившегося, принялись за дело. Копали по очереди плоским штыком, тем самым, который Кузя нашел в первый день войны. Земля была мягкая, но, прошитая корнями трав и деревьев, поддавалась плохо, работа еле двигалась. Вот тут и пожалели, что шанцевый инструмент тогда в суматохе тревоги остался в казарме.
Отдыхали через каждые две-три минуты. Особенно Слободкину было трудно: удары отзывались нестерпимой болью в боку. Словно не в землю, а в самого себя он втыкал раз за разом плоский штык. Но Слободкин, закусив губы, долбил и долбил.
А Кузя окровавленными пальцами тем временем драл корни, и злость закипала в нем все больше.
— Неужели это когда-нибудь простится им? — с хрипом вырывалось из Кузиной груди с каждым ударом штыка все сильней.
Он еще не знал тогда, что двадцать миллионов Сизовых придется схоронить России.
Когда могила была готова, Кузя поднес ко рту котелок. Алюминий дробно застучал по зубам.
5
К вечеру они перешли на другое место.
Было решено «оседлать» шоссе, бить врага всеми имеющимися средствами.
Всеми имеющимися средствами? Смешно и наивно звучали эти слова! Что они имели? Какие средства? Перед ними враг — на колесах, в броне, вооружен и нагл. У них — один штык, два автомата, никакого транспорта, на своих двоих ковыляют, подстреленные и измотанные. И все-таки — бить врага! Но как? Знали только одно: надо!
Первая боевая операция началась совершенно неожиданно.
Переползая через кювет, чтобы выбраться на шоссе и просмотреть его как следует в обе стороны, Кузя зацепился за длинный обрывок крученого стального троса и тут же вернулся в придорожные заросли.
— Я считаю, нам повезло. — Кузя покрутил над головою концом троса. Воздух загудел, будто рассекаемый пулей. — Перекинем через дорогу, натянем, закрепим как следует. А?
— И что же дальше?
— Дальше — ничего, собственно. Дальше — ждать.
— Ждать долго не придется, — поняв и одобрив идею друга, сказал Слободкин.
— Вот именно. Тут важно момент выбрать.
Когда Кузя начал вязать первый узел, руки его почему-то дрожали. И чем больше нервничал он, тем настойчивее выпрямлялся трос, никак не желавший лезть в петлю. Общими силами все-таки завязали.
— Ну, а теперь, — сказал Кузя, — самое сложное — второй узел. Натянуть стрункой надо и намертво.
Кузя выполз на шоссе, держа в руке свободный конец троса, огляделся и тихонько крикнул:
— Давайте скорей, скорей! Попробуем, пока нет никого.
Кое-как натянули.
— Теперь можно, — убежденно сказал Кузя.
— Что можно?
— Мотоциклы можно встречать.
Первыми, конечно, танки пошли.
Едва успели убрать трос и укрыться в кювете, как все вокруг заскрежетало, залязгало. Сплошная серо-зеленая масса в облаках бензина и пыли плыла перед глазами.
А тут еще комары! У них тоже хватка разбойничья: ни свет, ни дым им не помеха — накинулись, облепили, впились. И кто бы мог подумать, что хоботы у комаров железные? И с зазубринами еще! Да, да с зазубринами! Вонзит и пилит, пилит, дьявол, пополам череп твой распилить готов. И гудит еще. Гудит так, будто гром гусениц перегудеть хочет. Приставит свою сирену к самым ушам, и танки куда-то уходят, словно с гудрона на дерн перепрыгнули, исчезли совсем. Может, и в самом деле конец чертовой колонне? Нет еще. Вылетел комар из ушной раковины, освободил там место для танкового грома — и все снова.
Сколько длилось это? Час? Или два? Или три? Время остановилось. Только комары грызли и танки шли. Не сочтешь, не переждешь, сколько их. А переждать надо. Дождались. К вечеру, когда уже смеркаться стало. Поглядели вслед уходящим танкам, отерли лица от комарья — кровь с по́том пополам на рукавах зачернела. Уставились друг на друга — узнать не могут: прорези глаз сдавлены опухолями, еле-еле зрачок через них продирается.
Кузя выполз на середину шоссе, привстал сначала на корточки, затем и во весь рост. Огляделся.
— Натягивай! Должно же нам повезти все-таки. Или бога нет на этой земле?
Натянули. Затаились. Всю ночь караулили, до рассвета. И снова не повезло. Опять железо залязгало. Опять еле трос отвязать успели.
Уже новый вечер на землю сходил, когда танки отгрохотали.
Примерно через полчаса услышали вдалеке мотоциклетный стрекот.
— Натягивай! Живо!..
Натянули еще раз. Из-за поворота появились мотоциклисты. Они шли на большой скорости.
— Трое, — мгновенно среагировал Кузя.
Слободкин вскинул автомат и стал целиться. Руки не слушались, и он не видел ничего, кроме мушки, которая никак не желала совпадать с прорезью прицела.
В отчаянии он опустил автомат — немцы были уже совсем рядом. Он уставился почему-то в каску первого из них. В каску, которая, сорвавшись вдруг с головы срезанного тросом немца, загромыхала по асфальту, высоко подпрыгивая. Только это он ясно и видел: каска, подпрыгивая, несколько мгновений металась по шоссе, как челнок, потом сорвалась в кювет.
Стало тихо.
— Ты жив? — услышал Слободкин над собой голос Кузи.
— Жив…
— А ты? — Он дотронулся до плеча уткнувшейся лицом в траву Инны.
— И что?..
— Уходить надо.
Они поднялись вслед за Кузей и направились в лес.
— А эти? — вдруг остановился Кузя. — Так бросать их нельзя, решительно заявил он.
— Что делать? — спросил Слободкин.
— Вернемся и уберем.
— Я не могу, — сказала Инна.
— Подождешь здесь.
— И ждать не могу. Страшно одной.
— Тогда с нами, — решительно сказал Кузя.
Убитых немцев сволокли с дороги. Автоматы подобрали. Отвязали трос. А вот что делать с мотоциклами? Разбитые, перекореженные, тяжелые, они не поддавались обессилевшим от усталости и волнения рукам. Кузя и Слободкин не раз падали с ног, хватаясь за раны, пока наконец столкнули с Инниной помощью мотоциклы в кювет. Но когда отдышались, Кузя скомандовал:
— Замаскировать надо.
Наломали веток, забросали ими машины.
— Теперь вроде ничего, — сказал Кузя. — Потопали!
Они заковыляли прочь от дороги. Прошли метров триста, не больше — Инна вдруг взмолилась:
— Я больше не могу.
— И я, — не то прохрипел, не то простонал Слободкин.
Кузя сам еле на ногах стоял, грузно опираясь на палку.
— Отдохнем. Заслужили, — страдальчески морщась, согласился Кузя, потер ногу выше бинтов. — Теперь не стыдно людям на глаза показаться.
Они заночевали там, где остановились. Только сон не приходил долго. Переволновались, перенервничали. Лежали молча друг подле друга.
Кузя первым обрел спокойствие:
— Надо было насчет жратвы у них поглядеть. У немцев-то.
Слободкин громко сглотнул, ничего не ответил.
— А я есть не хочу совсем, — сказала Инна. — Как подумаю о еде, тошнит даже.
— Да перестаньте вы! — возмутился Слободкин. — До утра как-нибудь дотянем, а там видно будет.
— Ну вот и хорошо, — согласился Кузя. — А утром попробуем зайти в какую-нибудь деревню. Там и подхарчимся.
— Утром? — удивился Слободкин.
— Ну, сначала разведаем, понятное дело. Если немцев нет, войдем запросто и при свете.
— А если есть? — спросила Инна.
— Тогда дождемся ночи и войдем все равно.
— Опасно, — сказал Слободкин.
— Другого выхода нет, на ягодах далеко не уедешь.
Опять замолкли, погрузившись каждый в свои мысли.
— Нет, вы разговаривайте, мальчики, разговаривайте, а то жутко как-то, — призналась Инна.
— В лесу бояться нечего, а в деревню мы со Слободкиным сходим.
— Нет, уж идти, так всем вместе. Я без вас в лесу не останусь.
Заснули только под утро. Но сон тот недолгим был и тревожным. Первой Инна проснулась, а может, и вовсе она не сомкнула глаз.
— Мальчики, нам не пора?
— Пора, — сказал Кузя и поглядел на небо. — Часов шесть уже, если не больше. — Кряхтя и постанывая, он начал подыматься. — Ну, что делать будем? В деревню?
— В деревню.
— Только сперва я вам сделаю перевязки, — остановила их Инна, расстегивая медсумку.
Бинтов у нее уже мало осталось, медикаментов и того меньше, а раны у парней гноились. Инна старалась скрыть свое беспокойство, не умолкая говорила о чем-нибудь, пока перебинтовывала сначала Кузю, потом Слободкина.
Каждый из них молчал, не проронив ни стона, боясь, чтоб из-за его раны не задержались они тут. Скорее в путь!
Опять они подобрались к самому шоссе и пошли вдоль него, продираясь сквозь кусты, яростно отмахиваясь от комаров, проваливаясь по колено в болото. Шли долго, с частыми остановками. На шоссе было совершенно тихо.
— Спят еще, — решил Кузя.
— В деревне спят? — удивилась Инна.
— Не в деревне, а немцы. В деревне-то уж, поди, наработались.
— Да какая теперь работа, если немцы кругом, — сказал Слободкин. — Не представляю даже, что там может сейчас твориться.
Через некоторое время набрели на проселок, свернули на него. Сразу стало спокойней на душе: тут уж где-то совсем близко деревня. Вскоре и в самом деле на взгорке увидели несколько белых мазанок. Но, несмотря на утренний час, ни дымка над крышами, ни единого признака жизни не обнаружили.
Решили ночи не дожидаться. Огородами прокрались к ближнему сараю. Там было пусто. Из сарая, оглядевшись, подползли к крайней избе. Кузя приподнялся, заглянул в окно.
— Ни души.
Все трое поодиночке проникли в полуоткрытую дверь. На полу были разбросаны какие-то вещи, рыжий язычок лампады перед образами лизал темноту.
— Ничего не пойму, — развел руками Кузя, — куда все подевались? Эй! Есть кто-нибудь?
— Ой, лихо нам, лихо… — прохрипел с печи старческий голос.
— Кто тут? Хозяин, вставай, свои мы.
— Я не хозяин. — Из-за шторки показалось помятое, со всклокоченной бородкой, бледное лицо старика. — Немец хозяин теперь. Ишь чего натворил. И добро все уволок, и людей распугал, и сказал: повесит на суку каждого, кто в колхозе. А мы все в колхозе. Ну, народ в лес и подался. Только я вот, убогий, один. А вы сами-то отколь?
— Солдаты мы, папаша.
— И девка солдат?
— Тоже с нами.
Старик свесился с печи, слезящимися глазами уставился на Инну.
— Сколько те лет-то?
— Восемнадцать.
Старик перекрестился.
— А мамка твоя где?
— В Гомеле.
— Голодные небось?
Ребята промолчали.
— В огороде картошка. Копайте сами. Больше нечем угощать. Все обобрал, до последней крохи. Курей порезал. Копайте и уходите — шоссейка рядом, — не ровен час опять набежит.
— А вы-то как же, папаша? Может, подать вам чего?
— К ночи старуха придет, она и подаст.
Он сбросил с печи мешок, на котором лежал.
— Копайте, говорят. Проворней только.
Поблагодарили старика и вышли. Кругом было все так же тихо.
— Как на кладбище, — сказал Кузя. — Куда же все-таки люди ушли? Почему ни один в лесу не попался?
— Лес велик, встретим еще, — отозвалась Инна. — Мне старого жалко.
— Да-а…
Они забыли про все — про голод, про усталость, про боль. В груди закипало такое чувство, какого еще не испытывали.
— Это ж надо! А? «Не хозяин я здесь». Лежит человек на сложенной своими руками печи, а хозяином тут немецкий солдат оказывается!
Кузя выругался.
Инна отвернулась.
— Тут и мы виноваты, — решительно заявил Кузя.
Слободкин поглядел на него — не ослышался ли?
— Мы, мы! — убежденно повторил тот. — Парашютисты! Первая скрипка! Где она, первая? Не слышно ее что-то. Раскидало нас, как котят. Ходим-бродим по лесу, голодные, побитые, костер разжечь и то боимся. Горе…
На Кузю страшно было взглянуть. Сжав кулаки, он глядел в сторону шоссе. Казалось, появись там сейчас немцы — ринется на любые танки хоть с голыми руками.
— Гады, вот гады… — прохрипел он в бессильной злобе.
Инна попробовала отвлечь его:
— Я предлагаю накопать все-таки картошки.
Она неумело начала дергать ботву. Кузя почему-то рассердился:
— Да не так же, не так!
Инна обиделась, на глазах у нее появились слезы, она отвернулась.
Кузя рассердился еще больше.
— Вот как надо! Вот как! — Он, отставив раненую ногу в сторону, наклонился, с остервенением ухватился за картофельную ботву пониже, высоко над головой поднял вырванный куст с обнажившимися клубнями. — Вот так, понимаешь?
Да так и застыл, прислушиваясь к какому-то далекому, едва различимому звуку. Звук приближался быстро, уже через несколько секунд все трое поняли: самолет!
Картофельный куст выпал из рук Кузи. Он отряхнул с ладоней землю, сорвал с плеча автомат. Еще через мгновение шагнул в сторону, лег на спину. Самолет шел точно на деревню, слух не обманул Кузю.
В нарастающем грохоте отчетливо прозвучала дробь Кузиного автомата.
— По мотору бил? — спросил Слободкин, когда все стихло.
— По мотору.
— Все равно зря. Это если целый батальон строчить будет, кто-нибудь, может, и угодит в щелочку.
— А ты вместо того, чтоб речи произносить, взял бы да попробовал, — огрызнулся Кузя.
Стихший было рокот мотора стал нарастать с новой силой.
— Ну, теперь не зевай! — рявкнул Кузя.
И все трое они повалились в ботву.
Слободкин уже ничего не слышал — ни самолета, ни Кузи. Слова Поборцева возникли почему-то у него в памяти: «Угол упреждения, ясно? Угол упреждения, сила ветра, скорость полета…» И голос собственной ярости: «Ну, давай же, давай, растяпа!»
Две строчки трассирующих пуль неслись навстречу самолету. Вот сверкающие гигантские ножницы лязгнули перед самым пропеллером.
Не ответив ни единым выстрелом, самолет пронесся мимо.
— Почему он не стреляет? Почему не стреляет? — вырвалось у Слободкина почти истерическое.
— А ты не волнуйся. Вот развернется третий раз и даст жизни, — успокоил его Кузя. — Я к нему привыкать начинаю: организованный, экономный, дьявол. Боезапас даром не тратит. Это мы с тобой пуляем, куда бог пошлет. Так что же, собьем мы его или нет?
— Собьем! Собьем, мальчики! Спокойно только… — Это Инна голос подала.
— Попробуем. — Кузя передернул плечами, разравнивая под собой землю. — Никуда не уйдешь, сволочь. Нас накроешь и сам накроешься.
Слободкин инстинктивно повторил движения Кузи. Рыхлая огородная земля раздалась под плечами, и ему стало удобно, как в турели.
— Ну, теперь давай!
— Умолкни! — цыкнул на него Кузя. — И не торопись. За мной следи.
Начинался третий заход. Немец пустым уходить не хотел. Но перед ним снова лязгнули ножницы Слободы и Кузи. И вдруг мотор поперхнулся, завизжал, застонал. Из-под капота вырвался черный дым, и вот не подвластные больше летчику крылья понесли самолет в лес, прямо на верхушки деревьев.
Раздался глухой удар. Ребята вскочили на ноги, побежали на этот звук. Откуда только силы взялись и куда подевалась боль в ранах! Успели вовремя: выкарабкавшийся из покореженного самолета летчик уже ковылял в сторону.
— Стой! — крикнул Кузя.
Немец остановился, повернулся всем корпусом, расстегнул кобуру пистолета, но так и замер в этой позе.
Он был ошеломлен — девчонка, двое русских солдат с немецкими автоматами!
— Рус?!
— А ну, давай оружие! — Кузя запустил руку в расстегнутую кобуру на бедре немца, извлек оттуда огромный пистолет вороненой стали и второй раз за этот день выругался.
— Ты что? — удивился Слободкин.
— Ничего. Ракетницей пугать удумал. Не на тех нарвался.
Слободкин увидел, что в руке у Кузи действительно самая обыкновенная ракетница.
Немец побагровел, сунул руку за борт комбинезона, но Кузя снова опередил его:
— Отставить!
И шваркнул затвором автомата. Летчик поднял правую руку над головой.
— Обе, обе! Цвай!
Летчик замотал головой и застонал, дотронувшись правой рукой до левой чуть выше локтя. Оказывается, левая висела у него, как плеть.
— Ничего, ничего! На нас погляди. — Кузя показал немцу на бинты — свои и Слободкина: — Видишь? Чья это работа? А? Твоя, может? Говори!
Немец глядел на них со страхом и удивлением: все в бинтах, а воюют. Стоят перед ним с немецкими автоматами наперевес, говорят по-немецки. Впрочем, нет, не совсем по-немецки: от волнения Кузя все время сыпал немецкие слова вперемешку со своими, русскими:
— Руки вверх, говорят тебе! Битте, битте!
Немец по-прежнему держал высоко поднятой только одну руку.
— Обыскать его, — приказал Кузя Слободкину.
Превозмогая физическое отвращение, Слободкин начал шарить у немца в карманах, которых оказалось бесчисленное множество.
— А это уже не ракетница, — сказал он, доставая браунинг с гравировкой.
— Это именное оружие, — пояснил Кузя, — не у нас первых шкодит.
Кузя взял у Слободкина браунинг, подбросил его на ладони, спросил:
— Воевал, значит? Ланге зольдат? Говори.
Немец молчал.
— Видал? Важничает еще! Чего вы к нам приперлись, гады? Говори, последний раз спрашиваю.
Немец покачал головой, давая понять, что отвечать не намерен.
Кузя, хромая, сделал несколько шагов назад, приказал отойти Инне и Слободкину.
Фашист понял, что это значит, но пощады не запросил. Так и стоял с одной высоко поднятой правой рукой, — казалось, вот-вот крикнет: «Хайль Гитлер!» Но не крикнул. Не успел просто.
В лесной тишине автоматные выстрелы показались оглушительными. Инна даже уши зажала.
— Надо осмотреть машину.
Кузя сказал это подчеркнуто спокойно и деловито, словно стараясь отвлечься от происшедшего. Так же по-деловому, вникая в каждую мелочь, он обошел со всех сторон сбитый самолет, забрался в кабину, порылся там и нашел планшет, туго набитый какими-то бумагами.
— Главное богатство тут, — похлопал он по лоснящейся коже планшета и перекинул его через плечо. — Карта на карте. А сейчас…
— А сейчас, — не дал ему договорить Слободкин, — немедленно в деревню, копать картошку.
Они заспешили обратно. Голод опять погнал их. Казалось, будь деревня наводнена немцами или откажи им совсем силы из-за ранений, их все равно уже не остановило бы это. Они бы и ползком добрались. Рассудок выключился вдруг совершенно. Один инстинкт работал.
Пока спешили к деревне, мешок потеряли. Пришлось Слободкину с Кузей снимать с себя гимнастерки. Набили их картошкой и только тогда, вконец измученные, побрели в лес.
Там парни долго отлеживались, пытаясь грызть сырую картошку. А Инна за кустами потихоньку от них собирала сухие валежины.
— Давайте все-таки распалим огонь, — сказала она, возвратясь с охапкой хвороста. — Что поделаешь. Или с голоду помрем, или повоюем еще.
Разожгли. Сухие валежины не давали дыма.
Дождаться, пока испечется картошка, не хватило терпения. Выхватывали из огня черные раскаленные картофелины и, обжигаясь, заглатывали их, почти не разжевывая.
Наелись, заснули, забыв обо всем. Спали долго, никто не знает в точности сколько. Солнце вернулось на прежнее место, когда Кузя открыл глаза. Он огляделся вокруг, поежился со сна, заговорил сам с собой:
— Одно из двух — или полчасика сыпанули только, или целые сутки отмерили.
— Полчасика, — ответил Слободкин спросонья.
Кузя запустил руку в золу костра.
— Не-ет, тут не полчасиком пахнет. Все выстудило давно. Подъем, братцы!
Они выгребли из золы всю оставшуюся от вчерашнего пиршества картошку, стали есть уже не спеша, переговариваясь.
— Во-первых, надо связаться с местным населением, — рассуждал Кузя. — Больной старик не в счет, он плохой нам помощник. Во-вторых, необходимо как можно скорей напасть на след бригады. После того боя, возможно, рассредоточились, но потом все равно будет общий сбор. Обязательно. Где? Все это мы разведать должны и — скорее, скорее к своим! География у нас теперь в кармане. — Кузя расстегнул кнопку планшета, в руках у него зашелестели карты всех цветов и масштабов. Он ткнул пальцем в оказавшуюся среди них политическую карту Европы и прочитал: — «Могилев, Рогачев, Борисов…» Все разобрать можно.
— Ты совсем немцем заделался, — сказал Слободкин.
— Нужда заставляет. А знаете, братцы, какое счастье я вчера испытал?
— Ну?
— Немца мы не просто сбили — немецкими автоматами! Это многого стоит. От своего же оружия сгинул. А? Я даже хотел ткнуть ему автомат в нос, чтоб понял…
— Ну, и надо было, — перебил его Слободкин.
— Гуманность заела. Дурацкая наша, русская.
— По-гуманному можно с людьми, — вздохнула Инна. — Этот зверем пришел.
— Бить их надо, — согласился Кузя. — Убивать.
Кузя снова склонился над картой:
— «Кричев, Шклов, Чернигов…»
— А Клинск? А Песковичи? — перебил Слободкин.
— Гомель где? — спросила Инна. — Есть Гомель?
— Гомель! — Кузя остановил черный от золы и картошки палец на пересечении узких линий. — А вот Клинска и Песковичей что-то не видно.
Они стали вместе шарить по карте и от волнения долго не могли найти ни того, ни другого. Отыскав, успокоились.
— А в общем ощущение у меня все равно самое скверное, — вздохнул Кузя.
— Что такое?
— Не могу этого точно еще передать. Сами подумайте: карта нашей земли по-немецки заговорила уже… Я вдруг представил себе: входят они в города, меняют названия на свой лад и городов, и улиц, и площадей. И Чернигов уже не Чернигов, а Чернигоф… «Могилеф, Рогачеф, Борисоф» — тут так и написано. — Он брезгливо отбросил карту.
— Ну, это зря уже, — сказала Инна. — При чем тут карта?
— Очень даже при чем, — стоял на своем Кузя. — На цвет обратили внимание?
— На что?
— На цвет! — рассердился Кузя. — И себя, и нас одной краской…
Слободкин с Инной наклонились над картой и увидели: фиолетовая муть растекалась по всей Белоруссии, до самого края листа…
— Теперь понятно? — спросил Кузя.
— Теперь — да. — Инна наподдала ногой карту, потом нагнулась, чтобы порвать ее вовсе и тем отвести душу, но Кузя остановил девушку:
— И все-таки спокойствие прежде всего. Придет время, порвем, спалим даже, чтоб клочка от нее не осталось. А сейчас…
Он взял из рук Инны карту, распрямил ее на земле, и снова черный палец его зашуршал по складкам бумаги.
— Мы вот здесь приблизительно. Или вот здесь…
— Так где же? Здесь или здесь?
— Вы меня спрашиваете? — удивился Кузя.
— Конечно. Ты за командира у нас, — ответил Слободкин.
— Глупости! Какой из меня командир? Давайте думать вместе. Главное сейчас — определиться. Какой сегодня день?
Слободкин и Инна пожали плечами.
— То-то! Серьезные все вопросы. Счет верстам и дням потеряли. Не годится так. Ну-ка, прикинем. Началось в воскресенье.
— В воскресенье.
— Воскресенье — раз. Понедельник — два. Вторник — три. Среда — четыре. Четверг — пять… Так, что ли?
— У нас началось в субботу, — сказала Инна. — Я спала после дежурства, и вдруг…
— Мы все спали, но это было раннее утро воскресного дня.
— Как хотите, но у нас началось именно в субботу. В субботу поздно вечером.
— Ну ладно, не будем спорить из-за одного дня. Итак, сегодня что у нас? Пятница? Суббота? Или…
— Я не знаю, — сказала Инна. — У меня давно уже все перепуталось.
— И у меня, — сознался Слободкин.
— Честно говоря, у меня тоже, — вздохнул Кузя. — Допустим, сегодня ровно неделя.
— Суббота, значит? — спросила Инна.
— Я и так уже сбился, — осуждающе поглядел на нее Кузя. — Ну ладно, пусть будет суббота.
Они спорили еще долго, пока окончательно не перемешали все дни и числа.
— А все-таки у страха глаза велики, — вдруг мрачно сказал Кузя.
— О чем это ты? — не понял его Слободкин.
— Ни о чем, а о ком. О нас с вами. Только с перепугу можно стать такими простофилями, как мы. В деревне были?
— Были.
— Как она называется? Даже этого не узнали.
— У старика-то?
— Хотя бы.
— Да он…
— «Да он», «да он»! Чудики мы, вот и все. Придется еще раз судьбу испробовать. Так и надо таким разиням.
— Это ты кого так? — спросил Слободкин.
— Не ее же, конечно, — он сердито кивнул на Инну, — наше соображенье с тобой где?
— Да-а… простое ведь совсем дело. Я согласен идти еще раз.
— Я сам схожу, — тоном, не терпящим возражений, сказал Кузя. — И сейчас же.
— Ты с ума сошел! Сейчас — ни в коем случае!
— Нет, нет, только сейчас. Нельзя больше терять ни минуты.
Он ушел, хромая. Казалось, его не будет целую вечность. Слободкин и Инна приуныли, приготовились ждать до вечера, но случилось все по-иному. Примерно через час зашуршали сухие листья под ногами Кузи, и он предстал пред глазами друзей, счастливый, сияющий.
— Собирайтесь!
— Что такое?..
— Собирайтесь, вам говорят. Своих нашел!
Слободкин и Инна заспешили за Кузей. Скоро они оказались на поляне, посредине которой сидела старуха, такая же древняя, как тот старик в деревне. Перед старухой стояла корзина, полная грибов.
Подошли поближе, заговорили:
— Здравствуйте, бабушка.
Она поглядела очень спокойно, но недоверчиво, прошамкала:
— Вам кого? Своих, что ли?
— Своих, бабушка.
— А где свои-то? Своих нету давно.
— И в деревне тоже?
— И в деревне. А вы отстали?
— Отстали, бабушка. Но мы догоним еще.
Старуха с сомнением оглядела их:
— Шибко идет. На колесах.
— Нам бы с вашими поговорить, с деревенскими.
Старуха помолчала, потом, как бы рассуждая сама с собой, спросила:
— Свои, значит?
— Ну конечно, свои, бабушка, — шагнула вперед Инна.
— Пойдемте со мной. Только я тихо пойду, ноги не мои совсем.
— Да и мы тихоходы, бабуся, — сказал Слободкин.
Инна взяла старуху под руку. Они пошли в самую чащу. Через каждые несколько шагов старуха останавливалась, хрипло и тяжело вздыхая. Парни тоже пользовались остановками, чтоб передохнуть.
— К старику хотела сходить, проведать, как он там, да уж ладно, к ночи схожу, — сказала старуха.
— А старик где? В деревне?
— Вот и горе-то.
Инна остановилась.
— Вы уж, бабушка, ступайте тогда в деревню, а хотите — мы вас проводим.
— Ишь чего удумали! Он, — она подняла над собой палец, — вас живо проводит! Проводил уж немало. Схоронить не успели еще…
— Старика вашего мы видели, бабушка, — не выдержал Кузя. — Он в крайней хате, на печке сидит?
— На печке, на печке, — широко раскрыв глаза, запричитала старуха. — Наши были у него намедни. Шивой вроде. Живой? А?
— Живой, живой, бабушка. Его бы надо в лес переправить.
— Он с печки никуда. «Хочу, говорит, помереть в своем доме».
— Ну, вот что, бабушка, — подумав, сказал Кузя. — Мы еще к нему сходим. Вот с вашими повидаемся, поговорим обо всем, потом проведаем вашего мужа.
— Какого мужа? Сосед это наш.
— Сосед?
— Сосед.
— И что же? Так вовсе один и живет?
— Один.
Кузя, Слободкин и Инна переглянулись. В такую минуту чужие люди друг о друге пекутся. Хотелось сказать старухе что-нибудь очень хорошее, доброе. Но слов тех не было у них в ту минуту. Все куда-то исчезли вдруг. Только Инна молча обняла старую и поглядела вверх: на самом краю неба шевельнулся тревожный звук.
— Самолет?
— Нечистая сила, — перекрестилась старуха.
— Он самый, — сказал Кузя. — Высоко.
— Высоко, высоко! — засуетилась старуха. — К своим надо, к своим!
Самолет действительно шел на большой высоте. Шум его уже доносился настойчиво накатывавшимися волнами, но через несколько минут, оказавшись в плотном кольце баб и стариков, Кузя, Слободкин и Инна забыли о самолете.
Их провожатая стояла с гордым видом рядом, продолжая что-то говорить, но слабый голосок ее совсем уже не был слышен. Вопросы сыпались со всех сторон. Кто такие? Откуда? Куда? Что на фронте? И где он, фронт?..
О себе Кузя, Слободкин и Инна рассказали, конечно. А вот фронт? Что там сейчас? И где он, в самом дело? Им вдруг стало мучительно стыдно за то, что не могут дать ответа. Деревенские поняли это и попробовали, как могли, успокоить:
— Там знают, наверно.
— Где?
— В Москве. Там все знают.
Мало утешительного было в тех словах. На душе еще горше стало, еще обиднее. У Кузи вырвалось:
— Не бежим мы, не думайте…
— Христос с вами! Нешто мы попрекаем? Насмотрелись на всякое. Израненные скрозь, избитые, больные, в чем душа держится, а идут, свою часть догоняют. Да нешто ее догонишь? На одних грибах-то? Много в лесу развелось грибников вроде вас, горемычных.
— Грибников?!
— Ну да, голодные идут, огня не разжигают, едят все сырое — грибы, коренья, ягоды. Ах, сыночки, сыночки, что же делать с вами? Чем подсобить? Куда девать?
— Никуда нас не надо девать, — мрачно сказал Кузя. — Нам бы табачку на дорожку, а еще…
— А еще?
— А еще расскажите, где мы. — Кузя почему-то покраснел и уставился в землю. — Шоссейка рядом какая?
— Варшавка.
— Варшавка? Так вот нас куда занесло!..
Кузя поглядел на Слободкина и Инну.
— А мы думали…
— Точно, Варшавка. Он по ней днем и ночью.
— Ну, ночью-то не особо, днем, это верно, густо идет. Значит, Варшавка? Так, так, так… Ну что ж, это лучше даже. А деревня?
— Карпиловские мы.
— Не слыхал что-то. А ты, Слобода? — наморщил лоб Кузя.
— И я тоже.
— А Песковичи знаете?
— Это где же будет?
— Там, — неопределенно махнул рукой Кузя. — Так как же насчет табачку? Нам нынче в дорогу.
Но не так-то легко было внушить старикам и бабам, что солдаты есть солдаты. Знай свое — сыночки, и все тут. И еще — доченька.
— А эта-то куда?
— С нами она.
— Девочка ведь совсем. Это что же творится на белом свете?! К мамке надо бы, не на войну.
Инна молчала-молчала и вдруг разобиделась:
— Мне медсанбат догонять надо.
Незнакомое слово «медсанбат» произвело впечатление. Очевидно, деревенские подумали, что медсанбат — это какое-нибудь учреждение, находящееся далеко от линии фронта. Они и сами не знали, до какой степени были правы. Сколько таких медсанбатов встретили потом Слободкин, Кузя и Инна на дорогах войны. Именно далеко от линии огня, в глубоком тылу, но не в том тылу, где спокойно и тихо, а во вражеском, где от тебя до смерти рукой подать.
6
Вечером того же дня, перед тем, как расстаться, деревенские собрали солдатам в дорогу целую корзину всякой еды. Две чистые простыни пожертвовали «медицине» на бинты. И про табак не забыли.
В ту минуту казалось, что продуктов хватит на неделю. Но слова баб и стариков о «грибниках» подтвердились. Уже на следующее утро повстречали двух пограничников, изможденных и ослабевших.
Они тут же, за один присест, съели все, что было в корзине. Как поели, так и свалились, впав в глубокое забытье. Разморило ребят. Лес огласился таким храпом, что стало страшно: все та же Варшавка, от которой Кузя, Слободкин и Инна старались теперь не отходить, была не дальше как в двухстах метрах. Чтобы восстановить тишину, пришлось разбудить новых знакомых. Это оказалось не таким простым делом.
Кое-как растолкав пограничников, получили заверение, что шума больше не будет. Не прошло и нескольких минут, как те снова захрапели. Всю ночь только и делали, что будили храпунов, а под утро, выбившись из сил, сами заснули. Но не все. Позднее Кузя и Слободкин узнали, и то совершенно случайно, что Инна совсем не ложилась в ту ночь.
После этого авторитет «медицины» в глазах Кузи и Слободкина возрос еще больше. Когда знакомили Инну с пограничниками, Кузя так и сказал:
— Она у нас молодцом в отряде.
— Точно, — поддержал его Слободкин. — Подписываюсь.
— Насчет Инны?
— И насчет отряда тоже. Как это мне раньше в голову не пришло? Мы ведь и вправду отряд, а теперь тем более. Сила!
Рассказали друг другу о своих мытарствах по лесам. Подсчитали «штыки» и решили действовать сообща. Даже название отряду придумали. Так пограничники Кастерин и Васин стали бойцами лесного отряда «Победа».
Очень понравилась им затея с тросом. Они все время поторапливали парашютистов:
— Ну, показывайте, показывайте ваш трос! Давайте вместе испробуем.
Трос лежал недалеко от шоссе, замаскированный, как самое совершеннейшее оружие. Кузя показал его новому пополнению, объяснил, как вязать, как натягивать. Стали вести усиленное наблюдение за Варшавкой, выбирать место, где и когда лучше устроить засаду.
Обстановка между тем усложнялась. Немцы с каждым днем становились все осторожнее, и застать их врасплох было трудно.
А листовки отряда «Победа» и подавно насторожили пришельцев. Идея эта пришла на ум Кузе.
— Я бы сам сочинил, да нет у меня таланта такого. Вот, может быть, Инна?
Думали, что откажется, но Инне даже польстило доверие. Скоро был готов текст первой листовки. В ней было сказано: «Уходите, фашисты, с Варшавки! Не уйдете — будем бить вас тут днем и ночью. Отряд „Победа“».
— Я ж говорю, — подбодрил засмущавшуюся Инну Кузя, — не девочка, а целое управление пропаганды и агитации!
Теперь надо было во что бы то ни стало достать бумаги и приступить к делу.
Тут уж проявился Кузин талант. Быстро и аккуратно нарезал березовой коры. Из-под его ножа так и сыпались ровные белые прямоугольники, мало чем отличавшиеся от настоящей бумаги. А карандаш отыскался у Васина.
За один день было изготовлено несколько десятков листовок. Их разбросали по шоссе на участке длиной километров в пять. Васин, которому на другой день было поручено проверить, в каком состоянии находится «засеянный» листовками участок, вернулся с задания загадочно улыбающийся.
— Ну как? — кинулись к нему все с расспросами. — Клюнуло? Или нет?
— Еще как!
— Все в цель попали? Вот это работа! Ни одной листовки на всех пяти километрах?
— Не то чтобы ни одной, но наши почти все в яблочко.
— Толком говори, Васин!
— Какие все стали нервные! Война только-только начинается, а мы уже нервишки поразмотали. Что с нами дальше будет?
Васин запустил руку за пазуху, вытащил оттуда чуть покоробившийся кусок бересты.
— Читайте!
— Так, значит, лежат? Зачем же ты поднял, чудило? Кто тебя просил?
— Читайте, вам говорят! — гаркнул Васин.
Кузя взял листовку из рук пограничника и медленно, по складам, прочитал вслух:
— «Смерть фашистским захватчикам! Партизанский отряд „Удар по врагу“».
Вот ведь что, оказывается, происходит! Люди не выпустили оружия из рук — собираются в лесу по двое, по трое, становятся отрядами…
Воодушевленные этим, решили во что бы то ни стало сегодня же повторить операцию с тросом.
На шоссе от зари до зари несли патрульную службу немецкие бронемашины. Пришлось действовать со всеми предосторожностями. В темноте натянули трос, стали дожидаться рассвета. Как только немного рассвело, вышли из засады — проверить, хорошо ли все сделано. Тут же последовал мощный пулеметный удар: на обочине, тщательно замаскированный ветками, всю ночь стоял броневик.
Пули зацокали по асфальту. Ребята кинулись прочь с дороги, но не врассыпную, что было бы самым правильным, а всем скопом, на крутой песчаный взгорок, будто их никогда ничему не учили… А пули, конечно, за ними — по тому же взгорку, Добежали бойцы до гребня, повалились наземь. Оглянулись из-за укрытия, видят — распят Васин на песке, как на кресте. Руки в стороны, из зажатых кулаков песок струйками льется. Гимнастерка уже черная от крови, а немецкий пулемет вое надрывается.
Потом все стихло. Броневик бесшумно тронулся с места. Кузя, Слободкин и Кастерин из всех автоматов открыли огонь по колесам быстро удалявшейся машины. Но она так и ушла невредимой.
Оттащили Васина в лес. Думали, ранен только, придет в себя. Но как ни хлопотали над ним, Васин не подавал никаких признаков жизни.
— Глупо все как получилось! — сокрушенно развел руками Кастерин. — С того света вроде выбрались, своих повстречали — и вот поди ж ты… Сами, конечно, виноваты — подставились.
— Сами, — согласился Кузя. — Простить себе не могу.
— А ты-то тут при чем? — спросил Кастерин.
— Он у нас за старшего, — пояснил Слободкин.
— А… Тут все хороши. Раззявы, — в сердцах махнул рукой Кузя.
Целый день они были под впечатлением тяжелой утраты. Что бы ни делали, о чем бы ни говорили, мысль все время возвращалась к Васину, к тому, как нелепо он погиб.
Даже еще одно новое пополнение, с которым наутро вернулся Кузя из разведки, не сразу подняло сникшее настроение. А привел с собой Кузя не кого-нибудь — двух бойцов с голубыми петлицами! И не откуда-нибудь — из родной парашютной бригады!
Они рассказали Кузе и Слободкину, что произошло после того первого ночного боя в лесу, как развивались дальше события. Сражение с немецким десантом было выиграно. Вражеские парашютисты были рассеяны, перебиты, взяты в плен. От пленных узнали о планах немецкого командования. Эти ценнейшие сведения передали в округ. Получили приказ: всем выходить на излучину Днепра.
Эти двое, которых привел Кузя, «подметали», как они выразились, последние крохи: прочесывали леса, извещая парашютистов о месте сбора.
— На ловца, как говорится, и зверь бежит, — сказал один из них. — Ну, вам все ясно? Мы дальше потопали.
— Зверь, говоришь? — переспросил Слободкин, оглядев товарищей, и впервые заметил, что вид у всех действительно был самый что ни на есть зверский: обросли, обтрепались, исхудали. Особенно нелепо выглядел Кузя. Борода у него вообще росла не по дням, по часам, а тут вдруг поперла невероятными клочьями.
— Фотографа не хватает, — сказала Инна. — Остался бы на память поясной портрет.
Что-то было грустное в этой шутке. Или Инна немного влюбилась в Кузю и чувствовала, что надвигается расставанье, или просто обстановка действовала?
А расставанье в самом деле приближалось. Вот выйдут к излучине Днепра, предстанут пред светлые очи начальства, получат благодарность за то, что в лесу времени зря не теряли, а еще скорей нагоняй за то, что так медленно собирались, — и айда на переформировку, переэкипировку и прочее «пере» — куда-нибудь за тридевять земель от этих уже ставших родными мест.
Инну тоже где-то поджидали перемены. Вот-вот отыщется ее медсанбат или объявится новый, которому она позарез необходима будет, который без нее и в войну вступить по-настоящему еще не решился.
Но все-таки, что бы ни случилось, они все вместе будут долго еще вспоминать свою лесную жизнь, полную невзгод и лишений, но в то же время и прекрасную: ведь именно здесь, в белорусском дремучем лесу, в белорусских болотах, учились они бить врага, презирать опасность и смерть, подстерегавшую на каждом шагу.
— Верно я говорю, Кузя? — спросил Слободкин.
— Про что?
— Про лес, про болото.
— Верно. И все-таки обидно. В своем краю, в своей стране идем по лесам, крадемся, как воры, хоронимся света белого, с голоду подыхаем, собственный ремень изжевать готовы. Не обидно разве?
— Обидно. И все же смерть идет по пятам за ним, не за нами.
— Смерть — она дура, потаскуха, можно сказать, за кем угодно увяжется.
— Это тоже верно. И все-таки — УМХН.
— УМХН? Что за штука?
— Штука простая очень, но ценная, без нее мы накроемся быстро. УМХН — У Меня Хорошее Настроение. Это когда мы еще ребятами были, игру такую затеяли — зашифровывали интересные мысли. Кто кого перехитрит.
— А зачем? — спросил Кузя. — Если мысли хорошие, для чего же их зашифровывать? Глупость какая-то.
— Нет, не глупость. Бывают вещи хорошие, например, любовь, а говорить про нее не принято как-то. Мало ли кто что подумает! Вот мы ребусами и шпарили.
— Не знаю, не знаю. К нашему положению это, во всяком случае, не подходит. Детство есть детство, война есть война.
Кузя не склонен был сегодня шутить. Он вдруг начал терять вкус к улыбке. Это что-нибудь да значило. Слободкин посмотрел на него внимательно и поразился: глаза выцвели, стали из голубых серыми, холодными, злыми.
— Кузя, что с тобой? Ты не рад, что ли? Мы же скоро к своим выходим.
— Что к своим выходим, хорошо. А все остальное…
— Что остальное?
— Далеко слишком немец пропер.
— На сколько пропер, столько ему и обратно топать.
— Это точно. Но до той поры мы еще нахлебаемся. Я не о себе, ты не думай. Мне маму жалко. Я когда в Москву ездил, мало с ней побыл. А ведь старенькая, плохая совсем.
— Моя тоже, как ты знаешь, не моложе твоей, но я ведь молчу.
Как ни старался Слободкин отвлечь Кузю от мрачных мыслей, тот твердил свое: «Старенькая…»
Что мог сказать Слободкин ему на это? Люди вообще слишком быстро старятся, особенно матери, особенно на войне. Слободкин вспомнил, как увидел мать после первой в жизни полугодовой разлуки, и обмер — десятки новых, незнакомых ему раньше морщинок разветвились по ее лицу. «Мама, — хотел крикнуть он, — что с тобой? Ты болела?» Но сказал другое: «А ты не изменилась совсем. Молодчина…»
Долго проговорили они в тот раз с Кузей. Мрачные, приунывшие, они не смогли уснуть почти всю ночь, хотя решено было спать перед дальней, нелегкой дорогой.
Слободкин дал себе слово больше не приставать к Кузе с нелепыми ребусами и сокращениями. В самом деле, детство прошло, кануло в вечность, зачем все это?
А утром Кузя подошел к Слободкину, наклонился к самому уху, сказал тихо, заговорщически, но совершенно отчетливо:
— А все-таки УМХН! Ты прав, Слобода.
Слободкин обрадованно переспросил:
— УМХН?..
— Ну конечно. К своим же идем! Скоро крылышки у нас опять отрастут. Совсем другое дело будет.
Никогда еще они не рвались так к прыжкам с парашютом, как сейчас. Там, в самолете, с парашютом за спиной, они чувствовали себя сильными, непобедимыми, грозными для любого врага.
«Скорей, скорей к излучине Днепра, к своим, к самолетам!» — поторапливали они самих себя и Кастерина. «Медицину» торопить не надо было — и без того ходко шагала.
Плохо было только то, что наступала пора оторваться от Варшавки. Но напоследок они решили еще раз оставить немцу память о себе.
Кузя начал развивать возникший у него план:
— Заляжем у самой дороги и будем ждать…
— Мотоциклы опять, что ли? — перебил Слободкин. В тоне его послышалось разочарование.
— Я твои мысли все наперед знаю, — сказал Кузя. — Про обоз размечтался? Скажи, угадал?
— Хотя бы и про обоз.
— Ну, и я же о нем! Чтобы и хлеба, и зрелищ. Так вот, значит, заляжем и будем лежать, пока обоз не появится.
— Долго ждать придется. А курсак-то пустой.
Кузя рассердился:
— Курсак пустой не у тебя одного.
— Правильно! — вмешалась Инна. — Не будем хныкать. Не будем, мальчики?
— Дальше давай, Кузнецов, — решительно сказал Кастерин и строго поглядел на Слободкина. — Кузнецов у нас старший?
— Допустим.
— Не допустим, а старший. Слушай! — Кастерин слегка толкнул Слободкина в плечо. — А ты говори, — глянул он на Кузю.
— Я сказал уже: выберем место, заляжем, будем караулить обоз.
— Насчет места ты не сказал, — буркнул Слободкин.
— Вот это совсем другой разговор! — опять хотел толкнуть его Кастерин.
Слободкин инстинктивно отшатнулся.
— Тише ты его, — остановил руку Кастерина Кузя, — он ведь все равно не скажет, что у него чугун в боку. Конспиратор великий. Как себя чувствуешь, Слобода?
— Идите вы все к лешему! Про обоз давай…
Кузя объяснил, как представляет себе налет на немецких обозников. План был разумный, продуманный.
— Я ж говорю — старший, — резюмировал Кастерин.
— Подходит, — согласился Слободкин.
Общими силами кое-что уточнили.
— Тут самое главное — не зарваться, — сказал Кузя. — Как говорится, вовремя приплыть, вовремя отчалить.
Когда начало темнеть и Инна закончила ежедневную перевязку, вышли из леса, подошли вплотную к шоссе, залегли в кустах. Договорились спать по очереди. Бесконечно тянулись часы ожидания.
— Ты почему не спишь? — шепотом спросил Слободкин Кузю. — Твой черед ведь.
— А ты почему?
— Мое время вышло уже. Я по звезде слежу.
— По звезде? Ты что, сквозь облака видишь?
— Вон там, на горизонте, светится одна.
Кузя на локтях подтянулся поближе к приятелю.
— Где?
Слободкин взял Кузину руку, показал ею на звезду, которая действительно еле теплилась на самом краешке неба.
— От меня тоже видно, — подал голос Кастерин.
— Значит, так-то вы спите? — сказал Кузя. — А договорились еще. Только «медицина» отдыхает, так получается? Ну, ей при всех графиках положено. Отбой!
Полежали несколько минут молча.
— А звезды уже нет, — послышался девичий шепот.
— «Медицина»?!
— Не зовите меня больше так. Я такой же человек, как все.
— Ты прелесть у нас, Инкин, — как-то очень задумчиво и мечтательно сказал Слободкин. — Ты мне напоминаешь…
— Отставить! — на этот раз совсем решительно и властно рявкнул Кузя.
Впрочем, и без его команды так на так бы и получилось — проснулась Варшавка. Загудела, залязгала — сначала вдалеке, потом ближе, ближе и скоро вся налилась железным громом…
Опять потерян был счет часам и минутам. Скоро солнце со всех сторон начало обшаривать жидкие кустики, в которых спрятались четверо. Пекло нещадно, без перерыва, без жалости. А на небе, как назло, ни единого облачка. Только комариная ряска между землей и солнцем. Все опухли опять до чертиков. Пожалели даже, что так близко к дороге легли, но в лесок перебраться уже не было никакой возможности, хоть и недалече он был и все время манил своей тенью.
— А какие у немцев обозы? — наклонившись над самым ухом Кузи, спросил вдруг Слободкин.
Кузя наморщил лоб. «В самом деле, какие? Конные? Вряд ли».
— На машинах, ясное дело, — видишь, танки как шпарят. На конях разве угонишься?
— Но разведчики у них ведь верхом, ты же знаешь.
— Да-а… Ну, не будем гадать, посмотрим.
Когда солнце было совсем высоко, на шоссе вдруг неожиданно стихло. Наверное, добрых полчаса стояла полнейшая тишина, даже комары куда-то исчезли.
— Может, зря стараемся? — неожиданно громко спросил Кузю Слободкин.
— Тише ты, чертушка! — цыкнул на него Кузя. — Молчи и слушай.
— Я молчу.
— И слушай, тебе говорят.
— Ну, слушаю.
— Я слышу уже, — встрепенулась Инна.
Все насторожились. Кузя привстал на корточки и тут же снова резко припал к земле.
— Обоз!..
Из-за поворота дороги прямо на них двигались крытые фургоны, в которые были впряжены гигантские рыжие лошади.
«Опять рыжие», — подумал Кузя и почему-то глянул на Слободкина. Тот неотрывно смотрел на фургоны и беззвучно шевелил губами.
«Неужели опять считает? — пронеслось в голове у Кузи. — Совсем забыл тогда у него опросить, помогает ли это, когда мурашки по коже. А ну-ка, попробую: одна, две, три…»
Слободкин больно саданул его в бок:
— Соображаешь?..
— Веселей так! — огрызнулся Кузя. — Десять, одиннадцать…
— Тише, чудик, умоляю тебя!
Он рявкнул это так, что передняя лошадь, которая была уже близко, нервно прижала уши.
— Раз, два, три… — Это Кузя уже не лошадей считал, секунды отсчитывал: пронесет или нет? — Сейчас будем хвост рубить, — сказал Кузя опять слишком громко.
Правда, этого уже никто не заметил: высокие кованые колеса высекали из выщербленного асфальта такой гром, что можно было чуть ли не кричать. Об этом Кузя уже не успел подумать: кто-то из четвертых не выдержал, дал первую очередь, хотя конец обоза еще не появился. Ну, а раз начал один, значит, все должны…
— Слушай мою команду!
На какую-то долю секунды Кузе вдруг показалось — все пропало, бездарно и непоправимо. Все смешалось, спуталось. Но очередь вспыхивала за очередью, граната летела за гранатой, обоз сперва разорвался надвое, потом обе его половины рванулись в разные стороны.
Рядом с засадой остались стоять два фургона. Ездовые, прошитые десятками пуль, не успели покинуть своих мест и сидели в тех позах, в каких их застала смерть.
— Страшно… — когда все стихло, сказала Инна.
— Слушай мою команду! — крикнул Кузя. — Взять только самое необходимое. И живо, живо, живенько!..
Далеко в лесу, когда пришли в себя и отдышались, Кузя спросил:
— Кто все-таки первый поднял эту заваруху?
— Паника не у нас была, а у них, слава богу, — сказала Инна.
— Значит, ты?
— Во-первых, не я…
— Во-вторых? — не дал ей договорить Кузя.
Слободкин заступился за Инну:
— Победителей не судят.
— Вы зря всполошились, я, может, благодарность хотел вынести тому, кто первый начал.
— Ну ладно, сочтемся еще славою. Давайте барыши подсчитывать, — деловито вставил слово Кастерин.
Кузя присел на корточки, извлек из своих карманов и торжественно положил перед собой, как величайшую драгоценность, две банки консервов.
— А у вас что? Выкладывайте.
Оказалось, все не сговариваясь взяли одно и то же.
Кузя развел руками:
— Или действительно голод не тетка, или мы самые настоящие дурни… Хоть бы пару автоматов еще на развод догадались…
Все смущенно переглянулись, но Кузе не ответил никто. Голод в самом деле брал свое. Несколько банок было тут же открыто и содержимое их уничтожено. Только после этого обнаружили, что консервы были необычные, таких еще ни разу никто из них не видывал.
— Тут чего-то хитро́ придумано, — покрутил перед собой пустую банку Кастерин. — Кузнецов, глянь-ка.
Тот внимательно осмотрел банку. На донышке ее был укреплен небольшой граненый ключ, рядом имелось отверстие — точно по форме ключа. Кузя осторожно ввел ключ в скважину, повернул. Внутри что-то хрустнуло, зашипело, через минуту Кузя резко отдернул руку. Банка упала на траву и зашипела еще больше.
— Что такое?..
— Горячая, дьявол, совсем огонь.
Кастерин недоверчиво поднял банку и тут же отбросил:
— Ну и немец, ну и хитер! Заводная!..
Все сгрудились над банкой. Когда она немного остыла, Кузя вспорол ножом ее дно. На траву вылилась белая, молочного цвета, кашица, а за одним дном показалось другое.
— Все просто в общем-то, — сказал Слободкин. — Между одним и другим дном запаяли негашеную известь и обычную воду. Разделили их переборкой. Поворот ключа, вода соединилась с известью — получай, солдат, горячее блюдо. — Он протянул Кузе новую банку. — Испробуй.
Кузя отсоединил ключ, повернул его на пол-оборота в отверстии, консервы быстро разогрелись.
Спать легли сытые, довольные удачным налетом на немцев. Только Кузя, зарываясь в еловые ветки, проворчал свое командирское:
— По консервам-то мы спецы…
— Спи, спи, — успокоил его Кастерин. — Без жратвы тоже чего навоюешь!
Под утро пошел сильный дождь. Кузя проснулся первым, стал расталкивать лежавшего подле него Кастерина:
— Простудишься, все простудимся так. Буди ребят!
Кастерин вскочил, похлопал себя по промокшим бокам.
— Теплый дождик, пусть дрыхнут пока. А вот с этим что делать будем?
Он положил перед Кузей пачку картонных мокрых коробок.
— Что это? Галеты?
— Какие галеты! Ослеп, что ли?
Кузя взял в руки одну из коробок, повертел перед заспанными глазами и вдруг вскрикнул:
— Неужели?..
— Наконец-то сообразил! Тол, самый настоящий. Ты думал, солдат Кастерин ничего, кроме консервов, не узрел в фургоне?
— Я сам в суматохе одну тушенку хватал.
— Я тоже спешил, и темно еще там было, как у негра в сапоге. Но вот видишь… — продолжал он бережно прижимать к груди мокрые коробки с толом.
Кузя готов был уже извиниться перед Кастериным, но тот вдруг испуганно засуетился:
— Огонь разводи! Живо!
— Ты что, спятил? Забыл, где находишься?..
— Разводи, говорят! Если размокнет, его уж не высушишь, дьявола.
Кузя попробовал еще что-то сказать, но Кастерин почти кричал:
— Нам взрывчатка нужна, понимаешь? Сейчас просушить еще можно.
Кузя долго не мог распалить огонь — руки не слушались. Наконец из-под дыма над мокрыми ветками хвои показалось пламя. Кастерин набросал сверху валежника и аккуратно положил на него все пачки тола.
Кузя шарахнулся в сторону.
— Не пугайся, десант. Ничего не будет страшного. Подсохнет — и все, ручаюсь. Испробовано уже. Эх ты, вояка…
Это было уже чересчур. Кузя собрал всю свою волю и сел у огня рядом с Кастериным. Он ясно видел, как покоробился и обгорел картон на толовых шашках, как стали обнаруживаться их желтоватые, почти белые на огне углы…
— Так и не взорвутся? — недоверчиво спросил он Кастерина.
— Взорвутся, когда надо, а сейчас подсохнут — и все. Но пересушивать тоже не надо.
— А что?
— Пересушивать опасно, — сказал Кастерин и голой рукой выхватил из огня одну шашку. — Эта готова, держи.
Кузя взял ее, перекидывая с одной руки на другую, отполз в сторону. Но Кастерин позвал его обратно.
— Сюда вот клади, — показал он на золу возле самого костра. — И держи вторую.
— И вот это тоже, — раздался Иннин голос.
На руке Кузи повисла небольшая, со школьный портфельчик, сумка с красным крестом. «Медицина» тоже, оказывается, не об одних консервах думала.
Перед тем, как совсем оставить в покое Варшавку, они еще раз подошли к ней вплотную. Кузя снова нарезал бересты, Инна написала новый текст листовки, в которой говорилось, что немцам скоро придет капут.
— Они теперь этот почерк знают, — похвалил девушку Кузя.
— А что, разве неразборчиво? — не поняла его Инна.
— Нет, нет, вполне разборчиво. Рука просто мужская.
Кузя перевязал пачку листовок стеблем осоки и метнул ее из кустов на дорогу. Листовки веером рассыпались по асфальту.
— Точность снайперская, — сказал Кастерин.
— Не зря бабы нас картошкой и хлебом кормили, — поглядев на Кузю, сказал Слободкин.
— Картошкой и хлебом? — переспросил Кастерин, начавший забывать вкус и того, и другого. — И как оно получается? Есть можно?
Сказал и громко сглотнул слюну.
— Проходит, — вполне серьезно ответил ему Кузя и тоже сглотнул. — Что-то мы про жратву разболтались? А? Надо срочно сменить пластинку. И пошли, братцы, пошли!
Двинулись в путь. Решено было наказывать того, кто первый заведет разговор о еде. Шли молча, о голоде не говорили и даже не думали. Думали совсем о другом — о том, что с каждым шагом все ближе излучина Днепра, а там — свои. Встретят, развяжут кисеты, накормят…
— Накормят? Кто это бухнул, признавайся! Ты, что ли, Кастерин?
— Последний раз. Больше не буду.
— Дать ему два наряда вне очереди.
— Сбавить ему вдвое за честность…
Но постепенно шутки умолкли. Лесные скитальцы уже не шли, а тащились по топким комариным болотам, все больше теряли силы. У Слободкина нестерпимо болело ребро, не давая ему покоя ни днем ни ночью. У Кузи ныла нога. Инна пробовала хоть как-то облегчить страдания ребят, но ничего не могла сделать. И трофейные медикаменты не помогали. Ей оставалось только одно — утешать ребят. Опять был потерян счет времени, как после того первого ночного боя в лесу.
И вдруг… В какой день это случилось? В какой час? В какую минуту? Этого никто из них не мог потом припомнить.
В воздухе еще и не пахло Днепром, к излучине которого они так упорно продирались, еще гнилой запах бесконечных болот дурманил до тошноты и без того кружившиеся головы, когда в одной из чащоб отряд «Победа» набрел на взвод десантников. На целый взвод!
Увидев перед собой три десятка бородачей с голубыми петлицами, счастливые скитальцы кинулись навстречу однополчанам, чтобы скорее обнять их, расцеловать. И обняли, и расцеловали. И только тогда поняли, что взвод-то это не какой-нибудь — их родной, собственный! Подраненный, обтрепавшийся, обросший бородами чуть не до самого пояса, но именно свой, долгожданный, кровный взвод! С оружием. С командиром во главе.
— Ребята! Гляньте! Кузя! Нет, вы только гляньте! И Слобода — борода в придачу! — неслось со всех сторон.
— Вы ли это, ребята?..
— А вы?
— И мы — мы.
— Ну, если так, зачисляю вас на довольствие, хотя никакого приварка не обещаю пока.
Это сказал уже не кто-нибудь — сам Брага! И, хозяйским глазом взглянув на Инну и Кастерина, строго спросил:
— А это что за народ? Какого полка люди?
— Нашего, товарищ старшина, — ответил Кузя. — Сейчас все объясним. Полк не полк, но лесной отряд перед вами, «Победа» называется. А вы живы-здоровы, товарищ старшина?
— Полагается, Кузнецов, здоровым быть и даже живым. Сколько не виделись? Месяц? Да, около того. Ну, хватит, кончаем лесную жизнь, к своим выходим. Подтянуть ремешки, и вообще вид, внешний вид мне дайте! Как чувствуете? Сапоги, я вижу, разбили.
Нет, месяц положительно маленький срок, чтобы люди изменились. Особенно такие, как Брага.
— Товарищ старшина, а дальше-то как? — спросил Кузя.
— Из штаба распоряжение — нажать на все педали. По пути в бои больше не ввязываться, только разведку вести, брать «языков».
И вдруг совершенно неожиданно достает Брага из вещмешка пару сапог.
— А ну-ка, примерь.
И Кузя самый счастливый человек на свете:
— Спасибо, товарищ старшина!
— Скажи спасибо господу богу.
— Ну, спасибо тебе, господь бог, если такое дело.
— Теперь береги. Других не будет до самого конца войны. Ты знаешь, на сколько одна пара дается?
— Знаю.
— Носи аккуратней. Здесь — с кочки на кочку, а в Берлине асфальт. Да и тут есть дороги хорошие…
Рад-радешенек Кузя, ходит от одного человека к другому, хвалится обновой. Встретил Инну, она поглядела на сапоги и говорит:
— Не особо, конечно, но…
Но все-таки сапоги, — помогает ей Кузя.
— Вот именно. А нога ваша как? Болит еще?
— Сейчас почти не болит.
— Ах, сейчас? — делает Инна ударение на этом слове. — А говорили — совсем не болит.
— Сейчас совсем не болит.
— Нечестно это.
— Честно — не болит уже.
— Ну, вот-вот — уже! О чем я и говорю.
— Не сердитесь, так нужно. Ведь ваша профессия такая гуманная.
Они незаметно для себя перешли на «вы».
— Именно поэтому и сержусь. Такими вещами не шутят. Слушаться будете?
Кузя не успел ответить. Появился опять старшина:
— Довольно, хлопцы. Через десять минут выступаем.
Это его «хлопцы» относилось и к Кузе, и к Слободе, и к Инне — ко всем.
Самая тяжелая вещь в отделении РПД — ручной пулемет Дегтярева. Сначала килограммов шесть или семь в нем, не больше. Потом, с каждым новым километром, становится все тяжелей, ртутью наливается ствол до отказа, ртутью — диски, ртутью — трубочки сошников. Антапки — и те по полпуда каждая! И вот на плече у тебя уже целое орудие вместе с лафетом. А сколько в тебе лошадиных сил? Нисколько. В тебе и самых обычных-то, человеческих, совсем не осталось. И у Прохватилова их больше нет, у знаменитого первого номера. «Достань воробушка» и в кости широк, а поди ж ты, выдохся. Кирза о кирзу, кирза о кирзу шварк-шварк, вот-вот совсем остановится. Останавливается. Остановился уже.
— Больше не могу. Кто следующий? Слобода?
— Слобода.
РПД, кажется, лег ему прямо на кость несносной своей железякой, прямо на самую ключицу, и еще подпрыгивает. Ну почему, почему он подпрыгивает при каждом шаге и отдается болью в раненом боку? И — на ключицу, на ключицу самым острым своим углом. Поглядеть бы сейчас на этого конструктора товарища Дегтярева…
Потерпи, Слобода, не ругайся. Вот влезем сейчас все-таки в бой, тогда не будет ему цены, этому «дегтяреву». Боевое охранение уже залегло…
— Прохватилов! — Слободкин тащит РПД навстречу первому номеру.
А он уже тут как тут. Выбирает самое удобное место, как Брага его учил. Чуть в стороне и на взгорке. Очереди короткие. Прицельные. Только короткие и только прицельные. Патроны все на счету, каждый должен быть послан точно. Иначе, как говорят немцы, «капут гемахт»! Вон их сколько лезет. Пронюхали, выследили…
Сложный опять будет бой. Хоть и разреженный, а все же снова лес. Зенитками деревья стоят. Но ребята уже пообвыкли малость. Того уж теперь не будет, что в первом лесном бою, когда десант на десант. И не ночь еще. А если бы даже и ночь? Теперь уж знают, что к чему.
Прохватилов позицию выбрал точно. И второй номер у него под бочком. И гранаты лететь будут правильно, если дело до них дойдет. Кажется, дойдет все-таки: левый фланг не оттянулся вовремя. Теперь терять и секунды нельзя. Давай, карманная артиллерия, выручай, столько раз ведь уже выручала. РПД тебя поддержит. А ну, Прохватилыч, вынеси-ка его вон туда, оттуда тебе и вовсе все видно будет. Короткими перебежками или ползком, по-пластунски. Все равно как, только скорей. Не тяжело тебе? Не тяжело. В руках игрушка, не пулемет. Слава товарищу Дегтяреву!
И Прохватилову спасибо: на самом пределе был, но успел. И второму номеру спасибо.
А вот о правом фланге забывать тоже нельзя, за правый тоже все головой отвечают. Вон что тут получилось: гранаты — на левый, и РПД — на левый. А немец, он тоже не дурак, каждый промах твой видит, оплошность всякую.
И опять Прохватилов ползи, да живей, и чтоб диски твои не отстали. Не отстанут! Под вторым-то номером кто? Слобода под вторым. А ну-ка, разряди! Разряди, Слобода, чтобы знали…
Прохватилов что-то очень плотно прижался к земле. Широко зашарил большой белой рукой по звенящим гильзам.
— Что с тобой, Прохватилыч?
Не ответил. Не расслышал, что ли? Но пулемет ведь затих.
— Прохватилов!..
Наконец отозвался:
— Разряди, Слобода, чтобы знали, гады! А я…
— А ты?
— Тяжело у меня на спине.
И опять тонко звякнули гильзы под белой рукой.
Стал Слободкин за первого. А вторым будет кто? Кузнецов? Этот может за любого сработать. Да и каждый сможет, только это уже не на стрельбище, тут команды могут не дать и скорее всего не дадут никакой команды.
— Не спеши! — Это уже Кузя возле самого уха Слободкина. — Бей короткими, слышишь, короткими, как Прохвати… — И замолк.
Слободкину некогда ни спросить, ни оглянуться.
— А ну-ка, позволь. Я эту механику тоже знаю. — Это Кастерин.
Сколько длился этот бой? Час? Или день? Или два, может быть?
Ручной пулемет Дегтярева снова налился ртутью — и ствол, и диски, и сошники. Без Прохватилова стал он еще тяжелее. Таким тяжелым не был никогда. А тащить еще далеко. Где она, эта излучина? И что еще ждет там? Неизвестно. Может, правда, крылышки? Пора уже в бой настоящий, парашютный, когда действительно коршуном на врага. С малой высоты, пусть совсем малой, той, страшной. Теперь овладели ею. И «троллейбус» пусть пронесется над головами фашистов. Наделает шуму. Пора, пора…
Вчера пленного допрашивали. Наглец наглецом. Ждали — пощады запросит. И не подумал. Допросили чин чином, записали все.
— Штее ауф — собирайся.
Встал, закурить захотел. Дали ему махорки. Задымил, сел на пенек — нога на ногу.
— Можно спросить?
— Давай.
— Почему отступает русский?
— Что-что?!
— Отступает почему? Столько силы, столько кароших зольдат…
Кто-то не выдержал:
— В расход его — и все тут! Ишь какие разговоры ведет, подлюга!
— Нет, нет, пускай скажет. Очень даже интересно, что они думают.
— Почему отступаем, говоришь? Много солдат, техники много высмотрел. А договор у нас с кем? Ну, отвечай!..
Немец вдавил каблуком в траву недокуренную папиросу, и злая усмешка перекосила его и без того угловатое лицо.
— Договор… Мы и вы зольдат. Мы и вы…
С каждым словом все откровеннее, все циничнее. И вдруг перешел на чистейший русский:
— Летчики ваши отважные, а самолеты ваши были…
Тут ребят разобрало совсем:
— В расход его!
— Нечего церемониться!
Отвели в сторону. Одной пули хватило бы, не гляди, что верзила такой, но кто-то разрядил всю катушку. Чтобы на душе чуть полегчало.
Может, он и правду сказал, что в договор тот слишком верили? Может, верно насчет самолетов?.. Отставить! Сейчас бы парашют за спину — и айда. По двадцать человек на каждую плоскость. Можно и по двадцать пять. И — пошел! Теперь бы только глядеть на штурмана, глаз не спускать. Флажок! Потом другой! Хорошие были самолеты. Были? Почему были? Впрочем, конечно, были…
Ну и пленный попался на этот раз! Скольких брали уже — один на другого похожи, а этот перебудоражил сердца. Такого надо бы на развод оставить, не пленный, а находка. Сатанинская сила в ребятах проснулась.
К самолетам, скорей к самолетам!
— Плохие? Были, говоришь? Мы еще покажем тебе!
Шли ночью и днем. Только ветки по глазам. Только каждый день новая дырка на ремне. И подошвы от кирзы в болотах поотмокали.
«К Днепру, к Днепру, к Днепру!» — стучат сердца… Или это с голодухи в висках стучит?
Безлюдные кругом места. Ни своих, ни чужих. Когда своих нет, плохо. Когда немца нет, еще хуже: значит, в слишком глубоком тылу. Впрочем, свои кое-где еще попадаются. Вот это кто на поляну вышел, заросший, страшный?
— Свой?
— Братцы!..
— Откуда такой?
— Из земли я, хлопцы, верно слово, из земли… — И засмеялся дико так, ошалело. Ноготь куснул — слышно было, как зуб на зуб пришелся.
Наскребли махорки.
— Да успокойся ты, Христа ради. Говори, откуда?
Покурив, рассказал.
Отстал от своих. Отощал, в деревню зашел. А в деревне немцы. По-русски к нему:
«Командир?»
«Рядовой».
«Коммунист? Партизан? Комиссар? Признавайся».
«Солдат я».
«Комсомол?»
«И не комсомол».
«Врет он все! Расстрелять эту русскую сволочь!..»
Руки за спину. Повели. Далеко вести поленились. Метров триста самое большее. Лопату в руки.
«Копай».
«Зачем?»
«Сам себе могилу».
«Могилу?.. Сам себе?!»
Поплевал на ладони и начал. А солнце в спину светит, показывает тенью, сколько ему, приговоренному, места нужно. Никогда не думал, что такой высокий. В строю всегда на левом фланге стоял. Глядит на тень и все копает, копает. На один штык, на два штыка в землю ушел.
«Карашо, рус, очень карашо. Будет потом тебе сигарета».
А сами уже закурили. Недалеко конвоиры стояли, рядом совсем, дымок до него долетел. Тут голова и закружилась. Присел на край ямы. Живой еще, а ноги в могиле. И закипело внутри. «Нет, гады, нет, так просто не захороните!» Встал, опять поплевал на ладони — и еще на один штык. А сам все на немцев глаз. Покуривают, разговаривают, на русского внимания не обращают уже.
— И откуда только у меня храбрость взялась! Вынул из песка лопату, отряхнул и… по каске, по каске, по другой! И — в лес. В чащобу самую. Вот и все, хлопцы, весь сказ, верно слово…
И опять засмеялся — тихо и жутко.
Жутко стало на душе и у всех, кто слушал.
— Нутро надорвалось с того дня, — дотронулся он до груди. — Жгет и жгет днем и ночью.
Старшина положил руку ему на плечо:
— Идти можешь?
— Могу еще вроде.
— Тогда шагай помаленьку. Если с духу собьешься, мне скажи. Привалы у нас редко.
— Не собьюсь как-нибудь.
Тронулись дальше. Много людей, а дума у всех одна: о только что услышанном.
Кузя оттер Слободкина на ходу плечом в сторонку и говорит:
— Даже сердце занемело. И знаешь, что вспомнил?
— Ну?
— Флаг тот на посольстве в Леонтьевском.
— Опять? Флаг — это пустяки.
— Началось с небольшого вроде. Захотел немец, чтоб пред фашистской тряпкой головы мы склонили. Теперь он желает, чтобы мы в яму сошли на его глазах. Молча, безропотно. Да еще яму ту сами вырыли. До какой же степени озвереть надо, чтобы спектакли такие разыгрывать! — Кузя замолчал, чуть отстал от Слободкина, потом снова с ним поравнялся. — И еще знаешь о чем подумалось?
— О чем?
— Надо было тогда, в Леонтьевском, не просто плюнуть и мимо пройти.
— А что ты мог один-то?
— Почему один? Нас много шло — улица, Москва целая!
— Все так, Кузя, но ведь договор у нас был, понимаешь, договор. Это же обязательства.
— Я так и знал! Месяц воюем, а не научились ничему еще. Ровным счетом ничему! Ну что ты мне про договор этот зудишь? Немец к Москве, говорят, рвется, а мы все о договорах вспоминаем.
— Во-первых, до Москвы его никто не допустит.
— Согласен.
— Во-вторых, ведь не мы нарушили договор. Мы свято его соблюдали.
— Свято, свято! Ты солдат или Христос?!
— Мы советские люди.
— Опять началась политграмота! Да война же идет, война!
Кузя взволнован до такой степени, что спорить с ним невозможно. Слободкин и не спорит больше.
— Ну, а насчет спектаклей ты прав. Спектакли он разыгрывать любит.
— Точно.
Кузя опять становится самим собой, к нему возвращается его обычное спокойствие. Вот и загнул вроде насчет договора, а все равно с таким человеком согласишься по любой трудной дороге шагать. По любой самой трудной, бесконечной дороге. Вроде этой вот, например, что к излучине Днепра ведет. Сколько дней уже, сколько ночей! И сколько еще осталось? Еще столько? Или полстолька?
— Четверть столечка нам топать еще, — смеется Кузя.
Смеется, сам еле стоит, а смеется так заразительно и легко, будто ноги не стерты в кровь, будто и в помине нет никакого ранения.
— Еще столько вот, полстолечка, четверть столечка еще!..
Это слышит и подхватывает Брага. Он вообще всегда все слышит и видит, что творится вокруг, на все мгновенно реагирует, а пропустить мимо ушей острое слово просто не в состоянии.
— Одним словом, ногой подать, хлопцы. А чтобы еще короче было, запевай любимую. Только про себя и не все сразу.
Шутка передается из уст в уста, докатывается до каждого самого отставшего, еле плетущегося в хвосте. Колонна двигается быстрей — дотягивает до следующего привала.
Вот он, привал. Как подкошенные, рухнули бойцы, где застала их команда. Даже Брага глубоко впечатался в высокую траву. Комара и то отогнать не может. Десять минут полнейшей тишины. Но как только поднялись, зашагали, Брага опять за свое:
— Так где же любимая, хлопцы? Или уши мне в болоте позаложило?
— Не заложило, товарищ старшина, — в тон ему отвечает Кузя.
— А шо ж тоди?
— Поем, как приказано, про себя и не все сразу.
— Но про махорочку?
— Про нее, конечно.
— Больше вопросов нет.
— А где бы, товарищ старшина, в самом деле махорочки?
— Это там, хлопцы, там! Все будет — и самосад, и крылышки, и бой настоящий, наш, прямо с неба в самую кашу!
— Вашими устами да мед бы пить!
— Почему моими? Мед можно любыми устами. Но я сейчас не о меде думаю — простой ключевой бы отведать, а то все кофе да кофе, — старшина занес надо ртом мятую-перемятую баклажку с черной болотной жижей, — харч невеселый. Но я знаю, кому жалобу писать.
— Кому?
— Мне и пишите: я старшина, за все в ответе.
Улыбнулся солдат, а улыбнулся — легче стало солдату, бойчее ноженьки зашагали.
Даже Слободкин мрачные мысли свои, кажется, отогнал. Не совсем, конечно, куда от них денешься? Хоть бегом беги — на пятки наступят. Все о том — где его Ина сейчас? Где она? Что с ней? Сердце стучит все тревожнее. То письма, письма, письма с каждой почтой — и вдруг сразу ни строки целый месяц. Это пострашнее всякой болотной жижи. Жижу долго тянуть можно, а такое вот сколько выдержишь? Еще месяц? Два? Страшно подумать даже. Лучше не думать совсем. И Слободкин шагает, шагает, шагает — не думает больше об Ине. Чего ему о ней думать сейчас? Легче станет? Не станет. Сколько ни думай, ничего не изменишь.
…Может, уехала в деревню? К родным? Наверняка уехала. Сейчас она в безопасности. Ходит в ночное небось. Она человек трудовой, все умеет. Не пропадет. А может, в госпитале? Медсестрой? Или на завод пошла? Учеником токаря или слесаря. Стоит у станка, рассчитывает шестеренки, резьбу резать приспосабливается. Ну, уж так, сразу, и резьбу! Сначала будет гайки гнать, учиться резцы затачивать, до резьбы когда еще дело дойдет! Резьба — самая сложная штука. Ничего трудней не придумаешь. Или чугун точить — адова работенка! Резцы садятся один за другим. Не женское это дело. У Ины руки нежные, узкие, кожа на них белая, тонкая, чуть заденет, бывало, в саду, за малейшую веточку зацепится — уже кровь. Сразу царапинку ко рту. Лизнет языком, совсем как ребенок. Нет, с такими руками чугун не поточишь. Чугунные чушки тяжелые, попробуй-ка подыми…
Идет Слободкин по лесу. Думу думает — о том о сем…
Ну вот о лесе, например. В лесу всегда хорошо. Даже сейчас, в эти дни. Идешь — от палящего солнца скрыт и от самолетов тоже. Даже теперь уютно и покойно в лесу. Будто и нет никакой войны, будто и не было. Просто вышли ребята в поход. Идут, любуются — березы вокруг стоят красивые. Тонколистые, нежнорукие, белокожие…
Какие, какие? Нежнорукие? Белокожие? Нет, о лесе тоже нельзя. Лучше еще о чем-нибудь…
И не знает Слободкин, что за тридевять земель отсюда, в другом лесу, идет сейчас девушка. Руки у нее нежные, узкие, кожа на них белая, тонкая. Идет, напевает грустную песенку. И вдруг — что это? Поднесла к глазам ладошку, а на ладошке кровь — одна-единственная рубиновая бусинка. Но вот она пухнет, растет, еще минута — и побежит струйка. Девушка подносит ладошку к губам, виновато оглядывается на подруг и быстро слизывает капельку. «Вдруг подумают: „Неженка, белоручка какая!“» — разговаривает сама с собой. А ведь еще пилить и пилить, делянку только-только начали. И все дуб, дуб, дуб. Железо, а не дерево. И норма большая, и бригадир говорит, что спиливать надо под самый корень, не так, как вчера.
И гложет одна неотступная, неотвязная мысль: где он сейчас? Что с ним? За месяц ни одного письма, ни единой строчки, и писать теперь некуда.
Судьба забросила Ину Скачко в далекие края так неожиданно, что и опомниться не дала.
Вчера работали в лесу первый раз. Сказали, что дрова нужны детскому саду военного завода. Но и без этого было понятно: сил не жалей. И не жалели. Поэтому сегодня и нет их совсем. С непривычки. Спина не гнется, руки не держат пилу, ноги подкашиваются. В бригаде двенадцать девчонок. Бригадир тринадцатая. Все на заготовках впервые. Бригадир только делает вид, что поопытнее других, а сама как глянула на делянку, так и ахнула:
— И все это нам?!
— Кому же? — как умели, успокоили подружки. — Нам да тебе, если не побрезгуешь черной работой.
— Я тоже пришла не кашу варить.
— Тем более что варить не из чего, — опять утешила бригадира бригада.
Ина слушала и не слышала. Работала не хуже других, старалась, но мысли были далеко-далеко. Там, где милый ее сейчас. Остановится на минуту, разогнет занемевшую спину, оглянется и почему-то представит себе такой именно лес, с такими же вековыми дубами, и дружок ее, укрытый и защищенный ими, стреляет по врагу. Оттого, что защищен и укрыт, теплее делается на душе. Во всяком случае, можно терпеть разлуку. Собраться со всеми силами и терпеть. Сколько ее еще будет, этой войны? Много? Много, конечно. Только хорошее быстро проходит, плохое долго тянется.
— Это что за философия? — спросила Ину подруга, когда та поделилась с ней невеселыми мыслями. — Ты это вычитала или сама?
— Сама.
— Ну и зря. А я во всем стараюсь находить хорошее.
— И в войне тоже?
— Не в войне, конечно. Не такая я глупая. А о войне, если хочешь, я так скажу: ей скоро конец будет. Это как дождь: быстро начался — быстро кончится. Поверь слову.
— Хорошо бы.
— Точно тебе говорю, и оглянуться не успеем. Я об этом даже стихи сочинила. Хочешь?
— Стихи? Интересно!
— Вот послушай.
Девушка отложила в сторону пилу, поднялась во весь рост, оправила смятое ситцевое платьице, почему-то зажмурилась и прочла только две строки:
Сюда и свисту пуль не долететь, Но весть о мире долетит мгновенно.Ина посмотрела на нее удивленно и немного разочарованно:
— И это все?
— Все пока.
— А о чем это?
— Как о чем? О нашем лесе, о том, что хорошее шагает быстрей по земле, чем плохое. Не понятно?
— Теперь понятно. Не под рифму только.
— Рифма будет. Это начало самое.
— А ты про любовь можешь? — Ямочка, вдруг возникшая на щеке Ины, медленно поползла под прядку волос возле уха.
— Про любовь?
Ина покраснела, но повторила:
— Да, про любовь. Красивую и высокую. Про которую только в стихах и можно. Ты кого-нибудь любила?
Глаза Ины сузились, превратились в две щелочки.
— Что ты, что ты! — испуганно замахала руками сочинительница.
— А я вот, представь…
— Честное слово?
— Да.
— Глупости говоришь. Этого не может быть. Кто же он?
— Слободкин, Сергей.
— Смешно!
— А ты откуда его знаешь?
— Я не знаю. Фамилия смешная — Слободкин…
Ина обиженно отвернулась и начала искать глазами брошенную в траву пилу.
— Ну, не сердись! Не хватает еще из-за какого-то Слободкина отношения портить.
— Я запрещаю тебе так говорить о нем. Слышишь? Он сейчас за нас с тобой кровь проливает, а ты…
— Боец, значит? Ты бы так сразу и сказала.
— Я и рта не успела раскрыть — ты со своими шуточками. Неужели все поэты такие?
— Прости, пожалуйста, действительно глупо вышло. Летчик, что ли?
— Парашютист.
— О…
Последние слова девчат тонут в визге и скрипе пилы, которую они с остервенением начинают таскать по шершавой, ноздреватой коре нового дуба. Пила подпрыгивает, вырывается из рук и никак не хочет углубляться в ствол там, где нужно.
Противно визжит пила, скачет. А сколько еще их, дубов! Стеною стоят. Один другого коренастей и крепче. Один другого железней.
Ина хочет сказать подруге, что Сережа ее хороший, что лучше его нет человека на свете, но пила нашла наконец то место, которое давно бы ей надо найти, — вгрызлась в сырую, упругую древесину. Теперь не до слов уже, ни до чего. Только ровный, чеканный такт. Сильный рывок на себя, потом мгновенье отдыха, пока пила бежит к напарнице. Потом еще рывок. И еще мгновенье отдыха. И так без конца, без конца, пока глаза не защиплет от пота…
После такого не до стихов. Умучена вся рабсила. Крепко спит в кособоком шалашике. Даже на рассвете не просыпается, когда холодный туман заползает во все уголки леса и выпадает росой на каждой былинке.
Утром, едва открыв глаза, Ина вспоминает стихи:
Сюда и свисту пуль не долететь, Но весть о мире долетит мгновенно…— А ты знаешь, — шепчет она подружке, — все-таки это неправильно. Как бы далеко мы от фронта ни были, он для каждого из нас близко, рядом совсем. Зажмурь глаза и услышишь, как пули свистят. Зажмурь.
— Зажмурила.
— Свистят?
— Вот ты, Инка, настоящий поэт. Стихи писать пробовала? Признавайся. У тебя должно получиться.
— Если бы я писала, то только о любви.
— К Слободкину?
— Тише ты!..
— Не пугайся, все спят еще. А фамилия в общем-то не такая смешная. От слова «слобода» происходит?
— В одном из последних писем он признался мне, что в роте его все так и зовут — Слобода. Товарищи. Трогательно, правда? И не постеснялся сказать.
— Его, наверно, любят в роте.
При слове «любят» Ина вздрогнула, и ямочка на ее щеке снова медленно поползла под прядку волос, сквозь которые просвечивало заалевшее ухо.
— Не знаю. Наверно…
— А писем, значит, нет?
— Новых нет с того самого дня, а старые я все с собой привезла. Полчемодана, поверишь?
— Что-что? Полчемодана писем?! Счастливая ты все-таки, Инка. Самая настоящая счастливая.
Ина хотела было сказать, что именно так она и подписывала каждое письмо Сереже, но передумала, только еще раз вздохнула. Так глубоко, что прядка волос на миг отлетела в сторону. Ямочки под ней больше не было. И глаза были совсем не узкими, как минуту назад. Голубые, широко открытые, они смотрели куда-то вдаль не мигая. Казалось, девушка даже боялась моргнуть: моргнешь — и сразу покатятся слезы, чистые, крупные, уже подступившие к горлу…
Заметив это, подруга спохватилась:
— А ведь утро совсем! Пора вставать. Девчата, подъем!..
Кособокий шалашик наполнился смехом, будто и не было никакой войны. Просто выехали девочки за город, и сейчас начнется счастливый, радостный день. Один из самых радостных и счастливых дней в жизни.
Только вот подняться трудно. Болят ноги и руки, все тело стонет, и ноет, и не желает слушаться. И все-таки — подъем!
— Подъем, подъем! Лесорубы!
Это бригадира голос. За ночь он немного устоялся, стал уже не таким писклявым, как накануне. От сырого, холодного воздуха появилась в нем даже чисто бригадирская хрипотца, которой вчера явно недоставало.
…Новое утро начинается в дубовом лесу. В пение птиц постепенно, исподволь, вливаются новые звуки. Поначалу очень робко, но с каждой минутой все увереннее слышится жужжание стальных пил, уханье падающих деревьев. Упадет спиленный дуб — будто глубокий вздох вырвется из дремучей чащи. И лесорубы вздохнут — на душе у лесорубов легче станет. Так и вздыхают они, девчата и лес, друг перед другом. Глубже всех Ина, конечно. И чаще всех.
— Ничего, Инка, не горюй, свидитесь еще, — утешает ее подруга.
— Я знаю, верю в свою судьбу. И вообще верю.
— Ну и правильно. Без этого жить нельзя. Особенно сейчас. Особенно нам, бабам.
Эти последние слова девушка говорит совершенно серьезно, будто и впрямь что-то сразу, одним мигом, переменилось в девчачьей судьбе навсегда. К беззаботной юности возврата нет и не будет.
7
Новое утро началось и в другом лесу. Только здесь не вставали сейчас, а ложились спать. Большой переход закончили парашютисты и с первыми лучами солнца, заглянувшего под кроны деревьев, остановились, попа́дали в траву, и казалось, никакая сила не в состоянии их поднять.
Но это только казалось. Уже через полчаса мертвецки уставших и сразу заснувших людей поставил на ноги чей-то тихий, еле слышный шепоток:
— Разведка вернулась…
Повскакали, будто и не было никаких бессонных, голодных ночей и дней.
— Так быстро? Не может быть…
— Может. Докладывает уже командиру.
Солдатское ухо остро. Проверили — точно, докладывает, доложила уже разведка: линию фронта прошли сегодня ночью, сборный пункт бригады найден!
— А как же прошли? Непонятно что-то, ребята.
— Все понятно: линия — это в открытой степи, а здесь, в лесах и болотах, какая, к лешему, линия?
— А наши? Где они? Может, просто…
— Подъем! — Это уже старшина подводит итог дискуссии.
Опять легкими стали пулеметы, винтовки и диски. И ноги не вязнут больше в болоте. Может, кончилась эта проклятая трясина и ноги на твердой земле? Может быть. Только этого сейчас уже никто не замечает. Конечно, под сапогом не асфальт, но шагается все быстрей и быстрей. Все легче.
Поляна, еще одна — лес заредел, засветлел, и вот побежал навстречу подлесок, река блеснула, открылось небо, чистое, большое, распахнутое, как парашют.
Еще минута, другая — и увидели наконец своих.
Кто-то крикнул «ура», и покатилось оно от солдата к солдату. Одно «ура» навстречу другому.
Даже Кузя, этот спокойнейший из спокойных, ковыляя, бежал впереди всех и что-то кричал, но и сам-то, наверное, не слышал собственного голоса в общем шуме. Еще через минуту его вскинули на руки, и тут у Кузи вдруг заболели сразу все его унявшиеся было раны.
— Тише вы, черти, тише!
Как терпел он и держался до сих пор, никому не показывая своей боли, одному ему и известно. И Слободкин такой же — весь в бинтах, как в пулеметных лентах, а марку держит.
Обидно, конечно, но ничего не поделаешь, недолго довелось Слободкину и Кузе участвовать в общем торжестве. Попали они в руки врачей.
Старшину Брагу тоже увели на перевязку, но он скоро опять появился в роте. Бегал, как всегда, хлопотал, проверял наличный состав. Когда была подана команда первой роте строиться, Брага уже все знал, вывел свой дебет-кредит.
Построились, по порядку номеров рассчитались. В полной тишине старшина доложил Поборцеву точно по уставу:
— Товарищ старший лейтенант, по вашему приказанию рота построена. В строю находятся…
Врачи разлучили Кузю и Слободкина. В лесу стояло несколько тщательно замаскированных палаток. Над ними витал резкий запах лекарств. Медики пустили в ход все свои зелья, лишь бы побыстрее вернуть в строй всех раненых, перераненных, отравившихся всякой всячиной, просто ослабевших.
Слободкин оказался в палатке один. Как только ему сделали перевязку, он почувствовал усталость, с которой уже не мог справиться.
«Не вставать, не ходить…» — это к нему относится или нет? Скорей всего не к нему, а может быть…
С этой мыслью он и уснул. Спал долго, наверное, целые сутки или даже больше. Проснулся от звука двух голосов.
Один из них сразу показался Сергею очень знакомым. Прислушался. Ну конечно же дружка его хриповатый глас!
Где-то совсем рядом, за колеблемой ветром стенкой палатки, кто-то, скорей всего врач, строго допрашивал Кузю:
— Вы сколько дней без врачебной помощи?
— Не знаю, доктор.
— Не знаете? Тогда я вам скажу. Три недели у вас осколок в мышце ноги, минимум! С этим не шутят. Что с вами делать прикажете?
— Осколок достать, меня отпустить…
Слободкин решил идти на выручку к другу. Поднялся, добрел до соседней палатки, присел перед входом на корточки. Из-за спины доктора на него смотрели глубоко ввалившиеся, потускневшие глаза Кузи. Тот увидел приятеля, сделал движение, чтобы подняться, но смог только улыбнуться — руки врача властно легли на его плечи.
Врач обернулся, сердито поглядел на Слободкина. Кузя незаметно подал знак: отчаливай, мол, но ненадолго, конечно, сам понимаешь.
Пришлось Слободкину отступить, а потом снова сделать попытку увидеться с Кузей. На этот раз возле Кузиной палатки нос к носу встретился с Инной Капшай.
— Надо же такому случиться! — воскликнул Сергей. — Все-таки, значит, прямиком в ваши драгоценные ручки? Ну как он?
— Это вы с дружком поговорите, — сказала Инна.
— А врач?
— Врач записал: две недели постельного режима — и то с учетом военного времени, а вообще-то… Но вы лучше скажите — что задумали? Пришли обсуждать план совместного побега, признавайтесь? Я подыму сейчас крик на всю Белоруссию…
— Боже упаси! Откуда вы взяли?
Оттеснив Инну, Слободкин все-таки прошмыгнул в палатку.
— Ну как ты тут?
— Нормально. Вот лекарства, вот склад металлолома. — Кузя скосил глаза в сторону белой тряпицы, на которой лежало несколько осколков, похожих на антрацит.
— Значит, была операция?
— И ты туда же? Операция, операция! Да оно само из меня повылазило.
— Не верьте ему, — вмешалась Инна, — такие операции в нормальных условиях под общим наркозом проводят.
— Ну вот, теперь пошел разговор об условиях! Сказали бы лучше, что слышно. Самолеты есть?
— Самолеты, самолеты! — снова перебила Кузю Инна. — Вы же ранбольной, понимаете? Теперь уже по-настоящему, не как там.
— Самолеты есть? — повторил свой вопрос Кузя.
— Есть, — ответил Слободкин.
— Честно?
— За кого ты меня принимаешь?
— Тогда сегодня.
— Куда ты торопишься? Еще не все из леса вышли. Полежи денек-другой, все образуется, тогда и решим.
Слободкин поймал себя на мысли, что оба они действительно ни дать ни взять самые настоящие заговорщики. Инна, раскрыв рот, слушала и только всплескивала руками:
— Вы с ума сошли! Совершенно сошли с ума!..
Кузя не обращал на нее никакого внимания. Его сейчас интересовали самолеты и только они одни.
Инна вышла из палатки, и они остались вдвоем. Кузя немедленно перешел на шепот:
— Ты не подумай, что я шучу. Сегодня же ночью меня здесь не будет.
— Кузя, ты же взрослый человек.
— Мое слово твердое, ты знаешь. Не затем я сюда пробивался, чтобы в госпиталях отлеживаться.
— А раны твои как?
— Если пустят, как на собаке, позарастают. А ты-то как?
— Так же и я.
— Сам самолеты видел? Действительно новые?
— Видел. Новые. Только что с завода. Даже лаком пахнут, — приврал Слободкин, хотя отлично понимал, что никаким лаком пахнуть самолеты не могут.
Знал это превосходно и Кузя, поэтому сказал одно только слово:
— Брехун.
— Ну ладно, не будем спорить по пустякам. Да и шутки понимать нужно. Ходить можешь?
— Сколько угодно.
— Верю, верю. Но не сейчас. Вот стемнеет, я за тобой приду. Согласен?
— Не согласен.
— То есть как это?
— Брехун. Не придешь.
— Ну, не веришь — как хочешь.
— Я верю, когда правду говоришь, не верю, когда врешь.
— Я вообще никогда никого не обманывал.
— Поклянись.
— Мы с тобой не рыцари и не дети.
— Поклянись! — настаивал Кузя.
— Ну ладно, клянусь, черт с тобой.
— Вот это другой разговор. Вдвойне приятно от тебя это слышать.
— Почему же вдвойне?
— Во-первых, поклялся, во-вторых, грубо со мной говоришь.
— Непонятно.
— Только с совершенно здоровыми людьми говорят вот так, с больными нежно обращаются.
Кузя оставался Кузей даже сейчас. Спорить с ним было бесполезно.
— Так, значит, клянешься?
— Твоя взяла, поклялся уже, но остаюсь при своем мнении.
— Мнение твое меня в данном случае не интересует.
Теперь настала очередь Слободкина обижаться, и он сказал:
— Не интересует — тогда ищи себе в выручалы кого-нибудь другого, а я…
— Нет, нет! Мне нужен именно ты.
— Почему же именно?
— Ты сам ранен.
— Моя рана — царапина.
— Разные раны бывают, разные царапины, не будем считаться. И вообще давай ближе к делу. Во сколько заходишь?
— В двадцать три ноль-ноль.
— Вот теперь я вижу, ты действительно друг. Схлопочи где-нибудь сапоги, совсем человеком будешь.
— А твои?
— Мои куда-то упрятали. Сюда только попади!..
Слободкин обещал Кузе что-нибудь придумать.
— В крайнем случае рвану без сапог. А еще лучше — сходи к Браге и все честно скажи. Он для благородного дела из-под земли достанет.
Слободкин направился к Браге, хотя мало верил в успех своей миссии.
Узнав, в чем дело, Брага замахал было руками, но когда услышал, что сапоги нужны не кому-нибудь, а опять Кузе, заговорил совсем по-другому:
— Не лежится ему? Ясно! Разве такой улежит, когда рота в бой идет? Ты, например, улежал бы?
— Не улежал уже.
— Ах, хлопцы, хлопцы, ну що мени з вами робыть? А? Цэ вам не каптерка в Песковичах.
Поворчал-поворчал, потом вдруг спрашивает:
— Сорок перший?
— Не помню, товарищ старшина…
— Кто за вас помнить должен? Старшина, конечно. Ну, тогда знай — сорок перший.
Брага посетовал еще немного на трудности обстановки, потом сказал:
— Пошли.
Они отправились, конечно, в каптерку. Это учреждение немедленно возникало там, где появлялся старшина. В лесу ли, в болоте ли, расположились на ночной отдых или дневной привал, уже через десяток минут после остановки старшина занят делами ОВС — обозно-вещевого снабжения. Сначала собирает в одно место все «лишнее» — у кого портянку сверхкомплектную, у кого подковку к сапогу, у кого что. Глядишь, и малая походная каптерка уже начинает работать. Все предвидит, все учтет старшина — и когда ты без сапог останешься, и когда без скатки. Все предусмотрит, на каждый случай припасено у него словцо, которое посолоней, и на каждый случай доброе.
— Чтобы это в последний раз!
Понятно, товарищ старшина.
Сделает какую-то отметку на измусоленном клочке бумаги.
— До Берлина чтоб хватило! Смекаешь?
Откуда он брался тогда, этот Берлин? Только из уст старшины про него и слышали. А все-таки было приятно. Сказанет старшина «Берлин» — и словно перелом в войне наступает. Так и сегодня.
— На, получай для дружка своего, — шепнул он Слободкину, выволакивая из-под куста пару кирзовых.
Сапоги были дрянными, почти совсем разбитыми, и не похоже было на то, что соответствуют они нужному размеру. Но Слободкин был в полном восторге.
— Откуда это, товарищ старшина? Нельзя ли еще?
Брага красноречиво перевел разговор на другую тему:
— В роту-то когда?
— За нами дело не станет.
— За кем это за нами?
— За мной и Кузей.
— Ну-ну, вы с места-то не рвите. Поаккуратней. Ты-то, гляжу, ничего, а ему бы еще полежать. И до рэнтгэна надо бы…
8
Всеми правдами и неправдами Кузя и Слободкин к утру были в роте. Поборцев встретил их поначалу грозно:
— Откуда такая команда?
— Из медсанбата, товарищ старший лейтенант, — за двоих доложил Кузя.
— Кто разрешил?
Все присутствовавшие при этой сцене притихли, ждали, что скажет Кузя. А он посмотрел на стоявших вокруг товарищей, на Слободкина и опять за двоих ответил:
— Никто не разрешил, товарищ старший лейтенант.
— А как же?
— Сбежали…
— Что-что?..
— Сбежали, товарищ старший лейтенант.
— Вы это серьезно?
Слободкин сделал шаг и встал рядом с Кузей.
— Мы легкораненые, товарищ старший лейтенант…
— Вы отвечайте на вопрос. Сбежали?
— Сбежали.
Поборцев только руками развел. Потом вдруг так же неожиданно и так же подкупающе откровенно сказал:
— Ну что ж, понять вас, по совести говоря, можно.
Так Кузя и Слободкин снова вернулись в свою роту. А рота готовилась к боевым действиям «по специальности». Ребята совсем воспрянули духом, когда поняли, что снова становятся парашютистами. Правда, выброски массовых десантов пока не предвиделось, но зато небольшие группы для выполнения особых заданий срочно формировались и приводились в полную боевую готовность. Конечно, массовое десантирование, к которому парашютисты так тщательно готовились в мирное время, устроило бы их гораздо больше, это было бы настоящее дело, но обстановка на фронте пока подсказывает другие формы борьбы с врагом.
Поборцев объяснил подробно, чем это вызвано, и все его хорошо поняли. А потом старшина от себя кое-что добавил:
— Мы и над Берлином дернем еще колечко. А покуда — дрибнесенько!
Как откапывал он такие слова в своем украинском языке, ребята не знали, но какое бы слово ни молвил, любое было понятно без всяких дополнительных объяснений.
И так — дрибнесенько. Но и это совсем не плохо, кто понимает. Представить только: группа в составе трех человек получает задание — выброситься в районе Гомеля, взорвать мост, по которому днем и ночью идут немецкие войска! А в группе, предположим, Брага, Кузя, Слободкин и еще несколько таких же молодцов. Хорошая группа? Отличная! Таких групп создается много. У каждой свое задание.
Но до того, как лететь, всем дается общий отдых — три дня.
— Три дня и три ночи, — уточняет Брага. — Жаль, нет моря под боком — целый отпуск бы получился.
И обращаясь непосредственно к Кузе:
— Везет тебе, Кузнецов: из отпуска в отпуск! Недавно в Москве побывал, теперь снова.
Недавно? Услышав это, Кузя задумывается. Действительно, вроде бы не так уж много времени прошло с тех пор, как он мерил шагами улицы и переулки Москвы, выполняя поручения товарищей, а сколько воды утекло, сколько событий! Сколько протоптано в сторону от границы, в глубь нашей земли! Сколько горя встречено! И конца не видно еще…
Старшина становится вдруг сердитым:
— Все-таки тот ваш немец прав был — слишком быстро мы отступаем, слишком легко города сдаем.
— Мы с вами ни одного города не сдали, товарищ старшина, — поправляет Слободкин.
— А Песковичи?
— Спалил их немец.
— Было б все в порядке, так не спалил бы. И мы не ползали б по лесам, как комашки.
— Мы тут все-таки ни при чем.
— Одни ни при чем, другие ни при чем. Кто при чем-то? Просто зло берет, сколько мы отмахали.
— Но мы ведь не виноваты. Так сложилось. Теперь на самолеты сядем — и в бой.
— Все равно душа болит. Болит, понимаешь?..
Старшина хотел еще что-то сказать, но только вздохнул.
Умолк и Слободкин, потом его кто-то окликнул, он ушел. Разговор сам собою кончился.
В этот момент где-то коротко, но отчетливо буркнул орудийный гром и тут же замер. Старшина насторожился:
— Наши или нет?
— Одно из двух, товарищ старшина, — отозвался Кузя, до сих пор мрачно молчавший.
— Вот за что я тебя и люблю, Кузя: муторно на душе, на фронте еще хуже, а ты настроения не теряешь.
— Не теряю, товарищ старшина. Настроение — это как город: потеряешь — вернешь не скоро.
— Я ж говорю, молодец! — улыбнулся Брага, но видно было: нынче он все-таки сам не свой. — Настроение солдата — это на фронте все.
Старшина достал кисет, развязал, протянул Кузе.
— Завернем?
И опять Кузя почувствовал: болит душа у старшины. Болит не только сегодня, и вчера, и позавчера болела, но он обычно не показывает это на людях, а вот сегодня не в силах совладать с собой.
— Товарищ старшина, а у вас что-то случилось?
— Чего там! Одна у нас всех боль, а еще вот…
— А еще?
— Письмо получить бы из дома…
Кузя посмотрел на старшину. Брага такой же, в сущности, человек, как и все в роте. Только некогда ему о себе подумать. Не известно было даже, есть ли у него семья, есть ли дом. Оказывается, дом есть. При этом слове Кузя задумался. Есть или был? Брага ведь с Украины родом, а Украина, как и Белоруссия, уже давно вся в огне. Спросить? Или не надо? Не надо, решает Кузя. Зачем? Если нужно, Брага сам скажет.
Брага ничего больше не сказал. Ни о чем не спросил его Кузя. Они молча курили, думая каждый о своем, только два разных дымка над их головами свертывались в один — голубоватый, летучий, не растворявшийся в воздухе, несмотря на то что его сносило ветром, который не сильно, но настойчиво дул с той стороны, где все слышней начинал ворочаться гром орудий.
— А вот теперь сразу и наши, и чужие, — сказал Кузя, — хорошо слышно.
И действительно, канонада закипала в двух противоположных сторонах. Впечатление создавалось такое, будто десантники находились где-то как раз посредине, между двух огней.
— Наши там, — сказал, шагнув с кочки на кочку, Кузя, и вдруг лицо его перекосилось от нестерпимой боли.
— Э-э, хлопец, куда ж ты годишься! — Брага пристально посмотрел в глаза Кузнецову.
— А что?
— Ты сказал же — здоровый.
— Здоровый. Нога вот только…
— Враль ты, Кузнецов.
— Что? — виновато спросил Кузя.
— На задание не идешь.
— Товарищ старшина! Здоровый я, здоровый!..
— Я думал, ты честный человек, поверил тебе, а ты, оказывается… Ну как это назвать? Кто за тебя отвечать будет?
— Я ж не маленький, товарищ старшина. Все понимаю.
— Ничего не понимаешь. О себе беспокоишься. Как бы тебя кто в слабости духа не обвинил. А о деле не подумал. С такой ногой любую операцию завалить можно. Несознательный ты элемент, Кузнецов. Я тебе как человеку уважение сделать хотел, а ты… И Слободкин твой такой же. Вот разделаюсь с тобой и тут же примусь за него. Где он? Скрылся уже? Учуял, в чем дело.
— Где-то тут он, товарищ старшина.
— Далеко от меня не уйдет. Разыщу и доставлю до докторов.
— Товарищ старшина…
— И слушать больше не хочу. Отставить!
Кузя хорошо знал характер Браги. Уж если он что решил, так тому и быть.
— Давай покурим еще раз на прощанье, — сказал старшина.
Курили долго, сердито сплевывая едкие табачные крошки с языка, обжигая пальцы и косясь друг на друга.
— Теперь пошли, — сказал Брага, глотнув последний клубок дыма.
— Обратно?
— Сам понимаешь.
Когда они приблизились к палатке, пропахшей лекарствами, Брага последний раз внимательно поглядел в глаза Кузе.
— Попрощаемся.
Они обнялись. Брага не видел, как в этот момент снова от острой боли исказилось лицо Кузнецова. Не видел и Кузя, каким печальным стал на мгновение взгляд старшины. Но только на мгновение. Потом они легонько оттолкнули друг друга.
— Бывай…
— Что сказать медицине-то? — спросил Кузя.
— Все на старшину вали. Старшина, мол, меня уволок, он же и вернул обратно. Приказал, чтоб лечили лучше. Повтори.
— Товарищ старшина…
— Повтори, тебе говорят.
— Чтоб лечили лучше…
— Правильно. Эх, Кузя, Кузя! Сколько мы с тобой?..
— Ни много ни мало — два годика.
— Два годика и начало одной войны. Длинная она будет или короткая, не знаю, но кончать ее хотел бы с такими хлопцами.
Брага еще раз обнял Кузю и, резко повернувшись, пошел от него не оглядываясь.
9
Начинались активные боевые действия парашютистов.
Прибывший к десантникам представитель Ставки приказал диверсионные удары по врагу сделать непрерывными, все нарастающими. Одновременно следовало осуществить переброску в наш глубокий тыл закаленных в боях парашютистов в формирующиеся новые десантные соединения, используя для этой цели и раненых, которые смогут в скором времени вернуться в строй.
Представитель Ставки так и сказал:
— Всех раненых немедленно доставить в Москву. Там их капитально отремонтируют, и мы еще с вами им позавидуем.
Услышав это, Брага порадовался за Кузю и Слободкина, которого он-таки «разыскал и доставил» к докторам. Гордый за свою военную профессию, старшина действительно никак не мог допустить мысли, что его боевые друзья станут вдруг бескрылыми комашками. Нет, нет, он с большим уважением относился к артиллеристам, саперам, конникам и конечно же к самой матушке пехоте. Без них нет и не может быть победы на войне. Но воздушный десант все-таки превыше всего. Кто может сравниться с десантом? Разве что летчики…
— Навестили бы дружков перед отправкой, — сказал старшине Поборцев.
— Уже навестил, товарищ старший лейтенант, — ответил Брага. — Ранения у них неопасные, но ослабели очень. Месячишко продержат, пожалуй.
— Ну, это в общем-то к лучшему, — удовлетворенно вздохнул Поборцев. — Попадут в настоящее дело по крайней мере. Большой десант впереди.
— Большой, — в тон ему повторил Брага.
Послушал бы кто-нибудь этот разговор! Только что из одной переделки. Накануне следующей. А размечтались уже о той, в которую оба поспеют или нет, еще неизвестно. Хорошо бы поспеть, конечно. Кузя и Слободкин вот почти наверняка поспеют.
— Счастливчики, — вздохнув, сказал командир роты. — Нечего их жалеть.
— Я и не жалею. Мне роту жалко, товарищ старший лейтенант. Без таких людей и рота не рота.
— Рота всегда рота, тем более такая, как ваша. А из этой роты новые будут. Вы знаете, как на фронте погода меняться начнет?
— Как?
— С внезапности. То немецкая внезапность была. Мы с вами ее хлебнули. Через край даже. Потом наша внезапность пойдет. Пусть отведают. Вот ветер и повернется.
— И скоро?
— Думаю, недолго ждать, ноги у меня гудят, как всегда, к перемене погоды.
Оба рассмеялись. Не очень еще весело, но и не мрачно уже. Нет, нет, не мрачно. Озорно скорее, по-молодому. Да и в самом деле, ведь молодость еще военная, но молодость, черт возьми! Брага так и сказал:
— Погляжу я на вас — совсем вы еще молодой, товарищ старший лейтенант.
— С чего вы взяли?
— Не приуныли ничуть.
— А зачем унывать? Профессия не та. Потом у меня зарок: когда тебя бьют, головы не вешай, а то прибьют насмерть.
— Правильный зарок.
— И еще есть один.
— Какой же?
— Сдачи давать. Всегда, при всех обстоятельствах. Так меня отец мой учил. А это тоже весело надо делать, иначе каюк.
…Два самолета почтя одновременно выруливают на взлетную дорожку. Тяжелый, неповоротливый «ТБ-3». И маленький, юркий «У-2». В разные стороны лежат их пути.
Одному предстоит пересечь линию фронта, дойти до назначенного места и выбросить группу десантников, получивших особое задание. Только что из тыла и снова в тыл. Но теперь уже с крыльями за спиной, полностью эпикированные, заново вооруженные.
Другому лететь на восток. На фюзеляже не нарисован красный крест, но машина перевозит раненых. Все будет идти как по расписанию: несколько часов полета, посадка на энском аэродроме. Тишина госпитальных палат, зоркий глаз докторов…
Два самолета. Большой и маленький. По одной взлетной полосе почти одновременно они подымутся в воздух. По земле будут бежать в одном направлении, словно уходя на общее задание. Потом развернутся, каждый ляжет на свой курс. Но люди, улетающие в том и другом, перед взлетом, наверное, еще увидят друг друга.
Так и есть! Вот один все время нервно высовывается из кабины «У-2». Это Кузя. Слободкин улетел часом раньше, и теперь он уже далеко. Встретятся ли они? Этого никто не знает. Война есть война…
Кузя внимательно всматривается в открытую еще дверцу бомбардировщика. Кто летит там? Брага? Его невозможно узнать: с головы до ног во всем новом — в новом шлеме, в новом комбинезоне. А рядом? Поборцев? А дальше? У Кузи глаза разбегаются. Он знает, до взлета остались считанные минуты, может быть, секунды даже, хочется поймать взглядом и того, и другого, и третьего… А тут еще сумерки. И моторы уже гудят. От этого вроде бы еще темней становится. Или это обман зрения? Конечно, обман, при чем тут моторы? Стояли б самолеты чуть ближе, можно было б всех разглядеть, всем помахать рукою. А моторы ревут все сильней и сильней. Глаза начинают слезиться от поднятого винтами ветра…
Дверца «ТБ-3» закрывается. Машина начинает содрогаться и подпрыгивать на месте, словно от нетерпения. Сейчас разбежится и взлетит.
Разбегается. Черные колеса не катятся, а бегут, перескакивая через неровности дорожки. Еще не в воздухе, но уже не на земле. Вот они наконец совсем отрываются, повисают под плоскостями. В полете!
«ТБ-3» ложится на заданный курс. На взлетную дорожку выруливает новый бомбардировщик…
Нет, кажется, никакого единого пульта управления боевыми машинами. Они взлетают порознь, послушные только тем, кто сидит за их штурвалами. Но от каждого из самолетов тянется незримая ниточка и завязывается в узелок в одном месте.
Под соснами распласталась палатка, с виду точно такая же, как и те, санитарные, распялена на четырех колышках. Но в палатке на крохотном столике карта, из угла в угол расчерченная, густо усеянная флажками. Люди, склонившиеся над картой, все время поглядывают на часы.
Через час будет на месте группа Поборцева.
Еще через час выброска группы Капралова.
Вот-вот достигнут цели группы Карицкого, Пахмутова, Гилевича…
В палатке так тихо, что слышны звуки морзянки в наушниках радиста: та-та, та-та-та… Или это комар забрался под полог? Нет, нет, ни один комар на свете не смог бы прожить в этой удушающей махре и нескольких минут, а морзянка поет-заливается который час без умолку.
Представитель Ставки придвигается к радисту поближе:
— Ну как ваш «комарик»? Справляется?
Радисту нравится шутка:
— Вполне, товарищ полковник. Только разве это комарик?
— Точная копия.
— Вы бы в этих болотах с наше побродили. Вот это был комарик! Туча на туче. Невозможно это представить, товарищ полковник. Только испытать надо. Ну совсем заел гнус, хуже всякого немца.
— Вполне с вами согласен.
Радист удивленно глянул на представителя Ставки, но ответить сразу ему не сумел — опять загудело в наушниках. Радист настороженно слушал минуту, другую, потом снова обратился к полковнику:
— В московских краях таких комариков нет, конечно.
— Да как вам сказать… Скорей всего нету. А в общем врать не буду, не знаю.
— Вы ж из Москвы?
— Нет, я питерский. Там учился, там работал. А последние три годы…
Опять заныла морзянка. Полковник умолк, но ни он, ни радист не хотели обрывать разговор на полуслове. Как только наступила пауза, радист спросил:
— А последние три года?
— В Пинске служил. Точнее — в Пинских болотах. Слышали?
— Вы же представитель Ставки, товарищ полковник! С высокими полномочиями…
— В Москве не был лет десять уже. А насчет полномочий не ошиблись — и высокие, и из самой Москвы. Только получил их по радио. По такому же вот «комарику», как ваш.
Радист недоверчиво поглядел на полковника, но возражать начальству не стал. Покрутил задумчиво ручку настройки, потом сказал:
— Теперь все понятно. Это даже лучше, считаю.
— Что именно?
— Что свой брат фронтовик в таком высоком чине. С места-то всегда все видней и понятней…
— Так как же насчет комаров? — перебил радиста полковник. — Хуже немца, значит?
— Насчет комаров, товарищ полковник, вы сами, выходит, знаете.
Всю ночь работал радист. Всю ночь слетались в палатку вести одна другой важней и серьезней.
Из-под Барановичей сообщал Поборцев:
«Сели точно в назначенном пункте. Приступаем к выполнению задания».
Из Столбцов докладывал Капралов:
«Железная дорога Брест — Москва взорвана. Связь с партизанами устанавливается».
Карицкий, Пахмутов, Гилевич один за другим радировали о том, что под прикрытием ночи они благополучно миновали заградительный огонь зениток, приближаются к месту выброски…
Маленькая палатка становилась штабом больших операций.
— Вот что значит крылышки появились! — сказал представителю Ставки радист, доложив об очередном сообщении десантников.
— Крылышки? — удивился полковник.
— Так у нас парашюты зовут. Стосковались мы по настоящим делам, товарищ полковник. Кое-чем промышляли.
— Я сам стосковался. Что поделаешь! На войне всяко бывает. Это уж вы мне поверьте. Ну ничего, теперь наверстаем. А насчет комариков вы совершенно правы. Попили они нашей кровушки. Но их пора отошла. И немцев пора отойдет.
— Отходит вроде.
— Скоро вашего большого десанта черед. Очень хорошо кто-то выразился — большой десант!
— А вы-то случайно не десантник, товарищ полковник? — спросил радист.
— Бомбардировочная авиация. Два раза имел удовольствие прыгануть. Так у вас говорят, кажется?
— Точно! — обрадовался радист. — Прыгануть! А если еще придется?
— Можно и еще. Вот нога подживет маленько, и я в вашем распоряжении. — Полковник легонько постучал палочкой по носку сапога.
— Ранены?
— Заживает уже. А у вас что с рукой?
— В общем-то ничего серьезного, но пока никуда не пускают.
— Выходит, мы с вами одного поля ягода, — добродушно заметил полковник.
Радист надел снятые было наушники, в палатке снова застонала, заныла морзянка — тревожно, настойчиво, требовательно.
Ночь кончается. Утро застает тарахтящий «У-2» уже где-то совсем далеко за Днепром.
Сырая полутьма несется на Кузю со скоростью сто двадцать километров в час. Видит он только голову пилота перед собой и маленькое зеркальце, в которое тот наблюдает за своим единственным пассажиром. От этого однообразия, от усталости и ритмичного шума мотора Кузя засыпает.
Что снится ему? Что грезится?
…Лежит он в чистой белой комнате, и девушка в чистом белом халате сидит возле него. Можно протянуть руку и дотронуться до девушки, так близко она сидит. Девушка похожа, ой, как похожа на Инну Капшай, только волосы чуть светлей. Он боится шевельнуться, чтобы видение не исчезло. Она смотрит на него очень внимательно и спрашивает:
— Хорошо вам? Как себя чувствуете?
Разные видел Кузя сны в своей жизни, но никогда не слышал во сне так явственно человеческий голос над самым ухом. Так явственно, что не ответить просто невозможно. И губы сами выговаривают:
— Спасибо большое, все хорошо. Это кто сказал? — сам себя вслух спрашивает Кузя.
— Это вы сказали, — слышит он голос девушки.
Она кончиком пальца касается Кузиного плеча.
Нет, она положительно похожа на Инну!
— Как зовут вас?
— Лена. А вас?
— Кузя.
— Как-как?
— Фамилия моя Кузнецов.
— Это я уже знаю. Как ваше имя?
— В роте меня зовут Кузей, зовите и вы так же.
— Если вам нравится…
— Очень нравится.
— А я в школе Елкой была…
— Хотите, и я стану так вас называть?
— Нет, что вы…
— Ну, как знаете, а меня, если можно, все-таки Кузей. Ладно? Очень прошу. Хотя на самом деле я Саша, Александр Васильевич.
— Так как же все-таки — Кузя, Саша или Александр Васильевич?
— Лучше всего — Кузя. Я ведь в госпитале?
— В госпитале.
— Ну вот, а мне в роте быть хочется. Вы меня поняли?
— Поняла.
— Долго это будет продолжаться? — Кузя обвел грустным взглядом белую комнату.
— Не знаю. Сначала как следует подлечат, потом переведут в батальон выздоравливающих.
— Куда-куда? — удивленно переспросил Кузя.
— В батальон выздоравливающих. Неужели не слышали? А еще военный.
— Вот именно — военный, а не больной, поэтому и не знаю. Но звучит обнадеживающе — батальон выздоравливающих! — Кузя сделал ударение на последнем слове.
Он замечает, что в белой комнате стоят еще три кровати, но они пусты.
— А это для кого? Для таких же, как я?
— Это уж кого судьба пошлет. Наш госпиталь только начинает работу. Третьего дня прибыли.
— Не из Москвы случайно?
— Мы с вами почти в Москве находимся.
— Честное слово?
— Честное-пречестное!
Кузя грустно улыбнулся: и эта, наверное, как Инна Капшай, прямо из школы…
— А где он, этот ваш батальон выздоравливающих?
— До него еще дойдет дело.
Кузя задумался. Полежал молча, потом вроде невзначай спросил:
— Вы не знаете, где мои сапоги?
— Эти штучки мне уже знакомы.
— Какие штучки? — как можно более искренне удивился Кузя.
— С сапогами.
— Послушайте, Лена, я тоже ведь не ребенок. Бежать никуда не собираюсь, честное слово.
— Честное-пречестное? — по-детски передразнила сама себя Лена.
— Честное комсомольское.
— Тогда зачем же вам сапоги?
— Друга буду искать. Может, и он в этом госпитале.
— Как фамилия?
— Слободкин. Не слышали?
— Так сразу бы и сказали. Если будете себя хорошо вести, передам записку.
— Нет, вы это серьезно, Леночка? — Кузя даже присел в кровати.
Лена решительным движением руки уложила его на место.
— Александр Васильевич!
— Леночка, буду выполнять любые ваши приказания, только дайте лист бумаги и карандаш. Умоляю вас!
— Ладно, ладно, знайте мою доброту.
— Если бы здесь кто-нибудь был кроме нас с вами, я бы непременно расцеловал вас, Леночка.
— Вы хотите, чтобы наша дружба кончилась, не успев начаться?
— Просто от радости ошалел, вот и все.
— Большой друг, наверно?
— Ближе у меня никого теперь нет. Огонь и воду вместе прошли…
— Ну, пишите, пишите, только, чур, коротко — скоро обход.
— Всего несколько слов.
Между Кузей и Слободкиным установилась такая бурная переписка, что Лена с трудом справлялась с обязанностями почтальона. Слободкин вспомнил свои лучшие дни, когда ему писала Ина и когда он строчил ей послание за посланием. Слободкин писал теперь Кузе, но все время думал об Ине, и часть его нежности невольно переносилась на друга. Кузя скоро заметил это. Он впервые ощутил всю силу любви Слободкина к Ине. Но мало было это понять и почувствовать, надо еще было сделать вид, что боль слободкинского сердца наружу не вырвалась, остается при нем. Нельзя же было обидеть друга бестактным словом. Даже имени Ины Кузя не называл в своих письмах. Но утешить его, как мог, он, конечно, старался. Он писал, что скоро они вырвутся из госпиталя, получат «крылышки». Хорошо бы, конечно, в свою родную роту, но если это невозможно, то в любую другую, только скорее бы, скорее! Нужно отомстить немцам за все — за разбитые Песковичи, за уничтоженные города и села Белоруссии, Украины, за Прохватилова, за артиллериста Сизова, за солдата, который сам себе копал могилу на своей же земле. Поборцев, Брага, Хлобыстнев, Коровушкин сейчас громят врага. «Представляешь, — писал Кузя, — как взрывают они мосты, поезда, самолеты, танки… Ты знаешь, никогда не думал, что я так чертовски завистлив. Зависть не дает мне покоя ни днем ни ночью. Завидую нашим. Всем, кто в бою».
«А у меня новость! — отвечал Кузе Слободкин. — Великая новость! Подслушал, знаю совершенно точно: скоро нас переводят в батальон выздоравливающих! Порядок! Ну, а в батальоне том мы не задержимся. Там на нас крылышки сами вырастут. Между лопаток у меня уже чешется…»
«Может, тебе в баню сходить?» — шутил в ответ Кузя.
«Грубый ты человек. Грубый и невоспитанный, — ворчал в следующем послании тот, — даже писать тебе неохота».
Но переписка продолжалась со все нарастающей силой больше двух долгих недель. Прервалась она только в тот день, когда Слободкин и Кузя одновременно оказались в батальоне выздоравливающих. Это еще не боевая часть, но в коридорах уже не разит тошнотворной микстурой, а главное — сапоги! Теперь под ногами твердая почва. И друг рядом — койка к койке. «Еще не в воздухе, но уже и не на земле», — смеется Кузя, вспоминая, как последний раз взлетал перед ним «ТБ-3». Конечно, не на земле! Теперь настоящим боем пахнет. Парашютным.
На медицинской комиссии Слободкин дышит как можно более ровно и спокойно. До того старается, что пульс у него становится учащенным, словно после хорошего кросса. Доктор сдвигает на лоб очки, внимательно смотрит ему в глаза.
— Это что ж? Волнуемся?
— Волнуемся.
— Вы волнуйтесь, да меру знайте. Так ведь только на нестроевую вытянете.
— Товарищ военврач…
— Дышите!
Хриплые, лающие вздохи вырываются из груди Слободкина.
— Как спали сегодня?
— Не спалось совсем что-то.
— Оно и видно. Нервишки, значит. У парашютистов нервов быть не должно.
Доктор пошевелил лежавшими перед ним бумагами, еще раз поглядел на Слободкина, потом на Кузю, который покорно стоял рядом.
— А ребрышки надо бы подубрать.
— Только не на этом харче! — почувствовав, что вопрос решается в его пользу, осмелел Слободкин. — Два месяца не ели, и тут не еда.
— Тут не санаторий, — вежливо отпарировал доктор.
— Мы это заметили, — опять съязвил Слободкин.
Доктор снова углубился в свои бумаги. Помолчал, постучал остро отточенным карандашом по столу.
— Ну, вот что я вам скажу. Наберитесь, Слободкин, терпения.
Первая же ночь в батальоне выздоравливающих прошла тревожно.
«Может, и в самом деле нервишки? — спрашивал сам себя Слободкин. — Раньше, бывало, спал по команде. Теперь всю ночь глаз сомкнуть не могу. Где Ина? Что с ней? Посчитал бы сейчас мой пульс доктор!»
И Кузя тоже беспокойно ворочался без сна. Под утро не выдержал, решил выйти в курилку. Нагнулся пошарить под койкой сапоги и замер от неожиданности — такие же сапоги, как его, стояли и возле койки соседа, и у следующей за ней, и так до самой двери. Точно выровненные, как по струнке, пятками вместе, носками врозь.
Кузя видел только сапоги, но впечатление было такое, будто все солдаты уже в строю — стоят, застывшие по команде «смирно!». Тихо, настороженно стоят, лишь легкое, спокойное дыхание слышится…
Кузе не хотелось шевелиться. Долго лежал, свесившись с койки почти до самого пола, и все глядел на сапоги.
— Ты что? — сквозь дрему спросил Слободкин.
— Ничего. — Кузя еще раз глянул на воображаемый строй. — Завалилось вот кресало куда-то, никак не могу отыскать.
— У меня есть. Вставай, покурим.
— Скоро подъем?
— Через час.
— Еще всласть накуримся.
— На что ты все-таки уставился там? — Слободкин проследил взглядом за тем, куда так пристально смотрел Кузя.
— Больно красиво сапоги стоят. Ровно, как по линеечке.
— В каждой роте есть свой Брага, наверно. Иначе б так не стояли.
Они вышли, осторожно ступая по узкому проходу между койками. Закурили.
— Интересно, где он сейчас? — спросил Слободкин.
— Кто?
— Брага.
— Там. Далеко.
— А Поборцев?
— Тоже хороший человек.
— И Коровушкин, и Хлобыстнев.
— Все хорошие.
— Только не надо о них так. Они не сплошают, будь у Верочки.
— У Верочки?
— Пословица такая в нашей школе была. Будь уверен, словом.
— В школе? Ах, да, да, Ина еще говорила…
Кузя был не виноват, Слободкин сам завел этот разговор.
— Интересно, ее-то судьба куда забросила?
— Кого?
— Ну, не школу же.
— У своих родственников в деревне, наверно. Адреса, жаль, вот не знаю.
— Эх, ты! — вырвалось у Кузи откуда-то из самого сердца. — Подумай, может, вспомнишь.
— Не знаю, говорят тебе, никогда и не думал, что пригодится. А хочешь, скажу тебе, что сейчас она делает?
— Скажи.
Слободкин посмотрел на часы.
— Пишет письмо. Она всегда в это время мне письма писала. На каждом дату и время ставила: такое-то число, семь часов ноль-ноль минут.
— Ты это серьезно?
— Совершенно серьезно.
— А ты, пожалуй, прав. Сидит где-нибудь в уголочке и пишет.
— Утешить хочешь? — недоверчиво поглядел на приятеля Слободкин.
— Чудик ты, Слобода. Тебе такое счастье выпало, все тебе завидуют, а ты…
— В ней-то я не сомневаюсь. Я тебе про твои насмешки говорю.
— И опять чудик. Еще раз совершенно серьезно: сидит сейчас и пишет тебе письмо.
Слободкин еще не очень доверчиво, но уже не сердито посмотрел на Кузю.
— Покурили?
— Покурили.
— Вышли на минутку, а проболтали чуть не целый час. Вот-вот побудка.
Когда приятели отворили дверь из курилки, в нее ворвался зычный, прополоснутый холодным утренним воздухом голос дневального:
— Подъем!
«Совсем как в первой роте», — подумал Кузя.
— Совсем как у нас в первой! — сказал Слободкин.
Морщась и слегка покряхтывая от не совсем еще заживших ран, поблескивая в полумраке белыми бинтами, вставали солдаты. Вставали быстро, словно боясь отстать друг от друга. Одевшись, выбегали во двор — строиться. Там их ждал уже старшина. Сапожки на нем, как у всех старшин, хромовые, куценькие. Прошелся перед выровнявшимся строем, будто бы еще полусонно поглядел на заспанные лица бойцов. И вдруг:
— Смирно! По порядку номеров рассчитайсь!
— Первый.
— Второй.
— Третий…
— На месте шагом марш! Запе-вай!
Эх, махорочка, махорка, Подружились мы с тобой. Вдаль глядят дозоры зорко. Мы готовы в бой!..Слова песни шевельнули облетевшие ветви деревьев, густо посаженных вдоль казарменного забора. Тяжелые капли упали с них к ногам солдат.
В батальоне выздоравливающих начинался новый день.
ВСЕ ПО МЕСТАМ!
Глава 1
Ветер рвал шинель так, будто хотел разодрать надвое. Слободкин шел, пригибаясь, заслоняя ладонью лицо, проваливаясь в снег, сбиваясь с дороги. Да и была ли вообще дорога? Волга стала рано, но не протоптали еще через нее ни одной уверенной тропки. Вот Слободкин и шагал наугад и на каждом шагу оглядывался: один берег, тот, что за спиной, все рядом и рядом, а тот, что впереди, словно приморозился к дальней дали.
У Слободкина возникло ощущение, будто он застыл в беспредельном пространстве. И от своего недавнего солдатского прошлого никуда не ушел, но и к новой судьбе не приблизился.
Он шагал, продираясь сквозь ветер, глотая морозный воздух — аж изнутри все выстудило.
Что и говорить, неприветливо встречала Слободкина Волга. Сурово, будто укоряла в чем-то. И это было всего обидней. Каждому ведь не расскажешь, как решали его судьбу доктора. Полистал-полистал председатель комиссии бумаги Слободкина и спросил:
— Так, так, так… Работать хотите?
Слободкин смущенно пожал плечами.
— Как чувствуете себя сейчас?
— Хорошо!
Он сказал твердо, без запинки, а то еще, чего доброго, опять к медицине в лапы.
Кто-то из членов комиссии усмехнулся:
— Все они как сговорились!
Слободкин осмелел:
— Мне бы к своим, в десант, поскорее.
Председатель, будто не слышал его слов, принялся расспрашивать:
— Чем занимались до войны?
— В ФЗУ учился, не закончил только.
— На станке работать умеете?
— На токарном немного.
— На каком?
— «Комсомолец» шефы нам подарили, списанный в расход. После занятий гайки на нем для рыбалки резали.
— Гайки? — оживился председатель. — Прекрасно! А что такое ДИП, знаете?
Слободкин задумался.
— Неужто не слышали? «Догнать и перегнать» — самоточка высшего класса!
— Помню, помню! Видел! С большим суппортом?
— Ну, наконец-то!
Председатель комиссии и Слободкин все больше увлекались разговором. На несколько минут они словно забыли про войну, про то, что до фронта подать рукой.
Здесь, в этой комнате, отгороженной от войны всего лишь тонкой дощатой переборкой, вспыхнул огонек давно отошедшей мирной жизни, и люди жадно прислушивались к родным, близким, необходимым и уже почти незнакомым, канувшим куда-то в вечность словам — станки, работа, рыбалка…
— А резец заточить сумеете? — продолжал председатель, и чувствовалось, как ненасытно сладко ему просто произносить эти слова. Как ласкают его слух ответы Слободкина, кажется, уже совсем позабывшего, где и перед кем он находится.
— Резец? Приходилось…
— И ре́зьбу нарезать сможете?
Председатель именно так и сказал «ре́зьбу», и это обрадовало Слободкина: значит, свой брат, рабочий, понимает все тонкости дела!
Слободкин начинал чувствовать себя все более свободно, будто не грозная комиссия перед ним, а такие же, как он, обыкновенные рабочие люди, с ладонями, иссеченными железом, изъеденными наждаком и тавотом.
— И ре́зьбу! — ответил Сергей. — По всем правилам заводской грамматики, которую тоже, как и дело свое, надо знать назубок, иначе какой же из тебя рабочий?
— А шестеренки подберете?
— Шестеренки? Если придется…
Председатель постучал карандашом по столу, косо покрытому заляпанной чернильными кляксами скатертью, закурил.
— У кого есть какие вопросы?
Члены комиссии молчали.
Председатель смахнул табачные крошки с папки, в которой были подшиты бумаги Слободкина, и сказал:
— Так вот, Слободкин, на фронт мы вас еще пошлем. Но сперва надо поработать в тылу. Потом сами вызовем.
И тут же добавил:
— Не мы, так другие вызовут. Слышите, как долбит?
Из-за деревянной стенки донесся далекий, прерывистый гул бомбежки.
Оправившийся от смущения Слободкин пришел в себя, стал доказывать комиссии, что он уже сейчас совершенно здоров, зачем его в тыл списывать, ему давно пора «туда». Но медики остались непреклонными: к строевой сейчас не годен — и точка.
Председатель поднял папку, словно взвешивая ее на ладонях. Разговор был окончен.
Левый берег Волги, до которого Слободкин наконец-то дотащился, сурово встретил одинокого путника. Ветер усиливался с каждой минутой, шинель надувалась, как парус, и Сергей все больше жалел, что выбрал именно кавалерийскую. Тогда, в каптерке госпиталя, шинель показалась ему самой подходящей: длинная, добротная, она обещала тепло, надежную защиту от холода и дождя, — а сейчас, путаясь в ногах, мешала идти. Глубокий, до самого хлястика, разрез, казалось, подымался все выше, и стужа уже вовсю хозяйничала на спине Слободкина.
Вот бы повстречать ему теперь человека, расспросить, как добраться до комбината. Да где там! Волжская степь пустынна, безлюдна. Особенно зимой да еще под вечер. Слободкин шагал, окоченевший, голодный, злой, в сотый раз проклиная тот день и час, когда выпала ему нестроевая доля.
Сумерки все сгущались. Те «полчасика», которые Слободкину посулили на станции, давно кончились. Он мерил и мерил сугробы, но никаких признаков комбината не было. Не набрел он и ни на одну деревню, хотя кто-то из станционных сказал, будто деревни здесь кругом, «в крайнем случае впустят, в каждой избе поселились эвакуированные — народ сознательный, сами прошли через лихо».
Когда стало совсем темно и последние силы уже покидали Сергея, он ударился грудью обо что-то невидимое. Пошарил рукой — больно укололся, но обрадовался: перед ним была туго натянутая колючая проволока. Комбинат!
Через несколько минут оказался у проходной и был препровожден в заводоуправление. Там было ненамного теплей, чем на улице, но Слободкин, переступая с одной окоченевшей ноги на другую, остановившись у двери с надписью «Отдел кадров», почувствовал, что еще не совсем богу душу отдал. Когда вошел в кабинет к начальнику, даже одна озорная мысль пришла в голову.
— Как добрался? — изучая документы Слободкина, спросил начальник.
— На троллейбусе, — не мигнув глазом, ответил Сергей.
— А ты шутник.
— Вот, смотрите. — Слободкин показал начальнику исцарапанную о колючую проволоку ладонь. — Хорошо, рейс оказался недлинным, а то пришлось бы вам калеку на работу брать или обратно в госпиталь.
— Нет уж, я тебя никуда не отпущу. Мне люди вот как нужны. Ты хоть знаешь, куда попал?
— На комбинат.
— Совершенно верно, помещение это для комбината строили. Но въехать сюда довелось нам. Сейчас называют пока комбинатом. Для конспирации. Так и ты называй.
— Все понятно.
— А приехали мы сюда не так уж намного раньше тебя. И тоже почти что на «троллейбусе». — Начальник протянул Слободкину свои руки, все в ссадинах, кровоподтеках, с отбитыми, синими ногтями. — Все на них. Но станки сберегли, так что работать есть на чем.
Начальник рассказал Слободкину, как эвакуировались из Москвы в самое трудное время середины октября. Как под бомбежками везли людей и уникальное оборудование. Как прибыли сюда, как вместо готовых корпусов нашли только кирпичные стены — без окон, без дверей, без крыш. Как строили бараки и землянки, торопились скорей наладить производство.
— Завод наш много значит в войне. Без приборов все — и самолеты, и танки, и корабли — слепые котята. Впрочем, ты сам из авиации, понимаешь это прекрасно. С каких прыгал?
— С «Тэ-Бэ-третьих».
— На них наши автопилоты стоят.
— Знаю.
— Знаешь, что именно наши?!
— Нет, что автопилоты, знаю.
— Ну и как?
— Не прибор — сказка! Когда нам первый раз показали, не сообразили даже, что к чему.
— Потом?
— Потом видим — головастая штука.
Начальник встал из-за стола, решительно направился к шкафу, извлек оттуда распиленный насквозь высокий черно-белый дюралевый ящик.
— Вот модель, полюбуйся. Вся премудрость в ней. Про гироскопический эффект смекаешь?
— Самую малость.
— Но все-таки маракуешь, по глазам вижу.
— Я же из авиации…
— То-то. Пошлю тебя в самый ответственный цех — в девятый. Согласен?
— Мне все равно, — почему-то смутился Слободкин.
— Как это все равно? Ты ясно говори, согласен или нет?
— А девятый — это какой?
— Контрольный. Он за все отвечает.
— Но я ведь токарь, а не мастер ОТК.
— Там всем работа найдется. Я тоже не такелажник, а руки, видишь, не заживают.
Начальник поднял трубку телефона и, пока набирал номер, продолжал разговор со Слободкиным:
— Сейчас я тебя на довольствие поставлю и койку в бараке организую. Завтра с утра приступай. У нас под конец месяца самая запарка… Алло, алло! Комендант?.. Товарищ Устименко, сейчас к вам новое пополнение явится, устройте… Как не можете? Вы меня плохо слышите?.. Это Савватеев говорит. Да, Савватеев. Фамилия товарища Слободкин. Он фронтовик, так что как следует, ясно?
Что такое «как следует», Слободкин узнал позднее, а сейчас по измерзшему, уставшему телу его пробежала согревающая волна предчувствий чего-то необыкновенного, уютного, давно не виданного.
От начальника отдела кадров Слободкин направился к Устименко.
— Тю! Так же ж мени б сразу и казалы! Кавалерия! Давай пять! — воскликнул комендант, увидев перед собой бойца в длиннополой шинели.
Слободкин улыбнулся, протянул руку.
— Только я не кавалерист, пехотинец. Правда, воздушный.
— Да?.. Десант? А шинэлка?
— Это в госпитале меня так обрядили.
— Впрочем, все одно. И десант пехота, и кавалерия тоже пехота, тильки ей казалы: «По коням!»
Устименко засмеялся — громко, раскатисто, как, наверное, смеялся где-то там, на своей Украине, и еще не успел разучиться.
— С вами не пропадешь, — сказал Слободкин.
— А зачем пропадать? Живы будемо — не помрем! Вот тильки вопрос: будемо ли живы?
Когда Слободкин ввернул в разговоре какое-то украинское словечко, Устименко просиял:
— Хлопчик! Размовляешь на ридной мове?!
Пришлось Слободкину еще раз разочаровать Устименко:
— Старшина у нас был с Полтавщины. От него вся рота научилась.
— А писни не можешь спивать? Ой, хлопец, хлопец, душа моя стоне без писни! Без хлиба могу. Даже без горилки проживу, если недолго. А без нее вот тут сосет. — Он положил руку на грудь и вздохнул.
Устименко показался Слободкину чем-то похожим на старшину Брагу. Чувствовалось, что коменданту тоже пришлось по сердцу новое пополнение, — хоть и не кавалерист, и не украинец, а парень свой, вот только пристроить его некуда: в бараках так тесно, что ни одной койки больше не втиснешь.
— Могу положить тебя пока в конторе.
— В конторе так в конторе, — ответил Слободкин.
Устименко спросил:
— Ты с мылом «КА» имел дело?
— Первый раз слышу.
— Тебе с дороги надо в баню сходить. Десяток минут попаришься — целые сутки человеком себя чувствуешь.
Слободкина не пришлось долго упрашивать, тем более что Устименко вручил ему кусок этого самого мыла.
— Помоемся вместе. Миномет, а не мыло! Любую тварь — наповал, только глаза береги! А обмундирование в дезкамеру. Через пивчаса ридна маты тебя не узнае.
Слова эти обернулись такой горькой правдой, какую и сам Устименко не имел в виду. Помылись, стали одеваться, и тут обнаружили, что отличная, комсоставская шапка Слободкина превратилась в дезкамере в бесформенный, съежившийся клубок кожи и меха и не пожелала налезть на голову хозяина…
Слободкин попробовал пошутить — шутка получилась натянутой. Не нашелся и Устименко. Он только беспомощно развел руками, присвистнул и выругался.
— Шо ж робить? В нас тут не тильки шапку, жменю махорки достать проблэма.
Слободкин вспомнил, как Брага не разрешал бойцам опускать уши шапок, когда рота возвращалась по морозу из бани. Сейчас он готов был примостить свой треух хоть на самый затылок, лишь бы он только держался, дьявол! Выругавшись вслед за комендантом, Сергей намотал на голову вафельное полотенце и в таком виде двинулся навстречу метели.
Так закончился первый день Слободкина на новом месте. Спал он в нетопленной конторе, одетый, обутый, не снимая своей «чалмы». Утром только перемотал ее покрепче, подтянул потуже ремень и направился в девятый цех. По дороге Сергей понял, что он не один в таком наряде — то тут, то там попадались ему люди, одетые самым невероятным образом. Многие шли в самодельных тряпичных валенках, на иных были плащи, для тепла подпоясанные шпагатом, кепочки-ветродуйки, на ком-то он увидел даже сандалии. Человек был похож в них на гуся, спотыкавшегося на каждом шагу.
В толпе одетых таким образом людей, обгонявших друг друга, по узкой, проторенной в снегу дорожке Слободкин добрался до корпуса, где находился девятый цех, с нелегким чувством перешагнул порог. Сперва думал, что сорвет с головы дурацкую чалму сразу, как только закроет за собой дверь. На деле вышло по-другому. Холод здесь был почти такой же, как на дворе.
Цех встретил Слободкина шумом и громом. Готовую продукцию тут же упаковывали и готовили к отправке. Шагая вдоль длинных рядов одинаковых по форме, выкрашенных в светло-желтый цвет ящиков, Сергей читал старательно выведенные на них адреса других заводов, находящихся в разных концах страны. Скоро ему стали попадаться ящики с еще не заколоченными крышками, и он увидел квадратные черно-белые корпуса автопилотов.
Работавшие вокруг люди не замечали Слободкина. Он прошел из одного конца цеха в другой раза два, прежде чем его остановил худой, заросший человек:
— Вы от Савватеева?
— Так точно, — по-военному ответил Слободкин.
— Будем знакомы. Я Баденков, начальник девятого. Это хорошо, что вас в мой цех направили. Задыхаюсь без рабочих рук. Вы токарь?
— Учился на токаря.
— Нам люди всех специальностей нужны, — оживился Бабенков. — Девятый — самый главный на заводе. Испытываем автопилоты на точность, на выносливость. И тут же регулируем, устраняем недостатки. После нас уже нет никого. Малейшая наша невнимательность будет стоить человеческих жизней….
Смерив новичка внимательным взглядом, начальник спросил:
— Устроились-то как? Куда вас приткнули?
— В конторе пока. Отоспался после дороги. Устименко мне даже матрац раздобыл.
— Это он вам, наверно, свой отдал. Матрацы здесь на вес золота.
Слободкин рассказал про вчерашнюю баню. Рассказал с шуткой, будто не придал никакого значения истории с шапкой, но Баденков расстроился:
— А вот это уже легкомыслие. Кто-кто, а комендант должен помнить, что меховые вещи в дезкамеру сдавать нельзя. У нас здесь холода знаете какие?
— Знаю уже.
— Нет, еще не знаете. Тут нередко бывает «минус сорок градусов мороза ниже нуля», как говорит Устименко. Он у нас человек обстоятельный, непременно и «минус» да еще и «ниже нуля» добавит, чтоб ошибки не было. Теперь не успокоится, пока шапку вам не раздобудет. И достанет, поверьте моему слову! Из-под земли, но выкопает. Неравнодушен к фронтовикам.
Они шагали по цеху — туда и обратно — вдоль ровных рядов желтых ящиков, которым, казалось, не было конца: место запакованных, которые рабочие куда-то относили на руках, тут же занимали другие.
Баденков показывал Сергею свои владения с гордостью.
— Без нас с вами, Слободкин, все пропеллеры России остановятся, все колеса. Запомните и поймите это хорошенько с самого первого дня. Если этого не уяснишь, не почувствуешь — пропадешь. Или в нетопленном бараке загнешься, или с голодухи на тот свет. Простите за откровенность… Каганов! Каганов! Идите-ка сюда! — прервав разговор со Слободкиным, громко окликнул кого-то Баденков.
К ним подошел бледный, остролицый человек в синем халате.
Каганов оказался мастером цеха, правой рукой начальника.
— Самый первый колдун, — сказал Баденков, — не смотрите, что мальчик еще, это он только прикидывается.
«Мальчику» на вид было лет тридцать. «Интересно, — подумал Слободкин, — кем же они меня считают?»
Каганов подмигнул ему сквозь замасленные очки, перевел разговор на деловую тему:
— Николай Васильевич, я думаю, мы новенького пока за станок поставим. Больше нету сил у меня за каждой мелочью к токарям бегать, уговаривать, уклянчивать.
Тут Слободкин впервые немного струхнул: не осрамится ли? Внешне бодро, но на самом деле с содроганием сердца шел он за Кагановым в дальний и темный конец цеха, где в сыром углу примостилась красная от ржавчины самоточка.
Только было Слободкин, вздохнув, вооружился наждаком и масленой тряпкой, чтобы привести в божеский вид поступившую в его распоряжение технику, как Каганов дал первое и притом совершенно срочное задание:
— Сбегайте скоренько в пятую — там на вибраторе только что шестерни полетели, придется наращивать зубья.
И исчез так быстро, что Слободкин даже не успел узнать, что такое «пятая». Впрочем, догадаться о том, что «пятая» — номер бригады, было нетрудно, гораздо сложнее оказалось сыскать ее в разбежавшемся чуть не на версту цехе. Попадавшиеся навстречу Слободкину люди все куда-то спешили, вид у них был озабоченный, занятой, каждому было явно не до него. На вопрос: «Где пятая?» — они на ходу, точнее, на бегу, кивали в неопределенном направлении и торопились дальше — каждый по своим делам, со своей заботой. Слоняясь по цеху, Слободкин начинал испытывать чувство стыда и неловкости. Вот они трудятся, у всякого свое задание, свой участок, своя цель. Он только путается под ногами, мешает работать. Совершенно беспомощен и никчемен. Это они еще не знают, какой из него «токарь»! Что же будет потом?..
Невеселые мысли Слободкина увели бы его далеко, если бы на выручку не пришла сама бригада.
— Эй! Ты не пятую ищешь? — сердито окликнул его чумазый парень в телогрейке, промасленной до такой степени, что она казалась кожаной.
— Пятую.
— Я пятая. Где тебя столько времени черти носят? Тебе мастер что сказал?
— Шестерни полетели…
— «Полетели, полетели»! — передразнил его чумазый. — Ты уж не подумал ли, что улетели они совсем? Вот, полюбуйся, я сам их снял, пока ремонта твоего дожидался.
У ног Слободкина, прямо на земляном полу, лежали три щербатые шестерни — у каждой не было и половины зубьев.
— Твоя работа? — в свою очередь рассердился Слободкин.
— А я тут при чем? — развел руками парень.
— Если б уход за шестернями был, они бы еще сто лет прослужили. Так где же твоя бригада?
— Ты что, глуховат малость? Сказал же тебе — я и есть пятая.
— Ах, вот оно что… — понял наконец Слободкин. — И большое у тебя хозяйство?
— Для одного человека вот так хватает! Испытываю автопилоты на вибраторах. Ну, давай, давай ремонтируй, некогда мне.
Чумазый исчез так же неожиданно, как появился.
Слободкин опять остался наедине с невеселыми мыслями. Они, как поломанные шестерни, поворачивались медленно, со скрежетом, одним искрошившимся зубом ломая другой. Вот получил задание, нашел пятую бригаду, выяснил размеры аварии. Приступай к делу, да побыстрей, не теряй ни минуты. Все верно, и все наперекосяк: какой бы он ни был плохой, но все-таки токарь, а мастер подбросил ему работенку чисто слесарную. И как это легко и просто у него получилось: «Придется наращивать зубья»! Конечно, придется. Куда теперь денешься? Но слесарного инструмента под рукой нет, и вообще Слободкин отродясь не починил сам ни одной шестерни. Видел только, как другие это делали. Правда, вспомнил сейчас все, до малейших подробностей. И как надо спилить остатки выкрошившихся зубьев, и как просверливать отверстия для крепления новых, и как резьбу метчиками нарезать… И еще вспомнил Слободкин, что он солдат, что в любом, самом трудном деле должен, обязан даже найти выход. «Сообразить и доложить!» — учил его старшина Брага.
Поздно вечером, свалившись без сил на койку в промерзшей конторе, Слободкин не мог как следует вспомнить, где и как отыскал он метчики, сверла, напильник, в каких тисках зажал все три шестерни по очереди и всем трем не только «вставил» новые зубья, но и опилил их ровно, точно, аккуратно. Он делал все это с каким-то дьявольским наслаждением, словно доказывал Баденкову, Каганову, «пятой бригаде», а самому себе, может быть, в первую очередь: руки его кое-что умеют, голова на плечи не только для этой дурацкой чалмы посажена.
Так прошел первый рабочий день Слободкина. День был знаменателен и тем, что принес ему знакомство еще с одним человеком в шинели — Прокофием Зимовцом. Уже в первую минуту они поняли, что судьба свела их вместе совсем не случайно. Известно, солдаты сходятся быстро и по каким-то особым, необъяснимым законам. Уже по тому, что Зимовец отсыпал из тощего кисета махорку для нового знакомого, тот почувствовал, что перед ним человек не только добрый, но и сам немало протопавший по солдатским путям-дорогам.
— Десантник? — спросил Зимовец.
— Откуда знаешь?
Круглое веснушчатое лицо Зимовца тронула едва заметная улыбка.
— Да об этом уже весь цех говорит. Кого только тут нет! Теперь еще и воздушная пехота будет. Трудно тебе придется здесь — приварок не тот. Ты к десантным разносолам привык — у нас сырое тесто взамен хлеба, и то не каждый день.
— Как сырое?
— Очень просто. То дров нет, то муки. То и того, и другого сразу. Сегодня как раз такой денек выпал. Мы их знаешь как зовем, такие дни?
— Ну?
— Разгрузочными.
— Зачем?
— Чтобы не так тошно было терпеть до следующего. Посмеемся — вроде легче станет.
— Был у меня в роте дружок Кузя, тоже все острил насчет разгрузочного да разгрызочного.
— Разгрызочного?
— Придумали вместе с ним, когда в окружении сырую картошку грызли. И еще грибы.
— Тоже сырые?
— Ага.
— Понятно.
— И тебе, чувствую, досталось?
— Спрашиваешь!
Восстанавливая сейчас в памяти этот разговор, Слободкин подумал о Кузе. Где он теперь? Что с ним? Вернулся в роту? Или попал в другую — первую встречную, маршевую? Или напоследок и к нему придрались доктора и упекли в какую-нибудь дыру вроде этой? Слободкин никак не мог сравнить свое теперешнее положение с тем недавним, хотя тоже не героическим, но все-таки воинским. Тут, в одиночестве, он мог себе в этом признаться откровенно и честно. Конечно, никаких подвигов он лично не совершил. И Кузя, пожалуй, тоже. Но немца все же били? Били! И еще как! А теперь? Тыловик, нестроевик и еще много «ик», от которых, как задумаешься, нервная икота начинается. Или это от стужи?
Слободкин пробовал получше закутаться шинелью, но холод подбирался к нему со всех сторон, особенно через разрез, и он снова и снова ругал себя за то, что выбрал кавалерийскую.
Но все мрачные мысли вскоре вытеснила одна, не угасавшая в нем ни на минуту, тревожная, неотступная мысль об Ине. Что случилось с ней в первый день войны? Что произошло потом? Жива ли? Здорова ли? Как отыскать ее на этой земле, где все сдвинулось со своих обычных мест — и люди, и заводы, и даже целые города? И все продолжает еще двигаться, вращаться по какому-то непонятному, заколдованному кругу — без остановки, без передышки. И скорость круговерти все возрастает, ветер все сильнее свистит в ушах. Все сильнее, все отчетливей…
Слободкин начал прислушиваться к вою ветра за окном, к ветру сумасшедшего вращения, и два звука слились в один — грозный, пронзительный, заглушающий все остальные.
Через некоторое время в нестерпимый вой этот ворвались сперва неясные, отдаленные, потом все более отчетливые лающие звуки зениток — это уже был не плод воображения, а самая настоящая реальность.
Слободкин вскочил с постели, подошел к задраенному картонными ставнями окну, в узком просвете увидел исполосованное прожекторами небо.
«Что творится, Инкин, поглядела бы, что творится!» Слободкин давно привык беседовать с Иной, как будто она была возле него. Он всегда ощущал ее рядом.
В дверь стукнули. Слободкин вздрогнул от неожиданности.
— Эй! Хлопец, ты жив тут?..
Нового знакомого он узнал и в темноте — могучие плечи коменданта едва протиснулись в узкую дверь конторы.
— Вам тоже не спится? — спросил Слободкин как можно более ровным голосом.
— Некогда, веришь? Я к тебе зараз по дилу.
Комендант протянул Слободкину какой-то предмет, в котором тот на ощупь узнал пилотку.
— Вот спасибо! Большое спасибо! — смущенно воскликнул Слободкин, подумал и, чтобы хоть чем-то отблагодарить коменданта, добавил на чистом украинском: — Вид всёго щирого сердца!
— Благодарить потом будешь. Ты кажи, гарна? — Устименко нахлобучил пилотку сперва на свою голову. — Гарнесенька! А ну, дай твою чуприну.
Слободкину пилотка оказалась великовата, но он сделал вид, что ни один головной убор за всю жизнь не сидел на нем так, как этот.
— А мени сдается — велыка. А?
— Нет, нет, в самый раз. Смотрите.
— Ну ладно. Теперь хоть на солдата похож. А ну, давай зараз побачимо, що на воле творится.
Они распахнули дверь и вышли. Не то ветром, не то взрывной волной пилотку тут же сорвало с головы Слободкина. Он кинулся за ней в сугроб.
Устименко сокрушенно и в то же время как-то очень по-деловому пробасил:
— Велыка.
Над ними где-то совсем близко провыла бомба. Слободкин незаметно поднес руки к вискам, чтоб еще раз не сдуло пилотку. Устименко повторил:
— Велыка, велыка…
— Нет, нет, нисколько. Это вам показалось.
— Ты про пилотку?
— Про пилотку.
— А я про фугаску. Скильки кило?
Слободкин сказал не очень уверенно:
— Пятьдесят…
— Пид сотню! — поправил его Устименко. — И недалеко впала.
— С полкилометра, — прикинул Слободкин.
— Точно. Засекли они нас, хлопец. Кажну ничь, кажну ничь ходят, як к соби до дому.
— Значит, ночной смене больше всего достается?
— Всим хватае.
В этот момент два прожектора поймали в крест немецкий бомбардировщик, шедший на большой высоте, и повели его, не отпуская. К двум белым лезвиям прибавились другие. Сойдясь в один ослепительный пучок, они заставили самолет заметаться, и летчик сбросил, видимо, сразу весь свой груз — за Волгой через несколько секунд прокатилась длинная серия взрывов.
Зенитки захлопали с новой силой.
Казалось, вся степь вокруг комбината была огромным полигоном, заставленным орудиями, беспрестанно изрыгавшими гром и огонь, огонь и гром.
— А вы привыкли уже, — сказал Слободкин, глядя на то, как спокойно вел себя Устименко.
— Трохи. По цехам зараз знаешь радио шо говорыть?
— «Воздушная тревога»?
— Ни. В нас свое придумали: «Вси по мистам!»
Глава 2
Наутро Слободкин пришел в цех уставший после трудной ночи, но довольный тем, что на голове его торжественно восседала хоть и сползавшая то на одно, то на другое ухо, но все-таки пилотка.
Первым заметил это Зимовец:
— Слобода, поздравляю с обновой!
Слободкину это понравилось:
— Хорошо назвал меня, так всегда теперь зови, ладно?
Зимовец поглядел на приятеля удивленно.
— Меня в роте все так звали, особенно Кузя, дружок мой, — объяснил Слободкин.
— Ах, вот оно что! Запишем. А меня знаешь как?
— Ну?
— Прохой.
— Почему же?
— Потому что Прокофий. Но ты меня Зимовцом величай, так как-то солидней.
Весь этот день Слободкин работал на станке, который еще накануне, после починки шестерен, постарался привести хоть в какой-нибудь порядок. Кое-как оттер ржавчину. Не всю, конечно, не со всех частей, но все-таки на станок хоть глянуть стало можно. Перебрал резцы — калека на калеке! Отковать бы их все заново, а потом заточить по всем правилам. Но об этом и речи быть не могло. В соседнем цехе высмотрел наждачный круг — разболтанный до последней степени. Бросовый, одним словом. Попробовал и его к делу приспособить. Подобрал валявшийся в углу железный костыль, начал на полных оборотах сбивать эксцентричность. Сперва ничего не получалось — острые иглы огня, наждака и металла секли лицо, норовили влететь в глаза. Пришлось орудовать вслепую, зажмурившись. Посшибал кожу на сгибах пальцев, но своего добился — камень бежал все ровнее, раскаленная от трения самодельная шарошка «дробила» меньше, наконец почти совсем успокоилась.
На исправленном круге Слободкин стал затачивать резцы. Теперь уже каждый из них еще больше выравнивал собой кромку быстро вращающегося камня. Чем плотнее Слободкин подводил жало резца к наждаку, тем более точным становился его бег вокруг собственной оси.
«Знаешь, Инкин, — заговорил он мысленно с любимой, — камень — тот же человек. Бьет, „дробит“ на больших оборотах. Вот-вот, кажется, на куски разлетится от центробежной силы. Но вступит в единоборство с металлом, пообломает об него бока, выровняется и оттого сделается еще сильнее, еще надежнее».
Слободкин все больше увлекался работой. Ему уже и с Иной говорить было некогда. Не замечал и кровоточащих ран на пальцах, только кашлял от едкой наждачной пыли. Сквозь сощуренные, воспаленные веки напряженно всматривался в предельно малый, почти несуществующий просвет между наждаком и застывшей на месте сталью, стремясь возможно более верно определить угол заточки. И горка приведенных в порядок резцов медленно, но верно росла на тумбочке.
Это было вчера. А сегодня уже со всех сторон, изо всех бригад шли к Слободкину с делами — одно неотложнее другого, словно он всю жизнь только тем и занимался, что стоял у станка в девятом цехе.
С непривычки болела спина, подкашивались ноги, руки не хотели слушаться, но виду Сергей не подавал. Из-под резца тянулись и падали на пол одна кудрявая стружка за другой. Он уже утопал по колено в этих стружках, но у него не было даже минуты отгрести их в сторону. Так и работал до самого перерыва.
Когда прозвенел звонок, пришел Зимовец и сказал:
— Ты как конь стреноженный. А ну, подыми копыто!
Прокофий помог ему высвободиться из цепких металлических пут.
— Поздравляю тебя, Слобода!
— С чем? — устало спросил Слободкин.
— В честь твоего первого дня на заводе дирекция дает обед всем рабочим.
— Первый день вчера был, — внес уточнение Слободкин.
— Ну, вчера ты только прицеливался, примеривался, а сегодня вон сколько металла в стружку загнал. Если не хочешь помереть с голоду, двигай за мной, живо! — И Зимовец решительно потащил Слободкина к выходу.
На лестнице их подхватил человеческий поток и понес куда-то вверх — ко второму этажу, к третьему…
На одной из лестниц движение застопорилось. Несколько минут, стиснутые со всех сторон толпой, стояли молча.
Зимовец, оглядевшись и поняв, что они далеко не последние, мрачно заметил:
— Посредине даже лучше стоять. Теплее.
— И это надолго? — с напускным равнодушием спросил Слободкин.
— За мисками — нет.
— А мы за мисками?
— Сначала за ними, потом за супом, потом за тестом.
Со ступеньки на ступеньку подымались люди. Усталые, изможденные лица. Казалось, расступись сейчас толпа — и кто-то, потеряв равновесие, не удержится на ногах. «Вот тот, в запотевших круглых очках, например», — подумал Слободкин. Чем внимательнее он присматривался к этому человеку, тем больше удивлялся. Стекла очков были похожи на две круглые белые ледышки, через которые увидеть что-нибудь было просто невозможно. А протереть стекла в толпе было нельзя. Впрочем, человек в очках, кажется, и не пытался этого делать — медленно, но верно тащил его людской поток туда, где все отчетливей погромыхивал алюминий. «Миски», — догадался Слободкин и почувствовал острый приступ голода.
Вскоре Сергей увидел, как, стоя на каком-то возвышении, человек в белом колпаке, ловко орудуя поварешкой, подбрасывал тягучие куски теста, и было хорошо слышно, как они звучно падали на дно подставленных мисок.
Слободкин еще минуту назад верил и не верил в то, что придется есть тесто взамен хлеба, а тут вдруг решил, что ничего в этом нет такого, тесто, в сущности, тот же хлеб.
Словно угадав его мысли, Зимовец сказал, подбадривая приятеля:
— А печка в брюхе. Сама испечет.
Кто-то прошелся насчет дирекции. Кто-то поддакнул. Кто-то возразил:
— Дирекция ни при чем. Я третьего дня на совещании был у Лебедянского, ему прямо в кабинет принесли то же самое. И порция не больше нашей.
Суп наливали в те же миски, тем более что редкий человек не съедал «пайку» тут же, не сходя с места. Проглотил свою и Слободкин. Ему даже показалось, что давно не пробовал ничего более вкусного. А когда в его миске задымилась темно-зеленая мутная жижа, которую Зимовец авторитетно назвал гороховым супом, Слободкин и вовсе повеселел.
— Теперь совсем другой разговор! — признался он Зимовцу по пути в цех. — Теперь и железо не таким холодным будет, а то просто руки прихватывает.
Поздно вечером, уходя из цеха, Слободкин задержался возле одной из установок, где шли испытания приборов. Он и раньше, у себя в воздушно-десантной бригаде, много раз видел автопилоты. Но тогда он смотрел на них только с любопытством, теперь не мог оторвать глаз. Ему показалось вдруг, что крохотный самолетик светился и плыл не в вакуумном пространстве внутри прибора, не за круглым защитным стеклом. В воображении Слободкина он превратился в тяжелый «ТБ-3», на котором они летали, из люков которого прыгали. Сейчас это была не деталь прибора — настоящий самолет летел в настоящем небе. А то, что он при этом еще и светился, придавало возникшему видению какую-то сказочность…
Как завороженный, стоял Слободкин перед прибором, укрепленным на установке, резко раскачивавшейся в разные стороны, так, чтобы имитировать любые возможные эволюции самолета в воздухе. Автопилот глубоко заваливался то на один, то на другой бок — самолетик, покрытый светомассой, все время при этом сохранял свое положение в пространстве, показывая летчику, где его машина и где земля. И не только показывал — прибор подавал команду специальному устройству, и оно выравнивало рули без помощи человека.
«Чудо, настоящее чудо! — восхищался Слободкин. — Прибор, а думает, действует. Жаль, не видишь ты, Инкин, не стоишь здесь со мной. Нет, ты тут. Только я тебе все равно объяснить не могу, как он думает, какой его „мозг“. Сам знаю о нем чуть-чуть, приблизительно».
— Интересуетесь? — сквозь металлический грохот услышал Слободкин и обернулся.
За его спиной стоял Каганов. И без того бледное лицо его было сейчас совсем восковым.
— Как вы себя чувствуете? — невольно вырвалось у Слободкина.
— В общем и целом.
— Наверно, устали?
Каганов все-таки решил перевести разговор на другую тему:
— Так, значит, интересуетесь? Вы же из десанта, все это вам знакомо уже.
— В общем и целом, — в тон ему ответил Слободкин. — Но если совсем честно сказать, то не особенно. Только принцип действия автопилота нам объясняли, а все остальное — лес, совершенно темный.
— Принцип — это уже многое.
Каганов начал рассказывать Слободкину об автопилоте. И чем больше подробностей узнавал Сергей, тем восторженнее смотрел на прибор. Давно уже следующая смена заступила, одних людей у испытательных установок сменили другие, а Каганов и Слободкин все разговаривали. Домой пошли вместе. Разговор продолжался и по дороге. Остановившись у одного из бараков, мастер сказал:
— Здесь я живу. Хотите посмотреть?
Слободкин смутился. Каганов взял его за локоть.
— Пошли, пошли! Ужина не обещаю, но плитка у меня есть, так что водички согреем.
Они вошли в коридор, освещенный маленькой лампочкой.
Круглые очки Каганова блеснули двумя тусклыми льдинками. «Совсем как у того, в столовой», — подумал Слободкин. Там, в цехе, мастер казался Слободкину уставшим, но сильным, мужественным человеком, а вот перешагнул порог барака и сразу сделался маленьким, незащищенным существом.
Впрочем, только несколько коротких секунд жило это ощущение. Каганов протер очки, толкнул плечом дверь в свою комнатенку, пропустил вперед Слободкина, бочком вошел сам, включил свет и как ни в чем не бывало сострил:
— Раздевайтесь!
Слободкин поглядел на стены, покрытые инеем, и сказал:
— Не комната, а спальный мешок на гагачьем пуху! И по размеру такая же.
Каганов включил самодельную электроплитку, сооруженную из двух кирпичей и укрепленных между ними стеклянных трубочек с намотанными витками нихрома. Напряжение было таким слабым, что Слободкину показалось, будто нить вовсе оборвана. Он даже нагнулся над плиткой, намереваясь исправить повреждение, но Каганов сказал, что все в порядке и нужно только время.
Они погасили свет — в темноте постепенно обозначались бледно-розовые блики, еле различимые, прерывающиеся, будто кто-то поминутно включал и выключал рубильник на станции. Долго сидели у едва подающей признаки жизни плитки, грея над ней озябшие руки. Когда Каганов поставил на плитку чайник, малиновые блики исчезли вовсе.
Поеживаясь, Слободкин достал остатки махорки, поделился ею с Кагановым, и в комнату снова возвратилось призрачное, чисто символичное, но все-таки хоть глазом ощутимое тепло.
— Если и закипит, то часа через два, не раньше, — сказал Слободкин.
— А куда нам спешить? Подождем. Кстати, вы о себе еще ни словом не обмолвились.
О многом они поговорили в тот вечер.
Слободкин вспомнил свою службу в воздушно-десантной бригаде, друзей-парашютистов. Рассказал, как довелось встретить им войну, как дрались с немцами в белорусских лесах, как после ранения, отбившись от своих, они с дружком Кузнецовым, которого все в роте звали Кузей, продолжали бить немцев, как вышли из окружения и угодили в госпиталь, как пытались оттуда бежать и что из этого вышло.
Каганов рассказал о заводе. О том, как под бомбежкой грузили его на платформы, как под бомбами добирались сюда, как здесь почти каждую ночь над заводом воют фугаски.
— Сегодня тихо пока, но он свое дело знает. Завтра двойную дозу вкатит. Мы его изучили. В бараки и в те попасть норовит.
Чайник так и не закипел, вернее, у них не хватило терпения его ждать. Когда где-то в глубине его чрева раздались первые, еле уловимые звуки от движения воздушных пузырьков, Каганов разлил содержимое чайника в две алюминиевые кружки, бросил в каждую из них по крупинке сахарина, и чаепитие началось.
— Алюминий тем хорош, — сказал Слободкин, — что и не очень горячий чай в нем кажется кипятком и даже губы обжигает. Потому солдат алюминий ценит больше золота.
— Драгоценный металл, — согласился Каганов. — А дюраль — его родной брат.
И он снова заговорил об автопилотах, о том, как наладили тут их производство.
— Даже цех ширпотреба имеется, и продукция — первый сорт.
Оказалось, что кружки, из которых они пили сейчас, изготовлены из отходов производства на самом заводе, что миски и ложки в столовой, — того же происхождения.
Слободкин начинал проникаться все бо́льшим уважением к людям, с которыми довелось познакомиться за дна первых дня. Голодные, холодные, неустроенные, они, если вдуматься, совершают подвиг. Он много читал об этом в газетах, слышал по радио, но по-настоящему величие их труда почувствовал здесь — вчера и сегодня. Ему вдруг представилось, как миллионы людей проводят ночи в заиндевелых стенах, обжигают губы об алюминий, как делят последнюю щепотку махорки и крошки сахарина, а утром полураздетые идут по снегу к своим станкам. И так вся Россия, вся страна.
— О чем вы? — спросил Каганов приумолкшего гостя.
— Да о многом. О том, что увидел у вас тут за эти дни.
Он рассказал Каганову, как довелось ему вчера мерить сугроб след в след за человеком в сандалиях.
Каганов вздохнул.
— Тут много всякого. Еще и не того насмотритесь. Самое главное, что народ не скис. Я на днях тоже догнал по дороге к станции одного в сандалиях. В самых обыкновенных, с дырочками. Идет себе, бормочет что-то. Рехнулся, думаю. «Эй, кричу, постой!» Оборачивается — щеки к скулам прилипли, глаза ввалились, но из глубины смотрят, представьте, спокойно, будто все в полнейшем порядке. «Не замерз?» — спрашиваю. «Местами», — говорит. «А ноги?» — «И ноги местами. Снег вон какой крупный сегодня, да и много его, снегу-то, весь в мои сандалии не попадет!»
Каганов помолчал, подержал руку над почти совсем потемневшей проволокой плитки, потом сказал:
— Если в газете про такого написать, скажут — враки. Пропаганда и агитация, скажут. Согласны?
— Если так рассказать, как вы сейчас, — поверят. Я бы на вашем месте обязательно написал — прямо в «Правду». Пусть все прочитают!
— «Правда» — это далеко и высоко. У нас тут многотиражка выйти грозилась. Листовку откатали уже. «Пишите, говорят, про героев тыла».
— Вот вы про сандалии и дайте им. Все прочтут. Знаете, как это можно подать!
— Вы уж не журналист ли случайно?
— Был когда-то редактором стенгазеты.
— Так, может, вас сосватать в редакцию?
— Нет, нет, ни в коем случае! Я на станке хочу. Потом автопилоты испытывать. Что угодно стану в цехе делать, только не это.
— Ну, как знаете. А то парторг ЦК Строганов, недавно назначенный к нам на завод, по всем цехам ходит, ищет вашего брата. В рабкоры я вас все-таки предложу. Я от парткома за печать отвечаю. И тема для вас уже есть — напишите, например, про Попкова Васю.
— Это кто еще такой?
— Вот тебе здравствуйте! Да он вам, говорят, вчера в печенку въелся. Чумазый, небольшого росточка.
— «Пятая»?..
— Да, да, «пятая»! Не знаю, поверили вы ему или нет, но он ведь в самом деле один в пятой бригаде. Одинешенек. Двоих дружков его в больницу свезли. Вот однолошадное хозяйство и образовалось. Стали ему напарников подбирать — он ни в какую. И в мирное время, дескать, друг дружку выручали, а сейчас и подавно один другого всегда заменит. Мы ему всякие доводы и резоны, а он свое: «До директора дойду, но пока не вернутся мои, сам тут справляться буду». И что же вы думаете?
— Настоял?
— Настоял! Комитет комсомола впутал, партком, но своего добился. Дошло действительно до директора — тот даже приказом это дело специально отметил. Так, мол, и так, в виде исключения и особенного энтузиазма комсомольца Василия Трифоновича Попкова… Тут мы, признаться, впервые и узнали, как его по батюшке величают. А то все Вася да Вася. От горшка два вершка, можно сказать. Но характером вымахал вон куда! И представьте — справляется. Я сперва караулил его, — боялся, зашьется, напорет чего-нибудь. Целую смену, как бесенок, от установки к установке мечется, а дело у него тонкое, деликатное, постоянно внимания требует. Проверил и перепроверил малого несколько раз — и с начала, и с конца и вразбивку. Все точно, все параметры под неусыпным призором у него, под строжайшим контролем!..
— Повезло вам с парнем, — перебил мастера Слободкин, — а я думал — так, мужичок с ноготок.
— Все так поначалу считают. Потом присмотрятся — перед ними чуть ли не богатырь.
— Ну, так уж и богатырь!
— Вот и вы смеетесь, не верите.
— Громкое слово очень.
— Громкое, верно. Но дело не в одном человеке в данном случае. Это явление — знамение времени, если хотите. На него смотрят другие, равняются. Тоже громкое слово, скажете?
— «Равняются» не громкое, — согласился Слободкин, — нормальное слово.
— Так я вам без преувеличения скажу, меня завидки берут, глядя на Попкова. Откуда столько энергии, столько силы? Остальная наша комсомолия за ним теперь хоть к черту на рога. В этом главное, в этом смысл его поступка, хотя сам он об этом и не знает, и не ведает. Согласитесь, Слободкин, только высокие духом люди способны на такое. И куда ни посмотришь, в какой уголок ни заглянешь, всюду встретишься с самой настоящей самоотверженностью. Всюду — не преувеличиваю. Есть у нас гальванический цех на заводе. Из всех вредных наивреднейший. Человек там в кислотных парах задыхается. Работают одни женщины.
— Почему только женщины? — удивился Слободкин.
— Ну, это как-то уж само собой сложилось. Считалось, видите ли, что в гальванике силы особой не требуется. А там по охране труда укороченный день, дополнительный отпуск и молоко полагается. За вредность. Был я в том цехе недавно — там директор завода Лебедянский митинг проводил. «Женщины, говорит, дорогие, ругайте нас и казните: плохо с молоком. И насчет шестичасового дня, сами видите, не получается. Давайте, дескать, вместе обсудим ситуацию…»
— Обсудили? — перебил Слободкин.
— Обсудили. Но как! Встает первой Мария Саввишна Панюшкина и заявляет: «От молока отказываемся и от шестичасового тоже. Добровольно. Так что не беспокойтесь, товарищ директор. Если разживетесь молоком, все ребятам, до последней капли, отдайте. Верно я говорю, бабоньки?» В один голос отвечают: «Верно. До последней капли». — «Но ведь вредное производство, — пробует ей возразить директор, — вы, Мария Саввишна, это лучше меня знаете». — «Знаю, говорит, но я вам по-нашему, по-рабочему, просто скажу: сейчас весь завод, вся Россия вредное производство. Не любит русский человек, когда над его головой „юнкерсы“ с бомбой летают. Вредно это ему. Так что запишите, товарищ директор, — отказываемся. До самого конца войны, на сколько нужно, одним словом. И от молока, и от шестичасовки. А насчет отпуска что говорить? Какой теперь, к лешему, отпуск?»
Уже совсем ночью проводил Каганов Слободкина до конторы. Но и тут они не расстались.
— Обследуем теперь вашу хату? — спросил мастер.
— Заходите. То же самое, только еще минус плитка.
Они вошли, осмотрелись, сели на койку.
Каганов, подышав в кулаки, сказал:
— Да уж, что минус, то минус. Надо вам срочно в обыкновенный барак перекочевывать. Там хоть надышат за ночь.
— Комендант обещал подыскать местечко.
— Завтра же напомню ему. Скажу: «Коченеет новое пополнение». Вы не обидитесь? Обид между друзьями быть не должно.
А ведь и в самом деле, подумал Слободкин. За одну ночь они почти подружились. Как странно бывает в жизни. Даже имени Каганова он еще не знает. Да и тот не спросил, как зовут его. Никаких таких слов не сказали друг другу, не съели по пуду соли, только по крошке сахарина проглотили с водой…
— А теперь давайте знакомиться, — словно угадав ход мыслей Слободкина, сказал Каганов. — Меня зовут Львом Ильичом, Левой, короче, а вас?
— Сергеем.
— А по батюшке?
— Не стоит.
Слободкин хотел и Каганова попросить, чтоб он звал его Слободой, как в роте, но постеснялся. Одно дело с Зимовцом фамильярничать, а мастер есть мастер. Начальство.
Каганов снова догадался, о чем думает его новый приятель.
— Табели о рангах между нами не существует, договорились? А то я вас, ей-богу, продам в многотиражку, так и знайте.
Пришлось Слободкину рассказать про свое военное прозвище.
— Готовый псевдоним для выступления в нашей газете, — сказал Каганов.
— Самое обидное будет, если мы поссоримся из-за газеты, которой еще не существует в природе.
— Газета скоро выйдет, но мы не поссоримся и тогда. Спокойной ночи.
— А может… доброго утра?
Они одновременно потянулись к ставне — за ее картоном еще голубело холодное лунное небо, но на тропе, ведущей к заводу, уже появились первые фигурки людей.
Каганов глянул на часы и ахнул:
— Четверть седьмого… Ничего себе! Немедленно в цех!
— Как говорится, все по местам?
— Да. Сразу же, тем более что завтрака у нас не бывает.
— Это я понял уже. И ужина тоже.
— И ужина. Но опять поговорить как-нибудь вечерком мне с вами хотелось бы. Может, придете?
— А если вместе с Зимовцом? Можно? — спросил Сергей.
— Конечно. Ко мне один знакомый обещал зайти, только что из Сталинграда. Я вам дам знать тогда. Просветимся, а то в газетах много общих слов.
— Вы же отвечаете за печать.
— Только за свою, заводскую. Уж в своей-то мы напишем все как есть, будьте спокойны.
— И про Сталинград?
— Конечно.
— Да ведь это, поди, военная тайна.
— Тайн разглашать мы не будем, но правду людям надо говорить обязательно. А то слухи начинают ползти, а это хуже всего на свете.
В эти последние несколько минут Каганов окончательно расположил к себе Слободкина. Больше всего пришлась ему по душе прямота мастера, его умение относиться к человеку с доверием.
Следующие дни работы Слободкина на станке оказались еще труднее. К токарю-ремонтнику бежали изо всех бригад. Однажды перед перерывом к Сергею подошел Баденков и попросил, если можно, не ходить в столовую.
— Я договорился, вам обед принесут сюда. Выручите? Наш девятый последнее время на каждой летучке у директора долбают. Сегодня просто до скандала дошло. Мы всех держим. Скоро с меня да и со всех нас шкуры снимут…
Слободкин давно уже все понял и не нуждался больше ни в какой агитации, но Баденков, который только что пришел от директора, был в состоянии крайнего возбуждения и не мог остановиться:
— Я вообще хотел отменить перерыв в цехе, но там запретили. Сам Строганов звонил. Тогда я своей властью решил кое-кого накормить прямо тут, на рабочем месте.
— Ну и правильно, — вставил наконец слово Слободкин. — Я бы на месте директора вообще подумал о том, чтоб рабочих кормили в цехах. Нормальной столовой все равно нет.
— Я на всех совещаниях об этом твержу. Никто слушать не хочет. «У Баденкова, говорят, пунктик, мания реорганизации». Поддержите меня при случае! Вы фронтовик, к вашему мнению прислушаются.
Слободкин пожал плечами. Ему показалось противоестественным, что авторитетный на заводе человек, начальник одного из основных цехов, ищет поддержки у новичка, который и дорогу-то в злосчастную столовую еще не запомнил.
— Ну, мы еще поговорим с вами, Слободкин. Ваша помощь мне необходима во многом.
Оставшись один, Слободкин ушел в работу. Он забыл о голоде, о разговоре с начальником, о том, что не спал минувшую ночь. Быстро вращаясь, патрон станка обдавал лицо таким щекочущим запахом масла, от стружек исходило такое дразнящее тепло, что на сердце у Слободкина стало так хорошо и спокойно, как он не помнил, когда и было…
Но вот кулачки патрона больно ударили Сергея по руке. Он понял, что просто-напросто спал. Спал без зазрения совести именно тогда, когда должен работать в два, в три раза быстрее.
Он собрал все оставшиеся силы. Но через несколько минут снова ощутил ветерок от патрона, вращающегося возле самого носа. Это было уже опасным. Сергей выключил мотор, сел на ящик возле станка, стал выскребать табачную пыльцу из кармана гимнастерки и никак не мог наскрести даже на самую тощую закрутку.
В этот момент перед ним с торжествующим видом появился Зимовец. В руках он держал дымящуюся миску.
— Наворачивай! И хлеб, и первое, и второе в одной посуде. Фирменное блюдо завода — галушки!
Слободкин благодарно улыбнулся Зимовцу, запустил руку за голенище, извлек оттуда блестящую, расплющенную от долгого ношения в сапоге ложку и принялся есть — быстро, смачно, но аккуратно, не роняя ни одной капельки. Добравшись до половины миски, спросил приятеля:
— А ты?
— Я там еще рубанул. Меня Баденков из очереди вытянул, черным ходом провел — у него земляк работает поваром. «Ешь, говорит, и Слободу выручай».
— Так и сказал — Слободу?
— По-моему, так.
— Брехун ты, Зимовец.
Слободкин доел. Блаженное тепло разлилось по всему телу, он понял, что теперь-то уж заснет как пить дать.
— Зимовец! А ты еще раз выручить не можешь?
— Миску снести? Снесу. Я за нее зажигалку в залог оставил.
— Поговори со мной, не то засну сейчас, и тогда уж сто Баденковых меня не разбудят. Ну, поговори, поговори…
— Так вот какая тебе выручка требуется? Некогда, Слобода, вкалывай. При первой возможности забегу.
Слободкин принялся за работу. Сон пытался вновь связать по рукам и ногам, Сергей опять напряг всю свою волю, чтобы не поддаться усталости. Впрочем, и думать-то о том, что устал, было просто некогда. Дел все прибавлялось, самых неожиданных, от которых даже страшно становилось. С чем только не спешили к токарю-ремонтнику! А какой из него, к черту, ремонтник? Всем ведь не объяснишь, что фабзаяц. Самый настоящий фабзаяц, да еще и с неоконченным курсом наук! Правда, он любил и любит токарное дело и в ФЗУ после занятий не только гайки для рыбалки резал, а и кое-что посложнее вытачивал. Но ведь подзабыл — армия, фронт. А кое-чего и сроду не знал. Как быть, например, с двухзаходной резьбой? Он, конечно, видел, как ее нарезают. Теоретически ясно, хотя и не во всех тонкостях. Но сам он никогда даже в мыслях, к двухзаходной не прикоснулся, даже во сне. И надо ж такому случиться — приволокли ему деталь с сорванной двухзаходной резьбой! От смущения даже в глазах потемнело. Даже вся «теория» полетела к чертовой бабушке.
Вспоминая потом этот случай, Слободкин не мог восстановить во всех подробностях, как он вышел из трудного положения. Помнил только, как пришлось заново затачивать резцы, как упрямая сталь не хотела больше слушаться. Как взбунтовался и сам наждачный круг — подчинившийся было воле Слободкина камень задрожал, «задробил» с новой силой. Об него не только сталь крошилась — тупилась вера Слободкина в свои возможности. И пожаловаться было некому, некому было душу излить.
Только на следующее утро он снова увидел Каганова. Мастер подошел к станку, когда Слободкин с Зимовцом, обжигая пальцы, роняя искры, по очереди докуривали куцую самокрутку.
— Ну как, Слободкин? Освоились? Все в порядке у вас?
Слободкину нравилось, что мастер ведет себя с ним просто, как равный с равным, и делами его интересуется искренне, поэтому ответил честно:
— Завалили работой, за настоящего токаря принимают, даже обед к станку носят, а я забыл все на свете. Вчера двухзаходную резьбу едва одолел.
Каганов удивился:
— Двухзаходную? Это ж для седьмого разряда работа!
— Для седьмого.
— А у вас?
— Пятый.
— И все-таки нарезали?
— После седьмого пота.
— Ну вот, в полном соответствии с этим вам должны бы оформить теперь и новый разряд — седьмой.
— Только поту не было, — вмешался Зимовец, — дрожал, как бобик, я свидетель!
— Задрожишь! Я не токарь, но прекрасно понимаю, что такое двухзаходная. Поздравляю вас, Слободкин! И хорошо нарезали?
— В том-то и дело, что сикось-накось…
— Ну, ничего, ничего, наладится. Главное — в руки свои поверили. Когда ко мне-то зайдете? Может, сегодня?.. Да-да, именно сегодня. Помните? И вы, Зимовец, приходите. Придете?
Зимовец молча посмотрел на приятеля. Как он, дескать, так и я.
— Ну вот и отлично, — сказал Каганов. — Я один живу. После работы — хоть волком вой. Жду.
Часов в девять вечера, отдохнув немного, Слободкин и Зимовец отправились к Каганову. Хозяин уже поджидал их. На электроплитке стоял покрывшийся мелкими каплями чайник.
Вскоре явился и знакомый Каганова — сталинградец. Внешне он ничем не отличался от заводских. Даже в полумраке было видно, как глубоко запали его глаза, как резко выступили скулы. Но Слободкину человек этот сразу показался необыкновенным, не похожим на всех. Что-то было во всем его облике от самого Сталинграда, которому выпало на долю столько тягот и испытаний уже с первых месяцев войны.
Они надеялись услышать подробный рассказ о мужественных людях города, но приезжий сам начал сразу с расспросов. Его интересовало все — и как работает завод, и как устроились на новом месте, и часто ли бомбит немец. И когда узнал, что часто, сказал:
— Над Сталинградом его посшибали несметное множество. Но летит, летит еще, ничего не боится — ни зениток, ни «ястребков». Чтобы посеять панику, швыряет вместе с бомбами пустые, рассверленные со всех сторон железные бочки из-под бензина. Почерневшее среди бела дня небо воет, выматывая из людей душу…
Слободкин глядел на сталинградца восторженно. Вот так надо рассказывать людям о войне!
Будто угадав его мысли, сталинградец сказал:
— А у нас кое-кто до сих пор громкими словами бросается. Уж столько речей, столько речей… Танков нужно больше, самолеты давай, а речей хватит…
Где-то около полуночи, когда собрались попить чаю, за окном завыла сирена. Выключив плитку, все четверо вышли из барака. Лучи прожекторов упирались в низкие, притертые друг к другу тучи, нервно метались, словно не зная, что делать. Зенитки били дружно, напористо, но наугад. А немец, не видя под собой цели, бомбы бросать не стал. Швырнул две-три и ушел. Однако зенитчики огня почему-то не прекращали. Осколки с шипеньем и свистом падали на крыши бараков, к ногам вышедших сонных людей.
Сталинградец рассердился:
— Зачем столько шума? Ведь ясно же — дальше прочапал.
Каганов вступился за зенитчиков:
— Поглядели бы вы на тех пушкарей! Девчонки. Маму не кличут, и на том спасибо.
— И то верно. Иногда и у нас «шерочка с машерочкой», но дело свое знают до тонкостей. Чуют, когда бомба летит, когда — бочка, а когда, отбомбив, порожний, одним мотором пугает, с разбегу кидается. Стоят, не робеют…
— Девчата и у нас молодцы, — перебил сталинградца Каганов, — ты их увидишь еще. Мы тут недавно работаем, вдруг слышим — загрохотало что-то со страшной силой. От усталости с ног валимся и никак не поймем — то ли снова налет, то ли хляби небесные разверзлись. И что же ты думаешь? Девчата собственноручно сбитый «юнкерс» на тросе волокут. Не целый, конечно, растерзанный взрывом, но грохоту от этого еще больше! «Вот, говорят, вам металлолом».
— Действительно молодцы, — согласился сталинградец. — Ну, а как же насчет чая? На Волге воды жалеть не годится.
— Сегодня не даст попить как следует, — убежденно сказал Зимовец. — На обратном пути еще раз проведает.
Примерно минут через сорок, в самый разгар чаепития, тревога действительно повторилась. Низкие тучи к тому времени разогнало, немец повесил «люстры», стало почти совсем светло. Кирпичные корпуса завода на фоне снегов были высвечены совершенно отчетливо.
— Он, конечно, знает, куда и зачем пришел, — сказал сталинградец.
— Дорожка протоптана, — подтвердил Каганов.
И вот произошло то, чего все время опасались на заводе. Одна из бомб угодила в зазимовавшие возле берега нефтеналивные баржи. Нефть загорелась сперва неярко, пламя побежало вширь, приземисто. Потом желтые лоскуты его взметнулись так высоко, что в свете их и завод, и бараки стали видны как на ладони. Случайно так получилось у немцев или они узнали про баржи, но факт оставался фактом — гигантский факел пылал над заводом, и не было никакой возможности спрятаться от его неистового света.
Утром небо было черным от нефтяного дыма. И снега почернели. Почернели и еще больше посуровели лица людей.
Никто не знал покоя на заводе весь день и следующую ночь. Гасили пожары в цехах, в бараках, разгребали завалы, подбирали раненых, уносили убитых…
Нефть горела трое суток. И трое суток продолжалась тревога. Ночью бомбардировщики шли на огонь. Днем — на дым. Утром и вечером — и на дым, и на огонь. Никогда еще налеты на завод не были такими настойчивыми и жертвы не были так велики.
Когда выгорела вся нефть в баржах, кончились, видно, и силы у немецких летчиков. На четвертые сутки они не прилетели. Иссякли остатки сил и у тех, кто все это время работал под бомбами.
Слободкин еще не знал во всех подробностях о размерах разрушений, причиненных заводу и поселку. С тяжелым сердцем шел он с Зимовцом от пепелища к пепелищу, подымал с земли дымящиеся головешки, подбрасывал их высоко и зло. Несмотря на то что он вместе с другими все эти ночи и дни только тем и занимался, что гасил огонь, растаскивал бревна и доски, к нему опять вернулось проклятое чувство беспомощности. И еще он злился оттого, что поймал вдруг себя на мысли: больше всего жаль ему… сгоревшей дотла конторы. В этом стыдно признаться даже Зимовцу, но в то же время это так, черт побери!.. Снова станет он обузой для людей, которым, ей-богу, не до него, своих забот у них больше, чем нужно. А Устименко теперь не поймать — бегает от землянки к землянке, от одного разоренного барака к другому. Наводит порядок, расселяет погорельцев. Вот уже где-то слышится его голос, осипший, усталый и тоже злой.
— Устименко сейчас не до тебя, — сказал Зимовец, когда комендант пронесся мимо них с охапкой досок-горбылей. — Ему теперь на неделю аврала хватит. Ты знаешь, что я придумал?
— Землянку рыть?
— Это было бы самое лучшее, но больно долгая песня. Давай, Слобода, по-солдатски спать — на одной койке. А? Другого выхода нет. Соглашайся.
То ли оттого, что вконец измучился, то ли потому, что доводы Зимовца были действительно вескими, Слободкин спорить с другом не стал.
Глава 3
По-разному подействовали последние события на людей. Кое-кто смалодушничал, опустил руки. Другие еще настойчивей стали работать. Таких было больше. Они продолжали задавать тон на заводе.
Слободкин опять горько задумался. Парашютист. Специально обученный, тщательно подготовленный для борьбы с врагом. Сидит здесь, ждет, когда прибьет его немец — за станком или ночью в бараке, под кавалерийской шинелью…
По его ли характеру такая жизнь? Все парни как люди, воюют. А он — тыловик. На военном заводе, для фронта, работаете? Но разве это работа? Какой он, к шуту, токарь? Ученик! Это Каганов так, чтоб утешить, сказал, будто ему за двухзаходную седьмой разряд полагается. Ерунда! И резал-то он совсем не так, как нужно было. А завтра принесут работу посложней — тогда что?
Весь день Слободкин был в самом мрачном настроении. И так обдумывал свою судьбу, и этак. Все нехорошо получалось. Все вкось и вкривь.
Поговорить с Зимовцом? Посмеется. Свой брат, фронтовик, а намекал уже как-то на то, что натура у Слободкина, дескать, слишком чувствительная. С Кагановым посоветоваться? Этот войдет в положение, но скажет, конечно, о долге завода и всего коллектива перед армией, перед страной. И по-своему, разумеется, будет прав.
К Савватееву попробовать сунуться? Идея! Этот может по крайней мере решить: кадры!
Слободкин стал искать подходящего случая, чтоб повидаться с кадровиком. Через несколько дней снова появился возле двери, обитой черной клеенкой. Дверь была на замке. Слободкин постоял несколько минут, не зная, что делать, куда идти, — вдруг откуда ни возьмись Савватеев.
— Ты ко мне?
— К вам…
— Что случилось?
Савватеев тщательно, два раза, повернул ключ в замке. Слободкин слышал, что он повернул именно два раза, и опять подумал: кадры! И взяла его почему-то оторопь. Савватеев спрашивает, как дела в цехе, как устроился. Слободкин отвечает, но никак не решается сказать о главном — о том, что заводская жизнь оказалась не по душе.
Савватеев неожиданно сам помог ему. Глянул вдруг на Слободкина хитровато и говорит:
— А я ведь все знаю!
— Про цех? Про барак?
— И про цех, и про барак, и про то, за чем пожаловал, тоже. Хочешь, скажу?
— Скажите…
— И скажу, не постесняюсь. Труханул ты, товарищ фронтовик! Да! Точно знаю. Сырого теста испугался. И еще барака нетопленного. Пожара. Трудностей, одним словом. Комсомолец, называется. Хуже всякого беспартийного. Ну, другие на фронт просятся, им простительно — незакаленный народ, слабый. Думают, для них на фронте все припасено — и хлеб, и сахар, и тушенка еще. Черта лысого! Ты же сам испытал.
— Испытал. Только я другое хочу сказать…
— И про другое знаю. Врага своими руками бить мечтаешь? Так вот, запомни: войны выигрывают не одни солдаты. Рабочий класс еще есть на земле. Без него ни пехота, ни танки шагу не шагнут. Это ты можешь понять?
— Все понимаю, товарищ Савватеев, но я тоже человек. Все работают, все на месте, а я вроде подручного в цехе.
— Вот-вот-вот! Именно: «Все на месте!» — ухватился Савватеев за слово. — По радио слышал во время тревоги: «Все по местам!»? Смысл уловил? Или просто так, решил, для красного словца, мол, лозунг придуман?
— Уловил. Я и хочу по смыслу. Там мое место. — Слободкин выпрямился, встал перед Савватеевым по стойке «смирно».
Залюбовавшись выправкой Слободкина, Савватеев невольно перешел на военный язык:
— Отставить! Я такими разговорчиками вот как сыт! Будешь на заводе работать. Все. Кру-гом…
Слободкин повернулся через левое плечо.
— Постой. Садись. Давай поговорим спокойно.
Они сели друг против друга. Помолчали. Слободкин заговорил первым:
— Товарищ Савватеев, трудно мне здесь, но не в том смысле, как вы думаете! Иждивенцем быть у вас не хочу.
— У кого «у вас»?
— Ну, у вас у всех…
— А ведь верно говорят, что умные головы иногда дуракам достаются. Баденков им доволен, Каганов — и подавно, а он весь в сомнениях-рассуждениях. Вот что, Слободкин. Я лишних слов не люблю, не буду много говорить, все сам понимаешь. Скажу только, что фронт не исключен. Позовут — все там будем, и ты, и я, все до одного человека. У меня вот план один есть, но тебе сейчас разве до планов! Мозги набекрень.
— Какой план?
— Для серьезных людей.
— Скажите.
— Говорю: для серьезных людей.
Слободкин вздохнул. Савватеев посмотрел на него уже не так строго, даже миролюбиво посмотрел.
— Можно бы собрать человек десять — двадцать таких вот, рвущихся в бой.
— И что? — оживился Слободкин.
— И готовить их помаленьку. Как твое мнение?
— Я думаю, было бы здорово…
Савватеев вырвал из блокнота лист бумаги, подсел поближе к Слободкину.
— Хочешь — парашютистов готовь, хочешь — пулеметчиков.
— Я?
— Ну не я же. В мое время десантов не было и пулеметы были не те. Так ка́к, возьмешься? Подумай-ка. А ребят я тебе подберу сколько хочешь. Каждый день ко мне ходят.
— А материальная часть?
— Все обеспечу. И парашют достану, и самолет будет. Со временем.
— Согласен!..
Савватеев оказался человеком дела. Не прошло и двух дней, как Слободкин снова переступил порог знакомого кабинета. Только на этот раз по распоряжению Баденкова. Начальник цеха подошел к Слободкину во время работы, посмотрел на его худую, сгорбившуюся над станком фигуру и сказал с сожалением:
— Не дают человеку к месту прижиться.
Слободкин удивленно покосился на Баденкова.
— Савватеев сейчас звонил. «Пришлите, говорит, вашего новенького после работы ко мне». Смекаешь?
Слободкин молча пожал плечами.
— Ну, а я воробей битый, сразу смикитил. Только пустой это помер. До директора, до парторга ЦК дойду, если потребуется, но ни одного человека из цеха больше не отдам. Тем более…
Он хотел, видно, еще что-то добавить, но сердито махнул рукой и, уже уходя, как бы невзначай бросил:
— Ты тут не последняя пешка.
Начальник отдела кадров поднялся навстречу Слободкину.
— Думаешь, я забыл? Поговорили — и ладно? А я всех военпредов на ноги поставил, все телефоны оборвал за эти дни. И вот, полюбуйся!
Савватеев распахнул перед Слободкиным дверцы шкафа, из глубины которого сверкнуло ярко-красное кольцо парашюта.
— Запасной! — воскликнул Слободкин.
Савватеев смутился:
— Что? Не годится?.. Сказали, подойдет — летчицкий…
— Да что вы, что вы! — восторженно пробасил Слободкин. — Как раз то, что надо!
— Ну, слава тебе, господи! Угодил, значит?
— Угодили. — Слободкин осторожно вынул парашют из шкафа, положил его на стол Савватеева и сильно, наотмашь, дернул кольцо.
Белая пена шелка бесшумно заполнила все пространство стола. Слободкин запустил в нее пальцы, зачерпнул поглубже, поднес на ладонях к лицу, зажмурился.
— Чем пахнет? — серьезно спросил Савватеев.
— Белоруссией пахнет. Лесом, солнцем, полем, травой… И еще первой ротой…
— Вот теперь вижу — действительно угодил.
Слободкин вздохнул, помолчал, поворошил еще раз шуршащий шелк, потом стал укладывать парашют с такой тщательностью, будто готовил его к прыжку.
Савватеев внимательно следил за каждым движением Слободкина. Улучив момент, попробовал помочь разгладить одну из самых ответственных складок.
Слободкин удивленно посмотрел на Савватеева, — ему показалось вдруг, что начальник только притворяется, будто ничего не смыслит в этом, а на самом деле прекрасно понимает, кто к чему.
— Вы что, прыгали когда-нибудь?
— С печки на лавку. Но сын у меня два года в аэроклуб ходил до войны. Вечерами нам с матерью, бывало, уроки давал. Про всякие стропы, тросы и люверсы. Правильно называю?
Слободкин взглянул на Савватеева с еще бо́льшим удивлением.
— Правильно, люверсы.
Без всякого перехода Савватеев спросил:
— Ну, как приняли в цехе? Баденков? Каганов? А Устименко? Ты в случае чего прямо ко мне заходи. Запросто.
Слободкин поблагодарил. Хотел намекнуть, что Баденкову не очень-то понравился этот звонок из отдела кадров. Савватеев опередил его:
— А сейчас шагай в цех. Баденкову скажи: посадил, мол, Савватеев анкету переписывать. Не по форме, дескать, была. Понял? Не будем раньше времени шум поднимать. Да и дела на заводе сейчас такие, что каждая пара рук на самом строгом счету. И уберем от лишних глаз до поры нашу технику.
Парашют скрылся за дверцей шкафа. Савватеев запер замок, протянул руку Слободкину:
— Держи.
А в дверях еще раз Сергей услышал простуженный голос начальника:
— Так строго между нами!
Поздно вечером Слободкин добрался до барака и пристроился на койку рядом с Зимовцом. Смертельно хотелось есть и спать. Зимовец окликнул его:
— Наломался?
— Было дело.
— Я тебя весь вечер жду. Не курил даже.
Слободкин услышал в темноте сладкий запах махорки.
Они закурили, по очереди затягиваясь одной цигаркой. Малиновый огонек медленно переходил из рук в руки, пока не прикипел к пальцам.
Слободкин сперва хотел рассказать своему дружку о сегодняшнем разговоре с Савватеевым, потом решил не торопиться с этим. На душе было тревожно, в голову лезли мысли одна мрачнее другой. Сергей гнал их прочь, стараясь сосредоточиться на чем-нибудь таком, чем можно было бы поделиться с приятелем.
Зимовец почувствовал это, сам спросил:
— Что у тебя?
— Ничего. Думаю.
— О чем?
— О том, например, что обобрал тебя с ног до головы. Полкойки оттяпал, кисет весь выпотрошил.
Зимовец сердито повернулся с боку на бок, так, что Слободкин чуть не слетел на пол.
— Поаккуратней! — проворчал Сергей. — Пустил жильца, теперь сталкиваешь.
— Я человека пускал, а не скотину, — буркнул Зимовец.
— Ладно, не злись. Пошутил.
— То-то. Думающее, стало быть, существо. Ну, а раз так, то думай, когда говоришь.
— Ладно.
— Думаешь?
— Думаю.
— О чем? Кошки, что ли, скребут?
— Откуда ты взял?
— Говори уж, коли начал.
— Я не начинал.
— Вот и попался. «Не начинал» — значит, мог бы начать, да не перед кем душу вывертывать. Так, что ли, тебя понимать?
Слободкин промолчал. Зимовец обиделся:
— А еще друг называется.
«Может, сказать ему об Ине? Если мы действительно друзья, то рано или поздно все равно надо будет все выложить».
Слободкин рассказал Зимовцу, как впервые увидел Ину в предвоенном Клинске. Как написал ей письмо. Как писал потом каждый день и ежедневно получал ответы. Как вся рота переживала за него, а он думал, что никто ни о чем не догадывается. Как ездил в Клинск из Песковичей, в которых служил в воздушно-десантной бригаде, как нелегко было получать увольнительные. Как потом разом все оборвалось. Не стало коротких встреч, длинных писем — все кончилось. Потерялся где-то на дорогах войны след человека, незаметно ставшего самым дорогим, с которым связалось все — настоящее, будущее, жизнь…
Слободкин сказал еще, что дальние родственники Ины жили до войны, кажется, где-то на Волге и что у них можно было бы при случае попробовать навести справки.
Приятели проговорили долго. Махорки больше не было, и малиновый огонек не мелькал между ними, но Слободкин и Зимовец не чувствовали ни голода, ни холода, ни усталости. Сама война, казалось, отошла куда-то и не напоминала о себе ни выстрелом зенитки, ни взрывом бомбы, ни сиреной — ничем решительно. Только вьюга стонала совсем рядом, за тонкой переборкой барака. Может быть, именно поэтому немец и не прилетал. А может, сама судьба охраняла их, давала возможность развеяться.
Помолчали. После долгой паузы Зимовец вдруг сказал:
— Слушай, а может, я могу помочь разыскать твою Ину? Она комсомолка?
— Говоря по правде, не знаю, никогда почему-то об этом не спрашивал…
— Ну ладно, все равно мы через обком комсомола попробуем. У меня там секретарь знакомый, Саша Радволин.
— Тогда на тебя вся надежда. Ни днем ни ночью забыть ее не могу… А у тебя-то как, Зимовец? Молчишь про себя.
— Нет у меня никого.
— А семья твоя где?
— И семьи нету… Разболтались мы с тобой что-то, а скоро подъем.
Он и не заметил, что сказал по-солдатски, а Слободкин обрадовался:
— Подъем!.. Когда-то ненавидел я даже слово это! А сейчас с наслаждением услышал бы. Гаркнул бы над самым ухом хрипатый Брага, мне и минуты хватило бы, чтоб одеться и встать в строй.
— Да… Все-таки житуха была, скажу тебе. А?
— Спрашиваешь! Гайки туго, конечно, закручивались, до предела, можно сказать. До сих пор стонут все косточки. И намаешься, бывало, — соль на плечах, а все равно хорошо. Кузя, дружок мой, даже в Москву, к матери, ездил.
И снова заговорили приятели о том далеком, родном, что всегда согревает сердце солдата. Собственно, говорил опять Слободкин. Зимовец слушал, изредка перебивая вопросами. Но он готов был слушать сколько угодно, хоть десять ночей подряд. О поездке Кузи домой. Об Ине. О Москве. О том, как шагал по ней Кузя, выполняя поручения ребят и его, Слободкина, поручение. О том, как давно и недавно все это было. О матери Слободкина.
— Поседела она перед самой войной, словно чуяло ее сердце. Представляешь? Кузя на порог — в мае это было, в самых последних числах, — а она ему навстречу словно в белом платке. Кузя растерялся даже: я ему совсем другой портрет рисовал. Но виду, конечно, не подал. «Какая вы молодая…» — говорит…
— А она?
— Смеется. А сама фартук к глазам — и на кухню скорей, будто не терпится ей гонца от сына поскорей за стол усадить. И уже оттуда кричит что-то. Слов Кузя не слышит, идет на ее голос. А она уже справилась со своей слабостью, действительно стряпает что-то, только руки чуть-чуть дрожат, и тарелка летит на пол, разбивается вдребезги. «Это к счастью! — смеется опять и снова подносит фартук к глазам. — Ну как там сыночек мой? Как?..»
Зимовец слушал Слободкина внимательно, еще внимательней, чем про Ину, и только в конце рассказа вздохнул.
— Все матери похожи одна на другую. Она где сейчас-то?
— В Москве. Вчера письмо ей отправил. Долго ли теперь почта ходит?
— А кто ее знает, не пробовал, некому, — снова вздохнул Зимовец. — А ты пиши, пиши, ей там легче будет с письмами-то. Одна она у тебя?
— Отец нас оставил еще до войны. Не знаю, что у них там вышло, осуждать не буду, но мать убивалась сильно. Потом отошла немного. Замкнулась только. Когда в армию меня брали, как на тот свет провожала. Самое страшное на войне — это, по-моему, слезы материнские.
— Так ведь войны еще тогда не было.
— В воздухе пахло уже. Для меня она с тех слез и началась. Так мне сейчас по крайней мере кажется.
— Может, поспим все-таки немного? — спросил Зимовец.
Слободкин сказал в ответ что-то напускное, неестественно бодрое и сам смутился от своего тона.
— Не обращай внимания на меня. Расквасишься вот так и городишь черт знает что. А на душе действительно накипело. Мне бы только письмо получить от Ины. Да и от матери тоже. Двое их у меня на земле. О той и другой сердце ноет.
Поговорив еще немного, Слободкин с Зимовцом под самое утро все же уснули. Усталость взяла свое.
Проснулся Сергей от грохота. Ему вдруг почудилось, что дежурный по роте приволок охапку березовых дров и озорно швырнул их возле печки. Поленья раскатились по всему полу, до самых дальних углов, и продолжали еще там погромыхивать, перекатываясь с боку на бок на суковатых горбушках.
Слободкин открыл глаза, всмотрелся в полутьму — несколько человек, чтобы скорее согреться, яростно пританцовывали на промерзшем за ночь полу барака. Вот и все дрова…
Сергей стал тормошить приятеля:
— Подъем, подъем! Гляди, рота уже на ногах.
— Рота?.. — встрепенулся Зимовец. — Смотри-ка, и верно! Ну что ж, встаем, выходим строиться.
Весь день Слободкин был под впечатлением этого утра. Стоял у станка, а сам про звонко рассыпавшиеся по полу дрова вспоминал. Толкался в очереди в столовку — мысль о первой роте и тут не покидала его. Все до одного ребята возникали перед его взором, выстраиваясь по росту точно так, как на поверке. Прохватилов, Кузя, Гилевич, Исаев, Дашко… Будто и не расставался с ними, будто чувствует сейчас плечо каждого из них, вот так, как плечо Зимовца, стоящего рядом. Неужели это вернется когда-нибудь? Вернется, надо только уметь ждать и надеяться. А тесто — что ж, к тесту тоже привыкнуть можно. Привыкнем скоро. Привыкаем уже.
— Ты привык? — спросил он приятеля.
— К чему смотря, — вобрав голову в плечи, отозвался Зимовец.
— К тесту.
— К тесту можно привыкнуть. Хуже, когда и теста нет. Сегодня вроде бог миловал. Чуешь? Так тесто не пахнет!
— Голова даже кружится…
Влекомая запахом свежеиспеченного хлеба, очередь в столовую двинулась быстрее. Все сразу стало выглядеть по-иному. Даже стекла очков Каганова, которые снова мелькнули где-то перед Слободкиным, не показались ему сегодня ледышками.
Уже в цехе, у станка, Сергею сквозь запах горячих металлических стружек долго еще слышался аромат хлеба. И не потому только, что хлеб — это хлеб. От него пахло летом и еще чем-то неуловимо родным и сладким, что не имело названия, но жило в каждой крошке, в каждой трещинке поджаристой черной корки…
Он вспомнил сейчас, как они с Иной вышли однажды за город и заблудились. Они пробирались по ржаному полю и никак не могли выйти на дорогу, хотя были где-то совсем рядом со станцией, на которой Слободкин должен был вскочить на последнюю подножку последнего поезда. Они оба не на шутку испугались, но кто-то из них успел все-таки заметить, как вкусно пахнет рожь — совсем как хлеб из горячей печки. Кто из них сказал это? Она? Или он? Сказала она, кажется, но подумал он первый. Да, да, они оба смеялись потом, какие одинаковые мысли приходят к ним да еще в одно и то же время.
Так вот, оказывается, чем пахнет хлеб! Счастьем! Как же он сразу не догадался об этом? Самым настоящим счастьем…
Слободкин, согнувшись над станком, целиком уйдя в работу, улыбался своим мыслям. Улыбался так откровенно, несдержанно, что у подошедшего к нему Каганова худое, с провалившимися глазами лицо тоже чуть повеселело.
— Молодец, молодец, здорово жмешь! — похлопал мастер его по плечу. — Я сразу понял, когда увидел тебя: золотые руки-то. А я к тебе знаешь зачем?
— Зачем?
— С Баденковым разговор у нас был. Готовься, сейчас на твою сознательность давить буду.
— А как это делается?
— Вот слушай. Ты солдат?
— Годный, обученный, обмундированный. — Слободкин поправил съехавшую набекрень пилотку.
— Без приборов немца нам не разбить.
— Больно вы издалека начинаете. Говорите уж самую суть.
— Надо тебе одного паренька заменить. Заболел. Врачи говорят — надолго. Он у нас в морозилке работал. Заменишь?
— А на станке кто?
— Вот тут-то и начинается нажим на сознательность. От станка мы тебя совсем освободить не можем.
— Как это?
— На станке у нас в цехе никто, кроме тебя, не может, ты знаешь.
Слободкину понравились эти слова. Как ни говори, приятно. Только пришел на завод, а тебя уже ценят. Самое главное — быть нужным. Еще лучше — необходимым. Человеком себя ощущать.
— А где она, морозилка?
— Я знал, что ты согласишься. Но дело сложное, учти.
— Показывайте. Посмотрим, тогда и решим.
Для того чтобы попасть в «морозилку», надо было пересечь длинный, засыпанный снегом двор и пробраться в каменный сарай. Именно пробраться — тяжелые двери были похожи скорей на ворота. Обе их створки были широко распахнуты, между ними громоздилась целая баррикада свеженаметенного снега.
Каганов и Слободкин перелезли через сугроб, осмотрелись. Низкие, нависшие потолки, через толстый слой инея на стенах едва пробивается краснота кирпича.
Каганов, взяв Слободкина за руку, повел его в самый дальний угол сарая, к застекленным сооружениям, изнутри которых сочился слабый электрический свет.
— Вот это и есть камеры для испытания автопилотов на холод. Минус сорок должно быть там во время работы. Только твой предшественник был рабом собственной добросовестности. Он считал, что чем холоднее вокруг, тем стабильнее режим самих камер. Так что двери сарая всегда у него нараспашку, даже научная база под это подведена. Дескать, чем меньше разница между внешней и внутренней температурами, тем безотказней будут работать камеры. Он прав в конечном счете, но ты представляешь, как тут натанцуешься! А надо еще внутрь установки лазить — там ко всему руку приложить. Словом, от человека до сосульки один шаг. Он тут и заболел, бедолага.
— Простудился?
— Да как еще! Я сто раз говорил ему, чтоб поберегся. Так нет же! Кругом дует, как в аэродинамической трубе, а он знай свое гнет. Вот и допрыгался. Организм слабый, сам понимаешь.
— А научная база, значит, все-таки правильная?
— В принципе — да. Чем холодней в этой сараюхе, тем легче поддерживать нужный режим в камерах. С этим кто спорит? И все же к черту на рога лезть не надо. Учти печальный опыт. Обмундирование у тебя тоже не полярное.
Каганов объяснил Слободкину, как и зачем испытываются автопилоты на разные температуры:
— Самолет попадает в любые, самые неожиданные условия. Может перегреться в бою, может застыть на аэродроме или во время вынужденной. Самая его чувствительная часть — приборы — должна быть готовой к чему угодно. Вот мы их и «закаляем». И жарим, и студим. Экзаменуем по всем статьям. Самое трудное состоит в том, что твоя морозилка мало приспособлена для испытаний. Часто портится, происходят аварии, устранять которые придется на ходу самому.
Каганов так именно и сказал «твоя морозилка», и это не ускользнуло от внимания Слободкина.
— А еще на заводе есть морозилки? — спросил Слободкин Каганова.
— Разумеется. Мы нарочно рассредоточили их на всякий случай. У нас дублированы многие важные позиции, и не только в контрольном цехе. Ты это все увидишь еще и поймешь. Все продумано, все учтено, несмотря на то что жить и работать в таких условиях приходится.
Мастер поглядел на заиндевелые стены сарая, поежился, потом решительно распахнул дверцу одной из камер. Крутые клубы белого воздуха, медленно перекатываясь, стали выползать наружу, мешая смотреть, обжигая холодом лицо. Слободкин с трудом различил в глубине камеры белый столбик термометра. Видимо, он-то и был тут самым важным «фактором».
— Сколько? — спросил Каганов, заметивший, что его подопечный сориентировался правильно.
— Тридцать пять.
— Не годится. Нужно ровно сорок, не меньше. Сейчас начнем регулировать.
Мастер показал Слободкину, как регулируется режим камер.
— Но каждый прибор должен не просто «отсидеть» здесь свои два часа — в течение этого времени все системы его должны быть в работе, как во время полета. В камере есть целый ряд приспособлений, создающих автопилоту соответствующие условия. Вот шланги дутья. Присоединять их надо, когда прибор уже в камере. Вот так, смотри. Действуй быстро, точно, аккуратно. Иначе и сам обморозишься, и весь холод наружу выпустишь, и на всей Волге температура станет еще ниже, чем сегодня, за что нам тоже спасибо не скажут, — улыбнулся собственной шутке мастер.
Загрузив прибор, Каганов захлопнул дверцу и стал внимательно через стекло наблюдать за термометром.
— Вот видишь, что произошло? Вроде бы не больше минуты провозился, а с температурой что? Замечаешь?
— Уже тридцать.
— В том-то и дело. Смекаешь, какая капризная штука? Теперь будем загорать тут минут… Впрочем, не буду гадать, засекай время.
— Засек.
Каганов подул в замерзшие ладони, постучал ногой об ногу.
— Чувствуешь, как пробирает? Притвори-ка все-таки двери, а то мы оба околеем.
Слободкин подошел к дощатым дверям сарая, с трудом закрыл их, повернул щеколду на ржавом гвозде.
— Ну вот, так-то лучше будет.
Каганов говорил, а сам не отрываясь смотрел на термометр.
Прошло не меньше часа, прежде чем ртутный столбик сдвинулся и стал медленно опускаться.
— Наконец-то! — обрадовался Каганов. — Теперь скоро начнем. Еще немного — и сорок.
— Хорошее слово, — сказал Слободкин, — солдатское.
— Какое? — не поняв, спросил Каганов.
— Сорок, говорю, хорошее слово. Неужто не слышали? Если тебе повезло и ты раздобыл щепотку махорки, кури, но сорок процентов оставь товарищу.
— Плохая дружба, — ухмыльнулся Каганов.
— Как плохая?
— Очень просто, плохая. Шестьдесят процентов себе и только сорок товарищу.
— Это только говорится так. На самом деле две затяжки себе, остальное — по кругу.
Слободкин вздохнул и сладко зажмурился, так захотелось ему сейчас этих двух затяжек. Одной даже. Половинки хотя бы.
— Был бы табак, я показал бы, как это делается. — Большие пальцы обеих его рук сами поползли вверх по согнутым указательным. — Дьявольски сладко!
— Курить? Или делиться?
— И то, и другое.
— Не понимаю, — пожал плечами Каганов.
— Как курят или как делятся?
— Как курят. А поделюсь с удовольствием. Если получу по талону табак, забирай у меня.
Слободкин посмотрел на Каганова недоверчиво:
— Здесь разве дают?
— Обещают. К празднику. Ну, а наши с тобой сорок должны быть железными, — сказал Каганов и снова поглядел на термометр, — никаких скидок. Стабильные сорок. Но при этих сорока чтоб работал автопилот, повторяю, без осечки. Все показания вносятся вот сюда. Все, до мельчайших отступлений. Брака в готовой продукции быть не должно. За это два человека в ответе — я и ты. — Каганов подумал и уточнил: — Ты и я. С завтрашнего дня приступай. Сегодня я малость тут сам поколдую.
— Значит, брак все-таки бывает?
— Живые люди над автопилотами спину гнут. Полуживые, точнее сказать. Ты их видел. А работают, не жалуются. На фронте, по-моему, легче человеку. Там хоть можно свинцом на свинец ответить. Мы же тут в общем-то беспомощны. Только сиреной можем подвывать.
— Я понял уже, что у вас тут за житуха, — сказал Слободкин.
— Только теперь уже не «у вас», а «у нас», — поправил его Каганов.
Слободкин помолчал, глубоко вздохнул, потом вдруг спохватился:
— А камеру-то мы с вами упустили! Сорок уже, смотрите…
— Вот ты и начал осваивать новую должность! — обрадовался Каганов. — Хвалю! Давай приступим.
Мастер, взяв карандаш в негнувшиеся пальцы, стал неловко записывать показания прибора.
— Можно, я помогу?
— Ну, пиши, пиши. Я диктовать буду. Итак, фиксируй: «Ротор бьет, самолетик светится плохо…» Записал?
Слободкин удивленно поглядел на мастера.
— Бракованный, не волнуйся. Вот, кстати, тебе и еще один ответ на вопрос о браке. Я нарочно из брака взял — для тренировки.
Слободкин разочарованно развел руками, но мастер настоял на том, чтоб испытания были проведены до конца, по всем правилам технологии.
— Тебе ж потом легче будет, солдат. Смотри в оба. Завтра еще малость покручусь тут с тобой, и останешься ты с дедом-морозом один на один. Держись тогда! Поэтому зубри сегодня все наизусть, как таблицу умножения. Потом и спросить будет не у кого. И жнец, и швец, и на дуде игрец. И в цех, к станку, бегать будешь, и испытывать тут целыми партиями, и даже носильщиком сам у себя работать. Таскать сюда приборы. И отсюда тоже. Баденков считает, что так даже лучше. Обезлички, дескать, не будет. А то еще трахнет об пол какой-нибудь разиня, и не будем знать, кто именно. Начальник цеха у нас вообще человек осторожный, предусмотрительный, во всем строгий порядок любит. Автопилот, говорит, прибор нежный, чувствительный, носить его надо по одной штуке и только на руках, как ребенка.
Каганов показал, как носить приборы требует Баденков. Спеленав автопилот двумя полами порванного демисезонного пальто, мастер стоял перед Слободкиным в неуклюжей позе.
— Ну и правильно, — неожиданно сказал Слободкин, — так надежней. Сподручней. Дайте-ка я попробую.
Слободкин поднял полы шинели, укутал ими автопилот, сделал несколько шагов на месте. Вышагивал так старательно, что слышно было, как хлопают кирзовые голенища по тонким, исхудавшим ногам.
Глава 4
Утро следующего дня застало Каганова и Слободкина у морозильной установки. Они перенесли сюда из цеха часть ночной продукции — приборы выстроились на полу, вдоль кирпичной стены, двумя рядами.
Когда последний прибор занял свое место на полу и Каганов сказал: «Приступаем», Слободкин спросил мастера:
— Можно я сам?
— Да, да, именно сам, — ответил тот. — Я только подручный.
Мастер подавал приборы. Слободкин ставил их на свои места в камерах, подсоединял к воздухопроводу, запускал гироскопы, следил за температурой. Когда все камеры были загружены, мастер заторопился в цех, где его ждали военпреды. Слободкин знал, что это самые строгие люди на заводе и опаздывать на свидание к ним было не принято. Даже директор трепетал, говорят, перед ними. Поэтому Слободкин сказал:
— Ступайте, справлюсь. На ближайшие два часа задача ясна.
— Ну, добро. Я вернусь к концу испытания этой партии. А новую опять вместе загрузим.
Не знал Слободкин, какими длинными окажутся эти два часа.
Только было все отрегулировал, установил стабильную «сороковку», завыла сирена. Слободкин сперва не поверил, думал, ослышался. «Налет? Опять среди бела дня?» Но никакой ошибки не было. Сирена вопила где-то далеко, но все резче, все надсаднее. Не слышно было только сигнала радио, хотя на красной кирпичной стене сарая Слободкин вчера еще заметил помятую тарелку «рекорда». Одним прыжком он подскочил к репродуктору, яростно дунул в его обросшую пылью картонную воронку. От сотрясения нарушенные контакты соединились, и «рекорд» заревел так, словно собирался наверстать упущенное: «Все по местам! Все по местам!»
Через несколько мгновений надсадный голос радио был заглушен залпами зенитных батарей. Сначала две или три из них распороли выстрелами воздух над головой Слободкина. За первыми снарядами почти без всякого интервала сорвались десятки, сотни — все небо оказалось в их громовой власти.
«Проворонили, прохлопали, чертушки!» — подумал Слободкин. Он распростер руки так, словно был в состоянии защитить приборы, посмотрел вверх и попятился — угол железной крыши сарая задрало взрывной волной прямо над камерами. Через огромную зияющую брешь Слободкин увидел на фоне крутых белых разрывов на небольшой высоте проносящиеся «мессеры». «Так вот в чем дело! Низом прорвались». В ярости он грозил кому-то кулаком, сам не зная точно кому. Немцам? Или еще и тем, кто несет ответственность за воздушное наблюдение, оповещение, связь? Тем, кто виновен в том, что тревога дана так поздно?
За спиной Слободкина что-то резко рявкнуло. Он не успел обернуться, как почувствовал, что летит на красную кирпичную стену. Да, да, на кроваво-красную. Вот и руки его в красной кирпичной пыли, и сапоги, и шинель… А сама стена качнулась, поплыла куда-то в сторону вместе с выстроившимися вдоль нее приборами. Сейчас свалится, раздавит, расплющит все до единого…
Сколько длилось это? Минуту? Час? Слободкину потом казалось, что он мог бы точно определить, сколько фугасок разорвалось, пока он был без сознания, сколько раз огрызнулись на них зенитки. Сквозь какую-то пелену, приглушившую все звуки, он все-таки отчетливо слышал, как раскалывалась под ним земля. На десять частей. На двадцать. На сто… На одной из этих бесконечно малых частиц, как на крохотной льдинке, он все-таки уцелел. Он и несколько десятков приборов, сбившихся в кучу, чтобы занять как можно меньше места на коротком пространстве.
Когда Слободкин открыл глаза, первое, что он заметил, было столпотворение черных ящичков автопилотов. Плотно прижавшись друг к другу, они словно защищались от бомб и осколков. Он с удивлением обратил внимание и на то, какое положение занял каждый прибор, — застекленная сторона каждого из них была закрыта стенкой стоящего рядом.
Пока Слободкин с удивлением разглядывал поразившую его картину, земля и небо зарокотали с новой силой. Он посмотрел вверх и увидел — тесным строем опять идут «мессеры».
«Не боятся! Ничего не боятся, сволочи!» И такая его взяла тупая, безысходная злость! На себя — за то, что бессилен перед ревущей стихией. На зенитчиков — девчонки, конечно, неопытные, сколько он уже видел таких, беспомощно суетящихся у батарей! Одна сейчас отчетливее всего встала перед его мысленным взором. Все вскрикивала: «Девоньки, девоньки!» — и боялась поднять глаза от земли. Какой уж тут, к лешему, угол упреждения и прочие премудрости, без которых нельзя сделать путного выстрела по движущейся мишени! Но главное — он сам-то хорош. Сам-то! Крутится, как последний дурень, в четырех кирпичных стенах и не знает, совершенно не представляет, что делать. Увалень, башка набекрень! Ну, придумай же, сообрази хоть что-то, не будь растеряхой! Ты ведь можешь, ты такую школу прошел…
С этой мыслью Слободкин метнулся к холодильным камерам. «Будь, что будет, испытания доведу до конца. По всем правилам». Он по очереди прильнул к стеклянным дверцам камер и сам удивился: в каждой — точно сорок! Такая заваруха кругом, а эти работают! Он машинально взглянул на часы — на них не было ни стекла, ни стрелок. Сколько прошло с момента включения камер? Как быть? И тут же сам успокоил себя: следить за режимом надо до прихода Каганова. И попробовал все-таки прикинуть время по выстрелам зениток. «Час без продыха не могут смолить. Вот и сориентировались».
Не успел Слободкин навести порядок в своем хозяйстве, как взрывная волна снова швырнула его к стене. Лежа лицом к камерам, он не слышал звука ломающегося стекла, но отчетливо, как в замедленной киносъемке, видел: словно алмазом вырезанная, звезда расползалась по стеклу одной из камер и проваливалась внутрь. Белый пар, большими клубами выкатывавшийся наружу, с предельной наглядностью говорил о размерах пробоины. Сейчас температурный режим всей установки будет нарушен, сорвется весь цикл…
Слободкин вдруг хорошо представил себе за этой кирпичной стеной вереницу бомбардировщиков и истребителей, лишенных возможности оторваться от земли без приборов. Вот на какой участок поставила его судьба! Он почувствовал себя сильным из сильных в эту минуту, способным события подчинять себе. Он ощутил несокрушимую мощь в своих руках, сразу, как сорвал с плеч шинель и заткнул ею пробоину в стеклянной дверце морозильной камеры. Он сделал это с каким-то дьявольским наслаждением и сперва даже не почувствовал, как холод набросился на него с ожесточеньем. Он продолжал стоять у дверцы «морозилки» — в пилотке, в куцей гимнастерке — и радовался, что выход найден, испытания будут доведены до конца. Он так и скажет мастеру, когда тот явится: «Все в полном порядке». И еще он подумал о шинели. Как все-таки хорошо, что ему попалась именно кавалерийская! Простой, пехотной нипочем не хватило бы на эту дырищу. Так что зря он жаловался в свое время. Ему чертовски повезло, чертовски! Он настойчиво продолжал заталкивать серое непослушное сукно в каждый угол пробоины — конопатил так, чтоб ни одной щелочки не осталось. Порезанные стеклом руки кровоточили.
Холод между тем сковывал его тело все крепче, все туже.
Бомбежка кончилась. Вокруг наступила тишина, только сквозь дверцы камер было едва слышно, как выли разогнанные до больших скоростей роторы автопилотов. Но этот звук мог лишь усыпить, и тут Слободкин по-настоящему испугался. Он попробовал потопать ногами, чтобы как-то согреть их, и сник еще больше: ноги больше не слушались и неизвестно, как еще держали его. Он утратил вдруг даже ощущение высоты. То ли он в яме стоит, то ли на огромных ходулях, шатких, зыбких, готовых вот-вот увязнуть в бездонном болоте…
Уже впадая в забытье, Слободкин услышал не то над самым ухом, не то откуда-то издалека хорошо знакомый и в то же время чужой голос:
— Ты что? Ты что, с ума спятил?!..
Это был Каганов. Мастер, к счастью, пришел не один. Вдвоем с военпредом они оттащили Слободкина от камеры, с трудом напялили на него задубевшую на морозе шинель и под руки, как пьяного, поволокли в цех.
Выбежавший им навстречу Баденков не мог понять, что произошло с новым контролером, — Каганов и военпред рассказывали сбивчиво, перебивая друг друга. Не дослушав их, начальник цеха кинулся к какому-то шкафу, извлек оттуда стеклянную колбу со спиртом, поднес ее ко рту Слободкина.
Слободкин поперхнулся, закашлялся, посинел еще больше, потом вдруг тихо простонал:
— Еще…
Вздох облегчения вырвался у всех, кто присутствовал при этой сцене. Не на шутку перепуганный Каганов сказал:
— Дайте ему, он заработал честно.
Баденков распорядился послать за доктором.
Несмотря на все принятые меры, к ночи пришлось отправить Слободкина в больницу, которая находилась километрах в пяти от завода, в крохотном городке Анисьеве.
Глава 5
«Как ни крути, Зимовец, как ни верти, это тот же госпиталь, — писал Слободкин записку другу, пришедшему его проведать. — Госпиталь, да еще со строгим карантином. Ты теперь видишь, как мне „везет“? По пятам медицина преследует. За махорку спасибо. Чувствую себя хорошо, но вставать не дают. И вообще режим. Как там у вас? У меня к тебе просьба: будет время — сбегай на почту. Вот-вот должно быть письмо от мамы. А про свое обещание помнишь?»
Зимовец читал и глазам не верил. Нянька уже успела сообщить ему, что у Слободкина кроме контузии и обморожения крупозное воспаление легких с высокой температурой. Но таким спокойствием веяло от каракулей друга, что не на шутку переволновавшийся за эти дни Зимовец и сам пришел в душевное равновесие. Он писал в ответ:
«В цехе порядок. Стекла вмазаны. (Это означало, что морозилка отремонтирована). Главным по „минусу“ назначен я. (Это место в расшифровке тоже не нуждалось.) О письме уже справлялся — пока нету. А про „обещанное“ забыл, конечно, в тот же день». (В этих словах у Зимовца прорвалась обида. Он хотел написать, что всегда и все свои обещания выполняет, только надо, дескать, иметь терпение, но растолковывать и без того ясные вещи не стал.)
Заканчивалась записка обнадеживающе: «Привет от всех курящих и особенно от некурящих!» Эти слова Слободкин должен был прочитать так: «Махорка будет еще!» Именно так он и прочел. «Жалко, что не увидел Зимовца, его противной рожи. Про Ину помнит, оказывается, даже разбурчался, узнав, что могу о нем подумать, будто способен забыть главное».
У Слободкина в самом деле появилась надежда отыскать Ину, получить от нее весточку. В последние дни, после того разговора с Зимовцом, он все чаще думал: «А вдруг она где-то здесь, в одной из деревушек, затерявшихся на заснеженных берегах Волги…»
А сегодня ему даже пришла фантазия… написать Ине письмо. Он и сам не понял, как это получилось, но карандаш уже бежал по бумаге.
«Инкин, милая моя! А что ты обо мне подумаешь, если я сейчас сяду и напишу тебе письмо? Рехнулся? Спятил Серега твой, да? Война разъединила, растащила нас в первый же день. То ли рядом ты, то ли на другом конце земли. Адресов друг друга не знаем, а я достаю тетрадку в косую линеечку (ту самую, помнишь?) и пишу первую строчку, от которой у меня всегда сердце сжималось, даже тогда, в Песковичах, а теперь и подавно дрожь пробирает. Но я все-таки вывожу именно эти слова: Инкин, милая! Соскучился, исскучался до такой степени, что нет никаких сил больше терпеть и ждать. Были силы — позавчера были, вчера, точно помню, сегодня даже с утра плескались остатки на донышке, но сейчас, вот в эту самую минуту, кончились, отплескались до последней капельки. Все. Веришь? Верь и не верь. Солдат я, Инкин. Обыкновенный, парашютный, лесной, болотный солдат. А раз так, не верь мне насчет силенок. Про энзе говорил тебе? Говорил. Неприкосновенный запас, по уставу. Загашник, по-нашему. Так вот, знай, что бы ни случилось, сколько бы еще нас война ни мучила, ни растаскивала, терпения у меня хватит. Кончится одно — пороюсь, другое сыщу, кончится еще раз — опять пошурую и снова при ней, при силе. Так что ты обо мне, Инкин, не беспокойся, выдюжу разлуку, одолею. О себе думай. Есть ли в тебе этот энзе? Хватит ли в нем горючего? Что за вопрос, скажешь? Прости, если обидел. Не так и не то совсем хотел написать, карандаш сам выводит какую-то чепуховину. Просто я давно тебе не писал, отвык от тебя. Не обращай внимания на мою болтовню. Ты не слова слушай, к сердцу прислушивайся. Слышишь, как стучит? Барабанит просто! Вот это дробь! Я с такой дробью встаю и ложусь. Зимовец иногда спрашивает, что это во мне так колотится, а ты даже и не знаешь, кто такой Зимовец, да? Расскажу при встрече. Только бы она состоялась. Обо всем расскажу. О том, как дрался с фашистами. О Зимовце. О заводе. О Волге, о том, как письма писал тебе с ее заснеженных берегов и не знал, куда и как отправить».
Слободкин закрыл глаза и отчетливо представил себе — идет Ина в валенках по сугробу за вязанкой дров. Обязательно в валенках и непременно за дровами. Так хотелось ему. Пусть тепло ей будет, пусть все хорошо в ее доме. Пускай ласковая, добрая старуха — только ласковая и только добрая! — кличет ее по утрам: «Ин, а Ин! Вставай, будем печку топить». Прежде чем встать, Ина спрашивает бабку: «Письма так все и нет?» А этого Слободкин хотел пуще всего на свете. Чтоб непременно про письмо каждый день спрашивала. Чтоб с этого вопроса начинался каждый ее день. И чтоб на вопрос был ответ: «Нету пока, дочка». Что ей стоит, старой, словечко «пока» ввернуть где следует? Такое нужное, необходимое, без которого трудно, невозможно жить на свете, когда любишь и ждешь. Вот Зимовец сказал же это «пока». Сказал про письмо от матери. Но и про Ину, конечно, есть у него в запасе. «В следующий раз не выдержит Зимовец, сам о ней заведет разговор, напоминать больше не буду».
Но в следующий свой приход Зимовец был совсем краток:
«Привет тебе, Слобода, от всего девятого. Работаем, сам понимаешь. Ждем тебя. На всех остальных фронтах без изменений».
Слово «остальных» было жирно подчеркнуто. Это значило: писем из Москвы нет, сведений об Ине тоже.
Слободкин должен был понять и понял друга еще и так: положение вообще везде остается тяжелым. Об этом Слободкин сам знал, как говорится, из первоисточников. Каждый новичок подробнейшим образом выкладывал все, что у него накопилось, что наболело. Правда, надо было делать поправку на обстановку, на настроение людей, оказавшихся под крышей затерявшейся в снегах больницы.
Прочитал Слободкин письмо друга, и на душе стало совсем нехорошо. «„На всех фронтах“! На всех… Да-а. Почти каждому человеку война принесла свои несчастья. У меня хоть мать еще жива и, слава богу, здорова. А Ина? С ней что?.. У Зимовца вообще никого нет. Ни он никого не ждет, ни его ни одна живая душа не дожидается. Из этих несчастий каждого в отдельности складывается общее, большое горе народа».
Слободкин думал еще вот о чем. Если бы не разлучила его с Иной судьба, насколько сильнее был бы он сейчас! Какие бы еще лишения ни выпали на его долю, он справился бы. Он и так выдержит все, но с нею, с любимой, он был бы крепче во сто раз и был бы счастлив даже теперь, на этой развороченной, вздыбленной земле, где никому нет покоя ни днем, ни ночью. Да ему хотя бы только узнать, что жива, что ждет его. Много это или мало — жива, здорова и ждет? Он спрашивал так сам себя, и тут же ему становилось стыдно. Что за вопрос! Это было бы просто огромно! Но вот знать бы, знать, быть твердо уверенным — ждет, ничего не случилось, жива, невредима…
Потянулись медленные, однообразные больничные дни, отличавшиеся один от другого лишь тем, что сегодняшний хуже вчерашнего, а завтрашний своей беспросветностью затмит, наверное, и нынешний, и все предыдущие. Удручающе были похожи одна на другую и ночи. Только бомбежки раз от разу усиливались, и по многу часов никто не смыкал глаз. Деревянное двухэтажное здание больницы гудело от взрывов и готово было вот-вот рассыпаться. Слободкин отчетливо представлял себе, как, грохоча и подпрыгивая, катятся по улицам бревна осточертевших ему стен. Иногда ему хотелось этого. И если бы не Зимовец с его редкими записками, которые Слободкин многократно перечитывал, наверное, он совсем опустил бы крылья.
Прихода друга он ждал теперь все с бо́льшим нетерпением. Вставать с кровати категорически не разрешали. Слободкин раздобыл у няни осколок зеркальца и, лежа у окна, «ловил» улицу. Он обшаривал ее всю, узкую, убегавшую к Волге. И все чаще натыкался на воронки, на черный дым от пожара, на следы разрушений. Зимовец еще ни разу не оказался в фокусе «стереотрубы» Слободкина, но он часами не сводил глаз с близких и дальних подступов к больнице.
Няня, заметив это, сочувственно вздыхала:
— Дружка дожидаешь?
— Он сегодня не может, — отвечал Слободкин и с равнодушным видом прятал зеркальце под подушку.
Но стоило няне выйти из палаты, «стереотруба» снова начинала свою работу.
«Хлопот у Зимовца, ясное дело, до чертиков. Но вдруг все-таки явится? Сам же сказал — привет от всего девятого. Значит, и от начальства тоже. А начальство все может. Одно только слово — и отпустят Зимовца раньше. Зимовец потом отработает, я его знаю. Я сам, как только выпишут, за каждый пропущенный день два буду вкалывать. За нами не пропадет…»
Шарит, шарит осколок зеркальца по белому снегу улицы. Нет Зимовца день, нет второй, нет третий. Скоро Слободкин со счету сбивается. Начинает делать зарубки на подоконнике — крохотные, в микроскоп не увидишь. Пальцем проведешь по доске — не почувствуешь, но зарубка все-таки уже есть. И вторая. И третья.
Слободкин все больше нервничает. Поймав себя на этой мысли, вспоминает слова врача в батальоне выздоравливающих: «Нервишки, нервишки… У парашютистов нервов быть не должно». Приходят на память и его собственные слова, самому себе тогда сказанные: «Может, и в самом деле нервишки? Раньше, бывало, спал по команде. Теперь всю ночь глаз сомкнуть не могу. Где Ина? Что с ней? Посчитал бы сейчас мой пульс доктор! Вот именно — посчитал бы сейчас. Сию минуту…»
Слободкин инстинктивно перехватывает пальцами запястье, ищет ту самую жилку, в которой пульс должен биться, и никак не может найти. В смущении смотрит на нового соседа по палате, седого, все время надсадно кашляющего человека лет шестидесяти.
— Слышь, отец, не знаю, где этот самый пульс находится.
Сосед долго молча смотрит на Слободкина, даже кашлять перестает. Потом говорит задумчиво:
— Счастье твое, раз не знаешь.
— Нет, правда?
— Верно слово. Наше дело стариковское, а на тебе еще, придет время, капусту возить будут. Ты, конечно, и сердца своего не чуешь?
— Сердца?
— Ну да. Где оно у тебя?
Слободкин неуверенно дотрагивается до груди.
— Вот-вот! Я же говорю, не знаешь. Опять твое счастье. С воспалением да с контузией справишься — и обратно кум королю.
— А у вас, папаша, чего?
— Разве их поймешь, докторов? Вот уж третий месяц мучают. Началось с пустяка, потом как пошли придираться, как пошли…
— Давно он долбит по Анисьеву?
— С тех пор, как про вас разнюхал. И завод-то ваш вроде не так велик, а шуму на всю Волгу. Листовки немец бросал, чтобы нас, городских, с заводскими поссорить.
— Ну, и как городские?
— Ежели честно сказать, по-разному. Одни с полным пониманием, с совестью, другие — в скулеж. Понаезжали, мол, всякие! Из-за них и жрать нечего, и спокою не будет теперь.
Скурихин, так звали нового знакомого Слободкина, рассказал, как рабочие анисьевских вагоноремонтных мастерских, где он был сторожем, пришли на помощь заводу, эвакуированному из Москвы.
— Мы со старухой на что стесненно живем, и то на квартиру двоих пустили. Куда деваться-то? Разгружались под дождем и снегом. С семьями, с малыми детьми. Глянули — сердце кровью облилось. Так же и другие наши рабочие. Вся беда — домишки у нас мал мала меньше, а тут сразу тыщи людей. Если одну десятую часть устроили, это еще хорошо. Остальных — по баракам да по землянкам. Ты сам-то где живешь?
— В конторе сперва ночевал. Теперь в бараке устроился. Дружок на свою койку пустил.
— Вдвоем на одной?
Слободкин кивнул.
— Ну и правильно! Как-то надо по силе-возможности. А то ведь…
Скурихин не закончил фразы.
Откровенно говоря, Слободкин не очень понял старика. То ли одобряет поступок Зимовца, то ли осуждает кое-кого из своих земляков за недостаточное внимание к эвакуированным.
Как бы продолжая прерванную мысль, Скурихин, помедлив, сказал:
— А старуха моя хоть куда! Молодым в пример ее ставят. И в госпиталь на дежурство, и ко мне сюда, и еще по донорству успевает.
— Как это? — удивился Слободкин.
— Обыкновенно. На Волге всю жизнь живем, на чистом воздухе. Кровь от этого первый сорт.
— Может, первой группы? — поправил сторожа Слободкин.
— Вот-вот, самой первой. Так с этой первой она нарасхват. И всё ваши, ваши. Кровопивцы — и только! Марь Тимофевна — ее тут всяк теперь по имени-отчеству знает. Не слыхал?
— Нет.
— Ты что, не с ними приехал?
— Я тут недавно совсем.
Скурихин, прищурившись, поглядел на Слободкина:
— Воевал, что ли?
Слободкин задумался. В самом деле — воевал он? Или нет? Решил со стариком начистоту.
— Не везет мне, папаша. Готовили меня, чтобы действовать в тылу. Вот я и действую. Но в каком только тылу и как?..
— Это от тебя не уйдет еще. Силенок сперва поднаберись. Тебя сейчас ветром с ног свалит. Вот старуха картошки принесет, я сам за тебя возьмусь.
Слободкин думал, Скурихин утешает, чтоб не так уныло лежать было под бомбами. Но уже на другой день действительно появилась картошка. В мундире, еще теплая, почти горячая и даже с солью.
Слободкин от угощения не отказался, только ел медленно, маленькими кусочками.
— Ты давай, давай, не стесняйся, — подзадоривал Скурихин. — И с кожурой — в ней самые витамины!
Слободкин, держа в одной руке картофелину, другой незаметно шарил по подоконнику, десятый раз принимаясь считать зарубки.
Скурихин все-таки понял, в чем дело:
— Нынче явится.
Слободкин удивился:
— Откуда вы знаете?..
— Вспомни мое слово. Расчет у меня простой. Месяц кончился. В последние дни штурмовали план, тут дружку твоему не до тебя было. Сейчас полегче станет. Это отродясь на всех заводах так. Кореш твой тоже солдат?
— Он в самом пекле был. Под Смоленском, под Вязьмой.
— Не бегал?
— Не понимаю.
— Ну, не драпал, говорю, на фронте-то?
— А-а… — сообразил наконец Слободкин. — Было такое дело один раз. Бежал Зимовец. Со всех ног летел.
— Из Смоленска? Или из Вязьмы?
— Из госпиталя.
— А ты, погляжу, влюбленный в своего Зимовца. Ну, тогда, как пить дать, к ночи явится.
Вечером действительно няня положила на тумбочку Слободкина небольшой сверток.
— Пришел твой. Ответа ждет. Только что-то больно торопится, всего на пять минут, говорит.
Няня вынула из кармана халата огрызок карандаша, протянула его Сергею.
Слободкин, не разворачивая свертка, в полутьме настрочил другу кратко и восторженно: «Спасибо тебе, Зима! Всем ребятам спасибо. У меня все хорошо, а сегодня тем более. Приходи!»
Только после того, как няня ушла с запиской, Слободкин принялся за сверток.
Вот долгожданное письмо от матери. Вот послание самого Зимовца. Пахнущая типографской краской какая-то газета. А это что такое? В руках Слободкина блеснул металлом плоский предмет. Неужели зажигалка? Так и есть!
— Теперь мы не только с куревом, но и с освещением! — радостно сказал своему соседу Слободкин, вскрыл конверт и, подсвечивая себе зажигалкой, стал читать.
Чем больше вникал он в материнское письмо, тем тревожнее становилось на душе.
Скурихин наблюдал сперва молча, не перебивая, потом все же спросил:
— Из дома, что ли?
— От мамы… Одна она там осталась. Совсем одна. А письмо чудно́е. Будто все у нее есть, всем вот как обеспечена. Это в теперешней-то Москве! Правда, немца там пуганули как следует, но он еще близко совсем.
— А ты что хотел? Чтоб она расписала, как в очереди на морозе за куском хлеба стоит? Не напишет.
Слободкин уже не мог успокоиться. В его воображении рисовались картины одна мрачнее другой. Он и тогда, после поездки Кузи в Москву, понял, что мать живет трудно, но с тех пор прошло много месяцев. И каких! Враг побывал у самых стен столицы. Опустошены огромные территории.
В эту ночь Слободкин принял решение во что бы то ни стало как-то помочь матери. Как и чем — он еще не знал. Но необходимо что-то срочно сделать.
Утром он написал ей письмо. В письме говорилось, что живет хорошо, ни в чем, буквально ни в чем не нуждается. Зима здесь суровая, но одет он как следует. В бараках тепло, чисто и даже уютно. О нем заботятся. И конечно, он здоров. Вот скучает только. Очень, очень скучает по дому. А ведь был в госпитале недалеко от Москвы. Недолго, правда, всего несколько дней. Просился, конечно, домой — не пустили. Такая досада! Потом дальше повезли, на восток. Настроение было тогда дрянь, сейчас лучше гораздо. Главное — дела на фронте поправились. Немца в Москву не пустили, дали ему прикурить как следует. И еще скоро дадут. Товарищ Сталин сказал: «Недалек тот день, когда мы разгромим врага». Читала, конечно, слышала?
Слободкин, прежде чем отправить письмо, показал его Скурихину. Тот прочел не спеша, обстоятельно, несколько раз.
— В целом правильно. Отсылай. Хорошо бы еще и подсобить ей. Да как?
Слободкин молчал, не в силах что-либо придумать.
— Надо разузнать на заводе как следует, — сказал Скурихин, — не бывает ли оказии какой в Москву. Попроси Зимовца своего, пусть разведает. Картошки старуха еще принесет. Вот тебе и гостинец матери. Много ли ей нужно?
Слободкина все больше поражал Скурихин. Сам еле жив. И старухе его, конечно, не сладко. А сколько добра в этом сердце, сколько желания помочь другому, в сущности совсем чужому, незнакомому человеку! С таким не пропадешь, думал Слободкин. Хотел даже насчет Ины ему рассказать, потом передумал. Чего зря болтать? Зимовец пишет, что заняться как следует ее розыском ему все еще некогда. Что верно, то верно. Некогда. Да и подумать только! На многие сотни верст вокруг в заметенных снегами степях разбросаны деревушки. Ни дорог между ними, ни тропок. Если только случай поможет напасть на след Ины. Оставалось одно — надеяться. И при первой возможности идти в обком комсомола.
Не стал Слободкин рассказывать Скурихину и о газете, присланной Зимовцом с завода. Там какой-то чудак расписал «человека в кавалерийской шинели» чуть ли не героем. Заметка так и называлась «Подвиг Слободкина». Сергей прочитал ее со смущением. Все вроде было точно, без выдумки. И про бомбежку, и про снятую на морозе шинель и про контузию, но слова какие-то такие откапывал репортер, так лихо их поворачивал, что деваться было некуда — герой, да и только!
Но сам-то Слободкин прекрасно понимал: вся эта лихость газеты не к месту. Он был просто жалок, совершенно беспомощен, когда осколком пробило дверцу камеры. Если бы не Каганов с военпредом, все испытания вообще пошли бы прахом. Но ни о мастере, ни о военпреде в газете почему-то сказано не было.
Сергей внимательно изучил остальные статьи и заметки. Они понравились ему гораздо больше. Он узнал много интересного о жизни завода. Оказалось, что с их девятым цехом решил помериться силой седьмой, сборочный. Было напечатано письмо фронтовика, бывшего работника завода. Под письмом стояло: «Действующая армия». Эту короткую строчку Слободкин прочитал несколько раз. «Действующая армия… Действующая!..»
— Что ты там бубнишь? — спросил его Скурихин.
— Все о роте своей вспоминаю.
— Старая твоя рота сейчас неизвестно где, браток, ты к новой привыкай пока.
— Начал было привыкать, да вот куда угодил. Это хуже штрафной будет.
— А ты ворчун, Слободкин. Чего расходился? Кормят тебя? Поят? Лечат? Почту даже стали носить. Свежих газет только не хватает.
«Заметил все-таки старик газету? Или нет? Заметил, понял, что показать ему не хочу, и теперь хитрит. А может, мне почудилось просто?»
Слободкин на всякий случай сунул газету под подушку. И поглубже. А сам принялся писать послание Зимовцу, готовясь к его следующему приходу: «Срочно ищи военпреда, едущего в Москву. Матери моей совсем, по-моему, плохо. Кило два-три картошки хочу ей послать. Откуда возьму? Анисьевский свет не без добрых людей. Подробней потом объясню, при встрече».
Правда, записка долго, несколько дней и ночей, пролежала у Слободкина. Он сам читал, перечитывал ее, а Зимовец все не шел. Старуха же Скурихина наведывалась чуть не ежедневно, и вскоре в тумбочке Слободкина громоздилась целая пирамида печеных картофелин…
Когда Слободкин наконец поправился и настал час расставания со Скурихиным, он сказал старику:
— Думал, в госпитале самое медленное время на земле. Ошибся на соломинку.
— Я тебе как-то сказал уже — не ворчи. Здоров — и слава богу. Теперь все образуется. Счастливый ты, Сергей, а счастливым ворчать не положено.
— Я не ворчу, а радуюсь. Да и вам стало лучше.
— Это все картошка старухина. Ты глянь на себя — округлился и вообще…
Слободкин достал из тумбочки зеркальце.
Старик засмеялся.
— Разве такая физиономия влезет? Тебе теперь трумо подавай!
Сколько пролежали они вместе тут? Немногим больше месяца. Но для Слободкина Скурихин вроде родного стал. Старый тоже привязался к нему.
— Навестишь разок? — спросил Скурихин, слабо пожимая руку Сергея.
— При самой первой возможности… И возьмите вот это. — Слободкин положил на тумбочку Скурихина зажигалку.
— Зачем еще? Тебе самому сгодится, без огня пропадешь, а я все равно не курю.
— Возьмите, прошу вас. Просто так, на память о нашей встрече.
Он хотел сказать многое старику, но вдруг застеснялся, сделал вид, что торопится, и уже с порога, не останавливаясь, словно боясь задержаться лишнюю минуту, произнес неожиданно охрипшим голосом:
— Супруге привет передайте. Вот такой! — Он широко развел руки в стороны. — А к окошку не подходите, ладно? Я няне слово дал, что не встанете.
Скурихин не ответил, только кивнул ему и отвернулся к стене.
На дворе уже во всем ощущалось приближение весны. Слободкина даже качнуло, как пьяного, когда он, проскочив под тяжелой капелью, сделал первый шаг по улице, к которой столько времени приглядывался из окна. В этот же миг он почувствовал, что Скурихин все-таки смотрит ему вслед из своего заточения. Оглянувшись и действительно обнаружив в проеме окна фигуру старика, погрозил ему пальцем, беззвучно, одними губами, прокричал что-то ворчливо-радостное и зашагал к Волге.
Часто оборачиваясь, Слободкин шел, не разбирая дороги, спотыкаясь о поваленные телеграфные столбы, то тут, то там перегородившие узкую улицу, и, только очутившись у самой Волги и потеряв из виду окно со стариком, внимательно поглядел вокруг.
В последние дни налеты почти прекратились, но в воздухе, густо перемешанный с бесчисленными и волнующими запахами весны, все еще висел запах гари и смрада. На потемневшем, талом снегу лежали длинные полосы рыжего песка, выброшенного из воронок. От этого небо казалось еще более голубым и высоким, облака еще более белыми.
Неожиданно Слободкин столкнулся с маленькой девочкой. Веснушчатая, в обвисших сборках рваного, кое-как завязанного на спине платка, она удивленно подняла голову и спросила:
— Дяденька, а где твое ружье?
Если бы она знала, что значит для Слободкина этот вопрос! Он даже вздрогнул и смущенно оглянулся.
— Тебя как зовут?
— Соня.
— Мамка твоя где?
— На заводе. Она завтра придет. А папа не скоро. Он там. — Она махнула рукой в неопределенном направлении.
— Куда же ты идешь?
— Я гуляю, я никуда не иду.
Слободкин увидел на груди девочки подвешенный на веревочке ключ.
— Это от дома?
— От дома. Мне откроет дядя Саша. У нас замок тугой.
— А ты есть хочешь?
— Хочу.
Слободкин достал из кармана печеную картофелину — одну из тех, которые принесла для его матери жена Скурихина. Девочка робко протянула руку, но есть стала сразу же — жадно, прямо с кожурой. От этого губы, нос и щеки у нее сделались такими черными, что веснушки сразу исчезли.
— Что ты так смотришь? — спросила она Слободкина.
— Веснушки твои ищу.
Улыбка на мгновение преобразила вытянутое детское личико.
Слободкин положил в ладошку Сони еще одну картофелину.
— Ешь.
— Это я мамке оставлю. Можно?
— Можно.
— А ты еще придешь?
— Постараюсь…
Слободкин постоял несколько минут, не зная, как закончить разговор, потом, сказав девочке, чтоб ни в коем случае не отходила далеко от дома, попрощавшись с ней, как со взрослой, за руку, пошел своей дорогой.
Глава 6
Сергей не узнал завода. Всюду еще были видны следы разрушений, но почти на каждом шагу попадались ему рабочие с носилками и лопатами в руках. Растаскивали завалы, засыпали воронки, ровняли дорогу. Слышался чей-то смех. Где-то сквозь шум работы попробовала было прорваться песня, правда, сил у нее не хватило, и она заглохла так же неожиданно, как началась. На покосившемся столбе колотился квадрат фанеры, по которому наискось углем было написано: «Все на субботник!»
— Разве сегодня не воскресенье? — спросил Слободкин каких-то парней, тащивших навстречу ему тяжелое бревно.
— Понедельник! — не очень приветливо отозвался один из них.
— А почему же субботник?
— Почему, почему… Ты что, с неба свалился? Точно, с неба! Васька, это ж парашютист из девятого! Гляди-ка, на пользу пошла больница.
Ребята сбросили с плеч бревно.
— Жив, значит?
— Оклемался.
— Ну, давно бы так. Заждались тебя в твоем девятом. Токарь все-таки.
— Что нового на заводе?
— Бомбить стал меньше. План перевыполнили. Вот и все новости, пожалуй. Ну, нам работать пора. Привет!
Ребята подняли бревно. Уже на ходу один из них обернулся и крикнул Слободкину:
— «Крокодил» вон возле главного корпуса вывесили, почитай — все узнаешь!
Сергей уже издалека заметил фанерный щит, в центре которого красовался разрисованный лист ватмана. Ускорил шаг, подошел вплотную. Среди множества рисунков особенно выделялся один: поднявшийся во весь рост крокодил в одной лапе держал букет цветов, в другой — отточенные вилы, три острия которых под кистью изобретательного художника образовали букву «Ш» в заголовке — «Шагай вперед, к победам новым!» Рядом с рисунком стихи:
Шагай вперед, к победам новым, Вот с этим знаменем в руках. В труде упорном и суровом Шагай — перед тобою враг. Трудись, усталости не ведай, Громи врага штыком, трудом, Чтоб за победою победа Входила в наш советский дом!Слободкин с интересом стал рассматривать рисунки. Это были дружеские шаржи на людей, среди которых встречались знакомые ему рабочие, мастера, инженеры. Он узнал братьев Николая и Алексея Грачевых, сборщиков из десятого цеха, ветерана Сергея Сергеевича Степичева — лучшего на заводе регулировщика. И с особой радостью — своего мастера. Внешнее сходство было поразительным, несмотря на то что худая, тщедушная фигура Каганова превратилась под кистью художника в богатырскую, закованную в доспехи средневекового рыцаря. Бок о бок с этим богатырем, гордо подбоченясь, стоял другой — тоже в латах, в кольчуге и шлеме. Стихи, посвященные рыцарям, как и все предыдущие, были написаны красной тушью и выдержаны в приподнятом тоне:
Ткачев, Каганов, ваши руки Пожать бы мог и Фарадей! Вы — кладезь творческих идей, — Сказал бы этот муж науки!Правда, Слободкин еще не знал, кто такой Ткачев, но человек он, судя по всему, уважаемый. «А может, в нашем цехе работает? Надо будет обязательно спросить у Зимовца или даже у самого мастера».
Почти весь номер «Крокодила» был заполнен веселыми шаржами. Только в самом конце прочитал Сергей несколько ядовитых строк. В них прозой, перемешанной со стихами, говорилось о том, что «ночные смены до сих пор продолжают оставаться узким местом и надо наводить в них строгий порядок». Тут рисунка уже не было, и текст был написан не красной, а черной тушью, — очевидно, для того, чтобы подчеркнуть отрицательное отношение редакции к позорному явлению:
У нас теперь одна забота — Чтоб лучше фронту помогать. Ночная смена — чтоб работать, А не затем, чтоб сладко спать!«Вот это совсем толково! Молодцы заводские газетчики, — подумал Слободкин, — в сатире кое-что получается. Хвалят наивно, иногда без меры (он опять вспомнил заметку о своих злоключениях у холодильных камер), а стружку снимают неплохо!»
Под всеми рисунками и текстами Слободкину бросилась в глаза старательно выведенная крупным курсивом строка: «Орган парткома завода. Выходит по пятницам». Слободкин удивился: «Каждую неделю выпускают „Крокодил“? Это же здорово! Значит, нормальная жизнь налаживается!»
Сергей зашагал по заводскому двору быстрей. Дойдя до своего девятого, он и вовсе повеселел. Сейчас увидит всех — Зимовца, Каганова, Баденкова. Соскучился без них. И без работы тоже. Кожа на пальцах стала до противности белой и тонкой. «Белоручка! Поглядел бы сейчас на меня кто-нибудь из роты. Кузя или Брага, например! Или, еще того пуще, ротный поэт Калинычев. Что сорвалось бы с его пера? Наверно, что-нибудь вроде облетевшей всю бригаду, но, слава богу, нигде не напечатанной частушки, сочиненной в тот день, когда я побоялся совершить свой первый прыжок с парашютом и был „привезен“ обратно на землю».
Слободкин думал сейчас об этом спокойно. Потому что тогда же, вскоре после своего позора, прыгнул все-таки и больше уже никогда не трусил. Пересилил себя. Во всяком случае, никому не показывал своей слабости. Даже самому себе не сознавался больше, что дрейфит, выходя на крыло самолета. Но Калинычев, конечно, силен! Классика в перелицовку пустил, лишь бы похлеще разделать товарища. Наверняка были бы нынче зарифмованы белые ручки! И опять справедливо. Куда денешься? Все воюют, все работают, а Слободкин то ранен, то болен, то лечится, то выздоравливает…
— Ага, попался! — Холодные, цепкие пальцы плотно, как противогазная маска, залепили щеки и глаза Слободкина, запрокинули назад его голову.
— Зимовец, ты, что ли?..
Слободкин еле вырвался из объятий друга.
— А ты ничего, Слобода! Округлился. Сколько мы не виделись? Месяц? С гаком? И сколько в гаке?
— Мне самому гак показался длинней месяца.
— Молодец, что духом не пал.
— А зачем падать? Я могу еще пригодиться кому-нибудь.
— Еще бы! Здесь такие дела, Слобода! Вчера на митинге директор говорил: знамя ГКО нам присудили. Государственного Комитета Обороны! Как черти вкалывали все это время — в каждом цехе, в каждой бригаде. А теперь и подавно дадим духу: знамя!..
Зимовец схватил приятеля за руку, повел в цех. Первым попался им на глаза Каганов.
— Слободкин?.. Здравствуй! Ну как оно? Приступаешь? Второй раз в мое распоряжение, и второй раз вот как вовремя!
— Опять в морозилку?
— Что ты! Мы с этой проблемой теперь по-другому расправились. У главного технолога сто совещаний прошло, сто заседаний. Полная техническая революция! А станок твой опять ржавеет… Кого только не приспосабливали к нему, кого только не сватали!
— Совсем, наверно, разладили? Хуже всего, когда много хозяев.
— Теперь один будет. — Каганов осмотрел Слободкина со всех сторон и даже похлопал его по плечу. — Читал газеты? Как тебя расписали-то! А? «Подвиг Слободкина»…
— В газетах или в газете? — мрачно переспросил Слободкин.
— Именно в газетах: и в нашей, заводской, и даже в «Комсомолке».
— А я про вас в «Крокодиле» прочел, — сказал Слободкин, чтобы скорей переменить тему разговора. — Хороший стих сочинили. И нарисовали — копия! Кто там с вами рядом, забыл?
— Как кто? Ткачев Лева! Лев Иваныч, инженер-технолог. Только не он со мной, а я рядом с ним, — поправил Каганов, — это не одно и то же, понял?
— Не очень, — сознался Слободкин.
— О Ткачеве когда-нибудь узнает весь мир. Он тут под бомбами до такого додумался — закачаешься! Изобретение века!
— Теперь уж совсем непонятно.
— Видел ли ты, чтоб в плохую погоду во время ночной бомбежки навстречу «юнкерсу», несущему бомбы, поднимался истребитель?
— Видел «ЯК-1».
— Правильно, отдельные случаи есть, не спорю. Но при нынешнем уровне техники истребитель, даже самый первоклассный, ночью почти беспомощен. Все гироскопические приборы, какой бы идеальной конструкции они ни были, обладают существенными погрешностями. Давно уже возник вопрос: может ли летчик без ориентации на небесные светила и земные ориентиры получать точные показания горизонта, азимута, скорости, местоположения своего самолета? Оказывается, может! Теоретически это Ткачевым уже обосновано на все сто, дойдет дело и до практики. Ты понял, Слободкин? А ты, Зимовец?
— Только самую малость, — сказал Слободкин.
Зимовец покачал головой.
— Одним словом, будут, ребята, наши истребители летать и драться в любую погоду, в любых условиях! А больше ничего сказать вам не могу. Штука эта, понятное дело, строго секретная. Так что сугубо между нами. — Каганов внимательно посмотрел на приятелей — сперва на одного, потом на другого. — Усвоили?
— Это понять в состоянии. Верно, Зима? — спросил Слободкин.
— Вы хорошо объяснили, научно, — согласился Зимовец. — В любую погоду летать и драться — это здорово! Мечта каждого летчика, по-моему. Вы не слышали, как они зубами скрипят?
— Кто? — удивленно спросил Каганов.
— Ребята с «ястребков». Со мной лежал один в госпитале. Все мне спать не давал по ночам. Растолкаю, бывало, его: «Не скрипи, говорю, страх берет». Он полежит-полежит тихо — и опять как ножом по сердцу. Утром бледнющий, словно его только что привезли, а уже месяц со мной валяется с лишком. Врачи головами качают, понять ничего не могут. «Что, говорю, с тобой, кореш?» — «Сон, отвечает, страшный видел. Будто подняться никак не могу». Я ему в ответ: «Плюнь ты на все, подымайся, ходи, тебе ясно сказано — можно!» А он: «Встать-то дело нехитрое. Покурю вот и встану. Взлететь не могу, понимаешь? Они в любую ночь надо мной бомбы волокут на Москву, а я к земле приколочен. Командир полка сам решает, кого выпускать и в какую погоду…»
— Вот-вот, — оживился Каганов, — таких «приколоченных» сколько угодно. Летчики-то они прекрасные — техника от них отстает. Сейчас на заводе все это поняли. Заработала мысль как никогда. Одних рацпредложений гора! Разбирать не успеваем в БРИЗе. Двое рабочих на сборке новый способ нанесения светомассы придумали — поразительный! Ни ударов, ни воды не боится, никакая коррозия не берет. Простые рабочие.
— Жоголев и Ручьев, — уточнил Зимовец.
— Правильно, Николай Васильевич Жоголев и Николай Емельянович Ручьев. Их теперь все на заводе знают. Сам директор при встрече земной поклон отвешивает. Из главка телеграмма пришла — поздравляют, премируют, желают новых успехов. А что до Ткачева, то он вообще голова. Когда-нибудь это все узнают и оценят. Но вернемся, что называется, с небес на землю. На чем мы остановились? Ах, да, на заметках в газетах…
Зимовец перебил Каганова:
— Теперь Слобода письма начнет получать от девчат. Со всего Советского Союза! Получаешь уже? Признавайся.
— Письма?.. — многозначительно переспросил Слободкин и с укором посмотрел в глаза приятелю.
Ничего не подозревавший Каганов рассмеялся.
— Какая-нибудь энтузиастка уже ходит сейчас вокруг завода. Берегись, солдат, опомниться не успеешь, в женихи попадешь.
Зимовец, видя, что Слободкин нахмурился, заговорил о другом:
— Савватеев справлялся о тебе несколько раз. Ты ему кружок парашютный обещал организовать?
— Обещал.
— Желающих, говорит, много. И ребята и девчата записываются. И комсомольцы, и беспартийные…
— Я свои обещания привык выполнять, — хмуро сказал Слободкин.
— А ты не злись. Все, что было в моих силах, я сделал. Весь обком на ноги поставил. Весь сектор учета. Ищут.
— Так кого же все-таки? Обком? Или сектор?
— Я сказал уже тебе — злиться не на кого.
— В кружок-то хоть записался по крайней мере?
— Запишусь.
— Вы о чем, братцы? — спросил ничего не понявший Каганов.
— Кружок парашютистов будет у нас на заводе. Слободкин — руководителем.
— А… Ну что ж, неплохо, отлично даже…
— Товарищ мастер! Вас главный диспетчер вызывает! — крикнула какая-то девушка, выбежавшая им навстречу из-за штабелей ящиков.
Каганов устало вздохнул.
— Никогда не дадут поговорить спокойно. Так вот, Слободкин, кружок дело все же десятое. Во-первых, станок, во-вторых, станок, и, в-третьих, тоже он. Это я совершенно серьезно.
Откровенно говоря, Слободкину показались обидными эти слова.
— Неплохой человек Каганов, да узковато смотрит на некоторые вещи, — проворчал он, когда мастер ушел.
— У каждого своя забота. Первое место, которое завоевал цех, у него вот тут сидит. — Зимовец похлопал себя по загривку. — Его художник в рыцарских латах изобразил, а рыцаря этого на каждой летучке знаешь как драят? Из-под доспехов тех только перья летят! Ощиплют, как куренка, снова латы напялит до следующей летучки-вздрючки. Так что ему парашютом голову не забивай пока.
— А тебе?
— Запишусь, запишусь, сказал ведь. Не знаю только, сам-то найдешь ли время для занятий? Спины разогнуть не дадут, учти. Вот, полюбуйся на своего красавца!
Они подошли к закоулку цеха, в котором посреди черной лужи стоял токарный станок. Его части были снова густо покрыты ржавчиной. Ключ торчал прямо в патроне. Дверца тумбочки висела на одной петле.
Слободкин выругался.
— Я же сказал тебе, работенки хоть отбавляй. — Зимовец нарисовал пальцем на ржавчине какую-то замысловатую фигуру.
— Разве о «работенке» речь? Станок до чего довели!
— Кругом протекает. Крыша продырявлена, — как бы оправдываясь за кого-то, сказал Зимовец. — Решето, а не железо. Ты же сам знаешь, почти каждую ночь были бомбежки. Спасибо, до конца не спалил. И еще хорошо, что теперь чуть тише стало.
Сергей слушал Зимовца и словно не слышал. Он уже принялся за свой станок.
— Ну ладно, я потопал, — сказал Зимовец. — В обед увидимся. Кстати, столовка теперь не то, что тогда. Справляется. Город дровец подкинул.
Не успел Слободкин привести в порядок станок, как со всех концов цеха потянулись к нему бригадиры с нарядами. На углу каждой бумаги размашистым почерком Баденкова было начертано: «Срочно»…
Слободкин вбил в крышку тумбочки дюймовый гвоздь и на него стал накалывать бланки нарядов, чтобы не сбиться, не напутать чего-нибудь.
Стопка бумаг росла и росла, работа, наоборот, едва двигалась. Резцы то тупились, то вовсе ломались, то никак не хотели закрепляться в нужном положении. Руки за время болезни совсем отвыкли от работы, не желали слушаться, дрожали. Слободкин понял, что с треском проваливается, не справляется с возросшим темпом работы цеха.
Шел час за часом, голубые квадраты неба на суппорте отчищенного станка давно стали серыми, едва различимыми, а Зимовец все не появлялся. Бригадиры же народ замотанный, с ними не поговоришь, не посоветуешься. «Слободкин, привет!», «Давай, давай, Слободкин!» — и дальше всяк по своим делам. Каганов тоже как ушел, так больше и не вернулся. Только сквозь шум мотора из глубины цеха иногда доносился до Слободкина пронзительный девичий голос:
— Каганов, к начальнику! Каганова к директору! Срочно в партком Каганова!..
Кажется, никогда в жизни не ждал Сергей обеда с таким нетерпением, как сегодня. Есть ему вовсе не хотелось, хотя за полдня во рту еще крошки не было. Просто надо было отдышаться, прийти в себя, потом попробовать как-то по-иному организовать свой труд. Даже в десанте во время изнурительных маршей-бросков не мечтал он об отдыхе так, как сейчас. Там иной раз в болото падал от усталости. На замшелую кочку, как на подушку, головой. Тут посреди нефтяной лужи готов был растянуться и не двигаться. Там командир, бывало, только глазом поведет, силы сами откуда-то являются. Здесь командира рядом не было. Цеховому начальству не до него, а Зимовец пропал без следа, несознательный элемент. Да и что он смыслит, Зимовец, в токарном деле? И Каганов вместе с ним. Посочувствовать только могут, в положение войти. Больше всего на свете он не любил, когда его жалели. Из-за этой жалости он с Кузей один раз чуть не поссорился, с первейшим другом своим по роте. Это случилось, когда никак не мог заставить себя перебороть страх перед первым прыжком, а Кузя полез со своими утешениями. Со всей ротой едва не переругался, когда она, рота, за Кузей вслед поглядела на него слишком сочувственно. Никто не знал тогда, какая злость закипала в сердце Слободкина. В первую очередь на самого себя, разумеется. Какой же он ничтожный, какой прижатый к земле, если любой может покровительственно похлопать его по загривку! И сказать еще при этом что-нибудь вроде «оно конечно»…
Сейчас перед непослушным станком он стоял такой жалкий в своей беспомощности! Оставалось только благодарить судьбу, что нет пока свидетелей его позора. Он и благодарил. Земные поклоны отвешивал. Нагнется за вырвавшейся и укатившейся черт ее знает куда деталью, а сам шепчет: «Слава тебе, господи, ни одна живая душа, кажись, не видела». Нагнется за другой — опять про себя бормочет: «Подольше бы вас, чертиков, не было! Не показывайтесь еще хоть часок. Еще полчасика. Еще минутку…»
Это так думал Слободкин, но когда за спиной его раздался голос Зимовца, рассердился совсем по-другому:
— Ну где тебя носит нелегкая столько времени?
— Неблагодарная душа! По твоим делам бегал во все концы, а ты…
— По каким еще?
— УДП оформлял. На, держи! — Зимовец сунул в руку Слободкина какую-то пеструю бумажку.
— Что это?..
— УДП, говорю. Усиленное дополнительное питание. Дали как бывшему фронтовику.
Слободкин повертел перед глазами непонятный листок.
— А у тебя есть это УДП?
— Было, когда чувствовал себя плохо.
— А кто знал про твое самочувствие? Ты что, жаловался? К врачам ходил?
— Нет, не ходил. Просто подошел ко мне как-то парторг Строганов и говорит: «Зимовец, на тебе лица нет».
— Ну ладно, допустим. Дальше?
— Дальше спрашивает: «Фронтовик?» — «Фронтовик», — говорю.
— Уже не сходится, — не без ехидства заметил Слободкин.
— Что не сходится?
— По фамилии знает, а что фронтовик, запамятовал? Да и форма на тебе, он же видит.
— Про фронт это он для других сказал. Он фронтовиков всегда в пример ставит.
— И что же, сам взял и выдал тебе УДП?
— Зачем сам? Он мне записку дал в завком. А там уж оформили по всем правилам.
— Но меня он вообще видел один раз за все время, твой Строганов.
— Но знать о тебе знает. И не вздумай артачиться. Это же смешно и глупо, в конце концов!
Зимовец начал сердиться по-настоящему. Поймав его взгляд, Слободкин отступил:
— А!.. Пусть будет по-твоему. Только с условием.
— С каким еще условием?
— На нас на двоих. Как фронтовику, тебе половину прописываю.
— Не много ли лишних слов вокруг сущего пустяка? Если бы ты знал, что это такое, УДП, ты бы, ей-богу, не тратил пороху попусту. Не слышал, как заводские остряки это дело расшифровали?
— Нет, не слышал.
— «Умрешь днем позже».
— Действительно остряки!
— С шуткой оно все-таки веселей как-то. Ты сам говорил.
— Это верно. Ну ладно, идем отпробуем твоего «усиленного». А то мутит даже.
Зимовец был прав. По талону УДП Слободкину плеснули еще один неполный черпак зеленой жижи. Она так густо дымилась, что не успела остыть, пока Слободкин донес миску до стола и разделил порцию надвое.
— Ну вот, а ты отказывался, — заметив, как торопливо Слободкин работает ложкой, сказал Зимовец.
— Ты тоже хвалил УДП не особенно, — ответил ему Слободкин, — а за тобой не угонишься.
— Просто мне в цех надо скорей.
— И мне туда же. Вот и наворачиваю!
Работа после обеда пошла по-иному. Сергей почувствовал это с первых минут, с первых оборотов патрона. Мотор загудел ровнее, увереннее, приводной ремень вдруг перестал хлопать. Позднее Слободкин узнал, что во время обеденного перерыва ремень починил шорник, но сейчас готов был отнести и это за счет общего «улучшения погоды», как назвал он для себя ту обстановку, которую застал на заводе после возвращения из больницы.
Что же тут, собственно, произошло в его отсутствие? В чем секрет перемен? Кто все это наладил, отрегулировал, привел в порядок? Было так плохо, что Слободкин не знал, долго ли он, ко всему привыкший человек, выдержит. Теперь уже можно в этом признаться. А сейчас? Или это весна все наладила? Осветила солнцем, обогрела теплом, родила надежды. Да, и она, конечно. Но главное было, несомненно, в том, что дела на фронте стали лучше. Вот и здесь все пошло по-иному.
Он говорил так с самим собой, и ему чудилось в эти минуты, что он слышит биение железного сердца. Железного и в прямом, и в переносном смысле слова. Да-да, железного. Вот оно гремит сейчас и в его станке. А там, за штабелями желтых ящиков для автопилотов, оно пульсирует в установках, проверяющих приборы на вибрацию. Слободкин отчетливо представил себе большие, сотрясаемые вибраторами столы, на которых закреплены приборы. Ритм их вибрации был ритмом сердца завода. Не слишком частым и не слишком редким — ритмом крепкого, здорового организма. Перенесшего болезнь, но одолевшего ее доблестно и ставшего еще сильнее, еще жизнеспособнее.
Люди, работающие вокруг, показались Слободкину действительно чудо-богатырями из сказки. Не только Каганов, не только Ткачев. Они-то уж само собой. А тот, что в сандалиях по снегу? А Вася Попков, гордо именующий себя бригадой? А Баденков? А дружок его закадычный? Все, все, решительно каждый богатырь! Если б Каганов выполнил свою угрозу и в самом деле «продал» его в газету, он так и написал бы обо всех этих людях — богатыри. Ни холод, ни голод им не страшны, ни хворь, ни бомбежка их не берут. То есть берут, конечно, и еще как берут! Прямо за жабры. Но они не сдаются, лапок кверху не тянут — в этом и есть их сила. Железное сердце в железных людях. Подумать только! В таких условиях ни на минуту не остановили выпуск приборов и постепенно все наращивают и наращивают темп работы. Приборы конвейером идут на фронт. Сплошным потоком. Не остановятся ни на миг колеса и пропеллеры России!
Хорошо на душе у Слободкина делалось от этих мыслей. К нему постепенно приходило ощущение, что и сам он среди этих людей что-то значит, чего-то стоит в конечном счете. Вместе с ними, среди них он, пожалуй, способен на большее, чем может показаться на первый взгляд.
Длинным или коротким был этот день? Трудным или легким? Уже ночью, на койке барака, вспоминая его весь, час за часом, минута за минутой, Слободкин не мог ответить ни на один из этих вопросов. День был бесконечно длинным. И пролетел мгновенно. Руки ныли от усталости. И дрожали от счастья. Им удалось наконец совладать со станком, справиться с его норовом! Вот и сейчас дрожат.
Слободкин поднес к лицу свои пальцы. Он не видел их в этот миг, но ему вдруг показалось, что они снова распухли, как тогда, в больнице, после обморожения. Непослушные, чужие, они беспомощно перебирали темноту перед глазами.
В глубине барака кто-то чиркнул зажигалкой. Слободкин растопырил пальцы навстречу свету и удивился — руки как руки. Натружены только, намучены. Отвыкли от работы. Но сила в них вон какая! В сто раз больше, чем раньше. Он сжал кулаки и, пока желтое пламя зажигалки стало синим, тусклым и наконец совсем исчезло, успел увидеть отражение своих рук на противоположной стене барака. Их огромные тени заняли все пространство от пола до потолка.
— Эй! — крикнул Слободкин неизвестному курильщику.
— Чего тебе? — полусонно отозвался тот.
— Горючее есть?
— Давай двигай сюда, прикуривай.
— Да нет, мне просто свет нужен. Засвети еще разок. А?
Еще на короткое мгновение озарились зыбким светом стены барака. На одной из них, сверкавшей инеем, снова мощно и гордо распростерлись две косые пятипалые тени…
Через несколько минут Слободкину уже снился сон. Такой же удивительный, как это видение с тенями. Он лежал на травяной росной поляне — спиной к земле, лицом к небу. За его плечами было все — вся Россия, вся Земля. Перед глазами бесконечное синее небо с горячим солнцем в зените. И вот он уже не на поляне, а распластан под форштевнем несущегося вперед корабля. За его спиной — всплески весел, шелест парусов. Прямо перед ним только облака и волны. Он, Слободкин, на самой передней точке этого парусного полета. И как все-таки замечательно, что у него такие огромные и сильные руки. Вот они становятся крыльями. Вот распахнуты над простором и со свистом рассекают воздух. Взмах, другой, третий…
— Ты что, Слобода, размахался? Хочешь совсем меня скинуть? Да? — Голос Зимовца, спросонья охрипший, гудит над самым ухом Слободкина.
Через минуту, засыпая снова, Зимовец успевает сказать приятелю:
— Тарас Тарасыч велел тебе завтра раньше на час выйти. Ты спишь или не спишь?
— Какой еще Тарасыч? Ты сам-то спишь, как суслик.
— Нет, серьезно, Слобода, у Каганова новый сменщик, тоже мастер, я тебе не рассказывал?
— Чего ему нужно от меня?
— Не знаю. Сказано — на два часа раньше, значит, на два.
— Сказано — на час, — уточняет Слободкин.
— Правильно! Теперь вижу, что не дрыхнешь, а притворяешься. Могу спать, не забудешь?
— Не забуду, спи. А зачем я ему все-таки сдался, твоему Тарасычу?
Зимовец не отвечает. Слободкин больше не спрашивает. Одна койка у дружков на двоих. Сон тоже, кажется, один, общий. Теперь Слободкин ворчит откуда-то из охватившей его дремы:
— Ты чего мечешься, Зимовец? Локтищи у тебя как штыки. Поаккуратней, слышишь?
Короткая ночь. Раннее, незаметно подкравшееся и тоже короткое утро. У Сергея настолько короткое, что он, торопясь в цех, не успевает даже с другом двух слов сказать. В конторке девятого его дожидается Тарас Тарасович Симуков, немолодой человек с прямыми, торчащими, как щетки, бровями.
— Люблю точность! — воскликнул он, глянув сперва на Слободкина, потом на часы. — Так вот, товарищ Слободкин, имею ответственное поручение — организовать твою статью для областной газеты.
— Как — мою статью? — недоумевающе посмотрел на него Слободкин.
— Так. Ты фронтовик. Хотят люди твое слово слышать — об успехах завода и вообще…
— Какие люди?
— Народ, товарищ Слободкин. Массы.
— Вы, очевидно, что-то напутали…
— Ничего не напутал, все точно: в воскресном номере «Волжанки» должна быть твоя статья. И не волнуйся, пожалуйста, писать тебе не придется. Я уже все подготовил. Вот, от первой до последней строки. — Тарас Тарасович развернул веером перед Слободкиным целую пачку листков, сверху донизу исписанных мелким кудрявым почерком. — Читать будешь? Или доверяешь? Ты учти — я в этом деле собаку съел. За кого хочешь могу! За рабочего? С ходу! За колхозника? Пожалуйста! За директора нашего скажут — и за него напишу. Писал уже один раз…
— А за себя? — холодно спросил Слободкин.
Тарас Тарасович слегка покраснел, но тут же нашелся:
— Я, дорогой, хоть и являюсь одним из командиров производства, но все-таки, как говорится, пока не та фигура. Им все имена подавай! Симуков величина, видите ли, еще малая, фигуры не имеет. Но без Симукова ни туды и ни сюды. Так что не ты первый, Слободкин, не ты последний. Давай подписывай. Я должен еще «самому» показать.
Какому «самому», Симуков не сказал, но было в этом слове столько многозначительности, что упрямый Слободкин должен был тут непременно дрогнуть и сдаться. Но он смотрел на Тараса Тарасовича широко открытыми, удивленными глазами и молчал.
— Не понимаю, ничего не понимаю… — устало и как-то равнодушно сказал Слободкин после паузы.
— Чего не понимаешь? Чего? — с трудом сдерживая себя, чуть не крикнул Симуков.
— Кому и зачем нужно такое?
— У нас все на энтузиазме народа держится. И мы обязаны энтузиазм раздувать любыми средствами, любыми силами. И печатью тоже. Разве это так трудно понять?
— Я, наверно, никогда не пойму такого. Энтузиазм, говорите? Но зачем же его «раздувать»? Да еще любыми средствами! Тут уж не энтузиазм получится, а ерунда какая-то…
Слободкин был убежден в своей правоте и пытался хоть в чем-то убедить Симукова. Но тот чем дальше, тем становился упорнее. Видя, что все его доводы не производят впечатления, Тарас Тарасович пустил в ход самый главный, на его взгляд, самый веский:
— Тебе, Слободкин, такое доверие оказано, такая забота проявлена о твоей персоне, а ты не ценишь хорошего отношения.
— Вы о чем?
— Подумай как следует.
— Станок доверили? Спасибо. Огромное.
— Не притворяйся. УДП получил? Ты знаешь, кто и как его выхлопотал?
Слободкин отстегнул клапан кармана гимнастерки, вытащил талон и швырнул его на стол перед опешившим Симуковым. Слова при этом были сказаны самые простые, самые сдержанные. Рассказывая потом о случившемся Зимовцу и ругая его за то, что тот вверг его в неприятности с этим талоном — пропади он пропадом! — Слободкин ясно дал понять другу, что не унизился, сохранил чувство собственного достоинства в перепалке с Симуковым.
— Что же ты сказал ему все-таки? — спросил Слободкина Зимовец.
— Сказал, что работать иду. Что некогда тратить время на всякую чепуху.
— Ну и правильно. Он выслуживается, по-моему, этот Тарас. Вот тебе два человека — Каганов и он. На одном заводе, в одном цехе, в одинаковом положении, а присмотришься — два полюса. У одного действительно о фронте все думы, другой только тем и занят, что вприсядку перед начальством пляшет.
— А зачем?
— Спроси его.
— Я таких не встречал еще.
— Считай, тебе повезло. Сколько хочешь их. Посмотри вокруг повнимательней. Вот знамя мы получили, да? Прекрасное дело. Но люди, подобные Симукову, видят в этом только повод для треска и шума. А что шуметь? Что галдеть? Нажимать дружней надо, а не звонить в колокол.
— И работает он так же?
— Да как тебе сказать… Дело свое знает, опыт есть, но больше всего любит, чтоб его другим в пример ставили. Для этого у него все средства хороши. Не прочь и чужие заслуги себе приписать. Вот ты тогда в морозилке отличился. Он сказал на совещании у директора, что это наш, мол, девятый цех таких людей воспитывает. И еще себе в грудь кулаком при этом не забыл постучать.
— Зимовец, ты мне друг?
— Ну, допустим.
— Как друга, последний раз прошу — про морозилку больше ни слова. Надоело, ей-богу!
— Ладно, усвоил. Я тебе еще об Устименко хотел сказать. Это тоже своего рода Тарас Тарасыч.
— Устименко оставь в покое.
— К тебе-то он подкатился — будь здоров! И пилотку, и мыла кусок, и все такое прочее. Но посмотрел бы ты, как он с другими обращается, — с ремеслом, например. Ребята неделями в баню попасть не могут, а он во всех инстанциях «рапортует»: полный порядок, мол. Такой лисы я еще не видел. Вот тебе уже два экземпляра? Два. А в целом что получается? Черное за белое часто выдаем.
Слободкин задумался. Помолчав немного, сказал:
— Я от матери письмо получил, ты знаешь. Пишет, что все хорошо у нее. Послушаешь — выходит, так хорошо, словно лучше никогда и не было.
— Это разные вещи. Мать тебя огорчать не хочет, только и всего. С Устименко, а тем более с Симуковым ее не равняй.
— Что ты! Но в ответ я все-таки знаешь какое ей письмецо накатал? Прочитал бы — ахнул!
— Ну и правильно. Была бы у меня мать, я б своей то же самое написал. Дескать, ничего мне, мамаша, не нужно, все у меня имеется, даже валенки.
— Почему именно валенки? — удивился Слободкин.
— Она о них больше всего убивалась. Отец у нас с гражданской без ног пришел. Отморозил. Мать потом всегда говорила: «Пойдешь, сынок, служить, я тебе валенки с собой дам».
Зимовец посмотрел на свои измызганные, заштопанные проволокой кирзовые сапоги, потом на такие же сапоги Слободкина, потом опять на свои.
— Не довелось старой собирать меня в армию, чужие люди провожали. Ты чего скис, Слобода?
— Я? Нет, что ты! Тебе показалось…
— Не показалось. Вижу ведь, скис. Не горюй, у тебя-то все в порядке пока. — Зимовец посмотрел в глаза друга пристально, внимательно. Грустно-грустно.
Глава 7
Случилось так, что и второе письмо от матери Слободкин получил через Зимовца. У того завелось знакомство на почте, и всякий раз, проходя мимо, он не забывал спросить, нет ли чего для друга. И когда письма снова не было, отходил от окошка с таким видом, будто сам ждал этой весточки и не дождался. Сегодня, получив наконец письмо, адресованное Сергею, Зимовец торопился отыскать приятеля, с которым не виделся почти целые сутки.
— Танцуй, Слобода! — торжественно потребовал Зимовец, размахивая письмом перед носом Слободкина.
— От мамы! — Сергей широко развел в стороны руки, то ли для того, чтобы действительно пуститься в пляс, то ли намереваясь обнять Зимовца.
— Не танец, а халтура, — отдавая письмо, проворчал тот.
— Прочитаю — спляшу.
Но чем внимательней вчитывался Слободкин в материнские строки, тем серьезней становился.
— Случилось что-нибудь? — заметив резкую перемену в настроении друга, спросил Зимовец.
— Нет, ничего…
Зимовец дал ему возможность дочитать до конца, потом спросил:
— Опять «все хорошо, сыночек»?
— Опять.
— Да-а. Там тоже, конечно, того…
Если первое письмо матери только насторожило Слободкина, то сквозь строки этого он ясно почувствовал, как мать постоянно недоедает, недосыпает, нуждается в самом насущном. Он читал, перечитывал скупые материнские слова, и его воображению рисовалась картина. Пришла мать с ночного дежурства в холодную, пустую квартиру. Поставила чай на электроплитку. Слободкин представлял себе все с такой наглядностью, что даже видел, как стекала холодная капля по стенке алюминиевого чайника, слышал, как, добравшись до еле тлевшей, бледно-малиновой спирали, она долго шипела и крутилась там, не в силах испариться. На первую каплю набегала другая, третья… Мать целый час дожидалась, когда закипит вода, но, так и не дождавшись, садилась с кружкой к столу и пила — без заварки, без сахара, заедая ломтиком черствого черного хлеба, умещавшимся на ладони. Он представил себе и эту ладонь — крохотную, иссеченную глубокими складками.
— Ты пиши ей чаще, — сказал Зимовец, понявший настроение друга. — От меня привет передай. Есть, мол, тут личность одна — Зимовец Прокофий Ильич. Такой-сякой, разэтакий, парень, в общем и целом ничего, только ночью сильно брыкается.
— Что ты! Как только узнает про нашу житуху, бросит все, пропуск оформит, примчится. Точно знаю.
— Ну, тогда пиши, что живешь в особняке и подают тебе по утрам кофе в постель.
Весь день Слободкин думал о матери, о том, как ей одной живется сейчас. Даже плакат с изображением седой, старой, много пережившей женщины заставил его вздрогнуть. Что бы такое придумать? Чем помочь? Зимовца спросить? Каганова? Нет, они тут бессильны. Скурихина? Неудобно. Его картошку тогда переправить не удалось: военпреды в Москву долго не ехали.
А капля воды, сползшая со стенки чайника на спираль плитки, все шипит и шипит в ушах Слободкина, сверлит сердце, насквозь прожигает. Пуля сердца не тронула, осколок миновал, но капля точь-в-точь угодила, по-снайперски…
Слободкин не мог вспомнить, как на следующее утро чуть свет оказался на рынке. На барахолке, которую ненавидел за то, что, имея деньги, там даже сейчас все можно купить — от хлеба до валенок. Так по крайней мере слышал он от рабочих в цехе. Цены были, по их рассказам, фантастические, никак не доходившие до сознания Слободкина. Особенно почему-то вздорожали якобы спички — в сотни раз по сравнению с их прежней стоимостью.
Сегодня, шагая вдоль рядов торгашей, он убеждался в этом воочию. За стакан обыкновенной махорки, к которой он решился на всякий случай прицениться, с него заломили такое, что Слободкин беззвучно выругался и пошел дальше, стараясь не глядеть на буханки рыжего хлеба, крынки топленого молока, бруски белого сала… Не глядеть на них, не слышать их одуряющего запаха. Просто так — пройти мимо всего. Из любопытства. Чтобы потом когда-нибудь вспомнить — до чего же это было дико и непонятно.
Впрочем, война есть война — все наружу, все без прикрас. В ком душа была чистая, светлая, она — наступит час, придет миг — еще ярче высветится. В ком дрянь бродила — до краев подымется. Как вот у того, например, что стоит, обнявшись с пшеничным караваем. Пальцы сплетены на пузе, аж посинели. Глаза нахальные. Таких Слободкин раньше только на карикатурах видел. А тут вот он, пожалуйста, живой. И какой еще живой!
Или вон та баба. Откуда такое самодовольство? Гогочет, как лошадь. Здорова, гладка! И щеки полыхают пунцово.
И сколько тут таких! Нагоняют и нагоняют цены. Все в заботах о том, как получше охмурить человека.
Над их толпами облаком плывет отвратительный гвалт. Кажется, разразись сейчас взрыв фугаски — и он потонет в клекоте луженых глоток.
Слободкин давно не бывал на рынке. Неужели и тогда, до войны, все было так же? Нет, конечно, именно теперь вся эта дрянь выползла. Раньше ее почти не видно и не слышно было. Хоронилась до поры. Он не мог точно вспомнить сейчас, к кому относились строки Маяковского: «Оглушить бы вас трехпалым свистом!», но именно эти полные злости слова рвались сейчас из сердца Слободкина. Он шагал вдоль рядов торгашей и про себя повторял строку за строкой. И странное дело! Какая великая у слов оказалась сила! Даже у каждого в отдельности. Вот уже рассечено ими облако гвалта, вот качнулось, сносимое в сторону… Минута — и стих, только стих звучит над базарной сутолокой:
Оглушить бы вас трехпалым свистом! Оглушить бы вас…На несколько коротких минут дышать стало легче, свободней. Но вот кто-то остановил его, дернул за рукав:
— Что продаешь?
Перед ним стоял тип, похожий на того, обнявшегося с буханкой.
— Ничего! — огрызнулся Слободкин.
— Неужто покупаешь? Интересно!..
— Иди ты знаешь куда!
— Нет, серьезно, солдат, может, карточки есть?
Слободкин взглянул на бесцеремонного барышника с удивлением:
— Тебе что нужно?
— Я сказал уже — карточки. Русский язык понимаешь? И не бойся, не ты первый, не ты последний. За рабочие полторы тыщи кладу не торгуясь. Цены знаешь небось?
Полторы! Слободкин стоял, растерявшийся, сбитый с толку такой наглостью. «А что, если в самом деле продать и отправить деньги матери? Все полторы. И еще из получки выкроить… Напишу ей, что зарабатывать стал больше, пусть купит себе хлеба или муки…»
Слободкин прикидывал, думал, а рука уже сама нашаривала в кармане карточки. Неожиданно для себя он сказал негромко, но решительно:
— За полторы согласен.
Со стороны могло показаться, что два человека обменялись дружеским рукопожатием. Никто не заметил, как весь содрогнулся Слободкин от прикосновения к холодной руке. Как другой, прежде чем небрежно сунуть за пазуху купленные карточки, успел так же небрежно и в то же время ловко, с тонким знанием дела, глянуть их «на свет» — не фальшивые ли? Как смущенно, не пересчитывая, Слободкин опустил в карман пачку жирных, сильно потрепанных и оттого уже не шелестевших, словно безжизненных, бумажек.
На почту идти времени уже не было, и Слободкин с рынка направился прямо в цех. Он еще не знал, как сумеет прожить почти целый месяц без хлеба. Знал только одно — от Зимовца продажа карточек должна быть скрыта во что бы то ни стало. «С голодухой как-нибудь справлюсь. Не впервой. А вот как быть с Зимовцом? Лучше всего, пожалуй, постараться не ходить вместе с ним в столовку».
Ухватившись за эту идею, Слободкин старался теперь продумать ее во всех деталях. Попросить Каганова, чтобы перевел в другую смену? Но ритм работы такой напряженный, рабочих рук настолько не хватает, что смены все перепутались и давно уже «заходят одна за другую», как сказал недавно на летучке Баденков.
И все-таки надо попытаться всеми правдами и неправдами разминуться с Зимовцом в сменах. Не бесконечно же штурм на аврал налезать будет?
До самого обеда Слободкин и так, и этак прикидывал, как ему «оторваться» от Зимовца, и ничего придумать не мог. А в цехе вдруг появился Строганов. С ним шли Баденков, Каганов, еще какие-то люди. Проходя мимо Слободкина, парторг узнал его, остановился, поздоровался за руку, приветливо заговорил:
— А! Фронтовик! Как успехи?
— Все нормально, — ответил Сергей.
— Хорошо или нормально? — переспросил Строганов.
— Нормально вполне.
— Как поживает десант?
— Какой десант? — удивился Слободкин.
— Вот тебе раз! Савватеев мне докладывает, что у нас целый взвод парашютистов сколачивается, а главный закоперщик и знать ничего не знает!
— Я от всего отстал немного, — как бы извиняясь, сказал Слободкин.
— Ничего себе отстал! Сказать вам, сколько вы провалялись после той бомбежки?
— Сколько?
— С точностью до одного часа знаю, если хотите.
Строганов достал из кармана гимнастерки записную книжечку, быстро нашел нужную ему страничку, поднес ее к глазам Слободкина.
— Точно?
— Вам честно сказать?
— Не понимаю, — удивленно посмотрел на Слободкина парторг.
— Сбился со счета в той больнице… Поверите?
— Вы молодой, товарищ Слободкин, дьявольски молодой! Вот и забываете. Вам можно. А я стареть начинаю, записывать стал. Тут у меня и про больницу, и про кружок парашютный, и про всякое такое. Так вот, насчет кружка — это толково. И даже помогу, если хотите. Только ребят прежде поры фронтом не дразните особенно. Договорились? Нам люди все еще вот как нужны! Специально бронируем. Даете слово, что сознательным будете?
— Да, — неуверенно ответил Слободкин.
— Ну и прекрасно. А затея в принципе, повторяю, отменная. Как представлю, даже завидки берут.
— Может, и вас записать? — пошутил Слободкин.
— А возьмете такого?
Строганов постучал ногой по станине станка. Раздался какой-то странный звук.
Увидев, как смутился Слободкин, Строганов сказал:
— Берите смело — ногу мне на заводе чинили. Дюралевая, не сломается. И еще — кабинет мой в вашем полном распоряжении. Это уж без шуток. Вместе со столом. Как раз такой, как вам нужен, — полированный, длинный, метров восемь. Словом, в любое время приходите и начинайте. С питанием у вас как? Неважно?
Слободкин решил соврать. Только сделал это, кажется, слишком лихо. Парторг посмотрел на него с нескрываемым удивлением, но ничего больше не сказал, молча пожал руку и двинулся дальше.
— Ты, Слобода, теперь на виду у всех, так что в случае чего держи хвост трубой, — сказал Зимовец вечером в бараке, поудобнее устраиваясь на своей половине койки. — Строганов возле тебя одного полчаса простоял.
— Не говори! А ты прав, мужик он свойский. Рабочие его любят, наверно?
— Ну, в любви рабочий класс объясняться не мастер, а так вроде ничего, уважают. В парашютисты к тебе просился?
— Стол свой для укладки отдает. Приходи, дескать, в любое время, у нас с тобой интересы сходятся: тебе нужен длинный стол, мне — короткие заседания. Представляешь, говорит, как теперь мне легко будет любителей многословных речей останавливать? А он, оказывается, инвалид?
— Скрывал первое время. Хромает и хромает. Потом, когда в инструментальном ногу ему мастерили, кто-то из слесарей проболтался. Оказалось, это еще на финской его.
— Я сначала решил, что ты брешешь. «Парторг, парторг! Все знает. Все видит…» Ну, думаю, Зимовец перед начальством дрожит.
Если бы в бараке было светлей, Зимовец увидел бы чуть улыбающиеся глаза друга.
О чем он думал сейчас? О первой роте? О кружке, который теперь скоро начнет работать?
Да, именно об этом. О первой роте. О ребятах. О кружке, который в сознании Слободкина все отчетливей становился мостиком между тем хоть и не особо героическим, но все-таки боевым прошлым и настоящим, где его окрестили героем, но где он ничего толком не знает и не умеет. Поэтому все его мысли там, в первой учебной, где бы ни была она сейчас, какие бы лишения ни испытывала.
О первой роте. О ребятах. О кружке.
И еще о том, чтоб весточка его скорей до Москвы добралась. И чтоб отыскалась Ина…
Он почему-то вспомнил сейчас, как с мальчишками в деревне, запустив змея, отправлял в небо «письма». Трепещущие белые уголки бумаги неслись по нитке ввысь, застревая на узлах, останавливаясь, снова устремляясь вперед, и наконец добирались до цели. Ребята с криками: «Читает! Читает!» — замирали на несколько секунд, чтобы услышать, как медленно, переливчато поет в небесах трещотка, словно выговаривает по складам начертанные в письме слова…
Слободкину почудилось, что его письмо к матери тоже вот так летит сейчас по проводам, как по ниточке. Летит, каким-то чудом ловко огибая столбы, задерживаясь на мгновение, чтобы одолеть узел, которым связаны провода после бомбежки, после обрыва. И снова в путь — через огонь, через дым, через сожженные города и села…
Уже совсем засыпая, он видел, как письмо его добралось до Москвы, получено матерью. «Читает, читает, перечитывает! И деньгам рада, хоть и сердится».
Глава 8
По Волге вторую неделю шагала весна. И на что уж много было забот у людей на заводе, а все-таки находили время — десяток минут перед сменой — выйти на берег, постоять у кипящей воды, возле самой ее кромки. Просто постоять. Посмотреть и послушать, как раскалываются друг о друга льдины, набирающие скорость с каждым часом, с каждой минутой. И странное дело: дробятся, дробятся ледяные поля — пополам, еще раз надвое, еще раз, еще, а мельче от того вроде бы не становятся, все такие же мощные, несокрушимые. Переламываются, кажется, только для того, чтобы поплотней и удобней притереться друг к другу, а потом снова спаяться, свариться намертво и стать в месте сварки еще прочнее. Пробуй такую льдину, волна, на излом, на разрыв, на износ…
Именно такое утро застало Слободкина на Волге. Он проснулся рано. То ли от голодухи не спалось, то ли весна в самом деле была такой же властной, как до войны. Вот уже несколько дней ел он баланду без хлеба, несколько дней бегал от Зимовца, как сумасшедший, придумывая всякие причины. То его «срочно вызывали в партком», то ему требовалось немедленно и непременно перед самым обедом «явиться к Савватееву». Вот и сегодня поднялся ни свет ни заря тоже, честно сказать, чтоб улизнуть от приятеля. Не посвящать же Зимовца в историю с карточками? Ни в коем случае! Во-первых, изругает последними словами. Во-вторых, тут же отдаст ему половину своего хлеба. Слободкин, разумеется, сам бы точно так поступил на его месте. Выход, значит, один — бегать от Зимовца, бегать, сколько будет возможно. Шесть дней уже прошло, прикидывал Слободкин и задумывался: «уже» или «только»? Смотря как рассуждать. Если с точки зрения здравого смысла, то, конечно, время медленно, но идет. Шесть дней долой, значит. Если же с точки зрения желудка глянуть (а у него, окаянного, эта самая «точка» имеется, в этом Слободкин убедился теперь как никогда), то выходило — до конца месяца еще целая вечность. Но терпения у него хватит, опытом проверено. А опыт — великая вещь в любом деле. Тогда, в окружении, вообще ничего не ели. И даже как-то шибче и легче шагалось.
Слободкин нисколько не жалел, что швырнул талон УДП Тарасу Тарасовичу. Больше уважать себя стал. Не унизился.
Сергей шел по мокрому снегу, через который местами уже начала проглядывать трава — еще даже не зеленая, скорей серая, прозрачная. Ночью травинки прихватывал мороз, и они долго не могли потом распрямиться под ветром и солнцем.
Слободкин нагнулся, чтобы лучше разглядеть тончайший, впрессовавшийся в снег травяной усик. Откуда берется столько неодолимой силы в каждой былинке? В каждом, самом малом, стебельке, в котором жизненным сокам просто негде вроде и поместиться? А они не только находят себе место, но и копят энергию. Копят, копят до срока, потом в природе происходит чудо. То, что казалось отмершим, безвозвратно увядшим, вдруг подымается, тянется к солнцу, расцветает!
Вот в нескольких шагах от себя Слободкин увидел высокий куст прошлогодней полыни, подошел поближе и удивился еще больше. Этот, поди, и снегом не был толком защищен, а вот выстоял, и потребовалось совсем немного тепла, чтобы никто не узнал, каково пришлось ему зимой. «Вроде автопилота прошел испытаньице — на холод, на лютую стужу, на вибрацию. Еще на что? Одни сизые косточки вот стучат на ветру!»
Слободкин оторвал полынную лапку и опять удивился — терпкий, вяжущий, горький и в то же время сладкий, с детства родной запах обдал лицо. Голова затуманилась, в глазах зарябило. Показалось, что льдины на реке остановились, замерли, потом… двинулись в обратном направлении. Слободкин поднес ветку полыни еще ближе, сделал глубокий вдох, и его еще раз пронзил этот острый запах.
Слободкин держал на ладони легкую, похожую на перышко ветку и думал о ее нерастраченных силах. Еще два-три таких солнечных дня, как нынешний, и прошлогодний куст станет совсем крепким, упругим, словно и не было никакой зимы.
— Так вот ты где пропадаешь, Слобода!..
Заспанный, хриплый голос Зимовца прозвучал за спиной Сергея обиженно и раздраженно.
Слободкин вздрогнул от неожиданности, но, обернувшись к подошедшему другу, ответил спокойно:
— Там же, где и ты. На Волгу посмотреть нельзя? Сразу «пропадаешь»…
— Я тебя последние дни вообще никак не словлю. Вскакиваешь ни свет ни заря, в барак после всех являешься. Чего ты мечешься? Что творится с тобой?
— Ничего не творится.
— Слобода!..
— Честно говорю.
— Нет. Не честно.
«Неужели знает? Да нет, откуда ему? А… будь что будет, надо гнуть теперь свою линию».
— И никуда я не бегаю. Все время в цехе.
— Брехня. Карточки твои где, лучше скажи. Утерял, да? Ну, чего молчишь?
— Не терял я никаких карточек. Ты что?..
— А я думаю — утерял и теперь не знаешь, что набрехать.
— Чего ты прицепился?..
— Ты себя в зеркале давно видел? — Зимовец схватил приятеля за плечи, подтолкнул к самой воде, заставил нагнуться. — Глянь. От тебя нос один остался.
— Нос у меня всегда был один.
— Я давно заметил, что ты самый остроумный человек на нашей койке. Если б ты был еще и самым честным! Когда посеял карточки? Отвечай. Последний раз спрашиваю: сколько дней без хлеба?
— Шесть.
— Паразит ты, а не друг, Слобода.
— А если не потерял, а продал, тогда что?
— Продал? Карточки продал?..
— Да, продал. И матери деньги послал. Вот квитанция.
Зимовец взял квитанцию, недоверчиво повертел ее и так, и этак, наконец, убедившись в том, что приятель не врет, сказал:
— Все равно паразит.
Слободкин обиделся:
— Называется друг.
— Это я должен сказать тебе: друг называется! Дохнет с голоду и молчит. Бессовестная твоя душа! Глупая и бессовестная!
Зимовец взял Слободкина за руку, властно и решительно потащил его за собой.
— Говори, куда тебя? Ну? К Строганову? К Баденкову? К Каганову? А? Или прямо в столовку?
— Столовка сейчас закрыта.
— Откроют! Ты еще не знаешь меня. Если не откроют, я двери высажу.
— Что угодно, Зимовец, только не позорься и меня не позорь. «Открою! Высажу»! К чему это?
— «Что угодно»? Тогда я сам иду сейчас к Тарасу Тарасычу и говорю ему, что ты передумал. Пусть возвращает талоны.
— С ума сошел! Совершенно спятил…
— Ну, тогда в столовку!
— Вместе со всеми, не раньше. Ты мой характер знаешь?
— Начинаю узнавать понемногу. Упрямей еще не встречал.
— Тем более. Зачем зря горючее тратить? Пережог будет. Скажи лучше, как догадался, что карточек у меня нет?
— Я уже объяснил тебе. По противной роже увидел. Мумия, а не человек.
Время до обеденного перерыва тянулось медленно. Так медленно оно, пожалуй, еще никогда не тащилось. К Слободкину подходили бригадиры, о чем-то спрашивали, чего-то требовали, он им отвечал, принимал работу — все механически.
«Велико ли дело — шесть дней без хлеба, — думал Слободкин. — Бывало и не такое. Выдюживал. Просто надо собраться, подвинтить гаечки. На пол-оборота. Еще капельку. Еще чуть-чуть. Вот так!..»
Слободкин подбадривал себя, и ему становилось легче. Он давно учился переламывать себя в трудную минуту. Иногда казалось, будто совсем овладел этим умением, иногда сползал на исходные рубежи. И даже намного дальше исходных. Но сегодня он был доволен собой. Справился. Скрипел-скрипел и вдруг почувствовал, что не все еще силенки выпотрошены. Есть кое-что в энзе — нерастраченное, сбереженное.
А Зимовец пришел намного раньше перерыва, встал за спиной и поторапливал:
— Эй, пора уже! По моим время.
— А по моим еще рано.
В Слободкине появилось даже какое-то озорство. Он острил, смотрел на приятеля глубоко ввалившимися, но веселыми глазами. В этот раз ему, конечно, не удастся отбиться от Зимовца. Сегодня они пообедают вместе, так и быть. Но завтра… «С завтрашнего дня вплотную займусь кружком парашютистов, и Зимовец вообще меня не увидит. Да и пора! Время идет, бежит время! Сколько дней уже упустил!..»
Слободкину стало стыдно за свою нерасторопность. «Нужно срочно что-то делать. Просить Зимовца, чтоб помог? Этого еще не хватало! Идти к Савватееву? Сказать, что упущенные дни наверстает? Правильно, к Савватееву! И не откладывая, сегодня же. Парашют перетащу в кабинет к Строганову и списки с начальником отдела кадров уточню еще раз».
После разговора с Савватеевым Слободкину пришлось долго бегать по цехам и баракам. Начальник отдела кадров был категорически против «мертвых душ» и намекнул, что Строганов их тоже терпеть не может.
— А разве Петр Петрович придет на занятия? — удивился Слободкин.
— Кто его знает. Думаю, нет, но о том, как начал работу кружок, спросит наверняка.
В результате всех проверок в списке осталось восемнадцать человек. Когда в воскресенье вечером они расселись за столом в кабинете парторга, в комнате сразу стало до такой степени тесно, что Слободкин с трудом нашел место, откуда ему удобнее было бы говорить. В волнении он чуть было не объявил о начале «лекции» и смутился. «Что же это все-таки будет? Может, доклад? Или вводная беседа?» Неожиданно для самого себя сказал совсем просто:
— Ну что же, начнем? Вот наша материальная часть…
На столе засверкал белизной легкий шелк парашюта. Слободкин начал объяснять систему укладки.
Полотнище за полотнищем, стропа за стропой безошибочно, точно находили свое строго определенное место сперва на столе, потом в ранце, чтобы в нужную минуту не подвести, не порваться, не запутаться, выдержать динамический удар, донести свою ношу до цели.
Ребята, конечно, уже кое-что слышали о парашютах и раньше, но впервые поняли, что безупречной точности укладки добиться не так-то легко.
Уложив парашют, Слободкин впрягся в лямки, застегнул карабины и, встав на стол, прошелся перед притихшими ребятами. Они глянули на его напряженную, словно для прыжка приготовившуюся фигуру и увидели вдруг Слободкина таким, каким раньше не знали. Глаза у него блестели. Правая рука легла на кольцо, левая чуть вытянулась вперед. Слободкин волновался, но никто из ребят не сообразил еще, что уже не стол с зеленой скатертью поскрипывает и вздрагивает под его ногами — гудит, содрогается, вибрирует гофрированный дюраль плоскости «ТБ-3»… Вот-вот появится впереди штурман, до пояса высунувшийся из кабины, и сверкнут в струе винтомоторного воздуха два ослепительно ярких его флажка — красный и желтый. Сейчас взмахнет ими. Сперва красным — «приготовиться!», потом желтым — «пошел!». Но до этого, в последние секунды, надо успеть сделать еще очень многое — проверить, не мешаешь ли соседу слева, соседу справа (тут ведь ни много ни мало десять человек на каждом крыле!), еще раз расправить лямки, поудобнее взяться за кольцо, покрепче зажать его, чтоб не вырвалось…
Ребята смотрят, слушают рассказ Слободкина о воздушно-десантной бригаде, о прыжках, и волнение руководителя постепенно передается им. Вот и их разгоряченные лица обдувает уже ветерок, в котором нельзя не учуять горьковатого привкуса бензина и масла.
В самый разгар занятий появился Строганов. Он в удивлении застыл в дверях, взглянув на Слободкина, и, заметив его смущение, сказал:
— Не зря я вам свой стол расхваливал? Не стол, а бомбардировщик!
Слободкин неуклюже и грузно сполз со стола на пол. Поняв, что помешал, Строганов взял какие-то бумаги из сейфа и тут же ушел, но Слободкин на стол больше не забирался. Впрочем, ребята и без того слушали внимательно, сидели, как завороженные, и только изредка перебивали вопросами:
— Когда мы-то на фронт пойдем?
— Сколько еще сидеть в тылу?..
Слободкин пожалел, что не слышит этого Строганов. Ребята сами с первого дня заговорили как надо. Их он, наверное, скорей понял бы. Если в Слободкине все еще кипит его армейская кровь, то этих не упрекнешь в том, что рвутся в свою роту. Слободкин решил обязательно на следующее занятие специально пригласить парторга. Пусть узнает, о чем думают ребята.
О кружке парашютистов, организованном на заводе, чуть ли не на следующий день после первого занятия узнали в обкоме комсомола, и скоро Слободкина вызвали в областной центр, к первому секретарю Радволину. Перед поездкой Сергея инструктировал сам Строганов:
— Расскажи там в самых общих чертах, в подробности не вдавайся. Да и ни к чему. Там есть любители собирать разного рода сведения. Для чего? Для того, чтобы козырнуть на каком-нибудь совещании.
Слободкин поехал в город с радостью. Он решил обязательно сказать Радволину и об Ине и попросить помочь.
Радволин встретил Сергея приветливо. Их разговор уже с первых минут принял совсем неожиданный для Слободкина оборот.
— Я вас вот зачем, собственно, пригласил, товарищ Слободкин. Помощь нужна вам какая-нибудь? От обкома?
— Помощь? — удивился Сергей. «Может, сразу ему про Ину? Или нет, рано еще, поближе к концу скажу».
— Ну да, помощь. У нас старая дружба с летчиками, и если понадобится, можно будет достать парашюты, хоть и не новые, но для занятий вполне подходящие.
— Парашюты? Это было бы вот как кстати! — воскликнул Слободкин. — У нас пока один на весь десант. И тот «БУ».
— Бывший в употреблении. — Радволин без всякой рисовки подчеркнул, что военная терминология ему прекрасно понятна. — А вышки у вас вообще нет. Можете забираться на нашу — выстояла под всеми налетами. Заслуженная, можно сказать, вышка.
— Бездействует?
— В том-то и дело. Просто обидно! Я эту вышку своими руками строил перед войной. Берете?
— Беру! — засмеялся Слободкин.
— Будете с ребятами сюда приезжать. Хотя бы раз в… — Радволин задумался. — В неделю? В месяц?..
— Туго у нас со временем, товарищ Радволин. Очень туго.
— Это верно. Я знаю. Но все-таки подумайте, не отказывайтесь сразу. Что еще у вас? Говорите, не стесняйтесь.
«Пора, — решил Слободкин. — Самое время про Ину. Как бы только начать половчее?»
Радволин уже встал из-за стола, подошел к Сергею ближе, сейчас скажет: «Заходите, товарищ Слободкин…»
— Товарищ Радволин, не могу больше задерживать вас. У вас тут тоже…
— Ты что, обиделся? Да? — неожиданно перешел на «ты» секретарь. — Ну и правильно сделал! Затянули мы с ответом на твою личную просьбу. Безбожно затянули! Но поверишь — по-настоящему руки дошли только несколько дней назад. Я сам интересовался…
— Не нашлась?.. — перебил его Сергей.
— Должен тебя и обрадовать, и огорчить, если можно так выразиться.
— Была и уехала? — спросил упавшим голосом Слободкин.
— Ты прав. Была. И уехала. Но куда?
Радволин посмотрел на карту, занявшую добрую половину стены его кабинета. По карте широко, от края и до края, разбежалась лесенка красных флажков на булавках. Слободкин молча прошелся по ней глазами — вверх и вниз, раза два по каждой ступеньке.
— Неужели?..
— Точно. На фронт, добровольцем. В действующую армию.
— Ошибки не может быть? Ты уверен? — Слободкин не заметил, как тоже перешел с секретарем на «ты».
— Мне заявление твоей Ины по телефону читали. Человек, скажу тебе, настоящий!
Сергей налил себе полный стакан воды из треснутого и склеенного изоляционной лентой графина, но пить не стал. Так и застыл перед Радволиным со стаканом в руке, беззвучно роняя из него на пол большие, тяжелые капли.
Множество чувств вскипело в сердце Слободкина одновременно.
Чувство гордости: «Вот ведь, в самом деле, девчонка какая! Кто бы подумать мог? А?..»
Чувство тревоги: «Когда увижу теперь? И увижу ли вообще?»
Чувство зависти. Да, и оно тоже. «Парашютист, столько раз смотревший смерти в лицо и уже научившийся вроде бы глядеть на нее не моргая, вынужден отсиживаться здесь, в тылу, без оружия. Ина, за всю свою жизнь не сделавшая ни единого выстрела даже в тире, зарылась в землю с автоматом в руках, и перед ней немецкие танки…»
Это последнее Слободкин представил с такой наглядностью, что увидел даже два острых локотка, глубоко вонзившихся в сырую весеннюю землю, и до боли в собственных суставах ощутил, как студено-холодна та земля…
— Только бы ничего не случилось… — Это Слободкин сказал уже вслух, не стесняясь Радволина. — Как ты думаешь, где она может быть сейчас?
Радволин развел руками.
— При первой возможности наведем справки, но дело такое, сам понимаешь, служил…
«Служил! Знал бы ты, секретарь, за какое место задел, так, может, выбирал бы слова».
— Расстроен, Слободкин? Да?
«Соврать? Значит, унизиться, что мне не подходит. Правду резануть? Еще хуже. Полправды? Сказать только о том, что горжусь Иной, что завидую ей? Сразу увидит — правда, да не вся. Стало быть, неправда. Есть же счастливцы на свете! Им слукавить — все равно что наряд схлопотать. Смолчать и то красивей. Смолчу».
Радволин, поняв состояние Слободкина, сказал:
— Так не забудь, если что понадобится, заходи. Я тоже к тебе заеду. Прямо на занятия, можно?
— А как ты узнаешь? Тебе сообщить?
— Ну, это все в наших руках. — Радволин подошел к тумбочке, на которой Слободкин только сейчас увидел целое столпотворение телефонов. Один из них как раз в эту минуту резко зазвонил. Секретарь быстро поднял трубку. — Радволин слушает… Здравствуйте, товарищ Строганов!.. Давно не был? Болел целый месяц, только третьего дня вышел… Без осложнений… Спасибо, товарищ Строганов, ни в чем не нуждаюсь. Честно. Может, от обкома какая-нибудь помощь заводу требуется?.. С дровами плохо? Для детского сада? Так, так, так…
Слободкин слушал секретаря и не мог ничего понять. Глаза запали куда-то, как у мороженого судака, щеки тоже ввалились, белые, почти прозрачные, а послушаешь его — довоенный стахановец, да и только! «Ни в чем не нуждаюсь! Честно! Спасибо!»
Слободкин удивленно глядел на Радволина, а тот продолжал:
— Понимаю, товарищ Строганов, понимаю. С дровами поможем. Обязательно! У нас тут отряд лесорубов формируется. Вы нам несколько человек в него не подбросите?.. Сейчас никак не можете?.. А недельки через полторы? Тоже нет?.. Да, да, знамя, понимаю. Ну что ж, выкрутимся как-нибудь… Нет, вполне серьезно, выкрутимся… Делегата на фронт от обкома с подарками? Надо бы. А от завода? Так, может быть, одним обойдемся, раз так плохо с людьми? Есть предложение послать общего делегата — от вас и от нас… Кого? Дайте денек на размышление. Даете? Добре! Еще раз спасибо, товарищ Строганов. До свидания.
Радволин положил трубку, обернулся к Слободкину:
— Все слышал?
— Слышал.
— Дров для детсада действительно подкинем, а насчет делегата на фронт с тобой хочу посоветоваться. Послушай, а ты сам не рванул бы, а?
Слободкин от неожиданности заморгал глазами.
— Я совершенно серьезно. Заводской? Заводской. Комсомолец? Комсомолец. Един в двух лицах. А главное — фронтовик! Да ты в это дело всю душу вложишь. Сейчас идет сбор подарков и на заводе, и в городе. У нас кисеты шьют, носки и варежки вяжут, у вас зажигалки, мундштуки готовят. Представляешь — явишься с таким добром!
Слободкина не нужно было долго агитировать. Он боялся теперь только одного — не передумал бы Радволин, не запротестовал бы Строганов…
Секретарь, поняв, что угодил Слободкину, продолжал развивать свою мысль:
— Строганова я на себя беру, у нас с ним расхождений не будет. Да и дня на два всего отлучишься-то. Как-нибудь перебьются. Самолетом туда, самолетом обратно. Подарки вручишь, речь скажешь — и обратно. Поверишь, я бы сам помчался не раздумывая. Не пустят, — под Новый год летал, и то со скандалом. «Дай другим», — скажут, это уж точно. А у меня мечта знаешь какая? Совсем податься туда. Не простая это затея, но если захочешь, все можно сделать. Надо только очень хотеть.
Слободкин неуверенно кивнул, не зная еще толком, как отнестись к откровенности секретаря. Тот, почувствовав, что сказал, пожалуй, лишнее, спохватился:
— Только, чур, между нами! Ни одному человеку ни слова! Ни единому! Я тебе ничего не говорил, ты ничего не слышал.
Он взял Слободкина за руку, подвел его вплотную к карте.
— Я вчера у летчиков был. Они знают не только погоду на месяц вперед, но вообще все на свете. Хочешь их прогноз военных операций услышать?
— Конечно.
— Так вот. Немцы сделают все, чтобы попытаться разбить наши войска на юге, захватить Кавказ, прорваться к Волге, овладеть Сталинградом. В настоящее время на фронте, растянувшемся от Баренцева до Черного, у них под ружьем более шести миллионов человек.
— А у нас?
— У нас тоже, думаю, не меньше, но в технике мы еще уступаем. Немецкие «рамы», например, всюду висят, над каждым мостом, над каждой дорогой.
— Какой же вывод?
— О своем «выводе» я уже сказал тебе. Мечтаю при первой возможности в самом пекле побывать. А ты? Скажи откровенно.
— Откровенно? А ты не выдашь? Должность твоя против меня не сработает?
— Можешь не продолжать, все ясно, десантник, — усмехнулся Радволин.
Уже дома, поздно вечером, перебирая в памяти события этого дня, Слободкин спросил Зимовца:
— Не надоел я тебе?
— Вопрос глупый, — равнодушно ответил Зимовец.
— Нет, серьезно. То полкойки мне отдай, то полпайки…
— Ты опять за свое?
— Эх, Зимовец, Зимовец, если бы ты знал, как мне тошно сейчас!
— Что в обкоме узнал?
— На фронт ушла. Добровольцем. Сам Радволин мне сказал.
— И где же она теперь?
— Никто не знает. Наведем, дескать, справки, жди. Потом секретарь еще карту показал. Глянул — нехорошо мне стало: вся в флажках, от Баренцева до Черного…
— Ты что, карты фронта давно не видел?
— Давно. А в мыслях это как-то не так все выглядит.
— Просто у тебя настроение дрянь, вот и весь белый свет не мил.
— Не знаю, может, и прав ты, Зимовец. Худо, худо мне, худо. Так худо никогда еще не было.
— Ну и что же ты надумал?
— Ни черта не надумал, отстань от меня! Что можно надумать в моем положении?
Слободкин никак не мог прийти в себя после встречи с Радволиным. Мысли все к Ине возвращались. Он вспомнил почему-то, как подается на заводе сигнал воздушной тревоги, и прицепился к слову. Такое уж у него действительно настроение было сегодня. Сперва на Зимовца рявкнул. Теперь слово не то попалось. «Все по местам!» — если в масштабах цеха или завода взять, то, конечно, все правильно. Каждый при том деле, какое ему поручено. А если шире взглянуть, концы с концами не сходятся, нет. Вот Ина, например. По крайней мере поменяться бы ему с ней местами. «Интересно, что Зимовец об этом думает? И думает ли сейчас вообще о чем-нибудь? Устал, не помнит небось, где был днем и что делал. Спит и за всю ночь не перевернется ни разу с боку на бок. С одной стороны, это хорошо, конечно, а с другой…»
— Зимовец! — тихо позвал Сергей.
— Ну?..
— Какой сон видишь?
— Так, ерунду всякую.
— Злишься? А зря, между прочим. Я действительно ничего не надумал.
— О чем ты?
— Вот видишь! Забыл уже, о чем речь шла, а все еще рычишь! Как тебе нравится Ина? А?
— Я давно заметил, они решительней нас бывают.
— Когда это «давно»? И кто «они»?
— Девчата. С нашим командиром роты жена на войну отправилась. Ее не пускали — она тайком в лес прибежала. Пока мужа не ранило, в роте была. И в санбат тоже с ним.
— Война проверяет людей, Зимовец. Всем беспощадную проверку устраивает. И тут уж все наружу. Всяк свое место ищет и находит в полном соответствии с тем, к чему годен, на что способен. Тунеядская натура спешит на базар, жена командира в бой за мужем торопится. Ты думал об этом? Каждый человек напоминает мне гироскоп автопилота. Ротор его разогнан до предельной скорости и стремится сохранить свое положение в пространстве.
— Лекции Каганова для тебя бесследно не прошли. Это гироскопическим эффектом называется.
— Вот именно. Ну, ты согласен с моей философией?
— В философии я не силен. Образование не то. Но мысль интересная. Ты после войны трактат напиши.
— После войны, думаю, все по-другому видеться будет. Сейчас вот здорово все проступает в каждом человеке — чем кто богат, чем кто нищ, кто способен на подвиг, кто на подлость. Ты присмотрись хорошенько к людям.
— Интересно, слов нет. Только, кажется мне, не совсем ты прав, Слобода. Твоя философия на каждом человеке вроде бы точку ставит. Один такой-сякой, никудышный, и нет у него никаких видов на то, что когда-нибудь лучше станет. Другой просто ангел, перышко в одно место воткни — вспорхнет. Был всегда хорошим, стал еще прекраснее. В жизни все сложнее, по-моему. Любого человека возьми. Того же Устименко. Ты знаешь, я о нем невысокого мнения, но если с ним подзаняться, горы свернет для общего дела.
— Я об Устименко плохо не думаю.
— Ну ладно, бог с ним, с Устименко. Тарас Тарасыч тебе подойдет? По твоей теории — потерянный человек. А на самом деле просто руки у нас не доходят до каждого.
— Сейчас не доходят, но раньше ведь доходили?
— Раньше не все в нем было видно, как сегодня. Тут я не спорю.
— Значит, мы оба правы.
— Хочешь, от твоей теории останется сейчас одно воспоминание?
— Ну?
— Глаза у тебя сегодня грустные, и сам ты весь скис. Раньше, тем более до войны, ты, наверно, не такой был. Где ж твоя теория?
— Демагог ты, Зимовец.
— Опять трещит по всем швам твоя теория — до войны я демагогом не был. Знаешь, кем был Зимовец до Великой Отечественной?
— Кем?
— Голубятником. Если бы ты знал, Слобода, каких голубей гоняли мы с ребятами! Каких голубей!..
— Мраморных гоняли?
— Спрашиваешь!
— А мохноногих?
— Сколько хочешь!
— И турманов?
— По турманам я самым главным специалистом был…
Глава 9
Кабинет Строганова, к которому Слободкина срочно вызвали, выглядел сегодня необычно. Всюду — на столе, на подоконниках, на стульях и даже на полу — лежали горы каких-то свертков. Пока парторг заканчивал телефонный разговор, Слободкин успел прочитать на одном из свертков строку, крупно и четко выведенную чьей-то старательной рукой: «Фронт. Славному защитнику Родины».
— Объяснять что-нибудь надо? — положив трубку на рычаг, спросил Слободкина Строганов.
Сергей все еще не мог поверить в то, что выбор пал именно на него.
— Секретарь ваш обкомовский зубами в меня вцепился — отпустите да отпустите фронтовика как нашего общего представителя. Одним словом, собирайтесь, Слободкин. Тем более что с вашими желаниями это, кажется, совпадает?
Строганов подошел к Слободкину поближе, заглянул ему в глаза.
«Совпадает»! Откуда только берутся такие неточные, приблизительные слова? Слободкин готов был навьючить все эти свертки на себя и пешком по весенней распутице шагать до самого фронта. Сейчас же, сию минуту…
— Когда ехать, товарищ Строганов?
— Ехать! Вы плохо знаете своего секретаря. Он с меня еще и самолет стребовал! «У вас, говорит, есть там одна „уточка“, дайте ее на два денька». Я ему объясняю: «„Уточка“ еле дышит, вот-вот вовсе развалится», — он знай свое: «Дайте, а то не поспеем к празднику».
— К празднику обязательно надо успеть, — сказал Слободкин.
Строганов взял со стола один из свертков, аккуратно развязал бечевку, бережно извлек содержимое.
— Ничего подарочек? С таким не стыдно лететь, по-моему, а?
Парторг разложил перед Слободкиным вышитый кисет, зажигалку, шерстяные носки, теплые варежки.
— С табаком даже? — Слободкин дотронулся до кисета.
— По полпачки в каждом комплекте. Больше не наскребли. А зажигалка с кремнем и бензином. На полном ходу. Попробуйте.
Слободкин взял зажигалку, слегка повернул большим пальцем ребристое колесико. Синий стебелек пламени поднялся высоко и уверенно.
— А носки шерстяные, зимние… — сказал Слободкин и задумался. — Подарок с намеком получается. Воевать, мол, вам еще, братцы, и воевать…
— Ну что ж, если в этом кто-то и намек усмотрит, то намек в общем здравый. Я так смотрю. А вы?
— Конца не видно еще.
— В том-то и дело. Мы с вами реалисты, Слободкин. Вам сколько лет?
— Двадцать, — сказал Слободкин. — Скоро будет.
— В сыновья мне годитесь, я совсем старик перед вами. И по-стариковски могу еще добавить насчет носков, а заодно и насчет варежек — пар костей не ломит. А вы все-таки не ответили на мой вопрос: не стыдно с таким подарком явиться к празднику? Как с позиции фронтовика?
— Хороший подарок.
— Ну, тогда ни пуха! Но учтите, Слободкин, поручение не только почетное — опасное. Нас с вами он бомбить перестал потому, что все силы туда бросает. В воздухе просто хозяйничает.
— Все ясно, товарищ Строганов. Парашют, наш разрешите в полет взять? С парашютом мне ничего не страшно.
— А он разве годен? Мне говорили — «БУ».
— На занятиях просмотрел его. Каждую складочку. Повидал он всякое, но в случае чего сработает, я уверен. А для ребят знаете какая школа? Будут укладывать не просто ради практики — для боевого прыжка! Я им задание приготовил такое.
— Ну, раз уж приготовил, тогда какой разговор? Поддерживаю. Так и скажите: не учебное — боевое поручение вам, хлопцы. Пусть постараются, — в конце концов, им же на пользу пойдет. А теперь давайте посчитаем подарки и подумаем, какую будете речь говорить при вручении.
Слободкин хотел сказать, что больше всего на свете боится речей и просит в этом смысле на него не рассчитывать. Строганова неожиданно вызвали на какое-то срочное совещание в город. Разговор о речи сам собой отложился. Оставшись один, Слободкин позвонил в цех, отыскал там Зимовца и, соединившись с ним, назначил на завтра внеочередное занятие кружка.
— Всем передай — получено важное задание.
Но до завтра была еще целая смена. И какая! Все бригадиры в цехе словно с ума посходили — у каждого что-то сломалось, что-то пришло в негодность: «Слободкин, мне в первую очередь!», «Слободкин, выручай!»
В самый разгар работы пришел Каганов:
— Уволокли тебя все-таки? Не было печали! Сколько там пробудешь?
— Суток двое.
— Не «суток двое», а двое суток. Это разница. Смотри, чтобы без всяких задержек. А пока нажимай. Целая очередь к тебе. Смотри не зазнайся. Голова еще не кружится?
«Кружится! Только знали бы вы, товарищ мастер, как и отчего кружится моя голова! Особенно сегодня».
Слободкин вспомнил, как однажды в детстве, во время пионерского похода, пожаловался вожатому на головокружение. Шагали из Серпухова в Тальники пыльной дорогой, по самой жаре, много часов подряд. Чтобы поддержать ослабшего, вожатый спросил как можно более весело:
— Кружится? В какую сторону?
Слободкин сперва растерялся, потом подумал: «Раз не знаю, в какую сторону кружится, значит, не кружится!» Она и в самом деле скоро перестала кружиться. Через несколько минут сам подошел к вожатому:
— Все прошло.
Вожатый рассмеялся:
— Испытанное средство!
Но сегодня Слободкин отчетливо чувствовал, как и в какую сторону все плыло у него перед глазами. Особенно когда неотрывно смотрел на быстро вращающийся патрон или медленно ползущую каретку. Вот сейчас, например. Как же все-таки слаб человеческий организм! И на все-то он реагирует. На каждый пустяк. На холод, как автопилот. На голод, как прибор еще более чувствительный. А в общем-то пустяки самые настоящие! Чувство голода возникает оттого, что стенки опустевшего желудка начинают соприкасаться друг с другом. Это Слободкин, еще лежа в госпитале, где-то вычитал. «Вот пойду сейчас, выпью стаканов пять воды, они и перестанут соприкасаться…»
— Слободкин! Куда же ты? — вслед ему крикнул Каганов.
— Водицы надо глотнуть. Соленого наелся. Сколько раз зарекался не есть соленого по утрам.
— Пойдем вместе. Мне перед обедом тоже всегда пить хочется. Ты карточки случайно не посеял?
— Нет… А что? — насторожился Слободкин.
— Ничего. Так просто. Я один раз посеял. Знаю, что это за штука.
У Слободкина отлегло от сердца. Не хватало, чтоб еще кто-нибудь узнал о его проделке с карточками.
Каганов и Слободкин долго пили холодную воду из бачка, на котором слово «кипяченая» было кем-то жирно перечеркнуто.
— Напился? — спросил Каганов.
— Вроде бы.
— Я тоже. Незаменимая вещь, когда до обеда еще целых полтора часа…
— По моим даже больше. Поэтому всякие разговоры об обеде прекращаются аж до самого звонка. Договорились?
— Мудро! Разошлись?
— Все по местам!
Вода ненадолго разъединила стенки желудка Сергея. Скоро новая волна тошноты подкатила к горлу.
Слободкин старался смотреть только в ту точку, где резец прижимался к детали, отделяя от нее тонкую фиолетовую стружку. Так было легче. Резец двигался в заданном направлении. Слободкин вращал ручку каретки инстинктивно, но точно, словно в глубине его сознания был спрятан автопилот, безошибочно ведущий на цель. Это ощущение придавало силы. Он мог бы долго еще вот так стоять у станка, сам почти превратившийся в металл, которому особенно уставать не положено.
Аэродром, с которого поднимался заводской «У-2», находился на территории завода. Двухместный самолет был специально оборудован для переброски готовой продукции. Основные грузы отправлялись железной дорогой, ветка которой тоже была подведена вплотную к заводским корпусам, а небольшие партии приборов — по воздуху. Под крыльями самолета были укреплены специальные кассеты с квадратными гнездами, точно соответствовавшими конфигурации и размерам упакованных приборов.
На этот раз самолет должен был подняться в воздух с грузом не совсем обычным, но не менее ценным и срочным. Так по крайней мере думалось Слободкину, который пришел на взлетную площадку на целых два часа раньше назначенного времени и сейчас крутился возле летчика и моториста, готовивших «уточку» к рейду на фронт.
Слободкин не торопил ни летчика, ни моториста, но так часто и так нервно поглядывал на часы, что в конце концов вывел из терпения и того, и другого.
— Шел бы ты, парень, в свой барак и досматривал последние сны, — сказал моторист.
— Верно, десант, — проворчал летчик, — я на твоем месте дрыхнул бы себе. Двое суток глаз теперь не сомкнем, учти.
— Учел уже, — отшутился Слободкин и никуда, конечно, не ушел.
— Ну, тогда держи и тащи вон в тот сарай. — Моторист бросил Слободкину охапку тяжелого, мокрого брезента, от которого на ветру сразу закоченели руки.
Но Слободкин сегодня чувствовал прилив каких-то необыкновенных сил. Он не увидит, конечно, среди подшефных никого из своих друзей по десанту. Ни одного из них. Но снова побудет с такими, каким сам мечтал пройти всю войну. Поговорит с ребятами, идущими в бой, — пусть всего несколько часов проведет с ними, но как он благодарен Радволину и Строганову и за эту возможность!
Возвратившись к «уточке», Слободкин стал внимательно ее рассматривать, полез под одну плоскость, под другую.
— Не терпится? Да? — услышал он сквозь вой ветра в растяжках голос летчика.
— А тебя не тянет?
— Я и тут как на передовой. Не пыльная с виду работенка, да? А иногда так намотаешься, что и сам не поймешь, как жив остался, как груз доставил куда надо.
Летчик подошел к Слободкину.
— Ты, я слышал, ранен?
— Ранен, — не без гордости ответил Слободкин.
— Я тоже, — с не меньшим достоинством сказал летчик. — С какого года?
— С двадцать второго.
— Ясно.
— А ты?
— С пятнадцатого.
— А выглядишь еще не старым, молодым даже.
— От чистого воздуха. Небольшая высота, кукурузная, а все-таки высота. Прочищает.
— Эта штука мне знакома, — сказал Слободкин. — Сорвешься, бывало, с крыла, дернешь колечко и дышишь, дышишь. Кажется, все небо в нутро твое входит… Тебя как зовут?
— Сергеем. А тебя?
— Тезки, выходит! Тогда меня по фамилии давай. Я Слободкин.
— Ну вот и познакомились. Примета хорошая. Мы, летчики, народ суеверный. Два тезки в одном самолете знаешь что значит?
— Ну?
— Один обязательно цел-невредим останется. Пусть хоть сто «мессеров» поперек пути.
— Я смотрю, вы не только суеверный, но еще и мрачный народ. У нас в десанте знаешь как сказали бы?
— Как?
— Серьга́ да серьга́ — се́рьги.
— Сейчас придумал?
— Ага.
— Оно и видно. А если я скажу тебе, что и моториста Серегой кличут, тогда как?
— Тем более хорошо! — воскликнул Слободкин.
— Тогда запомни: моторист мой не просто Серега, но еще и Сергеевич. Только несчастье у него — месяц назад жену схоронил. Осколком ее убило. Ты заводское кладбище видел?
— Нет.
— Вон там, за взлетной. Прошлой осенью не было его тут. За одну зиму выросло. Сергей Сергеевич! — вдруг закричал летчик мотористу. — Ну как там у тебя? Подсобить, что ли?
Моторист спрыгнул на землю. Худой, широкоплечий, статный. Но глаза тусклые. Вытер лоб рукавом, устало сказал, обращаясь к Слободкину:
— Самолетик бог послал!
Повернулся к летчику и совсем посуровел.
— Последний раз сходишь — и крышка, снимаю с себя всякую ответственность.
— Ты говорил уже, — отмахнулся летчик.
— А ты к той говорильне привык, ни во что не ставишь. Поворчал, мол, душу отвел, и ладно. Так запомни: вернешься — ложись спать на две недели. Полную капиталку устрою.
— Сергей Сергеевич…
— Мне тебя, дурака, жалко.
Они, наверное, поссорились бы, но вдалеке, приглушаемый ветром, послышался звук мотора, — разбрызгивая воду и мокрый снег, от завода мчалась полуторка.
Моторист глянул на Слободкина и летчика и вдруг без всякой связи с предыдущим спросил:
— Жевали чего-нибудь?
Слободкин не то не понял, не то не расслышал. Промолчал и летчик.
— Кусать, говорю, хотите?
— Ага, — честно в один голос признались наконец оба.
Моторист молча вынул из кармана кусок черного сухаря, разломил его на три части.
От сухаря пахло бензином, соляркой и почему-то железом. Но для Слободкина не было сейчас запахов вкуснее и слаще. Он даже зажмурился. Заметив это, моторист проворчал:
— Голодные, как собаки, а еще форс держат.
Из подкатившей полуторки вышел Строганов.
Слободкин, летчик и Сергей Сергеевич переглянулись, но удивления своего не показали. «Да и чего удивляться? — подумал Слободкин. — Дело серьезное, вот парторг и решил сам проконтролировать все до конца. Только бы про речь разговора опять не завел!»
Вместе с шофером, впятером, они принялись таскать к самолету пакеты с подарками. Их оказалось так много, что все в кассетах не поместились. Решено было частично использовать под груз вторую кабину. Для этого Слободкину пришлось сперва занять там свое место, потом летчик, шофер и Строганов «трамбовали» вокруг него пакеты, стараясь, заполнить ими каждый свободный уголок. Не принимал участия в этом только Сергей Сергеевич. Он стоял в стороне, явно не одобряя вопиющего нарушения правил эксплуатации самолета. Встретившись глазами с сердитым взглядом Сергея Сергеевича, Строганов, словно спохватившись, громко спросил:
— Все, что ли?
— Вроде бы, — ответил шофер.
— Ну, тогда подводим черту, а то вон моторист недоволен нами. Верно я говорю?
— Я уже привык, — устало махнул рукой Сергей Сергеевич.
— Слободкин, как ты там себя чувствуешь? — крикнул Строганов.
— Прекрасно! Только вот если перекур перед взлетом будет, меня не забудьте.
Строганов взобрался на крыло, расстегнул шинель, достал пачку папирос, протянул ее Слободкину.
— «Беломор»! Откуда это?
— От жены к Новому году еще получил. Как раз в тот день, когда курить бросил. Ну, и ношу при себе — волю закаляю.
— Тогда себе оставьте, — решительно сказал Слободкин.
— Бери, а то рассержусь.
— Но ведь дареные!
— Бери, бери, она не обидится. Раскуришь с ребятами. Завидую я тебе, Слободкин. Если бы ты знал, как завидую! Ты скажи там — привет от бывших фронтовиков. Да и вообще от всех наших, от рабочего класса. Особых речей не надо. Это я тебя попугал тогда. Привет передай, вот и вся речь.
Слободкин поглядел на парторга с благодарностью, хотел сказать ему, какой он хороший человек, но тот, неловко стукнув о плоскость протезом, уже спрыгнул на землю. Слободкин так и не успел распечатать пачку — летчик поднялся на свое место, Сергей Сергеевич направился к винту, и через мгновение Слободкин почувствовал, как, задрожав, поползли куда-то вниз, к ногам, пакеты с подарками…
С двух сторон от набиравших скорость колес у самолета начали расти стальные крылья брызг — такие же длинные, как плоскости. Слободкин видел это очень хорошо, так как сидел на пакетах, которые затолкал еще и под себя, и теперь, высвободившись из-под надзора Сергея Сергеевича, перестав неестественно сутулиться, высовывался из кабины чуть не до пояса. Заметив это, летчик погрозил ему кулаком. Слободкин снова вобрал голову в плечи, но скорее от ветра, чем от этой угрозы, — в боковом зеркальце Слободкин поймал одобрительную улыбку летчика.
Давно уже на сердце у Слободкина не было так хорошо, как в эти минуты. Снова на фронт! Пусть не бойцом, всего лишь сопровождающим подарки. Сегодня туда, завтра уже обратно, но ему непременно нужно побывать там. Слободкин думал об этом в последние дни и часы настойчиво, неотвязно, но не давая себе отчета, почему и зачем нужна ему встреча с фронтом, с ребятами, идущими в бой. Просто ему это было необходимо. «А парторгу разве это не нужно? Дай волю — он бы и на дюралевой ноге туда же. Не скрыл ведь, что завидует. Тоже обидно человеку — судьба ему вон какой билет вытащила. И не взвыл вроде меня. А Зимовец? Даже проводить не пришел. Сейчас лежит на койке один-одинешенек, расположился со всеми удобствами, и шинели с него никто не тащит, и локтем бок не сверлит, но радости оттого все равно мало. Злой, от зависти лопается. Это уж точно!..»
«У-2» шел на небольшой высоте. Слободкин опытным взглядом определял расстояние до земли с точностью, которой могли позавидовать иные приборы. Он подымал над защитным козырьком два пальца — летчик кивал головой, подтверждая, что под крылом действительно двести метров. Потом один из двух пальцев ребром ладони пилился пополам, еще пополам — голова в кожаном шлеме покачивалась в такт каждому жесту Слободкина.
Некоторое время шло безмолвное соревнование. Летчик показывал свое умение притереть машину почти вплотную к земле, повторяя все ее неровности, все впадины и возвышенности. Слободкин безошибочно «считал метры». Искусству этому он научился еще в бригаде, во время учебных прыжков с малых высот, когда каждый метр в самом деле на строгом учете и от каждого зависит жизнь. Та предельно малая высота, на которой они старались идти сегодня, тоже имела свой резон. Все чаще и чаще поглядывали за воздухом, а небо, как назло, было чистым, совершенно синим, — появись в нем «мессеры», не найдешь ни одного облачка, которым можно прикрыться. Но вот уже второй час бежит по земле кособокая тень самолета, похожая на раскрытые ножницы. Бежит, стрижет километры, пестрые от скорости, которую все-таки можно выжать из старой «уточки», когда очень торопишься. На исходе второго часа летчик начинает показывать Слободкину большой палец. Высоко поднятый над головой, он выглядит особенно большим от натянутой на руку кожаной перчатки.
Приземлились в открытом поле.
С трудом выкарабкавшись из совсем заклинивших его пакетов и выпрыгнув из кабины в грязь, Слободкин спросил летчика, как удалось ему посадить машину на такой «аэродром».
— А черт его знает! — откровенно признался тот. — Ну да ладно, не время об этом. Вон, кажись, подшефные катят.
Вдалеке показался трактор с прицепом. Он быстро шел напрямик, звонко постукивая мотором. К этому мирному звуку через минуту примешался другой, еле уловимый, но заметно усиливавшийся, наплывавший ритмичными волнами.
— Воздух! — сказал летчик и приложил руку к бровям. — Вовремя мы с тобой плюхнулись. Ты смотри, сколько их, сволочей, а!..
В сверкавшем от солнца краю неба стали отчетливо вырисовываться хищные силуэты стервятников. Они шли ровными рядами, как на параде, и их становилось все больше по мере того, как глаза привыкали к слепящим лучам. Послышался гром зениток.
— Все наглей и наглей себя держат! — сказал летчик. — Ведь строем идут, гады!
— Пугают, — ответил Слободкин.
— Пугать-то некого. Все пуганы-перепуганы, все привыкли давно.
— А наши где?
— Появятся сейчас, отведут тебе душу. Аэродромы у нас пораздолбаны, черт те откуда чапать приходится. Вот и запаздывают всякий раз. Это мы с тобой где хочешь сядем, откуда хочешь взлетим. «Ястребка» с болота не подымешь.
— Ясно. У немцев самолеты, аэродромы, а нам и взлететь-то неоткуда.
— Злой ты, как пес. Жрать, что ли, опять захотел?
— Покурить хотя бы.
— Тебе же Строганов пачку «Беломора» дал.
— Уронил, когда высоту угадывал…
— Та-ак… Теперь понятно, почему злишься. Но метры мерил отлично, ничего не скажешь.
— А у тебя не из чего свернуть?
— Я на твой «Беломор» рассчитывал, остатки своего самосада Сергею Сергеевичу высыпал.
Они стояли возле самолета, загруженного подарками, от которых во все стороны распространялся по ветру сладкий табачный запах, и думали, где бы раздобыть щепотку махорки.
На горизонте взметнулись столбы огня и дыма — вражеские бомбардировщики достигли цели. Тем временем к самолету подошел трактор с прицепом и звуком своего мотора на несколько секунд заглушил начавшуюся бомбежку.
Слободкину пришла в голову мысль, от которой защемило сердце. Вот стоит он на весенней, готовой к пахоте земле. И трактор уже грохочет, вздрагивает от нетерпения, и синий дымок растворяется в синем высоком небе, и уходят куда-то вдаль бесконечные лесенки следов, оставленных гусеницами. Кажется, закрой сейчас глаза на мгновение, потом открой — и нет никакой войны. Была, да кончилась. Вся вышла. Сколько раз мечтала об этом душа! Праздник на нашей земле! Много отдал был Сергей за то, чтобы так поскорей и случилось.
Слободкин и в самом деле зажмурился и снова открыл глаза. Трактор с маркой Сталинградского стоял с ним вплотную, дышал радиаторным теплом, а вдалеке один за другим ухали тяжелые взрывы. Теперь, когда мотор «Сталинградца» замолк, они были слышны особенно отчетливо.
С трактора устало сошел человек в телогрейке и треухе, шагнул к летчику.
— Прилетели или приехали?
— Обратно еще ниже пойдем. «Беломор» искать будем.
— Какой еще «Беломор»?..
— Обыкновенный. Вот тезка мой по ветру пустил. Целую пачку, непочатую.
— Летный паек?
— Сняли с летного. «Раз ты, говорят, от земли не отрываешься, какой тебе, к лешему, летный?» Наземная служба. Справедливо?
— Мы вас едва углядели. С кочки на кочку, из оврага в овраг…
— Вот разгрузим подарки, повернем завтра к дому, повыше заберемся хоть на пару минут.
— Это зачем еще?
— Все самим увидеть охота. А то на заводе спросят, что и как, — ничего толком не скажешь.
— Особо похвастаться тут пока нечем. Зарылись, как суслики, и сидим. Вот уже третий месяц ни с места. А у вас как? Поменьше стал шуметь?
— В последнее время меньше. Теперь на вас все силы бросает.
— Ну вот, вы полностью в курсе.
Втроем они начали носить пакеты с подарками из самолета в прицеп. Слободкин радовался. Он представлял себе — еще больше обрадуются бойцы, получив подарки, даже вообразил себя и ребят из десанта на месте этих бойцов. Построит старшина вечером свою роту на поверку (Слободкину почему-то думалось, что будет это обязательно вечером) и начнет выкликать всех по порядку. «Получайте, хлопцы, подарки к празднику от рабочего класса!» Ему непременно хотелось, чтобы старшина именно так и сказал, словами Строганова, — от рабочего класса! Развернут бойцы пакеты, а в них… шерстяные носки да варежки. На лето-то глядя! Однако всем понятно — далек путь до Берлина, крут. Шагать да шагать, ползти да ползти. А чтоб не так тяжело ползлось и шагалось, закури, боец, самосаду, запали зажигалочкой, почади. Веселей тебе? Веселей! Ну вот и отлично!..
Сидя в кузове тракторного прицепа, шефы добрались до расположенной в овраге небольшой танковой части, недавно прибывшей на фронт, а вечером Слободкин действительно стоял перед шеренгой бойцов, построенных для вручения подарков.
Неожиданно для самого себя Сергей все-таки сказал при этом речь. Она была совсем короткой, но ничего в ней забыто не было. И привет от бывших фронтовиков (для верности Слободкин прямо с него и начал), и о рабочем классе, и о том, что подарки с намеком — носки и варежки шерстяные, стало быть, воевать придется еще не месяц, не два. Правда, в этом патетическом месте речи кто-то чихнул так громко, что Слободкин смутился, а командир рассмеялся.
— Правильно говорит товарищ шеф, мы намек понимаем! У кого есть какие вопросы?
В темноте послышалось какое-то движение.
— Прошу! — сказал командир.
— А махорку сейчас можно курить или к зиме приберечь?
Бойцы рассмеялись, командир ответил за Слободкина:
— Махорку можно! Согласен, товарищ шеф?
— Согласен! — осмелев, сказал Сергей.
— Вольно. Закуривай!..
Давно так сладко не курил Слободкин. Он стоял, прислонившись к танковой броне, и какое-то могучее тепло разливалось по его телу. Может, это через чугунные плиты огонь мотора пробился? Провел рукой по шершавой поверхности — холодная. От солдатских цигарок? От них скорей всего. Вон их сколько! Из рукавов тянет братва, чтоб соблюсти маскировку, но от этого лица все равно высвечиваются.
— Товарищ командир, еще вопрос.
— Прошу.
— Махорочка больно хороша. Какой сорт?
— Моршанская, — громко сказал Слободкин.
— Тоже, выходит, с намеком, — засмеялся командир. — Всем, кто на марше, дается, кто в бой. Первый сорт махорочка!
— На заводе скажу, что пришлась по вкусу, — ответил Слободкин.
— И по вкусу, и по адресу, — уточнил командир. — Точно по адресу. Еще день — не застало бы нас твое курево. Завтра по коням. А без курева жизнь какая? Сам знаешь. Где воевал?
— В лесах и болотах. В парашютных, одним словом. Потом госпиталь, потом завод…
— Понятно.
Слободкин стоял в кольце папиросных огоньков, которое становилось все плотнее. Ребята были молодые, по всему видно — еще не обстрелянные.
— Ну как там у вас, в тылу? — раздался чей-то тонкий голосок из темноты.
Может быть, в этом вопросе и не было ничего особо обидного. Спросил человек и спросил. Без всякой задней мысли. Но Слободкина передернуло. «Не нюхал ни черта, кроме бомб, немца в глаза не видел, в начальном классе, можно сказать, не побыл, а уже „как там у вас, в тылу?“. Так и быть, промолчу для первого раза. Но любопытно бы все-таки взглянуть, у кого это язык повернулся? Да разве разглядишь в такой темнотище. Про Васю Попкова ему и всем им рассказать? Про Ткачева? Каганова? Про Скурихина-старика, который и на больничной койке все свой цех вспоминал? Про кореша своего закадычного Зимовца, у которого ни сна, ни отдыха, ни выходных и только одна смена за другую „заходит“? Нет, не стоит, а то, чего доброго, действительно целая речь выйдет. Правильно, наверно, делают, что не берут меня в десант. Порастратил нервочки, порастрепал, завожусь с пол-оборота! Надо взять себя в руки. Скажу-ка я лучше спокойно, по-хорошему».
— Как у нас, говорите? Ничего, работаем.
«Ну вот, совсем другой разговор! Молодец, Слобода, в пузырек не полез. Достойно сказал. Что бы такое добавить? Ничего больше не надо, а то еще одна речь получится».
— Вопрос освещен? — Это уже командир спросил, ни к кому конкретно не обращаясь, но явно имея в виду того, с тонким голоском.
— За подарки спасибо! — В тонком голоске неожиданно шевельнулась едва уловимая басовитая нотка, но это был именно он, у Слободкина слух безошибочный, точный.
«Понял, что ерунду сморозил насчет тыла, теперь грех замаливает. Впрочем, какую же ерунду? Как ни вертись, ни крутись, я завтра на все сто восемьдесят, а они-то действительно в самый огонь. И кому-то из них уже никогда не обновить шерстяных носков, не прочесть материнских писем, не сыскать свою Ину… А ведь какие ребята! Вот стоят возле, обжигают пальцы цигарками, а сами уже все, все до единого там, в бою, и оттуда, из самого пекла, один из них спрашивает: „Ну как там у вас, в тылу?“»
Эта ночь была одной из самых беспокойных ночей Слободкина. Нет, немцы не налетели на расположение части. Только где-то вблизи или вдалеке — не поймешь — время от времени перекатывались тяжелые ядра взрывов. Танкисты отвели для почетных гостей какую-то чудом уцелевшую сараюшку, чуть ли не доверху набитую душистой соломой. Зарывайся поглубже и дрыхни, сколько душа попросит. И напарник оказался тишайшим: локтями бока не таранит, как Зимовец, а главное — не храпит. Час не храпит, два не храпит, скоро подъем уже, а он и в ус не дует. Впрочем, нет, дует все-таки. Слободкин высекает колесиком искру из зажигалки и видит — летчик лежит в соломе лицом вверх. Тонкая травинка ритмично пульсирует возле его полуоткрытого рта, то припадая к самым губам и приводя их в сладкое беспокойство, то танцуя над ними, вспоминая, видно, свое последнее лето…
— Сергей, а Сергей!.. — позвал Слободкин.
— Чего тебе?
— Чего ты сейчас больше всего хотел бы? А?
— Чтоб оставил меня в покое. А ты?
— Чтоб поговорил со мной.
— Я? О чем еще?
— О соломинке.
— Иди ты к лешему! Спи…
— Нет, правда. Ее скосили, когда войны еще не было. Понимаешь?
Летчик сердито переворачивается на бок, но спать уже больше не может.
— По дому, что ль, заскучал?
— И по дому тоже. Понюхай, как пахнет солома. С ума можно сойти от одного запаха! Понюхал?
— Понюхал.
— Ну, чем?
— Навозом.
— С тобой как с человеком, а ты…
— Ну ладно, ладно, не злись. А ты как считаешь, чем?
— Утром. Ранним летним утром. Люди все еще спят, а ты идешь. По траве, по росе. В груди у тебя тепло прошлой ночи, на губах холодок. А идти тебе долго-долго — всю жизнь! С этим теплом в груди, с этим холодком на губах…
Слободкин, увлеченный своей мечтой, умолк.
— А ты, я гляжу, влюблен. Письма получаешь?
— От матери только.
— А девушка потерялась? Да? Искать пробовал?
— Всех на ноги поднял. Потерялся след: на войну ушла добровольцем.
— Ну, и что ты решил?
— Я давно уже на фронт прошусь. Не пускают. Сто рогаток понаставили: и здоровье не то, и «погоди, успеешь»… Бред какой-то! Во мне силы знаешь уже сколько? А теперь особенно.
— Когда — теперь?
— Когда узнал, что она на фронте.
— Как зовут-то ее?
— Это значения не имеет. В принципе можешь меня понять?
— В принципе ты влюблен. Но с завода тебе так просто не уйти, имей в виду. Кто-кто, а уж я-то точно знаю, пытался. Думал, комсомол заступится. Где там! Стена…
— А парторг?
— Пробовал. «Душу твою, говорит, понять могу, сам солдат, но не время, не время, не время…» — «Когда же, спрашиваю, время будет? Когда войне конец?»
Слободкин вздохнул, помолчал, потом тихо, еле слышно засмеялся.
— Ты чего? — удивился летчик.
— Так, ничего. Поговорили мы с тобой…
— О соломинке-то?
— Ага. О соломинке всего-навсего…
— Точно. А спать мы все-таки будем или не будем? Рассвет скоро. Смотри — травинку от травинки отличить уже можно.
Летчик поднял над собой шуршащий пучок соломы, поднес к лицу, понюхал.
— Ты прав, Слободкин, утром пахнет, а еще точнее — знаешь чем?
— Ну?
— Подъемом. Минут через шестьдесят танкисты подымутся. Нам как шефам с четверть часика добавит командир, не больше. Давай ночевать!
Над уставшим ртом летчика снова запульсировал причудливый травяной усик. Сергей видел его то ясно, совершенно отчетливо, то еле различая сквозь слипающиеся ресницы.
Вспоминая потом эту ночь, Слободкин не мог понять, заснул он все-таки под утро или не заснул. Видел сон или полудрема кружила над его головой? Как сказал бы старшина Брага, спал «короткими перебежками». Всякий солдат знает, что это такое. Перед тобой поле, расчерченное на квадраты. Их бесчисленное множество. Но, подымаясь в одном из них для броска, ты успеваешь увидеть все — и трассирующую, летящую навстречу тебе пулю, и ребят, поднявшихся вместе с тобой, и тот квадрат, в котором ты через несколько прыжков должен распластаться, чтобы опять и опять рваться вперед. Но сначала, перед каждым новым рывком, тебе отпущено несколько мгновений, которым нет названия, но без которых ты больше не солдат. Никто никогда не считал, сколько точно секунд это длится, ни одним уставом не отмерено, но солдат на то и солдат, чтобы успеть набраться новых сил в любой обстановке, в любых условиях, на любом, самом кратком привале. И даже сон посмотреть. Хотя бы одним глазом. А у солдата какой сон? Известное дело, про дом, про своих. И еще про службу. Да, да, среди самых коротких секунд забытья и ей непременно отведено место. А как же? Служба есть служба.
Какой же сон видел Слободкин? И видел ли вообще?.. Шагая вдоль давно проснувшихся танков и копошившихся вокруг них людей, он пробовал восстановить в памяти подробности предутренних «шестидесяти минут».
Не то во сне, не то наяву пригрезилась сегодня мама. Читал письмо, написанное ее рукой. Все опять хорошо у нее, все в полном порядке, только как бы она ни старалась, из каждой строки сочится тоска и холодная капля, как слеза по щеке, ползет и ползет по стенке холодного чайника…
Явилась к нему из своей неизвестности Ина. В солдатском ватнике, в сапогах, в ушанке. Идет по весенней земле, тоже вдоль выстроившихся танков, только еще более мощных, каких Слободкин не видел ни во сне, ни наяву, а на руках у нее варежки. Такие же самые, что привез он подшефным с завода. Шерстяные, крупной вязки, — значит, воевать ей еще долго, вместе со всеми. Подошла к нему, сняла варежку, протянула руку, обожгла до боли знакомым и уже незнакомым теплом — будто поздоровалась и простилась одновременно. И исчезла. Скрылась в сутолоке машин и людей, в тяжелом громе гусениц и моторов. Попробовал побежать, настигнуть — все напрасно. Только кусочек тепла на ладони остался от этого прикосновения. А навстречу ребята из десанта. В таких же ушанках и ватниках. В таких же варежках. «Привет, Слобода! Воротился? Наконец-то! Ну, давай топай за нами…» И эти исчезли. Ничего не осталось от удивительного видения.
…Слободкин шагал от танка к танку, от одной группы танкистов к другой. С одними покурит, с другими словцом перебросится, на третьих просто посмотрит — какие они все ладные, крепкие, какие статные в своих доспехах! Так бы и не расставался с ними. Но откуда ни возьмись появился летчик, красноречиво шаркнул перед Слободкиным жестким рукавом комбинезона над часами. Слободкин давно уже заметил, что летчики самый беспокойный народ. Позже всех ложатся, раньше всех встают и вечно, вечно торопятся. В бригаде, бывало, во время прыжков вместе с рассветом на аэродром прикатишь — летчики уже на местах все до единого. И еще подшучивают над парашютистами: «Опять до трех часов утра храпака задавали, а ходят как сонные мухи!» Вот и этот:
— Отоспался? Отвел душу? Выходи строиться!
— Неужто пора? — Слободкин глянул на свои часы. — Четверть шестого только!
— Вот именно — шестого! Проспали все на свете! Скажи еще спасибо, что день нынче ненастный.
Слободкин не понял, кого и за что надо благодарить в связи с тем, что погода испортилась. Послушно поплелся за летчиком, внимательно посматривавшим на низкое серое небо.
С одного из танков к ним спрыгнул вчерашний командир.
— До дому?
— До хаты, — ответил летчик.
— На кого ж вы нас покидаете?
— Вас тут вон сколько, гвардейцев. Один к одному орлы! — засмеялся летчик.
— А ты что молчишь? — обратился к Слободкину командир. — Не жалко покидать такое войско? Говори, только честно: не жалко?
Слободкин поглядел на командира, потом на летчика.
— Вы у меня кадры не сманивайте, — запротестовал летчик, — мне за него там секир башка сделают. Я старший.
— Старший тут я. — Командир потрогал свои нашивки. — Но дело не в званиях. Будь я и рядовым из рядовых, все равно и под присягой сказал бы одно: неохота Сергею лететь обратно. По глазам вижу — неохота!
— Вы психолог, товарищ командир: неохота, — усмехнулся летчик.
— Он и сам за себя ответит, не мешайте.
— Конечно, всяк за себя, — согласился летчик.
— Мы с ним тезки, — объяснил Слободкин.
— А, вот оно что! Ну, тогда оставайтесь оба, у нас тут житуха вон какая — шефы ездят, подарки возят…
— Кто ж возить будет, если все шефы на фронт уйдут? — спросил летчик.
— Ну, смотрите, мое дело — пригласить, я хозяин.
— А наше — вовремя по домам, мы гости.
Они поговорили так еще несколько минут — полушутя, полусерьезно. Им в самом деле не хотелось расставаться.
— А то давай, — еще раз обратился к Слободкину командир. — Для начала пристроим тебя в мастерскую, главным по заклепкам.
— Заклепками он вот как сыт, — ответил за Слободкина летчик. — Ему надо летать.
— Ну, летайте, летайте, хлопцы. Только погода нынче нелетная.
— Нам как раз такая в самую пору.
— Ну что ж, по коням так по коням. Жаль, проводить мне вас некогда. Не взыщите.
— Сами дорогу найдем.
Слободкин и летчик пожали руку командиру, еще двум-трем танкистам, оказавшимся поблизости, и не оборачиваясь зашагали через поле по вчерашнему тракторному следу, ведущему к самолету.
Они шли, спотыкаясь о выдавленные гусеницами квадраты земли, и Слободкин поймал себя на мысли о том, до чего все-таки схожи они между собой, следы трактора и следы танка. Неотличимы просто! Раньше он еще видел какую-то разницу, а сегодня засомневался. Нагнулся на ходу, поднял кусок спрессованной траками земли, внимательно осмотрел его со всех сторон, недоуменно пожал плечами.
— Ты чего? — удивился летчик.
— Мы не сбились с азимута?
— Парашютист, я тебя не узнаю! Уж кто-кто, а ваш брат должен на местности ориентироваться без осечки.
— В местности-то я разбираюсь, в следах запутался. Трактор от танка отличать разучился.
— Ах, вот оно что! Не удивительно: и тракторы, и танки стоят на одной основе. Разницы никакой. На нашем заводе один парень целый стих написал об этом. Даже ржавчина на снегу от танка и от трактора одинаковая вроде бы остается.
— Так ведь и в самом деле одинаковая, — сказал Слободкин.
— Ну и что из этого? Меня после таких виршей еще больше на фронт потянуло.
— А у меня там… — Слободкин замялся, подбирая подходящее слово и никак не мог подобрать.
— Зазноба? — заметив его смущение, спросил летчик.
Слободкин сморщился, словно откусил кислое яблоко, и мысленно отругал себя за то, что некстати разоткровенничался с малознакомым человеком. Однако смолчал.
— Счастливый ты парень. Знаешь, какой счастливый?
Слободкин не ответил. Стараясь исправить возникшую неловкость, летчик опять посмотрел на часы и, покачав головой, прибавил шагу. Слободкин, не отставая от него, продолжал всматриваться в отпечатки тракторных гусениц на земле.
Возле самолета шефов ждали несколько человек в форме танкистов. Они, оказывается, провели тут остаток вчерашнего дня и целую ночь — охраняли и маскировали «уточку», срывали бугры на «взлетной полосе», а утром прогрели мотор и долили бак.
Лица у танкистов были уставшие, серые. Один из них, маленький, верткий, подошел к летчику, сказал что-то относительно зажигания. Слободкин не понял, вернее, не расслышал, что именно, но голос показался ему удивительно знакомым. Уж не тот ли, что вчера высказался насчет тыла? Кажется, он. По голосу явно он, но не спрашивать же его, в самом деле. Крутится возле летчика, что-то советует — не поймешь, не то извиняется за давешнее, не то действительно помочь хочет. Ничего вроде парень. И технику, видно, знает, вон как дирижирует остроносой масленкой, вон как бегает вокруг «уточки» — летчик едва поспевает за ним.
Когда танкист взялся за винт, Слободкин подивился силе и ловкости тщедушного на вид человека. То ли оттого, что двигатель был прогрет заранее, то ли оттого, что рука у танкиста была легкая, «уточка» завелась мгновенно, намного быстрее, чем Слободкину хотелось бы. Думал поговорить еще несколько минут, но мотор заревел так пронзительно, что и собственного голоса не услышишь.
А тут еще летчик властно замахал рукой из кабины, давая понять, что медлить с отлетом больше нельзя.
Расправив лямки парашюта, неловко перехватившие кавалерийскую шинель, Слободкин забрался на свое место.
— До скорой! — прокричал он танкистам, но слова его швырнуло куда-то назад, к хвостовому оперению.
Слободкин инстинктивно посмотрел им вслед и увидел вдалеке танки, выбравшиеся из оврага и растянувшиеся в степи. Самолет уже бежал по земле, резко подпрыгивая на ее неровностях, и невозможно было разглядеть, движутся танки или стоят — глаз только выхватывал из серого пространства их приплюснутые коробочки с устремленными вперед стволами пушек. Но вот крылья самолета туго и мягко оперлись на воздух, и видно стало лучше, хотя небо еще больше посуровело. Танки стояли на месте, но построение было боевое, походное. И синий, едва различимый дымок вился над стальной колонной. «Значит, верно сказал командир, еще день — и не застало бы их наше курево. Хорошие ребята. Жалко, что не остался с ними. Ведь как звал командир, как звал!»
Слободкин думал так, а сам приподымался в кабине, напряженно всматриваясь во все шире разбегающиеся дали. Ветер норовил сорвать пилотку, захлестнуть глаза, посадить обратно, но Слободкин вытягивался все выше, почти во весь рост. Вот уже летчик заметил, удивленно смотрит в зеркальце. Впрочем, нет, не удивленно — озорная улыбка сверкает через защитные очки. Догадался, наверное, что Слободкин вот-вот готов сигануть, что в последнюю минуту взвыла, не выдержала его фронтовая душа. Догадался, ясно, но виду не показывает, хотя крутит, крутит второй вираж, чтоб в случае чего Слободкину удобнее было отделиться. Вот земля уже чуть ли не поменялась местом с небом. И высоту набрал, нужную для прыжка, опытный летчик, все понимает. А главное — сознательный, может войти в положение. «Ну что ж, спасибо тебе, тезка! Только я ж тоже сознательным должен быть. Строганову слово дал, слышишь?» Ни черта он не слышит, но видит, конечно, все — одна рука Слободкина на пилотке, другая уже на красном кольце парашюта.
Вот еще один вираж. Третий. Машина наклоняется все круче… Слободкин еще раз ловит в зеркальце небритую улыбку летчика и кричит ему через грохот мотора:
— Ну чего дразнишь, дьявол? Чего душу мотаешь? Не железный ведь я! Ложись на курс!..
Слободкин решительно опускается на сиденье, поправляет лямки парашюта на плечах, последний раз пробует увидеть танковую колонну под крылом, но она уже исчезла — то ли растворилась в серой дымке, то ли самолет в самом деле резко лег на курс и все сразу сместилось, вернее, стало на свои места: земля сделалась опять землей, небо небом. Мотор взревел с новой силой, как бы стремясь наверстать потерянные минуты.
ПОЛЫНЬ НА СНЕГУ
Глава 1
Еще один год. Еще одна весна… Какая она будет? Что принесет с собой? На фронте вроде лучше пошли дела, не то что в первое лето и первую осень. И на заводе тоже. Что бы ни случилось, каким бы трудным ни выдался день, крыльев никто не опускал. И не только потому, что «юнкерсы» больше сюда не долетали и сирены не выли над крышами бараков заводского поселка. Настроение стало совсем иным. Зимовец как-то верное слово нашел: «Огонек засветился!» Правда, поддакнув тогда другу, Слободкин тут же задумался. Велик ли огонек и всем ли ярко светить будет? Ина ведь так и не нашлась до сих пор. А без нее какой «огонек»? Он так и хотел сказать Зимовцу, да вовремя осекся: у того вообще вся семья потерялась.
С такими мыслями Сергей шагал к станции, и было ему сейчас даже немного стыдно за свою слабость, тем более что надежда когда-нибудь все-таки напасть на след Ины не оставляла его. Вот и сегодня неизвестно еще зачем в обком вызвали. Может, весточка об Ине пришла? Может, сдержал секретарь Радволин обещание, связался, с кем надо — у него ведь такие возможности! Слободкин даже ускорил шаг, но, вспомнив, что до поезда в город еще целых полчаса, пошел медленней, потом вдруг и вовсе остановился: внимание его привлек куст полыни, поднявшийся над снегом в двух шагах от тропинки. Где-то он уже видел точно такой — одинокий, стройный. Где и когда? В далеком детстве, у бабки в деревне? В солдатском своем, но тоже теперь далеком белорусском краю?
«Вспомнил! Совсем же недавно это было — прошлой весной! В такой же солнечный день, как нынешний».
Сергей свернул с тропки, нагнулся, осторожно провел рукой по веткам растеньица. Они оказались упругими, крепкими, и это опять удивило. Всю зиму лапки полыни были плотно впрессованы в сугроб. Уже вроде бы все до капельки в них должно было вымерзнуть, до последней кровинки. Весеннее солнце пронзило почти прозрачные, мертвенно бледные лепестки. Но жизнь в них, оказывается, все еще теплилась! К ночи их снова и снова прихватывал морозец — да еще какой! — они и это выдюжили. Уже давно осели, истончились вокруг снега, которые как-никак берегли от лютого ветра. Теперь и этой защиты не было. Лицом к лицу со стужей, достигающей в иную ночь двадцати, а то и тридцати градусов. Вчера, например, такая была. Сергей из цеха в цех перебежал без шинели — как в прорубь ухнул. А полынь хоть бы что! Шелестит себе бесцветным пергаментом лапок. Сыплется с них в потемневший сугроб какая-то сивая пыльца, и острый запах все настойчивей щекочет ноздри Слободкина. А снизу, из земли, еще не оттаявшей, по невидимым капиллярным сосудам уже подымается новая сила.
Слободкин стоял у полынного куста до тех пор, пока гудок поезда, приближавшегося к станции, не вывел его из задумчивости. Он встрепенулся, зашагал торопливо, с каждым шагом все отчетливей чувствуя, будто с ног до головы его обдувает горьковатый сквозняк весны. Это ощущение не покидало его всю дорогу до города, до обкома, ему даже показалось, что на ворсинках шинели он принес волнующий запах в кабинет Радволина.
— Ты что? — спросил секретарь возбужденного Слободкина, когда тот переступил порог. — Торопился?
— Очень, — сознался Сергей и с надеждой посмотрел на Радволина.
— А я и обрадовать, и огорчить тебя вызвал. Начнем, пожалуй, с огорчений. — Он положил руку на чуть дрогнувшее плечо Слободкина. — Не нашлась пока твоя Ина.
От этого «пока» сердце Слободкина забилось еще сильнее. Он помолчал, потом перевел взгляд на уже хорошо знакомую ему карту, изрешеченную булавками-флажками, вздохнул и спросил:
— Каждый день переставляешь?
— Почти каждый. Душа радуется, Слободкин! Смотри, куда наши махнули! Вот тут, например. И тут тоже…
— Ты так и не подался туда? — спросил Сергей после паузы.
— Ни черта у меня, Слободкин, не вышло. Перегрызся только со всем начальством. А у тебя-то как?
— Ты все сам знаешь, секретарь. Больше года тут загораю. Совсем работягой заделался, даже корни пустил…
— Корни? — удивился Радволин.
— Не подумай чего-нибудь такого. Мои «корни» на фронте и писем не шлют, ты же в курсе. Так зачем же ты меня вызвал?
— Переходим ко второму вопросу повестки дня. — В голосе Радволина послышалась удивившая Слободкина торжественная нотка. — Так вот, товарищ парашютист, из ЦК комсомола важная бумага пришла. Срочно двух надежных ребят в их распоряжение.
— Что значит надежных?
— Ну как тебе объяснить? Проверенных, испытанных. Побывавших на фронте обязательно.
— Так и сказано?
— Вот, посмотри. — Радволин вынул из ящика стола аккуратно сложенный лист, протянул Слободкину.
Сергей с первых же прочитанных слов понял, что Радволин не шутит, а дочитав до конца, убежденно сказал:
— Надо послать нас с Прокофием Зимовцом. Он тоже фронтовик, комсомолец и заявлениями всех забомбил.
— Точно, забомбил. Куда только не писал!
— Ну вот, видишь!
— Вижу. Но у меня таких, с заявлениями, знаешь сколько? Словом, Зимовца своего не сватай. О тебе речь. Согласие даешь?
— Что за разговор!
— Лады! Одна гора с плеч. Я тут, Слободкин, совсем зашиваюсь. То не так, это не этак. Просто все из рук валится.
Слободкин скользнул взглядом по узким плечам секретаря, по всей его тщедушной фигуре. Сколько они не виделись? Месяц? Или больше? Около двух, кажется. Как же здорово сдал Радволин! Выглядит хуже, чем после перенесенной в прошлом году болезни.
— Не бережешь ты себя, секретарь…
— Ты на себя посмотри.
— Я человек маленький. Что есть, что нету — никто не хватится. А тебе вон какое дело доверили! Область!..
— Пожалел? Тебя в начальники мне — сразу бы все вопросы решились.
— Я сам когда-то в ФЗУ секретарем был. У тебя небось тысяч тридцать на учете? Или все пятьдесят?
— До войны около этого было, а сейчас… — Радволин развел руками и присвистнул.
— Военная тайна?
— Какая, к лешему, тайна!
— Тогда сколько же?
— Не скажу.
— Не знаешь, по глазам вижу, не знаешь. Угадал?
Радволин вместо ответа сокрушенно вздохнул. Сергей сочувственно покачал головой.
— Да-а… Нелегкая у тебя делянка! И хоть должность большая, а стружку все равно снимают небось?
— Это уж как водится. Что бы в области ни случилось, во всем комсомол виноват. То инициативу не проявили. То проявили, да не ту, то ту самую, какая нужна, да не ко времени. То мало женской молодежи вовлекаем. То у нас одни девчата на любой работе…
— Характер… — перебил Радволина Слободкин. — Характер у тебя стал портиться, поистрепал нервочки, хуже чем в самом пекле. Сколько лет секретарствуешь?
— Пятый год уже.
— На комсомольской работе лучше недосидеть, чем пересидеть.
— Да ты, я смотрю, профессор в этом деле. Точно все понимаешь.
— Говорю тебе, сам в твоей шкуре был. Анкету мою читал небось?
— Читал. Не помню только насчет стажа.
— Около года.
Радволин усмехнулся.
— Считай, тебе повезло.
— Что быстро ушел?
— Во-первых, что был секретарем, а во-вторых, что ушел вовремя. Комсомольская работа, ты прав, прекрасная вещь, если глотать ее не лошадиными дозами. Ну, мы что-то отвлеклись с тобой, Слободкин, от главной темы. Давай лучше… помечтаем.
Сергей удивленно поглядел на Радволина.
— Думаешь, спятил человек на секретарском посту, да? Я просто завидую тебе, товарищ Слободкин С. А.! Даже вот тут колет, как завидую! — Радволин ткнул себя пальцем чуть ниже уха. — Я вдруг ясно представил себе всю твою дальнейшую судьбу. Хочешь, погадаю?
Слободкин доверчиво и почти серьезно протянул Радволину левую руку ладонью вверх.
— Предстоит тебе дальняя дорога, парашютист. Дальняя! Затребовали ведь не кого попало, а тех, кто опалил перышки. Смекаешь? Посмотрят твои документы в Москве, поговорят с тобой, пошлют к докторам…
— Опять к докторам? Сколько можно?
— Вот видишь, волнуешься, перебиваешь секретаря обкома. Нервочки, значит, тоже того. Пошлют, пошлют к докторам как пить дать! Ну, там уж от тебя все будет зависеть, от твоего духа.
— Духом мы никогда не падали, даже в госпитале.
— Кто это «мы»?
— Я и Проша Зимовец.
— Я уже сказал тебе — второй человек у нас есть. И не перебивай больше. Так вот, посчитают доктора твои ребрышки и запишут: «Практически здоров».
— Я давно здоров. И практически, и теоретически.
— Знаю. Открою тебе один военный секрет. Мы тут докторов просили, чтоб они иной раз специально браковали вашего брата по здоровью. А то все на фронт, на фронт — у станков стоять некому.
— Об этом, представь, догадывался и злой был на вашу медицину.
— Злой даже?
— Как черт! Потому что хитрость копеечная. Думаешь, без нее нельзя? А сознание?
— Это ты сейчас так заговорил — сознание! Первое время совсем другая песня была.
— Тоже верно, — согласился Слободкин. — Я их растерзать тогда был готов, докторов ваших. И вас вместе с ними.
— Вот это откровенно.
— Как полагается между порядочными людьми.
— Спасибо за комплимент. А мы снова куда-то уехали.
— Это все потому, что я счастливый сегодня. Ты даже не представляешь, какой я счастливый, Радволин! У меня ведь мама в Москве! Ждет не дождется…
— Точно! — воскликнул Радволин. — Как же я раньше не сообразил? Открою тебе еще один секрет, правда, не военный: на волоске вчера висела твоя кандидатура. Вот на таком! Решили в твою пользу на бюро большинством всего в один голос.
— Спасибо! Чем отблагодарить тебя?
— Членскими взносами. Плати аккуратней.
— А может, не уходить тебе еще с комсомольской работы? — в тон Радволину сказал Сергей. — Чувство юмора пока налицо — первый признак молодости!
— Все равно не отпустят, вот и молодимся, как кто умеет. А вообще-то я старик уже.
— Двадцать шесть исполнилось уставных?
— Прошлой зимой.
— Да-а… Возраст солидный, что и говорить. А с виду ты совсем хлопец. Моложе Зимовца моего.
— Ему двадцать, — сказал Радволин.
— Откуда такие точные данные?
— Последний секрет выдаю тебе: Прокофий Зимовец твой тоже был среди кандидатов. Я сам называл его на бюро. Парень он подходящий. Плохо, что вы с одного завода. Целая буча поднялась из-за этого. Только ему ни слова.
— Что ты! Не маленький. А он, бедолага, столько заявлений настрочил — во все концы! И в кадры, и в военкомат. И в обком небось?
— Нет, нам не писал, но в военкомате всех обошел, мне сообщили. Так что не береди его душу. Одного, мол, человека от области запросили — и точка.
Слободкин задумался.
— Нет, так тоже не годится. Если одного человека, то почему именно меня? Как бы еще большей обиды не было.
Радволин устало махнул рукой.
— Ну, придумай сам что-нибудь правдоподобное. Мне надоело тут перед вами изворачиваться. И собирай пожитки. Со Строгановым и вообще с заводом вопрос улажен.
Поздно в тот день вернулся из города Слободкин. Да он и не торопился. Ему хотелось спокойно, наедине с самим собой, все обдумать. Он подошел к какому-то новому рубежу в своей жизни. С заводом, судя по всему, было покончено. Хорошо это или плохо? На этот заданный самому себе вопрос, как ни странно, оказалось трудно ответить. Вот вроде рвался, рвался с завода, а сейчас вдруг понял, почувствовал всем существом своим: завод — частичка души. Зимовец, Каганов, Баденков — это же теперь его семья. Сколько пережито вместе, сколько выстрадано! Под одним ревевшим днем и ночью небом работали. А Зимовец так ближе брата родного. Одной шинелью укрывались в нетопленном бараке. На одну хлебную карточку жили почти целый месяц — было и такое! «Верно сказал старик Скурихин — после фронта завод стал моей первой ротой!» Сергей тогда не задумался над этими словами, посмеялся в душе над старым, а ведь прав, тысячу раз прав человек! Но ведь и мечта, давняя, заветная мечта снова попасть в десант, в действующую, к ребятам с крылышками, не оставляла Слободкина ни на миг уже столько времени. «Под этим и сейчас подписываюсь!»
Это было, наверное, совсем по-мальчишески, но Сергей остановился на тропке, ведущей от станции к заводу, поднял из-под ног какую-то щепочку и старательно вывел ею на высвеченном луною голубоватом снегу свои инициалы. Постоял, поглядел по сторонам и, убедившись, что никто этого не видел, быстро зашагал к заводскому поселку, где его ждал Зимовец, которому он, как бы там ни было, первому должен сообщить привезенную из обкома новость.
Зимовец не спал, дожидаясь друга. Лежал и дымил в потолок. За этим занятием и застал его Слободкин, но все-таки, не зная, как получше начать, спросил:
— Не спишь?
— Брось дипломатничать, Слобода, все понимаю. Подаешься от нас? Выкладывай.
— Откуда ты знаешь?
— Откуда, откуда! По счастливой морде твоей вижу, вот откуда. И не забывай, что я член заводского комитета комсомола. Одним словом, рассказывай честно.
У Слободкина отлегло от сердца. Значит, не надо в самом деле морочить Зимовцу голову. Все знает и даже, кажется, все действительно понял. Сергей в знак благодарности как-то необыкновенно деликатно, с особыми предосторожностями, въехал под шинель на своей половине койки.
Дав приятелю устроиться поудобнее, Зимовец спросил:
— Неохота тебе уезжать, да?
— Почему неохота?
— Ну, меня, например, жаль бросать? Или ты уже весь там?
— Весь, — признался Слободкин. — Заметно?
— Я ж говорю — на морде написано.
— Если совсем честно хочешь: я весь уже «там» и весь еще «тут». Понятно что-нибудь?
— Больше половины. Но ты не бреши, Слобода, у тебя же мать в Москве, повидаешься.
Зимовец вздохнул, не умея скрыть своей зависти.
— Ну, а еще какие новости в городе? Мы здесь, как кроты, закопались в землю, никого не видим, ничего не слышим.
— Я только у Радволина был, только с ним разговаривал.
— Ничего себе «только»! Это же первый секретарь обкома! Что на фронте?
— Карту опять показал мне. Другой совсем вид! Справа налево зашагали флажки! Веселей, говорит, теперь их переставлять. А про Ину пока ничего. — Слободкин, как и Радволин, сделал ударение на слове «пока». — «Терпи, сказал, и собирайся. В Москву».
— Ну, оттуда она скорей сыщется, твоя Ина, — опять вздохнув, сказал Зимовец. — Из нашей дыры днем с огнем не найдешь.
Слободкин задумался. «Дыра? Конечно, дыра, глушь самая настоящая. Но поменяй нас судьба с тобой местами, ты эту дыру, Зимовец, эту глушь тоже так просто не бросил бы, ручаюсь. И дело не в том только, что человек ко всему привыкает. Дело в другом. В чем? Громких слов не люблю, а то сказал бы…»
— Ты чего молчишь? — Зимовец толкнул приятеля в бок локтем.
— Я почти все тебе доложил.
— Почти или все?
— Смеяться не будешь?
— Не буду.
— Про полынь еще осталось.
— Про что, про что? Про полынь?..
— Про самую обыкновенную. То есть не совсем, конечно. Рассказать?
Внимательно, не перебивая, слушал дружка Зимовец. Это, впрочем, не помешало ему утром все обратить в шутку.
Первая блестка рассвета не успела просочиться сквозь замерзшее окно барака, а Зимовец уже был на ногах, брился и после каждого взмаха бритвы острил:
— Полын Полыныч, подъем! Фантазер ты и выдумщик, Полын Полыныч! Ты стихов в детстве не писал случайно?
— Отвяжись! — незло огрызался Слободкин, который не хотел напоследок ссориться с другом.
— Писал или нет? — наседал Зимовец. — Говори, не отстану.
— Надоест — отстанешь.
— Не надоест, ты же знаешь. И не будем перед разлукой ругаться. Давай! Все равно ведь знаю — писал. И, может, даже печатал?
— Вот этого никогда не было.
— Ясно. Я же чувствовал, что писал. О чем?
— Вот пристал! Люди могут услышать. Что подумают?
— Подумают, что у Зимовца культурный друг — в рифму может. И потом, если тихо читать, никто не услышит. Ну!
— Да чего ты привязался? Я за всю свою жизнь, может, всего один стих и написал.
— О чем?
Слободкин на мгновение задумался.
— Ну… о фламинго.
— О фламинго?..
— Птица такая есть.
— Знаю без тебя, что птица. Но с какой стати именно о ней?
— Ты видел ее когда-нибудь?
— Только в книжках.
— Она всегда стоит на одной ноге.
— Почему?
— Вот и я подумал — почему? Из этого стих и получился.
— Да-а? Читай тем более.
— Ты не поверишь, но я, ей-богу, забыл. Помню только, что об этой-то ноге и написал. Одна, мол, здесь, а вторая где? Вторая, дескать, давным-давно уже в дальних странах.
— Интересно! Писал про птицу, а получилось про себя?
— Как это?
— Очень просто, Слобода: одна нога твоя тут, другая…
— Я же знал, что будешь язвить.
— Да нет же, нет! Под рифму совсем, наверно, неплохо.
— Если бы хорошо было написано, никогда не забыл бы, — признался Слободкин. — Так умные люди считают.
Оба рассмеялись, но по-прежнему тихо, чтобы не разбудить соседей, которым до подъема оставалось еще добрых полчаса.
— Обязательно напиши о Полын Полыныче! Почему ты, чудак, в многотиражку не пошел? Так звали тебя, так звали: чувствовали — талант в человеке погибает. Жаль.
— А я не жалею ни капли. У меня сейчас совесть чиста — из ржавого станка своего все выжал. Не сразу, конечно, но человеком себя почувствовал.
— Это всякий знает на заводе.
— Этого никто толком не знает. Ты, Зимовец, плакал когда-нибудь?
— Плакал? — удивился Зимовец.
— Да, по-настоящему? Нет? Тебе хорошо. Ты свое монтерское дело мигом вспомнил, с марша. Мне же станок все руки отбил, все мослы и кости. Вот погляди! Видишь? Ни черта ты не видишь. Не знаешь и того, сколько раз моя половина подушки бывала мокрая от слез. От злости на самого себя.
— Что ж ты молчал?..
— Потому что гордость во мне есть. Я и сейчас-то не должен был тебе говорить. Но дело прошлое. И опять же расстаемся. Дружба с чего начинается, знаешь?
— С чего?
— С того, что один другому верит больше, чем самому себе. Я это уже давно понял.
— В роте, что ли?
— В первой роте. И еще когда с тобой, черствая ты душа, познакомился. У меня только два настоящих друга и было за всю жизнь. Кузя и ты.
— Слушай, Слобода, а может, еще оставят тебя? Заменят кем-нибудь?
— Ты понимаешь, что говоришь, паразит? — Слободкин сердито повернулся с боку на бок.
— Ладно, ладно, не буду, не заменят. Я в общем-то рад за тебя.
— Это другое дело. А то «заменят», «оставят»! Так знай: не оставят, не заменят. И не надейся. Готовься к проводам, пеки пироги.
— Ладно, будут тебе пироги. Испеку. Но ты сказал бы все-таки толком, зачем тебя в Москву требуют? Как Радволин тебе объяснил?
— «Военная профессия у тебя, говорит, ну как бы получше выразиться, дефицитная, что ли». Словом, он считает, что в ней все дело, в профессии.
— В парашютной, что ли? — не скрывая зависти, спросил Зимовец.
— Получается так, — ответил Сергей.
— Везет некоторым.
— Местами, — попробовал с безразличным видом пошутить Слободкин.
Но притворством этим ему не удалось обмануть Зимовца. Тот еще раз откровенно вздохнул, сказал, не скрывая своих чувств:
— Ну, черт с тобой, собирайся. Провожать не приду, чтоб не лопнуть от зависти. Я и сейчас уже трещу по всем швам, слышишь?
Зимовец, дурачась, резко присел на корточки — все суставы его захрустели.
…Случилось так, что Зимовец и в самом деле чуть не опоздал к поезду, с которым уже на следующий день уезжал Сергей. Это был конец месяца, когда аврал налезал на аврал, штурм на штурм, смена натыкалась на смену, и Слободкин уже мысленно простил друга, которого не мог отыскать глазами на станции. До отхода поезда оставалось всего пять минут, всего три минуты, всего одна…
Чугунный лязг буферов уже прокатился по всему составу, когда Сергей разглядел наконец в полутьме знакомую фигуру в распахнутой шинели, мчавшуюся в сумерках от вагона к вагону.
— Сюда, чертушка, Зимовец! Сюда!.. — только и успел он крикнуть приятелю.
А у того не хватило времени вообще ни на одно слово. Поравнявшись с вагоном, на подножке которого висел, размахивая одной рукой, Слободкин, Зимовец, задыхаясь от быстрого бега, швырнул в Сергея каким-то свертком и тут же отстал, остановившись у края платформы.
Состав быстро набирал скорость и сразу за семафором начал круто поворачивать вправо. Еще несколько мгновений, и Слободкин уже не видел ни Зимовца, ни самой станции…
Минут через пять поезд проходил мимо заводского поселка.
Слободкин стоял у окна, прижавшись лбом к влажному, холодному стеклу, но как внимательно ни вглядывался в даль, ничего разглядеть не мог. Ни одного огонька, ни одной искорки не было видно в весенней степи.
Где-то здесь, совсем недалеко, не спал, жил напряженной жизнью завод. Его завод, его девятый цех, с которым столько связано. Бессонные ночи. Грохот взрывов. Пламя пожаров. Сырое тесто в столовке. Смертельная усталость после смены, после тревоги. И несмотря на все это — радость победы.
Да, да, именно это чувство не раз испытал он с той поры, когда по-настоящему понял, какие умные и тонкие приборы автопилоты, когда ощутил, что и его труд приводит в движение их колесики, шестеренки и роторы. Приборы ведут боевые машины на врага, помогают штурманам наносить точные неотвратимые бомбовые удары. Чем лучше сработан и выверен автопилот, тем удар сокрушительней. Тем большее удовлетворение в сердце тех, кто согревал их в холодном, нетопленном цехе своими руками, своим дыханием, укутывал полой своей шинели, как это делал Слободкин.
И вот это все куда-то уходит. Не просто проносится за покрывшимся изморозью стеклом — уходит совсем, чтобы больше уже не вернуться, уступить место новому. Каким оно будет, это новое? Что несет, что сулит? Попадет ли он когда-нибудь в свою роту, к однополчанам? И какая она теперь, его рота? Кто остался в строю? Много ли их, его друзей? Кого заменили новые? Чего хочет от него комсомольский ЦК? Куда пошлют, с каким заданием? Медицина к нему теперь не придерется. Он в самом деле чувствует себя хорошо, не так, как после госпиталя. Доктора, конечно, правы были тогда, сейчас уж можно себе в этом признаться. Правы. Но теперь!.. «Приду в ЦК и скажу: „Пошлите сразу на фронт, в парашютную часть. Я совершенно здоров“».
Он ощутил вдруг в себе такую накопившуюся энергию, такие силы! А когда подумал, что через два дня увидится с матерью и, может быть, нападет наконец на след Ины, и вовсе повеселел.
Слободкин лежал на третьей, предназначенной для вещей, узкой полке. Шинель от тряски все время сползала то с ног, то с плеч. Он на ощупь подхватывал ее в темноте, подстилал под себя — острые пуговицы, на которых держался хлястик, сильно врезались в ребра. Свертывал из непокорного сукна подобие подушки — начинал свою неторопкую, но верную работу холод. Особенно мерзли почему-то те места, которые ныли от пуговиц.
Хорошо бы, конечно, в дороге выспаться, думал Сергей. Явиться к матери отдохнувшим. Да и перед комсомолом надо быть молодец молодцом.
Проворочавшись чуть не всю ночь, Сергей наконец понял, в чем дело: «Просто жрать я хочу смертельно, вот и все…» И только тут он вспомнил про сверток Зимовца. «Интересно, что это он приволок такое. Не пироги же, в самом деле? И откуда?» Слободкин сглотнул слюну. И все же взял себя в руки — не стал разворачивать свертка, задвинул его подальше, насколько позволяло узкое пространство полки, и уже в полудреме подумал: «Вот и есть гостинец для мамы…» И он провалился в глубокий сон.
Глава 2
«Дорогой Проша!
Пишу тебе не сразу, как обещал. Была запарка. Но зато теперь — обо всем подробно.
Ты, конечно, хочешь знать, как доехал? Нормально доехал. За пироги с картошкой тебе и спасибо огромное, и вздрючка. Признайся, что снес на базар? Последнее вафельное полотенце? Или портянки солдатские, которыми так дорожил? Ах, Зимовец, Зимовец, горе ты мое! Совести у тебя нет, Зимовец. Но пироги — мечта! Мама даже есть жалела. Только на второй день чуть притронулась. Мне пыталась скормить. И все приговаривала, что очень вкусные, но непонятно откуда. Что я ей только не молол! Живем, дескать, — во! Пайки — во! Ты ж понимаешь!
Итак, по порядку: о маме, о ЦК, о Москве.
1. Мама.
Старенькая она у меня совсем. Если бы ты знал, Проха, какая старенькая! Два совершенно разных человека — та, которая в армию меня провожала, и та, что нынче встретила. Белая, легкая, как пушок, на себя не похожа. Одни руки остались прежними. Все чего-то шебуршат, шебуршат. Ты поверишь, не успел я переступить порог, она уже что-то чинила мне, штопала. Только очки никак отыскать не могла, а надела — опять ничего не видит: стекла запотели, и протереть их было уже невозможно, хотя вдвоем протирали.
Такие, Проха, дела. Но работает на старом месте. В первый год войны даже зажигалки гасила. „Я бы, говорит, и сейчас, да, слава богу, не подпускают его больше к Москве“. Убивается из-за меня: „Как ты там? Что ты там?“ Вру, как сивый мерин, но никак в толк не возьму, верит она мне или не верит. Их разве поймешь, стариков? Два пишем — один в уме… Вчера гимнастерку на мне зашивать стала, рукой провела по тощим ребрам моим и вдруг говорит: „Вот и батя твой был такой же. Когда лихо ему, лише некуда, нипочем, бывало, не скажет. Все молчком, молчком. Уж потом, от людей, узнаю, что и как“.
2. ЦК.
Ты не представляешь, как я скис сперва! Знаешь, что они задумали? Инструктором в аппарат! Вы, мол, товарищ Слободкин, с фронта, с завода, про вас в „Комсомолке“ писали, у вас опыт, а у нас нет людей… Разговаривал со мной зав кадрами Гаврусев. Сначала вежливо: „Как дела, как настроение, товарищ парашютист?“ Дальше — больше. Потом пошла какая-то ерунда. Тут я психанул! Сам себя не узнал. Куда девалась моя проклятущая тихость! „Фронтовика просили? Обстрелянного? Зачем, говорю, вам фронтовик? На Маросейке загорать?“ И пошел, и пошел, ты знаешь меня. Вернее, ты меня еще не знаешь совсем, Зимовец! Как все тихие — тих до поры. У кадровика глаза на лоб. „Товарищ Слободкин, вы меня не так поняли. Мы имеем в виду временно использовать вас в аппарате, а уж потом…“ Короче, в ответ на мой рык он малость перестроился. К Стрепетову меня повел, к заву отделом рабочей молодежи. Мужик ничего вроде, обходительный. Он вот что сказал. Вызвали действительно для работы. Какой и где? И тут, в ЦК, дел невпроворот, и в „других местах“, так что военные знания вам, товарищ Слободкин, дескать, пригодятся, и даже специальные, полученные в вашем десанте. Мы, говорит, гордимся парашютными войсками. Комсомол отобрал туда сто тысяч ребят. Вот это масштабы! Оказывается, все обкомы принимали участие в комплектовании парашютных частей и соединений. Так что я, Зимовец, оказался где-то рядом со своею мечтой. Так по логике выходит. Конец разговора совсем был „на уровне“. „Вы где воевали, товарищ Слободкин? В Белоруссии? Прекрасно, товарищ Слободкин! Учтем“. Правда, это еще не совсем был конец. Когда уже стали прощаться, вдруг спрашивает: „У вас, товарищ Слободкин, пропуск ночной есть? Нам тут иногда задерживаться приходится. Оформите сейчас же“, — это он уже не мне — Гаврусеву сказал. Ну, а тот рад стараться. Так решилась моя судьба на ближайшие… дни? недели? месяцы? Сам не знаю.
3. Москва.
Что сказать тебе о столице? Не упомнил, бывал ли ты тут когда-нибудь? Если бывал, не узнаешь. Как бы тебе получше объяснить? Люди стали другими. О маме ты уже знаешь. Она и зажигалки тушила, а ей шестьдесят, даже с хвостиком. „Стою, говорит, на крыше, в глазах круги огненные от зениток. Щипцы из рук падают, я их все покрепче прихватываю“. Ты слышишь, Зимовец, — „покрепче прихватываю“! И еще показывает, как именно. Так и представляю себе мамусю со щипцами на крыше нашего дома. А если тебе откровенно сказать, то я совершенно не представляю себе этого. Соседи меня увидели — все в один голос: „Мама-то ваша герой из героев в нашем районе“.
Вот хотел тебе про Москву, а получается опять про маму. Не подумай, что хвастаю, — все люди тут теперь особенные. Впрочем, кто это все? Своих знакомых ребят искал — ни души! Ни из школы, ни фэзэушников. Разбросало по белому свету. Учителей и тех след простыл. Но в Москве все равно народу много.
Я тебе про девочку одну расскажу. Тоже к Москве отношение имеет. Лена Лаптева — запомни это имя. В ЦК работает, секретарем отдела пионеров. Перед войной училась в семилетке, сюда попала прямо со школьной скамьи. Да еще крохотуля ростом. Был с ней недавно такой случай. Секретарь ЦК принимал какую-то пионерскую делегацию. Вместе с делегатами в кабинет вошла Лена, села рядом со всеми — у нее было поручение записать беседу. Сидит пишет, а секретарь от одного пионера к другому подходит, каждого расспрашивает о делах, планах и тэпэ. Поравнялся с Леной, погладил ее по голове и говорит: „А ты, девочка, почему без галстука?“ Что тут было! Целый день весь ЦК успокоиться не мог. Лена метнулась из кабинета, вся в слезах понеслась по коридорам и лестницам, пока не свалилась на клеенчатый диван в комнате, где работала. Хотели врача вызывать. Кончилось тем, что секретарь пришел извиняться. Но это еще не сказка, а присказка. Интересно тебе или нет, Зимовец? Потерпи, дальше интереснее будет.
Лаптева, как и все работники ЦК, постоянно задерживается в отделе. Развозят ребят уже где-то совсем под утро на дежурной машине. А живет Лена в Сокольниках, на самом краю Москвы. Она стесняется, что из-за нее шоферам приходится такой большой крюк делать, и всегда просит: „Меня вот тут, на уголке, выбросьте“. Потом бежит по морозу, в кромешной тьме до своего переулка. Так было и в этот раз. Но только развернулась машина, на которой Лена приехала, к ней из темноты трое: „Снимай пальто!“ Девчонка дрожит не то от холода, не то от страха, но вида не подает — сама навстречу опасности: „Неужели не стыдно? Война идет, люди на фронте, врага бьют, а вы…“ Воры обалдели. Глянули друг на друга, выругались и повернулись на сто восемьдесят.
Только дома, когда уже дверь за собой заперла, по-настоящему испугалась Лена. После этого случая шоферам строго-настрого приказали до самого подъезда ее довозить. Так что же ты думаешь? Все равно у того уголка соскакивает! Чуть не на ходу в сугроб прыгает.
Ну, все, Зимовец. Таких длинных писем сроду не писал и не напишу больше. Теперь за тобой очередь.
Твой Слобода»
Слободкину в самом деле не довелось больше писать другу таких длинных писем. На короткие и то времени не хватало. С матерью поговорить не было иной раз минуты. Вставали они оба рано. Так вообще было заведено в их доме с давних пор. Но только прежде у каждого были свои обязанности, теперь у каждого долг. У матери, как всегда, и дом, и работа. Но она все успевала. Каким-то чудодейственным образом оказывались починенными, приведенными в полный порядок гимнастерка и шинель Сергея. Появился у него чистый, ослепительно белый подворотничок. А уходила из дому мать всегда первой и успевала еще поторопить соседку, замешкавшуюся в самый последний момент, и, наклонившись к самому уху спящего сына, нежно сказать:
— Сереженька, сыночек! Петю слышал? Пора!
И хотя мать почти каждый день повторяла одно и то же, Сергей не то спросонья, не то дурачась, как в детстве, переспрашивал, о каком таком Пете речь, но уже через несколько минут после ухода матери, выпив глоток подогретого ею чая и даже сделав что-то вроде зарядки «по сильно сокращенной программе», торопился на Маросейку, к которой от их дома путь был немалый. Целый час только в одном трамвае приходилось трястись.
Но Сергей не жаловался. Даже самому себе. Он учился ко всему относиться философски. В данном случае философия была простой: работа у него хоть и непривычная, и оттого еще более сложная, чем на заводе, но все же кому-то и зачем-то, очевидно, нужная, может, даже необходимая. Значит, не хныкать! Изо всех сил делать то, что поручено. И ждать, терпеливо ждать… Стрепетов в первом же разговоре сказал: «Вы теперь на вышке, товарищ Слободкин, учтите». Что и говорить, вышка огромная, намного выше любой парашютной. Такое сравнение все чаще в последнее время приходило на ум Сергею. «Но что я вижу с этой вышки? Самую малость. Слишком много в бумагах копаться приходится. Во „входящих“ и „исходящих“. В которых иной раз ни бум-бум!»
Все росло и росло в душе Слободкина какое-то тревожное чувство. Он сидел за массивным, невероятных размеров, письменным столом с телефоном, который тоже причинял всякие неприятности. Первый же телефонный разговор Сергея вызвал целую кучу осложнений.
Звонили рано утром с какого-то завода (в волнении Слободкин даже не расслышал, с какого). Просили оказать срочную помощь комсомольско-молодежной бригаде, которой «не создают условий для стахановской работы».
— А какие вам нужны условия? — удивленно спросил Слободкин.
На противоположном конце провода пробурчали что-то явно недовольное. Сергей попросил говорить яснее.
— Это ЦК комсомола? Куда мы попали?..
— Да, ЦК. Что вы хотите?
— Мы комсомольско-молодежная бригада. Хотим работать по-стахановски.
— Прекрасно! Вам мешает кто-нибудь?
— Нам не помогают.
— В чем нужна помощь?
— Ордеров на промтовары дополнительных не выдают. И вообще…
— Дополнительных ордеров? А давно вы стали стахановцами?
— Не в этом дело. Мы будем работать, как все. Но пусть и они…
— Как не в этом? — рассердился Сергей. — Именно в этом самом! Вы еще только собираетесь работать по-стахановски. Даже не по-стахановски, а просто «как все». За что же вам премии? Если хотите, приезжайте, поговорим, но так ставить вопрос нельзя, поймите…
В трубке раздались гудки, разговор оборвался, последних слов Слободкина уже никто не услышал, кроме него самого. Впрочем, подняв голову, Сергей увидел стоявшего перед ним заместителя заведующего отделом Ломидзе, который несколько дней назад объяснял Слободкину, в чем на первых порах будут состоять его обязанности.
— Кого это вы так отчитали? — Ломидзе едва заметно улыбнулся.
— Не так что-нибудь? — Слободкин еще не почувствовал лукавой нотки в вопросе начальства.
— Почему же? В принцине верно. В комсомоле не должно быть иждивенческих настроений. Никогда, в такое время — тем более!
Слободкин вздохнул облегченно. Ломидзе сказал:
— Хорошо, что в отделе появился еще один человек, прошедший такую трудную школу, на личном опыте знающий, как и чем живут сейчас молодые рабочие.
Слободкин смутился. Ломидзе больше не улыбался, говорил серьезно:
— Как это вы сказали? «Еще ничего не сделали, а уже хлопочете о премиях»? Правильно я расслышал?
— Точно.
— Ну, а они?
— Проглотили пилюлю. Согласились, наверно.
— Наверно или согласились? — Вокруг глаз Ломидзе собрались пучки морщинок.
— Швырнули трубку. Куда им деваться?
— Кто ж такие строптивые? С какого завода?
— Не знаю… Не спросил, вернее, не переспросил. Но они позвонят еще…
— Вот это уже хуже. — Ломидзе вздохнул. — А вдруг они с «Мотора», например? Там ребятни полно, самой настоящей ребятни.
— Ребятни? Да они меня к чертовой бабушке чуть не послали!
— Тем более. Предположим, даже не «чуть», а послали действительно. Раздражены, обижены чьей-нибудь черствостью, несправедливостью. С таким народом надо трижды внимательным быть. Вполне возможно, что они ничего еще не сделали особенного на своем заводе. Только собираются, согласен? Но вдруг ордера или усиленное питание, например, было им действительно кем-то обещано? Посулили и отдали другим. Обидно? Еще как!
С каждым словом Ломидзе краска стыда все гуще заливала лицо Слободкина. «Провалился! С первого же раза провалился. Отругал, оттолкнул ни в чем не повинных ребят. Воспитатель молодежи! Элементарного такта не проявил, простой внимательности».
Не было таких ругательств, каких не обрушил бы сейчас Слободкин на свою голову. Униженный в собственных глазах до последней степени, он проклинал тот день и час, когда согласился на эту работу.
— Надо немедленно выяснить, откуда звонили, — сказал Ломидзе. — Вы окончательно не запомнили?
Слободкин вместо ответа опустил глаза и стал пристально рассматривать свои дырявые сапоги.
Ломидзе, заметив это, тоже остановил свой взгляд на сапогах Сергея.
— Давно они у вас такие?
Это повергло Слободкина в еще большее смущение. «Переводит разговор на другую тему, хочет сделать вид, что ничего особенного не произошло, а сам бог знает что обо мне думает! Чего доброго, еще утешать начнет. Мальчишкой считает». Подумав так, Сергей ответил раздраженно:
— С тех пор, как прохудились.
Ломидзе сдержался, на резкость не ответил и морали читать не стал.
— Я хочу, чтобы на заводе о нас с вами плохого мнения не были, только и всего.
— Но на каком? — воскликнул Слободкин. — В Москве столько заводов…
— Ну, раз вы тоже считаете, что нужного разговора с ребятами не получилось, половина дела уже сделана. Остается отыскать этих «стахановцев», только вы их, чур, больше не обижайте, если они даже в чем-то неправы будут. Есть у меня подозрение, что они с «Мотора». Подъедем, все уладим на месте.
— А если не с «Мотора»? — спросил Сергей.
— Почти уверен — с него. Мне на днях рассказывали — на «Моторе» сплошной детский сад чуть не в каждом цехе.
— Надо ехать сегодня же, — решительно сказал Слободкин.
— Нет худа без добра, как говорится! Неизвестно, когда бы мы к ним выбрались, — сознался Ломидзе. — Может, прямо сейчас и двинем?
— Так рано?
— Да, воспользуемся тем, что мы с вами первыми на работу явились, и исчезнем, пока колесо не закрутилось.
— Мне казалось, что я первым пришел сегодня, — сказал Слободкин.
— А я думал, что раньше меня вообще никого не бывает в отделе, — ответил ему Ломидзе.
— Я в армии привык рано вставать. А вы?
— А я в комсомоле.
Они рассмеялись. В это мгновение стрелка висевших на стене часов вздрогнула, перескочила на следующую черточку, завибрировала, словно не была уверена в абсолютной точности отсчитываемого ею времени, потом замерла, напряглась, приготовилась к новому скачку вперед.
Ломидзе, подумав, сказал, что сейчас дежурной машины, пожалуй, не выпросишь, поэтому лучше всего добираться своим ходом.
Через несколько минут Ломидзе и Слободкин шагали по еще темной Маросейке. Некоторое время шли молча. На асфальте лежали редкие звездочки снега. Сергей все время поеживался.
Заметив это, Ломидзе сказал:
— Промокли? Не должны вроде бы — ночью вон как прихватывает. Но сапоги мы вам все-таки починим. Напомните мне, когда вернемся. С вашими сапогами только на юге жить.
— Ваши ненамного лучше, — заметил Слободкин.
— Все некогда, некогда.
Они пошли быстрее, обгоняя прохожих, поторапливая друг друга. Они наслаждались утренним воздухом и этой ходьбой, радуясь тому, что спешившие с ними в одном направлении трамваи были переполнены до предела и можно было пройти пешком еще один квартал, еще одну остановку, еще до одного угла…
— Не устали? — переводя дух, на одном из перекрестков спросил Слободкина Ломидзе.
— Что вы! Я в армии знаете какие кончики делал! А вы вот уже задыхаетесь.
— Это вам показалось, — сказал Ломидзе. — Сейчас второе дыхание откроется. Вы давно не были в Москве?
— С осени сорокового. Сейчас вот иду, а сам все сравниваю, сравниваю…
— Да-а… Осень сорокового и весна сорок третьего! Две эпохи! Земля и небо. Какое у вас, Слободкин, самое главное ощущение?
— Вы знаете, внешне — все не то, все на сто восемьдесят повернуто, — ответил Сергей. — Патрули на каждом углу, пустые магазины, темнотища, хоть глаз выколи. Такой никто никогда не видал Москву. И все-таки что-то осталось здесь неизменным. Вы не думали об этом?
— Что же именно? — Ломидзе с интересом взглянул на спутника.
— Я сам не разобрался еще как следует. Но с первой минуты, как только спрыгнул с поезда на Павелецком, возникло во мне это чувство и сидит вот здесь. — Слободкин дотронулся рукой до груди.
— Вы москвич? — спросил Ломидзе.
— Родился тут, отсюда ушел в десант.
— Я в сравнении с вами новосел. Немного со стороны посмотреть могу. Так вот послушайте, что я вам скажу. Москва — это москвичи, в этом вся штука.
— Тбилиси — это тбилисцы, Курск — это куряне, — не то возразил, не то согласился Слободкин.
— Правильно. Тбилиси — это тбилисцы, поверьте, я патриот Грузии, горжусь своим народом, но неужели вы никогда не замечали, что в москвичах есть что-то, ну как бы вам это объяснить… Словом, москвич — это москвич. Кто бы ни был он до этого, откуда бы ни приехал сюда — из Курска или Тбилиси.
— Пожалуй, вы правы, — задумчиво усмехнулся Слободкин.
— Нет, серьезно. Вы просто давно здесь не были. Как хорошо, что я вас на «Мотор» вытащил! Надо вам земляков своих рассмотреть как следует.
— Но ведь по вашей теории все земляки, каждый встречный.
— А на «Моторе» москвичи из москвичей, уверяю вас. А вот и «Мотор», кажется, на горочке, видите? Я тут частенько бывал по пути на фронт.
— На фронт? — переспросил Слободкин.
— Не сейчас, конечно. Раньше. Фронт тогда знаете где был?
— Слышал, а не верится как-то.
— Мне самому теперь не верится. Утром — туда, вечером — обратно. Химки — это был уже фронт. Я тогда в «Комсомолке» работал. Вернешься, бывало, под вечер с материалом в редакцию — тебе уже с порога кричат: «Ломидзе, где тебя черти носили до сих пор? Всю газету держишь!» — «Где носили, говорю, там их уже нет: на целых два километра фронт отодвинулся». — «Честно?» — «Честно!» — «Ломидзе, милый, Ломидзе, дорогой, ты устал, наверно? Ел ли чего-нибудь? Пил ли чего-нибудь?» Вместо ответа сунешь им блокнот из кармана шинели, разбирайтесь, дескать, сами, — и скорее на бок, прямо тут же, в редакции.
— Так мы с вами оба солдаты, выходит! — воскликнул Слободкин.
— Я в армии не был, только на фронте, — усмехнувшись, ответил Ломидзе.
— А я, наоборот, в армии был, но фронта не нюхал.
— Как это? Вы же фронтовик и ранены даже.
— Насчет ранения верно, а насчет фронта ошибаетесь.
— Забыл, забыл, вы десантник, парашютист! — воскликнул Ломидзе. — Вас в тыл забросили. Так это же еще больше, чем фронт.
— Опять опечатка. Парашютист, но никуда нас не забросили. Мы недалеко от границы стояли. В первый же день войны сгорели наши крылышки на земле, прямо на аэродроме. И самолеты, и парашюты. Покрутились, повертелись мы — что делать? А война идет полным ходом. И подались в пеший десант. Приходилось слышать о таком роде войск?
— В первый раз, — сознался Ломидзе.
— Тот же десант, только на своих двоих. По принципу дальше в лес — больше дров. Ну, тут мы уж постарались!
— Ну вот, а говорите, фронта не нюхали! Да вы фронтовик из фронтовиков!
— Что вы! Если бы все шло нормально, мы бы ему с первого дня такого всыпали!
— Если бы в мире все шло нормально, войны бы не было.
— Тоже верно, — согласился Слободкин.
За разговором незаметно они оказались у высоких, плотно закрытых ворот. На воротах не было никакой вывески, но, поравнявшись с ними, Ломидзе и Слободкин остановились одновременно.
— По-моему, здесь, — сказал Ломидзе.
— Точно, — уверенно ответил Сергей.
— А вы откуда знаете? — удивился Ломидзе.
У Слободкина напряглись и слегка шевельнулись ноздри.
— Чую!
Сергей всем существом своим с наслаждением ощутил тот непередаваемый, едва уловимый запах металла, машинного масла и еще чего-то, чем пахнет любой завод, что бы на нем ни производили — часы или паровозы, турбины или электролампы.
— А ведь верно! — воскликнул Ломидзе. — Чутье у вас превосходное.
— Классовое! — уточнил Слободкин.
Они распахнули дверь проходной. Через несколько минут перед ними стоял смущенный, виновато улыбавшийся парень, оказавшийся секретарем заводского комитета комсомола «Мотора».
— Товарищ Ломидзе, вы же обещали на будущей неделе…
— Не волнуйтесь, товарищ Савушкин, мы к вам ненадолго, по одному конкретному поводу. Не ваши ребята в ЦК звонили? Обижают их.
— Это ошибка, от нас никто звонить не мог.
— Ага, попались, Савушкин! Только звонок опровергаете, а обижать обижают, выходит? Правильно?
— Кого обижают? Ребят? Да у нас весь завод ребята, вы же знаете, товарищ Ломидзе. И потом…
— Самых энтузиастов вроде бы обижают, целую комсомольскую бригаду…
Савушкин почему-то покраснел. Ломидзе, заметив это, подмигнул Слободкину. Точно, мол, попали по адресу!
— Нам извиниться перед ребятами надо, — сказал Ломидзе.
— Вам? Извиниться?! — совсем опешил Савушкин.
Ломидзе пояснил:
— Договорить с ними до конца не смогли, разъединили нас. Словом, ведите нас в эту бригаду и немедленно.
— Не могу, — сказал Савушкин упавшим голосом. — Это, наверное, бригада имени Талалихина. Спит она после ночной. Прямо в цехе…
Глаза у Ломидзе сделались вдруг злыми.
— Вот видите, товарищ Слободкин, значит, приехали мы с вами вовремя. Товарищ Савушкин забомбил ЦК своими рапортами. Посмотрим, чего эти рапорты стоят.
Цех, где работала бригада талалихинцев, внешне был похож на любой цех любого хорошего завода. Станков было много, но стояли они в строгом порядке, не мешая друг другу. Слободкин заметил это сразу. У него на заводе до такой рационализации руки еще не дошли. Правда, были на то свои причины. Его завод новоселье справил осенью сорок первого в чужом городе. Сперва вообще под открытым небом работали. Сергей этого сам не видел, но когда после госпиталя перешагнул первый раз порог девятого цеха, то ужаснулся. Теснота, земляной пол, холод, стены, густо беленные инеем. А тут ничего, тут можно план выполнять! Сергей шел по пролету между стоявших в идеальном порядке станков и с чувством некоторой ревности присматривался и прислушивался ко всему, что происходило в цехе. К тому, как ровно гудели станки, к тому, каким щедрым светом было залито все вокруг — и вращавшиеся патроны самоточек, и ловкие, быстро сновавшие руки ребят. Да, это были именно ребята, мальчики. Самые настоящие. Неизвестно даже, успели ли они кончить курс мудрых рабочих наук в ФЗУ. Вон тот, например, вихрастый. Мужичок с ноготок! Только пиджак на его плечах большой, наверное, отцовский — от этого парнишка еще меньше кажется. Откуда у таких силы берутся? Станок и так огромный — перед таким «с ноготок» громоздится и вовсе горой.
— Теперь на многих заводах так, — сказал Ломидзе, — я побывал кое-где. И у вас, думаю, то же самое.
— И у нас, — согласился Сергей. — Только там мы ко всему привыкли — эвакуация!
— В Москве не лучше.
Разговаривая, Ломидзе и Слободкин ушли в самый дальний конец цеха, но нигде спящих людей возле станков не обнаружили.
— Ну где же они? — спросил Ломидзе у Савушкина, который плелся следом.
— Не видите? — ответил тот недоверчиво. — Да вон они, вон туда гляньте, повыше…
Ломидзе и Слободкин запрокинули головы и только тут заметили — под самым потолком цеха была натянута проволочная сетка, предназначавшаяся для каких-то технических целей. В ее насквозь просвечиваемом огромном гамаке тут и там чернели свернувшиеся калачиком фигурки мальчишек. Как они забрались туда, было непонятно.
Ломидзе и Слободкин молча переглянулись. Савушкин затараторил:
— Не хотят ничего! Мы давали им паклю, ветошь — не надо, говорят, и так тепло. Оно и верно, если разобраться: теплый воздух от станков поднимается, согревает… Мы им сто раз предлагали…
— Кто это «мы»? — сухо спросил Ломидзе. — И что вы им «предлагали», если сами считаете, что спать на голом железе даже лучше?
Секретарь обиделся:
— Когда припечет с планом, и я иной раз в этот гамак заваливаюсь…
— У нас иногда на войну списывают все беды, все тяготы! — едва сдерживаясь, сказал Ломидзе. — Даже то, что происходит от нашей лени, косности, равнодушия к людям… Так кто же все-таки «мы»? Комитет комсомола?
— Почему комитет? — Савушкин развел руками. — Мы все вообще. Цех…
— Не надо свою вину на других валить, Савушкин! Не надо!
Тон Ломидзе становился все более непримиримым. Не «товарищ секретарь», не «товарищ Савушкин», а именно «Савушкин» — одно голое слово, как тело на железе без всякой подстилки.
Слободкин понял, что Савушкину несдобровать. Решил вступиться за него, попробовал сказать что-то смягчающее. Куда там!
Выручил старик мастер. Увидев, что комсомольского секретаря отчитывают какие-то незнакомые люди, подошел, поздоровался с Ломидзе, со Слободкиным, даже Савушкину демонстративно протянул руку, давая этим понять, что его в цехе знают и уважают.
— Вы насчет ребят? — без лишних слов спросил мастер. — Я вам так скажу — общежитие на Стромынке, а мы где? То-то! Два часа туда, два обратно. И ребятам плохо, и заводу один урон. Вот и не протестуем. Я человек семейный, дом у меня есть, а сколько раз ночевал на этих полатях! И рабочая сила все время под рукой. Надо смену поднять — только свистни! Хотите испробовать?
— Нет, что вы! Пусть снят, — запротестовал Ломидзе. — Уморились ведь. И шума не слышат?
— Какое! — махнул рукой мастер. — Это им словно дождь по железной крыше. Усыпляет! Вы из ЦК, что ли?
— Откуда вы знаете? — удивился Ломидзе.
Старик ухмыльнулся:
— Если не буду знать, кто у меня в цехе, какой я к шуту мастер? Савушкина проверяете? Ну что ж, проверьте, проверьте, прорех у него сколько хочешь. И про обещанные ребятам ордера позабыл, забегавшись. Но мы исправим это дело. А в остальном вашей вины больше.
Ломидзе еще более удивленно глянул на мастера.
— Верно слово! Помогли бы с общежитием, и виноватить бы никого не пришлось.
— Но вы же знаете, в Москве… — попробовал возразить Ломидзе.
— Знаю, знаю, все знаю, в Москве и с этим трудно, и с тем нелегко. А ты все равно «найди и доложи», так, что ли, в армии говорят? — Старик перевел взгляд на Слободкина.
— Говорят, — поддакнул Сергей.
— Понял намек, — помолчав, согласился Ломидзе. — Подумаем насчет общежития. Обязательно подумаем.
— Вот это серьезный разговор серьезных людей! — обрадовался мастер. — А на полати я вас все-таки подыму. Не беспокойтесь, ни один не проснется, как пить дать.
Мастер подвел Ломидзе и Слободкина к темной стене, показал на вделанные в нее железные скобы.
— Шагом марш! — И сам первым стал карабкаться к узкому проему между стеной и сеткой.
Через несколько секунд мастер, Ломидзе, Слободкин и Савушкин повисли над цехом, рядом со спящими ребятами. Сюда снизу подымался не только теплый воздух от работающих станков. Казалось, грохот от всего, что вертелось, крутилось, металось внизу, сконцентрированно устремлялся вверх, словно вырвавшийся из сотен раскаленных зенитных стволов. Уж на что был привычен к заводской обстановке Слободкин, но и у него голова загудела. Мастер попробовал что-то сказать, но расслышать его тут было нельзя. Они молча полежали в неловких позах, посмотрели вниз — на работающих, еще раз — на спящих, потом друг на друга и так же молча спустились.
— Ну, как? — спросил мастер, обращаясь к Ломидзе.
— Плохо, — ответил тот.
— А я думаю, ничего, терпимо, с одной стороны. Война все-таки, разве до всех руки дойдут? У заводского комсомола забот во! — Мастер провел ребром ладони но горлу. — Да и у ЦК вашего. Не правда, что ли? — спросил старик уже более дружелюбно.
— При чем тут ЦК? — спросил вдруг Слободкин. — У ЦК своих дел хватает…
— Вот и я об этом! — подхватил мастер. — Не заметили нас — маленькие.
— Василий Сергеевич! — подал голос молчавший все это время Савушкин.
— Цыц! — одернул его старик. — С начальством тоже надо уметь разговаривать. Сам в начальстве хожу. — Он с гордостью поправил на себе засаленный ватник, так, словно это был мундир генерала. — На начальство, брат, тоже иногда гаркнуть полезно. Чтоб не зазнавалось.
Старик миролюбиво хлопнул по плечу сперва Ломидзе, а потом Слободкина.
— Не серчайте. Просто к слову пришлось. Начальнички, мать вашу за ногу! У меня свой такой же был. Выдвинули, потом, слава богу, обратно к станку поставили. Не выдержал пробы.
Мастер не спеша закурил, поделился куревом со Слободкиным и Ломидзе, но прежде, чем распрощаться, еще раз спросил:
— Значит, подсобите? Дайте хлопцам что-нибудь поближе к заводу.
Глава 3
В эту ночь Слободкин написал еще одно письмо Зимовцу.
«Что же ты молчишь, Проха? Послание мое получил? Изучаешь? Многословию моему дивишься? Я сам, брат, удивляюсь, на какую лирику меня понесло. Вроде совсем недавно настрочил тебе обо всем, а вот руки тянутся к перу, перо — к бумаге. Минута, и стихи… Извини, что классика втравил в переписку. Но не писать тебе, оказывается, не могу. Мама от дел наших далека, сам понимаешь. А на работе ни с кем покуда нет у меня таких отношений, чтоб откровенно обо всем. Одним словом, терпи, Зимовец.
Как в тот раз, все по порядку:
1. Настроение.
Дрянь настроение, врать не буду. Да и от чего ему быть хорошим? Сам посуди. С мамой почти не вижусь. Прихожу, когда спит. Она уходит, когда я глаз не продрал, хотя особенно не разлеживаюсь. От Ины по-прежнему — ничего. На Маросейке взвалили на меня много всякого такого, в чем я ни уха ни рыла. С настроением ясно?
2. Работа.
Как бы тебе поточнее сказать? У нас, на заводе, я был нужней, честное слово. У станка стоял, автопилоты на руках носил. Оглянешься — след хоть какой-то виден. Тут — нет. Бейся хоть весь день как рыба об лед — никаких результатов. Мне конкретность нужна, понимаешь? Начальство у меня хорошее, дельное. Например, Ломидзе, зам зав наш. Внимательный. Сегодня даже на завод с собой взял. Там психанул, правда, когда один старый мастер ему сказал, что мало заботимся о молодых. Это верно, заботимся мало. Вот видишь, я уже пишу не „заботятся“, а „заботимся“: совсем цековцем заделался… Так вот о Ломидзе. Он много работает. Но это не видно никому. И старик мастер о том не ведает. Ему результат важен. Ремесленники в его цехе спят на голом железе, — значит, Ломидзе чего-то недоделал, чего-то недодумал. И прав, конечно, мастер. И неправ — я же вижу, как вкалывает сам Ломидзе и весь его отдел. Вот и кисну от этого. Настроение… ой, опять настроение. Это было уже. Одним словом, не выдержу я долго такого! Теперь, надеюсь, ты мне не завидуешь больше? Не завидуй.
Эх, Проша, Проша, добрый, верный мой друг и товарищ, скучаю без тебя. Над Москвой уже давно ночь, а если честно сказать — утро уже где-то на ближних подступах к столице нашей родины, спать бы мне да спать и снов не видеть. Но нет, сам не сплю и, может, тебя от сна отрываю. Ладно, не буду больше. Дрыхни, отдыхай. Заслужил. А как там все? Остальные? Каганов? Баденков? Привет им. Приветище!
Твой Слобода»
Письмо это отправлено не было. Проснулся утром Сергей, перечитал и порвал в мелкие клочья. «Что это я, в самом деле? Не знал раньше за собой такого. Сам расхныкался ни с того ни с сего и на друга мерехлюндию нагоняю. Позор!»
А днем, на работе, Слободкин пришел в свое обычное состояние. Он любил, когда накидывались на него дела. Вот они и накинулись. Со всех сторон. Только успевай поворачиваться.
С самого раннего утра позвонил Савушкин. Спросил, какое впечатление осталось у него от вчерашнего.
— А вы, может, приедете? — сказал Слободкин. — Вместе обо всем подумаем… Что, что? Ломидзе?.. Товарища Ломидзе сегодня не будет, общежитием поручено заняться мне.
Насчет того, что Ломидзе не будет в отделе, Слободкин сказал правду. А вот относительно того, что ему, Слободкину, поручено заняться общежитием для ребят «Мотора», соврал. Как это получилось у него, сам понять не мог, но слово сорвалось, отступать было некуда.
— Приезжайте. Заказываю пропуск, — повторил Слободкин.
Но когда в трубке после решительного «еду!» раздались частые гудки, Сергей понял, что поторопился. Переполошил парня зря, обнадежил, а ведь сделать ничего не в состоянии. «Через час Савушкин будет в ЦК. Что скажу ему? Чем помогу? Обещаниями?»
Трель нового телефонного звонка наполнила комнату. Звонили из Нижнего Тагила. Просили тут же, не сходя с места, поделиться опытом организации соревнования молодых рабочих на заводах Москвы, а если можно, и всего Советского Союза…
И посыпались вопросы. «Как заключить договор? Какие пункты? Как вести учет? Как и кого премировать? Чем? Как быть с отстающими?..»
За этим звонком — следующий. Потом еще один и еще… Казалось, десятки телефонных линий сплетены сейчас в одну, протянутую сюда, на Маросейку, в комнату к Слободкину. Одни просили, другие требовали, третьи на кого-то жаловались, как те, вчерашние, с «Мотора».
В отделе сегодня было пусто. Стрепетов и Ломидзе уехали на совещание в Наркомат тяжелого машиностроения. Вместе с ними отправились два инструктора. Вот и весь их личный состав. Правда, в одной из отдельских комнат сидела еще Ксюша, секретарь, но у нее были такие широко раскрытые глаза, что Сергей с первого дня понял — она тоже тут новичок. Только пропуска заказывал с ее помощью Слободкин. Услышав фамилию Савушкина, Ксюша вдруг неожиданно строго спросила:
— А этому что в ЦК делать?
— В отдел направляется. Наверно, уже ждет внизу.
— Я понимаю, что направляется, а зачем? Толку от него…
Ксюша все-таки позвонила в бюро пропусков, но при этом посмотрела на Сергея так серьезно, что он понял: не такая-то робкая она, старается кое в ком разобраться, составить свое мнение о некоторых людях.
Возвращаясь к себе после разговора с Ксюшей, Слободкин с горечью почувствовал — одна оплошность громоздится у него на другую, и так будет, наверно, долго еще, ведь каждый шаг приходится делать чуть ли не на ощупь, как вот в этом коридоре, бесконечно длинном, узком, плохо освещенном.
Ход этих мрачных мыслей Слободкина неожиданно был нарушен. Навстречу ему с охапкой папок, бумаг и коробок, падавших и разлетавшихся в разные стороны, бежала какая-то девушка. Еще мгновенье-другое, Слободкин понял — это Лена Лаптева. Та самая Лена, о которой он восторженно писал Зимовцу в первом письме из Москвы, но которую до сих пор знал только в лицо — видел всего несколько раз, да и то мельком, через открытую дверь, когда проходил мимо отдела пионеров.
Вот они поравнялись, из рук Лены вырвалась еще одна коробка, послышался дробный звук, очевидно от рассыпавшихся скрепок или кнопок. Слободкин и опомниться не успел, как возле его уха раздался тонкий возглас:
— Ну, чего же вы? Собирайте, если толкнули!
— Я не толкал… — смущенно пробормотал Сергей.
— Значит, можно не поднимать? — удивилась девушка.
— Нет, почему же… — Эти слова Слободкин произнес, уже присев на корточки.
Девушка рассмеялась.
— Да я пошутила, что вы! Сейчас отнесу вот это, вернусь и соберу сама.
Она убежала. А когда возвратилась, Сергей все еще шарил руками по щелям пола.
— Ой, мне очень стыдно, что я оторвала вас от дела! — воскликнула Лена.
— И от отдела, — попробовал сострить Слободкин.
— От отдела рабочей молодежи, — уточнила девушка.
— Правильно! А откуда это известно?
— Ну, мы ж все-таки на одном этаже. Только…
— Только в разных концах коридора.
— Вы с фронта, да? Парашютист? — спросила девушка.
— Парашютист.
— Как вас зовут?
— Сергей. А вас — Лена.
— А вы откуда знаете?
— Просто догадываюсь, — опять отшутился Слободкин.
Они оба расхохотались и вдруг сами застыдились своего смеха, молодого, безудержного, так громко и дерзко прокатившегося по строгому коридору, что где-то вблизи даже распахнулась какая-то скрипучая дверь. Узкая полоса света на мгновение осветила их лица: Слободкина — смущенное, с веселыми, быстро моргавшими глазами, и Ленино — задорное, даже немного озорное и почему-то сконфуженно-счастливое…
Оказавшись за своим столом, Слободкин почувствовал, что вел себя непонятно и странно. Чего, собственно, было ему смущаться? Ну, открыл кто-то дверь в тот момент, когда он собирал скрепки, рассыпанные известной на весь ЦК егозой Леной. Ну, понравилось девушке, что он был с ней элементарно вежлив.
Чтобы окончательно снять неловкость, которую он испытывал, Сергей позвонил Лаптевой и сказал подчеркнуто серьезно:
— А мне нужен ваш совет, Лена. Выручите?
— Вам? Мой совет? — не то удивилась, не то обрадовалась Лена. — Какой же?
— Насчет «Мотора». Общежития путного там нет. Ребята прямо в цехах на голом железе снят.
— Как на голом железе?
Слободкин рассказал.
Лена сначала не поверила, потом, когда Сергей подтвердил, воскликнула:
— Чего же вы ждете?!
— Но при чем здесь я? — попробовал возразить Слободкин. — Я же совсем недавно в отделе.
— Лично я и одного дня этого не потерпела бы!
— Вчера там был товарищ Ломидзе. Он все видел своими глазами.
— А сегодня товарища Ломидзе весь день не будет на месте, у него срочное совещание в наркомате. Значит, все останется по-старому? А завтра товарищ Ломидзе выедет на Дальний Восток…
— Откуда вы знаете?.. — поразился Слободкин.
— Я к примеру говорю. Ну, не на Дальний, так в Сибирь. Эх, товарищ парашютист, товарищ парашютист! Я бы на вашем месте…
— Лена, не сердитесь. Мне действительно нужен совет.
— Совет? Комсорга с «Мотора» немедленно в ЦК! — решительно сказала Лена.
— Вызвал уже…
— Тащите его сейчас же на пятый этаж. Хотите, я сама скажу товарищу Левыкину? Надо поднять на ноги всех!.. Ой, подождите, мне, кажется, Смоленск дают…
Слободкин опустил трубку. «Шутит Лена или говорит серьезно? Голосок у нее то сердитый, то лукавый, не поймешь, где шутка, где не шутка».
Так думал Слободкин. А когда дверь его комнаты отворилась и на пороге выросла нескладная фигура Савушкина, Сергей неожиданно для самого себя сказал:
— Хорошо, что быстро добрались. Нам с вами надо зайти к секретарю ЦК.
— К товарищу Левыкину?.. — упавшим голосом спросил Савушкин.
Слободкину стало жаль парня. «Вот бегает, мечется, что-то пытается сделать полезное, а в общем-то беспомощный человек. Перед начальством робеет. Ни с кем не любит портить отношений. Эх, Савушкин, Савушкин, где твоя комсомольская страсть? Тихонький ты какой-то, сробевший».
Слободкин думал о Савушкине, но на самом деле себя подзадоривал. «Тоже ведь стушевался сейчас перед пятым этажом. Стушевался или нет? Ну, говори, чего губу прикусил? Стушевался, факт! Девчонка-секретарша смелее тебя оказалась…»
Сидя в кабинете секретаря ЦК, помешивая алюминиевой ложечкой жидкий чай в стакане, поглядывая то на Левыкина, задававшего вопрос за вопросом, то на Савушкина, забывшего вдруг всю свою робость, рассказывавшего о положении на заводе прямо, без всякого подмалевывания, Слободкин думал о многом, но главным образом о том, какая все-таки молодчина эта Лена Лаптева! «Сколько в ней решительности, настоящего огонька! Живой укор некоторым. Мне по крайней мере. Чем бы ни кончился этот разговор у секретаря ЦК, сразу же зайду в отдел пионеров, к Лене. „Спасибо, — скажу тебе, — хороший человек. Выручила, помогла. Не зря я про тебя Зимовцу в самом первом послании настрочил…“»
Левыкин между тем все расспрашивал Савушкина, записывал что-то в книжечку, поднимал то одну, то другую телефонную трубку, с кем-то спорил, с кем-то ругался, кого-то обещал вытащить на бюро. Наконец оставил в покое телефоны, сложил книжечку, отодвинул неначатый чай, поглядел на Сергея.
— Товарищ Слободкин, вы в ЦК человек новый…
«Начинается, — подумал Сергей. — Надо было мне, дурню, не пороть горячку, а через Ломидзе действовать. Сейчас вежливо, деликатно, как у него, говорят, заведено, выдаст мне по первое число».
Сергей тоже отодвинул чай, к которому не притронулся, откашлялся, еле слышно ответил:
— Новый.
— Хорошо, что новые люди к нам приходят. В комсомольской работе обязательно перец должен быть. Вы меня поняли?
— Нет, — откровенно признался Слободкин.
— А вы? — Левыкин перевел лукавый взгляд на Савушкина.
— А я понял.
— Вы если и не поняли, все равно сделаете вид, что все вам ясно и понятно. Я про вас немного слышал. — Левыкин выразительно постучал остро отточенным карандашом по книжечке. — Общежитие на Стромынке надо срочно привести в божеский вид.
Савушкин с готовностью поддакнул. Сергей промолчал.
— А вы сами-то общежитие видели? — спросил Левыкин Слободкина.
— Нет, не успел. Но… — начал было Сергей, однако его «но» было таким тихим, а секретарь уже так загорелся действовать не откладывая, что этого «но» не заметил.
— Давайте посмотрим, — сказал он. — У вас время есть?
— Есть. Только в отделе у нас сегодня все на совещании, — ответил Сергей.
Он видел, что Левыкин решил сию минуту ехать на Стромынку, и возражать ему не стал, хотя прекрасно понимал, что возразить надо бы: слишком уж далеко эта Стромынка от завода.
Левыкин между тем поторапливал:
— Я вас долго не задержу, собирайтесь.
Когда они уже спускались по лестнице, к Сергею подбежала Ксюша и на ходу шепнула:
— Звонил Ломидзе. Его не будет, оказывается, целых три дня. Заняться «Мотором» поручено вам.
Минут через двадцать машина, в которой ехали Левыкин, Слободкин и Савушкин, остановилась у перекошенной кирпичной коробки, растрескавшейся, подпертой с фасада бревнами, чтоб не рухнула на мостовую.
Внутри оказалось еще хуже. Полы ходили ходуном, на койках лежали рваные мешки, набитые соломой. Ни одной живой души не было в общежитии. Только старый мрачный человек, назвавшийся комендантом, тяжело хромая, сопровождал, непрошеных посетителей. В руках он держал железный керосиновый фонарь с оторванной дверцей и без стекла.
— Он же не горит небось, папаша? — спросил Левыкин коменданта.
— Не горит, — сознался тот.
— Зачем же он вам?
— На всякий случай. Мало ли что…
Вид у коменданта был жалкий, Левыкин поглядел на него с сочувствием. Он и Савушкина не стал распекать. Походил, посвистел задумчиво под провисшими потолками, потом вдруг спросил незадачливого комсорга:
— Знаете, чего не хватает этому дому?
— Мебели, — невпопад ответил Савушкин.
— Еще одной бомбы. Слава богу, налетов больше нет и не предвидится. А то он, горемычный, от самой малой воздушной волны рассыпался бы в прах.
Слободкин молчал все это время. Он ругал себя мысленно за то, что не объяснил Левыкину еще тогда, в кабинете, что затея с общежитием на Стромынке зряшная. Вроде Савушкина оробел перед начальством, не набрался духу против его мнения поставить свое. А в результате? Только время попусту истратил секретарь из-за него.
Уже в машине, по дороге в ЦК, Слободкин робко заметил:
— На этом здании давно пора точку поставить. Ребята все равно не станут ездить туда, хоть построй им особняк на месте развалин.
— Вы так думаете? — спросил Левыкин.
— Уверен, — ответил Сергей. — Они же сознательные, все понимают, все знают.
Слободкин говорил с Левыкиным твердо, убежденно.
Левыкин слушал внимательно, не перебивая. Снова достал свою книжечку, долго листал ее и, отыскав там нужную страничку, спросил:
— Что предлагаете, товарищ Слободкин?
— Надо найти что-нибудь рядом с заводом. Может, уплотнить кого-то. Но мы обязаны снять ребят с проклятого насеста, поселить в светлые, теплые комнаты.
— Абсолютно правы, — после паузы сказал Левыкин. Он сделал в книжечке еще одну пометку карандашом и добавил: — Если от меня помощь потребуется, заходите в любое время дня и ночи. Правда, завтра с бригадой ЦК вылетаю в командировку по одному срочному делу. — Левыкин сконфуженно улыбнулся. — Но вы всегда рассчитывайте на мою поддержку, товарищ Слободкин. И инициативу проявлять не стесняйтесь.
— Попробую, — уже более уверенно ответил Сергей.
— Не «попробую», а жмите на все педали. Да что я вас учу? Вы же такую школу прошли! А вопрос с молодежью, с подростками, особенно с детьми, очень важный. Государственный, можно сказать. Мы сейчас на бюро будем обсуждать эти дела. Помощь детям, пострадавшим от войны. Ваши ребята с «Мотора» хоть и рабочие уже, а все равно еще дети. И мы обязаны облегчать их жизнь, сколько возможно в нынешних военных условиях. Вы что-нибудь слышали о счете № 160180?
— Нет, — ответил Сергей.
— А вы?
— И я тоже, — еле слышно поддакнул Савушкин.
— Узнаете еще. Это номер счета, на который будут отчислять средства в фонд помощи детям. И уже отчисляются. Сегодня утром первая сводка пришла. Первые рубли пока, но от чистого сердца. И кто бы, вы думали, почин сделал? Один офицер-дальневосточник. Фамилия у него, может быть, не очень героическая — Безносиков. Но скоро она будет известна всем, всей стране, поверьте моему слову. Не случайно говорится: почин дороже денег. Так как? Договорились насчет общежития? Могу уезжать со спокойной душой?
— Да, — тоже тихо, но твердо сказал Слободкин и поглядел на Савушкина.
Тот под тяжестью новых забот еще больше вобрал голову в плечи. Но куда денешься? Только что сами убедили Левыкина в необходимости что-то срочно предпринять.
Глава 4
Письмо от Зимовца пришло, когда Слободкин уже начал волноваться за друга. Уходя на работу, Сергей нашел долгожданное послание в ящике и прямо тут, на лестнице, начал жадно читать.
«Злишься? — писал Прокофий. — Ну и правильно делаешь. Только причины есть у меня. Вскоре, как ты уехал, нам снова знамя Комитета Обороны присудили. План выдали! С превышеньем даже. Что тут началось! Не знаю, откуда взялись у нас силы, но взялись откуда-то. Я думаю, в Сталинграде все дело. Если б не он, настроения такого бы не было. Ты слышал когда-нибудь песни в наших бараках? Даже когда первый раз знамя получали, помнишь? На митинге побыли, в ладони похлопали и разошлись по своим норам. А тут нет! Иду как-то со смены вечером — кругом тишина. Вдруг откуда ни возьмись из какой-то трещины в бараке — „Синий платочек“! Да еще с баяном! Ясна тебе обстановочка? В ту ночь как никогда понял я, Слобода, что война нами будет выиграна.
Ну вот, потому и не писал, что вкалывал пуще прежнего. Теперь спроси, почему „вкалывали“, а не „вкалываем“. А потому, что теперь без меня будут план тащить. Лопни, Слобода, от зависти, но военком наш областной серьезным человеком оказался. Серьезнейшим! Обещал и сделал. Полевая почта теперь мой адрес! Какая? Сам не знаю еще, но полевая.
Что еще сказать тебе на прощанье? Все вроде выложил. Последние дни в цехе. Жалко с ребятами расставаться, если честно. Сдружились. Вчера на обед не пошли — зажигалку мне стряпают. Именную, хромированную.
Ну, жди теперь письма из маршевой роты. А впрочем, особо не жди. Я писака, знаешь, какой? Это раз в жизни меня так прорвало. Про что только не настрочил тебе! Сам удивляюсь. Просто очень соскучился. Цени. И давай лапу».
Слободкин вышел на улицу возле своего дома, еще раз перечитал послание друга. И смертельно позавидовал Зимовцу — добился все же своего парень, на фронт идет. А он, Слободкин, все еще в тылу. Задания выполняет. Правда, тоже нелегкие, ответственные, почти всегда неотложные. Крутись, Слобода, выкручивайся, «находи и докладывай». Сергей невольно улыбнулся, вспомнив слова старшины Браги. Значит, доверяют! Это уже хорошо. Об этом доверии словечко можно бы Зимовцу сказать — пусть знает, не ударил пока Слободкин в грязь лицом перед Москвой. Да только номер почты еще неизвестен. И обязательно надо бы про общежитие. Как бегал, звонил во все концы, хлопотал все последние дни, пока нашел подходящее здание недалеко от «Мотора». Как убеждал жильцов переехать в другие дома, подобранные им. Как всех убедил, кроме одного, и как потом с ним схлестнулся и чего ему, Слободкину, это стоило. И как ремонт начали, хотя материалов не было никаких. И, конечно, про Лену Лаптеву надо бы. Очень она Ину напоминает. Такая же умная, решительная. И душа настоящая. Даже во внешности Лены есть что-то такое, что роднит ее с Иной. Такая же челка, такие же большие, чистые глаза, такая же ямочка на щеке. «Сейчас приду на работу и сразу же загляну в отдел пионеров, поздороваюсь со всеми девчатами. Да, да, именно со всеми. Ну, а значит, и с ней, с Леной»…
Добравшись до Маросейки и распахнув дверь отдела пионеров, или «девчачьей державы», как его все здесь называли, Слободкин замер на месте и поднес руку к глазам, словно защищаясь от солнца. Всюду — на столах, на подоконниках и даже на старом, ржавом сейфе стояли цветы! Какие, Сергей еще не успел разобрать, но было совершенно ясно — живые, настоящие: все пространство комнаты казалось наполненным их летучим ароматом. Слободкин ощутил острый запах зеленого поля, леса, полынного куста, пробившегося через снег далеко отсюда, на берегу Волги, и вдруг спохватился:
— Девочки, да сегодня же ваш праздник! Ой, дурень я, дурень… Ну, поздравляю вас, дорогие женщины! От всей души и от мужского отдела нашего…
— Да уж ладно, ладно, — остановила Слободкина Лена. — Какие теперь праздники?
— А цветы откуда взялись? С неба? — опросил Сергей.
— А цветы действительно с неба, — за всех ответила Лена. — Асоян сегодня из Еревана прилетел. Он у нас настоящий рыцарь.
Кто такой был этот Асоян, Слободкин не знал, но ему стало почему-то чертовски обидно, что не он оказался рыцарем. Сергею захотелось даже чем-нибудь уязвить слишком предприимчивого Асояна, и он с издевкой всплеснул руками.
— Чудно все-таки! — ехидно сказал Слободкин.
— Что именно? — спросила начальница Лены, долговязая Вера Куцыбо.
— Для кого война, для кого красивые командировки…
— Зря вы так, — Вера строго посмотрела на Сергея. — Если не знаете… Одним словом, я бы на вашем месте…
— Не сердитесь, Вера, — сказала Лена, — он ведь действительно не знает. Объяснить ему?
— Объясните, — ответила Куцыбо.
— Цветы стоят тут только до вечера. — Челка у Лены упала на самые глаза, ямочка на щеке исчезла.
— Как до вечера? — не понял Сергей.
— Для госпиталя это, — пояснила Лена. — Пока довез, Асоян руки себе обморозил. Да и цветы еле дышат. «Возьмите, говорит, девочки, пока к себе, пусть отогреются».
Слободкин был сконфужен до последней степени. Девчата поняли это. Куцыбо за всех сказала:
— Ну, хорошо, хорошо, прощаем. Прощаем, девочки?
— Прощаем как новенького, — уточнила Лена. — Вы сколько тут? Месяц всего?
— Второй начинается, — еле слышно ответил Слободкин.
— Скоро привыкнете, — успокоила Сергея Куцыбо. — А если хотите исправиться, есть подходящий случай: проводите нас сегодня в госпиталь. Можете?
— Могу. Только я поздно освобожусь, ничего?
— Мы попросим, чтоб вас пораньше отпустили, — сказала Куцыбо. — По случаю нашего праздника.
— А что мы еще возьмем с собой? — опросил Слободкин. — Не с одними же цветами в госпиталь?
— Вот это речь уже настоящего мужчины! — Вера Куцыбо первый раз за все время разговора улыбнулась. — Глядите сюда!
Скрипнула дверь сейфа, в глубоком чреве его Сергей увидел десятка полтора аккуратно сложенных свертков, от которых пахло чем-то вкусным, давно забытым.
— Развернуть? — спросила Куцыбо, взвесив на ладони один из свертков.
— Не надо, — сказал Слободкин, сглатывая слюну. — Вижу и так — подготовились как следует.
— Сказать или нет? — спросила Куцыбо, глянув на подруг.
Девочки молчали.
— Так и быть, поясню, — продолжала Вера, — чтоб не ломал человек голову над тем, откуда разносолы такие. Подарки это ко Дню Восьмого марта, Сережа. Всем женщинам всех отделов. В одном сейфе уместились.
— Хорошие подарки, — смущенно сказал Слободкин.
— Не знаем, врать не будем, не пробовали, — ответила Вера.
— Пахнет вкусно, — с деланным равнодушием заметил Сергей.
— Поэтому мы и упрятали подальше, — созналась Куцыбо. — Работать же нужно!
Слободкину действительно удалось в этот день освободиться раньше обычного. По торжественному случаю девчата раздобыли в управлении делами машину, и уже в восемь часов вечера он вместе с ними шел из палаты в палату подшефного госпиталя. Оказалось, что все его спутницы были тут своими людьми. Их знали не только в лицо, но по именам и фамилиям, знали, в каком отделе и кем они работают. Со всех сторон только и слышалось:
— Держава идет! Державе почет и уважение! Как всегда в полном составе? А это кто с вами?
— А это наш новый работник, — за всех на правах начальницы отвечала Вера Куцыбо. — Познакомьтесь — Сережа Слободкин. Тоже фронтовик.
У Сергея уже болела рука, а ее все жали и жали — десятки, если не сотни, своих, родных, опаленных боями рук. Лежачие требовали, чтобы он подошел к каждому из них поближе, минутку посидел бы на краешке их койки, ответил бы хоть на один вопрос.
Сергей давно заметил: раненый, особенно раненный тяжело, с любым встречным, которого видит впервые в жизни, начинает говорить как с давним, хорошим знакомым. И тот обязательно должен ответить тем же, если не хочет человека обидеть. Сергей долго думал: почему это? Только сегодня понял: это тоска солдатского сердца. По дому. По отчему краю. Она копилась долго. Месяцами, годами. В окопах, в землянках. Но там были свои — своя рота, свое отделение. Почти как семья. И не «почти», а точно семья, и еще какая! Но вот все это оборвалось, рухнуло в тартарары. И когда обретешь вновь? И обретешь ли? И из дома ни весточки, ни полстрочки. Вот и тоскует сердце, рвется навстречу другому, может быть такому же истосковавшемуся, но с которым можно перекинуться словом — любым, пусть на первый взгляд малозначительным, но в котором сказано больше, чем слышится.
— Ты откуда, кореш? — спросит солдат солдата. — Не с Полтавщины?
— Нет, не с Полтавщины. Из Гжатска. А ты?
— А я с Полтавщины, из Зеленого Гая. Знаешь такой?
Вот и весь разговор. Всего несколько слов. Но каких! По имени назван уголок земли, милый с далекого детства или с юности, теперь уже тоже не близкой…
— Откуда ты, парень? — в десятый, в сотый раз спрашивали сегодня Сергея то в одной палате, то в другой. — Не с Брянщины? Не курский ли? Не из Питера?
И вот уже в который раз Слободкин отвечал:
— Не с Брянщины. Не курский. Не из Питера. Москвич я, хлопцы, москвич…
Отвечал почему-то так, словно стыдно ему было перед теми, кого судьба занесла далеко от родного дома.
Из госпиталя возвращались поздно, переполненные впечатлениями от всего увиденного там и услышанного. Шли по темным улицам примолкшие. Каждый думал о своем, наболевшем. У каждого был кто-то на фронте, от кого-то давно перестали приходить письма, о ком-то наводили справки, надеялись и уже теряли надежду. Там, на работе, девчата как-то держались, старались забыть о личном и забывали, увлеченные делами, долгом. Сейчас раскисли. Сергей это ясно видел.
Вот Лена Лаптева, например, из самой шумной сделалась вдруг самой тихой и оттого совсем крохотулей. Брат у нее танкист. С самого начала войны — ни звука.
Вся съежилась, сгорбилась дылдушка Вера Куцыбо. У нее двое старших братьев служили на самой границе и пропали без вести.
У Люды Кисловой, которая семенит все время позади всех, недавно погиб отец.
Не знает ничего Слободкин только о Нине Бахтюковой. Но и у нее, наверное, не сладко на душе — все вздыхает, вздыхает…
Сергей приглядывается в темноте то к одной, то к другой из девчат, сам невеселый как никогда и съежившийся вроде Веры Куцыбо. Кавалерийская, доставшаяся в госпитальной каптерке шинель когда-то была в самую пору, сейчас ерзает по спине. За воротом чуть не сугроб намело. Сергей старается распрямиться, обрести десантную стать, шинель противно вздувается пузырем. Если б не ремень, перехвативший тело двойным обхватом, сорвало б ветром шинелишку. Снова и снова становится Слободкину совестно, что он не на фронте.
«Завтра же пойду к Стрепетову, напомню ему про обещание».
Пятеро молча продолжают шагать по темной, еще совсем холодной Москве. Пока им всем по пути — они вроде бы единое целое. Но вот на каком-то углу остановятся, кто-то из девчат первой станет прощаться с подругами и с ним, Слободкиным. Уйдет в кромешную тьму, останется наедине со своим горем, например, Люда Кислова. Но пока они рядом идут, чуть ли не в ногу. Нет, нет, именно в ногу. Как это он раньше не заметил — в ногу. Последний снежок зимы, поскрипывая, отсчитывает шаги — легкие, девичьи, еле слышные, и его Слободкина, четкий шаг. Кирза о кирзу, кирза о кирзу, как в строю…
Наконец какой-то большой перекресток. Остановились. Смотрят друг на друга. Кому сворачивать?
— Тебе, Люд?
— Мне не скоро еще.
— Значит, тебе, Вера.
— Мне. Ваши пять! — как можно более равнодушно и даже беспечно отвечает Куцыбо, но голос ее становится вдруг тонким-тонким.
— Давайте проводим начальницу! — неожиданно для самого себя предлагает Сергей.
— Что вы! — отмахивается Вера. — Мне отсюда не так далеко. И вообще… Вот у Нины кончик! Замерзла, Нинуль?
Куцыбо почти весело тормошит Бахтюкову, — видно, рада-радешенька предложению Сергея, но сознаться, конечно, не хочет, она ведь и в самом деле «начальство».
Нина молчит. И замерзла, и устала, и скрыть этого не может. Все вообще давным-давно уже еле ползут. Слободкину только кажется, будто в ногу шагают. У него самого налиты свинцом сапоги. Но теперь уже не отступит.
— Так как же, проводим Веру, девочки?
— Проводим!
— Да будет вам! — смущенно фыркает Куцыбо. — Если уж провожать, так… всех!
— Вот это совсем другое дело! — почти весело подхватывает Лена Лаптева. — Всех, кроме меня, конечно.
— И кроме меня, — подает наконец голос Нина Бахтюкова.
— Какое там «кроме»? Все провожают всех! — подводит итог дискуссии Слободкин. — Сейчас выработаем маршрут, график составим — и по коням!
Пятеро идут по Москве. Пятеро не чувствующих под собой ног, но уже не таких голодных, не таких уставших, не таких обессилевших. Пятеро дружных, спаянных, шагающих опять молча, но рядом, плечом к плечу, и, как кажется Слободкину, в ногу. «Нет, теперь не кажется, а точно — в ногу! Хорошо придумал! — сам себя хвалит Сергей. — Мудро, толково! Всю ночь будем идти, а все равно мудро. Да и почему всю ночь? Не всю уже, половину только. Меньше даже. Будет по крайней мере что вспомнить потом. И мне, и девчатам. Маму вот только будить придется, но я тихонечко буду стучать, чтоб хотя бы соседей не потревожить. Им тоже вставать чуть свет».
Пятеро идут по ночной Москве…
Четверо идут по ночной Москве…
Трое идут по ночной Москве…
Двое еле-еле тащатся по самой окраине все еще темного, но уже давно проснувшегося города…
Эти двое — Слободкин и Лаптева.
— Меня дальше не провожайте, Сережа, — сказала Лена на какой-то развилке. — Даже разгонная машина на этом углу останавливается, дальше дорога плохая.
— И вы хотите, чтобы я бросил вас именно здесь? Ни в коем случае! Теперь до самого-самого!
Пока их было пятеро, пока их было четверо, пока их было трое, они шагали рядышком. Оставшись вдвоем, вдруг отошли друг от друга. Впрочем, это длилось недолго. Поскользнувшись в одном месте, Лена спросила:
— Вы стесняетесь, да?
— Откуда вы взяли?
— Я вижу, стесняетесь.
Чтобы разубедить Лену, Слободкин взял ее за руку. Так они и шли, как первоклашки, только изредка разъединял их какой-нибудь фонарный с погашенной лампой столб, возникавший во тьме неожиданно. Потом руки их уже сами искали одна другую, а отыскав, сплетались крепче. Мороз под утро усилился, ветер стал порывистей. Весна уже наступила, но и зима еще длилась.
— Замерзли? — спросил Сергей, когда пришло время прощаться.
— Немножко, — созналась Лена. — А вы?
— Еще меньше. Чуть-чуть…
— Вот и неправда, — перебила Лена. — А зуб на зуб у кого не попадает?
— У меня?
— А то у кого же? И вместо пальцев сосульки.
— И у вас.
— Я дома уже.
— А я сейчас короткими перебежками — и согреюсь.
— Нет уж, — строго сказала Лена, — никуда я вас не отпущу. Подыметесь ко мне, выпьете стакан чаю, тогда пойдете.
Слободкин усмехнулся:
— С тортом?
— Какой может быть разговор? С этим, как его… — Лена пыталась вспомнить название какого-нибудь торта, но ничего у нее не получалось.
— С «Миндальным»? — подсказал Сергей первое попавшееся.
— Нет, что вы! Я объелась «Миндальным» на выпускном вечере перед самой войной и больше терпеть его не могу!
— Ну, тогда с «Поленом».
— Угадали! Только с… еловым. И топить самому придется, учтите, а печка у меня дымит…
В комнате Лены стояла железная печурка. Горстка маленьких, как кегли, дровишек лежала в углу. От них исходил одуряюще вкусный запах хвои, словно в комнате всю зиму стояла елка.
— Вам нравится у меня? — спросила Лена.
— Очень!
— Тогда — за работу!
Пока хозяйка что-то искала в шкафу и звенела посудой, Слободкин растопил печурку и понял, как правильно поступил, приняв приглашение Лены. По всему телу его начала распространяться сладкая истома. Опустившись на колени перед огнем, Сергей смотрел на его острые сине-желтые, медленно распрямившиеся травинки и уже не имел ни сил, ни желания сдвинуться с места.
Поставив чайник на конфорку, Лена устроилась рядом со Слободкиным. Сине-желтые стебельки огня росли теперь перед ними двумя, бросая зыбкие блики на лица, отражаясь в двух парах глаз.
О чем думали сейчас эти двое? Каждый о своем, конечно. А может, ни о чем? Такое тоже бывает. Напряжение, нервы, постоянные заботы, тревоги — и вдруг разрядка. Ничего больше не нужно, никто никуда не зовет, не торопит, никто ничего не требует. Можно стоять вот так на коленях перед синими, желтыми стебельками огня, просто любоваться ими, просто греться возле них и ни о чем, решительно ни о чем не думать — ни о том, что через несколько минут все это кончится, ни о том, что надо будет подняться и одному опять идти через всю Москву, только в обратном направлении, другой — остаться в комнатушке, наполненной призрачным, летучим теплом, которое продержится тут недолго — исчезнет сразу же, как закроется дверь за этим человеком…
— Вам хорошо? — еще раз спросила Лена, и узкая ее ладошка чуть коснулась плеча Сергея.
— Да…
Он сидел, боясь шелохнуться, не зная, как поступить с этой рукой — робкой, тихой, доверчивой…
Так прошло минуты две или три. Или, может быть, чуть больше. Потом Слободкин тихонько освободился, чтобы нагнуться, подбросить дров в огонь, который, впрочем, и так горел теперь достаточно ярко.
Прошло еще несколько минут. Сергей заталкивал в открытую дверцу печурки одно полешко за другим. Чтобы удобнее было это делать, он вовсе отодвинулся от Лены, приблизился к огню, почти вплотную. Лицо его пылало, глаза блестели.
— Сережа, у вас есть девушка, да? — спросила Лена почему-то очень громко.
Слободкин едва заметно кивнул.
Они помолчали.
Потом Лена спросила опять неестественно громко, словно они были не в крохотной комнатке, а на шумной улице:
— Далеко?
Сергей кивнул снова.
— Как ее зовут?
— Ина.
— Она счастливая, ваша Ина, — сказала Лена после новой паузы.
— Вам так кажется? — Сергей посмотрел на Лену удивленно.
— Не кажется, а знаю теперь совершенно точно.
— Теперь?
— Да, с сегодняшней ночи.
«Как странно она на меня посмотрела! К чему бы это? Разве поймешь этих девчонок! Но до чего же она все-таки похожа на Ину! А что, если поцеловать ее за это? И поцелую сейчас. Возьму сосчитаю до трех и поцелую. Нет, отставить! В другой раз как-нибудь. Или поцеловать все-таки? В щечку? Один. Два. Два с половиной…»
— Что вы там бормочете себе под нос, Сережа?
— Я? Да вот… считаю, сколько дровишек осталось.
— Вы сказали «два с половиной».
— Правда? Смешно!..
— А когда война кончится, вы… поженитесь? Да?
— Н-не знаю… А что? Да и когда она кончится? Вы как думаете?
— Одни говорят — к осени, другие…
— Ой, Лена!.. — Слободкин поглядел вдруг на часы и вскочил. — Что подумает мать о своем сыне?
— Простит, если сын не забудет поздравить ее с праздником.
— Лена, Леночка, что я наделал! И маму не поздравил! Меня же высечь надо!..
Лена помолчала, потом, поднявшись на цыпочки, провела ладошкой по ежику волос Сергея.
— Будем друзьями, Сережа?
— Я думаю, что мы уже друзья.
— Тогда возьмите вот это. — Лена извлекла откуда-то из темноты плоскую, слежавшуюся веточку мимозы, расщепила ее на две ровные половинки и одну из них протянула Сергею. — Пусть у мамы вашей будет праздник.
…Как ни спешил Слободкин, как быстро ни прыгал с одной попутной машины на другую, матери дома он уже не застал. На столе рядом с тщательно укутанным в одеяло чайником он нашел записку: «Сынуля! Где же ты? Изождалась совсем. Все работаешь? Когда же отдохнешь? Нельзя так, Сереженька, один ты у меня».
Чай был горячий. Сергей пил обжигаясь, отодвинув в сторону маленький кубик сахара. Пил и почему-то вспоминал о том, как однажды мама заснула… в блюдце. Давно это было, но он до сих пор помнит, как она, смеясь, рассказывала: «Села я чаевничать одна — вас с отцом дожидалась. Вы оба в трехсменке работали, часто возвращались поздно. Придете, бывало, усталые, вам уже не до ужина. Вот и решала я хоть разок дождаться, накормить вас, полуночников. Сижу за полночь, распиваю чай. Час не сплю, два не сплю, три. Будильник все тише и тише тикает. Потом вдруг слышу — звонок в дверь. Бегу отворять, а одна щека у меня мокрая, в чаинках, — та, что в блюдце лежала»…
Сергей так ясно увидел сейчас перед собой эту материнскую щеку, что невольно провел рукой по своей, обросшей за ночь и жесткой от усталости.
На комоде все громче и громче стучал будильник, деловито показывая стрелкой на свернутую кренделем циферку. «Неужели восемь? Скорей на работу! Если очень поторопиться, то можно еще успеть».
Когда мать вернулась домой, ее тоже ждало послание: «Мамуль! С праздником тебя! С прошедшим! Извини, проморгал. Нюхай мимозку, жди — сегодня обязательно раньше вернусь, и мы с тобой 9-го отметим 8-е. Ладно? Не сердишься?»
Сергею действительно удалось возвратиться домой немного раньше обычного. Мать не очень верила обещанию сына побыть с ней хоть один вечер, но спать не ложилась — накрыла на стол, вскипятила чай и ждала. В самом центре стола в простенькой, знакомой Сергею с детства стеклянной синей вазочке красовалось желтое перышко мимозы.
Если бы Сергей догадался, что на диковинный цветок этот успело за вечер налюбоваться чуть не все население дома, он, наверное, пришел бы в смущение и, может быть, даже рассердился на мать, но она, зная характер сына, сделала из этого тайну. Всех соседей заранее выпроводила еще и потому, что чувствовала, как хочется Сереже побыть с ней вдвоем, чтобы ни одна живая душа не мешала им поговорить друг с другом.
Да, да, поговорить обо всем. Именно об этом мечтал Сергей уже давно и даже не знал, какие слова скажет матери.
Так мечталось. Но на деле вышло все по-иному. Нет, он не стал менее внимательным и любящим сыном, не забыл тех слов, которых так ждет материнское сердце. Просто слова стали вдруг лишними, потеряли смысл, утратили истинное свое значение. Все вместе и тем более каждое в отдельности. Мать, слава богу, поняла это с первой минуты их маленького праздника. Они молча пили чай, молча поглядывали то друг на друга, то на Сережину детскую фотографию, висевшую на стене, то на веточку мимозы…
— Отчего так бывает, мам? — спросил наконец Сергей. — Не виделись так долго, трудно и сосчитать — сколько. После моего приезда поговорить толком до сих пор не было времени, а вот сегодня, когда у нас впереди весь вечер, сидим и молчим. Ты молчишь, и я все слова забыл…
Мать съежилась, поднесла к глазам край фартука и закачала головой — опять молча.
— Ну вот, мам… Я испорчу тебе весь праздник своими нелепыми вопросами.
— Нет, нет! Говори, говори, сынок. Я слушаю…
Сергей положил руку на материнское плечо и почувствовал, как оно дрожит — мелко и безостановочно.
— Что с тобой, мам? Обидел кто-нибудь? Нездорова?
— Никто не обидел, здорова. От счастья это, сынок. Вот реву, а глаза счастливые, посмотри…
Она встала, подошла к зеркалу, заглянула в него.
— Только красные. Это от работы, сынок. Устанешь иной раз, они и… Это пройдет сейчас.
Она вернулась к столу, долила в стакан Сергея горячего чая, пододвинула поближе к сыну крохотную баночку с его любимым земляничным вареньем.
— К дню рождения твоего берегла. Засахарилось, но пахнет лесом, понюхай.
Сергей наклонился над баночкой и даже зажмурился от удовольствия.
— Вкуснотища! А может, не будем, мам, подождем июля?
— Не обманывай старую, ешь. Я же знаю, ты весь уже там. Ждешь не дождешься того часа, когда воротишься в свой десант, так, что ли?
— Ну, это не скоро еще, мам…
— Не лги. Я же чувствую, что ты задумал. В каждом слове твоем чую. Ты и не замечаешь, как говоришь: «У нас в первой», «У меня в отделении», «Кузя уже в бою». Я все понимаю. Даже про завод свой вспоминать перестал. То, бывало, Зимовец, Зимовец, а то и о нем молчок.
— Да что ты, мама! Да откуда ты взяла? Зимовец мой самый близкий друг, такой же, как Кузя, я его никогда не забуду, даже там.
— Вот-вот! Я и говорю: все мысли твои только там. Хорошо ли это? Как в ЦК твоем на это смотрят?
— А я сюда вызван зачем, думаешь? Настанет день, придет час, пригожусь в своем главном деле. Так сразу договорились.
— Ах, Сережа, Сережа! Что мне делать с тобой? Работа у тебя хорошая, мать рядом. Чего тебе нужно, чего не хватает? Воюй в тылу, — зря, что ли, в лозунге сказано: тыл — это тоже фронт.
— Мам, как раз к этому я и стремлюсь — в тыл, понимаешь?
— Тебе все шуточки. Вот возьму сейчас и разревусь. Уже по-настоящему, не остановишь, учти.
— Это не разрешается мам. Ни при каких обстоятельствах. Ты у меня сильный, мужественный человек. Я горжусь тобой. Ине про тебя написал.
— Ты же адреса ее не знаешь, сам говорил…
— Не знаю, говорил. Но письмо написал. Отправить только пока не могу. — Сергей дотронулся до кармана гимнастерки, в котором при этом легонько хрустнул многократно сложенный лист бумаги. — Давно написал уже. Может быть, когда-нибудь прочитаю тебе, если будет время.
— Прочитай сейчас, сынок. — Мать поглядела на Сергея умоляющими глазами.
— Только не сегодня, мам. Я ведь тороплюсь опять — в двенадцать заступаю на дежурство. Потому и раньше пришел. Машину даже пришлют.
— Ну вот, а сказал, что сегодня наш праздник…
— Это и был праздник, мам. Извини, что такой короткий.
Глава 5
Всю ночь сидел Слободкин за столом со множеством телефонов — с дисками, без дисков, с голосами то громкими, то тихими, то вообще еле слышными. Парень, которого Слободкин сменил на дежурстве, объяснил ему все подробно, и первое время дело шло нормально. Но когда зазвонил самый главный аппарат, Слободкин вдруг растерялся, схватил не ту трубку, потом ту самую, но уже после того, как внутри ее раздались частые гудки. Вот тут-то и началось!
В волнении Сергей положил трубки не на свои места. Телефоны взбунтовались. Завинченные в эбонит мембраны заклокотали, требуя немедленно восстановить порядок.
Но вот шнуры распутаны, трубки улеглись на свои рычаги, а аппараты не умолкают. То один, то другой подает голос в ночи. Научившись их кое-как различать, Слободкин ведет себя спокойней, уверенней. Ему даже кажется, что он действительно что-то значит тут, кому-то может быть полезным. «Алло, алло! — кричит он. — Москва слушает вас, говорите!» — и необыкновенным чувством наполняется все его существо. Шутка ли? Москва слушает! Говорит Москва! Понимаешь ли ты, Слободкин, на какую вышку вознесла тебя судьба этой ночью? За всю столицу можешь слово молвить. Слушайте все! И вы, пионеры Амдермы, собравшие оленьи панты для лекарств. И вы, далекие сибиряки, отправившие эшелон с хлебом рабочим Урала. И вы, комсомольцы Саратова, построившие самодельный комбайн. Как, как вы назвали его? Громче, громче, по буквам давайте! Записываю. Константин… Роман… Анна… Сергей… Николай… Ольга… Дарья… Еще раз Ольга? Еще Николай… Елена… Цапля. Все? Краснодонец? Молодцы! Кто говорит? Дежурный говорит. Ответственный дежурный. Да, ответственный. Слободкин. По буквам? Пожалуйста… А насчет названия — молодцы! Правильное, говорю, название дали — «Краснодонец». В «Комсомолке» про Краснодон здорово! Ваше сообщение тоже отправить в газету? Кто передал? Тоже дежурный? Ах, тоже ответственный? Понятно. Давайте по буквам, порядок есть порядок…
Настроение у Слободкина становилось все более приподнятым, даже торжественным. Он вдруг с какой-то необыкновенной отчетливостью увидел перед собой всю страну, не смыкающую глаз ни на миг. Страну огромную, на одном конце еще ночь, на другом день в самом разгаре. Страну богатырскую, полную неистребимых сил. Страну героев, самых настоящих, хотя иногда и незаметных, но воюющих, собирающих панты для лекарств, строящих комбайны, отправляющих эшелоны для голодных.
А вот этот, которого только что соединили с Москвой? Не спит всю ночь, дожидается своей очереди, чтобы сказать всего несколько слов!
— Фрунзе говорит! Молодежи столицы барашка шлем. Много-много барашка, целый десять вагон. Встречайте. Много-много барашка…
Как-то незаметно, исподволь эта беспокойная ночь превращалась в одну из самых прекрасных ночей Слободкина. Как бы это маме объяснить? Не объяснишь ведь. Слов не найдешь. Зимовцу и тому не втолкуешь, пожалуй. С одними телефонами эпопея целая! Вот с этим особенно — с «самым главным». Слободкин провел рукой по трубке, причинившей ему столько тревог и теперь еще не угомонившейся.
В шесть утра сменить Слободкина пришел Николай Силуянов, веселый парень с чуть подслеповатыми, словно заспанными глазами. Впрочем, сегодня глаза были именно заспанные.
— Прямо с корабля на бал? — сочувственно спросил Сергей позевывающего Николая.
— Ага! На стульях поспал часа три у себя в отделе.
Слободкин раскрыл перед Силуяновым «вахтенный» журнал, стал рассказывать о ночных звонках. Последняя запись привела сменщика в восторг:
— Дай-ка! Дай-ка! Это же здорово, дежурный! Чувствуешь, как дело закручивается? Читал в «Комсомолке» очерк «Сердца смелых»?
— Читал. Все читали, — ответил Сергей.
— Мы раскопали, — с гордостью сказал Силуянов. — Наш отдел. Сперва сами все, как надо, разведали, потом из редакции двух толковых парней снарядили. Пусть вся страна о краснодонцах знает, весь мир. Зайди как-нибудь к нам — сам убедишься: герои! Впрочем, чем тебя удивишь? Ты ведь фронтовик, знаю.
Слободкин сказал, что зайдет при первой возможности.
— Когда только? Здесь у вас похлеще, чем на моем заводе, — аврал на аврал налезает, смена на смену.
— Так ты из армии или с завода? Военный или цивильный?
— Сам теперь не пойму, — сознался Сергей. — Все перемешалось в моей судьбе, всего помаленьку отведал.
— В госпиталях побывал? — поинтересовался Силуянов.
— Побывал. А ты?
— И я тоже.
— А сюда как?
— Прямо из батальона выздоравливающих. «Поработай, говорят, немного, пока раны как следует заживут, месяца два-три». Целый год вкалываю.
Силуянов еще раз посмотрел записи, сделанные в журнале, и спросил:
— Ты завтра вечером что делаешь?
— Не знаю еще, — ответил Сергей.
— Приходи в двадцать ноль-ноль в конференц-зал. Мы встречу с Валей Борц проводим. Через все краснодонка прошла. Через горе, через огонь, через смерть. Пусть наши послушают, полезно будет. Я тебе по совести скажу, у нас тут кое-кто не нюхал войны по-настоящему.
— Молодые еще, — сказал Слободкин. — Лену Лаптеву знаешь? И вообще их девчачью державу?
— Лена-то как раз молодцом. Боевая. Да и подружка у нее подходящий народ.
— Кто же тогда? — удивился Сергей.
— Может, личностей и не назову. Каждый в отдельности ничего вроде. Один ничего, другой ничего, а в целом, как бы тебе объяснить? Ну, в общем ты прав, от молодости это. От неопытности. Мы с тобой старики в сравнении кое с кем. Профессора, академики! Согласен? — спросил Николай.
— Кое-что видели, конечно, но только с самого краешка.
— И со срединки видели. Чего скромничаешь?
— Со срединки я не видел еще, собираюсь только, — сознался Сергей.
Силуянов захлопнул журнал, поглядел на часы.
— А отдыхать ты собираешься после дежурства? Или прямо в отдел?
— Прямо в отдел, — ответил Слободкин. — Отоспимся когда-нибудь. А за приглашение спасибо.
* * *
Часы показывали без пяти восемь, когда в зал, вместе с каким-то военным, вошла белокурая девушка — хрупкая, бледная, на вид чуть не школьница. Вошла, робко посмотрела вокруг, встала у спинки одного из стульев за столом президиума.
«Так вот она какая, знаменитая, легендарная Валя Борц! — подумал Слободкин. — Девчушка совсем!»
Когда утихли аплодисменты, в президиуме появилось еще несколько человек. Ни одного из них Слободкин не знал в лицо. Сопровождавший Валю военный подошел к трибуне, представил собравшимся гостью, хотя в этом уже не было никакой необходимости, начал говорить о Краснодоне, о подвиге молодогвардейцев. Его слушали, но смотрели только на белокурую девушку. Заметив это, оратор скоро прервал свою речь, покашлял, переступил с ноги на ногу.
— Валя, все хотят, конечно, услышать вас. Для этого и пришли, отложив все дела. Правильно я понял? — обратился военный к залу.
— Правильно! — сказал кто-то из дальнего ряда.
Валя смущенно поднялась. Сделала несколько шагов к трибуне, но не дошла до нее, в нерешительности остановилась.
— Отсюда можно? Я несколько слов всего. Основное все уже известно. В «Комсомольской правде» написано. Что могу добавить? Я горжусь своими друзьями. Очень горжусь! Олегом Кошевым, Сережей Тюлениным, Ваней Туркеничем, Улей Громовой, Любой Шевцовой. Всеми, с кем свела судьба. Мы благодарны коммунистам, которые помогли нам. Помогли выстоять, не дрогнуть. Откуда у ребят взялись силы? Я и сама не знаю, но силы были до самой последней минуты. Вот наша клятва, я повторю ее вам, можно?
Руки Вали вытянулись по швам, она стала еще более бледной.
— Перед лицом своих друзей по оружию, перед лицом Родины, многострадальной земли, перед лицом своего народа клянусь: беспрекословно выполнять любое задание, данное мне старшими товарищами. Хранить в глубочайшей тайне все, что касается моей работы в «Молодой гвардии». Я клянусь мстить беспощадно за сожженные, разоренные города и села, за кровь наших людей, за мученическую смерть тридцати героев-шахтеров. И если для этой мести потребуется моя жизнь, я отдам ее без минуты колебаний…
После этих слов Валя запнулась, умолкла, глаза ее заблестели. Кто-то из сидевших рядом с Валей потянулся к графину с водой.
— Нет, нет, ничего, — остановила его девушка. — Я сейчас. Извините… И если для этой мести потребуется моя жизнь, я отдам ее без минуты колебаний.
Словно повинуясь какому-то знаку, все сидевшие в зале поднялись со своих мест. Последние слова клятвы молодогвардейцев были дослушаны стоя.
— Если же я нарушу эту священную клятву под пытками или из-за трусости, то пусть мое имя, мои родные будут навеки прокляты, а меня самого покарает суровая рука моих товарищей. Кровь за кровь, смерть за смерть!..
Валя тяжело опустилась на пододвинутый ей стул, но все собравшиеся еще долго продолжали стоять.
Слободкин смотрел на Валю неотрывно, стараясь запомнить ее лицо навсегда. Ведь перед ним была действительно героиня, совершившая со своими друзьями подвиг, равного которому он лично не знал. Откуда такая смелость, такое беззаветное мужество? Ведь школу еще не окончили. Может, только в районном тире стреляли в фанерного Чемберлена, иные и того не успели. И вдруг сразу, без всякого перехода от детства к юности, от юности к зрелости, стали несгибаемыми, непобедимыми. Как понять это? Как постигнуть?
Сергей неожиданно заметил, что сидит рядом с каким-то совершенно седым человеком, тоже внимательно разглядывавшим Валю Борц. Когда из президиума спросили, хочет ли кто-нибудь выступить, сосед Слободкина поднялся первым. Он в задумчивости пошевелил пальцами белые волосы, медленно подошел к трибуне.
— Фадеев, — шепнул кто-то за спиной Слободкина. — Писатель.
— У меня, товарищи, так же, как, очевидно, у всех сидящих в этом зале, вот тут творится такое, — Фадеев положил руку на грудь, — что не могу не сказать нескольких слов. Спасибо вам, Валя, за то, что вы такая, как есть. За то, что друзей себе верных выбрали. Поверьте, я кое-что видел в жизни, знаю, что такое выбрать друга.
Фадеев чуть заметно улыбнулся, отбросил белую прядь.
— Вы видите, я немолодой человек. Столько, сколько вам сейчас, Валя, мне было в годы гражданской войны. Посчитайте! Самый главный урок, который я вынес за свою жизнь, вот какой: все в конечном счете зависит от того, с кем ты, среди кого ты и ради кого. Стоило ли так долго ходить по земле, чтобы прийти к такому заключению? — спросит кто-нибудь. Отвечаю категорически: стоило! Ни о чем не жалею! Не жаль бессонных ночей у партизанских костров. Не жаль трудных лет, в том числе и самых трудных сегодняшних. Ничего, решительно ничего не жаль. Больше того — если пришлось бы пройти всю дорогу снова, прошагал бы, уверяю вас, со счастливо бьющимся сердцем. С таким, какое сейчас стучит у меня в груди. Еще и еще раз спасибо вам, милая Валя! Вам и всем друзьям вашим. Душевное спасибо от нас, стариков. Всем своим товарищам расскажу о подвиге «Молодой гвардии». И при первой возможности приеду к вам в Краснодон. О вас же книги надо писать! Кни-ги! Журналисты молодцы, быстро и хорошо откликнулись. Мы, писатели, в долгу перед вами. Вот в таком, совершенно невылазном долгу!
Когда Фадеев сел на свое место, кто-то из президиума негромко сказал:
— Вам, Александр Александрович, тут бы и карты в руки! Мы помогли бы вам всеми силами, всеми средствами. Так, что ли, товарищ Силуянов?
— Александр Александрович свой человек в ЦК, — послышался откуда-то из глубины зала голос Силуянова. — Все, что надо, конечно, сделаем.
Фадеев смущенно улыбнулся, молча кивнул несколько раз.
Слободкин видел, как напряженно-внимательно слушал писатель всех, кто поднимался после него на трибуну, как быстро бегал по страничкам распахнутого блокнота его карандаш. Сергей заметил даже, что блокнот кончился быстрее, чем завершилась эта взволновавшая всех встреча. Кто-то протянул писателю свою записную книжку. Он взял, поблагодарил одними глазами — добрыми, умными, опять слегка улыбнулся. Такими и запомнил эти глаза Слободкин и залюбовался всем обликом этого человека, с которым был знаком только по книгам. А Фадеев все писал, писал… Может, это были первые строки будущего романа о краснодонцах? Слободкин не знал этого, как, может быть, не знал еще и сам писатель.
Потом Валю Борц окружили десятки людей. Одни задавали вопросы. Другие просто стояли рядом, пожимали Валину руку. Кто-то записывал Валин адрес.
Подошел и Фадеев. Он терпеливо дождался, когда Валя смогла двинуться к выходу, пошел с ней рядом, отбрасывая назад поминутно падавшие на глаза волосы. Слободкин, не решаясь обогнать, шагал следом по длинному коридору, то немного отставая, то приближаясь почти вплотную и становясь невольным свидетелем разговора писателя с Валей.
— …И вы отправились вдвоем с Сережей Тюлениным, когда было принято решение уходить из Краснодона? — спросил Фадеев. — В самый разгар зимы?
— Да, — ответила Валя. — И Олег. И другие. Все, кто еще не был к тому времени схвачен. Надо было срочно пробираться к своим, к партизанам — в Россошь, Каменск, Тарасовку, в станицу Метякино, в лес…
— А Тося? Тося Мащенко? Я не успел ничего записать о ней.
— Тося с мамой осталась. Больная она у нее. И потом морозы ударили — крещенские, лютые. А у Тоси на ногах летние туфельки.
— Да, конечно, замерзла бы, — сказал Фадеев.
— Нет, не замерзла бы, — ответила Валя. — Я ей бурочки свои предложила.
— Бурочки? — переспросил писатель. — А вы как же? Сами-то?
— Я-то вытерпела б как-нибудь. В крайнем случае по очереди отогревались бы. Но она не пошла. Только не подумайте, Александр Александрович, что испугалась. Тося очень хорошая девочка. В маме все дело. В ней, я точно знаю…
Фадеев отечески потрепал Валю по плечу.
— Ах, Валя, Валечка! Светлый, серьезный, гуманный наш человечек! Ничего, что я так называю вас?
— Что вы… — Девушка была смущена, но старалась не показать этого. — Нет, правда, Александр Александрович, Тося очень-очень хорошая…
Коридор кончился. Слободкину надо было через лестничную площадку идти дальше, в другую часть здания, Фадеев и Валя, сопровождаемые группой работников ЦК, пошли вниз. Сквозь сетку, ограждавшую шахту лифта, Сергей, обернувшись на ходу, еще раз увидел Фадеева и Валю Борц. Отсюда, сверху, Валя казалась совсем маленькой, не выше Лены Лаптевой.
Сергей пожалел в ту минуту, что так быстро закончился этот вечер, что он, может быть, никогда больше не увидит Валю, Фадеева, не услышит их. Конечно, он всегда будет помнить все, чему был свидетелем сегодня.
«Интересно, напишет Фадеев о Вале и ее друзьях или не напишет? Хорошо бы написал, конечно. Он может». Сергей вспомнил «Разгром», который прочитал еще в школе. Его поразила тогда суровость страниц этой книги, умение автора заглядывать в душу человека и показать, как эта душа высока и прекрасна. Слободкин так и написал тогда в сочинении, заданном Викторией Акимовной, и она, помнится, его похвалила, но то, что мужество в человеке — самая дорогая черта, он понял по-настоящему много позже.
И еще он подумал сегодня вот о чем. Мужество не на пустом месте. Оно передается людьми друг другу. Как знания, опыт, нравы, привычки. От поколения к поколению. От старших к младшим. Но как, как это все происходит? Вот Валя Борц — она же, как и многие, Фадеева видит впервые в жизни. Каким чудодейственным образом жезл эстафеты перешел из рук фадеевского поколения в руки Вали и таких, как она? Школа, семья, книга, комсомол, общество — все внесли свою лепту? Безусловно, внесли, все сыграли свою роль. Это, пожалуй, понятно. Но из чего рождается чудо, по тропке которого ученик уходит подчас дальше учителя? Это как объяснить и понять? Добросовестность и убежденность учителя? Нет, не то. Учитель не может быть недобросовестным и неубежденным: какой же он тогда учитель? Прилежание, чувство ответственности у ученика? Да, это уже точней, ближе к истине. Вот Валя, например. Не случайно Фадеев сказал: «Серьезный наш человечек». Именно серьезный! Ну, а «человечек» — это вовсе не уменьшительное, это от теплоты чувств, от благодарности Вале. Он конечно же ставит ее вровень с теми, с кем вместе провел тревожные ночи у партизанских костров. Может быть, и выше. Наверняка даже выше…
С такими мыслями возвращался сегодня Слободкин домой. Возвращался, как всегда, поздно, но мать не спала. После их ночного того разговора на сердце у нее с каждым днем, с каждым часом становилось все тревожнее. Она думала о сыне, о его судьбе. Что ждет его? А вместе с ним и ее? С тех пор как Сережа вернулся в Москву, у нее тревог не убавилось, а прибавилось. Их становилось все больше и больше. Их и раньше было не перечтешь, но пока не видела сына, они стонали где-то внутри — больно и глухо. Сейчас переполнили все существо, выплеснулись. А сегодня почта еще письмо принесла — треугольничком. Ни дать ни взять от дружка фронтового. Новые переживания, новые волнения. «Может, спрятать письмо до поры? Пусть спокойно работает, нервы не треплет. Нет, это будет совсем плохо, — может, человеку помощь какая нужна? Может, душу отвести хочет?»
Нераспечатанное письмо лежало на столе, на самом видном месте, и дожидалось Сергея. Вернувшись домой, он сразу его заметил и не раздеваясь кинулся к столу.
— Сереженька! На тебе же лица нет! Разденься, съешь чего-нибудь, а тогда и за письмо. Прошу тебя!
Мать мягко, но властно усадила Сергея, налила ему жидкой похлебки из черной с отрубями муки, а письмо взяла в руку. Другой рукой аккуратно сняла пилотку с головы сына, поерошила его давно не стриженный вихор.
— Мам, почитай, а? — нетерпеливо сказал Сергей. — От Зимовца ведь это.
— А ты ешь.
— Я ем уже. Посмотри сразу же, какого числа отправлено?
Мать надела очки, раскрыла конверт, поднесла письмо к самым глазам.
— Числа нету…
— Не может быть, мам, дай-ка сам гляну.
— Нет уж, ешь, ешь, а то я рассержусь.
— Ну ладно, ладно.
Сергей нагнулся к блюдцу, мать, продолжая ерошить его волосы, стала читать вслух:
— «Дорогой Слобода! Долго я тебя опять дожидаться заставил, извини. Все едем и едем. Но теперь недалеко, кажись. Впереди уже все гудит. Небо — красное. Куда завезли, одному богу известно, но когда мимо леса ползем, сквозь канонаду слышно, как соловьи надрываются. Голосистые, курских напоминают. Такие коленца откалывают!..»
— Мам! А ведь он гений, Зимовец! Смотри, как цензора вокруг пальца обводит. И тайну военную соблюдает, и другу намек дает. Улавливаешь? Он же где-то под Курском!
Мать перекрестилась, молча покачала головой.
— Ясное дело! Горячая в тех местах пора сейчас, мам. Мне говорил один человек. Вот-вот начнется заваруха, каких, может, еще не было с начала войны! Завидую Зимовцу! Вот кому повезло так повезло!
Мать перекрестилась снова. Слободкин посмотрел на нее очень внимательно. В последнее время он стал замечать все новые и новые перемены в ее характере, во всем облике. Не крестилась раньше. Теперь чуть что — крестится горько и суетно. А морщин все больше на лице, не разглаживаются ни на миг, мешки под глазами синие, набрякшие.
— Мам!..
Хотел спросить: «Что с тобой? Ты устала? Больна?» Не спросил. Только ласково провел ладонью по белой, низко склонившейся к нему голове.
— Мам, что там дальше-то?
— Вот и все, сынок. О соловьях только. Не дописал письмо, торопился. Мимо станции небось проезжал.
— Знаешь, кто ты есть, мам?
— Ну?
— Великий утешитель. Но ты права в общем-то. Такие люди, как Зимовец, не пропадают нигде, никогда. Он уже через такое пекло прошел! Я тебе не рассказывал?
— Когда тебе, сынок? Все молчком, молчком. Ты о себе-то…
Мать поднесла фартук к глазам.
— Ну, мам, мам, что ты! Разве можно так? Я и писал тебе, и рассказывал. И о себе, и о Зимовце, и об Ине, и о заводе. Обо всем.
— Пока на заводе работал, письма хоть редко шли, верно. А как воротился, я тебя потеряла совсем. Не вижу, не слышу неделями, мучитель ты мой.
— Да нет, мам, это не так все, не так. Ты же знаешь, просто работы много. А ты сама-то? Я все собираюсь сказать тебе…
— Все собираешься…
Морщины на лице матери сделались еще глубже, мешки под глазами еще синей. Слободкину больно и стыдно. Плохой он сын, хуже некуда. Ведь действительно позабыл совсем мать. Все на первом плане у него, решительно все, кроме нее. Не годится так. Надо как-то находить время, выкраивать. Спать еще меньше. С работы бегом бегать. На работу бегом. Еще что? Записки писать чаще, подробнее? Да, и записки. Чаще, подробнее, каждый день.
— Мама, я виноват перед тобой. Все тороплюсь, тороплюсь. Буду стараться раньше домой приходить. С завтрашнего же дня… Нет, с завтрашнего не могу. С послезавтрашнего…
Мать опять запустила пальцы в волосы Сергея, потом ласково взяла его за ухо.
— Не будет этого, сын, я же знаю. Вижу и понимаю все. Сама на работе. Мало внимания тебе уделяю. Времени нет. Где его взять, время-то? Никудышная у тебя мать, плохая совсем. И здоровье не то.
— Выглядишь ты хорошо, похудела только немножко.
— И побелела.
— Что ты! Ты же всегда была у нас с проседью. Чернобурочкой звали, помнишь?
— Не забыл? — сквозь слезы улыбнулась мать. — Звали… Ну, а что твоя Ина?
— Жду, надеюсь.
— Она, сынок, сыщется.
— Утешительница ты моя, спасибо тебе! У тебя рука легкая, я знаю.
— Любишь ее, да?
— Этого я никогда никому не скажу, мам.
— Ей-то скажешь ли?
— Ей сказал уже.
— Когда, сыночек?..
— Давно…
— А матери?
— У нее нет мамы. Совсем нет, понимаешь?
— Но у тебя-то есть. Что мне с тобой делать?
— Ты все знаешь, мам. Я писал тебе.
— Знаю только, что есть такая Ина. Вот и все. Нет бы посоветоваться с матерью, поговорить по-людски. Хоть бы карточку показал. Есть небось?
— Маленькая есть где-то.
— Не где-то, а на сердце носишь, вот тут. Ну, доставай, показывай свою красавицу.
Крошечная фотография легла на ладонь матери.
— Ну, давно бы так.
Мать снова надела спрятанные было очки, но и через них никак не могла разглядеть лица Ины.
— Не видно, мам?
— Видно, сынок, главное видно — любишь. Господи, как я рада за тебя, Сереженька! Без любви какая жизнь на земле? Люби, люби! Тебя любят, и ты люби. Тебя забыли — ты все равно люби, люби всегда. Я так понимаю. Только тогда человек человеком себя чувствует, когда любит, всем пожертвовать ради другого готов, даже жизнью. И жертвует, гибнет, а любовь остается. Понял что-нибудь?
— Все понял, мам.
— Ничего ты еще не понял, сынок. Но когда-нибудь поймешь. Узнаешь, оценишь, как любят матери, жены. Как сгорают дотла и об этом не жалеют. Лишь бы вам было хорошо — мужьям, сыновьям. Говорю тебе об этом потому, что ты у меня самый близкий человек. Если не тебе — кому же? Ищи, ищи свою Ину. Вот война кончится, как счастливо заживете-то! И я сердцем отойду, на вас глядя. Что говорят о войне? Я из цеха не выхожу.
— Капут фашистам скоро, мама. Но под Курском, видишь, все небо в огне. Да и в других местах. Жаркое будет лето. Только раз такие бывалые бойцы, как Зимовец, автомат в руках держат, не устоять Гитлеру. Сама понимаешь.
— Понимаю. Но войну начинали тоже не новобранцы, солдаты опытные, а вон куда отступить довелось!
— Больше не будет этого, мам. Закалил нас тот огонь, не сжег. Теперь мы сила знаешь какая! Нету в мире больше такой. И он это понял. Но оружия не сложит до последнего, это тоже понятно всем и каждому.
Они помолчали.
Мать поправила растрепавшиеся белые волосы, убрала очки. Сергей взял фотографию, аккуратно свернул треугольник письма, то и другое положил в карман.
— Мам, а я ведь действительно свинтус!
— Что такое, сын?
— Стыдно сказать даже.
— Говори, говори, коли начал.
— В Москве живет мать Кузи, того самого, который тебе привет от меня привозил. Помнишь? Я ее даже не навестил ни разу — каждый день собираюсь и каждый день откладываю…
— Сереженька! Прости меня, старую! Памяти никакой! Я ведь сама как-то ходила к ней, да забыла тебе сказать.
— Правда, мам? Какая же ты у меня умница! Ну как она там? Здорова?
— Не застала, сынок. Только с соседями поговорить довелось. Эвакуировалась на Урал куда-то вместе со своим заводом.
— Как со своим заводом? Она уже не работала, мам, у нее здоровье плохое. Ты не путаешь? Анна Тимофеевна Кузнецова?
— Анна Тимофеевна, не путаю. Через всю Москву добиралась к ней. Как писем от сына не стало, пошла она на свой старый завод. «Дайте, говорит, работу, хоть какую-нибудь». Взяли ее вроде бы на склад, инструментом заведовать. Она в этом деле профессор, сказывают. На заводе том здоровье свое положила, на нем и силы воротились к ней. С заводом и уехала.
— Адреса не узнала, мам? Надо бы написать ей.
— Адреса никто из соседей не знает. Да, может, это и к лучшему, Сереженька? Что напишешь-то? «Сына вашего, Анна Тимофеевна, видел последний раз давно, и где он теперь, не ведаю». Так ведь?
— Так-то так…
— О чем я и говорю. Лучше уж помолчать, сынок, не тревожить материнского сердца…
Глава 6
Слободкину давно уже не снились сны. Во всяком случае, он не мог вспомнить, когда видел последний. Перед самой войной, в первой десантной роте? Там тревога за тревогой, броски да марши, учения да маневры. Какие уж там сны! На фронте? В окружении? В комарином болоте? В госпитале? На заводе? Под бомбой, под фугасом? В расшатанном ветром и взрывною волной бараке? Под кавалерийской, осколком битой и костром жженной шинелью?
Ну, а дома? В Москве? Под родной крышей? Под лоскутным латаным, но все-таки еще греющим одеялом? Сны и здесь обходили Слободкина. Даже самые мимолетные. После вчерашнего разговора с матерью он вообще не мог уснуть. Вставал, бесконечно курил, пил воду, опять ложился, вертелся с боку на бок — ничего не получалось. Думы одна мрачнее другой одолевали его. О матери, старой и хворой. Об Анне Тимофеевне. Об Ине, такой близкой и такой далекой. О друге, слушающем сейчас, может быть, последних соловьев в своей жизни. О самом себе, наконец, о судьбе своей нерешенной…
И вдруг сон ему все-таки пригрезился. Именно в эту ночь. Да такой, что на другой день вспоминал его Сергей во всех деталях, во всех подробностях.
…Сперва увидел он старшину первой роты Брагу. Будто идет старшина по нагретому солнцем проселку Песковичей. Подворотничок белый, сапожки надраены, взгляд лукавый. И песня над Брагой веселая, как дымок, вьется. В ногу со старшиной, чуть позади, вся рота топочет, все три взвода. Все ребята, в полный свой богатырский рост, из дорожной пыли вырастают. Кузнецов, Прохватилов, Исаев, Гилевич, Дашко, — словом, все до единого. Строй. Все, да не все. Снова и снова принимается Сергей считать-пересчитывать — сам себя в том строю не находит…
— Где ж я? — кричит старшине Сергей.
Громко кричит. Брага не отвечает, все старательней строевую любимую выводит — «Махорочку». И вся рота ему подпевает. Сергей тоже пытается подтянуть, но слова песни, известные от первого до последнего, остаются где-то в глубине груди, наружу никак не вырвутся. Одну песню сменяет другая…
Пыльная дорога кончается, за нею снежная. Опять с Брагою во главе шагает первая рота. Песня уже молчит. Только десантное снаряженье позвякивает маршу в такт. На Кузнецове, на Прохватилове, на Исаеве, на Гилевиче, на Дашко. На всех до единого. На нем только, на Слободкине, ни один карабин не звякнет, ни одна пряжка. Будто и нет его тут совсем. Или и в самом деле нет?
— Где Слободкин?.. — снова кричит Сергей.
Громко кричит. Во весь голос. Не отзывается старшина, хотя песня уже не мешает. Рота не поет. Молчат взводы, словно набрали в рот воды.
Снежной дороге тоже конец. За ней — облака, облака, облака. Купола облаков, сносимые ветром в одну сторону с куполами парашютистов. Первая рота в воздухе. Все три взвода. Первым Брага рванул кольцо. За ним — Кузнецов, Прохватилов, Исаев, Гилевич, Дашко… Только себя никак не найдет Слободкин ни под одним куполом. А внизу — то ли наша земля, то ли немецкая. То ли тыл, то ли фронт. Стрелы трассирующих пуль к парашютистам тянутся. Бьют по стропам, рвут перкаль, прошивают насквозь огненной дратвой. Но вот десант приземлился. Обмякли, рухнули в снег погашенные опытной рукой купола. Оказывается, ребята живы-невредимы все до единого. Подымается в атаку первая рота. Впереди всех — старшина. Все дальше идет по снегам. Кругом белым-бело — белые снега, белые комбинезоны, белые стрелы трассирующих пуль. Белое небо. За Брагой — остальные. Все, кроме него, Слободкина…
Потом происходит страшное. Стена огня, вставшего на пути роты, все плотнее, все выше.
Ни удаль, ни храбрость ее не берет, ни выучка. Сгорает первая, сгорает дотла. Все три взвода. Дымится снег, шипят упавшие в него раскаленные автоматы. От одного к другому бойцу бежит Слободкин, каждого поворачивает к себе лицом, смотрит в еще раскрытые, но уже не видящие глаза. Только он и остался в живых. Только он один…
Не кончился страшный сон и с пробуждением: Слободкин раскрыл глаза, с трудом понял, где находится, но перед ним все еще дымился снег и шипела сталь…
Несколько дней подряд жил Сергей с этим ощущением. Что бы ни делал, чем бы ни был занят, мысль неизменно возвращалась к первой роте, к тому бою, в котором он потерял сразу всех своих друзей и товарищей.
Лена, встречаясь с Сергеем в коридоре или в столовой, не узнавала его, но ни о чем спросить не решалась.
На что уж редко говорил Сергей с матерью, но и она заметила, что с сыном творится что-то неладное. Виду, конечно, не подала, старалась вести себя как прежде, но в душе ее росла и росла тревога. Перед самым уходом на работу, как всегда, наклонится над спящим сыном, чтоб разбудить, а он, оказывается, не спит, хотя приехал домой под утро, всего два часа назад и свалился не раздеваясь. Лежит, укрывшись чуть ли не с головой, а глаза такие, будто со вчерашнего дня не сомкнулись еще, — тревожные, воспаленные, не мигая глядят в одну точку.
— Сереженька, чай готов. Не забудь, попей. Хочешь, в постель подам?
— Что ты, мам! Я встаю уже.
— Все хорошо у тебя?
— Все хорошо, мам. А у тебя?
— Рану мне так и не показал.
— Зажила давно, мам. Рубец только остался. Рваный такой, некрасивый. Покажу как-нибудь. Сама-то не опоздай, восьмой час уже.
— А контузия?
— Контузии не было. Сколько раз говорить? Просто ушиб — и все. Прошло давно.
— А пальцы на ногах? Думаешь, забыла?
— Пальцы?
— Да, пальцы. К погоде болят?
— Только в мороз, мам. Немножко совсем.
— Ну вот! Хорошо, заставила носки теплые надевать.
Эти слова мать говорит уже с порога. Сергей ее не останавливает: не дай бог узнает, что связанные ею носки отданы в госпиталь, нынче же ночью примется вязать новые, распустив свой старенький шарф или последнюю кофту. И свяжет, конечно, к следующему же утру, понять не желая того, что на дворе уже весна, что сейчас и с портянками совсем не холодно, особенно если их как следует высушить и намотать по всей старшинской науке.
Едва закрывается за матерью дверь, Сергей вскакивает, наскоро одевается и спешит к окну, чтоб успеть, как всегда, помахать ей, еще раз увидеть ее сгорбившуюся фигурку. Отсюда, с высоты шестого этажа, мама кажется особенно маленькой, уставшей и совершенно больной. Сергей провожает ее взглядом до угла, а когда она исчезает за красной кирпичной стеной, что-то словно обрывается у него в груди.
* * *
В одну из весенних ночей Сергей проснулся от еле уловимого стона. Несколько мгновений прислушивался, еще не понимая, что происходит. Потом спросил:
— Мама?
Мать не ответила, но в комнате стало совершенно тихо.
«Показалось», — подумал Сергей и попытался снова заснуть. Через некоторое время стон повторился. Теперь ошибки быть уже не могло. Вскочил с кровати, зажег свет, подбежал к матери.
— Мама, что с тобой?
Лицо матери было бледным, на щеках горели нездоровые красные пятна. Глаза смотрели тускло, в них затаилась невыносимая мука.
— Мама! Мамочка!..
Сергей схватил пузырек, стоявший на тумбочке, принялся отсчитывать капли.
Всю комнату заполнил терпкий, удушливый запах лекарства. Сергей растворил окно, в комнату ворвался холодный воздух. Но матери становилось все хуже. Слободкин начал стучать к соседям. Кто-то из них побежал на улицу, к автомату.
Когда внизу взвыла сирена и на пороге появились люди с носилками, Сергей весь дрожал от волнения и холода.
Врач пощупал пульс больной, посмотрел ей в глаза и сказал:
— Что же вы, Дарья Семеновна, подводите? А? Нехорошо. Разве мы так договаривались?
До сознания Слободкина не сразу дошло, откуда этот человек знает маму. Не обратил он внимания и на то, как быстро приехала «скорая» и как уверенно ориентировался в комнате доктор. Когда ему потребовалась чайная ложка, он не глядя, на ощупь, достал ее из ящика стола.
— Сын? — поправляя сползшие на нос очки и не оборачиваясь к Сергею, спросил доктор.
Кто-то за Сергея ответил:
— Сергей Александрович.
Слободкин вздрогнул — таким чужим, странным показалось ему сейчас собственное имя.
— Что с мамой? — спросил Сергей дрогнувшим голосом доктора.
Тот неопределенно пожал плечами. Пока санитары укладывали мать на носилки, он, незаметно оттеснив Сергея в угол, сказал:
— Я много раз предупреждал мамашу. Но она у вас знаете какая? Вы думаете, я один ее имя-отчество выучил? Любого врача в районе спросите, каждый скажет. И где живет Дарья Семеновна, найдет с завязанными глазами.
Сергею разрешено было доехать с матерью до больницы. Машина долго тряслась по длинным улицам и трамвайным переездам. Врач сидел у изголовья больной, то поправляя сползшее одеяло, то пробуя ее пульс. Она лежала с закрытыми глазами, не двигаясь. Щеки ее по-прежнему пламенели. Сергей несколько раз нагибался к доктору, спрашивал, не может ли чем помочь ему, тот отрицательно качал головой.
Наконец машина остановилась в больничном дворе. Когда санитары взялись за поручни носилок, мама на несколько мгновений открыла глаза, посмотрела на Сергея. Губы ее беззвучно шевельнулись. Она попыталась что-то сказать, но не смогла. Только подняла чуть-чуть правую руку, вяло махнула ею — одной кистью.
На войне Слободкин видел смерть близко — глаза в глаза. На его руках умирали ребята, с которыми породнился. Уходили из жизни самые дорогие друзья. Но таких утрат ему еще не приходилось переносить. Только теперь, потеряв мать, он понял, как бесконечно много значила она в его жизни. И как ничтожно мало он сделал для того, чтобы маме хоть немного легче жилось.
В одну из первых же сиротских ночей Сергей не смог остаться дома и, вспомнив, что ему давно уже предлагали койку в общежитии ЦК, перебрался туда. Комендант встретил его хорошо, а главное — ни о чем не стал расспрашивать. Дал ключ от комнаты и сказал, что, если будет холодно, можно взять сколько угодно одеял с пустующих коек, так как все жильцы пока в разъезде.
Убедившись, что в комнате никого, кроме него, нет, Сергей укрылся сначала двумя, а потом и тремя одеялами, но и под ними не мог согреться.
Он лежал с открытыми глазами, стараясь привыкнуть к темноте, но чем напряженнее всматривался во мрак, тем меньше видел. Он думал о матери и об окружавших ее в последнее время людях. Обо всех, кто поднялся на ноги в ту страшную ночь. Кто бежал к телефону, толпился у постели, пытаясь хоть чем-нибудь подсобить. Кто примчался на «скорой» по уже давно изученному маршруту. Кто помогал матери в самые трудные дни октября сорок первого и позднее, когда Москве стало легче, но все еще тяжело, как и всей стране, даже еще тяжелее…
Правда, сколько ни старался Сергей, он долго не мог ответить сам себе на вопрос: почему Москве тяжелее, чем кому либо? В тылу врага, в болоте, на заводе под бомбежкой, в ледяном бараке он видел картины, от которых до сих пор мороз по коже. И все-таки Москве тяжелее во много раз. Чем объяснить это? «Не знаю, но собственной шкурой чувствую, что тяжелее. Мама не случайно говорила: „Москва есть Москва!“»
Слободкин вспомнил эти слова, и странное дело — все встало вдруг на свои места.
Москва есть Москва! Ну конечно же в этом дело. Все смотрят на Москву, пример с нее берут, силы черпают. По ее горю свое горе меряют, с часами ее свои часы сверяют — об этом даже в песнях поется. А вот сколько завода в часах тех осталось, никто не знает. Ломидзе с картой в руках на днях рассказал ему, что было тут осенью и зимой сорок первого. «Химки — это был уже фронт», — на всю жизнь врезались в сознание Сергея эти слова. Вспомнил, как вместе с Ломидзе водил пальцем по карте Подмосковья, как на каждом миллиметре им обоим — и Ломидзе, который принимал непосредственное участие в битве за Москву, и Слободкину, который об этой битве читал только в сводках, — им обоим становилось жутко.
Большие и малые, дальние и самые близкие города Подмосковья были захвачены немцем, растоптаны, разграблены, сожжены. Рогачев, Яхрома, Клин, Солнечногорск, Истра, Кулебакино, Венёв, Михайлов, Епифань, Волоколамск, Калинин, Калуга, Малоярославец, Можайск, Бородино… Все это было под немцем… Везде и повсюду виселицы, смерть, опустошение, разор, надругательство над самым дорогим, над самым близким сердцу нашего человека.
Не пощадили враги даже того, что давно стало далекой историей. Ворвавшись на славное Бородинское поле, стали срывать с гранитных постаментов бронзовых орлов, поставленных там в честь величия и славы русского оружия. Бронза понадобилась фашистам на снаряды. Церкви, музеи шли под штабы, под казармы и даже под конюшни. Русские дети плакали и замерзали в снегах, немецкие лошади сыто ржали в храмах, расписанных кистью великих художников…
Но не дрогнула Москва, не сдалась. На нее уже были нацелены не только жерла орудий — запотевшие стекла офицерских биноклей, а она работала, принимала Октябрьский парад, слушала речь Верховного Главнокомандующего, зарывалась в землю, дежурила на крышах, голодала, не спала ни ночью, ни днем. Ни на миг не переставала быть Москвой, в которую безгранично верили все. И он, Слободкин, верил ей, как собственной матери верят ее сыновья, забывая спросить ее, как ей дышится и живется. Ну, а мать есть мать. Все сносит, все терпит, да еще делает вид, что выдюжит сколько угодно. И со здоровьем у нее хорошо, и ни в чем, решительно ни в чем не нуждается. «Не беспокойся, сынок, все есть у меня, все в порядке. Ты-то как? Береги себя…» — в каждом письме матери было одно и то же. Сергей носил их теперь всегда с собой — аккуратно сложенные, запрятанные в карман, выученные давно наизусть: «Ты-то как? Береги себя, сынок…»
Сергей протянул руку, нашарил в темноте гимнастерку, дотронулся до кармана с материнскими письмами.
Вот и все, что осталось от мамы… Неужели только письма? Только воспоминания? А он думал, что она будет возле него вечно, всегда, и он от одного сознания, что мать существует на свете, сам становился сильнее, тверже, мужественней.
Вот мама стоит на крыше их дома со щипцами в руках…
Вот после бессонной ночи спешит на работу, чтобы, вернувшись, снова подняться на крышу…
Вот тщательно укутывает стареньким одеялом чайник, согретый для сына, а сама пьет какие-то капли, потом долго проветривает и без того холодную комнату, чтобы Сереженька, не дай бог, не услышал запаха лекарства…
Одна картина встает за другой, одна другой удивительнее. В подвиге Москвы — подвиг мамы. В подвиге мамы — подвиг целой Москвы. Значит, мама осталась. Слободкин видит ее перед собой, чувствует ее внутри себя. И вокруг. Во всем хорошем, что есть в людях, в их поступках. Лена Лаптева, например, — это копия мамы. А вся дружная, спаянная «девчачья держава»? А ребята с «Мотора»? А мастер-старик, Василий Сергеевич? Все это такие, как мама, люди, без которых Москва не Москва, с которыми Москва — всегда Москва, да еще какая! Гордая. Сильная. Несокрушимая. Умеющая быть в ответе за всю Россию, за всю страну. Вот что такое Москва. И вот что такое мама.
Но от всех этих мыслей Сергею все-таки лучше не стало.
Еще затемно он поднялся, оделся и вышел на улицу. Ночная, предутренняя Москва, которую он теперь узнавал все ближе, жила своей обычной жизнью. Он шагал, вглядываясь в лица попадавшихся ему навстречу людей. Проснулись они или еще не ложились? Вот этот, например, в очках-ледышках, на Каганова, мастера его бывшего, похожий? Куда спешит и откуда? Не видит ведь ни чертика, того и гляди сшибет кого-нибудь или сам будет сбит таким же, торопящимся и ничего не видящим перед собой, спросонья или от недосыпу.
— Эй! — крикнул Слободкин. — Постой!
Парень в очках на всем ходу остановился.
— Чего тебе?
— Закурить бы, — сказал Сергей.
— Ишь чего захотел! Нет у меня.
— У меня есть. Хочешь?
Прохожий обалдело посмотрел на Слободкина.
— У тебя? Да ты что?..
Слободкин достал кисет, протянул парню.
— У тебя что, праздник какой-нибудь? — удивился тот. — Из госпиталя выписался? Или отпуск схлопотал?
— Просто личность твоя напомнила мне одного человека, — сказал Сергей. — Так что же, закурим?
— Сыпь, если не жалко.
Огонек зажигалки на мгновение высветил лицо незнакомца. Не было в нем ничего похожего на Каганова. Очки только. Просто плохо сегодня Сергею одному, невмоготу. Свои, отдельские опять все в разгоне, наверно. Не к девчачьей же державе идти? Да и рано еще.
— А табачок у тебя филичовый? — спросил парень.
— Не знаю даже, — сознался Сергей.
— Откуда все-таки ты такой добрый?
— Дыми, дыми! Вдвоем веселей как-то дымится.
— Послушай, может, у тебя случилось что?
— Не случилось ничего, — солгал Сергей.
— Может, голодный? У меня мать в пекарне работает.
— Мать?.. Счастливый ты, значит…
— Не говори! Завидуют все. Вот повезло, так повезло — в пекарне! А у тебя?
Слободкин задумался. «Сказать или нет? Разбитной больно. Не скажу. Докурим вот и разойдемся по своим делам».
— Так ты говоришь — филичовый? — спросил Сергей.
— По-моему, да. Не крепкий, не слабый, я люблю как раз такой.
— Тогда возьми весь, хочешь?
— Весь?! А ты как же?
— Бери, бери! Я скоро к старшине на довольствие.
— Значит, все-таки из госпиталя? Конспиратор! Отлежался? Куда тебя долбануло-то?
— Заросло все, здоровый. Ну, давай пять.
Два незнакомых человека пожали друг другу руки и пошли в разные стороны.
Один долго еще удивленно оглядывался в темноте, взвешивая на ладони почти полную пачку табаку и, очевидно, представляя, как будет рассказывать дружкам, какого чудака встретил сегодня ночью.
Другой шел не оборачиваясь, думая о том, как все же хорошо, что не вывернул душу перед случайным человеком. Да кто и чем может помочь ему? Жалостью? Больше всего на свете боялся Сергей, что кто-нибудь когда-нибудь его пожалеет. Только мать имела на это право. Она одна. Впрочем, если честно признаться, очень ему хотелось, чтоб его кто-нибудь все-таки пожалел сейчас. То есть не «кто-нибудь», конечно. «Почувствовать бы руку на своем плече. Узкую, легкую ту ладошку! Посидели бы, помолчали. Просто помолчали бы пять минут. Просто поглядели бы — глаза в глаза. Только пять минут — коротких, вырванных у часов, дней, недель, месяцев, лет… А потом снова можно в эту кутерьму. Мне же не страшен ни огонь, ни холод, ни голод, ни черт, ни дьявол — ничто вообще. Через все пройду десять раз сызнова, чтобы там где-нибудь, в конце этих всех путей-дорог, она обязательно ждала меня. Обязательно ждала. И непременно она, Ина, Иночка, Инкин. И чтобы выпало нам тогда уже не пять минут и не пять часов. Нам тогда жизнь подавай! Долгую и красивую. А сейчас… Только пять бы минут. Минуточек. Да где их взять? Негде. Не у кого…»
Слободкин машинально поглядел на часы и вздохнул. Пока он шатался по городу, кончилась не только ночь — утро уже дню уступало место.
«Меня не ждут на работе! А может, не ждут эти дни — знают, все поняли, сами лямочку тянут? Впрочем, кто это „сами“? Ксюша одна в отделе. С ног небось сбилась. Лаптева прибегает ее выручать. У самой целый „зоопарк“, как она говорит, когда в „девчачьей державе“ запарка. А запарка у них всегда. Сегодня, вчера и завтра. Несется сейчас по коридору — косички вразлет — в обнимку с папками, карандашами, коробками. Споткнулась о порожек — вся канцелярия опять на полу, скрепка от скрепки на полкилометра. Погоди, Леночка, приду — помогу. До Маросейки сколько отсюда ехать? Ого-го! Ничего себе, занесло меня! Снова пол-Москвы отмахал! То-то ног под собой не чую».
Глава 7
В отделе Слободкин никого не застал, ни одной живой души. Даже Ксюши. Ее еще три дня назад, оказывается, послали работать в колхоз, и взбунтовавшиеся телефоны безответно клокотали на всех столах отдела рабочей молодежи. Слободкин еще из коридора услышал, как надрываются до хрипоты звонки, а вбежав в комнату, растерялся — какую трубку хватать первой? Вон ту, ломидзевскую, наверно?
— Алло! Слушаю! Отдел рабочей…
— Товарищ Ломидзе? — не дал договорить Слободкину чей-то густой, хрипловатый бас.
— …отдел рабочей молодежи слушает, — все-таки закончил Слободкин фразу и улыбнулся, вспомнив в эту минуту, как у них на заводе паренек в рваной, давно не греющей телогрейке называл себя пятой бригадой, а был он в той пятой один-единственный человек — двух дружков его в больницу свезли. Вася, кажется? Да, Вася Попков. Мастер Каганов его как-то с богатырем сравнил, а Слободкин позавидовал Васе, силе его — ни дать ни взять богатырской. Сколько раз замерзая в цехе, в бараке, мечтал стать таким, как Попков, и чего-то всегда для этого не хватало. Или это казалось так? Нет, действительно не хватало, он думал об этом, Зимовцу говорил, тот только отшучивался: «Жив пока? Вкалываешь? Не хуже многих? Оно и Вася!»
Все эти мысли пронеслись в голове Слободкина мгновенно, но с такой поразительной отчетливостью, что он увидел перед собой не только эту негреющую телогрейку, но и каждую ее промасленную, насквозь пробитую временем складочку и чумазые, все в мазуте, Васины щеки — впалые, втянутые, в глубоких морщинах усталости…
— Вы что там умолкли, отдел рабочей молодежи? А? — зарокотал в трубке с новой силой хрипловатый бас, в котором шевельнулась вдруг, как показалось Слободкину, насмешливая нотка. — Вы отдел или не отдел?
— Отдел, — совершенно серьезно ответил Слободкин.
Бас кашлянул. От этого он стал еще гуще.
— Простите, как ваша фамилия?
— Слободкин. А ваша?
— Чунихин. Я с «Мотора».
— С «Мотора»? Кем вы там работаете?
— Директором.
— Вы директор «Мотора»?..
— Да, в некотором роде. Что ж тут удивительного? У меня к вам два дела.
— Ко мне?
— Ну, к отделу, конечно. Можете меня выслушать?
— Слушаю вас, товарищ Чунихин.
— Во-первых, я хотел бы поблагодарить товарища Ломидзе за то, что помог с общежитием. Где он, ваш заведующий?
— Его сегодня нет, он в командировке.
— Жаль. Передайте ему, пожалуйста, нашу благодарность. И товарищу Левыкину, конечно. Сможете, не забудете?
— Передам обязательно. Все устроилось?
— Устраивается. Только благодаря комсомолу. У нас все руки не доходили, а у Левыкина и Ломидзе дошли. Сразу, как только узнали про наши развалюхи на Стромынке. Поглядели бы вы, как там ребята жили!..
— Не жили, говорят, — вставил слово Слободкин.
— Да, да, не жили, а прозябали. Верно. Согласен. Сделали выводы.
— Да нет, я говорю, совсем не ездили на Стромынку ваши ребята. Это же у черта на рогах…
— Вы, значит, знаете? В курсе?
Еще бы Сергею не знать! Но он промолчал. А директор между тем продолжал восторженно:
— И о том, что нам дом помогли получить под боком у завода под общежитие, тоже знаете? Тогда докладываю — заканчиваем ремонт! Скоро новоселье! Приглашаем Левыкина, Ломидзе, ну, и вас за компанию. Так будьте добры, передайте наше спасибо своим начальникам.
— Передам, как только увижу. Что еще у вас к нам, товарищ Чунихин? Какая еще помощь от нас требуется?
— Вы сейчас удивитесь, товарищ Слободкин. Ребята наши, которые в цехе до сих пор жили, — мы к ним как относились? Мальчики! А они, знаете, что придумали? На заводе недостаток металла, задыхаемся без сырья, план еле-еле вытягиваем. Экономим-экономим — все равно не сходится конец с концом. Не хватает стали. И какой? Серебрянки! Вы рабочий человек?
— Я токарь, товарищ Чунихин.
— Прекрасно. Так вот, прихожу я на днях в один цех и вижу: над каждым станком — красный флажок. И белым по красному: «Вахта». «Что за вахта?» — спрашиваю. Оказывается, ребята решили заняться изысканием дополнительного металла, чтобы заводу из прорыва выйти. Первая мысль: Савушкин, комсорг, пыль в глаза пускает. Любит он без всякого повода шум подымать, рапорты там и прочее. Его хорошо знает товарищ Ломидзе. Прошу позвать ко мне Савушкина и мастера цеха. Уж я на них напустился, я напустился! Знаете, что они мне в ответ? «Мы тут ни при чем, ребята все сами, с них спрашивайте, товарищ директор». Начинаю спрашивать. Один отвечает: «Выполним». Другой. Третий. Как? Каким образом? Толком скажите. Ты, ты и ты! Думаете, растерялись? Ничуть! Словом, дело оказалось серьезное. Нашли где-то на окраине разбитые бомбежкой склады, там, под развалинами, — остатки серебрянки! Аварийная команда, видите ли, не все вывезла — есть еще кое-что под землей, только на большой глубине. Так вот они роют, как кроты, и волокут на завод пруток за прутком. Что вы на это скажете? Вы на мое место встаньте. Запретить не могу и разрешения дать не имею права. Верно?
— Верно.
Директор, ободренный поддержкой, продолжал:
— Собираю ребят, говорю, что должны они отдыхать после смены, а не за серебрянкой бегать. «Понятно?» — спрашиваю. «Понятно», — отвечают. А сегодня мне охрана докладывает: «Опять волокут! В обход проходной, через дырку в заборе. Ничего, говорят, не знаем, с нами собрания не проводили. Это в той смене было…»
— Так они же у вас молодцы, товарищ Чунихин! — воскликнул Сергей.
— Вот и я о том говорю, товарищ Слободкин. Они у нас… ну, как бы получше сказать? Одним словом, нельзя ли о таких в «Комсомолке» словечко? А? Стоят. Ей-богу, стоят. Подумайте, ладно? С товарищем Ломидзе посоветуйтесь, он у вас спец в этих делах, я знаю. И насчет общежития не забудьте. Скажите, нам стыдно всем, что у самих руки до сих пор не дошли.
Среди дня Слободкин в первую же свободную минуту позвонил в редакцию «Комсомольской правды».
— Мне нужен отдел рабочей молодежи, — сказал Сергей, набрав номер, указанный в газете.
— Отдел рабочей молодежи слушает. А откуда это?
— Из отдела рабочей молодежи ЦК.
Слободкин думал, что на том конце провода удивятся, но вместо этого услышал радостное:
— Как хорошо, что вы позвонили! Я новый тут человек, у меня к вам тысяча вопросов!
— Ко мне? — удивленно переспросил Слободкин.
— К вам, раз вы из отдела рабочей молодежи.
— Я тоже новый, ничего еще толком не знаю, — сознался Сергей.
— Вот и прекрасно! Встретимся — все вместе обмозгуем, выработаем общую линию.
Через час Слободкин и Писарев сидели друг против друга и разговаривали, как старые приятели, которые давно не виделись и у которых накопилось столько дел, что их, говори, не говори, все равно все не обсудишь.
Слободкин рассказал о планах своего отдела, Писарев — своего. Обдумывали, как лучше освещать соревнование комсомольских бригад, как провести совместный рейд проверки общежитий, как к тому подступиться, как к этому. Вместе все-таки как-то веселей получалось, интереснее. Оба были довольны тем, что нашли один другого. Главное, что их объединяло, — это, как ни странно, было именно то, что оба они действительно не имели опыта в том деле, которое на них свалилось. Выяснилось, например, что Писарев всего несколько раз выступал в газете.
— Фамилия у меня литературная, да? А из-под пера — только докладные да прожекты всякие. А вы? Писали что-нибудь?
— Что вы! — воскликнул Слободкин. — Хотели меня как-то в многотиражку сосватать, но, слава богу, передумали. Я-то уж точно двух слов связать не умею. Но на вас у меня, честно говоря, надежда была. Я ведь зачем приехал?
— Познакомиться.
— Это само собой. Но есть у меня ребята на примете! Вот такие! — Слободкин поднял вверх большой палец.
Ночь застала Слободкина и Писарева за сочинением заметки о ребятах с «Мотора». Сергей извлек свои записи, наскоро сделанные после разговора с Чунихиным. Писарев притащил откуда-то старый, разбитый ремингтон и килограмма два бумаги.
Шелестели страницы, стучали клавиши машинки, скрипели перья, ломались, затачивались и снова ломались карандаши… а заметка не двигалась. Даже путного заголовка не удавалось придумать. В голову лезли какие-то выспренние, затасканные и потому ничего не значащие слова.
Окончательно выбившись из сил, Писарев сказал:
— А газета все-таки выходит. И какая газета!
— Как же она? — чистосердечно удивился Слободкин.
— Ну, во-первых, не в каждом отделе сидят такие Писаревы. Во-вторых, энтузиазм тут какой, знаете?
— Энтузиазма-то и нам с вами не занимать. — Слободкин вздохнул и устало уронил голову на ладони.
Снова и снова ломались карандаши, скрипели перья, испуганно вздрагивал от тяжелых, неуклюжих ударов старик ремингтон… К утру заметка все-таки была готова. Она называлась броско и оригинально — «Передовики соцсоревнования», была отпечатана по всем редакционным правилам через два интервала и скреплена подписями двух падающих от изнеможения авторов. Если бы не бдительность главного редактора, которому понес заметку Писарев, она бы, очевидно, даже увидела свет.
— Прочитал редактор? — упавшим голосом спросил Слободкин Писарева, когда тот, бледный и взъерошенный, возвратился в отдел.
— Два раза даже.
— Не подошло?
— «Работаем, работаем, говорит, а в газету вставить нечего».
Слободкину стало стыдно, как будто его высекли на глазах у всех подписчиков «Комсомольской правды».
— Ну куда мы с тобой годимся? — Сергей в расстройстве даже не заметил, как перешел с Писаревым на «ты».
— Особенно я, — в тон ему ответил Писарев.
— Почему именно ты?
— Потому, что редактор велел все переделывать.
— И ты дал согласие, — вздохнув, догадался Слободкин.
— А что делать? Служба! «Поезжайте, говорит, на завод, проведите там день или два. Надо этих ребят вам своими глазами увидеть. Всех вместе и каждого в отдельности. Прутки вашей серебрянки должны, мол, зазвенеть на страницах. Вы понимаете, какой материал раскопали? Колоссальный! Поезжайте сегодня же…»
— Я никуда не поеду! — решительно перебил Писарева Сергей. — Не по зубам мне это дело.
— Мне по зубам, да? Впрочем, ты прав, конечно. По зубам. Так мне и надо, кретину, врезался в эту чертову журналистику, как собака в кегельную игру. Говорили мне умные люди…
Писарев нервно шагал по комнате. Очки его с одним треснутым пополам стеклышком уползли куда-то под черный, почти синий, давно не чесанный вихор, руки дрожали. В такт шагам Писарева дрожал графин с водой, дрожала на столе настольная лампа с зеленым абажуром.
— Еще одна такая ночка — свихнуться можно, честное слово, — сказал Слободкин.
Писарев ответил не сразу. Он порылся в ящиках стола, извлек оттуда два блокнота. Один из них затолкал во внутренний карман своего пиджака, другой протянул Слободкину.
— И все-таки надо попробовать. Назвать он знаешь как предлагает?
— Как? — деланно равнодушным тоном спросил Слободкин.
— «Серебрянка». Как по-твоему?
— По-моему, плохо. Мы же не о железяке должны писать, а о людях.
— Должны. Хорошо сказал.
— Не придирайся к словам. Плохой заголовок придумал твой редактор.
— Но ведь и не «Передовики соцсоревнования»?
— Тут хоть смысл есть какой-то. А в «Серебрянке» что?
— Символ. Ей-богу, это не так плохо, как кажется. Просто привыкнуть надо. «Как закалялась сталь» — книга не по технологии термической обработки металла, а о людях, согласен?
Слободкин задумчиво посмотрел на Писарева.
— «Серебрянка»… А может, все-таки еще как-нибудь? — спросил Сергей.
— Подумаем. Редактор не настаивает. Он вообще человек у нас мягкий, но на сознательность нашу жал вот так! Если вы ни черта не понимаете, говорит, куда вы годитесь?
— Да, сразу видно, человек мягкий, деликатный. Я бы ему коротко ответил, по-рабоче-крестьянскому! «На мою сознательность, товарищ…» Как его фамилия?
— Курасов.
— «На мою сознательность…» А по имени-отчеству?
— Филипп Иванович.
— «На мою сознательность, товарищ Филипп Иванович, кто только не давил. В десанте — Брага, Поборцев. Командиры справедливый народ, куда денешься? На заводе — Каганов, Строганов, Баденков. Тоже комсостав, и с понятием. Теперь Маросейка жмет. Все давят, давят, давят. И все на самую любимую мозоль — на сознательность. Так нажимают, что даже характер портится. А сознательность на исходе, товарищ Курасов».
— Так бы и рубанул? — спросил Писарев.
— А что? — ответил Слободкин.
— Редактор все-таки. Тоже комсостав.
— Ты еще издеваешься? Пойми, сознательность только в энзэ осталась. Про энзэ знаешь, что в уставе записано?
— Знаю. Так когда же все-таки едем на завод?
Сергей задумался, потом нерешительно сказал:
— Я могу только ночью, после работы. Не раньше двенадцати.
— Ну что ж, ночью так ночью! — воскликнул Писарев. — Я знал, что ты согласишься.
— Если б мы были подольше знакомы, я бы, так и быть, выдал тебе один секрет. — Слободкин глубоко вздохнул.
— Говори, коли начал. Как коллега коллеге.
— Девушку я одну ищу.
— Ну и что?
— И она меня ищет.
— Так…
— Не сообразил еще?
— Нет. А где она?
— На фронте.
— Понятно. В госпитале познакомился? Воевал ведь?
— Нет, не в госпитале. До войны еще. Добровольцем она потом ушла. Куда ни пишу, куда ни стучусь, везде обещают, обещают, обещают…
— Теперь понял, — воскликнул Писарев, — через газету хочешь голос подать. Точно?
— Смешно? Да? — смущенно спросил Сергей.
— Нет, почему же? Только сам-то ты там газеты регулярно читал?
— Но ведь может же быть случай такой — на переформировку откатились или нет приказа наступать. Газетка и пошла из рук в руки, пробралась из окопа в окоп, куда хочешь, хоть на передовую. Согласен?
— В общем и целом. Но приказ наступать есть. Ты сам-то газету видишь? — Писарев протянул руку, достал с подоконника подшивку.
— Вижу. Жаркое будет лето. Мне и дружок так пишет. Но чем, скажи, черт не шутит?
Слободкин помолчал, машинально уставился в сводку Информбюро и сказал:
— Вчерашняя, а все равно интересно. Не устанешь такое читать и перечитывать. Слова-то какие: «Взломали глубоко эшелонированную оборону противника», «перешли в контрнаступление», «овладели», «выбили», «захватили»… Музыка! Номерочка нет лишнего?
— Я тебе сейчас сегодняшнюю принесу! — обрадованно воскликнул Писарев. — А вечером — завтрашнюю. Как для нашего специального корреспондента!
— Ну, коли так, — сказал Сергей, озорно улыбнувшись, — еду с тобой на завод! Уговорил.
Глава 8
Тихая, теплая ночь за окном. Такая тихая, что не верится, будто это самый разгар войны. Такая теплая, с таким крупным мерцанием южных звезд, что под их гипнозом можно забыть обо всем на свете.
Но Писарев, Слободкин и Савушкин, свесившись с подоконника одной из комнат заводоуправления «Мотора», сторожко всматриваются в темноту, вслушиваются во все ее еле уловимые шорохи.
Все трое они лежат вот так — грудью о подоконник — долго, им начинает уже казаться, что даже слишком долго.
Слободкин до такой степени устал за последнее время, что все чувства его притупило. Он пробует вспомнить, когда последний раз спал по-человечески, и не может. В тот день, когда с дежурства пришел? С какого дежурства? Они теперь часто, одно за другим. И потом, куда пришел смотря? В общежитие? Домой? В отдел? Вспомнил! В коридоре на ходу сколько раз спал, пока до отдела добирался! Сто сорок шагов коридорчик! Правда, по пути еще — «девчачья держава». Из полуоткрытой двери ее обязательно кто-нибудь спросит с сочувствием: «Как дежурилось?» Вот и не доспал своего. Отвечаешь бодро: «Хорошо дежурилось. Отлично». А сам уже перешагнул границу «державы» — надо же взглянуть, кто чуткость проявил. Лена-крохотуля? Или Нина? Или Люда? Или сама начальница? Спросонья не разберешь, кто разбудил тебя на самом интересном место. «Совесть у вас есть?» — «Чего-чего?» — «Совесть». — «Ах, совесть! Совести у нас нет, — за всех отвечает Лена, — узнайте в следующем отделе. И не проспите его, товарищ Слободкин». — «А может, вам помочь скрепки собирать? Вы рассыпали, Леночка?» — «Нет, не рассыпала». — «Рассыпали, рассыпали — вон как звенят под ногами, на весь коридор. Звень-звень… Трень-трень… Сейчас соберу, так и быть»…
Слободкин шарит рукой в холодном ночном воздухе и… просыпается.
— Вы слышите? — спрашивает он Писарева и Савушкина.
— Еще бы! — в один голос шепотом отвечают те.
Все трое, поеживаясь, быстро спускаются из заводоуправления вниз, спешат навстречу тонкому, но отчетливому звуку прыгающей по булыжнику серебрянки.
— А может, не надо? — вдруг на всем ходу останавливается Слободкин. — Напугаем ребят зря. Они себя чуть ли не преступниками почувствуют. Приказ нарушили! Деликатнее давайте как-нибудь.
— Как? — спрашивает Писарев. — Редактор велел своими глазами.
— А если своими ушами? — уточняет Слободкин. — Мало? Слышали, мол, как звенит серебрянка по заводскому двору… Все слышали?
— Все, — отвечает Савушкин. — А сейчас не слышно.
— Молодцы, ребята! Ходкие! Ну что ж, значит, в цехе интервью брать будем. Поворачиваем на сто восемьдесят. Пошли! Фамилии у нас все вот здесь, — говорит Сергей, хлопая себя по карману шипели.
В цехе Слободкин, Писарев и Савушкин прежде всего натолкнулись на уже знакомого им старого мастера, Василия Сергеевича.
— Ба! Обратно комсомол? — воскликнул старик и, вытерев концом ветоши руку, протянул ее всем троим. — Чего по ночам людям спать не даете?
— Кому не даем? — перебил его Слободкин и посмотрел на «гамак», в котором на этот раз никого из ребят не было.
Мастер усмехнулся.
— Сейчас явятся. У них дел знаете сколько?
— Знаем, — сказал Сергей. — Все знаем, папаша. После смены за серебрянкой ходят?
— Ходят, — ответил старик. — А что поделаешь? Вроде бы непорядок. Дрыхнуть нужно бы, сил набираться. Но я не протестую — пусть ходят. Сами ведь все разведали, после аварийщиков оборушки из-под земли достают. Попробуй им перечить.
— А зачем перечить? — удивился Писарев. — Дело хорошее. Нельзя ли повидать серебрянщиков ваших?
— Сперва покажем вам, сколько наволокли они стали. Хотите? — спросил мастер и, не дожидаясь ответа, подал знак Савушкину — веди!
В дальнем углу цеха Савушкин узким лучом ручного фонарика нащупал целую гору стальных прутков, лежавших около двери, распахнутой в темноту ночи.
— А вот и серебрянщики! — сказал мастер, поманив к себе пальцем двух ребятишек, разравнивавших прутки так, чтобы они заняли поменьше места.
Ребята подошли. Слободкин и Писарев поздоровались с ними за руку.
— Комсомольцы? — спросил Сергей.
— Беспартийные, — ответил один из них.
— Как это беспартийные? Комсомольцы! — поправил Савушкин. — Мы всех давно уже приняли: и тебя, Гордеев, и тебя, Панков, и многих других. Билеты скоро будем вручать прямо тут в цехе.
— Скоро, скоро, — незло передразнил мастер Савушкина. — Безбилетники. Правильно говорят, беспартийные.
— По сознательности они у вас старые большевики, — улыбнулся Сергей.
— Что верно, то верно, — согласился мастер.
— А нельзя ли хоть на пять минут собрать эту беспартийную массу? — спросил Писарев. — Потолковать надо.
— Нет, даже на три минуты нельзя. Вам разговоры разговаривать. А за пять минут простоя станков фронт недополучит…
— Да, да, простите, — виновато прервал его Писарев.
— Вот через полчаса пересменка будет, тогда беседуйте со свободными, сколько душе угодно, — сказал мастер, стараясь смягчить свой вынужденный отказ.
Скоро в коридоре перед Слободкиным, Писаревым и мастером стояло десятка полтора парнишек, усталых, чумазых. В полумраке толком не разобрать было их лиц. Но не нужно было никакой иллюминации, чтобы понять, как мало лет любому из них.
Чтобы разговор был меньше всего похож на собрание, Писарев, положив руку на плечо одного из мальчиков, сказал:
— Мы из ЦК комсомола, ребята, и из «Комсомольской правды». Есть к вам только один вопрос, можно?
— Можно, — за всех ответил Савушкин.
Слободкин дернул его за рукав. Ребята молчали, терпеливо дожидаясь, что будет дальше.
— Всего один вопрос, — продолжал Писарев, — но ответить на него должен каждый из вас. Ты, ты и ты…
— Какой? — спросил один из ребят, на которого в этот момент указал Писарев.
— Для чего вы ходите за серебрянкой, отрывая время, отпущенное вам для сна, для отдыха?
— Вам, конечно, идейный нужен ответ? — вздохнув, сказал все тот же паренек.
— Какой получится, — усмехнулся Писарев, — только честный.
— Спать-то все равно негде, — под чей-то смешок ответил парнишка.
— Общежитие вам скоро будет, — вступил в разговор Слободкин, — ремонт нового помещения под него заканчивается.
— Это точно, — поддержал его Писарев. — А когда новое общежитие будет готово, вы уже за серебрянкой не пойдете?
— Это уже второй вопрос, — озорно крикнул кто-то.
Все рассмеялись. И Писарев, и Слободкин, и Савушкин, и даже старый мастер Василий Сергеевич.
Когда смех утих, Писарев сказал:
— Самое главное, ребята, что вы духом не пали. Верно я говорю?
— А зачем падать? — опять подал голос парнишка с веселым нравом.
— Это уже второй вопрос, — в тон ему ответил Слободкин.
Новый взрыв хохота прокатился по всему цеху.
— Жаль, что у нас протокол не ведется, — полушутя сказал Писарев. — Можно было бы так записать: «Слушали: о серебрянке. Постановили: раскопки продолжать».
— Так и запишите, — ответил Василий Сергеевич. — Верно я говорю, граждане?
— Все верно, — сказал кто-то из ребят.
— Но тогда не обойтись еще без одного вопроса, — заметил Писарев. — На что пустить серебрянку? Во всесоюзном масштабе надо на дело взглянуть.
— Какое у вас предложение? — спросил мастер Писарева.
— Предложение хорошо бы самому рабочему классу высказать. Ну, кто смелый?
Все молчали.
Мастер достал платок, протер очки, поглядел вокруг, остановил свой взгляд на одном из стоящих в толпе ребят.
— Гордеев, у тебя отец где?
— На фронте, — ответил паренек.
— В каких войсках?
— Танкист он.
— А у тебя, Панков?
— И у меня танкист. Может, для танков это все? — Парнишка повел головой в сторону собранной серебрянки.
— Кто «за»? — спросил мастер.
— Все! — раздалось несколько голосов.
— Теперь уже точно нужен протокол, — серьезно сказал Слободкин. — Бумага есть у кого-нибудь?
— Вот бланк для наряда, — протянул Слободкину измятый листок Василий Сергеевич. — Пиши…
— Я? — удивился Слободкин.
— От имени всех, — сказал мастер. — Во всесоюзном масштабе, значит?
— Во всесоюзном, — подтвердил свою мысль Писарев. — Инициатива от вас через «Комсомолку» — по всей стране! Представляете?
— Не высоко берем? — усомнился мастер.
— В самый раз. Не высоко, — сказал Слободкин. — Большие дела всегда начинаются с малого.
— Ну, раз комсомол так считает, — развел руками мастер, — я «за». Как беспартийная масса?
— Я уже сказал вам, они все комсомольцы, — еще раз поправил Савушкин. — Все до единого.
— Тогда давайте это дело оформим так: комсомольцы «Мотора» начинают сбор металла на танковую колонну… Можно так записать? — спросил Слободкин.
— Можно!
— «Комсомолец», — сказал Гордеев, — назовем колонну.
— Правильно, — поддержал его Панков.
— Вот ты и пиши протокол. — Слободкин передал парнишке бланк для наряда.
Под общий смех Панков разложил листок на углу какого-то ящика.
Через несколько дней очерк Писарева и Слободкина о ребятах с «Мотора» появился в «Комсомольской правде». Под очерком стояло крупно набранное сообщение о том, что почин заводских комсомольцев обсужден в ЦК ВЛКСМ и поддержан.
Правда, прочитав очерк, Слободкин пришел в некоторое смущение. Заголовок был тот, который они написали, — «Серебрянка». Но в тексте многое подверглось такой основательной правке, что Сергею стало не по себе. Факты излагались в общем-то правильно, но слова были, на взгляд Слободкина, слишком выспренние. Чего там только не было! И «гвардейцы тыла», и «гордость духа», и еще что-то в этом роде.
Сергей, раздосадованный, позвонил было Писареву. Тот, как мог, утешил его:
— Не придирайся к словам, товарищ парашютист. В редакции и на заводе очерк понравился. С «Мотора» утром уже звонили, спасибо велели передать. А главное — смотри, какая каша заваривается! Действительно ведь на всю страну. Хочешь, я предскажу тебе дальнейший ход событий?
— Предскажи, — сердито, но покорно ответил Слободкин.
— Все комсомольские организации подымутся на это дело. Поступают уже первые телеграммы. Вот они, у меня в руках. Из Челябинска, Свердловска, Нижнего Тагила, Саратова… «Разногласия» только в том, что каждый хочет назвать будущую колонну по-своему. «Челябинский комсомолец», «Комсомолец Свердловска», «Молодой волжанин». Толково?
— Быстро откликнулись! — удивился Сергей.
Но он еще долго в тот день был мрачнее тучи. Ни за что ни про что нагрубил Ксюше, когда она спросила у него, зачем опять заказывать пропуск «этому Савушкину». Несколько раз проходил мимо отдела пионеров, даже не заглянув в его открытую дверь.
Когда из «девчачьей державы» позвонили о том, что пора в столовку, он рявкнул в ответ что-то сердитое. Даже сами слова «говорит „девчачья держава“», с которых обыкновенно начинался каждый звонок из отдела пионеров, показались ему вдруг не такими веселыми, как всегда.
— У вас плохое настроение, Сережа? — спросила Нина, почувствовавшая что-то неладное. — Может, нужна помощь сопредельного дружеского государства? Скажите — мы мигом!
— Все в порядке, — сухо ответил Слободкин.
— Ну, как хотите. Значит, места вам не занимать?
— Не занимайте.
— А в чем все-таки дело?
— Ни в чем. Просто некогда.
— Очень жаль, останетесь без фирменного блюда.
Сергей несколько секунд помолчал, потом спросил:
— Неужели пшенка? — голос его немного потеплел.
— Она самая. Мы уже из столовой звоним.
— И Лена с вами?
— И Лена. Дать ей трубку? Ну, что вы молчите?
Сергей не успел ответить, как в трубке послышался тоненький голосок Лены:
— Место вам уже занято, товарищ Слободкин. Придете?
— Ладно, приду… Но настроение у меня сегодня почему-то неважное. Сам не знаю почему.
— Первый признак того, что пора повидаться с друзьями.
— Согласен. Если честно сказать, пшенка особенно хороша за компанию.
— Ждем. Только пулей, Сережа, ладно? Нам ведь еще мыть посуду. Мы сегодня дежурим.
В столовой действительно кормили пшенной кашей. «Держава» на правах дежурной раздобыла каким-то образом для Слободкина одну лишнюю порцию любимого им блюда и была от этого счастлива. Все четверо — Лена, Нина, Люда и даже строгая начальница Вера Куцыбо, — угощая Сергея, шутили.
Но по-настоящему посветлело на душе у Слободкина, когда он понял, что никто из девчат, судя по всему, и в глаза не видел сегодняшней «Комсомолки», и, значит, ни перед кем из них ему не надо оправдываться. Только одна Вера Куцыбо, когда поднимались из-за стола, наклонилась к Сергею и негромко, но и не очень тихо сказала:
— У нас на Урале речка так называется.
— Как? — не понял Слободкин. — Какая речка?
— Серебрянка.
Сергей вскинул на Куцыбо растерянные глаза.
— Прошу вас, Вера!.. Мы не писали так, как там.
— Значит, все дело в этом? А мы-то ума не приложим, что с вами сегодня? Бука букой. Зря, зря вы, Сережа. Выспренно, конечно, что есть, то есть, но факты! Факты сами за себя говорят. Их трудно испортить. Словом, не огорчайтесь. Мы так просто рады за вас. Девочки! Наш собственный корреспондент!
Девчата рассмеялись. Как ни странно, именно этот смех и привел Слободкина в окончательное равновесие. Не без подковыра, конечно, смешок. Но и без обидного сочувствия.
Через полчаса, разговаривая с Савушкиным, Слободкин уже и сам забыл о неудачном своем дебюте в прессе. Только был, пожалуй, излишне недоверчив ко всему, о чем «докладывал» ему заводской секретарь. По нескольку раз переспрашивал, все записывал в блокнот и каждую строчку заканчивал большим вопросительным знаком, похожим, как казалось сейчас Савушкину, на кобру. Проверим, мол, все, дорогой товарищ Савушкин. И перепроверим. Так надежнее будет. А когда речь зашла о новом общежитии, дату переселения в него записав, подчеркнул двумя жирными чертами. Интересовался буквально каждой мелочью. И сколько коек отремонтировали, и догадались ли выколотить матрацы, и даже чем и как выколачивали.
— И тумбочки есть? — спросил Сергей.
— И тумбочки, — покорно ответил Савушкин.
— А в тумбочках?
— Что «в тумбочках»?
— Я спрашиваю: что будет в тумбочках?
— Не понимаю. Что положено, то и будет…
— Барахолка, одним словом? — нахмурился Слободкин. — Порядок должен быть в тумбочке. По-ря-док! Нам старшина наряды давал за тумбочки. По два за каждую.
— Так то ж в казарме, — попробовал возразить Савушкин.
— Вы что так боитесь этого слова? — возмутился Слободкин. — В казарме, если там разумные существа живут, удобно, тепло, уютно и чисто. Кто в настоящей казарме не бывал, многое потерял в жизни! Моя коечка знаете где стояла?
— Где? — спросил Савушкин.
— У самого окна. Классное место! Весь кислород мой, все звезды мои и… все письма.
— А письма почему? — удивился Савушкин.
— Очень просто. Почтарик ротный письма нам через окно забрасывал. Для скорости. Мешок прямо на мою койку летел. Подумайте только! Целый мешок писем!
— И часто сваливались такие мешки?
Слободкин вздохнул.
— Сваливались. А как война началась…
Савушкин внимательно посмотрел на Слободкина. Вовсе он и не такой сердитый, как показалось вначале. Человек как человек. Со своей, наверно, нелегкой судьбой. И, конечно, честный, «Мотору» только добра желает. И не только желает — во многом помог. И вопросительные знаки в блокноте у него — вовсе не кобры. Нормальные знаки.
Глава 9
Не успел Сергей закончить разговор с Савушкиным, как был вызван на пятый этаж. Там созывалось срочное совещание всех наличных работников аппарата в связи с весенней посевной компанией.
Когда Слободкин поднялся, совещание уже началось. Народу было на удивление мало. За столом президиума вообще сидел один человек. Он ровным, тихим голосом говорил о весне, о деревне, о семенах и удобрениях. Осмотревшись и прислушавшись, Слободкин пришел к выводу, что к его рабочему отделу все это решительно никакого отношения не имеет.
Сергей сидел с отсутствующим видом, злясь на то, что зря заставили его сюда притащиться, потерять столько драгоценного времени. А это как раз в тот самый момент, когда он позарез нужен в отделе! «Ровно в одиннадцать будет звонить Писарев. А через час они вместе должны ехать на заседание коллегии наркомата, где будет слушаться вопрос о почине молодежи „Мотора“. В два часа надо было успеть на Ростокинскую мебельную фабрику: на что уж, казалось бы, тихое, „мирное“ предприятие! — но и оно для фронта работает. Созданный на фабрике молодежный цех за один только минувший месяц во внеурочное время изготовил свыше пятисот кроватей для госпиталей. Недалеко от мебельщиков завод „Калибр“. И туда необходимо сегодня попасть во что бы то ни стало!»
Слободкин, как и все сидевшие вокруг, тоже вынул блокнот и стал все это записывать, чтобы не забыть чего-то важного. И чем дальше он писал, тем этого важного становилось больше. На «Калибре» надо побывать не только в комитете комсомола, но непременно еще и у директора: по инициативе комсомольцев коллектив завода приступил к дальнейшему уплотнению рабочего дня, и, судя по всему, уже есть первые результаты. «Интересно, что конкретно уже сделано? — записал Слободкин. — Может быть, опыт „Калибра“ можно перенести на другие заводы Ростокинского района? Всей Москвы?»
«И уж раз попаду в этот район, — думал Сергей, — нельзя не заглянуть на сельхозвыставку. Оттуда вчера сообщили: комсомольцы своими силами отремонтировали, привели в полный боевой порядок четыре трактора марки „ХТЗ“, долгое время служившие на выставке экспонатами и считавшиеся некомплектными. К этим тракторам раздобыли еще и прицепы, а в прицепах — хомуты, вожжи, мешки, лопаты, грабли, рукавицы…»
Сергей хотел было всю эту «амуницию» тоже занести в блокнот, но передумал. «Впрочем, это уже село — не наша епархия. Пусть „крестьяне“ сами займутся. Наши тут только трактора, пожалуй».
Он стал искать глазами кого-нибудь из сельского отдела, но никого из знакомых ребят, к сожалению, не обнаружил. Все дружно отсутствовали, хотя слушался их вопрос. Слободкин нарисовал в блокноте что-то отдаленно напоминающее хомут и улыбнулся своим мыслям. Хомут получился похожим на амебу в одном его школьном рисунке, на амебу, про которую учитель сокрушенно сказал, что она в изображении Слободкина не отличается от самого обыкновенного… хомута!
Почувствовав, что кто-то из-за спины смотрит на его художества, Слободкин, перелистнув страничку, обернулся.
За ним сидел Николай Силуянов.
— А что? Как живой хомутишко! — шепнул он. — Жаль, наших «крестьян» нет, они бы оценили по заслугам!
— Странно, — сказал Сергей, — ведь вопрос-то их главным образом касается. Где же их всех носит?
— По уши в земле уже, — ответил Силуянов. — Всем составом. А ты никак не привыкнешь, я смотрю?
— К чему? — не понял Сергей.
— К тому, что у нас тут все занимаются всем. Не то чтобы обезличка, но так уж как-то само собой сложилось. Исторически. От нехватки рабсилы. Я вот твой очерк в «Комсомолке» читал. Ты хоть знаешь, сколько в редакции той трудящихся?
— Сколько? — спросил Слободкин.
— Пятнадцать человек. Из них по крайней мере десять необстрелянные, перо из рук валится. А газета выходит как часики. Вот и крутятся вроде нас, бедолаги.
— Значит, «крестьян» никого тут нет, это точно? — Слободкин с недоверием взглянул на Силуянова.
— Кроме тебя, — уточнил Николай. — Да еще меня, может быть. Вместе с тобой мы могли бы редактировать сельскохозяйственную газету, как ты думаешь?
— Мне не до смеха, — признался Сергей.
— Ну вот тебе раз! А все говорят, ты неунывающая личность!..
Слободкин устало махнул рукой. Силуянов усмехнулся:
— Скисаем, скисаем, десант! Куда годится! А все знаешь отчего? На свежем воздухе мало бываем. Вот пошлют нас с тобой в деревню — там и отдышимся. Пошлют как пить дать! Всем в эти дни на селе дело найдется. В строительстве твоих танков колхозы тоже должны принять участие. А как же?
Этим же вечером Сергей трясся на полке вагона, уносившего его в срочную командировку. Силуянов прав оказался. На совещании так и было сказано: сев и танки. Только Слободкин записал себе это в иной последовательности — «Танки и сев». Адрес же выпал Сергею такой, о котором можно было только мечтать: Ярославщина! Край раннего детства. Привольные волжские места, где когда-то жил он у дальних родственников два или три лета подряд… Сергей не мог сейчас вспомнить, в какие именно годы это было. Забылись даже имена милых, хлебосольных стариков, оказывавших ему свое гостеприимство. Только название деревни каким-то чудом сохранилось в памяти: Сухортово. Да, да, Сухортово! Он уже потом, много лет спустя, писал матери в каком-то письме из армии или с завода, какое это вкусное было название, произносишь — словно румяный, душистый сухарь разгрызаешь: Сухортово!..
И вот снова чем-то родным, несказанно близким пахнуло от одного только слова — Ярославщина… Хорошо б выкроить денек, чтоб разыскать деревеньку с милым сердцу названием. С добрыми, ласковыми стариками, след которых давно потерялся во времени и пространстве.
«Вряд ли, конечно, — думал Сергей, — сыщу стариков — столько лет прошло, столько зим! И тогда уже очень старенькими были они. А вот на Сухортово взглянуть бы хоть одним глазком! Мне ничего, в сущности, больше и не надо. Только взбежать на тот взгорок, откуда так хорошо видна покосившаяся церквушка — белая, ослепительно белая на фоне зеленых лугов и синей Волги. Только увидеть это. Хотя почему же только? Если уж доведется, выпадет счастье такое, все хатки обойду, все дворы, все тропки, а отыщу эту пятистеночку с окнами на все стороны света — и на гору, и на лес, и на поле, и на саму матушку-Волгу! Из ребят кого-никого, а встречу. Стали мальчики взрослыми, изменились, не узнаешь с первого взгляда, но хоть одного из бывших дружков, а высмотрю! Не все же на войне? Увижу вихрастого такого, с голубыми, широко расставленными глазами, подойду и спрошу: „Вась! Ты?“ — „Я, ответит, а ты — ты?“ — „А я — я…“ Вот и встретились, и узнали друг друга, и разговорились! У Васятки про остальных расспрошу — про Леньку, оставшегося сиротой с гражданской войны, про Оленьку, у которой было такое несметное количество красных веснушек, что от них рябило в глазах…»
Вспоминая потом свою поездку, день за днем, час за часом, Сергей не мог восстановить в памяти всех навалившихся на него событий. Одних совещаний пришлось провести не меньше десятка — «узких» и «широких», с активом и без актива, в областном центре и в районах, куда при всем цейтноте Слободкин все-таки успел выехать. Правда, районы были все ближние, в пределах досягаемости обкомовского «газика», а Пустошинский, в котором находилось Сухортово, лежал в стороне, на самом краю Ярославской земли. Сергей, отыскав его на карте в обкоме, сразу понял, что свидание с детством не состоится. И все-таки в течение всех этих коротких дней чуть не в каждом встречавшемся человеке настойчиво искал своих закадычных дружков. Васятку с голубыми глазами. Леньку-сироту. Оленьку в конопушках. Искал и не находил…
Только раз почудилось ему, что перед ним — один из тех, кого он ищет. Это произошло в селе Стрельцово, в кузнице, куда Сергей вместе с сопровождавшим его работником обкома пришел ранним утром.
В кузне, находившейся у околицы, было почти совсем темно — лишь в самом центре ее, у горна, метались слабые малиновые блики.
— Вась, ты, что ли? — обратился обкомовец к кому-то невидимому.
Слободкин, услышав это имя, вздрогнул.
— Я, кто же еще? — отозвался откуда-то из мрака чуть осипший голос.
— Тогда здравствуй. Мы к тебе. Вот тут товарищ из Москвы, поговорить хочет.
— Подходите поближе. Чего вам ни свет ни заря?
— Да вот знакомим товарища с нашими комсомольцами, с передовиками.
— Делать вам нечего! — незло огрызнулся кузнец. — Сами не спите и другим работать не даете.
Слободкин в смущении инстинктивно сделал шаг назад, кузнец проворчал:
— Ну, подходите, подходите, коли пришли.
— Подходите, — шепнул на ухо Слободкину обкомовец, — он без ног с войны воротился.
Малиновое пламя горна вспыхнуло ярче, и Слободкин увидел — возле наковальни на огромном разлапистом пне сидел человек. В одной руке держал молоток на длинной рукояти, другой при помощи меха подкачивал воздух к горящим углям. Ног у кузнеца действительно не было, но он тщательно маскировал это длинным кожаным фартуком.
Сергей смутился еще больше. Заметив это, кузнец сказал:
— Что поделаешь? Живы — и то слава богу. Так, что ли? — он громко, почти весело, хотя и неестественно хохотнул и приналег на мех.
Пламя взметнулось выше, в кузне на несколько секунд стало почти совсем светло. Сергей всмотрелся в лицо кузнеца. Ни одной знакомой черты в нем не угадал. Но глаза, Сергей успел это хорошо увидеть, были голубыми, очень светлыми, широко расставленными…
— Ты из какой деревни? — превозмогая волнение, спросил Сергей.
— Из этой, — спокойно ответил кузнец. — Из Синявина. Тут родились, тут и помирать будем, когда час подойдет. А ты?
— Я из Москвы родом, — ответил Слободкин.
— Деревенька тоже что надо! Но и наша неплоха, не жалуемся. Глянь, какой царский трон фронтовику отгрохали!
При новой вспышке огня Сергей увидел, что кузнец сидел не просто на пне — это было целое кресло сложной конструкции, со спинкой, подлокотниками и еще какими-то хитроумными приспособлениями для молотков, клещей и другого инструмента.
— Чудо техники! — перехватив взгляд Слободкина, воскликнул кузнец. — Чертежи мои, изделие общее, колхозное. Ну, как там Москва? Чего говорят? Когда войне край?
— Врать не буду — не знаю, — ответил Сергей, — но думаю, не скоро еще.
— Вот, паразит, что наделал! — кузнец в сердцах ударил молотком по раскаленному добела куску металла.
Сергей инстинктивно заслонил лицо от каскада разлетевшихся во все стороны острых искр. Кузнец ударил еще раз, еще. Все помещение кузни теперь наполнилось грохотом и засверкало золотыми частыми стрелами, которые были страшны, оказывается, только на первый взгляд, на самом деле — не обжигали. Сергей подошел почти вплотную к наковальне. Кузнец, все больше увлекаясь работой, показав ему глазами на молот, крикнул:
— Сможешь?
— Не знаю… — смущенно ответил Сергей.
— Попробуй! Чем черт не шутит! Деревня Синявино большая, а напарника мне нет.
Сергей никогда еще не был в роли молотобойца, но они как-то сразу поняли друг друга, с самых первых ударов. Кузнец бил в то место, куда должен был после него обрушивать всю тяжесть молота Слободкин. Сергей, на удивленье самому себе, точно рассчитывал удар, энергично, даже с азартом, наносил его и изготавливался к следующему.
Правда, с непривычки он довольно скоро вспотел, задышал тяжело, но остановиться уже не мог. Да и кузнец то и дело весело подзадоривал:
— Давай! Давай! Хорошо идет!
Работал Слободкин с наслаждением и никак не хотел признаться, что силы его на пределе.
Когда был устроен перекур, кузнец спросил Сергея:
— Зачем в наши края? Сведения собирать? — и улыбнулся, как показалось Слободкину, не без ехидства.
— Почему «сведения»? — обиделся Сергей. — На повестке дня танки и сев.
— Танки? — удивился кузнец.
— И сев, — повторил Слободкин.
— Сев — это понятно, а танки у вас клепают, в Москве, да еще на Урале.
— Комсомол объявляет сбор металла и средств для танковой колонны, — сказал Слободкин. — Тут всем дела хватит. Поможете?
— В боку у меня кусок чугуна сидит. Крупповского. Подойдет? — кузнец сплюнул.
— У меня тоже, — помолчав, ответил Сергей. — Может, сложимся?
— Так ты вот кто! — воскликнул кузнец. — То-то, я гляжу, и удары у тебя снайперовские. И шинелька, и вообще… Где науку прошел? На заводе или в армии?
— И в армии, и на заводе. — Слободкин, переставив слова, ударение сделал, конечно, на первом.
Кузнец понимающе кивнул.
Когда стали прощаться, пожимая широкую, горячую от работы ладонь кузнеца, Сергей спросил:
— Ну, так как же насчет танков? На тебя смотрит вся Ярославщина.
— Почему на меня? Я человек маленький, — ответил кузнец.
— Нам нужно, чтобы кто-нибудь сказал первое слово. Самое первое, понял?
— А чего зря говорить-то? — пожав плечами, как бы невзначай бросил кузнец. — Раз надо, значит, надо. Вкалывал по десять часов, буду по двенадцать. Подойдет?
— Толково! — сказал Слободкин. — Плюс еще наш чугун — твой и мой. Так и скажу и в обкоме, и в ЦК. Договорились?
— Так и скажи, — согласился кузнец, а сам принялся раздувать мехом угли, которые и так горели теперь достаточно ярко и споро. Он ловко выхватил из огня новый раскаленный кусок металла и обрушил на него серию таких частых ударов, словно намерен был наверстать те полчаса, в течение которых он, что ни говори, все-таки сбился с привычного темпа.
Возвращаясь из Синявина, Сергей чуть не всю дорогу думал о кузнеце Василии — расспрашивал о нем обкомовца. Оказалось, что солдат, потеряв ноги на фронте, сперва никак не хотел ехать в родную деревню — боялся стать обузой для людей (сиротой он вырос). Колхозники сыскали его в доме инвалидов, привезли в Синявино, окружили заботой.
— Остальное вы видели, — сказал обкомовец. — Впрочем, нет, не все. Если б было время, вам бы хорошо на курсах еще побывать!
— На каких курсах?! — удивился Сергей.
— На его, кузнеца Василия. Он весь день у огня в своем кресле сидит, а вечером его везут в райцентр — он там кузнечное дело преподает, кадры готовит. Жаль вот, мужиков в районе мало осталось.
— Кому же преподает? — спросил Слободкин.
— А вот им и таким, как они, — обкомовец показал Сергею куда-то вдаль.
Вглядевшись, Слободкин увидел: им навстречу по проселку шел трактор. Трактор как трактор, ничего на первый взгляд удивительного. Только когда они поравнялись и снизили скорость, чтобы разминуться, Сергей понял, что имел в виду попутчик: за рулем «Харьковчанина» было два человека. Каждому на вид лет по четырнадцать-пятнадцать, не больше. Один сидел на положенном для тракториста месте, другой примостился у него за спиной и тоже положил руку на баранку.
— Так вот и пашут в четыре руки, — сказал обкомовец, перехватив взгляд Сергея, — одному не под силу такую махину ворочать. Остановимся?
— Конечно! — воскликнул Слободкин и первый выпрыгнул из машины.
Спешились и трактористы. Поздоровались. Ребята пожали протянутую Сергеем руку по-взрослому, с чувством собственного достоинства, а когда узнали, что он из «центра», и совсем посерьезнели. На все вопросы Слободкина отвечали деловито и кратко.
— Давно за рулем? — спросил Сергей.
— Уже два месяца, — последовал ответ.
— Как дела идут? Как пашется? Трактор не барахлит?
— Порядок!
— В комсомоле состоим?
— С осени.
Слободкин достал кисет с махоркой. Узнав, что кисет фронтовой да еще дареный, ребята поглядели на Сергея с завистью и закурили с удовольствием, хотя после первой же затяжки оба удушливо, до слез, закашлялись, выдав тем самым свою полную непричастность к племени курильщиков.
Чтобы хоть как-то скрыть смущение, ребята засуетились, снова заняли свои места на тракторе и только тут обнаружили, что двигатель заглох.
— Что будем делать? — спросил Слободкин, который в парашютной роте освоил несметное количество всякой «техники».
— Починять, — ответили трактористы и спрыгнули на землю.
Одна за другой упали в придорожную грязь две недокуренные цигарки.
Обкомовец нагнулся к самому уху Сергея и сказал:
— Самое главное — не мешать им сейчас. Поверьте моему слову. Поехали!
Слободкин, хоть и был здесь старшим, подчинился. «Газик» тронулся. Через несколько минут, обернувшись, Сергей увидел синий дымок над трактором.
— Починили! — воскликнул Слободкин. — Вот это публика!
— Спрашиваете! Я вам что говорил?
— Да ведь мальчишки совсем! А трактор штука капризная, сложная.
— Расскажите в Москве про них, — сказал обкомовец. — И помогите им, если можно, — добавил, подумав.
— Помочь? — удивился Слободкин. — Чем же?
— Вам с горы видней. Литературу пусть подошлют, что ли, руководства какие-нибудь.
— А разве не присылают?
— Присылают! — Парень ухмыльнулся. — Я бы за такую «литературу» кое-кому… К посевной из центра плакаты пришли. Знаете, что в них сказано? «Навозная жижа — ценное удобрение»! Сильны? И рисунки соответствующие. В красках!
Сергей возмутился:
— Кто такие плакаты выпустил?
— Не знаю. Будем в обкоме, я вам покажу. Смех! Они думают, в деревне лопухи сидят, не знают, что Волга впадает в Каспийское море. А вот о молодых механизаторах, например, заботы никакой. Это я уже наш главный комсомольский штаб критикую, чувствуете?
— Смекаю, — ответил Сергей, почему-то покраснел и вынул из кармана блокнот.
Обкомовец, который поначалу стеснялся, стал сыпать претензии «области» одну за другой.
— С механизаторами ясно? — спрашивал он Слободкина. И не дожидаясь ответа: — Запишите об инструкции по сборке лекарственных трав. И о мелкокалиберных винтовках не забудьте — обещали сто раз! Снайперов с нас спрашиваете, а стрелять из чего? Из «навозной жижи»? Соревноваться нам посоветовали по реставрации запасных частей? Прекрасно! Соревнуемся. Привели в полный боевой уже много «звездочек», шестеренок, цепей Галля. Но рук не хватает, а главное — умения, знаний и инструмента. Специалисты вами обещаны? Обещаны. Ждем их, учтите. Трудно без них. Хоть «караул» кричи. У нас в области колхозов знаете сколько? И в каждом свои нужды.
— А вы деревню Сухортово знаете? — неожиданно перебил обкомовца Слободкин.
— Сухортовку? Первый раз слышу.
— Не Сухортовка, а Сухортово, — поправил обкомовца все это время молчавший шофер, человек пожилой и мрачный. — Су-хор-то-во! Была такая в Пустошинском районе.
— Что значит была? Я сам жил там когда-то! — воскликнул Сергей.
— Когда? — спросил шофер.
— Давно… Лет пятнадцать назад.
— То-то и оно! Сгорела. Немец спалил дотла. До последнего дома…
Всю обратную дорогу в Москву Слободкин не мог сомкнуть глаз — все ему казалось, где-то за окном вот-вот мелькнет, хоть на самом горизонте, крохотная кособокая церковка маленькой русской деревни на берегу Волги. Не хотел он верить в то, что Сухортова нет больше на свете.
Не мог он долго уснуть и в ночь после возвращения из первой в своей жизни командировки. Добравшись с вокзала до общежития, уставший до чертиков, сразу лег. Кругом при включенном свете уже похрапывали в разных углах ребята, пришедшие с работы. Сергей полежал несколько минут не двигаясь, потом просунул руку под подушку, чтобы принять позу поудобнее, нащупал там ученическую тетрадку, которую в числе других немногих вещей принес сюда из дома. Повертел тетрадку в руках, попытался вспомнить, от какого класса могла остаться — не начатая, с чуть вылинявшей голубой обложкой. Не вспомнив, отложил, потом снова принялся разглядывать с такой пристальностью, словно хотел рассмотреть что-то невидимое простым глазом.
Сергей провел рукой по бумаге. Глянцевая, упругая, она от прикосновения пальцев чуть скрипнула в тишине, словно под остро отточенным грифелем. Запустив пятерню в ящик стоявшей рядом тумбочки, Слободкин извлек оттуда огрызок карандаша и скорее машинально, чем сознательно, вывел на первой страничке тетради неровными печатными буквами: «Дневник». Потом зачеркнул, но через несколько минут написал снова. Чуть ниже поставил дату: «13 мая 1943 года».
Карандаш побежал по бумаге…
«С того дня, как умерла мама, стало совсем одиноко мне на земле. Была от Зимовца протянута тонкая ниточка. Оборвалась. И свяжется ли теперь? Новые друзья? Со многими хорошими людьми повстречался в последнее время. Ломидзе, Лена, Вера Куцыбо, вообще вся „девчачья держава“… С такими не только Москву — всю планету можно пешком обойти. А Силуянов — летописец Великой Отечественной? А Валя Борц, одна из самых беззаветных ее героинь? А Фадеев, знаменитый писатель, потрясенный рассказом Вали о своих боевых товарищах — Кошевом, Тюленине, Шевцовой? А коллега по дебюту в прессе — Писарев? А ребята с „Мотора“? А Василий, безногий кузнец? А Савушкин? Если разобраться, парень на все сто. Неопытный просто».
Тут Слободкин поставил было точку, перечитал и понял, что остановиться не может. Глаза слипались от усталости, но буква вставала за буквой, строка — за строкой.
«Как же это в самом деле здорово, когда вокруг тебя такие люди! Громких слов не люблю, ненавижу их, а где взять негромкие, тихие, чтоб точно выразили мысль?»
Слободкин писал весь остаток ночи. За окном общежития, за светомаскировочной шторой было уже давно не 13-е, а 14-е мая, и тетрадь подошла к последней страничке. Вот уже обложка и — «Взвейтесь кострами, синие ночи…»
Больше ни писать, ни думать не было сил. Перечитал написанное, оглянулся по сторонам — не «усек» ли кто-нибудь его ночного бумагомаранья. К счастью, в комнате уже никого не было. Только за стеной, в умывальнике, послышался чей-то приглушенный, но бойкий смех, потом по коридору быстро просеменили чьи-то босые и, судя по всему, мокрые ноги, и все стихло.
Сергей поднялся, выволок из-под кровати свой чемоданчик, упрятал в него тетрадку. Пора было идти на работу.
Глава 10
В отделе Сергея поджидал Ломидзе. Вид у него был утомленный, щеки ввалились, глаза глубоко запали, но чувство юмора не изменило южанину. Едва успев поздороваться со Слободкиным, он сказал:
— Давайте проведем совещание отдела рабочей молодежи.
— Давайте, — покорно ответил Сергей. — А много нас сегодня в отделе?
— Если Ксюшу считать, целых трое.
— Ее обязательно надо считать, — сказал Слободкин. — Пока вас не было, она моим главным начальством была. Она да еще Лена Лаптева.
— Зовите, — решительно сказал Ломидзе.
Когда все трое сели возле стола, началось действительно что-то вроде совещания.
Ломидзе положил перед собой лист бумаги, посмотрел внимательно сперва на Ксюшу, потом на Слободкина, спросил:
— Кто первый? Ты, Ксюша?
Девочка смутилась, но ответила, что целую неделю была в подсобном хозяйстве, сажала картошку.
— Не рано? — удивился Ломидзе.
— Не рано, — за Ксюшу ответил Сергей. — Учитывая военное время, самая подходящая пора.
Ломидзе улыбнулся.
— Теперь я вижу, товарищ Слободкин, что вы не только рабочий, но и крестьянин. Вы были на Ярославщине?
— Объехал ее чуть не вдоль и поперек, — ответил Сергей.
— Какие вопросы привезли? Что надо здесь решать, в ЦК?
— Специалисты и инструменты нужны на селе. Слесаря, механики. Технику реставрируют, соревнуются села друг с другом в ремонте, а ведь голыми руками все делают. Ни тисков, ни ножовок, ни сверл, ни самых обыкновенных напильников.
— Подождите, не так быстро, — остановил Сергея Ломидзе. — Запишем все по порядку. Ножовки, дрели, сверла, напильники. Что еще?
— Тиски, я с тисков начал. Без них ни одного слесарного дела не сделаешь.
— Записал и тиски. Сегодня же вынесем на бюро. Это вопрос наиважнейший. Надо все наши заводы поднять, организовать сбор инструмента. Как с танками? Рассказывали там про нашу колонну?
— В каждом селе Ярославской области комсомольцы будут работать сверх положенного по два часа каждый день. До полного разгрома врага. Инициатор — бывший фронтовик, теперь колхозный кузнец Василий из деревни Синявино.
— Прекрасно! — все больше оживлялся Ломидзе. — Как фамилия вашего кузнеца? О нем надо всем рассказать, всей стране.
— Фамилию я не спросил, — виновато пожал плечами Слободкин. — Не подумал, что пригодится.
— А как же! Пригодится, обязательно пригодится! — воскликнул Ломидзе. — Ксюша, вам поручение: звонок в Ярославль по поводу кузнеца. Срочно, Ксюшенька, ладно?
— Прямо сейчас? — девочка встала из-за стола.
— Прямо сейчас. Мы тут досовещаемся вдвоем. И свяжите меня с остальными инструкторами. С Кожуховым — он в Куйбышеве. И с Иванько — он где-то на Урале.
— В Нижнем Тагиле, — уточнила Ксюша. — Оба звонят каждый день, просят продлить командировку. Продлить?
— Как, товарищ Слободкин? — Ломидзе поглядел на Сергея. — Продлим? Обойдемся еще деньков несколько? Это они там насчет ваших танков теперь шуруют. Подняли вы с Писаревым шум на всю Россию!
— Давайте продлим, — скорее машинально, нежели сознательно согласился с Ломидзе Слободкин.
Что ни говори, а поездка на Ярославщину вымотала его как следует, и он вдруг почувствовал, что силы его на последнем пределе. В самый ответственный момент разговора он даже клюнул носом и зам зав вынужден был спешно закруглить «совещание».
— О своих делах я вам тоже кое-что должен рассказать, Слободкин, но не сегодня. — Ломидзе встал, протянул Сергею руку. — Идите, сделайте только то, что нельзя отложить до завтра — и в общежитие!
Сергей послушно, в предчувствии скорого отдыха, направился к себе. Дверь в отдел пионеров была закрыта, и он впервые обрадовался этому. Он думал сейчас только об одном — о том, как через час или самое большее через два рухнет в постель, но уже по-настоящему, не так, как накануне, без всяких дневников, и сразу же, мгновенно, провалится в сон, как в люк самолета.
Закрывая на замок ящики своего стола, Сергей мечтал только об этом. «Вот отвечу на последний звонок, и все. Какой только последним считать? И чего они раззвонились опять? Как во время дежурства!..»
— Кто, кто говорит? Товарищ Стрепетов? Почему я на работе сразу после командировки? Как почему? — ответил Сергей вопросом на вопрос и смутился. — Собираюсь домой, меня ваш заместитель отпустил. А вы разве уже тоже вернулись?
— Только что, — услышал Сергей в трубке. — Как хорошо, что вы на месте, Слободкин! — радостно воскликнул Стрепетов. — Зайдите, пожалуйста. И побыстрее, ладно?
«Вот и пойми что-нибудь у этого начальства! То почему вы на работе до сих пор, то слава богу, что застал вас на месте!»
Так думал Слободкин, но через минуту уже был в кабинете Стрепетова.
Вид у заведующего был тоже уставший, но руку Сергею он пожал крепко, до хруста.
— Ну вот… Отдыхать собрались? В общежитие?
Сергей кивнул, пытаясь догадаться, к чему клонится дело.
— Давно бы вам уйти, — извиняющимся тоном продолжал Стрепетов. — Уже, глядишь, выспались бы на дорогу. А то вот с марша в бой придется. Так в армии говорят?
— С марша в бой, — подтвердил Слободкин и, помолчав, покорно спросил: — Куда теперь?
— Обещанного обычно три года ждут. Вам не пришлось ждать и трех месяцев. В спецгруппу вас назначили, Слободкин, как опытного парашютиста. Радиодело не забыли? Морзянку? Оружие?
— Что вы, товарищ Стрепетов! — Сергей от волнения даже вытянул руки по швам и весь подался вперед. — Да вы ночью меня спросите…
— Ну и отлично. Тогда можете считать, что в свой любимый десант вы вернулись. Правда, в малый.
Стрепетов подошел к карте, разложенной на столе, внимательно поглядев на нее, сказал:
— Вас будет четверо. Так что по-суворовски придется — не числом, а умением. Неожиданно немного получилось, да?
— Почему неожиданно?! — воскликнул Сергей. — Я с самого первого дня надеялся, что обещание выполните — пошлете на фронт.
Слободкин все еще стоял, как по команде «смирно», хотя Стрепетов уже сел за стол и показал Сергею глазами на стул рядом с собой.
— А для нас отчасти неожиданно, — сознался заведующий, — врать не буду. В этот раз не вы должны были лететь, другой, но в самую последнюю минуту человек заболел. Суток на сборы вам хватит?
Не умея скрыть своей радости, Сергей выпалил:
— Мне часа хватит, товарищ Стрепетов!
— Ну, тогда собирайтесь. Спасибо вам за работу, Слободкин, или опять же, как в армии говорят, за службу. Не долго вы у нас пробыли, но, по-моему, в общем-то с толком. Вы как считаете?
— Не знаю…
— Я знаю, Слободкин. Хоть я лично с вами маловато виделся, но в ЦК о вас хорошо говорят.
— Кто? — удивился Сергей.
— Ну вот, кто, кто! Не все ли равно? Люди. Гаврусев в том числе, а он в кадрах кое-что понимает, уверяю вас, на то он тут и самый главный «кадр». К нему сейчас и идите. Гаврусев принимал вас, Гаврусев… — Стрепетов искал, но не мог подобрать нужного слова. Так и не найдя его, он молча положил руку на плечо Сергея.
— Прямо сейчас? — спросил Слободкин и, не дожидаясь ответа, убежденно сказал: — Гаврусев хороший человек, я сразу это понял!
— Ну вот, видите, товарищ Слободкин, и вы кое о ком из нас неплохого мнения.
— Что вы, товарищ Стрепетов! Да я тут целую школу прошел! Центральную комсомольскую!
— Центральная комсомольская у нас в Вешняках, — улыбнулся Стрепетов. — Академия наша!
— Я там должен был скоро чуть ли не доклад делать, — засмеялся Сергей. — Об опыте организации соревнования на заводах.
— Ну я ж говорю — академия, а вы — академик! Подумайте кстати, кем бы можно было вас там заменить. Впрочем, отставить! Больше ни минуты не имею права у вас отнимать. Ступайте в кадры и не думайте больше ни о чем.
Гаврусев уже ждал Слободкина и с беспокойством поглядывал на часы. Тем не менее, когда Сергей вошел, он прежде всего усадил его рядом с собой, в то самое кресло, в котором Слободкин уже сидел в первый день своего приезда в Москву.
— Ну вот, товарищ Слободкин, а вы сердились! Помните? «Фронтовика просили? Обстрелянного? За каким шутом вам фронтовик потребовался? В четырех стенах отсиживаться?» Помните или нет?
— Помню…
— То-то! Я же вам говорил, все образуется. Вот ведь как быстро времечко пролетело! Ну, а теперь к делу. Стрепетов уже сообщил вам — в группу вашу входит четыре человека. Люди все опытные, имеют по нескольку боевых прыжков и не раз бывали в тылу. Задание одновременно сложное и простое. Вам надо попасть сперва вот сюда, а потом сюда, смотрите, — Гаврусев указал карандашом две точки на лежавшей возле него карте, — тут немцы пытаются блокировать и разгромить партизанские отряды, у которых на исходе боеприпасы — раз, медикаменты — два и вышла из строя радиоаппаратура — три. Словом, навьючим на вас — будь здоров! Но главное даже не в этом — вы окажете там измотанным и больным людям моральную поддержку. Вот, собственно, и все. Много это или мало? Легко или трудно? Сами взвесьте.
— Вы правильно сказали. И просто, и сложно. Но я готов сделать все, что могу, что нужно.
— Мы так и думали, — ответил Гаврусев, — а чтоб не поминали нас недобрым словом, меня в частности, возьмите вот это. На память.
Гаврусев достал из ящика стола сложенный перочинный нож в красивой перламутровой оправе и, подбросив его на ладони, озорно размахнувшись, припечатал свою пятерню вместе с ножом к пятерне Слободкина.
— Монограмму заказать не успели, извините, но ножичек неплохой. В случае чего любую лямку — как бритвой.
— Спасибо. Большое спасибо, товарищ Гаврусев!
Слободкин стоял перед кадровиком, счастливый, взволнованный, не знающий, как и чем благодарить его и других, всех, кто помог осуществлению мечты.
— Если все ясно, тогда собирайтесь, — сказал Гаврусев и еще раз остановил внимательный взгляд на Сергее.
— Мне все ясно, товарищ Гаврусев. Вопросов больше нет, кроме одного — инструктаж будет?
— Вопрос задан правильно, — улыбнулся Гаврусев, — профессионально. Будет инструктаж. Штурман, которому поручено навести вас на «цель» и сбросить, все объяснит в самолете. Он свой человек, да и место десантирования знает отлично. А лететь вам с ним, ни много ни мало, четыре часика с гаком. На любимом вашем «ТБ-7». Вы довольны?
— Объезженный конь! — удовлетворенно ответил Слободкин. — Надежный, хотя скорость у него, вы правы, невысока.
— Словом, инструктажем этим сыты вот как будете! Ну и познакомитесь, конечно, друг с другом как следует, даже надоесть один другому успеете. Но вам сказали уже — ребята все как на подбор. Один другого лучше. Ну, кажется, все, товарищ парашютист. Нет, не все еще, прошу прощенья. Экипировка в управлении делами, у Воронцова. К нему вы, пожалуйста, поторопитесь, — Гаврусев еще раз поглядел на часы, — напарники ваши уже все, что положено, получили. Мы отстаем с вами. И отдохнуть еще не забудьте, без отдыха я вас не выпущу, так и знайте. Врачи, как водится, проверять будут.
Об отдыхе и речи, конечно, быть не могло. Гаврусев, наверное, и сам понимал это прекрасно. Какой мог быть отдых, когда маленькая стрелка на часах Слободкина побежала вдруг быстрее большой! Но Сергей нисколько не жалел об этом. «А те, с кем не успею проститься, не осудят, поймут. И, может быть, даже хорошо, что не успею. У девчонок глаза на мокром месте, известно давно. Да и у нашего брата не всегда на сухом, это тоже секрет не великий. Как ни говори, а сдружился тут кое с кем. Кое-кого оставлять, как ни крути, жалко».
Весь остаток дня, куда бы Сергей ни шел, ни бежал, ни спешил, — повсюду рядом с ним возникал Гаврусев. Все уладить помогал, «утрясти», «увязать». И к врачам сопровождать почему-то вызвался. Правда, в кабинет с ним не пошел, не положено будто бы. Здесь, сказал, буду вас дожидаться, в коридоре.
— Еще одно комсомольское вам поручение, Слободкин: дышите как можно ровнее, а то вся группа рассыплется. Вы меня хорошо поняли?
— Отлично понял! — воскликнул Сергей.
Подставляя ребра «медицине», делая глубокие вдохи и выдохи, приседая на корточки, Сергей на все вопросы отвечал, как по писаному:
— Не болит. Не колет. Не чувствую…
Врачи настороженно переглянулись. Один из них, старенький, седенький, с обвисшими усиками, погрозив Сергею скрюченным пальцем, спросил:
— Какую комиссию проходите, молодой человек?
— Медицинскую, — все так же бодро ответил Слободкин.
— Шутить изволите. — Старик сердито постучал стеклянной палочкой по крышке стола, за которым сидел на самом главном месте. — А я серьезно спрашиваю — пятую или десятую?
— Не помню… — сознался Сергей. — Но здоров я, здоров, честное слово!
— Вы все поете одну песню. Послушаешь — здоровее вас нет людей на планете. А чугун этот взялся откуда? — Врач поглядел на свет рентгеновский снимок, извлеченный из лежавшей перед ним папки.
— Осколочек это, доктор, — дрогнувшим голосом ответил Слободкин. — Не болит совершенно, честное слово, никогда не болит, ни при какой погоде…
— Врете, — спокойно и безжалостно прервал эту тираду врач. — «Осколочек»! Вон вы как нежно его величаете! Как родного брата. Как будем решать, товарищи? — врач поглядел на других членов комиссии.
— А я верю ему, — подала вдруг голос пожилая женщина, которой Слободкин боялся больше, чем самого председателя. — Осколок лежит в самом деле хорошо, посмотрите.
Старичок ухмыльнулся в усы. Еще раз поднес снимок к самым глазам, поглядел на него минуту-другую и сердито махнул рукой.
Дожидавшийся за дверью Гаврусев по одному виду Слободкина понял, что все в порядке, и не стал тратить времени на лишние расспросы. Тем более что и на его часах стрелки бежали все быстрей и быстрей.
Уже сидя вечером в машине, мчавшейся к аэродрому, Гаврусев похвалил Сергея за то, что тот «дышал ровно» и не подвел.
— Какие еще комсомольские поручения будут? — спросил Слободкин.
— Постараться быть целым и невредимым, — ответил кадровик.
Машина шла на большой скорости, Сергей пробовал рассмотреть мелькавшие за окном картины — и не мог этого сделать — там все менялось с такой калейдоскопичностью и было уже так размыто темнотой, что понять, куда именно они едут, было невозможно. Что это? Москва? Ее предместья? А может быть, уже загород? Подмосковье? Дома или дубы-великаны обступили с двух сторон шоссе? Может, это та самая и есть Варшавка, которая тянется к столице из глубины белорусских лесов? Варшавка, на которой пролита первая кровь — его и товарищей?
Прошлое и настоящее вдруг связалось в сознании Слободкина в единое, неделимое целое. Это ощущение было таким острым, таким реальным, что на какое-то мгновение окно машины показалось Сергею люком самолета. Он жадно прильнул к холодному полуоткрытому стеклу.
Заметивший это Гаврусев забеспокоился:
— Не продуло бы вас. Давайте закроем.
— Не продует, что вы! Привычное дело, — успокоил его Слободкин.
Но Гаврусев все-таки настоял на своем. Остальную часть пути, до самого аэродрома, где их ждали уехавшие раньше другие члены группы, Гаврусев молчал, видимо озабоченный чем-то своим, не дававшим ему покоя. Только под самый конец, когда машина пошла чуть тише, он спросил Слободкина:
— Жалко Москву оставлять? Признайтесь?
— Жалко, что не успел проститься с ребятами, — ответил Слободкин.
— И с девчатами? — уточнил Гаврусев.
— И с девчатами, — сознался Сергей.
— Это я все виноват, меня ругайте.
— Ругать зачем же? А привет с вами послал бы. Лене Лаптевой и другим.
— Передам, обязательно, сегодня же, Слободкин. Еще чего не успели? Вспоминайте.
— Все, — ответил Сергей, а сам стал напряженно думать о том, чего действительно еще не успел в спешке. Но как ни старался, больше ничего вспомнить не мог.
Тем более не сумел он этого сделать и в самые последние минуты, когда машина остановилась возле какого-то темного здания и их обступили со всех сторон незнакомые люди. Вернее, незнакомы они были только Слободкину, Гаврусев же и в темноте узнавал каждого из них запросто и каждому задавал все один и тот же вопрос: «Не забыли ли чего-нибудь? Вспоминайте, братцы, есть еще время…»
— Откуда оно у вас, товарищ Гаврусев? Кончилось, все, ни минуты больше, — решительно остановил его вдруг какой-то человек. — Прощайтесь, и, пожалуйста, здесь, на поле я вас больше не пущу. В прошлый раз у меня из-за вас неприятности были.
Гаврусев молча отыскал в темноте руку Сергея, пожал ее. Кого-то обнял, кому-то дал дружеского тумака, да так, что во все стороны разлетелись искры спешно докуриваемой папиросы.
Черная, беззвездная ночь пахла травой и бензином. Холодный ветер мая доносил до Сергея и его спутников, шагавших гуськом по летному полю, далекое погромыхивание моторов и еще какие-то неясные, смутные звуки.
Шли долго, не разговаривая. Только приглушенно покашливал сопровождающий, как бы давая этим понять, что все нормально, с дороги не сбились. Покашливали ему в ответ остальные. Чаще других, пожалуй, Слободкин. То ли оттого, что курил напоследок слишком много, то ли еще по какой причине, но в горле у него клокотало, и он, ругая себя за это и стараясь как-нибудь сбить кашель, беззвучно шептал: «Все в полном порядке, начальник, шагаем след в след. А накурился я действительно до чертиков. Но причина есть у меня. Несколько часов дали на сборы. Думал, хватит вот так! Самого главного не успел. С друзьями проститься. С „девчачьей державой“. Не слышал про такую? Много потерял, товарищ начальник! Одна Лена Лаптева чего стоит! А Вера Куцыбо? Да все. Мало виделся с ними, мало по Москве колесил, но много вот тут осталось…»
Слободкин дотронулся до груди — из нее опять вырвался сухой, сдавленный звук. Сопровождающий пробасил:
— Отставить!
— Есть отставить, — ответил Слободкин, а про себя продолжал: «Здоров я, здоров. Просто накурился. А ты, начальник, все же дослушай меня до конца. С друзьями я не простился. Маму в Москве потерял. Понимаешь, маму. Не нашел до сих пор другого родного человечка — Ину, единственную. Но теперь, может, на фронте найду. Не смейся, начальник, я и там ее искать не перестану. Искать и надеяться. Видишь, что оставляю в Москве? Здесь же, в Москве, встретил одного человека. Седого, старого. Знаешь, что он сказал? „Столько, сколько вам сейчас, мне было в годы гражданской. Самый главный урок, который я вынес из жизни, вот какой: все, в конечном счете, зависит от того, с кем ты, среди кого ты и ради кого“. Здорово, а? С кем ты, среди кого ты и ради кого. Толково и мудро…»
— Ты чего там? — наступая на пятки Слободкину, не выдержал его бормотанья шагавший следом парень. — Взял бы да помог лучше, хотя на тебя самого, конечно, навьючено, как на ишака.
— Давай помогу. Я привычный человек, — сказал Сергей. — Из десанта.
— Я тоже не из артели напрасный труд, — незло проворчал парень.
— Откуда же все-таки?
— С «Серпа». Сталеварил там. Закончил кружок парашютного спорта.
— Ну вот и познакомились. Тебя как зовут?
— «Ни кола ни двора» в детдоме звали. Николаем, короче. А тебя?
— А меня Слободой — в роте. Ну, давай, давай, чего у тебя там?
— Рация.
— Так у меня ж плечо под нее специально выточено. Ну-ка!
Они остановились. Слободкин привычным жестком перекинул ремень «РБ» через острый угол своего плеча, и они прибавили шагу, чтобы догнать группу, успевшую уйти вперед, навстречу уже прогреваемым моторам, которые громыхали во тьме все громче и ритмичнее, словно отсчитывали минуты, оставшиеся до старта: десять, девять, восемь, семь, шесть, пять…
РАССКАЗЫ
1
Рыжий Лёнтя
Сиротская судьба привела Лёнтю под крышу детского дома. Нелегко и здесь приходилось мальчишке. Черный сухарь, жидкая похлебка к обеду. И еще работа — дежурство, уборка, слесарное дело. Но все-таки детдом не асфальтовый котел, думал Лёнтя, жить можно.
Особенно повеселел бывший беспризорник в тот день, когда директор сказал за обедом:
— Крупу нам прислали. Целый мешок. От Ленина.
Директор не просто сказал — притащил мешок из кладовки, торжественно развязал его на глазах у ребят.
Все население дома столпилось вокруг мешка. Каждый норовил поглубже запустить руку в его содержимое, но ни одна крупинка на пол не упала.
Лёнтя смотрел на крупу, медленно стекавшую сквозь растопыренные пальцы директора, и никак не мог понять: откуда взялась она в голодной Москве?
А на другой день произошло еще одно чудо. Завхоз, снаряжая ребят в баню, выдал каждому по куску настоящего мыла.
Отмокая в теплой банной воде, пахнувшей березовым листом, зарываясь в нее с головой, Лёнтя сказал мывшемуся рядом мальчишке:
— Может, Ленин и насчет белья распоряжение даст? Вот будет здорово!
— Здорово, здорово! — передразнил его сосед и озорно плеснул Лёнте мыльной пеной в глаза. — Не болтай, отмывай свои конопушки.
Каково же было удивление ребят, когда в предбаннике они увидели завхоза с охапкой чистых, ослепительно белых рубах!
— Получайте, граждане, новое обмундирование. Солдатское. По личному распоряжению товарища Ленина.
Лёнтя обрадовался больше всех. Он хоть и не мог толком понять, почему не сам Ленин, а какой-то его «товарищ» позаботился о белье, но сейчас было не до рассуждений. Завхоз объявил, что время, отпущенное детдому, кончилось и через три минуты все должны быть на улице.
Рубахи оказались ребятам не по размеру, особенно Лёнте, но, шагая, съежившись, по морозу, стараясь подольше сохранить банное тепло, Лёнтя улыбался и думал о счастье, хотя и не знал еще, каким оно бывает. «Может, счастье — это когда человеку не холодно? И не только после бани, а каждый день?» С этой мыслью он добрался до детского дома, она согревала его потом еще долго, весь вечер, всю ночь, и только утром, когда пришла пора вылезать из-под одеяла, сказал:
— Сейчас бы в баню…
Шутка была грустной, но на нее отозвалось сразу несколько голосов:
— Ай да новенький! Рыжий, а соображает!
Лёнтя не ответил, хотел обидеться, но не успел — в комнату вошел директор, построил наскоро одевшихся ребят и объявил, что в детдом собираются шефы. Слово «шефы» было мало понятно, а точнее — совсем не понятно Лёнте, он даже поднял руку, чтобы спросить директора, что такое шефы, но кто-то вовремя дернул его за рукав и шепнул:
— Шефы — это дрова!
За спиной Лёнти раздался смех, но вечером вместе с другими мальчишками он рисовал плакат: «Добро пожаловать, дорогие шефы!»
Шефы, человек десять — двенадцать рабочих соседнего завода, пришли в субботу, когда ребята, сидя за столом, погромыхивали пустыми мисками — дрова были сырые, осиновые, ужин, как всегда, запаздывал.
Пожилая женщина в самодельных тряпичных валенках первой приблизилась к ребятам.
Лёнтя не помнил своей матери, но ему сейчас почему-то подумалось, что она была такой же, как эта женщина, — улыбающейся, немного сгорбленной, чуть-чуть седой. И руки у нее, наверное, были такие же — грубоватые, смуглые.
Женщина помолчала, поглядела в пустые миски и сказала:
— Так вот что, ребята. С этого дня у каждого из вас семья будет. Понятно?
— Нет, непонятно… — ответил ей Лёнтя, как будто вопрос был обращен к нему одному.
— А чего же тут неясного? Разберем сейчас всех по домам. Будет вам все-таки немного получше.
— Это что же, насовсем берете или как? — подал голос кто-то из самого дальнего угла.
— Ну, пока на воскресенье, а там видно будет. Согласны?
Директор стоял за спинами пришедших рабочих и подавал какие-то знаки ребятам, но они смотрели только на эту женщину, не зная, что говорить.
— Ну, так как же? — повторила она свой вопрос.
— Молчание — знак согласия! — за всех ответил директор.
Кто-то облегченно вздохнул:
— Правильно.
— Ну вот, видите, как хорошо! — Женщина в тряпичных валенках обернулась к директору: — А вы к понедельнику тут истопите немного. Сухие дрова будут сегодня же — наш литейный цех специально на субботник ушел.
— Истоплю, — ответил директор и повел шефов дальше — на кухню, в спальню, в мастерскую.
Шефы осмотрели все комнаты, обследовали все уголки детдома, записали что-то и ушли. Каждый увел с собой двух-трех ребят.
В доме стало вдруг непривычно пусто и как-то особенно холодно.
Когда директор, проводив всех, вернулся в дом, он не сразу заметил, что в спальне, в самом темном ее углу, насупившись, сидел рыжий Лёнтя.
— А ты что же? Где же ты был?! — воскликнул директор.
— А я никуда не пойду, — равнодушно ответил тот.
— Это почему еще? Что это за фокусы?
— Не фокусы. Мне и тут хорошо. Дежурный я, завтра буду с вами печку топить.
— Дежурный? — удивился директор. — Впрочем, это тоже неплохо. Мне одному тут не управиться.
Поздно ночью директор и Лёнтя разгружали с саней, кололи и складывали в сенцах присланные литейщиками дрова. Спать легли только под утро.
И приснился мальчишке в ту ночь, вернее, в остаток той ночи, удивительный сон.
…Только было пригрелся Лёнтя под тремя одеялами, взятыми с пустых коек, в наружную дверь постучали. «Неужели, — подумал, — наши так быстро от шефов воротились?» Отбросил одеяла, босиком побежал отворять. Снял ржавый крюк с петли и вздрогнул. На пороге прямо перед ним стоял Ленин — точно такой, каким Лёнтя давно его себе представлял: высокий, в военной шинели и сапогах. Вошел, поздоровался и спрашивает:
— А ты кто тут такой?
— Я Лёнтя. Наши все к шефам уехали.
— К шефам? А ты что же?
— Я дежурный.
— Дежурный? Ну-ка, показывай мне свои владения.
Лёнтя повел Ленина по комнатам.
— Вот мастерская. Вот столовая. Вот спальня, — видите, наш директор как крепко спит? Не будите его, устал он очень. Всю ночь со мной шефские дрова колол.
Ленин подул в кулаки, поежился.
— А у тебя здесь не жарко! Где же твои дрова?
— Мы хотели топить поближе к приходу наших, чтобы не выстудило, но могу и сейчас.
— Топи, конечно! Я-то человек привычный, а ты тут и сам промерзнешь насквозь, и всех остальных заморозишь.
Лёнтя приволок охапку поленьев, растопил печурку, поставил скамейку перед железной дверцей.
Ленин сел рядом с Лёнтей.
— Как, говоришь, тебя зовут-то?
Лёнтя ответил не сразу. Помолчал, поежился.
— Рыжим меня ребята зовут. Но по-правдашнему я Лёнтя. Так даже у директора в книжке записано, можете посмотреть.
— Верю и без книжки. А почему же все-таки, Лёнтя, шефы тебя с собой не взяли?
— Вам честно сказать?
— Ну, разумеется, только честно.
— Да оттого, что рыжий, вот и не взяли! Это я точно знаю…
Ленин рассмеялся. Но не каким-нибудь там обидным смехом, а так, легонечко, одними глазами.
— Что не взяли, это действительно, Лёнтя, очень досадно, а что рыжий, так это же сущие пустяки!
Ленин посидел несколько минут молча, потом задумчиво провел рукой по своим вискам и сказал:
— А теперь, Лёнтя, едем ко мне, чаю попьем. Хочешь?
— Чаю?.. А сахар? У вас есть?
— Сахар? Думаю, что немного найдется.
— Тогда едемте! Я не помню, когда с сахаром пил…
— Одевайся скорее! А ребятам я непременно скажу, чтобы рыжим тебя больше не звали — только Лёнтей. Согласен?
— Ага!..
Плохие сны снятся всегда до конца, даже с продолжением. Хорошие всегда обрываются на самом важном и интересном месте. Вот и этот оборвался не ко времени.
Лёнтя раз десять отчаянно пробовал поплотнее укутаться одеялами, перекладывая с места на место шуршавшую соломой подушку, но сон больше не приходил.
А тут еще половицы скрип-скрип, скрип-скрип…
Открывает Лёнтя глаза — перед ним директор стоит. Веселый, улыбающийся.
— Вставай, дежурный, — скоро наши явятся, пора печку топить! Шефы звонили, сказали, что дров нам еще привезут.
Вскочил Лёнтя с кровати, побежал умываться, как его директор учил. В умывальнике мельком глянул в разбитое зеркало и невольно улыбнулся — ему показалось вдруг, что вовсе он и не рыжий совсем. Это просто так, первый солнечный луч в его давно не стриженном виске заблудился.
Варежки
Это письмо из Москвы пришло к Дарье, когда она еще не перестала его ждать, хотя все соседи в один голос говорили:
— Не напишет. Некогда ему в переписке с тобой находиться.
Дарья и сама понимала — адресат ее очень занят, — но надеялась: ответ ей все-таки будет.
— Дело у меня серьезное. Человека касается.
И вот однажды утром, на виду у всей деревни, почтальон дядя Саша Каланча, спрямляя снежную тропку, с тяжелой сумкой на плече пробрался к старухиной хатке, постучал по наличнику.
— Важный пакет тебе, отворяй.
Никто не узнал тогда, что говорилось в том пакете, но по всему видно было — своего старуха добилась. И жители деревеньки вздохнули с облегчением: хлопотала Дарья за обиженную местными властями учительницу — одинокую, хворую, тоже совсем старую.
А через неделю деревенские удивились еще больше. Дарья, которая вот уже лет десять не отходила далеко от дома, быстро семенила в сторону станции…
Город встретил ее шумом, сутолокой, но старуха прямо с вокзала, нигде не задерживаясь, направилась к центру и вскоре добралась до места.
— Вы к кому, бабушка? — остановил ее возле высокой стеклянной двери человек в военной форме.
— Мне самого повидать надобно.
— Пропуск иметь полагается.
— Знаю, что полагается, да времени у меня маловато: нынче приехала — нынче и обратно. Ты уж сам, сынок, скажи кому следует.
Еще в поезде обдумала Дарья, что и как скажет при встрече с Ильичем, а вышло все по-другому. Когда переступила порог кабинета, в котором работал Ленин, все приготовленные слова вдруг забыла. А он быстро поднялся ей навстречу из-за стола и заговорил первый:
— Здравствуйте, Дарья Семеновна. Садитесь вот сюда, к свету, и рассказывайте.
Дарья помолчала, еще раз пыталась собраться с мыслями, но так и не пришло ей на память ни одно из задуманных слов.
— Вижу, мороки тебе здесь и без меня хватает. Потому разговор у нас недолгий будет. Просто спасибо пришла сказать. За учителку нашу.
Владимир Ильич глядел на нее внимательно, стараясь припомнить, о чем и о ком идет речь.
Старуха заметила его смущение, но виду не подала. Встала, подошла совсем близко и развязала принесенный узелок.
— А это тебе. Ты не серчай, прими, как от матери принял бы.
И на край стола легли серые варежки. Легли так мягко и так тихо расправили на зеленом сукне свои пушистые складочки, будто задумчиво вздохнули о чем-то.
Вырвался еле заметный вздох и у старухи.
— Наши, простецкие. Носи на здоровье.
Ленин взял одну варежку и примерил. Пришлась она в самую пору.
— В наших краях тоже такие вот вяжут. Крученая шерсть. Спасибо вам большое.
Хотел еще что-то сказать, но старуха суетно стала прощаться:
— Ты уж извини, спешу.
И ушла также неожиданно, как появилась.
Однако, выйдя из стеклянных дверей, она перестала торопиться и пошла по огромному, как город, двору, медленно, степенно, как по своему собственному. И как-то почти по-домашнему, по-деревенски, садился ей на укутанные платком плечи граненый снежок января.
Старуха остановилась, в задумчивости оглядела все вокруг — золотые купола старинных храмов, зубчатую стену, ровные ряды давно отшумевших пушек.
Дважды вспыхнул и отлетел за реку Москву — в вечереющее Зарядье — перезвон курантов, а она все стояла и улыбалась своим мыслям.
У Боровицких ворот ее неожиданно окликнул кучер, сидевший в санях-розвальнях:
— Вы Дарья Семеновна?
— Я, — удивленно ответила старая.
— Ленин велел вас до вокзала довезть.
Вернулась Дарья в деревню веселая. Односельчане, послушав ее рассказ, не удержались от шутки:
— Ты вроде бы помолодела даже!
— А чего мне делается? Вон пушки в городе стоят под снегом, поди, триста зим — не ржавеют…
После этой поездки в Москву на душе у Дарьи стало хорошо, покойно, как никогда в жизни еще не было.
Не знала вот только старуха, носит ли варежки тот, кому они были связаны.
— Да на кой они ему, ты сама рассуди, — говорили соседи, — у него небось фабричные есть.
— Это верно, — соглашалась Дарья Семеновна. — А может, все-таки носит в морозные-то дни?..
И в глубине души надеялась: носит.
Вскоре деревенские парни побывали в городе. Воротились — и первым делом к Дарье:
— Носит! Сами видели.
Дарья слушала парней молча, а возле самых очков ее колюче поблескивали на ранней вечерней зорьке остро отточенные стальные спицы.
Рядом, на подоконнике, лежали готовые варежки. Шерстяной палец одной из них торчал так, будто она уже натянута на чью-то богатырскую руку.
— А эти кому, Дарья Семеновна?
— А эти Ильичеву кучеру. А еще почтарю нашему Саше Каланче. Вишь, какую тяжелую сумку с письмами таскает он по морозу-то каждый день.
…Много лет прошло с тех пор. Нет Ленина, давно нет и самой Дарьи. Другой почтальон спрямляет по утрам снежные тропки к Дарьиной деревне, но спицы, которыми вязала старуха свои бесценные подарки, живут и работают, видать, без отдыха.
Соседу нашему, герою-летчику, пришла недавно от земляков посылка из деревни, что «за Можаем». Открыли фанерный ящик — варежки!
Точь-в-точь, как те.
Субботник
Железнодорожные платформы на дальнем запасном пути звонко поскрипывали под штабелями заснеженных бревен. Мороз к вечеру усилился, и было не ясно, отчего бревна скрипят — оттого ли, что пробрал их холод, или от собственной тяжести.
Когда рабочие, наспотыкавшись о заваленные сугробами рельсы, подошли к поезду, им даже не по себе стало — то ли декабрьские сумерки так быстро нагрянули, то ли состав был действительно таким длинным, что до конца его разглядеть было невозможно.
— Да-а… Тут не только дотемна, до утра не управишься! — вздохнул кто-то негромко, но так, что все услышали.
На человека, сказавшего эти слова, тоже негромко, но дружно зашикали:
— А ты не робей, дело ведь добровольное.
— Хочешь, ступай домой, мы и без тебя бревешки перекидаем.
— Без меня не перекидаете, потому как я отсюда никуда не уйду.
— Вот это другой разговор!
И субботник начался. Сперва не дружно, не споро, но вот уже где-то высоко над платформами зазвучало извечное:
— Раз-два — взяли!..
Еще минута — и песня, как всплеск буферов, покатилась по всему составу:
Еще ра-ази-ик! Е-еще раз!Казалось, уже никто и ничто не в состоянии нарушить этого ритма, этого веселого шага «Дубинушки». Но в самый разгар работы песня вдруг оборвалась так же неожиданно, как вспыхнула, — от платформы к платформе, из уст в уста передавалось, на ходу подхватывалось одно и то же слово:
— Ленин!..
Невысокий, в черном треухе, он вырос откуда-то из снежной кутерьмы и, весело поздоровавшись с незнакомыми ему людьми, сразу же растворился в толпе, попытавшейся было его приветствовать.
И вот уже вместе с двумя рабочими он подымает и тащит с платформы плавно покачивающееся, облепленное снегом бревно, и снова перемешивается с воющим ветром на минуту притихшая песня:
Э-эх, зеленая, са-ма пойдет! Подернем…Увлеченный работой, Ленин не сразу замечает, что бревна, под которые он старается подставить то одно, то другое плечо, все какие-то удивительно легкие, почти невесомые. Ему сначала даже кажется, что причиной тому знакомая с детства «Дубинушка», распрямлявшая спины грузчиков и бурлаков в далеком Симбирске.
Но вот Ильич, громко рассмеявшись, спохватывается:
— Ну и мудрецы! Кого провести захотели!
Как это он сразу не сообразил! Двое его напарников, берущих бревно с двух концов, намного выше, сильнее его, и он, идущий между ними, еле-еле дотягивается до громоздкой ноши, едва касается ее своим плечом!
— Не-ет, товарищи, так дело не пойдет! Давайте по-честному, или я уйду в другую бригаду.
— Владимир Ильич, мы по-честному. Вам показалось что-то…
— Ну, так вот, чтобы никому ничего не казалось, я встану с краю, а вот вы, — Ленин дотронулся пальцем до могучей груди одного из парней, — вы вставайте в середину, вот сюда, на мое место. Перегруппировка сил иной раз бывает полезной. Пожалуйста.
Поменялись местами. Понесли.
Но, как на грех, бревно опять почти висит в воздухе где-то над самым ленинским плечом, а Ильичу за воротник только ржавый снежок сыплется!
— Да что же вы вытворяете?! — рассердился Ленин.
— Владимир Ильич, это бревно горбатое. Как ни поверни, все топорщится. Сейчас другое возьмем.
Ленин не сказал больше ни слова, только, слегка покачав головой, взглянул на смущенных хитрецов глазами, в которых веселые искорки перемешались с колючими. Потом, глубоко запустив руки в карманы пальто, по-военному резко повернулся — пошел искать себе новых напарников.
Ленин работал вместе со всеми, пока весь состав не был разгружен. А было в том составе больше сорока двойных, четырехосных платформ, и на каждой бревен — целая гора.
Но странное дело — к кому бы из рабочих в тот вечер ни подходил Ильич, в чьей бы бригаде ни грел озябшие руки у костра, все люди казались ему великанами, чудо-богатырями какими-то. И за какое бы бревно он ни брался, под какое бы ни подставлял плечо — все были легкими, одно легче другого.
Репортер
Куда бы Ленин ни ехал, куда бы ни шел, везде и повсюду безмолвно сопровождал его один странного вида человек. Не молодой, не старый, не грустный, не веселый. Ленин потихоньку все приглядывался к нему, все думал: «Кто таков? Зачем и откуда? Может, из охраны? Надо будет сказать Дзержинскому, чтобы категорически избавили меня от этих телохранителей». Но чем пристальнее наблюдал Ленин за таинственным незнакомцем, тем больше терялся в догадках. Однажды не вытерпел и спросил:
— Извините, товарищ, что это вы там все время строчите?
— Информацию пишу в газету. Репортер я, Владимир Ильич, из «Правды».
— Репортер?! А я думал совсем другое, — дружелюбно заулыбался Ленин. — И, признаться, даже хотел подать жалобу на вас. Но как к коллеге у меня к вам претензий пока нет. Только очень прошу — будьте всегда точны и аккуратны. В нашем деле иначе нельзя.
— Буду стараться, Владимир Ильич.
И в газете действительно печатались заметки без лишних слов, без всякой отсебятины. О выступлении Ленина перед ткачихами «Трехгорки», о его поездке в подмосковную деревню, где, пофыркивая синим дымком, переворачивал первые пласты чернозема первый в России трактор, о беседе с комсомольцами железнодорожного депо…
Но однажды все-таки произошла осечка. Выступил как-то Ленин на одном важном собрании, а к нему в самом конце вдруг подходит репортер и спрашивает:
— Владимир Ильич, повторите, пожалуйста, в двух словах, о чем говорили вы здесь сегодня.
— То есть как это о чем? А вы где же были?
— Я опоздал…
— Не понимаю…
— Опоздал, Владимир Ильич. Трамваи не идут, току нет по всей линии.
— А как же вы? Способом пешего передвижения, стало быть?
— Стало быть, так. Сначала быстро шагал, потом уморился — и вот…
Ленин внимательно поглядел на смущенного репортера и тут впервые заметил: он не то что «не молодой, не старый», а именно старый, совсем-совсем старый, совершенно седой человек.
— И все-таки опаздывать не годится.
Репортер не мог сразу и в толк взять, шутит Ленин или говорит серьезно. Но Владимир Ильич не шутил. Он еще раз поглядел на репортера и сказал:
— А теперь отойдем в сторонку, запишем, о чем разговор у нас был с рабочими.
Они уединились в конторке начавшего быстро пустеть цеха и вышли оттуда не скоро.
Вечерняя смена уже давно заступила, в пролетах снова стало шумно и дымно, а Ленин и репортер все разговаривали. Вернее, говорил один, второй быстро писал, едва успевая перевертывать листки блокнота. Когда Ленин кончил диктовать, кончилась и записная книжка репортера.
— Вот жалко, — сказал Ильич, — всего одной-единственной странички не хватило, а у меня с собой, как на грех, ни листочка!
— Владимир Ильич, диктуйте, я запомню, а в редакции все запишу слово в слово, — попросил репортер.
— Нет, нужна бумага, в нашем деле без бумаги нельзя, — улыбнулся Ленин.
Ильич резким движением пододвинул к себе табурет, сел за крохотный шаткий столик начальника цеха, размашисто написал на зеленом листке несколько слов, отдал записку репортеру.
— С этим завтра же зайдите в Совнарком, к управляющему делами. Я бы сам вас отвез, но тороплюсь в другое место. Извините, что задержал.
Владимир Ильич пожал руку начальнику цеха, репортеру и уехал. Через несколько минут покинул задымленную конторку и ошеломленный репортер. Утром он направился в Совет Народных Комиссаров. Только там узнал, о чем Ленин писал в записке.
А сказано в ней было о том, что в распоряжение корреспондента «Правды» необходимо срочно выделить лошадь с упряжкой, что человек он немолодой и что трудно ему целыми днями бегать по заданиям редакции.
Ленин ошибся, может быть, первый раз в жизни: никогда еще репортер не чувствовал себя таким молодым, таким бесконечно неутомимым человеком, как сегодня!
Пельмени
— Владимир Ильич, пришли бы вы к нам в воскресенье, — сказал неожиданно в конце телефонного разговора старый знакомый Ленина Николай Матвеевич Степанов. — Очень просим. У нас ничего и никого не будет. Посидим, поговорим, может, чайком побалуемся. Обсудим все заветные дела. Пора бы нам и на охоту нацелиться.
Ленин согласился.
— Посидеть, помечтать часок-другой действительно не мешает. И Наденьку сагитирую. Одним словом, ждите! Только, ради бога, никаких чаев! Это твердо, слышите?
Несмотря на это строгое предупреждение, забегала, засуетилась жена Николая Матвеевича, заволновался и сам хозяин.
— Он когда-то страсть как пельмени любил. Настоящие сибирские, морозцем сбитые. Помнишь?
— Помнить-то помню, только…
— Барахолка рядом.
— Ну и что? Серебра у нас с тобой сроду не было, а за тряпки наши ничего не дадут — одно старье.
— Что бы такое все-таки придумать?
Начали Степановы вместе перебирать сундук. На самом дне его чудом сохранилась беличья муфта Веры Спиридоновны — та самая, которую подарил ей Коленька в первый год их женитьбы. С тех пор прошло много лет, но муфта выглядела еще прилично. Переглянулись старики, повертели ее в руках и понесли на Сухаревку.
Так в доме нежданно-негаданно появились мука и мясо. Для полной удачи надо было бы раздобыть еще хоть несколько капель уксуса и головку лука, а говядину провернуть через мясорубку пополам со свининой, но и так пельмени получились отменными.
Стали ждать гостей, а те, как на грех, запаздывали.
Николай Матвеевич каждые пять минут взбирался на подоконник, через форточку запускал руку за обе рамы, где подвешенные в белом мешочке пельмени погромыхивали на ветру, замороженные по всем правилам.
— Настоящие сибирские! Первый сорт!
Как раз за этим занятием и застал его Ленин.
— Эгей! Что это вы там делаете? — еще со двора крикнул Владимир Ильич.
Когда гости вошли, пельмени уже беззвучно перекатывались в крутом кипятке, приправленном перцем.
В давно не топленной квартире пельменный дух распространился мгновенно. Первым уловил его Владимир Ильич.
— Наденька, нас с тобой, кажется, предали.
— Не предали, а решили порадовать, — из-за фанерной перегородки поправила его смущенная хозяйка.
— Нет, нет, именно предали. Мы ведь с Николаем Матвеевичем условились — никаких угощений. Если бы я знал, не пришел бы, честное слово.
Владимир Ильич, натыкаясь на стулья, нервно расхаживал по тесной комнате.
— Сибирские, — торжественно возвестила Вера Спиридоновна, появившись в дверях с пышущей паром кастрюлей.
— Я уже учуял, что сибирские, но откуда? Из каких закромов?
Когда на шумовку упали первые пельмени и Ленин, наклонившись, увидел, что сделаны они из белой, ослепительно белой муки, он даже зажмурился и щека его перекосилась, как при зубной нестерпимой боли.
Глянув на Степановых, он сказал как-то глухо и тихо, но совершенно отчетливо:
— Ну, вот что, дорогие хозяева. Сердитесь на меня или не сердитесь, я эти пельмени есть не буду. Да, да! И вам не советую. Не знаю, у кого как, а у меня они в горле застрянут.
Владимир Ильич раскланялся, крепко взял под руку Надежду Константиновну, и они ушли.
Утром в понедельник Ленин пришел на работу мрачный, каким его уже давно не видели. Одного за другим вызвал к себе всех товарищей, в той или иной мере ответственных за борьбу со спекуляцией. Всем надавал срочных и сверхсрочных заданий, а под конец строго-настрого предупредил:
— Проверять буду сам. Рабочие пухнут с голоду, а господа с барахолок благоденствуют и жиреют.
Когда вызванные работники, написав полученные рас-поражения, разошлись, Ленин попросил соединить его с Николаем Матвеевичем.
Пока секретарь накручивал урчащую ручку аппарата, Ильич, как бы разговаривая сам с собой, сказал задумчиво и уже совсем не строго:
— Надо помириться со стариками. Они-то мало в чем виноваты. Честные, хорошие люди.
Ленин не хотел было напоминать Степанову о случившемся, но как-то само собой получилось, что разговор с первых же слов завязался вокруг вчерашнего.
— Николай Матвеевич, — говорил Ленин, — а об охоте мы так и не условились. Может, двинемся в следующее воскресенье? Вот убьем медведя, тогда я к вам на пельмени сам напрошусь, а Сухаревку презираю и ненавижу! Слышите? Пре-зи-раю! Так и передайте Вере Спиридоновне от нас двоих.
— Так и передам, Владимир Ильич.
Морозное, метельное утро следующего воскресного дня рано подняло на ноги давних друзей. Проезжая мимо еще не проснувшейся Сухаревки с утесом кирпичной башни, нелепо громоздившейся на пути, они переглянулись — молча, многозначительно, даже весело.
Посылка
По нескольку раз в день Дзержинский просматривал свежую почту. Корреспонденций всегда было много — правительственных, секретных и самых обыкновенных.
С далекой границы докладывали об операции против контрабандистов. Волжане просили срочно оказать помощь голодающим детям. Из Сибири сообщали о том, как идет отправка в центр России продовольствия и семенных грузов…
Дзержинский на каждое письмо, на каждую телеграмму отвечал не откладывая, точно и по существу. Сейчас, перед дальней командировкой, он делал это с особой тщательностью и готов был просиживать на работе до утра, лишь бы не оставить после себя «бумажных хвостов». Он все поторапливал секретаря:
— Ну как там? Какие еще есть депеши?
Секретарь то и дело входил в кабинет. Для удобства он раздобыл где-то поднос с разводами и на нем носил Феликсу Эдмундовичу свежую почту.
Дзержинский давно уже заметил это, но как-то не находил времени, чтобы пожурить паренька за чрезмерное усердие, и разговор о подносе откладывался до подходящего случая. Сегодня утром он наконец не выдержал:
— Совсем как в старинном романе — граф проснулся, позвонил в колокольчик, и ему принесли на подносе письма и черный кофе!
— Если бы кофе, — тихо вздохнул секретарь.
— Вот именно — если бы! А то поднос большой, а толку мало — носите с утра до вечера одни бумаги. Может, это и удобно, но, знаете ли, как-то не очень питательно.
Бледные, худые, они стояли друг против друга, юноша и нарком, и шутка помогла им обоим на одно мгновенье забыть о голоде, о тифе, о враге.
— Где ж вы раздобыли такую посудину?
— Эта посудина, Феликс Эдмундович, действительно как в романе, восемьдесят четвертой пробы. Реквизировали у одного недобитого буржуя.
Дзержинский поглядел на секретаря так, что тот, позванивая пустым подносом, вышел из кабинета, недоуменно пожав плечами.
— Ведь все думаешь, как лучше…
Это он сказал уже в приемной, и Дзержинский не слышал его слов. Не слышал и секретарь, как вдогонку ему тяжело вздохнул Дзержинский. Не видел он сейчас и лица Феликса Эдмундовича — еще молодого, но тронутого глубокими шрамами усталости.
«Да-а, — думал секретарь, — не очень-то весело нынче день начался. К вечеру быть грозе».
Не знал он, что грянет она значительно раньше. Принес наркому очередную почту — не на подносе, нет, о нем больше и речи быть не могло! — тут и началось.
— Я видел утром в приемной фанерный ящик в сургучных печатях. Почему не докладываете?
— Феликс Эдмундович, я отложил это на конец дня. Посылка из Баку, от товарища Хандалова, пришла. Неслужебная. Одним словом, сюрприз.
— То есть как это сюрприз?
— Распаковывать без вас я не стал, но и так слышу — на всю приемную аромат, аж голова кружится…
Когда разломали ящик, глазам своим не поверили, — тяжело стукаясь друг о друга бордовыми боками, по всему столу покатились огромные, щедро налитые могучим бакинским солнцем яблоки…
От яблок подымался и полз по комнате вкусный, одуряюще сладкий запах.
— Знаете что? Запакуйте это и унесите отсюда. Немедленно! — Дзержинский потянулся к блокноту, резким движением вырвал из него зубчатый листок бумаги.
— Сейчас унесу…
— Нет, сначала запишите текст моего ответа в Баку.
— Диктуйте, Феликс Эдмундович.
Секретарь едва успел нанести на бумагу почти стенографические иероглифы.
— Записали?
— В точности.
— Прочтите, пожалуйста, вслух.
— Пожалуйста. «Председателю Азербайджанской Чека Хандалову. Уважаемый товарищ, благодарю вас за память. Посылку вашу получил и передал в санитарный отдел, для больных чекистов. Должен, однако, заметить, что не следовало бы вам, как председателю Чека и коммунисту, ни мне, ни кому-либо другому делать такие подарки.
Дзержинский»
— Ну вот, это будет, кажется, и справедливо, и гуманно. Отправляйте. А яблоки сейчас же передайте по назначению.
— Слушаюсь.
— Когда вернетесь, соедините меня с товарищем Лениным.
Минут через десять секретарь возвратился. Вид у него был такой, что и без доклада можно было понять — все распоряжения выполнены.
— Феликс Эдмундович, соединяю.
— Владимир Ильич?.. Здравствуйте, говорит Дзержинский…
Подробно доложив Ленину о делах, Феликс Эдмундович в конце разговора сказал:
— Озадачил меня сегодня один наш товарищ, разозлил даже. Прислал, видите ли, на мое имя продуктовую посылку! Я ему ответил, может быть, немного резковато, но, на мой взгляд, в общем справедливо. По поводу этого ответа я хотел бы с вами посоветоваться. Не слишком ли я его?
Дзержинский пересказал Ленину содержание своего письма Хандалову.
— Ну как ваше мнение, Владимир Ильич? Не слишком?..
В трубке что-то зарокотало и замерло. Дзержинский переступил с ноги на ногу.
— Да, уже отправил…
Секретарь внимательно вглядывался в лицо Феликса Эдмундовича и никак не мог догадаться, что происходит на другом конце провода.
Дзержинский слушал Ленина, растерянно улыбался и едва успевал отвечать:
— Ясно… Понимаю… Согласен… Большое спасибо…
Поздно вечером, перед самым уходом домой, Дзержинский в последний раз вызвал секретаря.
— Значит, завтра мы с вами отбываем в Сибирь. Все у нас с вами в порядке?
— В полном, Феликс Эдмундович!
— Тогда по домам!
Обычно после таких слов, попрощавшись и повернувшись через левое плечо, секретарь исчезал до следующего дня, но сегодня он что-то медлил.
— Вам что-нибудь не ясно?
Секретарь нарисовал ногтем на краю стола какую-то замысловатую фигуру.
— Поднос, надеюсь, на складе?
— На складе, Феликс Эдмундович.
— А яблоки?
— У больных чекистов.
— Так что же вас беспокоит?
— Могу я узнать, что о посылке Хандалова товарищ Ленин сказал?
— А-а! Вон вы что! Только, чур, между нами. Строго конфиденциально. Идет?
— Ясное дело, Феликс Эдмундович.
— Так вот, отругал меня Владимир Ильич. Отругал. И знаете, в какой деликатной форме он это сделал? Вот, говорит, все зовут вас Железный Феликс, а вы, в сущности, добрейший и мягчайший человек. Я бы этого товарища из Баку еще не так разделал! И вынес бы ему строгий выговор. С предупреждением. Да, да, да! Понятно?
Это «понятно?» Дзержинский произнес как-то так, что было не ясно, Ленин ли обратился с таким вопросом к нему или Дзержинский спрашивал своего секретаря — понятно ли, мол, вам, как рассердился Ленин?
Секретарь еще раз внимательно глянул на Феликса Эдмундовича и на всякий случай ответил:
— Понятно!..
Подарок
Война для Павла давно кончилась, а военная служба продолжалась: весна двадцатого года застала его в Москве, на первых пулеметных курсах. Павлу нравилось, что ему, простому деревенскому парню, довелось ходить под ружьем не где-нибудь — в Кремле. Почему? Павел, наверное, не смог бы толком это объяснить даже и самому себе. Нравилось — и все. Он так и отцу написал: «Служба у меня хорошая». Хотел было добавить, что ему выпала честь охранять квартиру Ленина, что уже несколько раз стоял на этом посту, но передумал. Вернее, друзья отсоветовали.
— Тебе такое дело доверили, а ты…
— Я же отцу родному.
— Все равно тайна. Государственная, понятно?
Павлу было понятно, только скрыть свою радость ему не удавалось. Стоит иной раз на посту и улыбается. Это дружки давно уже заметили.
— Павел-улыба, — сказал кто-то из них.
Прозвище это закрепилось за парнем, но он не обижался, сиял, как ясное солнышко. Однажды остановился на мгновение возле улыбчивого часового Ленин.
— Настроение хорошее?
Павел молча кивнул Ильичу.
— Ну вот и прекрасно. Как вас зовут?
— Павел…
Заметив, что часовой смутился, Ленин легонько дотронулся до его плеча.
— Будем знакомы, товарищ Павел.
С тех пор они всегда безмолвно приветствовали один другого. Улыбнутся мельком друг другу — и до новой встречи.
Но однажды произошел такой случай. Глянул на Павла Владимир Ильич и не узнал своего знакомого. Перед ним стоял сумрачный, удрученный чем-то человек.
— Что с вами? — подошел к нему Ленин.
Павел только голову в плечи вобрал.
— Неприятность какая-нибудь, да?
Павел, как и в тот раз, кивнул Владимиру Ильичу.
— Очень прошу вас, зайдите ко мне, когда сменитесь. Только, чур, без всяких стеснений и церемоний. Жду.
Вечером Павел пришел к Ленину.
— А! Сядьте-ка вот сюда, — приветливо встретил его Владимир Ильич. — Так что же случилось?
— Неловко мне вас беспокоить как-то…
— Нет, нет, беспокойте, беспокойте, прошу вас. Непременно беспокойте.
Павел вытер вспотевший от напряжения лоб таким движением, словно хотел сказать: «А, будь что будет!», и робость его отступила.
— Письмо пришло из деревни, Владимир Ильич.
— Так. И что же в письме? Плохие вести?
— Отцу моему край приходит.
— Поволжье? — спросил Ленин.
— Нет, курские наши места.
— Курские? — Ленин тоже провел рукою по лбу. — Можете показать письмо?
Павел вынул из кармана гимнастерки замусоленный клочок бумаги. Ленин пробежал его глазами в одно мгновение.
— Да-а… тяжелая это для крестьянина штука, товарищ Павел, — сказал он, возвращая письмо. — Тяжелая вообще, а нынче особенно.
Ленин продолжал глядеть на Павла, но, казалось, в этот миг уже не видел его.
— Курские, курские… Ведь это же сплошной чернозем! Сейчас бы отцу вашему пахать и пахать.
— Вот именно, Владимир Ильич. Но лошаденка наша на все село одна была. Не встала после зимы…
— Как называется ваше село, товарищ Павел?
— Забытое, Владимир Ильич.
— Как-как?..
— Забытое. Так кличут весь век.
— Ничего себе век! Село Забытое, и люди в нем забытые — так, что ли, получается?
— Нас забытинскими зовут, Владимир Ильич.
— Все равно обидно и несправедливо. Согласны?
— Согласен.
— Придется нам с вами всю карту России переписывать заново.
— А? — не совсем понял его Павел.
— Не должно, я говорю, у нас остаться ни забытых, ни забытинских. Не в названиях дело, конечно. Это я просто к слову. Но и в них. Звучит уж больно обидно — Забытое.
— А! — уловил наконец Павел мысль Ленина. — Оно конечно, название не то, но если б не пала Хромуша…
— Хромушей, значит, звали кормилицу?
— Хромушей.
— Скажите, Павел, если б у вас появилась сейчас новая лошадь, вы бы ее снова Хромушей назвали?
— Зачем Хромушей? Та у нас отроду убогой была, а новая… Да где ее теперь взять?
— Ну, а как учеба идет? — вдруг перевел разговор на другую тему Ленин.
— Тут порядок, Владимир Ильич. Стараемся.
— Уже хорошо! Главное в нашем деле, товарищ Павел, духом не падать.
Он так сказал это свое «в нашем деле», что Павел и сам подумал о себе и об Ильиче, как о людях совершенно равных, у которых одна цель, одна забота.
— Ну, не огорчайтесь, товарищ Павел. Остальное тоже должно наладиться. Пусть только попробует не наладиться! — Ленин, чтобы окончательно поднять настроение парня, шутливо погрозил пальцем.
Они расстались.
Поздно ночью, когда все в казарме давно спали, Павел снова, в который уже раз, достал из кармана письмо отца. «Павлуша, сыночек, горе у нас большое. — Павел едва разбирал выведенные дрожащей рукой каракули. — Хромуша, кормилица наша, пала. Как теперь нам без лошади? Хоть пропадай. Полосу не успела вспахать, все хозяйство остановилось. Может, ты, Павлуша, отхлопочешь отпуск дён на десять? Тогда как-нибудь бы управились. Приезжай, я тоже чувствую плохо. Не знаю, дождусь…» Всю ночь не сомкнул Павел глаз. А когда наступило утро, решил идти к начальнику курсов, рассказать про отцово письмо. Так друзья посоветовали.
Едва переступил Павел порог кабинета начальника, тот сам вдруг поднялся навстречу и сказал:
— Знаю все. Отпуск пришел просить?
— Отпуск, — не слыша собственного голоса, не то сказал, не то прошептал Павел.
Начальник усадил курсанта за стол.
— Пиши.
— Да, я… Да у меня… — Дрожащими пальцами Павел начал отстегивать клапан кармана гимнастерки, где хранилось письмо отца.
— Говорят тебе, все знаю.
Начальник не торопясь, шагая по кабинету, продиктовал Павлу рапорт от первой до последней строки. Потом прочитал вслух, что получилось, и сказал:
— Распишись.
Павел расписался.
— А теперь я распишусь. Отпуск тебе на две недели!
— Спасибо, товарищ начальник. Я отслужу.
— Да ладно, ладно уж, на часах ведь больше положенного при всем желании не простоишь. Ты устав караульной службы знаешь?
— Знаю.
— Ну, а чего ж ты?
— Спасибо вам, товарищ начальник.
— Спасибо не мне — советской власти скажи.
— И власти спасибо.
Оба весело посмотрели друг на друга.
Павел поднялся с места, но начальник жестом руки остановил его.
— Это не все еще. — Он подошел к телефону и позвонил: — Здравствуйте, Елена Дмитриевна! Вы хотели видеть моего курсанта? Вот он, сидит у меня… Прислать его к вам?.. Сию минуточку… Да, отпуск оформлен… На две… Будьте здоровы, Елена Дмитриевна.
Павел окончательно перестал понимать, что происходит, а начальник изумлял его все больше и больше.
— Это я со Стасовой говорил. Знаешь такую? У нее для тебя записка от Ленина.
— Для меня?..
— Да, насчет лошади. Владимир Ильич распорядился, чтоб отцу твоему выделили лошадь для поправки хозяйства. Кавалерийские части расформировываются, лошади будут передаваться в уезды бедноте. Скажи еще раз спасибо советской власти: ваша очередь первая.
Этой шутки Павел уже не понял, вернее, не в состоянии был понять. Он с трудом пришел в себя даже и вечером, в казарме, где его обступили со всех сторон курсанты и в десятый раз требовали рассказать все по порядку.
Записка переходила из рук в руки, и Павел уже начинал сердиться:
— Да аккуратней вы, аккуратней…
Он убрал записку подальше и достал ее только в тот день, когда ребята его провожали, и то лишь для того, чтобы убедиться, на месте ли она.
Павел уехал, как было написано в приказе, на две недели, и, наверное, все две недели не умолкали бы на курсах разговоры о нем, о его отце и лошади.
Но не суждено было курсанту полностью использовать полученный отпуск. Уже через пять дней рано утром появился он в казарме. Одно это уже вызвало там целый переполох, а когда повскакавшие с коек ребята глянули на Павла, и вовсе пришли в замешательство.
Перед ними стоял не тот веселый, улыбчивый, полный сил и здоровья парень, с которым они простились на прошлой неделе, а изможденный, осунувшийся человек.
— Что с тобой, Пашка? — кинулись к нему ребята.
— Плохо дело мое, братцы.
— Не дали коня?
— Может, и дали бы.
— То есть как это «может»? Ну, рассказывай, рассказывай! Подмогнули тебе и еще подмогнут.
— Не поможешь ничем теперь. Батя приказал долго жить.
— Батя?..
— Да, после того, как пала Хромуша, лег на печь и не встал больше. За три дня до моего приезда помер.
Ребята стояли вокруг приумолкшие, растерянные. Не знали, что сказать, как поступить.
Павел дотащился до своей койки, устало опустился на нее, попросил табаку.
— А матери у тебя нет? — спросил кто-то.
— Она скончалась сразу, как отец с гражданской пришел. Лекарь сказал — от радости.
Он помолчал, затянулся несколько раз свернутой кем-то для него козьей ножкой и сказал:
— Вот ведь как люди устроены — от радости мрут, от горя и подавно. А я еще хотел Подарком его назвать.
— Кого?
— Коня того.
— А записку про коня ты куда девал?
— Как куда? Отдал деревенским. Пусть выхлопатывают. Батя точно отписал: ни одной лошаденки в Забытом.
— Ну, ты рассказал им про свой разговор с Ильичем?
— Как же. И адрес его дал, чтобы всем селом отблагодарили, когда получат коня.
— Ничего не запамятовал?
— Не упомнил только сказать, чтоб Подарком коня назвали.
— Эх, ты!..
— Растерялся я малость.
Вечером того же дня курсанты писали письмо в село Забытое. Первым делом про то, чтобы Подарком коня нарекли. «А если выйдет какая задержка с получением, — писали они, — сообщите Павлу, он Ленину лично доложит».
— Так, что ли, Паша? — спросил кто-то из них.
— Так, — отозвался Павел. — Лично доложу. Все-таки будет коняга в нашем селе.
Хрустальная ваза
Ленину стало известно об удивительной вазе от Луначарского. Нарком просвещения давно почувствовал во Владимире Ильиче тонкого ценителя всего по-настоящему талантливого и не уставал поражаться тому, какой острый глаз у него, как зорко умеет увидеть прекрасное. Поэтому, когда Луначарскому показали вазу, он, залюбовавшись ею, тут же позвонил Ленину и попросил его найти время, чтоб взглянуть на это чудо из чудес.
В одно из воскресений Ленин объявил домашним, что проведет с ними почти весь день, отлучится только на час, самое большее — полтора. Родные обрадовались, что Владимир Ильич наконец-то сможет немного отдохнуть.
Но напрасно они ждали его к обеду. Уже под самый вечер с улыбкой провинившегося перешагнул он порог дома.
— Достоин наказания и прощения одновременно. Но когда услышите, из-за чего задержался, — помилуете.
И не раздеваясь, тут же, в передней, начал рассказывать о вазе:
— Это действительно чудо! Луначарский совершенно прав. Да, да, подлинное чудо!
Владимир Ильич взглянул на родных, ничего еще толком не понявших.
— Вы можете себе представить букет гвоздик из горного хрусталя? Даже не букет — целый сноп хрустальных цветов! Они-то и приворожили, околдовали просто. И знаете, почему я пробыл там так долго? Ни за что не поверите. Солнца дожидался! Анатолий Васильевич сказал, что ваза особенно красива при солнечном освещении, а день, как назло, выдался мрачный, только под конец стало немного проясняться, и мы увидели нечто непередаваемое. Каждый цветок переливался, как перья жар-птицы. Упадет на какую-то грань солнечный луч — и по-новому вспыхнет цветок, даже очертания его меняются. Сколько фантазии, и вместе с тем какая гармония! Мертвый, холодный материал оживает в каждом лепестке, в каждом сочленении стебелька. Просто уму непостижимо, как могли сотворить такое человеческие руки! Обязательно свезу вас посмотреть вазу.
Ленину не представилось случая показать вазу своим близким, но вмешаться в ее судьбу ему пришлось самым непосредственным образом.
О «русском чуде» скоро прослышал кое-кто из иностранцев. Богатые собиратели всяческих редкостей любыми путями мечтали завладеть сокровищем. У одного заморского воротилы так разгорелись глаза, что он в азарте предложил за вазу… пять новых паровозов. Об этом доложили Ленину товарищи из хозотдела Совнаркома.
— Пять паровозов?..
— Пять! Причем мощных и на полном ходу!
Ленин возбужденно зашагал по комнате.
— Так, так, так… Тут есть над чем призадуматься.
— В том-то и дело, Владимир Ильич. Для России это нынче целое состояние.
— Согласен. Целое состояние. Ну, и каково же ваше мнение?
— Мы решили прежде всего вам доложить.
— Я один этого тоже решить не могу. Давайте вместе взвесим все «за» и все «против». Вы хозяйственники, вам первое слово.
— Россия разрушена, Владимир Ильич. Без транспорта задыхается. Пять паровозов не шутка. Хорошая, стало быть, цена.
— М-да… Цена немалая, что говорить.
— Ну вот и мы так рассудили, Владимир Ильич. Нищая Россия-то. Беднее нас, пожалуй, нету теперь державы.
— Нищая, говорите? — Ленин помрачнел. — Да… Разорены, разграблены до предела, приходится признать, как это ни обидно. Но… вы сами-то вазу видели?
— Какая б она ни была, Владимир Ильич, паровозы нам сейчас нужнее.
— Но все-таки? Видели? Или нет?
— Видели.
— Понравилась?
— Не то слово, Владимир Ильич. Красавица!
— А коли так, давайте думать не о том, как ее выгоднее продать, а о том, как надежнее сохранить. Поймите — это уникальное произведение искусства, созданное талантливыми умельцами, которыми так богат наш народ.
Хозяйственники слушали Ленина, а он увлекался все больше:
— Вспомните каслинских мастеров на Урале. Удивительнейшие изделия отливают из чугуна. Миниатюры ювелирной работы. А палешане с их поразительной лаковой росписью? А волжская Хохлома? А Мстёра? А Федоскино? Целые семьи, целые деревни народных талантов на Руси. Так что, если хорошенько разобраться, мы при всей своей бедности обладатели огромных богатств, несметных сокровищ. И надо во что бы то ни стало сберечь, сохранить все это. Конечно, теперешняя нужда может заставить принести и новые жертвы. Но будем разумными хозяевами. Словом, изыщите любые возможности, но только вазу ни в коем случае не продавайте.
Когда хозяйственники ушли, Ленин подошел к замерзшему окну, подышал на его ледяную корку, через образовавшуюся проталину вгляделся в заметенную снегами Москву.
«Да-а… Трудное время. Голод. Холод. Разруха. Людям не хватает самого насущного. Третьего дня прямо на заседании Совнаркома товарищу Цюрупе стало плохо. Врач констатировал — голодный обморок. Нарком продовольствия, человек, ведающий снабжением всей страны, падает в обморок от хронического недоедания! „Какой чудовищный парадокс!“ — скажет кто-нибудь. Тут нет никакого парадокса! Именно потому-то мы и держимся, что существуют такие бескорыстные, преданные делу, высокие духом революционеры. А волшебники, смастерившие вазу? Если сегодня, в этих адских условиях, люди способны на такое, то какие же шедевры подарят они миру завтра!»
Мысли Ленина были прерваны вошедшим секретарем:
— Владимир Ильич, вам звонят.
— Кто, простите?
— Опять из хозотдела. Чего-то снова не ясно им насчет вазы.
Владимир Ильич взял трубку.
— Я слушаю… Ах, вот оно что! Вы бы так сразу и сказали. Сейчас вместе сформулируем. Пи́шете? Пиши́те! Ваза не продается. Ни за пять паровозов, ни за двадцать пять. Да будет известно господину покупателю, что это бесценное сокровище… Записали? Превосходно. Да, добавьте вот еще что: вазу создал гениальнейший художник современности — его величество рабочий класс России. Теперь прочтите, пожалуйста, что у нас получилось… Так, так, так… Спасибо. У вас возражения есть? Тогда действуйте. И будем считать, что решение по данному вопросу принято единогласно.
Мяч с золотым пояском
Людей, идущих на прием к Ленину, как всегда, было много, и секретарь едва успевал «регулировать движение».
— Товарищ Соколова, вы из Сибири?
— Из Сибири. У меня срочный вопрос.
— Проходите, Владимир Ильич о вас уже спрашивал.
— Товарищ Васильева, вы немного опоздали, вам придется подождать. Можете?
— Подожду, сколько надо.
— А вы, ребята, куда? — обратился секретарь к трем странного вида посетителям, в нерешительности остановившимся на пороге.
— К Ленину, — подавшись вперед, ответил один из них, вихрастый, на вид чуть постарше своих приятелей. — Он велел нам прийти в пять часов.
Секретарь, пожав плечами, поднес поближе к настольной лампе раскрытый блокнот.
— В пять, говоришь? Верно, в пять, но только не сегодня, а завтра.
— Мы завтра не можем, — за всех ответил тот же парнишка. — Сейчас пропустите. Ну, пожалуйста…
В эту минуту дверь ленинского кабинета отворилась, на ребят удивленно глянул вышедший зачем-то Владимир Ильич.
— Как, вы уже здесь?! Я отлично помню — мы условились на восьмое.
— Мы восьмого не можем.
— У нас восьмого дела.
— Разрешите сегодня…
Голоса ребят были подкупающе искренни. Ленин развел руками.
— Ну, раз так, тогда правильно сделали, что пришли не откладывая. — Владимир Ильич окинул извиняющимся взглядом дожидавшихся его людей.
Оказавшись в кабинете Ленина, ребята вдруг оробели, а Ильич, устало опустившись в свое рабочее кресло, спросил:
— Рассказывайте, что за дела.
— У нас будет сбор. — Вихрастый достал из кармана листок с какими-то записями.
— С какой повесткой? — Глаза Ленина сощурились.
— Чего? — не понял паренек.
— Я хочу знать, о чем на сборе говорить будете.
— А!.. Мы к Октябрьской годовщине готовимся, Владимир Ильич.
— Вот это молодцы! Что решать собираетесь?
— О подарках для бедных.
— Для бедных?
— Да, для детдомовцев.
Ленин опять с удивлением поглядел на мальчишек. Худые, бледные стояли они перед ним. Латаные отцовские пиджаки и гимнастерки сползали с детских плеч.
Вчера, когда Ленин подошел к ребятам и разговорился с ними, все это не так резко бросилось ему в глаза. Забыв обо всем на свете, мальчишки гоняли мяч по холодным осенним лужам. Больше всего поразило его даже не то, что игра была не по сезону. Впервые в жизни видел он такой футбольный мяч — маленький, черный, взъерошенный, как мокрый щенок. Ильич не удержался от недоуменного вопроса:
— Ну и как? Удобно играть в такой?
Не менее откровенным был и ответ:
— Что вы! Разве это мяч!..
Ленин в задумчивости немного постоял возле прекративших игру ребят, потом спросил:
— Живете далеко?
— Здешние мы, Владимир Ильич, кремлевские, — сказал самый рослый из футболистов.
— Значит, соседи? Отлично! Ну, а раз соседи, тогда вот что. Приходите ко мне послезавтра часов… часов в шесть, а еще лучше — в пять. Придете?
— А зачем? — удивленно спросил вихрастый парнишка.
— Познакомиться хочу с вами поближе. Живем рядом, а совсем друг друга не знаем.
— Мы вас знаем…
— А если знаете, тем более! Приходите обязательно. Только не опаздывайте, я люблю точность.
— Точно придем, у Славкиного отца часы есть. — Вся команда посмотрела на самого маленького и потому особенно продрогшего футболиста…
«То, что пришли на целые сутки раньше, даже хорошо! А вот с этим как быть прикажете?» Взгляд Ленина скользнул по ребячьим ногам — тонким, полубосым и, конечно, отчаянно замерзшим.
— Значит, подарки решили собирать для самых бедных?
— Сегодня начали, Владимир Ильич. Уже пошли по квартирам.
— И Слава пошел? — спросил Владимир Ильич, не увидев в числе пришедших самого маленького спортсмена.
— И Славка.
— Сколько же лет ему, вашему великану?
— Он почему-то не растет, Владимир Ильич, а лет ему много.
— Сколько же все-таки?
— Одиннадцать уже. Скоро будет.
— Да, конечно, — согласился Владимир Ильич, — совсем взрослый человек. А главное — сознательный.
После этих слов Ленин поднялся из-за стола, подошел к книжному шкафу.
— Ну, а теперь получайте мой скромный подарок вашей команде.
Дверца, застекленная матовым стеклом, распахнулась, к ногам ребят со звоном выкатился новенький, перехваченный золотым пояском красно-синий мяч.
— Тоже, конечно, не футбольный, — сказал Ленин, — но играть, по-моему, можно. Что скажут крупнейшие специалисты?
Ребята восторженно смотрели на мяч и молчали.
— Ну, смелей, смелей! — воскликнул Владимир Ильич и высоко подбросил мяч в воздух.
Только после этого три пары детских рук одновременно сплелись на глянцевом шаре.
— Ну, а теперь ступайте. Видели, сколько там еще народу ждет? — спросил Ленин.
— Видели.
— То-то. И еще детдомовцы собирались прийти, — может, те самые, которым подарки вы собираете.
Вышли ребята от Ильича, заглохли, затерялись где-то в длинных кремлевских коридорах их частые шаги.
В кабинет Ленина стали входить новые посетители. Владимир Ильич внимательно выслушивал каждого из них, задавал вопросы, а сам, шагая по кабинету, как бы ненароком искоса поглядывал в окно. Очень хотелось ему увидеть, как бегают мальчишки с подаренным им мячом.
Ребята почему-то долго не появлялись, и это удивляло Ленина. Но еще больше удивился он, когда футбольная игра наконец началась, — над головами ребят заметался все тот же черный, маленький, старый мяч. Новый лежал почему-то рядом на тротуаре, тускло поблескивая сквозь дождь и снег тонким золотым пояском.
— Ничего не понимаю!.. — Ильич озадаченно пожал плечами и, вызвав секретаря, подвел его к окну. — Как вам это нравится?
— Все ясно, Владимир Ильич. Берегут. Не каждый день получают нынче такие подарки.
— Согласен. Не каждый. И все-таки, пожалуйста, спуститесь к ним и скажите — пусть играют именно в новый. Иначе я обижусь. Слышите?
Секретарь вышел. Через некоторое время он вернулся и, приоткрыв дверь в кабинет, доложил:
— Завтра, если подсохнет, будут играть в новый, Владимир Ильич. Договорились. А к вам тут пришли еще ребята — из детского дома. Можно пустить?
— Да, да! Конечно.
Пока дети входили, Ленин еще раз поглядел в окно, за которым начало быстро смеркаться.
Во дворе уже никого не было. Дождь вперемежку со снегом хлестал по редким островкам булыжин.
Шел октябрь двадцать первого года.
Упрямая лампа
Далеко за полночь мерцал огонек в окне большого, давно уснувшего дома. На фоне мглистой Москвы расплывался он в блеклое, едва различимое пятнышко.
Никто из поздних прохожих и не догадывался, что это свет лампы, зажженной над рабочим столом.
Никто не знал, что это Ленин не спит — сидит с карандашом и книжкой в руках. Прочитает страницу, запишет что-то — и дальше; пододвинет лампу поближе — и снова за чтение. А лампа та еле-еле светится — Ленин сам распорядился ввернуть именно такую.
— И ни одной свечой больше!
Родные и близкие пытались протестовать, уговаривать:
— Нельзя, врачи не позволяют. Так ведь зрение можно испортить.
А он:
— Ничего! Я часок почитаю и лягу.
Вскоре огонек действительно исчезал.
Не многие знали, что это вовсе не сон, а рассвет пробирался в комнату Ленина.
— Ну вот отлично. Теперь можно и погасить. — Ленин устало смотрел через окно на золотой купол, отразивший первую зыбкую блестку зари.
И снова шелест страниц тревожил настороженную тишину еще не иссякшей ночи.
Никто в точности не знал, когда засыпал Ленин, во сколько просыпался. Он сам себе установил шестнадцатичасовой рабочий день и сам же его то и дело нарушал.
— Вот еще полчасика — и все…
Однажды домашние, чтобы хоть как-то облегчить изнурительный труд Ильича, потихоньку от него заменили тусклую лампу на чуть более яркую. Ленин сразу заметил «подлог», очень рассердился, потребовал «восстановить порядок».
— Это мое рабочее место, и, кроме меня, никто не должен здесь распоряжаться. Никто! Вся Россия сидит без света, а вы мне тут целую иллюминацию устроили. Зачем? На каком основании? Запомните — шестнадцать свечей, и ни одной свечой больше!
Надежда Константиновна попробовала робко возразить:
— Но как же быть с шестнадцатью часами? Тогда и тут надо условиться совершенно твердо — шестнадцать часов, и ни одним часом больше!
Сказала она это так мягко, что Владимир Ильич вдруг перестал сердиться и рассмеялся — громко, безудержно.
— На такие условия почти согласен!..
— Что значит почти? Мы все на этом просто настаиваем.
— Ну, хорошо, хорошо, согласен без всяких оговорок. Только, чур, за временем следить буду сам.
За работой Ленин все чаще и чаще забывал взглянуть на часы. Но после этого случая почти каждый раз перед тем, как сесть за стол, тихонько, чтобы никто не заметил, приподнимал купол зеленого абажура: проверял, та ли лампочка ввинчена.
Разные люди глядели на ту лампу, на ее желтую, слабую, еле тлевшую нить. Разные при этом у людей были мысли, разные возникали чувства.
Один посмотрел-посмотрел и сказал:
— Россия во мгле…
Другие видели дальше и думали: «Рассвет над Россией!..»
Легенда
Мы приехали в Горки с первым утренним поездом и за день осмотрели там все — и дом, и парк, и окрестности. В доме проникли в самые заповедные уголки, осторожно поднялись по скрипучей, почти вертикальной лесенке с перильцами для обеих рук — Ленин подымался по ней, когда начал поправляться после тяжелой болезни. Тихо постояли в маленькой комнате с окном, настежь распахнутым прямо в кипень весенней листвы, — тут встретил он свой смертный час. В парке обошли все тропочки, по которым когда-то ходил Ленин. Увидали леса и поля, в строгом молчании раскинувшиеся вокруг.
Возвращались в Москву уже вечером, переполненные впечатлениями, приумолкшие от нахлынувших мыслей и чувств.
Было такое ощущение, будто побывали мы не в музее, а в доме у живого Ильича. Даже лакированные перильца на крутой деревянной лесенке показались нам еще не остывшими от прикосновения ленинских рук.
Видно, никогда не может стать далекой историей все то, что связано с Лениным, с его памятью. Но ветер времени все-таки настойчиво шумит в ветвях могучих дубов старых Горок, и по местам тем давно уже кочуют предания и легенды одна удивительнее другой.
Необыкновенную историю рассказал нам в вагоне один случайный попутчик, старый солдат, медали которого позвякивали в такт колесам бегущего поезда.
…Когда Ленин умер и настал срок проводить его последний раз в занесенную снегами Москву, комендант Горок сбился с ног: мост, что на дороге от дома Ильича к станции, совсем расшатался, истлел, а по нему должны пройти тысячи, десятки тысяч людей.
Что делать? Как быть?
Построить новый мост и в обычных условиях дело трудное, а тут горе горькое всем и каждому застит глаза. И стужа лютая все крепчает — топоры из рук валятся. Знамена покрываются инеем, — не видать, где кончается красный, где начинается черный цвет.
Из Москвы срочно вызвали инженеров, специальные воинские части. Рано утром двадцать второго января саперы партиями начали прибывать в Горки.
— Ничего не скажешь, быстро приехали, — вздохнул солдат с медалями, — да только не успели ко времени.
— Как это не успели? Не может быть! — перебил кто-то солдата. — Ты толком расскажи.
— Я толком и сказываю. Приехали, значит, инженеры, а старого моста в Горках уже нет, будто сроду его там и не было. Заместо него новый стоит. Да, да! Не подумайте, чудо какое, — мужички сами за ночь построили. Деревень вокруг много, каждый двор по бревну приволок, каждый костер запалил. Ну, а остальное-прочее — русская смекалка. Самое трудное было землю строгать. Закоченела насквозь — ни огонь, ни кувалда не берет. Ломом ударят — как чугун об чугун. К утру поддалась, однако.
Честно говоря, никто из нас не знал, верить солдату или не верить, а он помолчал, закурил, скосил глаз в оконную темень — и опять за свое:
— Инженеры походили вокруг моста, постучали молоточками по бревнам. Потом еще саперы целым батальоном по мосту раз десять туда-обратно протопали. Хоть бы что! Стоит мосток, не шелохнется! Признали инженеры мужицкую работу справной, выдали тому мосту паспорт, чтобы по всем правилам…
— Легенда! — снова перебил кто-то увлекшегося солдата. — Но придумано хорошо, складно. Верить хочется.
— Не знаю, легенда или не легенда, — поднялся со своего места солдат, — как хотите считайте, а мост тот батя мой своими руками строил, царство ему небесное.
Солдат стал не спеша пробираться к выходу. В самом конце вагона он обернулся в нашу сторону, сказал негромко, но так, что всем нам было слышно его совершенно отчетливо:
— Легенда так легенда. Пусть будет по-вашему. Только я по тому мосту двадцать второго-то января самолично сапером шагал. Раз десять туда и обратно. Так-то вот!..
Поезд остановился. Солдат сошел на какой-то крохотной станции. Мы тронулись дальше.
Долго еще, до самой Москвы, сквозь стук колес все слышалось нам, как позвякивали медали на груди старого солдата.
В одной гостинице
В тот день, когда я поселился в гостинице, горничная, пожилая, поседевшая женщина, сказала мне тихо, приложив палец к губам:
— Здесь жил Ленин.
Она едва заметно кивнула в сторону узкой, невысокой двери, выходившей в длинный коридор второго этажа, и, видимо уловив мой нечаянный жест, повторила:
— Не верите? В этом самом номере.
— Нет, отчего же, вполне возможно. Но почему это такой большой секрет? Я хотел бы войти, посмотреть.
Горничная улыбнулась.
— О, я обязательно покажу эту комнату русскому, но не сейчас, когда будет свободна. Лучше всего завтра утром.
Она помолчала, потом добавила грустно, будто извиняясь за кого-то:
— По утрам там никого не бывает.
Весь остаток дня, шагая по чужому городу, вслушиваясь в непривычную речь, вглядываясь в лица незнакомых людей, вспоминаю о разговоре с горничной, верю и не верю ее словам. А утром в мою дверь раздается еле слышный стук. Открываю. Передо мной с чешуйчатой трубкой пылесоса в руках стоит вчерашняя знакомая.
— Сейчас можно посмотреть.
Быстро собираюсь. По отлогой каменной лестнице спускаемся на второй этаж, переступаем порог комнаты, поначалу вроде бы ничем не приметной.
Здесь все как и в других номерах гостиницы на маленькой улочке города тихой северной страны — такая же деревянная кровать, такой же стол, такой же пейзаж за окном.
Но вот я всматриваюсь в движения женщины — как переставляет она стулья, как стирает пыль с подоконника, как легко, почти невесомо, ступает по ветхому коврику, — и все вещи в комнате вдруг оживают.
Вот она дотрагивается до вазы с цветами, проводит тряпицей по звенящим стеклянным граням, меняет воду у цветов, повертывает каждый из них венчиком к солнцу, отступает на шаг, возвращаясь снова к вазе, осторожно расправляет лепесток, заблудившийся в тюлевой занавеске, и неизъяснимое чувство охватывает все мое существо.
— Мадам, так было здесь и при нем?
— Да, именно так все и было. Это я от матери знаю.
Женщина касается пальцами спинки стула и подходит к светлому окну, в стекла которого постукивают почками упругие ветки скандинавской неторопливой весны.
Мне довелось прожить в гостинице дней пять или шесть. Каждое утро раздавался осторожный стук в дверь моего номера, и я слышал знакомый голос:
— Это опять я, как условились.
Так несколько раз побывал я в музее Ленина — еще никем официально не созданном, но уже много лет бережно хранимом простой старой женщиной в белом переднике…
В Березках звонит колокол
А. Д. Андрееву
Сгорела в селе Березки церковь. Была она деревянная, старая. Сто лет мокла под дождем и снегом, сто лет сохла на ветру и солнце. Как вспыхнула — до последней щепки сгорела. А колокол даже расплавился. Медная лужа от него осталась на пепелище.
Погоревали мужики, покручинились, решили письмо в Москву послать: так, мол, и так, помочь просим.
Развели чернила, раздобыли где-то листок бумаги, сели вокруг стола, а писать-то и некому — был один грамотей, и тот, как на германскую ушел, пропал без вести. Новые писари не подросли еще.
— Да и ходит ли сейчас почта? Лучше самим ехать, — сказал пастух Никодим. — Для верности прямо к Ленину пробиваться надо.
— Ну, уж ты хватил — к Ленину! — засмеялись мужики.
— К нему! — настаивал пастух. — Он нашу жизнь понимает душевно. Он уважит, только подход к нему надо иметь.
— Ну, раз ты такой умный да прыткий, тебе и ехать!
— А что ж, пожалуй, — согласился Никодим.
Не знал он тогда, какой тяжелый крест сам себе выбрал. Нелегко было до Москвы доехать. Сколько буферов согрел своим телом пастух, сколько раз отставал от поезда!
Но главные трудности ждали его уже там, в кабинете Ленина.
Переступил Никодим порог и вдруг оробел. Ленин расспрашивает, как доехал, как дела в деревне. А Никодим вокруг главного ходит, никак не скажет об истинной причине своего приезда в Москву.
Достал пастух из туеска пресную лепешку, угощает Ленина. Ильич улыбается.
— Вкусно. Очень вкусно! Но вы все-таки признайтесь честно, зачем в такую даль приехали?
— Ежели честно, Владимир Ильич, мы к вам за колоколом. Церковь у нас сгорела…
— Вы это вполне серьезно?..
— Серьезно, Владимир Ильич.
Ленин в полном недоумении встал из-за стола, развел руками и… расхохотался.
— Превосходно! Нет, это просто очаровательно! К самому завзятому безбожнику пришли просить колокол! Этого бы и сам Лев Толстой не смог выдумать!..
— Да я… Да мы… Может, кто зимой с дороги собьется — ударим в набат, чтоб, значит, спасти человека, — не очень ловко оправдывался пастух, которому вся эта затея с колоколом показалась и впрямь совершенно нелепой.
Ленин мелкими шажками ходил перед Никодимом, смеялся так громко и так заразительно, что пастух, глядя на него, начал виновато и обескураженно улыбаться.
Но было ему в общем-то не до шуток.
А Ленин вдруг, будто вспомнив что-то, направился к своему столу — на лице от смеха одни морщинки остались.
— Дорогой товарищ Никодим, не мне вам рассказывать, в каком положении страна. Нет не только хлеба и топлива, нет и металла. Мне вот срочно надо поговорить с одним заморским господином — вторую неделю не могу соединиться: порваны все линии, и нет меди на провода.
Ленин стал таким серьезным, каким пастух никогда и не думал его увидеть.
— Вам все ясно, товарищ Никодим?
— Все, Владимир Ильич.
— Ну, тогда по рукам! Извинитесь за меня в селе. Так и скажите: не дал Ленин колокола, но причина у него уважительная.
— Так и скажу, Владимир Ильич.
Вернулся Никодим в село, рассказал мужикам все, как было, — те только головами покачали:
— Зря человека от дела оторвал.
— Зря, — согласился Никодим.
А весной, когда уже все перестали вспоминать о Никодимовой поездке, в село из Москвы привезли колокол…
— Принимайте, — сказал подоспевшему Никодиму рабочего вида человек, сопровождавший необыкновенную посылку.
Все село собралось посмотреть на диковинный колокол. Был он небольшой, чуть побольше обычной ступки, но майское солнце так играло на его светлых боках, что казался он огромным слитком серебра в руках Никодима.
Стоявший подле пастуха рабочий громко прочел собравшимся надпись, славянской вязью горевшую на бортике колокола:
— «Мастер лил в городе Валдае…»
Он оглянулся вокруг, пристально поглядел в глаза притихших людей и сказал:
— Товарищи! Владимир Ильич просил передать всем вам большой привет и напомнить, что он есть самый главный безбожник на Руси и во всем мире. Ну, а дальше вы уже сами соображайте.
К зиме в Березках построили школу. По этому случаю собрались мужики и порешили:
— Церкви все равно у нас пока нет. Давайте колокол над школой повесим, а там видно будет.
По звонкому колоколу ребята окрестных деревень начали с книжками в школу бегать.
Вскоре создали в тех краях первый колхоз — колокол стал звать крестьян на работу, которая впервые за всю историю была счастливой и радостной.
Когда началась Великая Отечественная война, над округой прокатились тревожные волны набата, и все от мала до велика узнали звук родного колокола. Пошел народ защищать Отчизну.
Колокол и сейчас висит у школы, сияя серебром на солнце. Кто хоть один раз побывает в Березках, тот никогда не забудет этого колокола, отлитого русским умельцем давным-давно и по сей день не утратившего чистоты своего голоса.
В Березках звонит колокол. И мне даже сдается, что с каждым годом звучит он все чище и все дальше слышится.
2
Семья
Перед войной Дмитрий Лобанов работал секретарем у Калинина. Тот очень ценил парня — расторопный, исполнительный, честный. За какое бы дело ни взялся, обязательно доведет до конца.
Михаил Иванович заботился о своем старательном помощнике, даже немножко его баловал. У Дмитрия была семья — жена Люба и мать Дарья Михайловна. Старик, бывало, нет-нет и спросит:
— Ну как там твои дамы?
Или глянет на часы и скажет:
— А ну-ка, марш домой! Завтра закончишь, а нынче ступай побудь малость со своей красавицей.
Дмитрий гордился тем, что довелось ему работать с таким человеком. Жена, слушая рассказы Дмитрия, задумчиво улыбалась.
— Любит он тебя, Дим. Тебя не любить нельзя.
С женою Дмитрий жил дружно, все время стремился хоть чем-нибудь помочь ей по дому.
— Ты, Любаш, отдохни, я сам все сделаю, — говорил он, если замечал, что Люба устала.
Соседи, глядя на них, радовались:
— Что он, что она, все как есть семейство счастливое. А как люди-то к ним тянутся! У них сам Калинин в гостях бывает. Прошлой осенью приезжал на пироги.
Это и в самом деле было счастье. Но война не постеснялась, ворвалась и в этот дом.
Утром двадцать пятого июня почтальон принес Дмитрию повестку из военкомата. Перед самым уходом на работу парень прочел краткое, но выразительное послание военкома. Жена насторожилась:
— Что это, Дим?
— В армию зовут. Вот предписание. Только ты не волнуйся. Я и рад бы, но хозяин от себя разве отпустит! Ты же знаешь его. Эх, был бы я сейчас на своем «Серпе», повестки бы не стал дожидаться!
Дмитрий с подчеркнутым спокойствием сунул открытку в карман пиджака и ушел на работу, первый раз за пять лет забыв проститься с женой.
Калинина весь день не было на месте. Он несколько раз звонил откуда-то, надавал Дмитрию множество неотложных заданий и приехал только вечером.
— Ну, как тут? Рассказывай.
Дмитрий раскрыл папку и начал докладывать, как всегда, обстоятельно, четко, немножко даже рисуясь своим умением держать в голове одновременно десятки сложнейших вопросов.
Вид у Михаила Ивановича был уставший, лицо осунулось, но он слушал очень внимательно и по обыкновению даже похвалил секретаря:
— Голова у тебя государственная. В случае чего за всю державу может сработать. Я за тобой как за стеной каменной.
Подписав все бумаги, поговорив по всем записанным Дмитрием телефонам, Калинин попросил стакан чаю — первый за весь длинный день, — но, не сделав и двух глотков, снова обратился к стоявшему рядом Дмитрию:
— Дома у тебя как?
— Спасибо, все хорошо, только Люба вот волнуется.
— Что-нибудь случилось?
— Ничего серьезного. Повестка из военкомата пришла. Срочно я им, видите ли, понадобился.
Калинин опустил обратно в стакан поднесенную было ко рту ложку с чаем.
— Повестка? Ну-ка, ну-ка, дай поглядеть, что и как они там пишут.
Дмитрий не спеша начал шарить по карманам, словно и в самом деле забыл, в какой из них сунул утром свернутую вчетверо открытку. Отыскав, протянул Калинину, и хотя старик, судя по всему, шутить больше не собирался, сказал не без иронии:
— Чудак товарищ военком! У нас ведь тут тоже дело серьезное.
Лицо Калинина посуровело, морщины на нем обозначились резче обычного.
— Да-а-а… Это ты верно говоришь, серьезное дело… Почему не доложил сразу? Знаешь ли ты, дружок, — Калинин встал из-за стола и подошел к Дмитрию вплотную, — знаешь ли ты, что из всех сегодняшних бумаг эта для нас с тобой, может быть, самая наиглавнейшая? Ведь тебе же отсрочка нужна?
Михаил Иванович поглядел на часы, потеребил клинышек белой бородки и добавил:
— Пусть отложат хоть на денек.
— Как на денек?.. — Дмитрий поднял на Калинина широко раскрытые, полные недоумения глаза.
— На сутки, точнее. Тебе же надо собраться.
Металлическая оправа очков старика сверкнула резко и остро, словно подчеркнув категоричность его слов.
— А сейчас шагом марш к женке. Вели месить пироги. Пусть, если можно, испечет с грибами, как давешней осенью, помнишь? Сам приду тебя проводить.
— Ой, что вы… Спасибо, Михаил Иванович…
— Ступай, ступай, Дима, время летит. И помни: с победой воротишься — место твое будет свято, никому не отдам. Придешь с войны — сразу ко мне.
Люба не успела испечь пирогов. Поздно ночью к Лобановым постучали. Когда Дмитрий распахнул дверь, то спросонья не сразу сообразил, что перед ним в кепке и в пальто с поднятым воротником стоял Калинин. Едва переступив порог, он сказал:
— Не стану я, Димушка, звонить военкому. Ты уж прости меня, старого. Рука моя не подымется. Так что собирайся.
…Ранний рассвет застал Калинина, Дмитрия и Любу на Белорусском вокзале.
Они шли вдоль густо переплетенных запасных путей, отыскивая свой эшелон.
В полутьме никто не узнавал Калинина, быстро семенившего по шпалам, и на его расспросы торопившиеся люди отвечали коротко:
— Кажется, вон там, дед, за водокачкой.
У высокого журавля семафора паровозом на запад стоял готовый к отправке состав. Тут уже подходил к концу митинг.
Один из выступавших, пожилой рабочий в спецовке, глянув на Калинина, сказал:
— Провожаем мы вас всей большою семьей. Вот папаша пришел. Вот еще старики, вот бабы. От всех москвичей наказ вам, хлопцы: сдюжите! А ежели трудно будет, скажите, мы пойдем на подмогу. — Он обратился уже прямо к Михаилу Ивановичу: — Верно я говорю? А?
— Верно, — кивнул Калинин. — Вот мальчиков проводим — и сами…
— По ко-ням!.. — прохрипел вдруг чей-то осипший бас. И почти в ту же секунду вагоны, чокнувшись друг с другом буферами, поползли, на ходу втягивая в себя отъезжающих.
Из всех дверей и люков товарняка к не засыпавшей в ту ночь Москве полетела песня:
Пусть ярость благородная Вскипает, как волна. Идет война народная, Священная война!..Люба и Михаил Иванович шагали с вокзала молча, погруженные в свои мысли.
А Москва уже провожала другие эшелоны. Снова и снова в центре ее и на окраинах вспыхивала песня о народной войне. В начале дня Люба слышала ее из окон своего цеха, Михаил Иванович — из дверей и люков красных вагонов уже на другом вокзале, где, гремя чугуном буферов, один за другим отходили на запад составы…
…Примерно через неделю в кабинете Калинина появилась Люба.
— Ну что? Как дела? Пишет? — Михаил Иванович отечески обнял ее за плечо.
— Нет. Не пишет. А я вот написала заявление — в военкомат.
— Прекрасно! — воскликнул Калинин. — И что же они? Патриотизм оценили?
— Разревусь я сейчас, Михаил Иванович…
— Значит, не оценили. А я бы оценил, честное слово, оценил!
— Я ведь все делать умею. Позвоните, пожалуйста, им, ну, пожалуйста!
— И позвоню. А раз все делать умеешь — тем более. Скажу, чтобы непременно в ту же самую часть направили, где муж воюет. Это уж я своей властью сделаю. Теперь не постесняюсь. — Калинин еле заметно улыбнулся. — А пирогов, видно, опять не будет?
— А пироги я уже испекла…
Люба развернула маленький, перевязанный тесемочкой сверток, и они оба рассмеялись — на промасленной бумаге лежали три румяных остроносых пирожка.
— Один вам, другой мне, а третий я ему свезу, — сказала Люба. — Буду пулей лететь, чтобы не зачерствел!..
Они молча стояли друг против друга. Если бы кто-нибудь мог видеть их в эту минуту, то, наверное, навсегда запомнил бы их глаза — Любины, мгновенно повзрослевшие, ставшие из серых совершенно стальными, и стариковы, помолодевшие по крайней мере лет на двадцать.
Калинин подошел к широко распахнутому окну, с минуту помолчал, потом сказал не оборачиваясь:
— А самому́ передай — жду его, как сына.
Солдатская ложка
Обыкновенная алюминиевая ложка. Я нашел ее под Харьковом, в выжженной огнем и солнцем степи, осенью сорок первого.
Прижал нас немец возле одной деревни, двое суток головы поднять не давал. Зарылись мы в землю, лежим, думаем: должны же когда-то кончиться эти чертовы мины! А он садит и садит из-за леса, ни тебе отдыха, ни срока.
— Зарывайся глубже, ребята! — командует взводный. — Я его норов знаю.
Стали мы глубже копать, а взводный подбадривает:
— Лопата — она чего? Шанцевый инструмент. Стало быть, солдату шанец есть живому остаться. Копай веселей, кому жизнь не надоела.
Копаем, а сами думаем: кому ж от мины-дуры подыхать охота? А тут еще шанец!..
Стал я рыть вместе с другими. Дело к ночи идет, а мы знай вгрызаемся в заклекшую землю. Немец между тем не унимается.
— Неправда, к утру поистратится, — пошучивает взводный. — Мины — они чего? Им тоже конец приходит.
Но конца тем минам не было. И утром мины, и вечером, а к ночи совсем невтерпеж стало.
Пришлось отходить, как говорится, на заранее приготовленные позиции. Сперва по-пластунски ползли, потом в рост поднялись. Аж до Малых дорог довелось топать. Но и там, на «заранее приготовленных», передышки нам тоже не было. Пришли мы к Малым, а он тут как тут. Из-за каждого облака «юнкерс» кидается.
Если просто сказать, что хватили мы горя под Малыми дорогами, — значит безбожно приукрасить действительность. Живого места на земле той не было. Здесь уж даже и окопаться не успели — рухнули с разбегу в канавы да лужи, а он давай ровнять землю-матушку.
— Немец — он во всем порядок любит, — не падает духом взводный. — Подровняет малость — уймется!
Если бы не командирская шутка, мы бы, наверное, совсем приуныли. Взводный, видимо, чувствовал это, и сквозь грохот боя все время слышался его голос:
— Не бойсь, ребята! Целься точно в мотор, скоро всем им капут гемахт, всем «юнкерсам»! Ловчее всего со спины стрелять, вот так!
Лег и я, как приказал мне взводный, на спину, чтобы удобнее было, а между лопаток и вонзись мне железяка какая-то. Перевертываюсь — ложка! Самая обыкновенная, солдатская. И слышу над самым ухом опять голос взводного:
— Не зевай, подымай — пригодится!
Глянул я на него искоса, а он:
— К обеду так просто незаменимая вещь!..
Очнулся я в медсанбате. Пошарил глазом вокруг, вижу — ложка со мной. Возле самых носилок кем-то положена. Ну, думаю, жив-здоров! Кому ж в голову придет мысль ложку таскать за человеком ненадежным! Видно, числюсь я еще у какого-то старшины в списках.
Взял я ложку, поднес к глазам поближе и только тут заметил, что она совсем не простая. Чья-то ловкая рука четко выгравировала по белому ее алюминию украинский национальный орнамент, а рядом с затейливой вязью врезала в металл слова.
Вчитываюсь — названия городов!
Львов.
Тернополь.
Житомир.
Киев…
Показал я ложку соседу по палатке, старому солдату. Думал, подшутит он над неизвестным чудаком гравировщиком. Думал даже — вместе мы с ним посмеемся. А служивый прочитал надписи на ложке сначала про себя, потом без всякой усмешки еще вслух начал отсчитывать, загибая упрямые, заскорузлые пальцы:
— Львов, Тернополь, Житомир… Да-а, браток, много горюшка этой ложкой выхлебано. И еще для других городов место имеется. Смотри-ка! В общем не ложка — история войны. — Он помолчал, вздохнул, потом добавил: — Не дописал якись хлопец всей истории, царствие ему небесное. Другим, видать, придется дописывать.
Подлатали мы со старым здоровьишко при докторах, снова в свою часть направились.
Как только вышли из санбата, я ложку (не по уставу, конечно!) за кирзовое голенище сунул. Она сразу нашла там себе уголок поудобнее…
…Не слишком часто вспоминали мы про ложку после госпитальских-то харчей — когда не поспишь, когда не поешь, а чаще всего и то и другое вместе.
А если когда и выпадало счастье пообедать в тишине и спокойствии, так мы той ложкой, бывало, щец похлебаем или кашицей побалуемся, на остальное-прочее времени уж не оставалось. Не до граверных работ было.
Однако весной проняло-таки нас со стариком лирическое настроение. То ли дела на фронте лучше пошли и сводки стали интереснее, то ли еще по какой причине, но как-то на привале в березнячке, у приглушенного костра, повертели мы ложку в руках и порешили продолжить необыкновенную летопись, начатую первым владельцем нашей кормилицы.
Сходим ночью в разведку, «языка» приведем, а наутро бой. А еще наутро город берем с боем. Потом замполит радиста кликнет — по радио Левитан подтвердит нам информацию замполита. Больше всего нравилось нам, как произносил он слово «овладели»: говорит — каждую букву как по железу рубит. У меня так даже мороз по коже пробегает, по тому самому месту промеж лопаток, куда ложка когда-то врезалась…
Послушаем мы, убедимся, что все в точности совпадает и никакой ошибки быть не может, имя того города торжественно вырезаем на светлом металле нашей ложки-чудесницы. Вооружимся ножом и режем, не крупно, чтобы все уместилось, но поглубже, чтобы не стерлось, — нам ведь еще далече шагать, черт те куда!
И что же? Скоро заметили мы, что названия городов на ложке начали повторять, что уже были до нас нарезаны, только идут они в обратном порядке:
Харьков.
Киев.
Житомир.
Тернополь…
— Слушай, а ведь это и в самом деле не ложка, а история войны получается — «Краткий курс Великой Отечественной», — заулыбался мой напарник.
Рассказали мы о ложке молодым ребятам во взводе. У них даже глаза заблестели.
— Вот это ложка! Чудо!
— Не ложка, а «катюша»!
Ну, а взводный, как всегда, был всех мудрее, всех рассудительнее:
— Все города и деревни у вас в котелке, братцы. На самом дне Берлин заховался. Хлебай веселее!
Становилась наша ложка и на самом деле чудом каким-то, приезжали даже из армейской газеты корреспонденты, фотографировали, как солдаты необыкновенной ложкой кашу едят. Стали нашу ложку взаймы просить:
— Мы только снимемся и отдадим. Надо фото домой послать.
Любимец всего взвода поэт Володя Федоров написал про эту ложку стихи. Мы читали их вечерами друг другу, слали в письмах родным, вспоминали при взятии городов — больших и малых:
Знают дороги, кто мы такие. Солдатская ложка, и ты не забудь Львов и Тернополь, Житомир и Киев, Сумы и Харьков — огненный путь. Можно ль забыть те дороги степные? Ждите назад опаленных бойцов, ждите нас, Харьков, Сумы и Киев, ждите, Житомир и Львов!..Пришел час, зазвучали стихи эти уже за кордоном, над не нашей, чужою землей. Тут шутку взводного насчет Берлина мы и вспомнили.
Перевели дух как-то утром, позавтракали на зеленом речном берегу, вымыли ложку в прозрачной водице, оттерли мелким желтым песочком нашу кормилицу до блеска и написали на последнем ее свободном уголке:
Берлин!
И восклицательный знак поставили.
Вот и все.
А в общем что ж, обыкновенная алюминиевая ложка. Я нашел ее под Харьковом во время войны — осенью сорок первого.
Азбука Морзе
В то лето я упорно изучал морзянку. Вставал раньше всех, взбирался на черепичную крышу дома, затерявшегося в густой южной зелени, и, повернувшись лицом к морю, начинал подавать сигналы всем кораблям, проходившим мимо феодосийской бухты.
На мои приветствия никто не отвечал, меня просто не было видно с большого расстояния, но мне очень нравилось не только составлять отдельные слова, но и строить целые фразы, обращенные к прославленным капитанам.
С пологой крыши дачи, в которой размещался наш отряд, неслось в открытое море:
— Доброе утро, «Красный Кавказ»!
— Здравствуй, «Георгий Димитров»!
— «Парижской коммуне» пионерский салют!
Я был уверен, что рано или поздно какой-нибудь капитан увидит меня, выйдет на мостик и передаст привет нашему отряду. Не случайно же, в самом деле, мы носили морскую форму, пели матросские песни, а по вечерам у костра вожатый рассказывал нам героические истории, услышанные им от настоящих моряков.
Однажды, почти перед самым отъездом в Москву, мне действительно повезло. Правда, сигналы мои были приняты не знаменитым военным кораблем, а всего-навсего крошечным грузовым катером, перевозившим арбузы из Судака в Феодосию, суденышком, на борту которого красовалось не очень величественное название «Медуза». Но все-таки я торжествовал победу: на узенький, едва возвышавшийся над водой капитанский мостик вышел человек в брезентовой куртке.
— Меня услышали! Сейчас с нами будут говорить! — закричал я на все Черное море и, захлебываясь от восторга, волнуясь и спеша, передал на борт катера:
«Здравствуй, „Медуза“! Я — отряд „Золотой якорь“. Прими привет от юных моряков Красной Пресни! Перехожу на прием».
Ответ «Медузы», которого я дожидался с таким нетерпением, поразил меня в самое сердце:
«Я — „Медуза“. Скажи своему вожатому, чтобы учил тебя лучше. Букву „эр“ совсем не выговариваешь. Завтра свяжемся в это же время. Матрос Гусев».
Весь день зубрил я это проклятое «эр», а на рассвете Гусев, приняв мою депешу, ответил совсем коротко и мрачно:
«Плохо. Учи еще».
Но учить уже было некогда — на вечерней линейке вожатый объявил нам, что утром отряд «сушит якоря» и берет курс на Москву…
Всю осень и всю зиму продолжал я заниматься морзянкой, тщательно отрабатывая каждый знак, каждую букву, особенно злосчастное «эр», из-за которого так позорно провалился. А летом отряду нашему снова посчастливилось бросить свой золотой якорь на полпути от Судака к Феодосии, и снова начал я чуть свет забираться на розовую черепичную крышу.
Уже на второй день нашего пребывания на Черноморском побережье мне удалось подкараулить знакомый катерок, тяжело зарывавшийся носом в глянцевой зеленой волне, и снова трассирующей строкой тире и точек дотянулся я до его мостика:
«Дорогая „Медуза“, здравствуй!»
«Здравствуй, „Якорь“. А ты все еще картавишь? Когда же будет порядок?»
«Товарищ Гусев, я учил всю зиму…»
«Гусева нет на катере. Ушел на военную службу. За тобой проследить поручено мне. Моторист Переверзев», — отчеканил сигнальщик, усиленно налегая на букву «эр» в каждом слове, особенно в своей фамилии.
Все лето Переверзев тренировал меня, и когда настала пора прощаться, на черепичной крыше была принята одна из самых замечательных телеграмм на свете:
«Теперь толково. Бывай здоров».
…Война привела меня на Крайний Север. Служил я на далеком, занесенном снегами маяке, мимо которого днем и ночью шли караваны тяжелых транспортных судов под охраной военных кораблей. Днем и ночью несли мы свою неусыпную вахту, а день там ничем не отличался от ночи, утро — от вечера.
Иногда по целым суткам не уходили мы со своего поста, встречая каждый караван каскадом светящихся тире и точек.
Часто вспоминал я на этом одиноком маяке крышу крымской дачи, и на душе у меня становилось тепло и радостно. Я мечтал после войны обязательно приехать в знакомые места, отыскать дорогую теперь моему сердцу «Медузу», поговорить с Переверзевым, но война затягивалась, и мимо маяка все шли и шли караваны судов с пробитыми фальшбортами, обгорелыми палубами, снесенными напрочь мачтами, и лучшей музыкой в мире были для них летящие с маяка слова:
«Путь открыт. Следуйте своим курсом…»
Редкий караван проходил мимо маяка молча. Хоть два-три слова, а скажет нам через своего сигнальщика:
«Спасибо, ребята, за службу!»
А однажды между нашим маяком и одним караваном произошел такой разговор:
«Путь открыт, следуйте своим курсом».
«Спасибо. Жму лапу „Золотому якорю“!»
«Переверзев?.. Здравствуй, дружище! Как ты меня узнал, Переверзев?..»
«Такого чистого „эр“ я не слыхал еще никогда на свете. Поздравляю. Сегодня же сообщу Переверзеву. Гусев».
Через день на маяк пришла адресованная мне телеграмма:
«Прими и мои поздравления. Теперь совсем толково работаешь. Бывай здоров. Переверзев».
И опять разошлись наши жизненные пути. Надолго ли? Не знаю. Знаю только, что Гусев с Переверзевым могут объявиться в любую минуту, на любом корабле, поэтому я, хоть и считаюсь опытным сигнальщиком, каждый день занимаюсь морзянкой, увеличиваю скорость передач, тщательно отрабатываю каждый знак, каждую буковку, чтобы всегда без запинки можно было сказать своим знакомым и незнакомым друзьям на языке морзе:
«Путь открыт. Следуйте своим курсом!»
Возле Старых дорог
Солдаты лежали в продымленной землянке и разговаривали. В темноте не было видно, сколько собралось тут народу — двадцать человек, или сорок, или все сто, — но разговор у них был общий, один на всех, и велся как-то так, что никто не мешал друг другу, хотя часто один другого перебивал на полуслове.
Комбат Майоров привел меня сюда обогреться, пристроил возле раскаленной печурки и исчез.
При появлении постороннего человека разговор сначала притих, но через некоторое время возобновился.
— Не зря, значит, слава о ребятах из первой роты идет? — спросил кто-то, свесившись с верхней нары.
— Зря или не зря, а в бою они побывали не раз, — отозвался ему тонкий, почти детский голосок из самого дальнего угла.
— Придет скоро и наш срок, — прогудел немолодой, хрипатый бас где-то совсем рядом со мной. — Я вот, можно сказать, старик, а и то в настоящем деле вместе с вами отличиться думаю.
— Правильно, папаша, мы хуже первой, что ли? Да мы еще, может…
— А ты случайно не из первой?
Я не сразу сообразил, что вопрос этот адресован мне, и еще несколько мгновений молча следил за короткими перебежками синих огоньков в печурке.
— Не из первой? — снова услышал я за своим плечом и обернулся на голос, но никого во тьме не увидел.
— Это про меня, что ли? — спросил я наугад.
— Про тебя.
— Нет, не из первой.
— Жаль.
— Почему?
— Да мы тут все новички, только-только с пересыльного, а в первой, говорят, герой на герое. Правда, мы их пока не видали, все легенды одни слышим, вот и хотелось взглянуть на настоящих людей, так сказать, невооруженным глазом.
— Легенды? — спросил я.
— Ну, одним словом, молву всякую.
— А вы не сомневайтесь, соседям вашим геройства и впрямь не занимать. Я вчера был у них, познакомился.
— А мы и не сомневаемся, наоборот, с полным фронтовым почтением! — отозвался уже знакомый мне бас. — Ежели честно сказать, мы даже в зависти. Верно, что ли, сыночки?
— Так точно, папаша, в нашей роте своих героев покуда нет.
— Откуда ж им быть? Герои с неба не падают, — рассудительно проворчал «папаша» и присел рядом со мной у печки. — Собрали нас с бору по сосенке, в бой не пускают, все чего-то дожидаются, а мимо нас маршевые топают и топают. Нас только зря по тревоге каждую ночь поднимают. Всполошат, построят — скидай, говорят, хорошее обмундирование в пользу тех, кто с марша в бой прямиком. Намедни разбудил старшина, выстроил в лесу: сымай новые шинеля, а в обмен — обноски всякие. Давеча построил — и как курам на смех: «Шапки долой!» Заместо своих теплых треухов получаем шлемы «рваные паруса»…
Солдаты дружно рассмеялись, а хрипатый, обращаясь ко мне, продолжал:
— Утром была у нас политинформация. Новый замполит заступил. Ничего еще толком не знает, не ведает. «Ну, кто, говорит, слышал, какая нынче сводка? Чего-нибудь наши взяли?» — «Взяли, отвечаю, товарищ замполит, взяли». — «Докладывай, говорит, сам слышал?» — «Даже видел, товарищ замполит: взяли у нас маршевики сто двадцать шапок — и айда на Берлин!»
От общего хохота с новой силой заметались синие огоньки в печурке. Когда в землянке снова стало тихо, я спросил:
— Ну, и как? Очень рассердился замполит?
— Не-е. Он мужик, видать, ничего, с пониманием. Вместе с нами посмеялся и говорит: «Настанет час, и мы с вами в Берлине будем, а в разбитых лапотках даже шибче шагается, это вы уж мне поверьте».
Землянка опять задрожала от хохота, будто небо над нею низко летящий снаряд пропорол.
Когда солдаты угомонились, хрипатый опять за свое:
— Ну, мы, кажись, сбились с азимута. Начали про Фому, а перешли совсем на Ерему. Я вот про ту роту думаю. Ты, стало быть, был в первой? — тронул он меня за плечо.
— Вчера.
— Герои?
— Ага.
— Все как есть?
— Имеются.
— Вы слышите?
Ему не ответили — дверь землянки, неожиданно взвизгнув, широко распахнулась, снаружи со свистом и шипением вкатился лохматый клубок мороза, тусклый луч света скользнул по сбитым подковкам сапог у лежавших вповалку солдат. Потом снова стало темно и тихо. Кто-то пробурчал:
— Дует, как при капитализме.
После нового взрыва хохота разговор продолжался. О героях, о подвигах, о храбрости тех, кто там, впереди, шагал по гудящей земле сраженья, со смешком и всерьез говорили разомлевшие в тепле солдаты.
— А в первой что? А в первой как? — все чаще сыпались ко мне их вопросы.
Я сперва коротко отвечал, односложно, но постепенно незаметно для самого себя втянулся в разговор, сам стал вставлять словечки, вспоминать разные дела да случаи из фронтовой жизни.
Рассказал я притихшим солдатам и историю про одного волжанина, услышанную мною вчера в первой роте.
— Про пекаря будет рассказ, — полушутя-полусерьезно предупредил я и пошевелил полешком начавшие темнеть угли.
— Про пекаря?! Нам бы про героя…
— Да дайте вы человеку высказаться. Пекаря — они тоже разные бывают, — поддержал меня хрипатый.
Когда нетерпеливые угомонились, я уселся поудобнее и рассказал все по порядку.
В Белоруссии это было, в районе Речицы. Десяток наших парашютистов после выполнения задания в тылу противника с важными сведениями и документами пробивались к своим. Израненные, измотанные, голодные люди теряли последние силы. Линия фронта была где-то уже недалеко, но чем ближе подходили к ней десантники, тем трудней им становилось. Все дороги забиты немцами, а чуть с большака свернул — полезай в болото. Ни костра развести, ни обсохнуть, а на дворе уже осень глубокая, снег дождю на пятки наступает. Деревни кругом спалены.
И вдруг на исходе одного особенно ненастного дня учуяли ребята где-то совсем рядом, за леском, запах тепла и хлеба. Ничто уже не могло их остановить — поднялись во весь рост, ошалело пошли навстречу одурманивавшему ветру. Скоро они оказались на открытом пригорке, затянутом со всех сторон сетью черно-белых дорог. В колеях давленые отпечатки колесных следов. Видно, весь день месили и трамбовали тут снег и грязь немецкие машины. А в центре пригорка красный кирпичный дом с высокой трубой. Как он здесь уцелел, никто понять не мог. Да об этом в тот момент никто и не думал. Не рассуждая, забыв о всех мерах предосторожности, ворвались парашютисты в дом и остолбенели от удивления: в одном углу пылает жаром не закрытая заслонкой огромная русская печь, а на широких столах вдоль стен — не успевшие остыть, еще чадящие противни. Другой угол почти до потолка завален мешками с мукой.
«Пекарня — не пекарня, склад — не склад! — Командир запустил руку в один из мешков по самый локоть. — Кто пекарить учен?»
«Я могу, — шагнул вперед пожилой солдат. — До войны в Саратове по этому делу работал».
Молодые с завистью и надеждой глянули на него, а командир сказал:
«Ну, вот что. Немец может явиться в любую минуту. Я всем десантом рисковать не могу. Один тут управишься?»
Солдат вместо ответа начал решительно закатывать рукава.
«Молодец! А остальные — кру-гом!»
Он был немножко поэт, а главное — никогда не терял присутствия духа, потому добавил:
«Шагай в болото, моя пехота!»
Под утро с двумя духовитыми, горячими буханками под полами шинели саратовский пекарь явился к своим.
«Только я за порог, а он тут как тут».
«Не заметил?»
«Не-е! Я ж, товарищ командир, не просто пекарь, я пекарь-десантник».
Сказал так и рухнул к ногам товарищей. Думали, объелся там, в пекарне, непропеченным хлебом, кинулись к нему, сдернули одежонку, а у него живот провалился и совсем прилип к позвоночнику. Кто-то понимающе вздохнул:
«Голодный он, как пес, вот и все».
Привели пекаря в чувство, осторожно, как малого ребенка, накормили, а он:
«Нынче к ночи сходить бы еще, а? Немец только днем печет — каждого куста тут боится. Вот и буду с ним в пересменку. Надо ж нам силенок набраться, товарищ командир?»
«Надо».
И пошла в той пекарне круглосуточная работа: днем для немцев хлеб печется, ночью — для наших. Ночью сидит в пекарне волжанин и топит так, чтоб ни искорки не было видно. Под утро съезжаются к пекарне немецкие обозники.
Так продолжалось несколько дней. Окрепли малость ребята, стали трогаться дальше. Последнюю выпечку пекарь вместе с немецкой пулей принес.
— Как с пулей? — перебил меня кто-то из солдат.
— Выследили его таки немцы, с танками автоматчики к пекарне двинулись, — думали, там целая рота печет. Такую стрельбу подняли, что от пекарни одна труба осталась.
— А пекарь?
— А пекарь живым-невредимым к своим добрался в обнимку с горячим хлебом.
— А пуля?
— Пулю они уж потом нашли. Разрезали одну буханку — она к ногам и упала…
— Вот это действительно герой из героев.
— Да-а…
Я уже давно закончил свой рассказ, а в землянке было еще так тихо, будто все продолжали слушать. А может, ребята и в самом деле слушали уже не меня — вой декабрьского ветра в железной трубе печурки, сквозь который все отчетливей доносился грохот далекого боя.
— Ну как? Верно я, значит, сказал? Разные пекаря бывают? — резюмировал мой рассказ хрипатый.
— Верно!
— То-то оно и есть.
На следующее утро я покинул гостеприимную землянку, Комбат Майоров дал мне лошадь и пожелал счастливого пути.
Ездовым у меня оказался один из вчерашних собеседников — пожилой солдат, которого я сразу узнал по густому, охрипшему басу.
Когда мы проехали по лесной дороге километра два или три, он обернулся ко мне и, протянув полный, завязанный «под горлышко» кисет, сказал:
— Куришь? Моршанская. С госпиталя еще берегу. А здорово ты давеча им про пекаря-то! Ух, здорово!
— Вам понравилось? Правда?
— Лихо.
— Мне даже, самому не верится, что такие вещи на свете бывают.
— Бывают. Все как есть расписал, точка в точку. Только в одном месте, сынок, ошибся, и то самую малость.
Я недоуменно глянул на солдата.
— Не в Речице то было, а у самых, считай, Старых дорог, недалече от Белой балки. Понял? — Он весело перекрестил кнутом чуть сбавившую ход лошадь. — А так все справедливо: и про немца, и про хлеб, и про пулю в буханке.
— Справедливо? — удивленно спросил я. — Это хорошо, а то я вот в газету пишу, все боюсь, как бы чего не напутать.
— Говорят тебе, точно, только Речицу на Старые переверни, и полный порядок будет.
— А вы сами-то, папаша, не напутали? Вы сами-то от кого слыхали?
— От кого, от кого! Заладил…
— Нет уж, начали, так говорите до конца, газета есть газета.
— А ты меня не выдашь?
— Что вы!
— И в печать не пропустишь?
— И в печать. А что?
— А то, что везет тебя младший сержант технической службы, коренной волжанин-саратовец. Понял? — Солдат еще раз беззлобно хлестнул лошадь и добавил: — Той самой пекарни, значит, главный пекарь.
Он обернулся, и я в первых лучах рассвета увидел его белый висок.
Солдат гордо распрямил ссутулившиеся на морозе плечи и задумчиво пробасил:
— А героев у нас в отделении тогда не было. Ни одного. Они уж потом пошли, когда я в госпиталь угодил. Ясно? — Он перекинул вожжи из руки в руку и обернулся ко мне еще раз. — Так запомни: не в Речице, а возле самых Старых дорог. Может, и сейчас стоит там кирпичная стена пекарни, совсем ведь недавно дело было — год назад.
— Запомню, отец, — отозвался я и снова, теперь уже совершенно отчетливо, увидел перед собой белый, будто той мукою припорошенный, висок солдата.
Тенеко
Он появился в роте Сергованцева неожиданно. Одетый в штатское, заросший человек небольшого роста вышел на лесную поляну, приблизился и заговорил:
— Командира ест?
— Есть, — в недоумении шагнул ему навстречу Сергованцев. — А ты кто такой?
— Командира ест? — повторил свой вопрос пришедший.
— Ну, предположим, я. — Сергованцев одернул гимнастерку, на воротничке которой не было никаких знаков различия.
— Ты?! — удивленно спросил незнакомец. — Рядовой командира?
— Допустим, и так, рядовой командир. Наш лейтенант Залужный…
Он хотел сказать, что лейтенант Залужный, умирая, поручил командование ротой ему, Сергованцеву, но, смерив подозрительного человека испытующим взглядом, осекся.
— Лучше скажи, откуда ты такой? Штатский или военный? Зовут тебя как?
— Тенеко.
— Как-как?
— Артиллериста Тенеко.
— Артиллерист? Мы таких артиллеристов что-то еще не встречали. Где твоя форма?
— Форума нет, форума совсем больше нет.
С трудом поняли в роте сбивчивый, косноязычный рассказ Тенеко, жителя далекого ненецкого стойбища.
В первые дни войны Тенеко был призван в армию, попал на пересыльный пункт, потом — в эшелон, потом — под массированную бомбежку. Эшелон сгорел вместе с вагоном, в котором везли обмундирование для новобранцев. И вот Тенеко, не успевший еще сделаться солдатом, расхристанный, нескладный, стоит перед не сумевшим еще толком войти в свою роль командира роты Сергованцевым и отвечает на его недоуменные вопросы.
— Ну, если все так, как говоришь, откуда ты взял, что ты артиллерист? Ты пушку-то хоть раз в жизни видел?
— Пушка моя не видала. Моя просила нащальника: «Посылай Тенеко артиллерийское училище, потом на фронт».
— Ну, а он? Начальник?
— Нащальник сказал: «Поезжай, Тенеко, на фронт, там ощень хорошее артиллерийское училище». До фронта моя не доехала. Плоха дела, командира, совсем плоха…
Сергованцев, как мог, успокоил Тенеко:
— Не горюй и не грусти, ты доехал даже дальше фронта — аж в самое окружение, это, может быть, похлеще, чем фронт. Понятно?
— Окружение? Мала-мала непонятно.
— Окружение — это когда впереди фронт, и сзади фронт, и с боков фронт, а в середине тоже фронт. Теперь понятно?
— Теперь совсем непонятно…
— Экий ты, право!.. Ну ладно, скоро поймешь.
Тенеко посмотрел на Сергованцева каким-то странным взглядом. Большие раскосые глаза его были полны тревоги и любопытства. Так смотрят на незнакомые, впервые встретившиеся им в жизни вещи только малые дети. Впрочем, Тенеко и в самом деле был существом совсем еще юным. Во всяком случае, вопросы его поражали Сергованцева своей откровенной наивностью.
— Из пушки стрелять ушить будешь? — спросил Тенеко.
— Из пушки? Ишь чего захотел! Я сам хотел бы, чтоб меня кто-нибудь подучил, но где они, пушки?..
— Как немца бить будешь? Где твоя пушка?
— Ну вот, заладил — где, где… У немца моя пушка. Ясно?
— А где немец?
— Я же тебе сказал — впереди немец, и сзади, и с боков, а посередке рота моя, а в роте я, да ты, да еще полторы калеки, — Сергованцев усмехнулся злой усмешкой уставшего, раздраженного человека. — Ты это понять можешь?
— Мала-мала…
— Значит, все-таки сообразительный. Винтовку в руках держал?
— Мала-мала калиберную.
— Мало-мало! Ты даже не представляешь себе, как это мало. Ты хоть свой ВУС знаешь?
— Ус?
— Да не ус, а ВУС — военно-учетную специальность.
Тенеко даже сгорбился под тяжестью непонятного вопроса.
— Я знаю его ВУС, товарищ командир, — с ехидцей сказал один из бойцов.
— Ну?
— ВУС — сто тридцать два с хвостиком.
— А точнее?
— Точнее: не годен, не обучен, не обмундирован…
— Что верно, то верно, — вздохнул Сергованцев. — И как мне с тобой быть? По всем правилам надо бы тебя сдать куда-нибудь, только вот кому и куда? — Сергованцев озадаченно сдвинул пилотку почти на самые глаза. — Ну ладно, ни черта не попишешь, слушай мою команду!
С этой минуты Тенеко стал бойцом под началом Сергованцева.
Не одинаково отнеслись в роте к этому событию.
Одни доверчиво приняли парня в свою семью, поделились сухарем, похлопали по худому, торчащему косо плечу:
— Поправляйся, браток. Скоро в бой!
Другие повели себя по отношению к Тенеко гораздо более сдержанно, даже настороженно. Вечером, когда Тенеко, по приказанию Сергованцева, возился с костром, кто-то глухо проворчал:
— Какой прок из такого? Обуза — и только. А может, он вообще…
Сергованцев вспылил:
— Знаю, что обуза, что толку никакого, все вижу. А что делать? Тенеко! Ты все слышал?
Перемазанный сажей Тенеко поднялся с земли.
— Я не понимай, когда о Тенеко плоха говорят.
Сергованцев впервые за много дней улыбнулся.
— На, получай личное оружие. — Командир отомкнул от своей автоматической винтовки плоский штык и решительно протянул его Тенеко. — Ясно?
— Понимай.
Металл остро блеснул отраженным пламенем костра. В торжественной тишине леса штык перешел из рук Сергованцева в руки Тенеко.
— Носи с честью, трусом не будь.
Тенеко молча кивнул головой.
Сергованцев вздохнул:
— Что и говорить, не прыток ты на слова. Присягу принимал?
Тенеко развел руками.
— Ну, повторяй за мной.
Сергованцев отчетливо, по слогам, произносил текст присяги. С большим трудом выговаривая слова, вторил ему Тенеко.
— …Не щадя своей крови и самой жизни…
Когда церемония была закончена, Сергованцев строго сказал:
— Теперь ты не кто-нибудь, а настоящий боец. Официально. Товарищей не подведешь?
Тенеко, взволнованный, молчал.
— Не подведешь, я спрашиваю? — уже сердито спросил Сергованцев.
Тенеко круто склонил голову, так и не сказав ни слова.
Все переглянулись. У каждого свои были мысли в тот миг. Одни посочувствовали нескладному парню. У других снова шевельнулся червь сомнения. Странный человек, ой, странный. Держи, ребята, ухо востро…
Уже на следующую ночь Сергованцев решил испытать Тенеко «на прочность».
— Кто в разведку со мной? За «языком»! Добровольцы есть?
К Сергованцеву подошло сразу человек пять.
— Я давно не был.
— И я.
— И я…
— Всех взять не могу. Мне нужен ты, и ты, и вот ты. — Сергованцев посмотрел сперва на Исаева, потом на Кузнецова, потом на Тенеко.
Новичок вздрогнул.
— Моя сегодня не может.
— Как — не может?
— Разведка нада тиха идти. Моя мала-мала кашляет.
— Кашляет?
— Кашляет, — подтвердил кто-то из бойцов. — Сегодня всю ночь бухал.
— Тогда отставить. Кашемиров!
— Я.
— Пойдешь со мной.
— Есть.
Наутро в расположение роты из четверых ушедших в разведку возвратились трое. Разведчикам пришлось вступить в неравный бой. «Языка» они взять не смогли. Кашемиров, посланный вместо Тенеко, был убит.
Несколько дней отлеживался в колючей осенней траве Сергованцев, получивший сквозное ранение в плечо. Общими усилиями извлекли десятка три осколков от гранаты из груди и ноги Исаева. Только Кузнецов остался невредимым, но в его глазах проступила какая-то тихая, раньше никому не заметная тоска. Казалось, он вот-вот тяжело вздохнет и скажет:
«Теперь, ребята, чур, без меня. Пусть другие испробуют, кто еще не был».
— А «язык» нам все-таки нужен, — на исходе третьих суток поднялся на локте здоровой руки Сергованцев. — Охотники есть?
— Я.
— И я.
— И я тоже, — негромко, но твердо отозвался Кузнецов. — Меня пуля не тронет, я слово знаю.
Сергованцев даже повеселел:
— Колдунов не люблю, но если слово знаешь, идем. А ты, Тенеко, что скажешь?
— Моя кашляет.
— Опять?
— Опять, — подтвердил кто-то. — Дохает до самого утра.
Сергованцев и сам за эти ночи не раз слышал надсадный, удушливый кашель Тенеко, но молодому командиру хотелось во что бы то ни стало доказать товарищам, что он не зря поверил этому дремучему парню, что у него, Сергованцева, как и у погибшего лейтенанта Залужного, все-таки есть чутье на людей.
— Давно это у тебя? — Сергованцев вплотную подсел к Тенеко.
— Земля сырой, командира, совсем холодный земля.
Сергованцев хотел было нагнуться к впалой груди Тенеко, но острая боль в собственном плече помешала ему это сделать. Он закусил губу и приказал:
— Раздевайся.
Тенеко снял рваную рубаху.
— Ослушать его!
Кто-то из бойцов приложил ухо к резко очерченным, часто вздымавшимся ребрам Тенеко.
— Дыши.
Тенеко попробовал сделать глубокий вдох. Хриплый, лающий кашель прокатился по лесу.
— Товарищ комроты, он весь горит.
— Черемисин! Пойдешь со мной вместо Тенеко, — приказал Сергованцев.
— Есть.
— А ты, малый, пока отдыхай. Ложись к углям поближе, что ли.
Прошло еще два дня. Разведчики раздобыли «языка», получили сведения о новой немецкой базе дальних бомбардировщиков. Рота стала готовиться к трудной операции.
Сергованцев собрал бойцов. Речь его была предельно короткой:
— Завтра последняя разведка. Проверим показания «языка», потом — ма-арш! А сейчас всем отдыхать. Нынче у нас какой день? Кто скажет?
Кто-то мрачно буркнул:
— Холодный.
— Отставить! — с досадой отвел неуместную шутку Сергованцев. — В календаре чего сказано?
Шутник спохватился:
— Простите меня, дурака, товарищ командир. Октябрьский ведь праздник завтра! Как это я…
— То-то и оно! Октябрьский. Престольный, значит! Давайте же встретим его как люди.
— Ясное дело! — дружно отозвались бойцы.
Долго не могла уснуть в ту ночь рота Сергованцева. Кто дом вспомнил, кто свою мирную счастливую жизнь аккуратно раскладывал по всем полочкам, кто просто смотрел в тяжелые осенние звезды и вздыхал так, что дым махорки перемешивался с Млечным Путем…
Один Тенеко вел себя как-то странно. За весь вечер он ни с кем не перекинулся ни единым словом. Только натаскал дров больше, чем обычно, и угомонился раньше всех.
Под утро часовой подполз к Сергованцеву и сиплым шепотком спросил:
— Спишь, товарищ командир?
— Ага…
— Просыпайся.
— Еще капельку.
Часовой присел рядом с Сергованцевым, помолчал несколько минут, потом зашептал громче:
— Товарищ командир, спишь?
— Больше не сплю.
— Разреши доложить?
— Докладывай. Все спокойно?
— Все как есть спокойно. Но Тенеко твой чего-то дурит, верно слово. Все-таки подозрительный он тип, так и знай.
— Как дурит?! — С Сергованцева слетели последние остатки сна.
— Обыкновенно. Думает, я не вижу и вот вертится над своим котелком, вот вертится. То на уголья его поставит, то в золу зароет, то забормочет над чертовым варевом чего-то, — ну сущий шаман. А сам во все стороны зырь да зырь, будто ждет кого-то или хоронится от кого. Вот тебе и праздничек Октября!..
— Так-так-так! И что же ты?
— Я трогать его, конечно, не стал, но все и так ясней ясного.
— Ну?
— От новой разведки он отбояривается. Нечистую силу кличет. Кишка у него тонка, вот и все. А может, еще…
Сергованцев стряхнул с себя налипшие листья, подошел к Тенеко, наклонился над ним, тихо спросил часового:
— Кашлял?
— Артист он, товарищ командир. Сперва кашлял, как всегда, а под утро устал выкобениваться, притих, потом и вовсе храпанул. Ишь спит, как у мамки на печи.
— Спит — это хорошо, — поеживаясь, сказал Сергованцев. — Из спящего человека хворь сама выходит, это давно известно.
— Не спит моя, командира, — шевельнувшись у огня, еле слышно прошептал Тенеко. — Думает моя.
— Думает?! — вздрогнул Сергованцев. — О чем же?
— Хороший ты шеловек, командира, добрый.
— Ну вот, опять заладил. Хороший, хороший… А ты кто такой все-таки? Понять тебя до конца не могу. Храбрый ты или робкий? Северная загадка.
— Защем так говоришь? Моя тоже хороший. Шамана не верю, бога не верю, только тебя сильно верю, командира.
— Верю, верю! — беззлобно передразнил его Сергованцев. — А зачем воду мутишь, бойцов разлагаешь? Все могу простить: слабый дух — так ты еще юнец совсем; жидкая коленка — так ты и впрямь еле на ногах стоишь. Но шаманить в роте на двадцать четвертом году советской власти…
Тенеко вскочил.
— Зачем шаманить? Зачем обижай Тенеко? Моя лекарство нашла! Моя всю нощь трава варила. Моя кашлять больше не будет. Совсем не будет! Бери, командира, разведка, бери Тенеко с собой!..
Тенеко стоял перед Сергованцевым, маленький, щуплый, худой, но в свете угасавшего костра фигура его вдруг показалась командиру рослой, статной, поднявшейся плечами почти до самой звезды, висевшей где-то на кончике темной еловой ветви, широко распростершейся над спящей ротой.
Тенеко не сказал больше ни слова. В первую минуту ничего не ответил ему Сергованцев. Молча подле них стоял часовой. Рота спала. В лесу было тихо, как перед большим сражением. Только едва уловимо, тонко потрескивали иглы хвои в красных углях костра.
— Ты это верно? — спросил наконец Сергованцев. — Или…
— Совсем верно, командира. Моя кашлять больше не будет.
— Ну ладно, не будет так не будет. Мы это нынче же и увидим. Я попреками всякими вот как сыт!
Сказал это Сергованцев строго, даже грубовато, но если бы в тот миг было уже светло, Тенеко увидел бы, какими добрыми глазами глядел на него командир.
Во время первой в своей жизни разведки Тенеко был тяжело ранен. В расположение роты его, истекавшего кровью, принесли товарищи. Не приходя в сознание, он умер на руках Сергованцева в конце следующей ночи.
Когда настала минута предать земле исхудавшее, на вид почти детское тело Тенеко, в кармане его рубахи, в том месте, где рассчитывали найти хоть какое-нибудь подобие документа, чтобы при случае сообщить родным о случившемся, не нашли ничего, кроме крохотного пучка еще не успевшей увянуть, седоватой, как полынь, травы.
Бойцы, ничего еще толком не знавшие о ночном разговоре Тенеко, Сергованцева и часового, переглянулись.
А командир, пока другие плоскими штыками сосредоточенно копали черствый, прошитый корнями грунт, поднес траву к своему лицу и несколько раз глубоко вдохнул ее запах. Трава была, наверное, горькой и едкой — глаза Сергованцева покраснели и сузились. Но командир не проронил ни единой слезы. Он вообще никогда не выдавал своих чувств. Так и в этот раз. Просто постоял в сторонке, просто помолчал, понюхал пучок осенней травы, потом тихо опустил траву в карман своей гимнастерки, рядом с медальоном смерти.
Сысоев
В наш госпиталь привезли еще одну партию раненых. Каждый, кто мог двигаться, вышел во двор — навстречу.
Одного определили к нам в палату. Он лежал на носилках, огромный, грузный. Санитары, опустив свою ношу на пол, даже крякнули.
Обычно появление нового человека вносило какое-то разнообразие в нашу жизнь — будет с кем свежим словцом переброситься. А на этого как глянули, так и скисли. Весь в бинтах, сверху донизу. И голова замотана, и лицо — вместе с глазами.
Хорошо еще, парень оказался что надо.
— Давайте, — говорит, — знакомиться: Сысоев.
— Откуда? — спрашиваем.
— Орел-батюшка, — слышим невеселый ответ.
— Самые рысачьи места! — попробовал было пошутить я, чтоб поднять новичку настроение.
— Мы свое отскакали, — вздохнув, ответил Сысоев. — Так что же, выходит, нет земляков?
— Орловских нет, из Курска лежит вот один, рядом с тобой, и тот все молчком да молчком.
Сысоев наугад окликнул соседа:
— Ты, что ли?
— Я, — едва слышно буркнул тот.
— Погромче можно? А то я того… недослышу малость.
Еще одно, теперь уже сердитое «я» вырвалось из-под простыни, в которую был с головой закутан курянин.
— Вот это другое дело, — сказал Сысоев. — Звать-то тебя как?
— Маклецовым зови, Иваном.
Сысоев помолчал, потом сказал задумчиво, со щемящей тоской в голосе:
— Больно в ваших краях соловьи хороши…
— Мы свое отсвистели! — в тон Сысоеву ответил Маклецов.
Я еще раз попробовал повернуть разговор к более веселому берегу:
— Слушали: «Рысаки отскакали, соловьи отсвистали». Постановили: «Отставить такие разговорчики!»
— Отставить! — поддержал меня Сысоев. — Негоже нам ныть и стонать: войне самый край подоспел.
— Никто и не ноет, — пробасил Маклецов и высунулся из-под простыни. — Душу отвести можно солдату?
— Можно. Нужно даже, — согласился я.
— Вот и отведи, а теперь — черточку! — неожиданно положил конец дискуссии Сысоев.
— Чего-чего? — не понял Маклецов.
— Черту, говорю, пора, как на собрании.
— А с тобой не пропадешь! Хоть перед докторами, хоть перед самими дьяволами, все равно не страшно! — воскликнул Маклецов, повеселев.
— Соловей ты курский или ворона? — перебил его кто-то.
— К чему это ты? — обиделся Маклецов.
— К тому, что обход. Накаркал!
В палату действительно вошла чуть не вся наша медицина, и первым делом, конечно, к Сысоеву. От этой подчеркнутой внимательности ему не по себе стало.
— Серьезное дело, — сказал главный врач, внимательно осмотрев новичка. — Но человек вы крепкий, вижу. И мотор у вас не подкачал. Будем оперировать.
Сысоев ответил не сразу. Не желая показывать волнения, старался справиться с нервами. Наконец, совладав с собою, сказал:
— Если зрячим оставите, согласен на все. Оставите?
Врач от прямого ответа уклонился:
— Мотор у вас, повторяю, первый сорт. Это самое важное. А остальное…
— А остальное? — не дал ему договорить Сысоев.
— Мы с вами солдаты?
— Солдаты, — покорно ответил раненый.
— Ну вот и отлично.
Закончив обход, врачи снова остановились у койки Сысоева. Но лишь на одно мгновение. Мне показалось, что главный при этом сокрушенно покачал головой.
Вечером, когда все в палате угомонились, я подсел к Сысоеву, и он рассказал мне свою историю.
— Всю войну отшагал цел-невредим, хотя бывал в таких передрягах, что вспоминать жутко. Ни один волос не упал с головы! Всех дружков растерял, всех до одного. Кого под Ельней, кого под Курском, кого где. «А тебе опять ничего?» — спросят, бывало. «Ничего, говорю, не царапнуло даже». Ребята еле живы, а смеются: «В натрубахе тебя матушка родила!» «В натрубахе», — говорю, а самого, веришь, совесть поедом жрет. Будто нарочно от пуль хоронюсь. Никто не попрекал, не подумай. После каждого боя сам себя виноватил. А пули все мимо, мимо, мимо…
— Так бы вот и закончить тебе войну! — перебил я Сысоева.
Он сердито махнул рукой, потом деловито и строго закашлялся, и я вдруг понял, с какой великой гордостью несет на себе человек доставшийся ему крест.
— Если глаза спасут, я еще землю ковырять буду! Как война ни пахала ее, все одно перепахивать надо. По всей России…
Мы проговорили всю ночь. Когда за окном закричали первые петухи, Сысоев спросил:
— Светает?
— Нет, еще, — соврал я, не желая вызывать у него зависти к тем, кто может смотреть сейчас на лучи восходящего солнца.
— Не бреши, — беззлобно оборвал меня Сысоев. — Ты не думай, что если башка замотана, так я и не вижу ничего. Я ушами свет чую. Пальцами!
Он протянул вперед руки — тихие, забинтованные, похожие на двух беспомощных младенцев.
— Знаешь, что мне давеча доктор сказал?
— Знаю.
— Нет, не знаешь. Не ручается он за глаза, понял? Скорей всего не спасут их. Точно, не спасут, я сразу скумекал.
— Не говорил он такого, я же рядом был, все слышал.
— Сказал. Я как солдат его слушал.
Разговор наш больше не клеился. На другой день мы его уже не возобновляли.
Доктора во время каждого обхода подолгу толпились возле койки Сысоева. Я теперь с особой тревогой прислушивался к любому их слову и всякий раз все больше понимал, что над Сысоевым нависла страшная беда.
А жизнь между тем шла своим чередом. Целыми днями и вечерами в палате не смолкали разговоры — то громкие, то тихие, то грустные, то веселые. Сысоев вместе с другими о чем-то спорил, с кем-то ругался, кого-то расспрашивал о доме, о родных, о письмах. Больше всего о войне говорили солдаты. О близком ее конце. По сорок раз на дню наводили справки: что там, как там, на фронте?
В одно прекрасное утро пришла наконец желанная весть.
На всю жизнь запомнил я этот миг. Ворвавшийся к нам из соседней палаты раненый в обе ноги ефрейтор Гринюк без всяких слов со всего размаху швырнул об пол свои желтые костыли, и они с грохотом разлетелись на мелкие щепки. В наступившей после этого тишине кто-то робко спросил:
— Неужели?..
— Точно! — гаркнул Гринюк и, потеряв равновесие, рухнул спиной на чью-то пустую койку, захохотал счастливо и безмятежно. Его высоко вскинутые ноги быстро и озорно зашагали в воздухе — последние шаги войны…
Превозмогая боль, в первый раз за много месяцев, сел в кровати Маклецов…
Сысоев попросил, чтоб ему скорей свернули цигарку…
В палате откуда-то появилось отсутствовавшее до сих пор радио, черная тарелка «рекорда», до краев наполнилась торжественными маршами.
На следующий день сообщили о победном салюте. Новая волна радости подняла на ноги даже тех, кому еще не велено было вставать.
Задолго до назначенного часа в госпитале настежь распахнулись все окна, все двери.
Койка Маклецова была развернута так, чтобы и ему было все хорошо видно.
Только Сысоев лежал в своем углу. Мы старались не думать о нем, даже не смотреть в его сторону, а сами… не сводили с него глаз, и все наши мысли были о нем. Чувствуя на себе смущенные, как бы виноватые наши взгляды, он беспомощно шевелил забинтованными руками и вдруг — мы увидели это совершенно ясно — выпрямился, широко развернул богатырские плечи: первые всплески гимна влетели в палату!
Сысоев лежал так минуту или две, рослый, еще более вытянувшийся, похожий на правофлангового, застывшего по команде «смирно».
Наконец нервы его не выдержали:
— Развяжите глаза! Развяжите!..
Кто-то побежал за доктором. Через несколько мгновений сам главный врач стоял у койки Сысоева.
— Развяжите! — упрямо повторял Сысоев одно и то же. — Ну, развяжите же! Развяжите!..
За окнами полыхало разноцветное салютное пламя, но мы глядели только на доктора и ждали его решения. А он стоял растерянный, колеблющийся, каким никто из нас не привык его видеть.
— Ну ладно, пусть будет по-вашему, — сказал наконец он. — Но только на одну секунду, запомните.
— Пусть хоть на одну! Спасибо, доктор! Развязывайте… — простонал Сысоев.
Мы увидели: в промежутке между двумя вспышками салюта сверкнули ножницы в руках врача, белая повязка упала с глаз солдата, и он, поддерживаемый кем-то, распятием замер в проеме окна.
Сысоев молчал, но мы поняли — он счастлив, совершенно счастлив…
А доктор был неумолим. Вот он уже снова туго накручивал бинты на больные глаза.
В ту ночь я опять сидел на краю койки Сысоева. Мы говорили обо всем, что волнует солдатское сердце. О прошлом. О настоящем. И, конечно, о будущем.
— А землю ковырять я все-таки буду, старик, — сказал мне вдруг Сысоев. — Хоть впотьмах, хоть как, а буду, буду, честное слово буду! Мы под Ельней, помню, ночью копали — ровно, как по шнуру, а на небе и звезды не было. Можно приноровиться…
— Постой, постой, почему впотьмах? Вот сделают операцию, все в полном ажуре будет. Я уверен, слышишь?
— Тебе честно сказать про «ажур» этот? — остановил меня Сысоев. — Сказать?
— Скажи, конечно.
— Салюта нашего нынче я не видел. Ни одной искорки. Понял?
Интендант
«Красная стрела» уходит из Москвы поздно вечером. Семагин любит ездить этим поездом: соседи сразу же укладываются спать, и скоро оказываешься один на один с торжественным ритмом движения, который приворожил каждого человека с детства.
Семагин думал, так будет и в этот раз. Но с первых же минут выяснилась, что в купе собрались люди в прошлом военные — затеяли общий чай, пошли разговоры.
Добродушный усач выкатил из портфеля целую груду лимонов.
— Угощайтесь, славяне. С Ленинградского есть кто-нибудь?
— Я с Северо-Западного, — отозвался детина в пушистом свитере.
— Я с Калининского, — сказал Семагин.
Четвертый (он был намного старше любого из попутчиков) промолчал.
— А с Ленинградского никого? — развел руками усатый.
— Почему никого? Вы и есть с Ленинградского, — поправил его старик.
Все четверо рассмеялись.
— Да мы соседи, оказывается! — воскликнул тот, что с Северо-Западного. — Была бы карта, мы бы все это наглядно сейчас представили. По такому случаю неплохо бы…
— Золотые слова, — согласился ленинградец. — Был бы тут старшина, все бы мигом образовалось.
— Я старшина, — не вставая щелкнул каблуками Семагин. — Время только позднее.
— Значит, не старшина уже, коли на время ссылаетесь. Вы что, забыли? Сам не сможет — другому прикажет: найти и доложить!
Разговор становился все жарче. Стали спорить сразу обо всем и, как это часто бывает у солдат, о том, что решило в конечном счете успех войны.
— Я думаю, ледовая дорога главное дело сделала, — убежденно заявил ленинградец. — Если б не она…
— Это верно, — поддержал его тот, что с Северо-Западного. — Но самое трудное сражение все-таки за столицу было. Вопрос как стоял? Или — или. Немец все силы собрал. Малейшая наша оплошность смерти была подобна. Согласны?
— Согласны.
— А вот всей этой битве одна высшая точка была.
— Какая же?
— За Наро-Фоминском. Там наш батальон выздоравливающих стоял.
Все опять рассмеялись.
— Вы не смейтесь, верно говорю.
— Батальон выздоравливающих? Сколько же было вас там, калек?
— Сколько бы ни было, а немец как раз тут и насел.
— И что же?
— Одни танки под рукой оказались…
— Ничего себе «одни»! Насмешил, нарофоминец, ну насмешил! Мы у себя месяцами танков не видели.
— Вы торопитесь: танки-то были фанерные.
Все с недоумением поглядели на нарофоминца.
— Фанерные?..
— Ну да, учебные.
— Вот оно что… — протянул усач. — Чего только не было на войне! Ну и как же вы?
— Сейчас самому даже не верится. Позатолкали друг друга в люки, скрипучие башни кое-как развернули и сидим.
— А он?
— Вот тут-то самое удивительное и началось. Не расчухал он, что фанера. Не уложилось у него. Раз десять на нас в атаку ходил и в самый последний момент откатывался: думал, психический бой навязываем. А мы только стволами шевелим, будто поближе подпускаем, чтобы прямой наводкой. Сами ни живы ни мертвы. Буквально ни живы ни мертвы, слышите?
— Трудно и представить, верно слово, — подал голос старик. — До вечера продержались?
— До утра даже. А утром настоящие подоспели. Командир-танкист шлем перед нами скинул, когда узнал, кому на смену пришел.
— Что ж, вы и впрямь герои, — сказал старик.
— А вы, папаша, где воевали? — обернулся к нему Семагин.
— Я далеко был в то время. Мы только-только двигались к фронту. Торопились, но дело медленно шло.
— Сапер? Артиллерист? Или царица полей? — снова спросил Семагин.
— Интендант.
— А… — понимающе протянул Семагин. — Ну что ж, и это неплохо. Среди вашего брата тоже герои были.
Интендант промолчал.
— Каждый род войск на войне главным себя считает, — вставил слово усач.
— И интенданты? — вырвалось опять у Семагина.
— Без них тоже не сахар, — поддержал усача нарофоминец.
— А что, пожалуй, вы правы, — сдался Семагин. — Если была б горилка, мы бы и за интендантов выпили.
Он сказал это так, что интендант все-таки уловил намек: самый главный тот, кто в атаку идет, все остальное — постольку-поскольку. Он и не спорил. Сидел в уголочке и внимательно слушал, как другие Москву и Питер от немцев отбивали.
Уже почти под утро угомонились солдаты. Погасили верхний свет, чтобы вздремнуть часок-другой.
В наступившей полутьме возился только один старик интендант. Семагин, закуривая последнюю папиросу, вдруг увидел, что тот отстегивает от ноги протез — высокий, намного выше колена. Отстегнул, отдышался и тоже стал укладываться, тяжело опираясь то о палку, то о столик, по которому катались нетронутые лимоны.
— Вам помочь? — вскочил со своего места Семагин. — Что же вы не сказали?
— Нет, нет, дело привычное. Интендантское, — без всякой тени упрека вздохнул тот.
И снова начался приумолкший было разговор солдат. Двое спали, двое разговаривали.
— Так вы действительно интендант?
— Самый настоящий.
— А где же вас так?
— Под Москвой.
— Вы же сказали — медленно дело у вас шло.
— Успели все-таки. Последние сто верст на своих на двоих. Эшелон разбомбило, но мы успели. Это я теперь не ходок, а тогда шагал — будь здоров.
Старик помолчал и тоже закурил.
— А у меня к вам просьба. Можно? — сказал он тихо.
— Конечно…
— Им не будем все растолковывать, — кивнул он на спящих. Ну, безногий и безногий. Не люблю я раны свои считать. Одним словом, между нами. Договорились?
— Договорились.
— Я нарочно встану завтра пораньше. Старики вообще рано встают.
Утром все четверо дружно шагали по перрону Московского вокзала Ленинграда.
Интендант шел, чуть отставая от попутчиков, и те совсем не замечали его хромоты. Ее и впрямь трудно было сейчас заметить. Только Семагин знал, чего это стоило интенданту.
Манускрипт
У меня на столе лежит толстая книга. Если вглядеться пристально, на ее уже давно потемневшей, покоробившейся от времени обложке можно прочитать… Впрочем, не буду забегать вперед, расскажу все по порядку.
Саперная служба когда-то казалась мне легкой, как загородная прогулка. Это представление раз и навсегда было развеяно во время одной боевой операции, в которой мне довелось участвовать.
В начале Великой Отечественной войны нашей части, находившейся в Средней Азии, недалеко от Ирана, было приказано совершить марш вдоль границы. Чтобы выполнить эту задачу, нам предстояло пройти несколько сот километров по пустыне. И не только пройти — перебазировать боевую технику, погруженную в машины, малоприспособленные для движения по пескам.
Машины одна за другой выходили из строя, колеса их зарывались в раскаленный песок по самые оси. А тут еще ветер! Со всеми потрохами засасывало нас это чертово сопло пустыни. Но именно нам, саперам, надо было любыми средствами обеспечить благополучный переход автоколонны.
— И чтобы обязательно в срок! — закончили свое краткое напутствие представители Ставки.
Семь дней и семь ночей кувыркались мы с бархана на бархан! За это время бог успел сотворить небо и землю, а мы на той земле, как беспомощные козявки, не проползли и половины положенного пути.
Даже у всегда веселого железного нашего старшины глаза ввалились и выцвели, а голос стал глухим, стариковским. Через силу, скривив рот, выдавливал он из себя нехитрые слова, призванные подбодрить изнемогших людей:
— Раз-два — взяли…
Но и это не помогло. Мне, например, даже казалось, что говорил он не «взяли», а «вязли»: «Раз-два — вязли…»
Так вот и вязли мы по колено в песках, и не было видно тем пескам ни конца ни края.
— В настоящей пустыне, говорят, миражи попадаются. Хоть на горизонте нет-нет да мелькнет пальма или арычок какой, а тут и того не жди, — мрачно пошучивал кто-нибудь на привале.
— Не положено, — уже без всякой улыбки отвечал старшина.
На девятый день пути окончательно выбились из сил и люди, и машины. Песок под ногами и колесами стал похож на расплавленное стекло. Ни шагу вперед, ни шагу назад. Колонна встала…
Приуныл саперный народ, пригорюнился.
И вдруг кто-то из нас совершенно случайно обратил внимание на кусок желтого камня, торчавший из одного бархана. Пустили в ход лопаты — откопали хорошо обтесанную продолговатую каменную плиту. Рядом с ней обнаружили другую, третью, четвертую… Доложили командиру. Тот велел всем продолжать раскопки.
— Да это же, чудо, братцы! Мы тут целую автостраду построим!
Плиты двумя ровными рядами стали класть под колеса. Снова затарахтели моторы, грузовики ожили, поднялись на каменные рельсы и пошли. Машины опять становились машинами, люди — людьми.
Плиты, оставшиеся в хвосте колонны, переносили вперед, заставляя их работать снова и снова.
А раскопки меж тем продолжались. И каждый взмах лопаты приносил все новые и новые неожиданности. Из песка постепенно, камень за камнем, начали вставать перед нами какие-то древние сооружения. Сначала показалась приплюснутая луковка гофрированного купола, потом обозначился угол здания, сделанного все из того же желтого камня.
— Миража мы так и не дождались, но это похлеще всякого светопреставления будет. Это же город, хлопцы! — заволновался старшина.
На наших глазах из-под песков действительно стена за стеной подымался и расправлял плечи город — древний, давно умерший, но будто рождавшийся заново.
Это и в самом деле было его вторым рождением.
Радировали в Ташкент. Оттуда немедленно пришел ответ:
«Поздравляем открытием. Раскопки продолжайте. К вам направляется экспедиция Академии наук».
Колонна наша, к сожалению, не могла долго задерживаться — война есть война. Но командир все-таки распорядился оставить в том месте особый пост до прихода ученых.
— Назначаю вас комендантом города, — весело кивнул он в мою сторону. — А вот вам и гарнизон. — Он ткнул пальцем в грудь моего земляка киевлянина Сани Стебуна. — Два сапера и две саперных лопатки — это сила! До прихода академиков город должен быть приведен в образцовый порядок. Ясно?
— Ясно, — ответил за меня вверенный мне гарнизон.
Где-то там, за колеблющейся линией горизонта, грохотала война. Рушились, рассыпались в прах города и страны, а здесь, в этом раскаленном, дымящемся тигле, на забытой и проклятой богом земле, просыпалась жизнь! Можно ли было представить себе что-нибудь более прекрасное! И хотя мы только откапывали то, что за много веков до нас было воздвигнуто другими, работа эта вдруг показалась нам великой стройкой.
— Зовсим як у нас в Киеве перед войной, — вздыхал Саня. — Як на самом Хрещатике. Не хватает только каштанов.
— Что верно, то верно, — соглашался я полушутя-полусерьезно.
Мы работали, как черти, без отдыха, камень за камнем отвоевывая у зыбучих песков.
Город-сказка! Он уже задумчиво поглядывал на нас азиатскими, чуть раскосыми глазами узких окон, когда Саня, потрясая какой-то новой удивительной находкой, закричал на всю пустыню:
— Нашел! Нашел! Нашел!..
Я невольно выронил лопату, бросился к Сане.
— Где? Что? Рассказывай толком.
— Ма-ну-скрри-и-ипт!.. — исступленно ревел он, и голос его летел с бархана на бархан.
Саня дрожащими от волнения руками протянул мне предмет, от одного вида которого я тоже пришел в священный трепет: на ладонях его лежала старинная книга, обросшая со всех сторон песком!
Мы сразу решили, что нашли чрезвычайно ценный для науки документ, с помощью которого ученые разгадают доселе незнаемое.
Бережно, боясь нарушить земляной покров, сковавший таинственные страницы, мы положили книгу на каменную плиту, накрыли своими гимнастерками и снова аккуратно присыпали песком. Возле холмика, под которым хранилась мудрость веков, мы проходили затаив дыхание. Решили даже по очереди не спать до прибытия ученых.
— Не дай бог, опять заметет…
Шли дни. Кончалась ржавая вода в канистре, иссякали и наши последние силы, а экспедиции Академии все не было.
Когда же в одно прекрасное утро над нами закружил ташкентский самолет, мы сами подали ему сигнал, запрещавший посадку. Саня даже рявкнул, стараясь перекричать шум моторов:
— Куда ты, бисова голова! Тут садиться — только гробиться!
Позднее мы узнали, что летчик и не собирался приземляться. Он лишь выбирал место, куда половчее сбросить старика академика и грузовой парашют с провиантом.
Старик чуть не переломал все свои косточки, когда непогашенный купол поволок его по песку на отрытые нами стены. Едва встав на ноги и выпутавшись из шелковых тенет, он закричал:
— Ну, где он, ваш город? Показывайте!..
Мы привели его к месту наших раскопок. Он долго с молоточком, лупой молча ползал на четвереньках возле желтых камней, рассматривал их с тщательностью часовщика. Потом поднялся и крепко пожал нам руки.
— Великолепно! Благодарю, поздравляю вас!
Чтобы окончательно потрясти академика, мы раскопали заветный холмик и в торжественном безмолвии вручили старику манускрипт.
Старик даже зажмурился от волнения. Он снова опустился на корточки и, вооружившись лупой, опять стал похожим на часовых дел мастера.
Сознавая необычайную важность момента, почти священнодействуя, он осторожно запустил свой длинный ноготь куда-то в середину книги и, как окно в века, распахнул похрустывающие страницы…
Перед нашими глазами мелькнули какие-то иероглифы, схемы, рисунки…
Старик протер очки и… расхохотался.
Придя в себя, он уже без всяких предосторожностей отскоблил желтый песок с манускрипта и прочитал вслух так громко, что эхо запрыгало по желтым камням нашего города:
— «Развитие огородничества в Средней Азии. Издательство „Заря Востока“, Ташкент, 1929 год…»
Так закончилась история находки драгоценного исторического документа, который должен был пролить свет на черный мрак азиатской древности.
Мы с Саней скисли и приумолкли. Поглядев на нас, старик снова рассмеялся:
— Да что вы, мальчики! Вы же самые настоящие герои!
Вечером, чтобы совсем нас успокоить, старик рассказал нам тут же сочиненную им легенду о том, как некий пастух-узбек, перегоняя овец, спрятался от ветра, плюющегося песком, в выкопанную им самим яму и забыл в той же яме не нужную ему книжку, ибо не собирался разводить в пустыне свеклу и брюкву. Горячий ветер занес книжку песком, насыпал над ней высокий бархан.
Легенда говорила и о том, как солдаты, возвращая жизнь городам — молодым и старым, — откопали книжку, как берегли ее до прихода ученых, как из Ташкента прилетел старик с длинным ногтем на правой руке, гораздо более древний, чем найденный в песках манускрипт…
— Одним словом, не огорчайтесь, — весело закончил академик. — Будь моя воля, я бы о таких городах, как вот этот, в сводках Совинформбюро на весь белый свет сообщал: так, мол, и так, наши взяли новый город.
Он помолчал, потом добавил совсем серьезно:
— А манускрипт мы еще отыщем! Уверяю вас!
Не знаю, нашел ли старик еще что-нибудь среди желтых камней: на следующее утро мы расстались.
В моем вещмешке нашлось место для несостоявшегося манускрипта. Мне захотелось сохранить его. Просто так, на память о том, как в дни одной из самых разрушительных войн у нас на глазах поднялся из песков город однажды исчезнувший с лица земли, но не пропавший бесследно, город, разбуженный нами.
А то, что книжка, найденная при его раскопках, оказалась не слишком древней, можно считать делом вполне поправимым. Ведь только на моем столе пролежала она уже без малого тридцать лет…
Бессмертник
Е. В. Вучетичу
В ту пору на Мамаевом кургане только еще создавался знаменитый ныне мемориал в честь героев, разгромивших врага. Один из памятников возводили молодые скульпторы. Они жили в Волгограде уже несколько месяцев и пристально приглядывались ко всему, что окружало их под небом города-героя, — к Волге, к растущим корпусам домов, к убегавшей во все стороны степи. Где-то у самого ее края легкие синеватые дымки новых заводов сливались с размытой, почти прозрачной линией горизонта, и вот будто раздвигались, становились еще привольнее и без того неоглядные просторы. Стучавшие колесами по воде буксиры старательно вдоль и поперек линовали Волгу, и она между далеко разбежавшихся берегов казалась развернутой огромной картой — с параллелями и меридианами…
Нельзя было не залюбоваться происходившим. Наверно, именно поэтому один из самых юных в бригаде — комсомолец Вася Мовчан — каждое утро будил своих друзей словами им самим придуманной песни о цветущей земле, за которую он воевал. И несмотря на то, что автору в дни великой битвы не было, наверно, и трех лет, именно с его песней ежедневно принимались скульпторы за работу. Они и сами не заметили, как под их руками возникли первые контуры памятника.
День за днем, час за часом он вырисовывался все явственнее, и скоро даже издалека стало видно — на одном из склонов легендарного кургана вырастала фигура русской женщины-матери, скорбящей над погибшим воином. Ее мужественная немота была сильнее всяких слов, и постепенно все кругом — и поросшая ковылем земля, и обмелевшие окопы, и в вечность летевшие облака, — все наполнилось для молодых новым, еще неизведанным смыслом. Даже обыкновенный ветер-степняк засвистел в их ушах как-то по-особенному. Казалось, он доносит до слуха отзвуки тех, давно отшумевших боев.
А памятник все рос. Рожденные им образы все больше овладевали чувствами и думами его создателей.
Придя как-то утром к месту работ, ребята заметили — в каменной руке женщины, развернутый венчиком к солнцу, раскачивался и трепетал на ветру маленький, едва приметный цветок. Подошли поближе — бессмертник!
Главный скульптор, совершенно седой, но еще могучий старик, поглядел сперва на цветок, потом на своих юных помощников, обошел раза два вокруг памятника, задумчиво улыбнулся.
— Молодцы, соратники! Очень правильно сделали.
«Соратники» промолчали. Только еще дружней и громче зазвенело железо о камень.
Цветок скоро запорошило серой крошкой, а потом и вовсе сдуло куда-то. Хотели в конце дня отыскать бессмертник, водрузить его на прежнее место, да так заработались, что забыли о нем.
Но странное дело, — на следующее утро цветок опять засветился в каменной руке!
— Ну, я ж говорил, молодцы — и только! — снова улыбнулся старик.
И вот бессмертник, крохотный, от рождения не особо яркий, жестковатый, нахохлившийся, каждое утро стал расцветать на камне.
Вечером уходят скульпторы домой — нет цветка. Утром, хоть и торопятся, обогнать его не могут. Придут в семь часов — он уже красуется. В шесть явятся — он на посту.
Работают, а сами все о цветке думают.
Однажды глубокой ночью кто-то из ребят поднял всех и гаркнул громко, как дневальный по роте:
— Мовчан!..
— Что Мовчан? — всполошилась бригада.
— Встал сейчас Вася, по-тихому оделся и пошел к памятнику.
— Значит, он?
— Он!
Ухмыльнулись, залегли на другой бок, но больше уже не заснули. Лежат полчаса, лежат час, а Васи все нет.
— Наверно, ищет цветы. Темнотища-то вон какая.
— Не беспокойтесь, он небось с вечера все приготовил.
Глянули, а из стакана с Васиной тумбочки из-за частокола остро отточенных карандашей действительно цветок выглядывает — точь-в-точь как тот.
— Все понятно теперь. Ну, ша! Скоро явится наш тихий лирик.
Возвращается Мовчан на рассвете. Совершенно никого не таясь, он с грохотом распахивает дверь и прямо с порога кричит:
— Подъем!..
И высыпает из мокрой корзины на стол гору живой рыбы.
— Поправляйтесь, хлопцы!
Ребята переглядываются, ничего не понимая, благодарят:
— Вот это толково! Добрая будет уха!
А цветок, как всегда, и в то утро ждет их на своем месте. Увидев его, Вася многозначительно оглядывает друзей:
— Думаете, мистика?
— А ты считаешь как?
— Благородный человек по земле этой ходит!
— Об этом мы, представь, давно догадались. Ты скажи лучше, кто этот благородный?
— После нынешней ночи в точности могу доложить.
— Кто же?
Мовчан не спеша поворачивается к застланной утренней дымкой Волге:
— Вон ту бабушку видите? Во-о-он к пристани шагает.
— Ну, допустим, шагает.
— Она.
— Вот это уже мистика.
Вася обиженно поводит плечами:
— Кто сомневается, может проверить.
Двое гонцов-добровольцев тут же срываются с места и исчезают за поворотом тропинки.
— Эй, вы, поаккуратней там, — несется им вдогонку, — невзначай не обидьте старую!
Ребята возвращаются почему-то очень не скоро. Вид у них какой-то странный — и торжественный, и чуть-чуть смущенный:
— Ну что? — спрашивают, обступив их со всех сторон, заждавшиеся друзья. — Догнали?
— Догнали…
— Она?
— Она…
— А как спросили-то?
— Да, прямо так по-простому и спросили. «Ваш, говорим, мамаша, бессмертник на памятнике вон там?»
— Так. А она?
— Она отвечает: «Мой».
— Здорово! А вы?
— А мы: «Спасибо, говорим, вам от всех нас. Все очень цветами вашими любуемся».
— Молодцы! А она что же?
— А она задумчиво так посмотрела нам в глаза и заторопилась к пароходу. Мы, конечно, за ней, помочь, значит, хотим при посадке. Уже перед самым трапом оборачивается она к нам и говорит: «Только я, сыночки, тут первый раз — нынче прибыла, нынче и обратно. Дай, думаю, на старости лет хоть одним глазом гляну на эти места. Астраханские-то наши давно уже здесь перебывали. Моя очередь только сейчас подошла».
— Что ж, выходит, и она и не она?
— Получается так…
— Да вы ту ли догнали-то? Та была в черном платке, — говорит Вася Мовчан.
— В черном?!
— В черном, понимаете, в совершенно черном.
— Не-е, эта в белом была. В белом, как снег…
— Э-эх, вы! — огорченно разводит руками Вася.
Через мгновение все видят его быстро бегущим вниз, к Волге, к выплывающей из тумана пристани.
* * *
На Мамаев курган, к мемориалу, идут и идут люди. Их поток нескончаем. Со всех концов земли приезжают сюда поклониться павшим героям. Постоять в молчании. Поглядеть на цветы, на горы и горы живых цветов. На крохотный бессмертник в ладони скорбящей матери. На его неяркие, упрямые чуть подрагивающие под степняком жесткие лепестки.
Медаль
В тот день, когда Грибанова вызвали в военкомат, улицы Москвы с утра высвечивало солнце, а капель строчила звонкие строчки. Это вполне соответствовало настроению Грибанова. Ему в последние годы что-то не присылали повесток от военкома. Видно, старость подкралась, думал бывший пехотинец. И вдруг предписание — явиться! Грибанов повеселел. По телефону предупредил директора артели «Заря», где работал мастером, что задержится, и направился по давно знакомой, давно не хоженой дороге.
«Стало быть, не совсем еще старье». При этой мысли Грибанов поймал свое отражение в бело-голубой, кудрявой от облаков луже, остановился и вгляделся внимательно. Даже все морщинки с лица будто сдуло весенним ветром!
В комнате, номер которой был указан в повестке, Грибанова встретил молодой лейтенант с рассеянным выражением лица. Мельком глянув на вошедшего, офицер взял у него повестку и сказал: «Садитесь», когда тот уже удобно расположился в клеенчатом кресле.
— Перерегистрация, товарищ Грибанов, ничего не поделаешь, оформим все записи заново. Время от времени полагается, мы с вами люди военные.
— Как же, как же! Все понятно и так. Я вас слушаю.
— Воевали? — Лейтенант нацелился авторучкой в лежавшую перед ним бумагу.
— Как положено.
— Отлично. Так и зафиксируем: участник Великой Отечественной…
— Что верно, то верно, участник. Но лучше бы все по порядку, раз уж мы люди военные.
Лейтенант поправил ремни, широко раскрытыми глазами уставился на Грибанова.
— Финскую тоже обижать не будем, товарищ начальник. Какая-никакая, а война.
— Финскую?!
— Финскую.
Лейтенант запустил в свесившийся чуб пятерню вместе с авторучкой.
— Выходит, вы ветеран! О таких в газетах пишут. И ранены, наверно?
— И ранен, — прямо, как о само собой разумеющемся, ответил Грибанов.
— В каком месте?
— Вот в этом, — Грибанов дотронулся до левого плеча.
Едва заметная улыбка скользнула по лицу лейтенанта.
— Вы меня не совсем поняли. Я спрашиваю, где пуля вас догнала.
Теперь улыбнулся Грибанов.
— А! Пишите — под Выборгом.
— Значит, вы прошли почти всю кампанию?
— Какое там! — Грибанов махнул рукой. — Я из свежего пополнения, с марша прямо в бой. Тут меня и угораздило. Воевал минут шестьдесят, не больше.
— Тяжелое ранение?
— Легкое, пулевое. Очнулся я уже в медсанбате.
— Та-ак, — записывая, протянул лейтенант. — Ранен под Выборгом. В Отечественной, говорите, тоже участвовали?
— По силе возможности.
— И еще ранения были?
— Так точно.
— Где и когда?
— Второе — там же, под Выборгом.
— Какое совпадение! В финскую под Выборгом и в Отечественную?..
— Теперь вы меня не совсем поняли, — поправил лейтенанта Грибанов. — Вторая пуля, представьте, меня отыскала там же и в тот же день.
— Ничего не понимаю. Вы ведь были уже в медсанбате.
— Там и отыскала. Пришел я в сознание — гляжу на себя и в толк взять не могу: левое плечо перевязано, а из правого фонтаном хлещет. Пробую встать — ни черта не выходит. Тут санитар прибежал. «Это шальная, — говорит. — Вот и дырка в брезенте!»
— Так, так, та-ак. Значит, оба ранения получили на финской?
— Не оба, а два. Это точнее будет.
Офицер был явно смущен своей неловкостью. Записав все, что сказал ему Грибанов, он дальше спрашивать уже не решался — боялся снова впросак попасть. Грибанов заметил это, но виду не подал. Он не спеша достал папиросу, попросил разрешения закурить.
— Конечно, конечно, курите, — обрадовался наступившей разрядке лейтенант. — Может, вам сигарету?
— Нет, я больше насчет «Беломора».
Перекурив, вернулись к бумагам. Видя, что лейтенант еще испытывает стеснение, Грибанов пошел ему навстречу:
— На чем мы остановились? На втором ранении?
— На втором, — обрадованно подхватил лейтенант.
— Хорошо. Про контузию писать уже не будем, хоть, откровенно сказать, от нее до сих пор недослышу малость.
— Нет, нет, положено все писать, — сказал лейтенант. — Иные контузии хлеще всяких ран, это я по себе знаю.
— Неужто воевали? Вы ж молодой еще человек, — удивился Грибанов. — Думаю, в войну совсем мальчиком были?
— Совсем, — уже без всякого смущения кивнул Грибанову офицер. — Под Саратовом это было. Пошли мы с братишкой на Волгу гонобобель собирать — ягода такая есть в тех местах, от цинги помогает.
— Как же, знаем такую. И что же?
— А он, — лейтенант сделал на слове «он» такое ударение, какое всегда делают солдаты, когда разговор о враге заходит, — а он как раз на мост навалился. Фугас за фугасом! Нефтянки разбил — вся Волга в огне…
— Это дело известное, — Грибанов участливо поглядел на лейтенанта. — Ну, а дальше?
— Ну, а дальше как у вас под Выборгом, — очнулся я уже у военных врачей. Определили контузию. Я тогда и слова такого еще не знал. Пустяковая штука, а до сих пор не отпускает.
— Погоду чует?
— Барометр…
Два человека, молодой и старый, посмотрели друг другу в глаза, помолчали, одновременно, как по команде, вздохнули и опять закурили. И снова окно занавесилось на минуту-другую синей шторкою дыма.
Первым докурил Грибанов.
— Итак, на чем мы там остановились? На контузии?
— На контузии.
— Получил я ее в эшелоне.
— Когда вас везли в госпиталь? — приготовился записывать лейтенант.
— Нет, тут с финской, считайте, закончено. Начинается Отечественная. В эшелоне он нас накрыл под Вязьмой. — Теперь Грибанов сделал ударение на слове «он».
— Тяжелая, говорите, была контузия?
— Контузия была поначалу так себе, ерунда, а дело было серьезное.
— Под Вязьмой-то?
— Под Вязьмой. Запалил он нас с двух концов — с хвоста и с головы, стал еще посередке бить, а там у нас ящики снарядные, а на соседних с нами путях санитарный — человек тыща одних лежачих. Ну, тут про всякие контузии, конечно, забыть пришлось. Целый день и целую ночь со смертью в жмурки играли. Под утро слышу — голова не моя, руки не мои и ноги тоже чужие…
У Грибанова давно уже кончился «Беломор», он не заметил, как переключился на сигареты лейтенанта, а тот все писал и писал.
Когда добрались до конца анкеты, Грибанов и офицер были не просто хорошо знакомыми людьми — они невзначай перешли на «ты» и как будто даже породнились, какая-то неуловимая и в то же время нерасторжимая связь соединила этих двух утром еще совсем не знавших друг друга людей.
— А теперь награды запишем, — сказал лейтенант в заключение.
— Особых регалий нету, но одна висит.
— «За отвагу», конечно?
— За какую отвагу? Ты что? «За трудовую доблесть», известно. Прошлым летом по случаю юбилея нашей артели пожаловали. — Грибанов с гордостью отвернул борт бобрикового пальто. — Видал? В самом Кремле получена.
— Это, конечно, почетно, но я имею в виду боевые награды, военные, — не унимался лейтенант.
— Ну вот, заладил: боевые, военные… Ты ведь русский человек, все слышал, все записал, знаешь, как война для меня сложилась, — одни ранения да контузии, контузии да ранения. Горе, а не война — и та, и другая…
Вечером, в конце работы, после длинного заседания, лейтенант пришел в кабинет к военкому, рассказал ему о Грибанове. Полковник внимательно выслушал подчиненного, снял с полки толстую книгу, почему-то долго листал ее, наконец спросил:
— Медаль «За трудовую доблесть», говорите?
— За трудовую, товарищ полковник. В артели у них, видите ли, юбилей был, а артели этой днем с огнем не разглядишь!
Полковник улыбнулся, опять полистал толстую книгу, постучал ногтем по настольному стеклу.
— Документы у Грибанова вашего все в порядке?
— В полнейшем, товарищ полковник. Иначе не стал бы вас беспокоить. Вот, посмотрите…
Долго в этот вечер длился разговор двух военных. Дата за датой, шаг за шагом проследили они весь славный боевой путь бывшего пехотинца, состоявший, по его словам, из одних госпиталей.
— А ведь вы правы — герой из героев! — сказал лейтенанту полковник. — Я бы на вашем месте взял бы и рапорт написал. Так, мол, и так.
— Мне написать? — удивился лейтенант. — Как написать? Да я же…
— Именно вам. Так и пишите, как рассказываете. У вас должно хорошо получиться.
Полковник встал из-за стола, поглядел на часы, но перед тем, как отпустить подчиненного, посоветовал:
— Только не сегодня, а завтра, с утра, чтобы на свежую голову. Это надо очень хорошо написать, понимаете, очень!
— Понимаю, товарищ полковник.
— А Грибанова вызовите-ка ко мне. Хочется на него одним глазом глянуть. Был у нас в дивизии один солдат — точная копия этого. Награды — за ним, он — от них. Где, вы говорите, он еще воевал-то?
— Да он почти везде воевал, товарищ полковник. Где только не воевал! Вы же видели.
— И под Керчью был?
— Вот только что под Керчью не был.
— А под Майкопом?
— И под Майкопом не довелось.
— А я как раз именно там лиха хлебнул — у Керчи и Майкопа. Но я же ясно помню — был у нас такой. Одним словом, вызовите.
Полковник и лейтенант погасили свет, вышли, распрощались до завтра и направились в разные стороны. Полковник жил поблизости и минут через десять был дома. Несмотря на усталость, он не скоро уснул в ту ночь.
А лейтенант, не дождавшись трамвая, долго еще вышагивал по ночной Москве в сторону Тимирязевки и тоже был переполнен впечатлениями минувшего дня. Тонкий ледок хрустел под его каблуками звонко, на всю улицу, как только может хрустеть последний ледок апреля.
Пихта Доватора
Зимой сорок первого года конники генерала Доватора шли по тылам противника подмосковной землей. Привела их судьба и в село Лихово, где за день до того побывали немцы. Когда доваторцы появились там, их со всех сторон обступили крестьяне. От радости позабыв о том, что от большинства их домов остались одни пепелища, лиховцы наперебой звали солдат к себе:
— К нам зайдите.
— И к нам.
— И к нам…
Зимой день короток. Остановились конники в Лихове на привал. Вооружившись шанцевым инструментом, они всю ночь растаскивали обгоревшие бревна, рубили замерзшую землю, будто готовились к длительной, многомесячной обороне. А наутро ночевавшие в лесу старики, женщины, дети увидали длинный ряд землянок — с дверцами, с жестяными трубами, честь по чести.
— Получайте подарок от недонского казака! — сказал столпившимся вокруг него людям Доватор. — Может, и не по всем правилам инженерной науки сработано, но перезимовать можно.
— Это для нас?! — изумленно спросили из толпы.
— Так точно, — ответил Доватор. — А вы как думали?
Совсем старая женщина, до бровей закутанная в платок, опушенный инеем, подошла к генералу:
— Мы не так думали. Лихово — село малое. Вам же еще через всю Россию скакать…
— Через всю Россию, говоришь?
— Ну да, из края в край. А мы, лиховцы, что? Ноль без палочки, — сказала старуха.
— Вот и неверно, мать. За Россию мы вместе в ответе — и я, и ты, и они! — Доватор окинул взглядом собравшихся.
Старуха ответила:
— Мужики наши все как один под ружьем давно. Нынче до баб черед доходит.
— Ну вот, видишь, а ты говоришь — ноль. Побольше бы таких нолей — и с палочками, и с ружьишками. И еще скажу: одно Лихово — Лихово, тыща Лиховых — Россия, — я так понимаю.
— Твоя правда, сынок! Только не резон на нас время тратить. Гоните вы его, ирода, шибче, гоните днем и ночью!
— А, вон ты о чем! Так знай: эту ночь мы в пути наверстаем. Завтра за Рузой будем. Кони у нас, сама видишь, курьерские. Ну, а на ребяток тем паче не жалуюсь. Одним словом, живите спокойно. Больше тут ему не бывать! Мы на него вот как насядем! — Генерал привстал в стременах и резко опустился в седло, будто изображал, как именно намерен он «насесть» на немца. — Ясно, граждане?
— Ясное дело.
— Ни пуха вам, ни пера…
Доватор развернул коня, поднес руку к съехавшей на затылок папахе и вдруг увидел прямо перед собой разбитое дерево, ощерившееся белыми щепками, как гигантский противотанковый еж.
— А это что тут у вас такое?
— А это, товарищ генерал, калека у нас. Одним словом, смертельно раненный.
— И еще раненые есть?
— Это одни, товарищ генерал. И тот бессловесный.
— Все равно жалко. — Доватор еще раз глянул на обезглавленное дерево. — Пихта?
— Пихта, товарищ генерал. Красавица была.
Доватор спрыгнул на землю, бережно поднял крошечную сломанную ветку.
— Большая редкость в этих краях. А у нас вот, в Полесье… — сказал генерал и, вздохнув, задумчиво сбил рукавицей иней с мохнатой морды коня. Он снял папаху, аккуратно вонзил ветку черенком в жесткий, поседевший от мороза мех. — Аж до самого Берлина сохраню. Кто ж ее так?
— Свои. Когда к Москве подавались, в спешке и зацепили, — опять отозвалась все та же старуха.
Доватор слегка улыбнулся.
— Свои? Ну, тогда ничего! Весной, глядишь, оживет. Все вообще хорошо будет. А ты как думаешь?
Сказал он это так, будто в словах старухи хотел найти подтверждение своим собственным мыслям. Сказал и пристально так посмотрел в ее подслеповатые, слезившиеся глаза. Та, видимо, поняла, почувствовала его внутреннее состояние и, помолчав, ответила:
— Спасибо тебе, касатик. Хошь и не оживет, все одно спасибо вам, сыночки мои. Поклон вам низкий за все, а за доброе слово особо.
— Обязательно оживет! — уже совсем уверенно сказал Доватор. — А мы на обратном пути еще проверим. — И, чтобы уж окончательно был понятен смысл его слов, добавил: — Когда будем из Берлина до дому скакать. Нескорое это дело, но правое. Верно я говорю?
— Так точно, тарыш нерал! — отрывисто, четко, как на параде, отчеканили конники.
— Дай вам господь доброго здоровья! — снова всем сразу поклонилась старуха.
В Лихове больше никто не видал доваторцев. Даже и потом, после войны, когда отполыхали все салюты победы. Знать, из Германии домой по другой дороге прошли. Да и помнили ли они обещание своего генерала, сложившего голову совсем недалеко от Лихова? Скорей всего позабыли.
Но в Лихове и до сих пор вспоминают Доватора. И старуха жива. Совсем плоха стала, но не запамятовала ни зиму ту, ни генерала в папахе, ни того, какие слова сказал он людям. Не забыла даже и о той малой веточке, которую он тогда с земли подобрал.
— Вот тут это, значит, и было. Во-от тут! — скажет она вам и постучит суковатым костыликом в корни могучего дерева.
Вы для приличия вслух удивитесь старухиной памяти, а про себя подумаете: «Ну разве все возможно упомнить? И где стоял, и что молвил, и как за отшибленной веткой нагнулся. Конечно, все давно перепутала бабка».
А та, словно угадав ход ваших мыслей, всплеснет руками:
— Не веришь?
— Нет, почему же…
— Не веришь, не веришь, по глазам вижу. А у нас тут всяк знает. И пихточку народ по нему окрестил.
— Как по нему? — уже не скрывая своих сомнений, спросите вы.
В разговор постепенно вступят ребята, незаметно окружившие вас и старуху:
— Все точно.
— Пихта генерала.
— Самого Доватора! — услышите вы со всех сторон.
И вот понемногу, слово за словом восстановится вся в общем-то несложная, но в то же время удивительная история пихты.
…Ускакали конники Доватора из Лихова. С каждым днем все реже и реже стали доноситься сюда раскаты орудийной стрельбы. Через неделю в селе было уже совсем тихо. Старики и бабы сперва робко, с оглядкой, потом все смелее начали выходить из землянок. Надолго ли? Этого, конечно, никто не знал. Только старуха, поговорившая в то утро с Доватором, убежденно сказала:
— Надолго.
Спорить с ней односельчане не стали. А скоро и сами увидели — все дальше и дальше уходил от Лихова фронт.
— Надолго! — совсем повеселела старая.
А вместе с нею повеселело и все вокруг. Снова послышался детский смех. Блеснула на зорьке первым застекленным окном первая подлатанная хатка.
Даже обезглавленная пихта и та зашевелилась. Подумала, подумала и под весенним солнцем выбросила светлые перышки побегов. А потом день за днем, неделя за неделей с деревом стало твориться и совсем небывалое: верхние, наклонные к земле ветки начали постепенно распрямляться, сделались сперва горизонтальными, затем, медленно изгибаясь возле ствола, круто повернули вверх, будто стремясь заполнить собою ту пустоту, которая образовалась в небе после того, как рухнула на землю вершина.
Через несколько весен пихту невозможно было узнать: пятерка верхних ветвей точно, как по отвесу, устремилась в зенит. И вот вместо одной вершины стало у дерева целых пять — гордых, отточенных, одна другой краше и выше!
Теперь пихтой любуются многие люди. Когда подъезжаешь к Лихову, она уже верст за десять начинает над лесом показываться. Тот, кто раньше видел ее, никак не налюбуется, тот, кто встречает впервые, принимает издали за пять самостоятельных деревьев.
— А это что за чудо природы у вас? — изумленно спрашивает новый в этих краях человек.
— Пихта генерала Доватора! — отвечает какой-нибудь шустрый веснушчатый «старожил» лет семи или восьми.
И снова, в который уже раз, начинается неторопливый, гордый, со всеми подробностями рассказ о том, что Доватор был в Лихове, как землянки в одну ночь выстроил, как с людьми говорил.
Мальчишка рассказывает, и кажется — внимательно слушает его даже само воскресшее дерево, притихшее в этот торжественный миг.
Кончился рассказ, и снова пять вершин, пять зелено-голубых сабель, вскинутых в небо, со свистом рассекают воздух над землей подмосковного села Лихово.
Земляки
Грачев и Апраксин, пассажиры парохода «Котовский», шедшего из Волгограда вверх по Волге, разговорились неожиданно — прикуривая на палубе друг у друга.
— Вы, не иначе, саратовец! — обрадовался Апраксин распевному говорку попутчика.
— Угадали, но не совсем. Из Энгельса я.
— Считаю, попадание прямое: меж ними Волга одна.
— Справедливо. И вы, сдается мне, здешних краев?
— Отчасти, — в тон собеседнику пошутил Апраксин. — Родился в Царицыне, воевал в Сталинграде, а ныне в Волгограде работаю…
— Помотались, выходит, по белому свету, — Грачев засмеялся. — И все-таки земляки!
— Земляки стопроцентные, — согласился Апраксин. — Мальчишкой я еще и в Энгельсе жил.
«Котовский» шел вперед. Шум его колес, то чуть затухавший, то вспыхивавший с новой силой, не мешал двум новым знакомым разговаривать. Собственно, говорил главным образом Апраксин, Грачев слушал. Ему было интересно узнать о битве на Волге из уст очевидца и непосредственного участника событий. Апраксин, почувствовав это, увлекался все больше.
Перед Грачевым во весь рост вставал настоящий сталинградец, не бахвалящийся своими заслугами, но в то же время не стесняющийся где надо подчеркнуть, что это именно он, Апраксин, а не кто иной, бросил связку гранат под гусеницу «фердинанда», когда тот утюжил окоп их роты. А как же? Что было, то было!
Грачев любовался своим земляком, его отвагой. Только изредка перебивал вопросами и снова слушал, слушал и завидовал человеку, сумевшему так героически проявить себя на войне и получившему право так о войне рассказывать.
Апраксин вспоминал такие вещи, о которых Грачев не имел и представления.
— Вот мы с вами для примера давайте землю возьмем — один квадратный метр сталинградской земли. Только один, — Апраксин согнутыми в локтях руками обозначил в воздухе предполагаемые границы метра. — Так вот, на него вся немецкая промышленность работала день и ночь. После войны подсчитали точно: тысяча шестьсот осколков в том метре! Я до сих пор, когда по улицам Сталинграда иду, слышу, как осколки гремят у меня под ногами. Все убраны давно, на полках музеев разложены, а я слышу и слышу — гремят!
— На вас на самом-то места небось живого нет? — спросил Грачев.
— А меня, вообразите, бог миловал. Сам удивляюсь. Ну хоть краешком зацепило бы! Как в песне поется: «Смелого пуля боится, смелого штык не берет!»
Сказал так, и опять не было в тех словах никакой рисовки. Просто радовался человек своей удачливости, ну, и, конечно, законная гордость в них была. Вот, мол, какой мы, волжане, народ. И крупповский чугун против нас бессилен, и прусской стали мы не по зубам.
— Давно из армии? — поинтересовался Грачев.
— Сразу после войны в гражданку, за свое дело. А сейчас в Энгельс командирован, на химкомбинат… Ну ладно, я, кажется, заговорил вас совсем, целый вечер воспоминаний устроил. Вы-то что? Где и как воевали?
Грачев зябко поежился на сыром, усилившемся к ночи ветру, развел руками, но совсем не так, как Апраксин, когда свой метр показывал.
— А я, извините, отсиделся в тылу…
Апраксин промолчал, но в глубине души откровенно пожалел в ту минуту, что судьба свела его не с героем боев, а с человеком, не нюхавшим пороха.
Грачев продолжал:
— Да еще в каком тылу! В том самом Энгельсе, куда мы с вами путь держим. Теперь он, правда, разросся, а тогда невидимкой был. Мастерская наша «Заря революции», я и по сей день там работаю, в первые же дни войны переквалифицировалась — стали мы танки штопать. Дыра на дыре, а мы все латаем и латаем…
— Ну что ж, и это неплохо! — воскликнул Апраксин. — На фронт не просились?
— Почему не просились? Просились. Тем более мы, совсем молодые в то время ребята. Обещали, но пустить не пустили.
Апраксин поглядел на Грачева уже с нескрываемым превосходством: он сам-то в дни Сталинградской битвы был и вовсе мальчишкой.
Проговорили они допоздна. Потом, пожелав друг другу спокойной ночи, разошлись, забыв даже спросить, кто в какой каюте. Но это было не столь уж важно — «Котовский» не океанский лайнер, потеряться на нем невозможно.
Апраксин, убаюканный перебором колес, вскоре уснул. Ему, коренному волжанину, вообще всегда хорошо спалось на воде, а сегодня он не просто спал — упивался отдыхом, нежданно-негаданно подоспевшим после трудной работы. Проснулся он все-таки задолго до рассвета.
Лопотали-лопотали колеса «Котовского» и вдруг смолкли. Только еле слышно шлепала где-то внизу волна по становившимся плицам. Эта-то тишина и разбудила Апраксина. Он быстро поднялся, отворил окно и отпрянул назад — лохматая масса тумана вплотную подступила к глазам.
Надрывно и тошно завыла сирена. «Почти совсем, как тогда», — подумал Апраксин.
Вскоре еще один, совсем уже странный звук привлек его внимание: чей-то тихий, едва уловимый стон.
Апраксин поторопился на палубу. В двери, распахнутой в конце коридора, снова встретила его все заслонившая собой непроницаемая пелена тумана.
Оказавшись на палубе, Апраксин больно ударился о какой-то косяк и сам чуть не вскрикнул от боли. А стон между тем повторился. Сейчас он был еще ближе, еще явственней. Апраксин инстинктивно пошарил перед собой вытянутыми руками и наткнулся на ребристую ставеньку окна чьей-то каюты. Ставенька отворилась, на Апраксина пахнуло резким запахом лекарства.
— Кто тут? — испуганно спросил он.
Никто не ответил. Он попробовал зажечь спичку, но от волнения рассыпал весь коробок. Чертыхаясь, неловко втиснулся в узкое окно.
— Это вы? — услышал он вдруг знакомый голос возле самого уха.
Ошибки быть не могло — это был голос Грачева.
— Земляк! Это вы стонали? Или не вы?
— Я и сам не пойму. То схватит, то отпустит, то уймется, то снова хоть на стену лезь. Сильно кричал, да?
— Нет, не особо, — попробовал утешить Грачева Апраксин, — но сейчас тишина такая, в тумане стоим, каждый звук слышен. Что с вами? Заболели?
Вместо ответа Грачев включил настольную лампу. Апраксин увидел полдюжины пузырьков, раскатившихся по белой скатерке.
Перехватив встревоженный взгляд Апраксина, Грачев сказал:
— Пустяки, не волнуйтесь. Еще немного — и пройдет. На излете уже.
— Может, все-таки поискать врача? Зачем шутить такими вещами? Может, вам…
— Анальгина у вас не найдется? — прервал его Грачев.
— Анальгина? И не слышал про такой.
— И впрямь счастливый, значит, вы человек! А я вот без него — никуда.
— Снотворное, что ли?
— Болеутоляющее. Как начнет ломать да крутить, лучшего средства не знаю.
— Вам бы и взять его в дорогу-то.
Грачев постучал себя пальцем в лоб.
— Есть на свете еще и склероз!
Апраксин сочувственно вздохнул и снова предложил:
— Поищу-ка я все-таки лекаря, а?
— Ни в коем случае! Уже отлегло. Больше сегодня не тронет. А вы вошли бы, сырость-то, она и здоровому все кости перегрызет. В коридоре первая дверь направо.
— Давно это с вами? — спросил Апраксин, перешагнув порог каюты своего земляка.
Грачев на вопрос ответил вопросом:
— У вас в Сталинграде в каждом метре тысяча шестьсот осколков, говорите?
— В каждом.
— А у нас, в Энгельсе, немец не был совсем, как вы знаете. Только фугасы расшвыривал. Один швырок у меня в спине и застрял. В такую вот погоду места не нахожу. А вас, стало быть, вовсе не тронул?
— Целехонек.
— Я ж говорю — счастливый! Окажись я там — все б осколки моими были. Это я точно знаю. Когда над нашей «Зарей» первая бомба рванула, никого не задело, только я схлопотал. В Сталинграде я был бы убит тысячу и еще шесть сотен раз, как отец мой Грачев Петр Степанович. Не слыхали случайно?
— Грачев? Петр? Что-то не припоминаю.
— Жаль. Он у вас, в Сталинграде, свою долю принял.
Апраксин и Грачев проговорили теперь уже до самого утра. Они не заметили, как прошла ночь, как рассеялся туман, как «Котовский» опять залопотал колесами и начал наверстывать время.
В Энгельсе земляки расставались как друзья.
— Может, зайдете вечерком? — спросил Апраксина Грачев. — Всех дел на своем химкомбинате сразу все равно не переделаете.
— Спасибо, — ответил Апраксин. — После такой ночи до гостей ли вам?
— А что? Сейчас в баньку схожу — все как рукой снимет. Да и забот у меня, откровенно говоря, прорва.
— Я бы не советовал вам сейчас перенапрягаться. Посидите дома денек-другой, потом можно и за дела. Я вот здоров, как дьявол, и то нынче не прочь отдохнуть. Вам же и сам бог велел.
Грачев по категорическому настоянию Апраксина сел в такси и поехал домой.
А сталинградец решил до начала рабочего дня побродить немного пешком по городу своего детства. Он шел и думал о многом — о превратностях судьбы, о Сталинграде, где воевал, об Энгельсе, в котором очень давно не был и который с давних пор остался в его представлении крошечным, тихим уголком земли, городком-невидимкой, как выразился Грачев. Апраксину вдруг мучительно захотелось повстречать кого-нибудь из ребят — Васюху Черного, или Митю-Мустафу, или Вадика с Поклонной. Наверняка воевали. Вот бы с кем душу отвести! Но попадавшиеся Апраксину люди, как внимательно он ни вглядывался в их лица, никого из бывших друзей не напоминали даже отдаленно.
Впрочем, одного знакомого Апраксин все-таки встретил. Когда он поравнялся с аптекой, из ее стеклянных дверей, никого не замечая, вышел бледный, измученного вида человек с целой охапкой каких-то свертков. Это был Грачев. Неловко высвободив руку с часами, глянув на них и покачав головой, он решительно устремился к низкорослому кирпичному зданию, содрогавшемуся всеми стенами от работавших внутри станков. Через мгновение он скрылся в дверях, над которыми золотым по черному было написано: «Заря революции».
Апраксин постоял, задумчиво посмотрел ему вслед, тоже покачал головой и повернул в ту сторону, откуда только что пришел. Пора было направляться на химкомбинат, который был расположен на другом конце города, почти у самой Волги.
На всем обратном пути Апраксин снова и снова пристально всматривался в лица встречных, пытаясь хоть в ком-нибудь угадать знакомые черты, но тщетно. Словно никогда он здесь и не жил, ни с кем не водил дружбы, никого не знал, ни одного человека. Зато очень знакомо стали вдруг погромыхивать у него под ногами осколки фугасок. Все громче и громче. На каждом шагу. Когда он добрался до Волги, уже вся земля гудела у него под ногами…
Крылья
Тракторы трех колхозов, сойдясь с разных сторон в одном треугольнике возле деревни Заболотье, каждую весну между собой как бы спор вели: кому «нейтральную зону» запахивать? Каждый раз передние колеса их останавливались на одном и том же заранее определенном рубеже — и дальше ни шагу.
— А может, все-таки махнем? — говорили ребята помоложе. — Чего зря земле пропадать?
— Нет, — отвечали им те, что постарше. — Понятия не имеете, так молчите. А земли у нас вон сколько!
И опять оставался нетронутым таинственный треугольник поля.
А земля словно привыкла к тому, что ее здесь наверняка не потревожат, — спала спокойно, вольготно, и полевые цветы не спешили на ней расцветать, будто хорошо понимали, что в запасе у них целая весна и целое лето. Только в конце мая начинали вспыхивать тут синие искры васильков, а ромашки распускались и того позже, но на высоких стебельках стояли потом до конца лета.
В этом месте когда-то упал и разбился наш «ястребок», атакованный пятеркой «мессеров». Сперва, говорят, называли точную дату случившегося, потом срок тот забылся, потерялся среди тысяч других.
А этой весной появилась тут странная, никому не знакомая женщина. Вышла как-то утром из дальнего леса, увязая в рыхлой земле, пересекла только что поднятое плугами поле и остановилась у незапаханного клина. Долго стояла, потом ушла.
Трактористы переглянулись:
— Кто такая? Может, так просто, прохожая?
Но на следующее утро незнакомка пришла снова и опять в задумчивости остановилась у того же самого места.
— Вчерашняя?
— Вроде бы да.
Трактористы подошли. Поздоровались.
— Вам, мамаша, чего?
Женщина молча переступила с ноги на ногу. Вид у нее был человека нездешнего, городского — на глазах роговые очки, на ногах старенькие, не приспособленные к грязи туфли. Седые волосы растрепались на ветру.
— Так вы, может, к нему? — спросил один из трактористов, тоже совсем седой и старый.
— К нему, — тихо ответила незнакомка и опять умолкла, глядя на не тронутый лемехом треугольник земли.
Утро было майское, солнечное, даже жаркое. Трактористы сняли шапки и отерли вспотевшие лбы.
— Да-а… А мы о вас ничего до сих пор не слыхали, — снова подал голос седой.
— Никак не могла отыскать… — еще тише и как бы виновато сказала женщина.
Вечером в новом клубе собрались жители всей округи. Пионеры принесли цветы. Кто-то сказал речь. Школу деревни Заболотье решили назвать именем погибшего летчика.
А в самом конце собрания, когда пришло время расходиться, в клуб приковылял колхозный сторож Фомич. На покрытый выцветшим кумачом стол президиума он осторожно положил огромный кусок рваного, почерневшего от огня алюминия и, глядя в лицо приезжей, сказал:
— Твоего сокола будут крылья.
Утром следующего дня вдова героя уезжала к себе на родину. Прощаясь, незнакомые люди говорили с ней как с близким, своим человеком:
— Ты что ж, Полина Михайловна, надолго от нас?
— Нет, ненадолго. Только сына вот захвачу — и сюда. Может, здесь и поселимся. Примете?
— Колхоз дом построит. А земли у нас хватит, сама видела.
Когда подвода тронулась и колеса затарахтели по каменистой дороге, бабы отвернулись, а мужики опять сняли шапки — день снова выдался солнечный, душный, как вчера.
В такт стучащим колесам загудел, завибрировал в телеге аккуратно обернутый холстом рваный алюминий.
В толпе провожающих переглянулись — звук у металла такой, будто чей-то невидимый самолет взревел могучим мотором и вот-вот оторвется от цветущей майской земли и уйдет в бесконечную синюю даль.
«Тридцатьчетверка»
С какой бы стороны ни подъезжал я к Москве — с юга ли, с севера ль, с запада, — на любой дороге и в стороне от всяких путей — с пригорка, из леса, из самой чащобы, — отовсюду смотрят на меня большие и малые памятники войны.
То солдатская каска блеснет среди травы невысокого холмика так, будто только что упала с чьей-то буйной головы.
То за чугунной оградой на порывистом осеннем ветру полыхнет ярко-красный огонь гвоздики.
То с полированного гранита глянет в остывшую воду реки Москвы светлое золото не забытых нами имен.
А то в березнячке пробежит змейка размытого дождями окопа. Промелькнет и исчезнет, чтобы снова вынырнуть из-за березок.
Края окопов обвалились, заросли чабрецом и крушиной, но это все-таки окопы, — я осторожно опускаюсь то в один, то в другой из них, встаю на колено и на мгновение закрываю глаза…
В березовом лесу тихо. Так бесконечно тихо, как перед тем боем, который вспоминается мне всякий раз, когда я попадаю в эти места.
Мне всегда хочется найти именно тот окоп, который был вырыт нашим отделением, но дело это не из легких.
Один сполз куда-то к реке, и из него не видно ничего, кроме белых берез.
Другой, наоборот, выбрал себе место на лесной поляне, но я той поляны никак не могу узнать.
Третий хоть и расположен в подходящем месте, но выкопан слишком по уставу и, значит, тоже не наш — мы рыли под бомбой и миной, и нам, откровенно говоря, не до уставов было.
Кто-то из друзей сказал мне, что наш окоп, видимо, просто не сохранился. Может, это и верно, но я все-таки поверить в то не могу.
Пока жив, покуда видят мои глаза и ходят ноги, я буду бродить по этим местам и когда-нибудь найду то, что мне нужно. Отыскал же я танк «Т-34», который был придан нашей роте и вместе с нею никуда не ушел с последнего рубежа!
Наша «тридцатьчетверка» тоже стала теперь памятником. После войны саперы подняли ее на угластый серый гранит, и издали кажется, что танк со всего ходу вырвался на господствующую над местностью высоту.
Я знаю, навечно задраены люки и смотровые щели танка, но башня его развернута так и так вскинута пушка, будто ведет она огонь по врагу.
Солнце чуть пригрело нацеленный в небо ствол, и у меня такое ощущение, что металл до сих пор не остыл после боя.
Кажется, еще минута — и гусеницы снова со всего ходу врежутся в грунт и за танком подымется в рост и пойдет в наступление рота!
Я приглядываюсь к нашему танку то издали, то подойду поближе и вдруг на исклеванной и обожженной броне читаю кем-то нацарапанные строки:
Мы с прошлым кровно связаны судьбой, Мы не забудем этот подвиг смелый, Там, где отцы вели смертельный бой, — И наша кровь к железу прикипела.Это уж кто-то из молодых отличился. И расписался даже, неразборчиво только — не то Иванов, не то Ивашов.
Танк «Т-34» отслужил свой век. Из его орудия уже никогда не будет произведено ни единого выстрела, и мне жалко, что пушка «тридцатьчетверки» ржавеет под дождем и снегом, что никто не придет, не смажет ее добрым пушечным салом.
Вот и сегодня подошел я к танку, а сердце солдатское даже заныло от боли.
— Получается как-то чудно́, — рассуждаю я вслух, — пока ты был нужен, тебя и чистили, и холили, а вот пришел срок — и забыли, хотя и подняли на высокий пьедестал… Верно я говорю, Мироныч? — спрашиваю своего всегдашнего попутчика, охотника и рыболова.
— Оно конечно, — задумчиво глядит на меня старик. — Только что же зазря убиваться! Взял бы да и смазал, масленка у нас с собой. Может, смазка ему нужна не такая, но ты попробуй, кашу маслом не испортишь.
Мироныч протягивает мне масленку, я, засучив рукава и плеснув себе на ладонь все ее содержимое, запускаю руку в ствол по самый локоть и тут же отдергиваю ее обратно.
— Ты что?!
— Пушка-то смазана, Мироныч! Смотри…
Я помогаю старику взобраться на танк. Через минуту он уже без моей помощи ловко спрыгивает на землю. Вид у него не то удивленный, не то загадочный. Он поправляет сползшую на глаза фуражку и произносит как-то необыкновенно спокойно и весело:
— Я ж говорил тебе, зря убиваешься!..
Бородино
Орел
Орел распростер крылья над бескрайними полями и лесами. Когда, запрокинув голову, смотришь на него снизу, такое впечатление, что орел летит, — крутые белые облака обтекают его с двух сторон, как весною льдины обходят опоры моста.
Но орел бронзовый, а когти его крепко впаяны в розоватый гранит обелиска, утвердившегося на высоком зеленом кургане. Это памятник Кутузову. На камне золотом выбиты дорогие русскому сердцу слова:
«НЕПРИЯТЕЛЬ ОТРАЖЕН НА ВСЕХ ПУНКТАХ!»
Эта строка из боевого донесения. Отсюда полтора века назад, 26 августа 1812 года, фельдмаршал Михаил Илларионович Голенищев-Кутузов руководил войсками в сражении с наполеоновской армией при Бородине.
Вечный покой. Полевые цветы на могилах. Торжественная тишина истории.
«И все-таки летит!» — думаешь ты затаив дыхание. Ухо даже улавливает свист рассекаемого воздуха. И чем пристальнее вглядываешься в широко размахнувшиеся крылья птицы, тем все более ощутимым представляется тебе ее свободное парение.
— Конечно, летит! — Невольный вздох вырывается из твоей груди всякий раз, когда знакомая можайская дорога снова приведет тебя в эти места.
— Летит! — повторяет ветер губами деревьев и трав. Кто-кто, а уж они-то в точности знают все, как было! Ковыль пророс сквозь черепа людей, а вот этот дуб-великан, наверное, не одну сотню листков уронил к ногам русского солдата.
В густой, шелестящей тени дуба ты нагибаешься, чтобы поднять с земли желудь — в ладонь тебе сама закатывается потемневшая от времени круглая свинцовая пуля. На память о былых сражениях кладешь ее в карман, хочешь в опавшей листве нашарить еще одну, но теперь уже руку обжигает желудь, горячий от последних лучей осеннего солнца…
А орел все летит!
Тень его крыльев сливается с тенью могучих дубов, шум его перьев тонет в шуме травы и листвы…
Нафантазируешься вот так, набродишься по закоулкам легенд и преданий, потом сам же себя и одернешь:
— Да полно тебе! Не ровен час кто-нибудь услышит и посмеется над твоими бреднями.
Как раз в эту самую минуту из леса и появляется косматый, седой, как сказанье, старик. Он решительно подходит к тебе, вместе с тобой запрокидывает голову, смотрит на орла, несколько мгновений молчит, не шелохнувшись, и вдруг удивляется:
— Что, парень? Летит орелик-то, а? Как живой!
И, не дождавшись твоего ответа, хлопает тебя по плечу, и с уст его еще раз срывается:
— Летит!..
Памятник Наполеону
Все Бородино в орлах. Куда ни поглядишь, куда ни повернешься — все орлы и орлы, и все летят в одном направлении — на запад.
Если тебе не ясно, в чем дело, старик пояснит:
— Был приказ Кутузову дан: скакать к нашим отступающим войскам, принять на себя командование, француза остановить. Не спал, не ел, по двести верст в день скакал Кутузов и встретил наших у Царева Займища. Когда он сошел с коляски, над ним откуда ни возьмись орел появился. Солдаты сразу духом воспрянули: «Пришел Кутузов бить французов!»
С тех пор фельдмаршала в народе орлом и прозвали. В память о подвигах русского воинства теперь тут орлы и красуются на каждом пригорке, на каждой высотке.
Старик поглядит на тебя многозначительно и еще скажет:
— Орлы, конечно, разные бывают. Какой из бронзы, какой из меди. А был тут один…
— Это что же еще за орел такой?
Старик поскребет в затылке и рассмеется:
— Неужели не слышал? Тогда слушай меня внимательно. В тысяча девятьсот двенадцатом, ровно через сто лет после Бородинского боя, стали на этих вот холмах памятники ставить. Мы — своим, французы — своим. Сказывают, везли сюда мраморного Бонапартия, только не довезли — буря настигла корабль, вместе с белым мрамором пошел он глубину моря мерить. Так закончился еще один поход Наполеона в Россию!
— Ну и что же? Как же из конфуза вышли?
— Решили на наш манер орла в Москве заказать — хоть самого немудрящего. Но мастера подумали, покачали головами и говорят:
«Ничего не выйдет, мусью, до юбилея никак не управимся».
«Как же быть? — спросили французы. — Что можно еще придумать?»
«Сами решайте, — сказали мастера, — мы беремся только времянку поставить».
«Делайте что хотите, но нам без орла нельзя».
И вот в ночь перед церемонией среди бронзовых и медных орлов появилась еще одна, с виду ничем не отличимая от прочих птица. Подняли ее мастера на гранитную колонну, денег не взяли и ушли. А наутро не стало птицы — подул ветерок с дождичком, она и размокла.
Старик еще раз почешет в затылке и еще раз посмеется — не злобно, но и не слишком добродушно.
— Мастера не виноваты. Делали наспех, из папье-маше. Есть такое французское слово. По-нашему значит — жеваная бумага. Ну, а дожди да ветры у нас сам знаешь какие. Вот орлишку и смыло…
Батарея Раевского
Здесь любая былинка дышит историей. На каждом шагу, как в сказке, открывается необычайное.
Чуть шевельнет ветер листья дуба, на один только миг повернет их к тебе чуть голубоватой изнанкой, а воображение уже рисует тебе сизый пороховой дымок, курящийся между ветвей…
Вспыхнут на солнце гроздья спелой рябины у края леса — тебе уже чудится: промелькнули за листвой красные мундиры гвардейцев Багратиона…
Ну, а седой старик от тебя уже не отходит. Он расскажет тебе десятки всяких историй, одна удивительнее другой.
Ты узнаешь о том, что белая стена вот этих берез воздвигнута природой как раз в том самом месте, где первыми приняли на себя удары врага огневики капитана Можарова.
— Погибли все вместе со своим командиром, но оружия не посрамили.
Ты услышишь и о том, как целый легион французов стал на колени перед русскими.
— Когда открыла огонь наша артиллерия, вот в этой лощине скопилось так много наполеоновских солдат, что лежать им было уже негде, а стоять во весь рост и совсем невозможно. Вот они, горемычные, как перед божьей грозой, на колени и пали. Наши палят, а французы шипящим ядрам челом бьют.
Старик поглядит на тебя строго и добавит:
— Я все это в точности знаю. Деды мои при Бородине пушкарями были. Так что слушай меня внимательно, ежели интересно тебе всю правду понять. То, что я знаю, ни один человек тебе не расскажет.
Он поведет тебя с холма на холм, от редута к редуту, и мертвые герои встанут перед тобою во весь свой гвардейский рост, и ветви дуба на поднявшемся ветру все заметнее будут тонуть в синем пороховом дыму…
— А вот и батарея Раевского, — остановит тебя старик у тяжелой каменной плиты, отливающей золотом врубленных в нее имен. — Таких орлов мир еще не знал! Ты только послушай…
Поведав тебе о Раевском, старик на минуту умолкнет, затем пустится в новые рассказы — о войне, прокатившейся по этой земле в сорок первом, у всех еще свежем в памяти году.
— Говорят, нашим здесь туго пришлось. Было у немцев танков больше раз в десять, но в геройстве наш брат предку не уступил!
Может, это и не слишком вежливо, но тут ты решишься перебить старика — ты ведь тоже кое-что помнишь! Не твоя ли противотанковая в сорок первом стояла как раз вот здесь, возле батареи Раевского?
— Вот на этом самом пригорке. Посмотрите, какой превосходный обзор! К тому же и памятник Кутузову рядом. Оглянешься, бывало, — орелик над самым твоим плечом летит. Даже на душе веселее становится. Вроде как нашего полку прибыло!..
Крепость
Немецкие танки рвались к Москве по дорогам, вдоль обочин которых еще не сровнялись с землею холмы от французских и русских могил. Вновь запылали города и деревни, дотла сожженные и разграбленные когда-то наполеоновской армией. Опять люди стали уходить в леса, собираться в партизанские отряды, чтобы внезапными ударами по тылам противника помочь нашим войскам остановить врага, не допустить его к столице.
Снова завязались оборонительные бои на политой кровью земле Бородинского поля. Много новых героев показало свое беззаветное мужество в этих боях, много страшных ран нанесли они фашистскому зверю. Но бронированная лавина все еще продолжала катиться на восток.
Овладев районом Бородина, фашисты не щадили тут ничего. Они глумились над священными памятниками русской славы, устраивали конюшни в храмах, тащили украшения с монументов, воздвигнутых в честь легендарных полков и дивизий Кутузова.
Не повезло и тяжелым бронзовым орлам. Мародеры организовали на них целую охоту. Гранитные колонны валили наземь, драгоценное литье разбивали кувалдами, отправляли в Германию на переплавку…
Но один памятник все-таки уцелел. Руки коротки оказались у оккупантов перед его незаметной, неброской силой.
Вот как это произошло.
Отделению немецких автоматчиков было приказано сорвать орла с гранитной глыбы недалеко от Багратионовых флешей. Солдаты, вооружившись веревками, баграми, подбадривая друг друга, лихо кинулись исполнять приказ, но… не тут-то было. От прыти и бодрости их очень скоро не осталось и следа. Они уже окружили памятник, когда заметили, что над орлом носится огромный рой пчел.
Пролетая над головами немцев, пчелы гудели, как пули, и нагнали на непрошеных пришельцев такой страх, что они вынуждены были остановиться.
Фашисты никак не могли взять в толк, почему пчелы так настойчиво вертятся именно в этом месте и отчаянно жалят каждого, кто осмелится подойти слишком близко. С оплывшими от укусов физиономиями, они ошалело кричали, размахивая руками, разводили костры и гнали дым в сторону памятника. Ничего не помогало. Пчелы только еще больше злились и набрасывались на врагов с новой яростью.
А было все проще простого. Покидая ульи горящих деревень, пчелы поселились внутри орла и никому не разрешали посягнуть на это свое убежище.
Из широко раскрытого клюва бронзовой птицы крылатые погорельцы тысячами устремлялись на недруга, а внутри орла все в этот миг кипело и жужжало. Будто грозный клекот вырывался из его груди, казалось, вот-вот вместе с пчелами кинется он на захватчиков с высокой гранитной скалы.
Подобру-поздорову немцы вынуждены были обойти памятник стороной. Только подоспевшая с обозом специальная команда отважилась на штурм пчелиной крепости. Обозники оказались смекалистее и хитрее автоматчиков — в особых халатах и масках они по лестнице подобрались к орлу, пробили ему зубилом грудь и стали качать мед из необыкновенного улья.
Меду оказалось не очень много, но мародеры так увлеклись его добычей, что не заметили подкравшихся партизан…
Никогда не думали фашисты, что таким горьким может оказаться пчелиный мед!
Не думали, не гадали, но помнить будут долго.
После разгрома врага начали наши люди залечивать нанесенные войной раны. Вскоре была заделана и пробоина на груди орла.
Когда ее чеканили, снова слышался резкий орлиный клекот на всю округу.
Говорят, что орлы не поют. Неверно это. Я сам слышал победную песню птицы, еще выше прежнего взорлившей в синем небе Бородина.
Если доведется тебе побывать в тех местах, обязательно отыщи тот памятник. Он стоит на холме, примерно на полпути от Багратионовых флешей к редуту Шевардина. С его высоты видно почти все Бородинское поле — из края в край.
Пчелы уже давным-давно переселились в свои обычные домики, но их гудящие стайки часто проносятся над увитыми цветами памятниками героям двух великих войн.
Егор Исаев, терский казак
Всадник осадил взмыленного коня у подножия поросшего ковылем кургана, на вершине которого, прильнув к подзорной трубе, стоял Кутузов.
— Откуда? — крикнул сверху вниз адъютант с перевязанной рукой. — Рапортуй!
Прискакавший не шелохнулся, лишь загнанный, припавший на задние ноги конь его тонко захрапел и тут же замолк.
— Ты что, братец, оглох или спятил от страху? — рявкнул адъютант так громко, что Кутузов оторвался от трубы.
Всадник опять не ответил, только чуть наклонился вперед и медленно, не вынимая ноги из стремени, мешковато начал сползать с седла.
— Да он ранен! Ослеп ты, что ли? — строго повел бровью Кутузов.
— Ранен?!
— Да, ранен, а ты его пытаешь. Сперва помоги человеку, потом уж пытай. Неужто этому учить надобно?
Адъютант кинулся к обессилевшему солдату, но не успел — с глухим стуком тот упал на землю и распластался в желтой осенней траве.
Кутузов проворно сошел с кургана. Отстранив подбежавших офицеров, он грузно опустился на колени возле раненого, расстегнул ему ворот и прильнул ухом к его белой костлявой груди.
Единственный глаз фельдмаршала сверкнул в эту секунду таким гневом, что и бывалым воинам не по себе стало. Зная суровый нрав командующего, все решили, что он тут же обрушится на адъютанта, но Кутузов отряхнул с ладоней песок, еле заметно улыбнулся и громко сказал:
— Живехонек! А саблю-то как держит, саблю-то! Он ее и на том свете не выпустит!
Потом повернулся к адъютанту:
— Ну чего же ты стоишь? За лекарем! Живо!
Егор Исаев не приходил в сознание много часов. В животе у него ржавой занозой глубоко засел рваный кусок чугуна. Левая нога солдата была перебита шрапнелью, сапог с высоким голенищем наполнился кровью до краев, и его пришлось разрезать сверху донизу. Исаеву сделали операцию, наложили повязки и тампоны, — словом, предприняли все, что было возможно в тяжелых условиях боя, а раненый все еще находился в глубоком забытье.
Ночью в избу, где лежал Исаев, пришел Кутузов. При свете каганца белый кокон солдатской ноги, вытянутой вдоль лавки, показался командующему огромным. Михаил Илларионович тяжело, совсем не по-военному, вздохнул и сел на поставленный лекарем табурет.
— Ну как? Спасешь солдата?
— Здесь?
— Ну, а где ж еще?
— Его, Михаил Илларионович, надо отсюда везти подале. Полный покой ему нужен.
— Боюсь, покоя и в Москве не будет. Утром велю через Можайск отступать. Что тогда скажешь?
— Тогда, Михаил Илларионович, дело дрянь.
— Ты мне скажи, Исаева в строй вернуть можно?
— Ежели отступать будем, разве вернешь?
— Вот ты лекарь, а человек темный. Для чего же мы отходить будем? Для того, чтобы резервы собрать, устроить врагу ловушку. Россию сберечь! Кто это сделать может? Такие, как Исаев. Понял?
— Понятно.
— То-то и оно! Спасая целую Россию, одного Исаева не спасти — возьмем ли грех такой на душу?
— Михаил Илларионович, он ли один?..
— А еще говоришь — понял! Да можешь ли ты уразуметь, что Исаев иного полка стоит? Не знаю, как ты, а я трусов видал.
— И я видал.
— Ну вот. А героев?
— Героев больше, — почти каждый герой, да не всяк живым остается.
— Запомни: Исаев — из героев герой. Слушай приказ: Исаеву живу быть! Ты, погляжу я, отступать не любишь, вот и оставайся на Колочи. Есть тут старуха одна, Аграфена, — в погребе у нее целый лазарет. Там и врачуй. Дениса Давыдова знаешь?
— Слыхал.
— Его люди тебе все, что нужно, доставят. Ясно?
— Все будет так. Только вот бы еще что… — замялся лекарь.
— Чего еще?
— Москву бы не оставлять…
— Москву? — задумчиво и как-то глухо вздохнул фельдмаршал. — А у тебя там кто?
— Никого. Но Москва есть Москва. Сам-то я питерский.
— Значит, земляки?
— Так точно!
— Насчет Москвы ты верно сказал, но на войне, брат, бывает всякое. Иной раз на сажень отошел — она тебе с версту показалась. Иной раз солдата простого потерял — будто целого штабу лишился. А о городах и говорить нечего — Минск да Смоленск у меня вон где сидят! И еще кой-чего лишимся. Одно утешение — ненадолго! Потом француза погоним так, что от славы его и от армии один только дым останется. Такой план тебе подойдет?
— В самую пору!
Так и быть тому! Но при одном условии.
— При каком?
Я тебе уже сказал — Исаева в строй поставить.
— Согласен.
— Ну, тогда с богом!
Фельдмаршал шагнул к двери. Только было занес ногу через порог — еле слышно застонал раненый. Кутузов воротился, подошел к Исаеву, нагнулся над самым его лицом:
— Жив, значит?
— Жив. Разговор твой слышал. Христом-богом прошу — не оставляй.
— Ты про Москву-то? До Москвы далече. Все сто раз еще перемениться может. А у тебя в Москве семья, что ли?
— Никого у меня там, терские мы. Лекаря, говорю, не оставляй. Мне все одно помирать, а он тебе еще сгодится. До Москвы еще сколько баталий будет?
— А, вон ты чего! Сколько до Москвы баталий будет, того никто не знает, но главный бой мы с тобой, Исаев, тут, в Бородине, выиграли.
— Как выиграли?!
— Так, выиграли.
Исаев даже приподнялся на локтях.
— А я от Можарова скакал к тебе подмоги просить. Все полегли как один…
— Знаю. Но бой мы выиграли, Исаев, это я тебе говорю. Наполеона узнать нельзя. Я его давеча в трубу видел — сник император, сник! И сюртучок его запылился.
— Тогда и помирать не страшно. А я думал, нас того…
— Лекарь, ты слышишь?
— Слышу.
— Исаев наш одной ногой уже в полку! Вторая на твоей совести. Ну, желаю вам добра! Надо еще французу огоньку подбросить, чтоб дольше помнил.
— Подбрось, батюшка Михаил Илларионович, подбрось ему, — не то простонал, не то прохрипел раненый.
Кутузов провел рукой по жесткому чубу Исаева.
— Не прощаюсь: велика Русь, а знаю — встретимся мы с тобою, казаче.
Помолчал и еще раз легонько провел по чубу.
— А Георгий, братец, за мной — с ним солдат российский еще храбрее становится.
— К чему это ты, Михаил Илларионович?
— К тому, что заслужил. Поверь старику, старики в людях толк понимают.
Кутузов поднялся, подошел к двери, но прежде, чем уйти совсем, еще раз обернулся с порога, пристально поглядел сперва на лекаря, потом на Исаева.
Лекарь стоял подле раненого как по команде «смирно».
Солдат шевельнул сложенными на груди руками, протянул их вдоль тела. Огромный, статный, он был прекрасен в ту минуту.
Такими Кутузов и запомнил навсегда двух ратных своих людей.
За окнами избы продолжал грохотать бой. С новой, все нарастающей силой в этом грохоте слышались залпы орудий. Исаев, много лет прослуживший в конной артиллерии, хорошо различал их голоса.
— Наши. Вишь как дружно!
Лекарь согласился:
— Наши. Фельдмаршал слов не бросает на ветер. Ну, готовьтесь, милок, сейчас санитары придут, двинемся на зимнюю квартиру.
— Мне бы скорей к своим, в конную…
— Будет, Исаев, и это: ты ведь сам слышал — я Кутузову слово дал.
Тополь
Это деревцо всегда теперь стоит у меня перед глазами. Его необыкновенную историю рассказал мне один старый колхозник в маленькой подмосковной деревеньке.
…Когда пришли сюда немцы, они прежде всего устроили в Вертушине лагерь для военнопленных — срубили сотни две или три тополей, понаставили столбов, натянули на них усеянную шипами проволоку.
Только глубокой ненастной ночью удавалось кое-кому из местных крестьян прокрасться к страшному забору, просунуть руку сквозь ржавые колючки, тихо положить прямо на землю какую-нибудь снедь, завернутую в тряпицу.
Потом немцев погнали. Бегство их было таким скоропостижным, что они не успели учинить расправы над пленными. Несколько дней кряду в деревне отогревали, отпаивали кипятком полузамерзших людей.
Вскоре началась весна. Весна нашего первого наступления.
Однажды утром ребятишки Вертушинской школы, проходя мимо бывшего лагеря, мимо скованных железом столбов, заметили невероятное…
Прибежали ребята к учительнице и, перебивая друг друга, загалдели:
— Татьяна Николаевна, он растет!..
— Кто — он?
— Столб растет. Если не верите, идемте, покажем.
Когда Татьяна Николаевна подошла к тому месту, куда тащила ее детвора, она увидела, что кусок дерева, скованный со всех сторон железом, действительно ожил! На его изрубцованном теле туго набрякли большие клейкие почки и, казалось, вот-вот лопнут, прорвутся зеленым пламенем первого листа.
Постояли ребята, посмотрели на обезображенное дерево и вдруг все, как будто сговорились, понеслись наперегонки в деревню, а оттуда обратно — кто с клещами, кто с топором, кто с чем…
Вытащили из дерева длинные скрюченные гвозди. Размотали проволоку. Взрыхлили землю вокруг.
Тополь начал набирать силу, выбросил устремленные к солнцу побеги, зашумел еще недружной, несмелой, но уже ярко-зеленой листвой…
С тех пор прошло много лет. Красавец тополь так разросся, что сейчас трудно поверить в то, что он был кургузым обрубком в два метра высотой. Спиленный верх его оброс со всех сторон ветвями, обтянулся свежей корою, и венчает его такая мощная островерхая крона, что сразу и не разглядишь, где тот горизонтальный срез, когда-то тупо нацеленный в низкое зимнее небо. Только посеревшие от времени столбы, стоящие в одной шеренге с деревом, красноречивее человека рассказывают нам историю своего собрата.
Вот какая это история. Вот как в маленькой деревеньке Вертушино началась много лет назад весна нашего первого наступления.
Глубоко в землю ушли корни тополя, однажды погибшего и родившегося снова, чтобы не умирать уже больше никогда.
Около этого дерева пионеры любят разводить свои костры. Делают они это осторожно, чтобы не опалить листвы, не повредить ветвей. Даже отгоняют дым в сторонку огромной фанерной звездой, которая невесть кем трогательно прислонена к тополю, как будто это не дерево, а памятник.
За деревней Глухово
За деревней Глухово есть братская могила. Я прихожу сюда каждый раз, когда мне доведется побывать в этих местах, и каждый раз долго не могу оторвать взгляд от мраморной фигуры воина, стоящего на одном колене у гранитного надгробия.
Тихо спят солдаты под приспущенным гвардейским знаменем. Осененные тем же тяжелым бархатом, буйно растут цветы.
Сколько здесь спит сердец? Если через каждое из них проросла хотя бы одна гвоздика, я не берусь сосчитать…
Я видел много могил под Москвою, но на этой как-то особенно много цветов. И все гвоздика, гвоздика, высокая и багровая…
Чем пристальнее вглядываюсь я в белое мраморное лицо гвардейца, тем все чаще и чаще начинает казаться мне, что я его где-то встречал, что мы с ним давно и хорошо знакомы. Вот и сейчас стою подле него с тем же тревожным чувством.
Короткий ежик волос. Худые, слегка ввалившиеся, совсем юношеские щеки. Крутой наклон головы. Широко открытые глаза. Шинель на рослой фигуре чуть-чуть топорщится: сукно у шинели жесткое, а надета она на эти плечи, видать, совсем недавно…
Ну конечно же я хорошо знал этого парня! Он служил в нашей роте, он ходил с нами в разведку, он, как и все мы, получал из дома — от матери или от невесты — клетчатые треугольники писем, аккуратно отвечал на них: «Жив-здоров», — не ответил лишь на последние…
Может быть, это Вася Кузнецов, или Кузя, как его звал старшина первой гвардейской роты 213-й воздушно-десантной бригады? Может быть, это вокруг него так бушует багровая гвоздика в солнечный ветреный день?
Кстати, такой гвоздики я не видел еще нигде: на упругих стеблях цветы вытянулись почти в человеческий рост, и от этого пыльца их все время попадает в глаза, до боли разъедает веки, так, что смотреть становится трудно.
Если бы я не читал раньше надписи, высеченной на черном гранитном надгробии, я, наверно, не сумел бы прочесть ее сегодня: ветер нынче резкий, порывистый и все время дует прямо в лицо. Но я уже давно помню эту надпись наизусть:
«Живущие вам бесконечно должны…»
Вон тем девчатам, всей бригадой шагающим в поле с задумчивой и немного грустной песней, им ведь тоже режет сейчас веки пыльца от гвоздики, выросшей возле деревни Глухово. А вот эта старуха, по-моему, вообще никогда не отходит от этих цветов. Потому-то они и выросли такими высокими!
Много подписей можно поставить под словами «Живущие вам бесконечно должны…»
Почетный караул
Детский сад «Октябренок» семенит по лесным дорожкам возле деревни Рыкачевки. Как обычно, иду по его следам. Продираюсь сквозь заросли, чтобы поближе подойти к пятой группе и тихонечко (день сегодня опять не родительский), из засады, поглядеть на свою Иринку.
К этому тут уже все привыкли. Воспитатели, обезоруженные отцовским упорством, не очень ругаются. Мною в точности изучены все пути пятой группы: знаю, где, когда, в какой час ее лучше всего высмотреть.
Но сегодня мне положительно не везет. Целое утро брожу по лесу, обошел все заповедные уголки, а группы и след простыл. Позабыв о всякой предосторожности, окликаю уже каждого встречного:
— Пятой случайно не видели?
— Пятой? Постойте. Пятой, пятой… А на Золотой поляне были?
— Был.
— Тогда у Синего ручья.
— И у Синего нет.
— Странно. А может, у них урок какой? Музыка или рисование…
Усталый, возвращаюсь ни с чем.
По дороге домой решаю свернуть к братской могиле, что по ту сторону Рыкачевки. Я люблю там бывать — могила всегда ухоженная, всегда в цветах. Ограда вокруг деревянная, совсем не богатая, но так тщательно выровнена чьей-то заботливой рукой, что поневоле залюбуешься.
Только на цоколе пирамиды из бетона не выбито ни одного имени.
Могила неизвестных солдат.
Сколько их? Пятеро? Или в сто раз больше? Этого уже не узнать никогда. А время шагает и шагает. Четверть века уже позади. Вот как быстро шагает время…
Скоро Иринка моя подрастет. Непременно расскажу ей о парнях, чьи имена неизвестны. Пусть тоже услышит про ту войну. Не сегодня, конечно, через несколько лет, как приспеет пора учиться…
Подымаюсь на взгорок. Передо мной над деревьями возникает вершина серой пирамиды. Но что-то удивительно тихо вокруг. Обычно здесь полно пионеров из окрестных лагерей, а сейчас ни единого возгласа. Лишь едва плещутся колеблемые июльским ветром листья и где-то чуть слышно пошевеливается трактор.
В глубине души я даже рад этому. Давно хочется побыть у солдатской могилы совсем одному.
Ускоряю шаг, но чем ближе, тем чаще в просветах между стволами мелькают ребячьи фигурки — одна, другая, третья. Целый отряд совсем крохотных, каких я еще не встречал тут ни разу.
Выхожу на поляну и вижу: около двадцати малышей облепили ограду могилы, а четверо встали внутри — по углам — и замерли в почетном карауле.
Всматриваюсь внимательно и глазам своим не верю.
— Неужто пятая?
— Пятая, — шепотом отвечает мне воспитательница, которой я и не заметил вначале.
Она подносит палец к губам: нельзя, мол, так громко. Я и сам понимаю, что нельзя, и тоже перехожу на шепот:
— А моя? Что-то моей не видно? Не взяли небось самых малявок-то?
— Ваша с Воробьевой Катей венок плетет. Во-он там, за кусточками. Видите?
Быстро иду через поляну, куда показала мне воспитательница, а навстречу мне девочки с готовым уже венком. Серьезные, сосредоточенные, как-то сразу вдруг повзрослевшие.
Венок держат ровно, торжественно, несут аккуратно, словно боятся расплескать ослепительную голубизну его васильков и колокольчиков.
Поравнявшись со мной, молча кивают на ходу и спешат к пирамиде…
3
Мамина дочка
Репутация маминой дочки установилась за Машей давно и прочно. Еще в школе ее часто дразнили ребята. И теперь, на первом курсе института, обидное прозвище шагало за ней по пятам. Свои причины для этого, конечно, были. Всегда хорошо одетая, ухоженная, Маша вызывала кое у кого зависть и даже раздражение. А Клавдия Павловна, после смерти мужа сосредоточившая все свое внимание на дочери, в чем-то, может быть, действительно излишне усердствовала: все деньги, все средства шли на наследницу.
Соседи укоряли Клавдию Павловну, говорили, что это непедагогично. Она в глубине души соглашалась с ними, но переломить себя не могла. Маша была любимицей отца, в котором Клавдия Павловна души не чаяла, и ей хотелось, чтобы дочь Вадима росла самой красивой, самой нарядной.
Маша плохо помнила отца. Ей было всего три года, когда его не стало. Но в доме со всех стен смотрели на нее отцовские фотографии. Клавдия Павловна часто рассказывала девочке о том, каким трудолюбивым и скромным человеком был отец, как его уважали люди. И ей во многом уже удалось воспитать эти качества в Маше. Что же касается нарядов и бесконечных материнских хлопот о дочке, то они не портили ее, и только со стороны казалось, что этих знаков внимания, пожалуй, слишком много. Но именно со стороны. Маша умела дружить. Никогда не задавалась перед сверстниками и даже с тем, кто над нею обидно подшучивал, держалась с достоинством, а при случае умела и постоять за себя.
Вот если бы еще мама не приносила ей завтраки каждый день, все вообще обстояло бы как нельзя лучше. Но материнская воля была непреклонна. Утром обе они всегда торопились, выпивали по чашке чая, а в двенадцать часов Клавдия Павловна, отпросившись у начальника (министерство было в двух шагах от института), высматривала Машу в шумной толпе выходивших на перемену студентов.
Тут уже никак не обходилось без шуточек.
— Русакова! К тебе мама пришла! — горланил кто-нибудь на весь коридор, хотя Маша уже отлично видела, что пришла, и сама торопилась навстречу.
Дело дошло до того, что она попросила мать дожидаться ее на улице, за углом.
— Глупое ты у меня существо. Маминой дочкой зовут? Подумаешь!
— Да, тебе хорошо…
Поворчали-поворчали и все-таки перешли на конспиративное положение: стали встречаться на другой стороне улицы, за углом. Постоят две-три минутки, посмеются, пошепчутся — и опять по своим делам, до вечера, иногда даже до ночи — у матери всегда было много работы, она часто задерживалась.
Одно из таких тайных свиданий повергло мать в большое смущение. Заталкивая в портфель пакет с бутербродами, Маша как о чем-то само собой разумеющемся выпалила:
— Мам, а мы на целину едем!
— Как — на целину?..
— Так. Все комсомольцы.
— Что ты?
— Точно, мам. Сегодня в райком вызывают…
Маша говорила еще что-то, но мать ничего этого уже не слышала. С нарастающей силой в ушах ее гремел набат самой первой фразы дочери.
В этот день Клавдия Павловна впервые за много лет пришла домой рано. Маша первый раз в жизни опаздывала.
Каких только дум не передумала мать за вечер. «А может быть, во всем весна виновата?» Клавдия Павловна вспомнила, как недавно, зашивая разорвавшийся портфель дочери, нечаянно вытряхнула из него какую-то маленькую записку, как нагнулась, чтобы поднять, и как решительно, даже властно опередила ее Маша, на мгновение вспыхнувшая румянцем.
— Это от Славки… Ничего особенного. Ты же знаешь его, мам…
Только в десятом часу раздался стук в дверь, и Маша не раздеваясь кинулась на шею матери.
Забившись в угол огромного, давно отслужившего свой век дивана, они проговорили до глубокой ночи.
Маша в десятый раз повторяла все вопросы, которые ей были заданы на бюро, все свои ответы. И как смотрел на нее секретарь, рассказала, и как рассмешила его словами, что у нее нет пока никакой биографии. И как секретарь уже совершенно серьезно сказал ей, что одобряет решение студентов отправиться во время каникул на целину.
День этот наступил скоро, слишком скоро. После занятий, не заходя домой, Маша направилась в министерство, отыскала мать, и та без слов, по одному виду дочери, поняла все.
— Когда же?
— Четырнадцатого. В три часа.
— Боже мой! Подожди хоть две недельки еще. У тебя же день рождения первого! Я подарок готовлю. Хочешь, сама схожу в райком? Тебе разрешат, я уверена.
Они проговорили еще одну ночь — почти целиком. И наплакались, и насмеялись, и все-таки где-то под утро обе вполне сознательно пришли к единодушному решению, что задерживаться Маше нельзя.
— И путевку уже вручили?
— Сразу же! — Маша встала, принесла портфель, торжественно опустила в него руку, в то самое отделение, из которого записочка тогда выпала, и снова почему-то чуть-чуть покраснела.
«Вылитый отец! — думала Клавдия Павловна. — Вылитый! И кто это вздумал маминой дочкой ее называть? Папина. Просто копия!»
Уже совсем под утро, сквозь дремоту, Клавдия Павловна спросила:
— Сегодня у нас одиннадцатое?
— Нет, мам, двенадцатое. Светает, смотри!
И почти без всякой паузы:
— Ты проводить меня придешь?
— А ты не постесняешься?
— Конечно, нет. — Помолчала и добавила: — Без бутербродов только.
— Ах ты, глупышка, глупышка! Ну совершеннейший несмышленыш. Классический. А Славка-то твой едет?
— Его не то дома не отпускают, не то сам никак не отважится. Вот кто настоящая мамина дочка-то! Но дразнят все-таки не его, а меня…
Четырнадцатого на вокзале провожающих оказалось во много раз больше, чем целинников. Грандиозная шумная толпа волнами накатывалась на готовый к отправке поезд. От этого и паровоз, и вагоны выглядели беспомощными, маленькими, почти игрушечными.
Клавдии Павловне вдруг показалось, что она участвует в веселой, беззаботной ребячьей игре, в которой и вокзал, и эшелон, и сами люди с букетами, рюкзаками и чемоданами — все ненастоящее, придуманное на один час, самое большее на один день. Наверное, именно поэтому у нее еще не навернулись слезы, как у некоторых матерей и даже отцов, и она вообще вела себя, внешне по крайней мере, так, что ничем не смутила дочери до самой последней минуты.
Тихо постояла в сторонке, пока дочка искала свое место в вагоне. Потом они несколько раз прошлись вдоль состава, смешно взявшись за руки, как на школьной экскурсии.
Потом Маша разревелась вдруг на глазах у всей толпы, и кто-то незнакомым хриплым голосом прокричал из окна вагона на весь перрон:
— Русакова-а!
Маша сделала вид, что не услышала, и только покосилась на большой, неуклюжий и, видно, тяжелый сверток, который мать все время перекладывала с одной руки на другую.
— Не волнуйся, это не бутерброды. Ну мало ли куда вас еще судьба забросит!..
— Мы же договорились, мам…
— Ну ладно, ладно, пусть будет по-твоему. — Мать еще раз перехватила уползающий из-под локтя сверток. — Не ссориться же из-за пустяков перед самым отъездом.
В этот момент по перрону покатилась команда:
— По коням!..
Маша неловко обняла мать, поцеловала в щеку и скрылась в проеме вагонной двери.
Клавдия Павловна не раздумывая шагнула к стоявшему на подножке проводнику, протянула ему сверток:
— Маше, прошу вас! Маше Русаковой…
Проводник понимающе кивнул. Через мгновение взволнованное лицо девушки возникло в глубине крайнего окна.
Уже вечером проводник, обошедший весь состав, отыскал Машу, перекочевавшую к однокурсникам, в другой конец поезда.
— Это не мне! — увидев знакомый сверток, решительно заявила она.
— Тебе, тебе! Я всех Маш обошел, кроме тебя, ни одной не осталось.
Весь вагон стал свидетелем этой сцены. Нашелся опять один остряк, не сдержался:
— Русаковой от мамы посылка!
Маша всю ночь не могла уснуть, а под утро дала себе клятву: «Сколько бы мне ни пришлось пробыть вдали от дома, сверток не распакую ни при каких обстоятельствах, из принципа. Не маленькая ведь!»
Скоро Клавдия Павловна начала получать письма, в которых дочка во всех подробностях восторженно описывала, как прекрасно их встретили и устроили, как хорошо, отлично даже, им всем живется, как вкусно и сытно кормят, какой повсюду комфорт, какая вокруг красота. Даже для ночной тишины в степи нашлись краски, хотя Маша в школе не умела написать сочинения на тему «Как ты провела лето?». А тут такое пришло вдохновение, что она сама по нескольку раз перечитывала свои письма перед отправкой, сама начинала искренне верить во все, о чем рассказывала матери. Недоваренная каша казалась ей вкуснейшим лакомством в мире, и чай без сахара был слаще любого нектара, и плоский блинчик тюфяка согревал лучше самой пышной перины из пуха. А когда от тяжелой работы нестерпимо болели руки и ноги и не было сил утром даже прибраться в палатке, Маша думала: «Совсем как после тренировки в Сокольниках». И в Москву шло новое послание — о том, как много дала закалка спортом, какая мамка умница, что в свое время устроила ее в группу теннисистов и настояла, чтоб не пропустила ни одного занятия, и дома, когда позволяло время, сама проверяла, как натянуты струны на ракетке и не пора ли заводить новую — на тринадцать унций, а еще лучше — на тринадцать и три четверти…
Мать читала, верила и не верила. Рассуждала сама с собой: «Если правда все это, хорошо, если типичная показуха ребячья, тоже в общем не худо, — значит, растет человек».
Клавдия Павловна вспоминала, как сама была великой сочинительницей, когда надо было успокоить родителей, и задумчиво улыбалась, читая очередное письмо с целины. Иногда прибегала к соседям:
— От Маши! Смотрите, у нее даже почерк меняется!
Она готова была прочитать вслух все, от первой до последней строки, но никогда этого не делала, хотя всем в квартире хотелось из первоисточника узнать, как же в самом деле живется их всеобщей любимице, как ей дышится в далекой, ветрами продутой степи.
Клавдия Павловна показывала только конверты, на которых косо, но твердо стояли слова, выведенные вроде бы уже не Машиной, повзрослевшей чьей-то рукой.
Клавдия Павловна замечала даже и такую ускользавшую от всех подробность: московский, адрес дочка писала чуть мягче, чуть мельче, обратный — крупнее, почти печатными буквами. И уже одно это бесконечно много говорило материнскому сердцу.
Маша гордилась своим новым положением. Здесь, на целине, она ощутила вдруг в себе силу, воочию увидела, как любые, самые трудные, обстоятельства отступают перед человеком, если он не трус и не нытик. И не мамина дочка. Нет, нет, этих слов она не говорила себе. Ни разу с тех пор, как они расстались. Больше того — Маше хотелось, чтоб мать приехала, взяв хотя бы самый короткий отпуск. Пусть хоть сто человек тогда кричат: «Русакова! К тебе мама пожаловала!»
Но отпуска не предвиделось. Клавдия Павловна писала дочке, что получит денежную компенсацию и купит зимние вещи. «Гардероб наш должен быть обновлен, по самым скромным моим подсчетам, процентов на двести».
А целина есть целина. Об этом сам секретарь райкома говорил. Часто теперь вспоминала Маша его слова, сказанные на том заседании: «Когда не поспишь, а когда и не поешь вовремя». Если бы у него было еще больше доверия к ребятам, он сказал бы обо всем этом без той улыбочки, которая не очень-то понравилась Маше, и уж конечно добавил бы: «А когда и дрожжами наторгуешься вдоволь». «Особенно в такую ночь, как сегодня, например», — сквозь зябкий сон думала Маша.
Ветер норовил сорвать сразу со всех колышков задубевшую брезентовую палатку и унести ее на край степи, у которой, как это ни парадоксально, не было здесь ни начала, ни конца — это Маша знала теперь совершенно точно: четыре сотни верст исколесила сегодня на совхозной полуторке. Песок и сейчас еще скрипел на зубах, хотя вечером девчата слили ей на ладони полведра воды — суточную норму населения всей палатки.
А тут еще, как назло, опять дров не успели подвезти, легли спать без ужина, и подружки, давно уже подбиравшиеся к Машиному свертку, пошли в решительную атаку:
— Ма-аш…
— Ну?
— Дрыхнешь?
— Седьмой сон уже вижу. И все про одно.
— Про что же?
— Насчет картошки.
— Вот и мы о том же. Придется тебе раскошелиться, доставай свой энзэ.
— Девочки, не могу. Говорила ведь уже.
— И все-таки сжалься над ближними.
Маша полежала несколько минут молча, потом решительно поднялась, достала тщательно упрятанный сверток.
— Лопайте, шакалики! Глаза бы мои на вас не глядели.
— Постой, постой, а ты куда?
— А я, думаете, железная?
— Только поэтому и уходишь?
— Только поэтому.
С такими словами Маша ушла к знакомым, в другой конец палаточного городка. Утром, когда вернулась, вид у подружек был сытый, довольный, немного виноватый.
— Сыр ели?
— И сардины тоже.
— А колбасу?
— С хлебом. Четыре батона смолотили! Зачерствели, конечно, ну да ничего. И тебе всего оставили понемногу. Будешь?
— Я же сказала. Не сердитесь только, ладно?
— Не сердимся.
Мир восстановился. У Маши было опять отличное настроение, несмотря на то что завтрак обещали подвезти не раньше одиннадцати, прямо к месту работы.
Пока они тряслись в грузовике, у Маши родился такой план — в первую же получку съездить на попутной в Кокчетав, накупить там всякой всячины и отправить матери почтой: не пригодилось, мол, видишь, как живу хорошо, ни в чем, совершенно ни в чем не нуждаюсь.
Сказано — сделано. У девчат еще раз расспросила, чем налакомились ночью, а через несколько дней воскресным утром бодро вышагивала по улицам незнакомого города — из ларька в ларек, из гастронома в гастроном. Возвратясь вечером в совхоз, долго и тщательно паковала и перепаковывала все покупки.
Маша думала, посылка отсюда недели две добираться будет, провиант подзасохнет как следует — и хлеб, и все прочее. Случилось немного по-другому. Комсорг, который на другой день должен был ехать в город и обещал там отправить Машину посылку, неожиданно по срочной телеграмме был вызван в ЦК комсомола и покатил прямо на аэродром, а оттуда в Москву. Там в понедельник и сдал посылку на Главном почтамте и даже испытал при этом ни с чем не сравнимое чувство большого внутреннего удовлетворения — вот, мол, обрадуется Русакова, когда узнает, как блестяще было выполнено ее ответственное задание!
Почтальон поднял Клавдию Павловну рано утром во вторник, и она еще до работы успела сбегать на почту и даже с соседями радостью поделилась:
— От Маши посылка! Лишние вещички небось собрала, чтоб удобней было домой добираться. К праздникам будет. Намекала уже!
И убежала в министерство, возбужденная, взволнованная, счастливая.
Придя с работы, Клавдия Павловна не спеша, с чувством, с толком, с расстановкой, принялась распаковывать посылку. И чем больше бумаг сдирала с извлеченного из фанерного ящика свертка, тем сильнее билось ее еще ни о чем не догадавшееся сердце.
Ничего не могла понять Клавдия Павловна и тогда, когда по всему кухонному столу разложила консервные банки, благоухающие свежестью бруски сыра, круги копченой колбасы, батоны, тоже свежие, мягкие, будто только что вынутые из печи.
На самом дне ящика Клавдия Павловна нашла записку:
«Дорогая мамочка! Живу прекрасно. Все твои продукты только портятся зря. К праздникам приехать, наверное, не смогу — надо тут все до конца довести. Но ты не беспокойся, все хорошо. Все вообще хорошо у нас будет. А Славке скажи, если позвонит, зря он все-таки не поехал. Целина — это здорово, честное слово! Но об этом при встрече и подробно.
Целую. Твоя М.»
Клавдия Павловна долго перекладывала содержимое ящика с места на место, улыбаясь то растерянно, то грустно. Наконец, взяв в руки мягкий, дышащий свежестью белый батон, вздрогнула от внезапно пронзившей ее мысли: «А хлеб-то ведь Машенькин!.. Как я сразу не додумалась? Ее труды в нем, ее работа! Это же правда здорово, замечательно просто!»
Клавдия Павловна не так уж намного ошиблась. Горожанка, она не знала, что время уборки в тех краях еще не подошло, но хлеба, возделанные руками ее дочери, наливались все тяжелей, все полней, все могучей. Вся степь уже сверкала на осеннем солнце их червонным золотом. Степь, которая и в самом деле не имела ни начала, ни конца, ни края…
«Но пасаран!»
Наступает день — мальчишке исполняется пятнадцать лет. Ни много ни мало — пятнадцать. Он встает рано утром, гораздо раньше обычного, но, оказывается, весь дом уже давно на ногах. На столике возле кровати «именинника» подарки. Какие-то смешные, трогательные сверточки и кулечки.
«Ну-ка, посмотрим, что здесь такое? Конфеты — мои любимые! Это, конечно, от сестренки. Рисовальный набор? Это от мамы или от деда».
А вот и телеграмма от отца — первая за целый месяц. Адресована она ему, Владику, лично…
Где сейчас танкер «Комсомолец», с борта которого пришло короткое отцовское поздравление? Сколько морей пересек он за этот месяц? Скоро ли бросит якорь в порту далекой страны?
Над кроватью Владика в самодельной фанерной рамке висит картина. Мальчишка нарисовал танкер таким, каким увидел его на одной маленькой, мелькнувшей в газете фотографии. Корабль, сияющий всеми цветами радуги, круто взмыл на гребень литой штормовой волны — не какой-нибудь, девятой от кромки горизонта! Мачты «Комсомольца», чуть наклонившиеся под ветром, устремлены в низкое небо непогоды, которое сразу с нескольких сторон разрывает угластая молния…
Если бы мальчишка знал, что примерно так все оно и было!
Мертвая зыбь и скалы чужой, неизвестной земли. Мачты, нацеленные в серое грозное небо, — больше, к сожалению, нечем было в него целиться.
Черный самолет раскалывает тучи над танкером и уже со второго захода начинает обстреливать и бомбить мирный корабль с мирным грузом.
Голодные дети Барселоны напрасно встречают танкер «Комсомолец» у берегов Испании, дети России тщетно ждут его обратно…
В те дни пионерский отряд, в котором состоял Владик, вступил в переписку с испанским послом. Письмо написали на общем собрании отряда, а передать его поручили Владику — он жил недалеко от посольства и рассказывал, что видел посла уже много раз:
— Он выходит прямо на улицу, разговаривает даже с незнакомыми людьми!
— Так ты уж смотри, без задержки и в собственные руки чтобы! И не спутай с кем-нибудь. И скажи ему… — в десятый раз инструктировали Владика товарищи.
— Не спутаю. В нашем дворе его все теперь знают.
Наверное, ни одна сверхсрочная нота на свете не была доставлена так быстро, как это послание. Вместе с письмом запыхавшийся дипкурьер вручил послу красный галстук, только вот никаких слов при этом сказать не сумел. Пришлось на другой день ему честно признаться в отряде:
— А про наказ забыл я, ребята…
— То есть как это забыл? Ты же не чай пить к нему пришел, ты выполнял серьезное поручение. Неужели ни единого слова не сказал?
— Ни единого.
— Ну, а он что?
— И он ничего. Взял письмо, взял галстук, пожал мне руку — вот эту. И все.
Владик виновато и робко протянул правую руку, которая, как живой свидетель, должна была сейчас подтвердить ребятам, что он действительно был у посла, и все вдруг взглянули на так некстати растерявшегося мальчишку с уважением и завистью, как на настоящего героя.
— Сам Марселино Паскуа?..
— Ну конечно, сам, кто же еще?
Владику верили и не верили. А когда через несколько дней почтальон принес в школу пакет из посольства, срочно послали за Владиком.
Письмо лежало на красном сукне стола в ленинском уголке. Ребята молча и торжественно сидели вокруг и ждали счастливца, знающего испанский язык.
Владик прибежал взъерошенный, распаленный. Он разволновался так, что не мог сразу разорвать плотную бумагу конверта, а когда вытащил похрустывающий, глянцевитый листок, даже руками развел от удивления:
— Да тут все по-русски написано!..
Он постоял, беззвучно шевеля губами, потом добавил:
— Испанских только два слова: «Но пасаран!» Это клятва у них такая против фашистов.
Посол благодарил пионеров за внимание, за добрые чувства, а на просьбу ребят взять их добровольцами в ряды борцов за свободу республиканской Испании почему-то не ответил.
— Как же так? — пожал плечами кто-то. — Неясно как-то получается.
— Очень даже ясно, — сказал Владик. — Хороший он человек, но дипломат все-таки. Это тоже понимать нужно. Я считаю, нам надо готовиться.
Вожатый, который был всего на год старше своих подопечных, согласился с Владиком:
— Служба у него такая. Но человек, видно, настоящий. Не зря мы ему галстук послали!..
Недавно, побывав в Ленинграде, я встретился с Владиком — с Владиславом Витальевичем Кашириным, директором прославленного завода.
Мы стояли с ним под ветром на берегу беспокойной весенней Невы, вспоминали юность и молчали, как всегда бывает после долгой разлуки.
Опершись о чугунные перила набережной, мы глядели, как в быстрых волнах белый лед перемешивался с белыми апрельскими облаками, и уже невозможно было понять, где облака, где льдины, или, как сказал поэт:
Где та неразличимая граница, растаявшая в синей вышине, откуда все глядит, не наглядится за нами наша молодость в огне?..Вечером Каширин привел меня к себе, на Васильевский остров. Когда я переступил порог его дома, то прежде всего увидел знакомую с детства картину, повешенную, как и тогда, в Москве, на самом заметном месте. Танкер «Комсомолец» глядел на меня со стены всеми своими иллюминаторами и спасательными кругами! Корабль, как и прежде, упрямо распарывал штормовую волну, гордо реяли в грозовом, еще больше потемневшем от времени небе его флаги на острых мачтах.
Я был рад, что танкер за столько лет не скрылся в тумане будней. Хозяин был счастлив, что картина его не позабыта другом детства.
— А помнишь?
— Еще бы!
— Но пасаран?
— Пассаремос!..
Каширин рассказал мне о себе, о сынишке Васильке, которого он, судя по всему, любит больше всего на свете, хотя в разговорах о нем у Каширина все время звучала одна немножко мне непонятная нота:
— А все-таки не та нынче молодежь, не та! Большой ведь уже совсем, к пятнадцати подбирается, а увалень какой-то. Учится, не жалуюсь, хорошо, и дружки его все отличники, но вот нашей романтики у них, брат, нет и в помине. Мы-то в их годы, бывало!.. А эти придут, поспорят, пошумят: «Куба — да! Фашизм — нет!» — и… разойдутся. Духа того, нашенского, не хватает им, духа!
Далеко за полночь проговорили мы, а когда наконец улеглись, долго еще не могли уснуть. Каширин ворочался на старом, как гитара, бренчащем, диване, я — на алюминиевой раскладушке.
В ту ночь мне приснилась Нева с белыми облаками и льдинами. Бесшумно расталкивая их, танкер «Комсомолец» вошел в устье, плавно обогнул Васильевский остров и скоро встал у гранитного берега — рядом с «Авророй». Все это я видел так ясно, так отчетливо, что запомнил даже, как тяжелые, набухшие в дальнем плаванье кранцы танкера провели длинные мокрые полосы по броневой обшивке крейсера и как били склянки — сначала на «Авроре», потом на «Комсомольце».
А облака и льдины все плыли и плыли — белые, быстрые.
Утром нас с хозяином поднял чей-то продолжительный резкий звонок.
— Газеты, — сказал Каширин и, шаркая шлепанцами, побежал отворять почтальону.
Через минуту он вернулся с охапкой свежих, поблескивавших краской газет. Из их шуршащего вороха выскользнул на пол тяжелый конверт. Каширин поднял его, повертел в руках и вдруг метнулся к столу за очками. Неуклюже напялив их, он прочитал громко, почему-то по складам:
— «В. В. Каширину из посольства Кубинской республики»… Ничего не понимаю. Ну-ка, ты поглазастей.
— А тут и понимать нечего. Действительно из посольства, в самом деле Каширину В. В., но только это, старик, не тебе. Простое совпадение инициалов.
— То есть как это?
— Очень просто: Каширину-младшему ответ от посла пришел…
Паренька не было в тот день в городе — он накануне уехал в Кронштадт, к шефам своего отряда. Это дало нетерпеливому родителю право распечатать загадочное письмо.
— К тому же я, как ты знаешь, владею испанским, — растерянно улыбнулся Владислав Витальевич.
Волнуясь и спеша, он не очень ловко разорвал конверт, и снова улыбка пробежала по его лицу.
— Смотри-ка, тут, оказывается, по-русски!..
Посольство благодарило пионеров за дружбу, передавало им привет от ребят сражающейся Кубы.
— «Родина или смерть!» — прочитал в конце письма Каширин и даже вздрогнул и как-то гордо повел плечом. — А это и по-русски, и по-испански написано, гляди: «Родина или смерть! Патриа о муэртэ!..»
К сожалению, я в тот день должен был возвращаться в Москву и не повидался с Васильком, но непременно, при первом же удобном случае, заеду в Ленинград. Специально для того, чтобы познакомиться с Кашириным-младшим.
Часы
Э. И. Каминке
Потускневший эмалевый циферблат покрылся такой густой сетью трещин, что среди них давно уже затерялись стрелки и по часам трудно было определить, сколько теперь времени — без пяти два или десять минут двенадцатого, половина первого или начало седьмого. Но Парфенов никогда не расставался со своими часами. Он любил молча слушать веселое бормотанье колесиков, как четки, перебирать сплющенную цепочку.
И вдруг часы остановились.
Решив, что они просто запнулись на ходу, Сергей Тимофеевич раза два легонько встряхнул их у самого уха, потом приоткрыл сферическую крышку, осторожно, как на одуванчик, подышал на еле видимую пружинку, тихо свернувшуюся под созвездием синих винтиков, — ничто не помогало. Часы оживали на несколько коротких мгновений, затем снова останавливались так решительно, будто хотели сказать: «Все, старик, спета наша песенка…»
С тяжелым сердцем пришел Сергей Тимофеевич к мастеру, но виду, конечно, не подал, пришел будто так, с самым пустячным делом.
— Ну-ка, глянь, чего это тут с «Павлом» моим приключилось?
Мастер внимательно вытаращенным глазом лупы осмотрел часы и вздохнул.
— Чинить не будем.
— Засорились? — переступил с ноги на ногу перед узким окошком Парфенов. — Ну что ж, принимай тогда в чистку. Пора…
— Вы меня, папаша, не совсем поняли. Никакой ремонт часам вашим уже не положен. Все до капельки сношено!
— То есть как это сношено? Незнакомая фирма — так и скажи! — рассердился Сергей Тимофеевич.
Но и в следующей мастерской чинить отказались категорически:
— Отстукали часики свое времечко, папаша, оттопали.
И от третьего мастера старик ушел ни с чем.
— Много вы понимаете! Да у «Павла» моего одна це́почка дороже всей вашей мастерской будет.
Он так именно и говорил — «це́почка». Слово это он принес с собою с войны — не с «этой», а «с той еще…».
Парфенов стал штатским человеком давно. Уже на Отечественную его не взяли по возрасту, но в осанке, в привычках, в манерах он оставался военным и до сих пор. Он вспоминал: «В гражданку ушел в тридцатом». Даже сказки соседской ребятне рассказывал на свой особый, солдатский манер. Иван-царевич являлся у него перед изумленными слушателями в «парадном обмундировании», спал царевич не иначе, как на железной койке.
А когда гулял Парфенов весенним днем по Тверскому бульвару, издалека всем видны были белые облачка его усов, будто сам Семен Михайлович Буденный по майской Москве вышагивал. Идет, постукивает суковатой палкой по теплой земле, на синее небо поглядывает, на часы свои посматривает.
В походке Сергея Тимофеевича было еще что-то молодое, хотя спидометр его наматывал уже девятый десяток.
Все вокруг чуть-чуть молодело при виде этого человека — и деревья, и облака, и сама земля. Может, и древние часы ходили оттого, что хозяин их не сдавался годам. Такие вещи тоже, говорят, бывают…
Но в тот день старик почувствовал себя самым настоящим стариком.
Обойдя все известные ему мастерские, он окончательно пал духом. Везде ограничивались в лучшем случае советами, но и советы-то были хуже всякой обиды.
— А на кой шут он сдался вам, этот «Павел Буре, поставщик двора его величества»? Морока с ним одна — и только. Купили бы себе «Вымпел» или «Пилот» — это ж действительно с мировым именем марки. Хронометры! И вид что надо, и моторчик первый сорт.
В одном месте попытались сострить и похлеще:
— Они у вас под бомбежкой случайно не были? Или под артобстрелом?
— Были! — Парфенов сердито щелкнул крышкой часов и, вытирая рукавом мгновенно вспотевший лоб, не сказав больше ни слова, вышел на улицу.
К вечеру он почувствовал себя плохо и, придя домой, не раздеваясь лег в постель.
Ни одна из бесчисленных стариковских ночей не тянулась так мучительно долго, как эта. Часы, как всегда, лежали рядом на тумбочке, но безнадежно молчали. Зеленый зайчик от уличного фонаря, как обычно, сидел на их выпуклом стекле и дробился на звеньях сплющенной цепочки, но от этого в ночи становилось еще темней и пустынней.
Рано утром, перед тем, как уйти на работу, к Парфенову постучал сосед.
— Что с вами, Тимофеич? Как чувствуете? Может, слетать в районную? Тут ведь рядом…
— Ничего, полежу денечек и встану.
Не поднялся старик и через неделю. Каждый вечер, возвратившись с завода, сосед заходил, справлялся о здоровье, спрашивал, не нужно ли сбегать в магазин, в аптеку. Старик от всего отказывался, и снова до утра не давала ему заснуть зловещая тишина.
Потом в доме появился доктор. Он долго выслушивал и выстукивал Парфенова, выписывал какие-то рецепты, рвал их на мелкие клочки, писал новые, заставлял его вспоминать, какими болел болезнями в детстве, в молодости, в зрелом возрасте и, наконец, в последние двадцать лет…
— Ума не приложу, что мне с вами и делать. Сердечная мышца хорошая, давление в норме, и вообще все обстоит еще довольно прилично. Это вам говорю я, терапевт, что называется, с подпольным стажем.
Парфенов пожевал пересохшими губами, приподнялся на локтях, посмотрел удивленно на доктора, увидел, что тот и впрямь человек уже немолодой и дело свое знает, наверное, до тонкостей.
— Давление, говорите, хорошее?
— Для вашего возраста просто отличное!
— А оно? — Сергей Тимофеевич дотронулся до груди.
— И оно. Если захотите меняться, так я вам еще приплачу! — засмеялся доктор.
— Тогда какая же лихоманка меня гложет? Неделю целую шагу ступить не дает.
— Видимо, расстроились, понервничали. Или обидел кто. Сознайтесь, обидел?
— Родственников у меня не осталось, так что и обижать вроде некому.
— Да разве обижают только свои? — опять рассмеялся доктор. — Я таких теорий что-то еще не встречал! Обидеть может запросто всякий, особенно невзначай, особенно нас, стариков.
— Ну, и это тоже не теория! — сердито махнул рукою Парфенов. — Сказано: человек человеку друг.
— Под этим и я подпишусь. Но все-таки вас кто-то обидел. Кто же? И чем?
— Никто и ничем.
Внимательный взгляд доктора неожиданно остановился на часах, безмолвно лежавших рядом на тумбочке.
— Что это у вас? Еще один больной?
— Это к делу не касается.
— Ну, а все-таки?
— Вы ж доктор, а нужен мастер.
— Отец и дед у меня мастерами были. Когда пойдет голова кругом от всяких катаров и ишиасов, начинаю и я раскладывать пасьянсы из шестеренок, пружин и винтиков — благороднейшее занятие, великолепнейшее!
— Моего «Павла» смотрели часовщики всего города. Не берутся, дьяволы!
— У вас «Павел»?! Так это ж для уважающего себя мастера не часы, а клад! Настоящая работа только там и начинается, где все отказались.
— Ну-ну, выслушайте еще одного старика. — Парфенов нервно и неестественно зевнул.
Доктор бережно взял часы, быстро шагнул с ними к свету, сосредоточенно затих над застопорившимся механизмом.
Через минуту не оборачиваясь спросил:
— Дареные?
— Так точно.
— От кого?
— Там есть гравировка.
— Вижу. Но она так стерлась, что расшифровать можно только с вашей помощью.
— От командования это. — Сергей Тимофеевич еще раз приподнялся на локтях и добавил: — Сама матушка Первая Конная пожаловала. Ордена надеваю по праздникам, а эти со мной каждый день. — Помолчал и еще добавил: — Были…
— Вот теперь все понятно. Вы бы так сразу и сказали. Не часы, а реликвия.
— А я так и говорю — дареные.
— Машина древнее нас с вами, вместе взятых, но если повозиться, ходить еще будут, мы ей это просто предпишем! Доверяете?
— Это что же — честно? И серьезно? Или просто так — психотерапия какая-нибудь?
— И честно, и серьезно, если, конечно, доверяете.
— Доверяю, — не очень уверенно проговорил Парфенов. — Ежели беретесь чинить, значит, действительно в настоящих часах разбираетесь. Но только учтите — они для меня дороже всей…
— Я же все-таки врач.
Доктор еще раз задумчиво поглядел на Парфенова и сказал:
— Значит, забираю, а вам могу оставить пока свои, чтоб не скучно лежать тут было. Хотите?
На тумбочке место щербатой луковицы больного заняли плоские, отливающие золотом часы доктора.
Сергей Тимофеевич костлявой белой рукой тихонько поднял их за ремешок, поднес почти вплотную к воспаленным глазам.
— Случайно не дареные?
— Там есть гравировка.
— Неужели угадал?..
— Получается так. Это еще за «Вагонку» мне. Есть красавец такой в Нижнем Тагиле, Уралвагонзавод именуется. Мы с женой, как и все уральцы, по старой памяти его «Вагонкой» зовем. Вся наша молодость там…
— Знатные тоже, выходит, часики? — улыбнулся Парфенов.
— Орденами блистаю по престольным праздникам, а эти вот при мне всегда.
Теперь смеялись уже оба — и доктор, и больной. И смех их, молодой, чистый, вырываясь из широко распахнутого окна, летел на улицу, в прозелень воздушной, насквозь просвеченной солнцем листвы, круто закипавшей на быстром майском ветру.
Доктор, последний раз взглянув на свои часы, начал спешно прощаться.
— Половина шестого, а у меня еще четыре вызова! Будьте здоровы. «Павла» вашего в понедельник притащу.
— А эти, значит, оставляете? Не боитесь доверять такое сокровище постороннему человеку?
— Во-первых, мы не такие уж посторонние. Я, например, ваш лечащий врач. А во-вторых, вы ведь тоже мне целое состояние доверили.
— Что верно, то верно. Да и я не какой-нибудь проходимец, а ваш законный больной.
— Я уже сказал вам, здоровью вашему можно только позавидовать. Через два дня на ногах будете. Вместе с вашим «Павлом».
Скоро москвичи снова увидели старого солдата на Тверском бульваре. Он шагал, раздувая белые облачка усов, опираясь суковатой палкой о прогретую солнцем землю, часто останавливаясь, прикладывая руку к груди и чутко прислушиваясь.
Это он не сердце — часы свои слушал. Ожившие часы Первой Конной.
Он шел и не знал, как внимательно следил за ним из окна поликлиники доктор и тоже, прижав руку к груди, слушал — не часы, а сердце, учащенно бившееся от волнения и счастья.
Елагин
Недавно довелось побывать мне в гостях у моего знакомого Николая Васильевича Елагина, жителя Можайска, инженера-гидростроителя.
Старинный дом, в котором живет Елагин, стоит при самом въезде в город — белым фасадом к дороге, ведущей в Бородино.
Много на своем веку видели окна этого дома!
Когда-то в гремящей походной коляске, окутанной облаками пыли, промчался мимо них Кутузов. Торопил ездового:
— Давай, давай! Перехватим врага от Москвы подале!
От самого Питера гнал коней, только у Царева Займища спешился фельдмаршал. Теперь коляска его в музее под стеклянным колпаком стоит — старенькая, спицы поломаны, а дороже ее нет для русского сердца ни одного экипажа на свете.
Два раза мимо этих окон французы протопали:
— Туда и… обратно!
Два раза немцы:
— Сперва на Москву, потом к чертовой матушке!..
Я все это слышал уже и раньше — не первый раз у Елагиных, — но хозяин рассказывает всегда так упоенно, что перебить его не решаюсь. Да и кто бы решился, — говорит, а сам покручивает опаленный временем ус, да поглядывает в окошко, за которым, так и кажется, вот-вот промелькнут гвардейцы Кутузова, да посматривает на белую стену, с которой из массивных багетовых рам задумчиво улыбаются москвичи-танкисты.
— Герои, орлы! Хорошие были ребята…
Ночью мы долго еще говорим с Елагиным о Бородине, о русском воинстве, о славе нашего оружия, а утром, когда на весь Можайск начинают хрипло голосить петухи и вспыхивают надраенные солнцем купола древнего собора, хозяин предлагает:
— Съездим в Бородино? Там все увидишь и все узнаешь.
Я бывал в Бородине до этого уже много раз, но отказаться от предложения невозможно.
— Сам объясню тебе всю историю.
В этом «сам» столько гордости и столько неизъяснимого чувства, что я всегда соглашаюсь:
— Едем!
Как обычно, осматриваем на Бородинском поле все уголки и все складочки. Забираемся на земляные валы Багратионовых флешей, ходим по утрамбованному пятиугольнику Шевардинского редута, трогаем шершавую бронзу трофейных стволов, нагретых на последнем осеннем солнце так, будто они еще не остыли после жаркого боя. На стволах читаем далекие даты, которые почти совсем уже зачеканило неумолимое время. Молча стоим у сложенных пирамидами чугунных ядер, отшумевших в 1812-м, у подножий бетонных дотов, исклеванных танковыми снарядами в 1941-м…
Возле нас, то справа, то слева, вырастают пестрые толпы экскурсантов. Елагин настойчиво тянет меня подальше от них, подальше от экскурсоводов, громко и красиво говорящих о сражениях, дважды прокатившихся по этой земле. Я всегда думаю: почему? Ревнует? Завидует хорошим рассказчикам? Ну конечно же он ведь не так речист, где ему тягаться с работниками музея, у которых каждое слово заранее взвешено и обкатано на разных ученых советах.
Случай помогает мне узнать и другое.
— Товарищ Елагин, вас к телефону! — окликает моего спутника какая-то девушка, когда мы проходим мимо нового флигеля музея.
— Меня? Вот не вовремя! — с досадой вздыхает Елагин и, извинившись, быстрой, почти военной походкой направляется к сверкающему белизной зданию. — Отдохни чуток, я сейчас вернусь.
Еще через минуту я оказываюсь в шумной толпе людей, высыпавших из подкатившего к музею синего автобуса.
Экскурсовод сдвигает на лоб темные, противосолнечные очки.
— Ну что ж, товарищи, здесь в основном и заканчивается осмотр Бородинского поля. Какие будут вопросы?
— Все ясно и так! Спасибо большое!
Экскурсовод, помолчав, протягивает вперед руку и, как бы невзначай, добавляет:
— А вот здесь в сорок первом били немцев партизаны Елагина.
С минуту молчит и еще добавляет:
— Николая Васильевича. Он и сейчас живет в этих местах, работает инженером на плотине Можайского моря. На обратном пути мы с вами к нему непременно заедем. Только прошу учесть — человек он скромный, о себе распространяться не любит. Вы его о море спрашивайте…
День сегодня воскресный, но Елагин из Бородина торопится не домой, а на море и опять зовет меня составить компанию.
— Съездим? Порыбачим малость, вместе хозяйство посмотрим.
В прошлом году я был с Елагиным на Можайском море — величественное зрелище! Поняв, что я безоговорочно согласен, он говорит:
— «Зорька» теперь под мотором ходит. Объедем с тобой все затоны!
Порыбалить нам не удается. Как только подъезжаем к плотине, Елагина окружают какие-то люди, начинают наперебой расспрашивать, как да что, — и о размерах «зеркала», и о запасе прочности дамбы, и о микроорганизмах…
О том, что рыбалка сорвалась, я лично жалею не очень. Вместе с рабочими московского «Серпа», приехавшими сюда на массовку, хожу по пятам за Елагиным, снова и снова слушаю его рассказ о том, как строилась плотина, как преобразится теперь лицо района, сколько миллионов кубометров чистейшей воды будет сбережено для хозяйства области…
Мне все больше и больше начинает нравиться этот человек. Все в нем хорошо — и делом своим увлечен, и работящ, и приветлив. Только вот скромен, пожалуй, чрезмерно. Ведь самый настоящий герой, а держится все время в тени. Решаю при случае сказать ему деликатно об этом.
Но подходящий момент выбрать трудно. Возвращаемся с плотины в Можайск, а у старинного дома Елагиных синий автобус! Видно, только-только подкатил.
Елагина окружают экскурсанты. Экскурсовод снова сдвигает темные очки на лоб.
— Николай Васильевич, мы к вам! Учитывая, что день воскресный, всего на пять минут.
— Учитывая, что день выходной, можно и на все десять! Чем могу служить?
— Нам бы о море…
— О море надо бы на море… Ну ладно, заходите в дом, коли на суше встретились, — я вам кое-что и здесь покажу.
В комнату сразу набивается человек двадцать.
Елагин достает пухлый альбом с чертежами и фотографиями, в простенке между двумя окнами вешает рельефную карту района, закуривает.
— В Бородино были?
— Только что оттуда.
— Хорошо. Значит, и без меня знаете — места здешние славные, тут каждый клочок земли кровью русской полит. Ну вот, когда мы плотину строить начали, первым делом всю молодежь на Бородинское поле свезли. Объяснили ребятам, что к чему, чтобы сил у них прибавилось.
— Ну и как?
— Жаловаться не могу, весело строили!
— Ну, еще бы! Вы ж небось сами рассказали молодым о солдатских подвигах?
Елагин поводит плечами:
— Зачем сам? На то у нас есть музей. Там им все растолковали так, что и мне, старику, интересно было послушать. Ну, мы, кажется, отвлеклись от главного. Вернемся к нашему морю…
Елагин говорит, все внимательно слушают и молча посматривают — то друг на друга, то на карту района с широко распростершимся по ней крылом Можайского моря.
Хозяин водит тонкой камышовой палочкой по карте, я слушаю вместе со всеми, и мне в эти мгновения кажется, что за окнами елагинского дома того и гляди проскачут гвардейцы Кутузова на взмыленных тяжелых конях, а из квадратов багетовых рам вот-вот выйдут к нам москвичи-танкисты.
Вместе со всеми молчу, но в душе сами по себе закипают слова:
«Герои, орлы. Великий и тихий народ России!..»
Город Тайга
Прошлой весной сын мой уехал в город, не блеснувший еще ни на одной географической карте мира звездочкой и самой малой величины. Тогда о городе том еще не писали газеты, но уже со всех концов страны торопились туда ребята.
От новоселов приходили первые письма. Получил вскоре и я весточку из тех краев. Так, мол, и так, живу хорошо, чудо-город в тайге строим. Приезжай посмотреть, погостить, порыбачить.
На конверте обратный адрес, каких я еще не встречал за всю свою жизнь: «Станция Тайга, город Тайга».
Хотелось мне тут же написать сыну, а куда писать — неизвестно: не только номера дома и квартиры, названия улицы и то не знаю.
Погоревал я, повздыхал, потом успокоился. Ежели, думаю, действительно хочет меня видеть, скоро напишет еще — должен же догадаться, почему не отвечаю.
Но проходит месяц — молчание. Ни письма, ни телеграммы, никаких вестей. Обиделся, думаю, а зря. Скоро, наверное, сообразит, что сам виноват.
Однако проходит и еще целый месяц — снова ни звука. Решаю попробовать написать по тому несусветному адресу. Дойдет не дойдет, хоть совесть чиста будет.
Сажусь за письмо. Так, мол, и так, жив, здоров, часто тебя вспоминаю. А дуешься ты совершенно напрасно.
Изложил я отцовские мысли свои в самых деликатных тонах, на конверте печатными буквами вывел: «Станция Тайга, город Тайга». И в скобках: «Точного адреса не знаю».
Бросил письмо в ящик. Как погоды у моря, ответа стал дожидаться.
И что же вы думаете? Через некоторое время мне телеграмма: «Улицу построили. Пиши — станция Тайга, город Тайга, проспект Молодежный. Подробности письмом».
Не очень ясным было и это послание, а «подробности» где-то застряли. Снова потянулись долгие дни и недели.
Потеряв терпение, строчу еще одно письмо в Тайгу: «Что ж ты опять замолк? И есть ли хоть какие-нибудь дома на ваших проспектах?»
Через полмесяца мне еще телеграмма: «Вчера справили новоселье. Срочно приезжай: станция Тайга, город Тайга, проспект Молодежный, дом каменщиков, комната три. Жду нетерпением».
Окончательно сбитый с толку, телеграфирую сыну: «Еду». И еду действительно — куда-то в самый дальний угол нашей планеты. Всю дорогу пытаюсь представить себе, что же это за город такой, как там люди живут, как там мой наследник устроился.
Добравшись до Тайги, не застаю сына не только в доме каменщиков, но и вообще в городе…
— Вчерась убыли, — разводит руками какой-то старик, встретивший меня на пороге чистенькой, сияющей белизной комнаты. — Тебе велено располагаться тут. Вот ихняя коечка.
— Как убыли? С кем?..
— В тайгу укатили, а мы теперь с тобой вроде бы и родня!
— Из тайги в тайгу? Родня? Что за загадки такие?
— Здесь кругом тайга. Сначала в палатках жили, потом отстроились. Он разве тебе не писал?
— Писал…
— Ну вот. И у меня телеграмм штук сорок. В каждой строчке только точки! Вот я и прискакал на край белого света.
— Значит, товарищи по несчастью?
— Говорю ж тебе — родственники. Водой не разлить. Ясное дело?
— Недогадлив я от рожденья, понимаешь ты, недогадлив.
— Сынок твой сам тебе все расскажет. А пока отдыхай с дороги-то. Чайник на кухне, дровец сейчас принесу. Провиант для нас запасенный.
— А ты кто ж здесь такой?
— Я-то? Да как тебе сказать… Такой же, как ты.
— Давно в этом доме?
— Уж вторые сутки идут.
— Старожил, значит! Сына-то моего видел?
— Как же. Я в дверь — он из двери.
— Ну как он? Что он?
— Ой, слушай, и трудно же нам с ним будет! Егозлив, непоседлив — страсть!
— Кому это нам?
— Тебе, мне, а больше всего приемной дочке моей. Впрочем, она ему точно под масть. Две капли водицы.
— Опять загадки?
— Опять проще простого. Город они построили, поженились — и снова в тайгу. Это по-ихнему медовый месяц выходит. Понял? В кого они только родятся такими!..
Старик досадливо хлопает дверью, но тут же снова появляется в комнате.
— А ты все еще не разделся? Давай, давай располагайся как дома. Я пошел за дровами. Чайку попьем, поспим, а утром чуть свет айда город смотреть. Я тоже ведь каменщик. Комсомольск строил на берегу самого Амура-батюшки. Ай, гор-р-рячие были денечки! Ай-яй-яй!..
Старик исчезает.
Я, совершенно обескураженный, ставлю чемодан в уголок, вешаю пальто на крайний гвоздик, тихо, будто боясь потревожить кого-то, подхожу к «ихней коечке».
На столике, возле самодельной лампы под самодельным абажуром, нахожу записку: «Извини, батя, что не смог встретить. Новое дело задали. Приеду — все расскажу. Устраивайся и жди. Если будет что-нибудь срочное, телеграфируй: платформа Братская, городок строителей, мне. Постараемся вернуться к первому декабря».
Именно так и написано — «постараемся»…
И снова ни улицы, ни переулка, ни номера дома, а календарь еще только-только подобрался к Октябрьскому празднику.
— Ну и народец же эти сыновья! — с досадой хлопаю себя по колену и оборачиваюсь на скрип широко распахнувшейся двери.
— И дочки! — добавляет старик и со всего маху швыряет на пол охапку заснеженных, звонких поленьев. — Не горюй, растопляй, образуется!..
Смотрю на него и удивляюсь. Не иначе, как десятков шесть отшагал уже, а крепок еще и весел и сила в нем богатырская.
— Комсомольск, говоришь, строил? — спрашиваю.
— Комсомольск.
— На Амуре?
— На нем самом.
— Выходит, мы с тобой не только родственники.
— Как так?
— Я ведь тоже руку приложил к тому Комсомольску!
— На Амуре?
— На нем.
— Больно молод ты для Комсомольска. Сколько Октябрей прошло с той поры?
— И много, и мало. Я туда еще мальчишкой пришел, фабзайцем.
— Получается, мы с тобой больше чем родственники!..
Долго мы еще говорили в ту ночь. Дрова в печке горят дымно и неспоро, в трубе отчаянно воет осенний таежный ветер, на крыше соседнего дома грохочет еще не по всем краям крепко прибитое железо. А нам хорошо! Не только на улице, но и на душе у нас самый настоящий праздник. Однако когда разговор снова и снова заходит о моем сыне и стариковой дочке, мы дружно вздыхаем и охаем:
— И в кого они родятся такими?! А?..
Чертова дюжина
День был воскресный, и многие рабочие «Станколита» пришли на вокзал проводить комсомольцев, отъезжающих в Целинный край.
Первых энтузиастов было тринадцать человек. По поводу этой цифры на заводе существовали самые разные мнения.
Одни разводили руками:
— Не густо, не густо! Прямо сказать — капля в море.
— Смотри-ка, — улыбались другие, — прошло всего пять дней с того собрания, а вон уж сколько их! Для начала совсем неплохо!
На проводы добровольцев пришли все — и ярые оптимисты, и относительные скептики. Все желали целинникам успеха и счастья. Об этом говорили и песни, и плакаты, на которых белым по красному было крупно выведено: «Добро пожаловать!», будто паруса их колыхались не на Казанском вокзале столицы, а уже там — в далеком от Москвы Целинограде…
Рая прибежала на перрон запыхавшаяся, закрученная в пестрый ситчик нового платья, облепившего на осеннем ветру ее хрупкую фигурку.
Она кинулась к ребятам, с чемоданами, гитарами и чайниками в руках столпившимся возле разукрашенного вагона.
— Севу не видели?!
— Да здесь, здесь, куда он денется! Пивком небось балуется. Сейчас явится, «сам веселый и хмельной».
Заводские парни знали о том, что Рая давно уже неравнодушна к Севке, и при каждом удобном и неудобном случае не прочь были подшутить над девушкой — весело и беззлобно. Вот и сейчас — видят ведь, что на душе у нее, так еще масла в огонь подливают: Севка, мол, веселится, а ты…
— Хоть бы в такой день языки-то не распускали! — рассердилась Рая, и тут вдруг все заметили, что ей и в самом деле не до шуток.
Когда появился Севка, действительно слишком уж веселый и шумный, Рая растерялась и покраснела.
— А! Вон ты где! — Он шагнул к девушке сразу через несколько чемоданов. — Провожать, значит, пришла? Правильно! Не куда-нибудь — на целину едем. Читай теперь в «Комсомолке» про наши подвиги!
— Сева… — не то ласково, не то с укоризной тихо сказала Рая.
— Ну, я Сева. Точно тебе говорю, за нами дело не станет. Смотри богатыри какие!
Ребята, снарядившиеся в Целинный край, и впрямь были все как на подбор — рослые, статные. Именно такие и сворачивают горы, встающие поперек пути. Но Рая глядела только на одного и думала только об одном. Она даже не сразу поняла, отчего так забеспокоились ребята, почему так тревожно заметались вдоль состава, когда до отправления поезда осталось несколько коротких минут.
— Где же он? Как же он?
— Что ж это будет? Неужто передумал?
— Известное дело, маменькин сынок!
— Это у вас, может, сынки да дочки, а у нас в литейном…
— Наши-то все здесь, а литейщика вашего нету!
Неужели Виктор подвел? Не может быть! Рая не верила ушам своим, но речь шла именно о нем — о комсорге ее цеха Викторе Ершове, который вчера раз десять повторил на бюро, чтоб не опаздывали, и сам, как старший в группе, обещал быть первее первого. Стыд-то какой! Что делать? Как быть? Рая беспомощно и почему-то виновато глядела на ребят, но ни один из них не мог сказать ей нужного слова. Только не переставший еще петушиться Севка голосом провинциального трагика продекламировал:
— Да что нам комсорги! Не комсорги горшки обжигают! Скоро все увидят…
Последних слов Севки никто не расслышал, — шваркнув сразу всеми застоявшимися колесами, паровоз рванул прикипевший к рельсам состав, и поезд, резко лязгнув буферами, с нарастающим гулом медленно покатился вдоль платформы.
— Пиши-и-и-те!.. — прорвался через этот шум чей-то отчаянно тонкий, не то детский, не то девичий голосок.
«Пишите, пишите, пишите…» — пытаясь перегнать самих себя, забуксовали маховые колеса паровоза.
В этой суматохе последней минуты никто даже не заметил, как Рая вместе с другими отъезжающими на ходу вцепилась в поручни вагона, увитого плакатами и цветами. На нее обалдело зашикали, когда она уже протиснулась в тамбур и озорно оглянулась через плечо на плывшую мимо платформу:
— Ты куда? Ты куда? Не чуди, прыгай, пока не поздно! Слышишь?
Рая не слышала в тот миг ничего. Даже подоспевший проводник оказался бессильным что-либо предпринять. Он только ахнул и грозно пошевелил усами.
— Кто такая?!
Рая ответила, когда окончательно убедилась в том, что прыгать ей уже не придется:
— Тринадцатая…
— Как так тринадцатая?
— Так и тринадцатая.
— Все шуточки?
— В целинной бригаде тринадцатая. Взамен опоздавшего.
— А билетик?
— Что билетик?
— Имеется?
— Комсомольский.
— Не дури.
— Не дурю. Все взносы уплачены…
Проводник махнул рукой и громко объявил, что идет за начальником поезда. Вид у него был в ту минуту очень сердитый.
Ребята обступили Раю и долго молчали. Наконец кто-то спокойно, будто ничего не случилось, сказал:
— А что? Витькина полка свободна. Ты ведь серьезно, Раиска?
— Вполне. Сказала — тринадцатая, и все.
— А дома? — невпопад спросил рыжий долговязый парень из отдела главного технолога.
Рая отвернулась. Она была круглой сиротой, и об этом многие знали на заводе. Знал об этом и рыжий парень, но он был настолько ошеломлен Раискиным поступком, что даже не заметил нелепости своего вопроса.
Через минуту весь вагон уже знал, что Рая поехала вместо неявившегося комсорга. А еще через несколько минут она чувствовала себя самым наизаконнейшим пассажиром во всем поезде. Еще бы! Сам вызванный проводником начальник протянул ей руку и, улыбнувшись, спросил:
— И взносы, говоришь, уплачены? Занимай лучшую полку и располагайся. На всем пути следования больше никто тебя не побеспокоит.
Такому обороту дела обрадовались все, в том числе и Севка.
— Вот молодчина! Не девка, а бес! Поработает с нами, тоже героем станет.
— При чем тут тоже? Ты что-то малость того.
— Чего?
— А того, что героев среди нас пока не наблюдается.
— Вот именно — пока! Но мы ведь не зря родной дом кинули и поехали черт знает куда. Я без медали не вернусь.
— Ну, это видно будет, а сейчас геройства тут нет никакого.
Севка не унимался:
— Уж одно то, что мы поехали, что-нибудь да значит!
— Значит-то значит, да надолго ли пылу хватит?
— Это что, намек?
— Понимай как знаешь.
— Когда страна быть прикажет героем, у нас героем становится любой!
— Так только в песнях поется!
— Вы как хотите, а я в Москву медаль привезу, не сойти мне с этого места.
Ребята сначала не обратили внимания на то, что Севка, едва отчалив от Москвы, сразу заговорил о возвращении. Никто просто не придал значения этой болтовне. Но скоро все узнали истинную цену его героизму. Уже на второй день пути, наслушавшись рассказов одного не в меру словоохотливого попутчика о Казахстане, о жизни тех, кто двинулся на освоение целины, Севка сперва приумолк, а потом очень ловко… «отстал от поезда», так и не повидав казахской земли.
По этому поводу не стали собирать экстренного комсомольского собрания, даже «боевой листок» не был выпущен.
— Не буду я краски на всякую мелочь тратить, — презрительно повел плечами и сокрушенно вздохнул редактор, когда кто-то предложил изобразить Севку «в натуральную величину». — Подумаешь о таких «героях», как Севка, и возникает один философский вопрос.
— Какой же? — спросили ребята.
— Почему у нас на заводе к самым лучшим девчатам липнут подонки всякие?
— А ты не обобщай.
— Я не обобщаю, но, ей-богу, обидно! Хорошие люди ходят в тени, их никто никогда не видит и не слышит, а эти…
Редактор, видимо, хотел выругаться, но только вздохнул еще раз:
— И стало нас снова двенадцать…
— Да ты не вздыхай так тяжко, — вмешался в разговор подсевший к ребятам старик, до этого молча куривший в углу черную, куцую трубочку. — Двенадцать — это даже лучше, а то была бы вас чертова дюжина!
Ребята рассмеялись:
— Это верно! Мы, папаша, ни в бога, ни в черта, ни в приметы там всякие не верим, но с тем, кто сбежал, нас все равно было бы не тринадцать, а только дюжина — самая обыкновенная. Простая арифметика: он и на заводе не работал — вечно резину тянул.
— Ну, и я ж про то! Не жалейте!
— Не жалеем, да неловко перед людьми. Приедем в Целиноград, в крайком явимся. «Откуда?» — спросят нас. «Из Москвы, скажем, со „Станколита“ прибыли». — «Ах, да, да, мы вас ждали! Все тринадцать явились?» — «Нет, скажем, только двенадцать…» — «Как двенадцать?! А вот телеграмма: „Тринадцать комсомольцев завода „Станколит“ выехали ваше распоряжение…“» Что тогда?
— Тогда честно надо сказать: «Один сбежал!»
— Честно-то честно, да как язык повернется? Это еще Раиска выручила, а то бы совсем позор.
— Как позор?
Пришлось рассказать старику еще и о комсорге Витьке Ершове.
— А он-то работник или тоже больше насчет речей?
— Работник. Он и речь может сказать, и руки у него золотые. Одна беда — родители больно холят его.
— Вот это действительно обидно. Но вы в архив его пока не сдавайте. Приедете, осмотритесь, устроитесь — напишите ему. Да так, чтобы не обидеть человека. Так, мол, и так, живем неплохо, если есть возможность, приезжай посмотреть, жалеть не будешь.
Старик поглядел на внимательно слушавших его ребят, распалил погасшую трубочку и спросил:
— Верно, что ли?
— Верно! — за всех ответила Рая. — Он ведь не виноват, против отца с матерью нелегко, наверно, пойти, даже когда тысячу раз прав.
— То-то и дело. — Старик закашлялся и стал собирать вещички.
Ребята засуетились:
— Куда же вы, папаша? А мы думали, вы с нами до самого места.
— Помоложе был бы, — он глянул на Раю, — как она вот, до самой Акмолы бы не сошел. И еще был бы у вас коноводом.
— Тринадцатым? — засмеялась Рая.
— Им самым! Впрочем, это смотря как считать. По работе, так, может, и первым.
Распростились со стариком, дальше поехали ребята. Едут, а сами все думают, как их в крайкоме встретят, что скажут, когда узнают о случившемся.
Редактор даже приготовил не совсем удачную шутку насчет обычной в дороге «усушки» и «утруски», по общими силами его уговорили в данном случае не острить:
— Это тебе не редакция заводской стенгазеты, тут шутки шутить не любят, да и шуточное ли дело, подумать только…
Поезд пришел в Целиноград поздно ночью. У самого вагона ребят дожидался продрогший на ветру представитель крайкома комсомола. Зябко поеживаясь под косым холодным дождем, он спросил:
— Москва?
— Она самая.
— Приветствую вас! Как доехали? Холодновато?
— Нормально.
— Ну вот и хорошо! Будем знакомы — Виктор Сажин. Утром сведу вас к секретарю, днем — по коням и айда в глубинку. А сейчас в гостиницу! У нас тут тесновато, правда, но коечки запасены — все двенадцать.
Ребята не успели переглянуться, как представитель крайкома, стрекоча фонариком, потащил их куда-то в шипящую паром мглу. Шел он порывисто, быстро, поминутно оборачиваясь на ходу, продолжал начатый разговор:
— Значит, прибыли! Порядочек! Растет целинная гвардия день ото дня, ночь от ночи!
Почувствовав, что Виктор Сажин парень свойский, кто-то из ребят, поравнявшись с ним, громко, чтобы все слышали, спросил:
— Ты сказал — двенадцать?
— Чего?
— Коек-то?
— Да, да, двенадцать! Не волнуйтесь, всех устроим как положено. А комсорг ваш и вовсе целые сутки в «люксе» блаженствовал.
Ребята даже заспотыкались о рельсы.
— Комсорг?!
— Ну да, тезка мой, Виктор Александрович Ершов. Прямо с аэродрома в номер с ванной угодил, как с корабля на бал. С ним чертова дюжина получается, точно по телеграмме. Он вас завтра вечером встретит уже в совхозе. Паренек что надо! Не успел порог крайкома переступить: «Отправляйте, говорит, меня скорей до места!» Ну, мы его и пристроили на попутную. Ясно?
— Понятное дело! — с облегчением вздохнули ребята. — Ждать да догонять лише всего на свете.
Расталкивая локтями темноту первой в их жизни целинной ночи, комсомольцы дружно поторапливались за крайкомовцем Виктором Сажиным, и, может быть, оттого, что шагали они по неровным и скользким шпалам, казалось, будто каждый из них слегка пританцовывал в такт негромкой, еще полусонной, откуда-то издалека долетевшей песни, слов которой пока нельзя было разобрать.
Казбек
Приехав в Орджоникидзе, я остановился у Азамата Агузарова — у меня было письмо к нему от одного нашего общего знакомого. Хозяин оказался человеком радушным и гостеприимным.
— Будешь доволен, — сказал Азамат в первые же минуты нашего знакомства. — А главное — Казбек рядом!
— А где тут у тебя Казбек? — Я подошел к распахнутому окну.
— Сначала скажи: ты слыхал что-нибудь о Казбеке?
Я пробормотал какие-то еще в школе заученные слова, хотел стихи прочитать, но горец меня перебил с улыбкой:
— Это все верно, а знаешь ты, например, сколько в нем силы? Друзья к Казбеку идут со всех сторон, враги летят от него во все стороны. И это не предание, не легенда какая-нибудь. Я всю жизнь на Кавказе прожил. Был тут и во время войны — ополченцем. Окопы рыли мы день и ночь — до сих пор мозоли, потрогай! Только не дошел до наших окопов немец. Издалека поглядел — и назад! Мы даже растерялись немного. Что, думаем, затевает такое? Но оглянулись и видим — за нами Казбек! Это все равно что Волга за русским человеком. Понимаешь?
— Так тем более показывай скорей свой Казбек!
— Казбек рано утром бывает. Да и то не каждый раз — только в хорошую погоду. Разбужу тебя как-нибудь, посмотришь.
Я думал, что хозяин тут же забыл о нашем разговоре, и сам скоро перестал вспоминать о Казбеке: дел было много, на романтику в командировочном удостоверении время не запланировано.
Все дни я бегал по городу, а вечерами у аппарата редакции местной газеты караулил Москву. Возвращался домой совсем поздно, когда у Агузаровых уже все спали. Тихонько пробирался в отведенную мне комнатенку, всякий раз находил на одном и том же месте специально для меня приготовленный шашлык, но есть уже не мог — не раздеваясь валился на узкую ковровую кушетку.
Однажды, когда, намаявшись за день, я спал особенно крепко, хозяин разбудил меня на рассвете:
— Вставай, дорогой. Казбек смотреть будешь!..
Спросонья мне показалось, что Азамат смеется, и я даже немного обиделся:
— Нашел время шутить!
Но Азамат стоял надо мною с совершенно серьезным видом.
— Вставай, а то поздно будет. Казбек ждать не любит.
Проклиная в душе кавказскую восторженность, я нехотя поднялся.
Как я и предполагал, никакого Казбека не было и в помине.
— Ну, где же он, твой Казбек?
— Смотри хорошо, сейчас будет.
Хозяин подошел ко мне так близко, что я почувствовал на своем плече его горячее дыхание:
— Смотри вот сюда. Это он!..
Я перегнулся через подоконник и вздрогнул от неожиданности. В сиреневой глубине неба действительно росла коническая громада горы.
Вот по снежной вершине скользнул первый солнечный луч, и великан из холодного вдруг стал раскаленным, по нему, как по расплавленному металлу, побежали быстрые синие струйки.
Я зажмурился.
А когда через несколько мгновений снова раскрыл глаза, Казбек уже невозможно было узнать: из соломенно-желтого он сделался пепельным и формою стал похож на клюв гигантского орла, взмывшего в ветреном небе утра.
— Ну как? — гордо и торжественно спросил Азамат.
Я хотел было что-то ответить, но Казбек вдруг распростер над нами могучие белые крылья, бесшумно взмахнул ими и… исчез.
— Говорил же тебе, торопись. Теперь иди домой. До подходящего случая.
Но я уже больше не уснул в то утро. А на следующее сам встал очень рано, подошел к окошку, да без толку — сплошная стена облаков стояла между мной и каменным исполином.
— А, понравился тебе наш Казбек! — услышал я знакомый голос откуда-то снизу.
Оказалось, Азамат уже не спал. Подвязывая в саду виноградные лозы, он как бы ненароком поглядывал в ту сторону, где вчера Казбек показался.
Я понял — Азамату очень хотелось еще хоть разок показать мне гору во всей ее красоте. Но небо по утрам просыпалось все более сумрачным.
Казалось, так и уеду, не повидавшись больше с каменным чудом Кавказа. Но как-то утром над виноградниками, над домом Азамата, над всем городом, как гром, прокатился торжественный крик, возвещавший о том, что Казбек появился на горизонте:
— Это он, это он!..
Вы, наверное, уже догадались, что это не Азамат кричал на всю округу ранним утром.
Если б Казбек в довершение ко всем своим достоинствам обладал еще и слухом, он всей громадой своей вздрогнул бы в ту минуту от голоса вашего покорного слуги:
— Эй, кто еще спит в доме? Вставайте все! Казбек смотреть будем!..
Снежные горы
И откуда она взялась тут, такая? Каждое утро по Чкварели с лыжами на плечах вышагивает к Снежным горам!
Старики все глаза проглядели, понять не могут, что такое творится.
— Наши деревенские кровь проливают, а эта красотка…
Было и впрямь непонятно. Ни свет ни заря, еще и старики-то не все поднялись, девчонка, совсем молодая, в малиновом лыжном костюме, ладно, ой как ладно сидевшем на ней, чеканила шаг по козьей тропке.
— Нашла время для лыжных прогулок! — все больше и больше сердились старики. — Спросить бы ее: «Не стыдно, людям в глаза смотреть?»
Но разве спросишь — в Чкварели с незнакомыми говорить не принято. Вот и косятся старые вслед уходящей девчонке. А Снежные горы покрыты снегом, как им и подобает даже в июльскую пору.
До войны со всей земли тянулись сюда спортсмены. Тогда от малиновых, синих, желтых костюмов рябило в глазах. Но то было мирное время, а нынче… Нет, это просто неслыханно!
— Заур, а Заур! Ты самый старший из нас. Что все это значит, по-твоему?
— Ума не приложу.
— На твоем веку случалось такое?
— Всяко бывает на длинном веку.
— А такое?
— Такого еще не было.
— Луарсаб, а Луарсаб, ты самый догадливый из нас. Куда и зачем ее все-таки носит?
— Я вижу перед собой те же горы, что и вы.
— Сколько верст до них, ты не забыл еще?
— Верст десять, не меньше.
— Ты сам-то бывал там?
— С отцом, когда под обвалом погибли овцы.
— Давно ли?
— Лет пятьдесят уж, пожалуй. С лишком даже.
— Но с тех пор там овец вообще не пасут, ты же знаешь.
— Не пасут.
— Так, значит?
— Значит, спросите Отара. Он самый мудрый из нас.
— Отар, объясни, пожалуйста, что происходит в Чкварели?
— В Чкварели и на всем белом свете война.
— Вот именно — война. Немец уже у ворот Кавказа! Ты сколько войн перевидел?
— Я, как Луарсаб, половину всего помню только.
— Ну, было в той половине такое?
— Во время войны все бывает. Чего только не бывает во время войны, — уклонился от прямого ответа старик.
Отар был не только самым мудрым — он был еще и самым зорким в селении. Кто-кто, а он-то отлично видел, и уже не один раз, как поздним вечером возвращалась девчонка в Чкварели.
Лыжи по-прежнему на плечах. Но как несла их, как несла! Казалось, сделаны они из тяжелейшего в мире гранита. Костюм из малинового становился бог знает каким и уже не сидел, а висел на опущенных узких плечах девчонки. Сама она, изнемогая от усталости, едва передвигала ноги. Вот-вот сорвется со скользкой козьей тропы.
Но утром все повторялось сызнова. Мимо широко распахнутых от удивления окон Чкварели снова с легкими лыжами на плечах шагала к Снежным горам вчерашняя мученица. Камешки похрустывали под коваными ее каблуками. Этот звук сливался со звуком песенки, слов которой разобрать было нельзя, но по всему чувствовалось — песенка молодая, как сама певунья.
Соседский мальчишка Сосо под большим секретом сообщил как-то Отару, куда держит путь девчонка с лыжами, и старик никому не сказал об этом. Мало ли что бывает на войне!..
Потом девчонка исчезла. День ее нет, второй не появляется, третий…
— Заур, а Заур, куда девалась эта, как ее?
— Луарсаб, послушай-ка, ты не видал?
— Отар, дорогой, ты случайно не скажешь?..
— Откуда мне? И война есть война…
— Отар, ты же самый мудрый из нас, зачем говоришь такое?
— А я ничего не говорю. Мудрый так мудрый, пусть будет по-вашему.
— Как же узнать все-таки? — не унимались старики.
Отар выпрямил согбенную спину, посмотрел в сторону Снежных гор и сказал:
— Вот вы все спрашиваете самых старых, самых ветхих, самых горбатых. Хорошо ли это? Так вы ничего не узнаете о девчонке.
— Кого же нам спрашивать, как не самих себя? Кроме нас да старух никого не осталось в деревне.
— Спросите-ка лучше Сосо.
— Какого еще Сосо? Память твоя начинает сдавать, Отар. Лет сорок назад твой покойный отец пил чачу на его поминках.
— Не сбивайте меня и слушайте внимательно, что вам говорят. Другого Сосо спросите — мальчишку… Да, да, пострела и шалопая, если вам угодно, и все-таки именно его, Сосо, спросите. — Он таинственно улыбнулся и подумал: «Если я вам скажу, что девчонка тренирует в горах лыжные батальоны для фронта, вы же мне все равно не поверите? Не поверите».
— Ты смеешься над нами, старик. Смеешься?
— Спросите Сосо, я вам говорю: он самый молодой в Чкварели!
Самшит
В Ялте, где провел последние годы жизни писатель Николай Зотович Бирюков, теперь есть улица его имени. Недавно я побывал в тех краях, ходил по той улице. Внимательно и ревниво оглядывал каждый дом, каждый угол: не ошиблись ли городские власти, ту ли самую выбрали, какую нужно?
Внешне вроде ничем не приметная, мне понравилась улица. Не на бойком месте, тихая, скромная. По панелям не фланируют пестрые толпы курортников. Ранним утром рабочие люди спешат, обгоняя друг друга. Ни стриженых кустов, ни подчеркнуто ухоженных газонов. Платаны стоят деловито и строго, будто для того только и выросли, чтоб укрыть своей шелестящей тенью детскую коляску, которую толкает перед собой торопящаяся куда-то мать. Даже крохотная речушка, бегущая в сторону моря, перекатывающая гальку по каменистому дну, показалась мне целеустремленной и хлопотливой. Словом, лучшей улицы для Бирюкова не придумаешь.
Долго ходил я с этой мыслью по высвеченным солнцем тротуарам. Налюбовавшись, направился на набережную: мне сказали, что в Ялте есть небольшой теплоход, носящий имя писателя. Захотелось увидеть и его.
Мне посчастливилось: только что прибывший из очередного рейса «Николай Бирюков» стоял в порту. По трапу спускались пассажиры. Точно такие же люди, как недавно виденные мною прохожие. Да и сам теплоход не сверкающий белизною многоярусный лайнер. Нагруженный до предела, обыкновенный морской трудяга, весь в брызгах прибоя, словно в капельках пота. «От Батума, чай, котлами покипел», — вспомнил я строчку поэта. Может, и не от Батума, и наверное даже не от него. Это к слову просто. Но стихи уже не уходят от меня. Особенно то место, где про вечность:
В наших жилах — кровь, а не водица. Мы идем сквозь револьверный лай, чтобы, умирая, воплотиться в пароходы, в строчки и в другие долгие дела…Николай Бирюков на наших глазах стал улицей, пароходом. Книги его, огневые, выстраданные, будут жить долго. И широко распростершая крылья «Чайка», рассказавшая о героях войны, и «Воды Нарына», запечатлевшие подвиг народа на мирной стройке, и повести о революционной заре России.
Людей, знавших Бирюкова близко, прикоснувшихся к его судьбе, всегда поражало одно и то же: откуда у человека силы? Все, казалось, у него отнято, все конфисковано неумолимой болезнью. А он борется — каждый час, каждый день — и из каждой схватки выходит победителем.
Один раз, потеряв всякий такт, я спросил его:
— Скажи честно — тяжело?
— А ты как думаешь?
— Думаю, очень.
— Угадал.
— Ну, и как же ты? Только честно давай, по-дружески.
— Как подумаю: то недоделано, это только начато, другое ждет своей очереди — сразу новые силы откуда-то являются. Не спрашивай, откуда. Знаю одно: времени нам всем отпущено мало, предельно мало. Мне, кажись, меньше всех. Вот и нажимаю на все педали…
Больше мы никогда не возвращались к этому разговору. Я его не заводил. Николай и подавно — не любил про болезни и хвори. И всех окружавших его людей учил презирать недуги. Я установил совершенно точно: чем больше с ним общаешься, тем меньше замечаешь, в каком он положении. И люди больше всего ему нравились такие, которые ни перед чем и ни перед кем головы не склонят. Это был его взгляд на жизнь. Даже на природу смотрел своим особым образом.
Однажды, увидав, что я залюбовался его садом, Николай спросил:
— Нравится?
— Это чудо какое-то!
— А что лучше всего?
— И лавры хороши, и платаны, — смерил я глазами самые пышные и высокие деревья, желая польстить хозяину. — Стоят как правофланговые.
Николай задумался. Я продолжал нахваливать. Он посмотрел на меня очень внимательно:
— Платаны красавцы. И лавры тоже. Сам любуюсь ими всякий раз. И все-таки правофланговым я бы знаешь кого тут назначил?
— Кого?
— Вот этого, — Николай кивнул в сторону маленького самшита, видно, с невероятным трудом пробившегося через трещину в скале.
Я промолчал.
— Не шучу, не смейся. Это ж настоящий богатырь! Присмотрись внимательно.
Я подошел к самшиту поближе. Деревце и впрямь было удивительным. Кривобокое, низкое. Дотянуться до солнечного луча у него было мало надежды, но оно тянулось, тянулось изо всех своих сил.
Мне на секунду показалось даже, что камень трещит под его напором. Трещит и рушится — в тишине осеннего сада я отчетливо уловил звук лопнувшего гранита.
Николай тоже прислушался.
— По ночам, когда не спится, слышу, как с этой скалой воюет. Всю ночь, до самого рассвета.
Билет Никишина
После переезда на новую квартиру Егор стал редким гостем у Никишина. Но когда выберется на часок-другой, как в прежние времена, подолгу рассматривает библиотеку друга. Каких только редкостей тут не встретишь, на какие только сокровища не набредешь!
Сегодня, обследуя полку за полкой громоздкого, во всю стену, шкафа, книголюб натолкнулся на нечто и вовсе его поразившее. Аккуратно обернутая в целлофан, крохотная, плоская, как тополиный листок, книжечка выскользнула из рук и улетела под шкаф. Когда Егор извлек ее оттуда, то не сразу и сообразил, что это… комсомольский билет. С пожелтевшей фотографии, чуть-чуть улыбаясь, откуда-то издалека смотрели на него знакомые и в то же время незнакомые глаза. Лицо молодое, такое молодое, что Егор даже сощурился, отвел руку с билетом подальше. Но ошибиться было невозможно — это он, друг его юности Васька Никишин. Его улыбка, его глаза. И фамилия разборчиво выведена черной тушью.
— Вась! Неужели?!
Василий был чем-то занят в соседней комнате и не услышал. Егор продолжал рассматривать удивительную находку в одиночестве. Он не спеша стал читать и перечитывать первую страничку — от убористой строчки «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» до хитроумной завитушки подписи районного секретаря.
За этим занятием и застал Егора Никишин.
— А это что за библиографическая редкость? — Никишин взял книжечку из рук приятеля. — Неужто в шкафу раскопал? Представить не можешь, как я рад! Целую вечность его не видел! Просто так в книгах и стоял, да?
— Просто так и стоял, зажатый другими древностями.
— Ну-ну, поаккуратней с формулировками!
— Прошу прощенья. Давай-ка глянем, как здесь дело со взносами обстоит. Глянем?
Приятели с самым серьезным видом уставились в бледно-голубые странички, испещренные цифрами, штемпелями, иероглифами подписей.
— Так, так, так… — басил Егор. — С тридцать восьмым ты, предположим, в расчете.
— Это я на «Серпе» работал еще.
— На «Серпе»? После ФЗУ?
— Точно.
— Прекрасно. А что делается в году одна тысяча девятьсот тридцать девятом?
Егор перевернул страничку и свистнул от удивления.
— Постой, постой, Василь Василич, тебя в должности понизили, что ли? Или вовсе уволили? Платил с восьмисот, а то и с тысячи — и вдруг…
— Ладно, ладно, дальше поехали. Забыл, сколько рядовой, необученный получал? На табачок и взносы.
— Почему забыл? Просто вспомнить приятно — все-таки молодость. Солдатская, неуютная, может быть, но молодость, черт нас подери!
— То-то.
— Ну, с этим ясно. Сороковой? Ага! Тут, я вижу, ты в гражданку вернулся. Что ж так быстро, товарищ рядовой?
— Почему в гражданку? В первой учебной роте два годочка оттопал. Потом комсоставом заделался.
— Ах, вот оно что. Да, да, да… А вот и сорок первый, самый серьезный. Ну, тут все в ажуре вроде. И в сорок втором тоже, и в сорок третьем — до июля месяца включительно. Потом ты, товарищ командир, выбыл из комсомола. За неуплату членских взносов? Или по возрасту? Набрал в рот воды твой билетик, одни пустые листочки пошли…
Оба расхохотались. Потом вдруг приутихли. Егор, похлопав приятеля по плечу, сказал:
— Хорошо все-таки у Светлова: «И о том, что молодость уйдет, комсомольский маленький билет мой каждым членским взносом вопиет». Справедливо, а?
— Я больше «Каховку» люблю. В «Каховке» каждая строка молодая.
— Как мы с тобой?
— Хотя бы. И даже еще моложе.
— Нет, правда, ты прислушайся только: «Комсомольский маленький билет мой…» Кстати, почему это он такой крошечный?
— Просто ты давно не держал в руках комсомольского билета.
Егор взял билет Никишина, повертел-повертел и снова, теперь уже совершенно безапелляционно, заявил:
— Поля отрезаны.
— Дотошный ты все-таки человек, Егор. Я бы таких ставил только в секретари, причем в бессменные.
— Опоздал с предложением — почти целых пять лет секретарствовал. Ты просто запамятовал важнейшую страницу в истории комсомола.
— Помню, помню. Это ваша светлость основательно подзабыла этапы моей жизни и деятельности. А я-то помню — секретарствовал. В институте. И как перед секретарем могу уж, так и быть, покаяться: точно, стриганул я однажды свой билетик. А вот ты догадайся — зачем?
Егор помолчал немного, потом спросил:
— В разведке бывал?
— Кто не ходил в разведку, тот войны не нюхал, я так считаю. А ты?
— Тоже.
— Ходил или считаешь?
— И считаю, и ходил. Стало быть, билет обкорнал, чтобы всегда при тебе был? Чтобы в случае чего спрятать было легче? Так, что ли?
— Свидетельствую: голова у тебя еще светлая. Мало того, что обкорнал, я его еще в кирзовое голенище зашил.
— Это что же, по уставу?
— Про устав меня только в Советском райкоме ВЛКСМ города Москвы спрашивали, когда принимали. Под городом Клинском про устав уже не вспоминали. К тому же я сам секретарем был вроде тебя. И взносы сам у себя принимал.
Никишин показал Егору свой многоэтажный автограф в колонке «Подпись секретаря».
— Убедился?
— Так точно. Значит, и в разведку с ним, в любое пекло?
— Сам знаешь.
Никишин рассказал другу, как однажды, находясь в окружении, он чуть не угодил в руки немцам и уже было разулся, чтоб разрезать сапог, но в последнюю минуту передумал, решил рискнуть и теперь, конечно, нисколько в этом не раскаивается, хотя тогда, сказать по правде, было сложновато.
— Мы накануне в деревню одну зашли, от Клинска верстах в сорока. Раненым перевязку хотели сделать, обсушиться малость. Бабы нас на околице встретили: «Родимые, касатики, вертайтесь скорее в лес — он на дню раз по десять стучит в каждую избу, партизан ищет. За школой повесил девять красноармейцев и одного в штатском. Сказал: если снимем, перевешает всех до единого. Вертайтесь в лес, мы вам сами кое-чего соберем — и поесть, и портянок сухих». Мы ушли, а пока дожидались баб в лесу, все-таки послали разведку — проведать, так ли все, может, думаем, у женского пола глаза велики от страха.
Вернулись наши — точно, говорят, девять и один. У каждого в руке комсомольский билет привязан.
— Та-ак. А бабы? Принесли, чего обещали?
— Ночью уже. И пожевать, и портянок, и самосаду еще. «Вот вам, сыночки, на дорогу». Только дорога та не длинной вышла совсем.
— Накрыли?
— Нет. Партизан повстречали. Целый отряд. Вооружение — во! Вместе в деревню воротились. Тех десятерых с воинскими почестями земле предали и с неделю оборону держали, пока сил, одним словом, хватило. А бабы, да старики, да дети вместо нас в лес. Им и десять комсомольских билетов отдали, сохранить велели.
— Сохранили?
— Думаю, да.
Егор и Никишин помолчали. Никишин достал из ящика стола сигареты, закурил, протянул пачку Егору:
— Кури.
— Спасибо. Ты же знаешь, я давно не курю.
— И махорку не стал бы?
— Ну что говорить про махорку! Махорки не сыщешь теперь днем с огнем.
— Значит, закурил бы все-таки?
— Представь, под такое настроение затянулся бы разок.
Никишин выдвинул из стола еще один ящик, подал Егору сделанную из пулеметной масленки табакерку.
— Много лет не трогал, берег. Так и быть, разговеемся ради такого случая.
Он погасил сигарету и вместе с Егором стал неловко свертывать козью ножку.
Они сладко курили несколько минут, погруженные каждый в свои мысли. Два узких, едва прочерченных в ранних сумерках дымка где-то под потолком свертывались в один, размытый, как от костра, постепенно заполнивший все пространство высокой комнаты.
Докурив по фронтовой привычке до самых пальцев, Никишин спросил Егора:
— Поверишь или нет? Та самая махорка, моршанская!
— Ей-богу?
— Ей-ей! Меня в той деревне ранило. Партизаны спасли. Из санбата в санбат, из госпиталя в госпиталь. Ну, там чего другого, а табачку в то время еще хватало. Дай, думаю, сохраню самосадик. Просто так, на память о добрых людях.
— А билет?
— А вот билет уберечь трудней, чем в бою, оказалось. Сапоги с меня сняли сразу, как на врачебную перевязку потащили. Возвращаюсь — нет сапог. Маршевикам, говорят, приготовили, тем, что с колес прямо в огонь.
— Ну, и как же ты? — опять перебил Егор приятеля.
— Всю ночь в каптерке рылся, все вверх дном перевернул. Санитар мне в помощники вызвался — толком никак не разберется, в чем дело: я тебе, дескать, парочку подберу — будь здоров! Хромовые! Комсоставские!
— Отбился от хромовых?
— Как видишь. — Никишин озорно подбросил на ладони серую книжечку. — И кирза, она, знаешь, как-то привычней нашему брату. Опять же — не боится сырости.
— Ни черта вообще не боится!
К Егору незаметно возвращалось его обычное веселое расположение духа. С напускной серьезностью он проворчал:
— А с билетиком своим ты, товарищ Никишин, поступил все же неправильно, хотя он у тебя и счастливый.
— Как же я должен был поступить?
— Очень просто. Когда в партию тебя принимали, обязан был сдать в райком, я так разумею.
— Ты в этом уверен? — в тон ему спросил Никишин.
— Абсолютно.
— Тогда слухай сюда, как говаривал старшина наш Фоменко Иван Федотович. С внучонком моим в личном знакомстве состоишь?
— С Кирюхой?
— Вот именно. С Кириллом Николаевичем Никишиным.
— Весь в деда пошел, две капли воды!
— Согласен. Так вот, он нам со старухой еще в прошлом году рассказал, как был у тебя в гостях и как ты ему пионерский галстук показывал. Ну, мы, конечно, глаза большие, спрашиваем: чей же это галстук, мол? А Кирилл Николаевич, представь, даже обиделся за тебя: «Как это чей? Дяди Егора, ясное дело!»
Егор посмотрел на Никишина, тихо задумчиво рассмеялся, глубоко откинулся в кресле.
— Выдал, значит, меня, постреленок?
— Мало того, Егор Константинович, — он про твой галстук на торжественном собрании в школе докладывал.
— Честное слово?
— Какое же еще?
— Я ж говорю — постреленок! Как человека его просил, чтоб строго между нами осталось. Когда увидишь, намекни ему, Василий: недоволен, мол, дядя Егор, не положено так между интеллигентными людьми.
— Это ты уж сам давай регулируй с ним отношения. Другое могу намекнуть: пусть тебя в свою школу вытащит. Я ходил, теперь твоя очередь. Тебе есть чего порассказать ребятам. А за то, что галстук свой сберег, никому не отдал, прими, пионер, благодарность от старого комсомольца. Давай пять!
Станция Люся
Совхоз назвали «Комсомольцем». Более точного имени никто не мог бы для него придумать — из Москвы, Ленинграда, Киева приехали сюда парни и девчата с комсомольскими путевками в руках.
Сначала жили в палатках, в вагончиках. Потом огляделись, стали устраиваться всерьез и надолго. И вот уже ровные ряды саманных домиков вытянулись вдоль кипящего пшеницей клина поднятой целины.
Семь лет назад здесь не было ничего, кроме ветра и солнца. И спящая в ковылях земля сама не знала, что может она родить под этим ветром и под этим солнцем. И пришедшие сюда люди этого тоже толком еще не знали.
Тем, кому в год основания совхоза было по восемнадцать, тем и теперь всего-навсего по двадцать пять. Но есть тут народ и еще более молодой. Одному из самых юных жителей совхоза недавно исполнилось семь лет. Это ровесница «Комсомольца» Люся Левашова.
У кого в семье есть дети, тот знает, сколько с ними счастья, сколько с ними забот. А в краю необжитом, далеком — тем более. Так и с девочкой Люсей. И хотя в совхозе любят Люсю и стараются при случае хоть чем-нибудь ее немножко побаловать, она, как и все здесь, живет жизнью и радостной, и суровой.
Даже игрушки, которые мастерит для Люси единственный старик «Комсомольца» пастух Чиграй, не такие, как у всех других детей на свете: то притащит ей грабли, сделанные из сломанной лыжной палки, то прикатит лопнувшую и списанную в расход бакелитовую шестеренку…
А осенью задала Люся задачу всему совхозу. Незаметно подошел к «Комсомольцу» седьмой сентябрь. Стали девочку собирать в школу. Кто букварь несет, кто тетрадку, а Чиграй даже ранец раздобыл где-то. Где он его откопал, никому не известно, только ранец как ранец — хоть и старенький, но совсем неплохой, чем-то похожий на самого пастуха, весь в черно-буро-желтой шерсти с проседью.
— Надевай, дочка! Лосевая вещь. До самой старости хватит!
Но когда экипировка Люси была полностью закончена, выяснилось, что ближайшая школа находится… за сорок километров.
Родители, трактористы Левашовы, не на шутку растерялись. Да и не только они.
Лишь пастух Чиграй, как всегда, был совершенно спокоен. Неожиданно исчезнув куда-то на два дня, вернулся веселый, важный, даже обычная, вразвалочку, стариковская походка его вдруг изменилась. Гордо и необыкновенно молодо прошагал он мимо саманных домиков «Комсомольца»…
Чуть не весь совхоз пришел в то сентябрьское утро в степь, к зеленому кургану, где впервые в жизни дал тормоз дальний, клокочущий паром поезд.
— А ну, где тут ваша Люся? Давайте ее сюда! — крикнул в толпу спрыгнувший с подножки проводник в высокой форменной фуражке: — Будьте спокойны, доставим прямо к звоночку!
Паровоз вздохнул, отстукал традиционную чечетку, и состав растворился в густом настое пыли, дыма и ковыля.
А вечером все свободные от работы жители совхоза опять пришли к тому кургану. И опять остановился в голой степи запыленный поезд.
— Получайте вашу Люсю! — еще из тамбура крикнула встречавшим девушка в фуражке с лакированным козырьком. — Первый учебный день кончился!
К зиме в совхозе начали строить школу.
Пройдет еще немного времени, и дальние поезда снова будут без задержки, на полной скорости, пересекать бескрайнюю степь. Но сейчас они два раза в сутки — утром и вечером — делают короткую передышку у «Комсомольца».
Нет здесь ни вокзала, ни перрона, ни даже самой обычной платформы. Распаленный в беге паровоз пускает белого барашка, поравнявшись с едва приметной скамеечкой, возле которой торчит прямо из сугроба жидкая жердочка с шершавым фанерным флажком.
На флажке чьим-то угластым почерком выведено:
«Станция Люся».
А чуть ниже — другая прыгающая строчка:
«Поезд стоит одну минуту».
Деревянный кораблик
Бакенщик Мокшин доживал свой век на берегу когда-то тихой, уютной, а ныне становившейся все более беспокойной Зырянки. Крохотный, шоколадного цвета домик Мокшина прилепился в подъярье, недалеко от устья, где река неожиданно сужалась, и образное название местечка — Журавлиное горло — было удивительно точным.
Бакенщик проработал тут почти пятьдесят лет, и когда начальство вдруг предложило ему перебазироваться в верховье, отказался наотрез и с обидой, хотя по всему было видно — трудно старому справляться на «бойком перекрестке».
Внешне жизнь Мокшина мало изменилась с тех пор, как по Зырянке засновали стремительные теплоходы, как прокатилось по ее берегам могучее ржанье сирен, но внутренне он весь как-то напрягся, сосредоточился и всякий раз сокрушенно качал головой, завидев милый сердцу древний буксиришко «Онега» или еще более стародавний «Касимов», заслышав, как раздумчиво перебирают они волну плицами медленных колес.
Никому не было известно в точности, о чем он думает в такие минуты, но догадаться об этом и как-то понять бакенщика было можно.
Один знакомый инженер в Коломне рассказал мне, что в тот день, когда их паровозостроительный завод перешел на выпуск тепловозов и последний «СУ», вздыхая и дымя, покидал заводской двор, многие старые рабочие сняли шапки и глядели ему вслед со слезами на глазах.
— Это не паровоз уходил — целая эпоха отчаливала, — резюмировал инженер.
Я часто вспоминал об этом разговоре, наблюдая за своим новым знакомым Мокшиным. Застану его в тот момент, когда он печальным взором провожает какую-нибудь зарывшуюся носом в воду посудину, и про себя пожалею бакенщика. Иногда даже подсяду к нему, похлопаю по плечу, скажу словами инженера-коломенца:
— Переживаешь? Сочувствую. Эпоха уходит целая…
Не сразу догадался я, что старик такого терпеть не мог. Один раз его просто передернуло от моих неуместных утешений.
— Да что вы все, сговорились, что ли? Эпоха, эпоха!.. Без вас все понятно.
Но хотел этого Мокшин или нет, а время колесных тихоходов действительно кончалось. На смену ему все уверенней заступал другой век — век иных скоростей и мощностей, и еще никто не знал толком, какие сюрпризы готовил он в своих доках и проектных мастерских.
Старое все гуще перемешивалось на Зырянке с новым, с наиновейшим. Латаные и перелатанные «Олеги» и «Касимовы» все чаще оставались за кормой судов на подводных крыльях, на воздушных подушках и еще бог знает на каких диковинных придумках атомного столетия. Пролетит, промчит на ракетной скорости какой-нибудь «Спутник» или, скажем, «Космос» — Мокшин только вздрогнет, только седой головой поведет, а того уж и след простыл — одни белые буруны растут, ширятся, как инверсионный след самолета. Промчит, скроется в белесоватой дали, а за ним — чап-чап — невеличко суденышко, которому Мокшин, как доброму другу, помашет рукой. Потом глянет на меня почти дружелюбно, будто уже совсем и забыл про нашу с ним перепалку, и вдруг проймет его лирическое настроение. Тут выяснится, что всю анкету любого старика буксира Мокшин помнит лучше, чем свою собственную. Он расскажет мне, как именовался «сей красавец» до семнадцатого года, чей он был, как беляков гонял и все такое прочее.
— Общество «Кавказ и Меркурий», конечно, не знаешь?
— Откуда мне?
— А «Самолет»?
— И «Самолет».
— А «По Волге»?
— И «По Волге» тоже.
— Ну вот. А я, братец, каждый пароход из-за косы, бывало, по голосу узнавал.
— А теперь?
— И теперь. Хоть года мои и выходят, не спутаю на одного гудка во всем пароходстве.
— А насчет эпохи ты, Мокшин, все-таки зря обиделся. Я ведь просто так, не сердись.
Бакенщик ничего не ответит, лишь рукой махнет. Мне остается только гадать, какие слова проглотил он вместе с клубком махорочного дыма.
Недалеко от домика Мокшина прожил я почти целое лето. И все это время, когда позволяли дела, наблюдал за бакенщиком, за его работой, за тем, как внимательно глядел он из-под ладони на ползущие через Журавлиное горло допотопные лохани, на летящие во всю мощь «Спутники» и «Космосы».
Неожиданно наши встречи с Мокшиным прекратились. К старику привезли погостить внучонка из деревни, и все свободные часы бакенщик отдавал теперь ему. Я только издалека, с яра, видел их под окнами мокшинского домика. Мальчишке было года три, не больше, и старый не брал малого ни на рыбалку, которую так любил, ни к бакенам. Чаще всего дед мастерил внуку какие-то игрушки. Мне сверху не разглядеть было, какие именно, но я хорошо различал поблескивание охотничьего ножа на солнце, белую пену стружек и догадывался, что дед с внуком времени зря не теряют.
Выбрав как-то свободный час, я спустился к Мокшину. Картина, открывшаяся мне под окнами дома бакенщика, тронула меня до глубины души: целый флот кораблей всех видов и классов бороздил зеленое море травы палисадника! Мальчонка был в полнейшем восторге, он ползал среди игрушек, бережно переставлял их, придавая флоту какой-то особый, ему одному ведомый порядок.
Дед сидел на завалинке и, едва заметно кивнув мне, продолжал что-то прилежно строгать. Вид у него был сосредоточенный, серьезный, но не сердитый, как всегда. Березовое полешко ловко поворачивалось в его руках, подставляя быстрому, резко поблескивавшему на солнце лезвию ножа то одну, то другую боковину.
— А это, дед, чего получается? — уставился на новую игрушку внучонок.
— А это его вон спроси, — Мокшин глянул в мою сторону, — это больше по его специальности.
Еще раз посмотрев на дедову работу, я замер на месте от удивления — из вороха душистых стружек совершенно отчетливо вырисовывались контуры современного корабля, и не какого-нибудь, а… на подводных крыльях!
Я был удивлен, с какой точностью и технической грамотностью воспроизводил нож Мокшина красивые, динамичные черты последнего чуда судостроения.
— Ну, теперь твоя душенька довольна? — блеснул на меня стеклами очков Мокшин.
Пока я подбирал слова восхищения, бакенщик поднял готовую модель над запрокинутой головой мальчонки, бережно сдул с кораблика все до единой пылинки и рассмеялся.
— Эпоха — она, брат, для всех эпоха. Ясно?
Мокшин с гордым видом протянул игрушку ее законному владельцу:
— Ну-ка, герой, спускай судно на воду. Звать его будем знаешь как? «Эпоха»! Слышишь? Э-по-ха!
— Эпоха, эпоха, эпоха!.. — подхватил мальчишка непонятное, но сразу почему-то понравившееся ему словечко и, пританцовывая, с деревянным корабликом в руках помчался вдоль забора.
Планерная
Чем ближе станция Планерная, тем явственней встает в памяти Рагозина теперь уже далекое прошлое — заводской кружок планеристов, первый полет на «Стрекозке», чуть было не ставший последним. И, конечно, инструктор Банников — как положил однажды руку на плечо, как терпеливо напутствовал:
— Отдельное дерево справа видишь?
— Вижу.
— Силосную башню слева?
— И силосную тоже.
— Ориентиры. Точно между ними держать!
Когда стартовая команда, натянув резиновый трос, как из рогатки метнула вперед «Стрекозку», Рагозин в одну секунду забыл обо всех наставлениях.
«Отдельное дерево», вынырнув из-под крыла, кинулось на «Стрекозку» справа. Рагозин сделал отчаянную попытку развернуться — его бурей понесло на красно-кирпичную башню-твердыню.
Очнулся уже у доктора. Рядом сидел Банников. Его рука опять лежала на плече Рагозина.
— Вот ведь как все получилось… — пролепетал незадачливый планерист. — А «Стрекозка»? С ней-то чего?
Банников вздохнул. Он готов был, наверное, рявкнуть что-нибудь сердитое, вроде «сам понимаешь», но сказал спокойно:
— Вообще-то, знаешь ли, такая история…
Он был хорошим человеком, их инструктор. А они все молоды и настойчивы: уже спустя полгода в небе Планерной засверкали белизной крылья новой «Стрекозки», опять сработанной своими руками, опять на собственные копейки.
Когда в одно прекрасное утро снова подошла очередь Рагозина забираться в кабину, инструктор волновался больше его. Он даже ориентиры перепутал:
— Отдельное дерево слева, силосная башня справа…
Рагозин, заметив это, еще крепче вцепился в штурвал, а через минуту все повторилось сызнова — сперва проклятое дерево летело на него в упор, потом ненавистная башня… Чудом каким-то проскочил невредимым.
После полета первым к Рагозину подбежал Банников:
— Ну, теперь совсем другое дело! Молодец, одним словом! Молодчага! Только бледный, как бобик. Честно: волновался?
Рагозин, кажется, ничего не ответил, тем более что у самого-то инструктора ни кровинки в лице не было.
С тех пор прошло много лет. Рагозин сам перед войной и долго еще после нее учил заводских ребят летать на планерах. Часами стоял на земле, широко расставив ноги, до боли запрокинув голову. Его уже весело называл кое-кто стариком, а он и душой и телом был любому новичку чуть ли не ровесником.
Но время есть время. Незаметно, исподволь подобралась к Рагозину пора, когда его уже не в шутку, всерьез все на заводе стариком величать начали. Дальше — больше, потом уж и не до полетов стало.
— На смену планеризму радикулизм, — невесело острил Рагозин при встрече с приятелями.
И вот он едет по местам своей молодости. Мрачноватый, ссутулившийся, хотя еще крепкий на вид. И открытое окно ему нипочем.
Подъезжая к Планерной, Рагозин откладывает газету, которую задумчиво листал, поднимается с места, до пояса высовывается в проем окна, навстречу холодному ветру. Еще один поворот — и Планерная. Поезд идет без остановки, но заметно сбавляет скорость. Словно специально для того, чтобы Рагозину да и не ему одному, было лучше видно, как взлетают и парят планеристы.
Старик волнуется. Распрямились его плечи, разметались седые волосы, но чувств своих он не показывает. Смотрит, как все тихо, безмолвно, только губами чуть-чуть шевелит. И вдруг вскипает сразу все его существо.
— Это что такое, скажи на милость? — обращается он к незнакомому ему человеку лет двадцати. — Это как, полет называется? — И не дожидаясь ответа: — Техника новая, высший класс, можно сказать, а еле-еле оторвался, целую версту хвост волочил. Э-эх, нет на них Банникова!
— Кого нет?
— Кого-кого! Это я так. — Рагозин садится, отворачивается от окна и снова достает газету.
Пусть другие охают, ахают. Что знают они? Что видели? В вагоне, куда ни глянь, все юнцы — с рюкзаками, с гитарами. Трень-брень. И в небе-то небось мелкота одна.
Ворчит Рагозин себе под нос, неизвестно на кого сердится. Чтоб никто не заметил этого, напускает на себя равнодушие — будто совершенно безразлично ему, кто и как там летает. В самом деле, что сейчас ему до всего этого?
Но глаза старика поверх очков, мимо газетной полосы, сами, против его воли, устремляются в окно, упрямо ищут там белую, ослепительно белую птицу. Ищут, находят, нашли уже, не могут от нее оторваться…
— А этот вот смотри — ничего, пожалуй! Что-то вроде бы получается. И красив, разбойник, красив! Как скажешь?
— У этого порядок.
— Теперь сюда глянь, сюда! — в сердцах толкает соседа Рагозин. — Силосную башню видишь?
— Ну, вижу.
— А дерево? Отдельное?..
— И дерево. А что?
— А то, что он, мерзавец, разобьется сейчас… Прямо на башню прет! Или на дерево?.. Эй! Куда несет тебя? Влево давай, влево, чертушка!..
Теперь уже весь вагон прилип к окнам, замер в волнении. Спокоен, пожалуй, только сосед Рагозина.
— Зря вы его, отец, так, — говорит он, когда планер, ловко пройдя между двумя ориентирами, благополучно взмывает ввысь.
— Нет, не зря! Видел, куда он катил? Нервы мотал на катушку.
— Это просто сбоку так кажется. Нормально взлетел, еще лучше летит. Знаменитая у них тут школа!
— Ну уж, хватил, знаменитая! В Крыму не бывал случайно? Вот там точно была знаменитая.
— Как же, слышал, сам крымчак. Но здешняя, уверяю вас, особенная. Я читал где-то…
Рагозин глядит на соседа задумчиво, а тот, потянувшись к полке, решительно извлекает из чемодана огромный морской бинокль, несколько секунд шарит им по небу и говорит восхищенно:
— А этот вот просто чудо какое-то! Просто артист! Хотите взглянуть? Быстрей только…
Рагозин не спеша берет бинокль, подносит его к глазам, настраивает, на мгновение замирает в этой позе и вдруг садится на место, чем-то пораженный до глубины души.
— Что с вами, отец? Что случилось?
Рагозин вытирает вспотевший лоб, потом снова встает и целится биноклем в уже оставшееся позади небо Планерной.
— Нет, нет, ничего… Все нормально. Душновато только нынче в вагоне, дышать просто нечем. — Опять садится, протягивает бинокль хозяину и говорит: — Благодарствую. Линзы давно промывал?
— Линзы? Ни разу еще. Да он у меня новый совсем.
— Значит, старость виновата. Название смешное прочел на крыле. Померещилось…
— Вам тоже показалось? Тоже, да? Значит, точно, а я никак разобрать не мог. А правда, смешно: крылья — во, богатырские, — и вдруг… «Стрекозка», надо ж так назвать! Но летит хорошо, отлично даже летит — легко и красиво! Не «Стрекозка», чудо-птица какая-то!
Художник
Мы с другом решили провести отпуск, путешествуя по дорогам, исхоженным в годы войны.
Километрах в ста сорока от Москвы остановились в одной деревне возле памятника погибшим воинам, стали фотографировать. В этот момент к нам подошли две заплаканные женщины — одна совсем старая, другая помоложе — и робко заговорили:
— У Грачевых в доме покойник. Последний мужик в семье. Сделайте уважение, снимите на карточку. Обычай у нас такой. Вам не трудно, а бабам долгая память будет.
Все четверо мы молча побрели к избе Грачевых, возле которой уже стояла тесная толпа людей. Еще издали услышали чей-то надсадный, хриплый плач.
Мы вошли в дом. Народу было так много, что мы с трудом пробрались к столу, где, убранный цветами, лежал огромный, широкий в кости старик. Подслеповатые окошки бросали в избу два таких жидких и призрачных луча, что они не рассеивали, а только подчеркивали царивший тут полумрак.
Заметив нашу растерянность, кто-то объяснил нам, что вчера здесь была сильная гроза и молния разбила электростанцию, света нет во всем районе.
— Это понятно, — шепнул мне тихонько Олег, — но снимать в такой темноте нельзя, а магния у меня с собой нет.
— Ты все-таки попробуй. Нельзя обижать людей. А может, нарисуешь? Считался ведь ты в школе когда-то художником.
— Вот именно — считался, — вздохнул Олег и зябко поежился.
Но делать было нечего. Мой друг достал из кармана блокнот, карандаш и, пробравшись к центру избы, начал рисовать.
Когда набросок был сделан, Олег, записав адрес Грачевых, стал прощаться.
— Дома закончу работу, пришлю. Здесь у меня ни красок, ни кистей. Вы уж извините.
Мы уехали.
— Никогда еще не доводилось писать мне таких портретов, — говорил Олег. — Ты понимаешь, рисую, а сам все думаю: вот похоронят они его, кое-как с бедою своей справятся, а через месяц или через два придет к ним по почте моя мазня, и как ножом по сердцу — снова эти венки, эти нелепые бумажные цветы…
Слушая Олега, я отчетливо представил себе, с каким чувством будут ждать его посылку в доме Грачевых, и мне стало как-то не по себе.
— А может, не рисовать, вовсе бросить эту затею? И тебе проще, и им легче.
— Нет. Это будет еще хуже. Раз обещали, бабы ждать не перестанут, ты ведь их знаешь. Вот и растянется горе их.
Всю дорогу мысль о Грачеве не оставляла Олега. Где бы мы ни ехали, куда бы ни шли, все про старика вспоминал.
— Соседи сказали, он тоже воевал в Белоруссии. Наш землячок, получается! Наверно, где-то тут через Березину чапал. А вот здесь «тигров» лупил, а здесь лежал под бомбежкой…
Вернувшись в Москву, мы расстались с Олегом. Каждый занялся своим делом. Встретились только зимой.
Когда после долгой разлуки переступил я порог Олегова дома, разговор у нас сам собою сразу же о Грачеве зашел:
— Ну как? Нарисовал? Чем закончилась вся эта история?
— Нарисовал. И даже в ответ письмо получил из деревни.
Олег подошел к столу, порылся в ящике.
— На, почитай. Очень интересно.
Я развернул клочок исписанной карандашом бумаги и прочел:
«Спасибо вам, дорогой товарищ Олег Николаевич. От всей семьи, от всей деревни нашей низкий поклон вам. Присланный вами портрет у нас в клубе повесили. Люди со всей округи идут посмотреть нашего батю…»
Оторвавшись от письма, я с недоумением поглядел Олегу в глаза:
— Что же ты нарисовал им такое?
Он взял меня за локоть и повел в другую комнату, где стоял его рабочий стол.
— Вот, взгляни на эскиз. Себе на память оставил.
С прибитого к стене куска сурового полотна прямо на меня шагал могучий, веселый старик. Развернув плечи, он шел по пояс в бушующей золотом ржи. Две медали на его груди — за войну и за труд — сверкали так ярко и были выписаны так отчетливо, что казалось — они слегка позвякивают в такт широкому шагу хозяина.
На высоком чистом лбу Грачева горели лучи еще совсем теплого осеннего солнца.
Ураган
Это случилось у нас в Копани минувшим летом. В деревянном домике на берегу речки Безымянки поселился детский сад. Я поначалу было расстроился: иметь такое беспокойное соседство во время единственного отпуска в году участь незавидная. Но ребята оказались народом симпатичным и трогательным. С интересом стал наблюдать я за их жизнью.
Уже через несколько дней мы познакомились, и многих детей я знал не только по имени и фамилии, но чуть ли не по отчеству. Особенно понравились мне два неразлучных друга — Андрей Черников и Леша Лагуточкин. Их назначили ответственными за живой уголок, и надо было видеть, с каким старанием охотились малыши за всякой лесной всячиной, какой диковинной раскраски и формы листья находили на самых обычных деревьях.
Беззаботно и весело жилось ребятам на берегу Безымянки, но однажды я встретил их и не узнал. Шли они с прогулки тихие, как-то вдруг повзрослевшие. Ни песни, ни шутки в строю.
— Что с вами, ребята?
— У нас ласточкины гнезда разорены. Вы разве не знаете? — сказал, исподлобья глянув на меня, Черников.
— Как разорены? Кто ж это сделал?
— Пусть Эльза Алексеевна вам расскажет.
Я пропустил весь молчаливый строй, остановил воспитательницу:
— Эльза Алексеевна, что я слышу?
— Не говорите! Все так переживают.
— Что же все-таки произошло?
— Целый месяц весь сад грипповал. Некоторые ухитрились побывать в изоляторе по два раза…
— При чем же тут ласточки?
— Представьте, при чем, — не очень уверенно сказала Эльза Алексеевна. — Приезжали с эпидемиологической станции, предупредили: ласточки грипп разносят. Да, да…
— Быть не может.
— Точно, наукой доказано — ласточки. Вернее, не они сами, а насекомые, которые у них под перышками.
Я с удивлением глянул в синие глаза Эльзы. Они были широко раскрыты, и в них, несмотря на всю категоричность ее слов, можно было отчетливо прочитать: «Наука наукой, а птицы, по-моему, все-таки не виноваты. Тоже придумали, где вирус искать!» Но вслух она опять сказала, что как раз в них, в ласточках, причина всех бед.
— Мы, конечно, приняли все меры к тому, чтобы детей не травмировать. Они ни о чем и не догадались, — заверила меня девушка.
— Как же вы объяснили ребятам?
— Мы сказали им, что приближается ураган. Закрыли все двери, занавесили одеялами окна и позвали уборщика дядю Пашу. Вы его знаете, горбатенький такой, всегда, как доктор, в белом халате ходит. Он пришел с метлой и, зажмурившись, стал сбивать гнезда…
Эльза Алексеевна именно так и сказала — «зажмурившись», и я отчетливо представил себе нелепую и дикую сцену.
Вечером меня пригласили в детский сад. Заведующая Елена Сергеевна, решив как-нибудь отвлечь детей, попросила показать снятый мною фильм о поездке по Волге.
Когда на экране появились острокрылые, похожие в полете на ласточек чайки, сопровождавшие наш теплоход с самого начала пути, я понял, что картина выбрана не совсем удачно.
— Чайки, чайки! — Ребята замахали руками так, что пятипалые тени их заметались по белому полотну вперемежку с птичьими крыльями.
Я постарался прогнать эти кадры быстрее, но на смену им подоспели другие — теперь это были уже самые настоящие ласточки, снятые мною на ослепительно белом фоне древнего Казанского кремля…
В зале стало тихо, я перестал давать всякие пояснения, кое-как докрутил ленту, показавшуюся мне в тот вечер бесконечно длинной. Когда зажегся свет, первое, что я увидел, были грустные лица детей. Чтобы хоть как-то разрядить обстановку, я сказал:
— Только, чур, носа не вешать! Ну что ж теперь поделаешь, раз случилось такое. Ураган есть ураган. Вы ведь все поняли?
— Поняли, — за всех ответил Лагуточкин и вздохнул совсем как взрослый. — Был большой ураган.
— И ты понял? — спросил я Черникова, который на вид был самым крохотным.
— Было страшно, когда был враган, — ответил Черников (он именно так и сказал — «враган», как будто название это происходило от слова «враг»).
— И не так уж страшно, — еще раз попробовал я успокоить ребят. — Ну, был и прошел. Правда, Андрюша? — снова обратился я к Черникову.
— Он был с метлой и в белом халате. Мы все видели, не думайте, что раз мы в малышовой, так ничего не понимаем.
Елена Сергеевна неестественно громко сказала, что «сеанс» окончен и всем пора готовиться ко сну — и детям, и взрослым. Я не стал дожидаться более тонких намеков и ушел. Не знаю, как спалось в ту ночь моим соседям, — я проворочался почти до самого утра. Думал о превратностях судьбы, о неисповедимых путях науки, о ласточках и, конечно, о дяде Паше.
А дня через два эпидемиологи, получив какие-то разъяснения «свыше», позвонили директору детского сада и сообщили, что произошла ошибка — ласточки никакого гриппа не разносят и разносить не собираются. Позвонили — и все, даже извиниться не догадались.
Дядя Паша, узнав о том, что его, видавшего виды человека, обвели вокруг пальца какие-то практиканты медвуза, помрачнел. Он и без того ходил чернее тучи, а тут раскипятился не на шутку. Конечно, у дяди Паши были все основания гневаться — он чувствовал, как изменилось отношение ребят к нему после злополучной истории. Он пробовал заговаривать со своими недавними друзьями — те, потупившись, не отвечали на его вопросы, старались вообще не встречаться со стариком.
Дядя Паша за эти дни даже осунулся. Косой горб его из неловко завязанного на спине халата торчал как-то особенно остро. Но горбуном, как заведено в таких случаях, его никто не дразнил. По пятам за ним кралась, может быть, еще более обидная кличка — Белый ураган.
Когда с ни в чем не повинных ласточек было снято обвинение, дядя Паша решил восстановить и свое доброе имя.
Утром в траве перед фасадом дома появился длинный фанерный ящик, до краев наполненный жидкой грязью. Дядя Паша стоял поблизости и объяснял ребятам:
— Вот новые гнезда, граждане. Не переживайте, июль только в силу входит, все еще слепится.
И случилось самое настоящее чудо: кроха за крохой, комочек за комочком жидкая грязь начала на острых черных крыльях летать из ящика под карниз дома. Гнезда росли буквально на глазах — еще более удобные и красивые, чем прежде.
Мир воцарился под теплым небом Копани. Повеселела Елена Сергеевна. Убрался под белый халат безобразный горб дяди Паши. Щебет ласточек снова смешался со щебетом малышей.
Ураган — настоящий, никем не выдуманный — налетел неожиданно и жестоко. Всю ночь над Копанью по всем швам трещало небо. А когда рассвело, мы увидели поваленные заборы, вывороченные с корнем деревья, вспенившуюся речку Безымянку, превратившуюся в стремительный горный поток.
На месте новых ласточкиных гнезд чернели бесформенные пятна с вытянувшимися до земли потеками.
Много гроз было на моем веку, много ураганов довелось пережить, но этот показался мне одним из самых беспощадных. Дядя Паша за эту ночь снова стал глубоким стариком. Вид у него был измученный, будто его до самого утра ломала и гнула жестокая буря. Когда уборщик встретился с ребятами, которые ночью беззаботно спали, как всегда, и ничего не слышали, он виновато проговорил:
— Это не я, граждане, теперь уж, верно слово, не я. Если б моя воля, я бы их уберег как-нибудь, а то ведь ишь как расквасило…
Самым удивительным было то, что ребята все поняли с первого слова и с первого слова поверили.
Никто ни о чем больше не спрашивал дядю Пашу. Первыми сообразили, что надо делать, Черников и Лагуточкин. Они водрузили на прежнее место перевернутый шквалом фанерный ящик, наполнили его до краев жидкой грязью, благо ее было сегодня хоть отбавляй, и стали ждать.
Проходила минута за минутой, истекал час за часом, но ни одной из ласточек не было больше видно. В чистом небе Копани вообще никого и ничего нельзя было заметить в то утро — ни птахи, ни облачка. Только грязно-белая птица мокрого халата дяди Паши, всю ночь боровшегося с разбушевавшейся стихией, резко размахивала на веревке крыльями разорванных рукавов.
Почтарик
Леса в тех краях дикие. Пойдешь один — заблудишься.
Как-то зимой, много лет назад, произошел случай, про который давно уже умолкли разговоры в Касьянихе, но когда я впервые приехал туда, сразу про то и узнал, как почтаря волки съели.
Деревня от деревни далеко, одна другой и в хорошую-то погоду дыма не кажет. Дело под вечер было. На лошади везли письма. В санях почтальон да возница. Вот за ними голодная стая и увязалась.
Лошадь, учуяв недоброе, понесла, не разбирая дороги. Возница, паренек был молодой, с перепугу вожжи и выронил. Впереди ни зги не видно, только ископыть бьет в лицо, сзади угольями волчьи глаза разгораются. Все жарче и жарче…
Когда лошадь от страха совсем ошалела, почтарь на полном ходу выпал из розвальней.
Целую ночь люди из Касьянихи смолили факелы в лесу, да все попусту. На рассвете нашли одну растерзанную кирзовую сумку с железной пряжкой.
Теперь дорога в Касьяниху зовется Волчьей. И не зря — до сих пор тут зимой попадается волчий след.
— А почту все-таки возят? — спросил я у кого-то из деревенских.
— Без почты у нас хоть пропадай, глухое место.
— Кто же возит?
— Как кто? Сын того самого почтаря.
Мне во что бы то ни стало захотелось повидать этого человека, поговорить с ним о его нелегком деле, но за день до моего приезда почтарь тяжело заболел и его свезли куда-то в район, к лекарю.
— Теперь, значит, без почты будет Касьяниха?
— Почему без почты? Говорят же тебе, без почты тут вовсе нельзя.
— Как же обойдетесь? Народу-то у вас мало совсем.
— Есть у нас почтарик еще в Касьянихе.
— Почтарик?..
— Да, сын сына того почтаря. Он и возит, когда с батей что приключается. В школу едет — и письма с собой.
— И не боится?
— Кого? Волков-то? Так ведь волков бояться — в лес не ходить, есть пословица. Верно? А потом он ведь не один, с возницей.
— Это не с тем ли самым?
Мне в ответ рассмеялись.
— Не с тем, но тоже еще молодо-зелено. А что поделаешь? Люди у нас на вес золота. Да и забыли уж тут все давно про тот случай. А почтарик и вовсе не знает ничего. Если б знал, может, и убоялся бы, но мы не напоминаем.
— А дорогу все-таки Волчьей зовете?
— Это так уж, без всякого умысла.
Вечером по скрипучей кривой тропке свели меня в дом к почтарику.
Паренек был совсем из ранних, лет четырнадцати, не больше. Мы познакомились и разговорились.
Я все порывался спросить его, не страшно ли по Волчьей дороге письма возить, но за весь вечер так и не решился.
Мы расстались друзьями. На прощанье почтарик подарил мне тетрадку своих стихов и смущенно предупредил:
— Только сейчас не читай. В Москву приедешь — там прочтешь. Ладно?
Я обещал поступить именно так и раскрыл первый раз тетрадь действительно только уже дома, когда Москву и Касьяниху разделяли тысячи бесконечных заснеженных километров.
Первое стихотворение почтарика было озаглавлено «Волчья дорога» и начиналось словами:
В этом месте волки съели почтальона…Березовый сок
Охота в наших краях еще не была разрешена, и мы с друзьями отправились коротать воскресенье в лесу без оружия. Один я неизвестно для чего прихватил малокалиберку.
Гогоча и дурачась, мы вошли в Березовый лес. Сколько раз бывали мы здесь, а все не устаем восхищаться — тут и в пасмурный день светло, а в мартовский, высвеченный солнечными лучами даже глазам больно.
Залюбовавшись березами, я сдернул с плеча винтовку и от избытка чувств, что ли, выпалил в воздух. Когда эхо от выстрела замерло, кто-то из приятелей крикнул:
— Стрелял в белый свет, а попал в белый ствол! — и, смешно приседая, стал ловить ртом летевшие сверху капли, частые и крупные.
— Сок! Березовый! — Перегоняя друг друга, мы кинулись к невзначай раненному мной дереву.
Кто-то вытащил из рюкзака котелок, и алюминий загремел под ударами тяжелых капель. Очень скоро котелок уже ходил по кругу, и каждый из нас старался сделать глоток побольше — таким вкусным показался давно не пробованный сок.
Только один Грушевский, отпив из котелка, разочарованно поморщился.
— Разве это сок? Вот во время войны был сок — это да!
— Скорей не «во время», а «до», — шутя поправил я Грушевского.
— Нет, именно «во время», и не где-нибудь, а в моем родном госпитале.
— Память тебя, старик, не подводит? В госпитале? — удивились мы.
— Не подводит. В госпитале.
Грушевский рассказал нам историю, которая неопровержимо убедила всех в том, что в дни войны березовый сок в самом деле был несравненно слаще нынешнего.
История эта показалась мне любопытной, и, вернувшись домой, я решил записать ее.
…Госпиталь, где лежал Грушевский, находился в Канатине — маленьком городке, затерявшемся среди дремучих лесов. Фронт обошел его стороной, но «юнкерсы» и «мессеры» не забыли о существовании городка.
Госпиталь следовало уже давно эвакуировать, но дороги были кругом разбиты, и эвакуация откладывалась с недели на неделю. Бомбежки между тем все усиливались. Бомбили не только Канатин, но и деревни вокруг него. Все больше становилось раненых — через леса их доставляли сюда партизаны. А подвоз продуктов почти прекратился. На улицах городка уже встречались отощавшие, теряющие последние силы люди. Голод начал добираться до госпиталя. Даже о «шрапнели» тут мечтали как о самом изысканном блюде.
Шефы, пионеры единственной школы Канатина, стали появляться в палатах все реже — с пустыми руками идти кому охота, а что принесешь, если на дверях магазина висит ставший уже красным от ржавчины замок? Последние дни шефов вовсе не стало видно. Раненые хотели уж послать за ребятами кого-нибудь. Приходите, мол, так, ничего нам от вас не нужно. Просто так приходите, безо всякого.
Словно подслушав этот разговор, шефы наконец объявились. Вид у ребят был очень странный, словно у заговорщиков. Каждый из них нес перед собой осторожно, как хрустальную вазу, зеленую бутылку.
У одного из бойцов даже озорная мысль шевельнулась:
— Да-а… Оно конечно, неплохо бы разговеться сейчас по маленькой или по большой еще лучше, но ведь с неба горилка не свалится.
Шефы по причине своего возраста солдатской шутки скорее всего не поняли.
— Мы вас поздравить пришли. Можно?
— Поздравить? С чем же? Сводку слушали нынче. Обратно вроде не особо веселая.
— С весной поздравить хотим.
— С весной?..
— Да, наступила уже. Мы все утро в лесу были. Вот, посмотрите.
Бутылки с березовым соком одновременно, как по команде, встали на всех тумбочках. Ребята народ пунктуальный, обстоятельный, у них всегда все точно рассчитано, каждому раненому по бутылке соку досталось.
— Пробуйте. Сил набирайтесь.
Бледные, худые, в чем только душа держится, мальчишки сказали все-таки именно эти слова. У солдат — комок к горлу. Даже самый красноречивый из них, Иван Богма, и тот провел рукавом рубахи поперек лица, ничего не ответил шефам.
Ребята в смущении тоже молчали. Первым все-таки Богма нашелся:
— Тю! А ведь верно, весна! Зараз и сводки кращще будут. Вот побачите! С такими хлопцами… — Он раскинул руки так, словно хотел обнять всех вместе, и шефов, и раненых, и было только непонятно, к кому относится это его «с такими хлопцами» — к ребятам или к бойцам. Скорее всего и к тем и к другим одновременно. — С такими хлопцами!.. — опять и опять восклицал Богма и не заканчивал фразы, будто вспоминал и никак не мог вспомнить начало какой-то песни.
Долго в тот день не могли угомониться раненые. И поздно вечером, когда ребята давно ушли, Богма все напевал себе что-то под нос, тихо-тихо, еле слышно. Мелодия была украинская, но слов никак не разобрать — только по движению губ догадывались:
С такими хлопцами…Березовый сок был почти прозрачный, удивительно сладкий и чуть-чуть опьянял каким-то неуловимым мартовским хмелем. Отхлебывали солдаты, и у них вроде в самом деле настроение подымалось. Каждый, конечно, по дому взгрустнул, не без этого, а если на войне про дом вспомянешь хоть на минутку, у тебя непременно откуда-то новые силы берутся, даже если весь ты израненный. Становится грустно-грустно, но в то же время так хорошо на душе, что раны сами собой зарастают.
Когда Богма уже перед самым отбоем затянул вполголоса свою любимую, ему подтянули все — и те, кто знал украинский, и те, кто от Богмы начинал привыкать понемногу к певучим, ласковым, неповторимым словам:
Садок вишневый коло хаты…Только утром в палате все с удивлением заметили, что Богма, оказывается, к березовому соку и не прикоснулся, — его бутылка нетронутая стояла на тумбочке, а хозяин ее задумчиво глядел в окно, через которое ломилось в госпиталь солнце.
— Иван! Богма! Чего же ты? То «с такими хлопцами», «с такими хлопцами», а то… Брезгуешь, что ли?
— Та шо вы, сказились?
— Ну, так в чем же дело?
— Ни в чем.
— А все-таки?
— Надо ж було кому-то с нас одну бутылку для экспертизы оставить? Нехай моя будет.
— Как — для экспертизы?
— Так, для экспертизы. Сок вам понравился?
— Спрашиваешь! Сладкий, высший сорт!
— А теперь подумайте: вы пили когда-нибудь такой сладкий, а?
— Конечно, пили.
— Ну и брешете.
— Ты что сказать хочешь?
— Я? Ничего. Мэдыцына нехай скаже, а я послухаю. — Богма поглядел на свои часы, взял с тумбочки бутылку с соком и исчез за дверями палаты.
— Чудной все-таки этот Иван Богма, — проворчал кто-то, когда стихли его быстрые шаги в коридоре.
— Да-а… — отозвалось сразу несколько голосов. — Чудней просто некуда.
Богмы не было все утро. За это время чего только не передумали бойцы, но ни к какому более или менее правдоподобному предположению прийти так и не смогли. Даже спорить устали. Совсем растерялись, увидев Богму на пороге палаты в окружении врачей и сестер.
— Слухайте сюда! — торжествующе гаркнул Иван прямо с ходу. — Кто прав оказался? Я? Или вы? А ну, скажить им, доктор.
Главный врач не смог скрыть набежавшей улыбки.
— Товарищи, Богма совершенно прав. Мы вот только что анализ закончили. Все подтвердилось.
После такого объяснения окончательно переполошилась вся палата:
— Какой анализ? Что подтвердилось?..
Главный врач опустился на край ближайшей к нему койки (этого он никогда раньше не делал, ни при каких обстоятельствах), поправил очки и сказал:
— Одним словом, повезло вам на шефов, товарищи. Крупно повезло. Месячная норма их сахара в этом березовом соке! Самого настоящего, свекловичного. Точно вам говорю, лабораторным путем установлено.
— Быть такого не может!..
— Может! — вмешался Богма. — Может, может, может!
— Загадки какие-то! — загалдели во всех углах палаты. — Ни черта не поймешь! И где взять эту «месячную норму»? Магазин-то с каких пор не работает?
Тут в разговор вступила молчавшая до сих пор медсестра Варя. Шагнула вперед робко, но сказала необыкновенно решительно:
— Работает. Больше месяца на замке был, а вчера открыли и весь день выдавали селедку и сахар. Я в город ходила, сама видела. Мальчишки ваши чуть ли не самыми первыми были. Их сперва не хотели пускать без очереди, потом пустили. «Ладно, говорят, дайте им, если не врут, что шефы!»
Вот какую историю, возвратившись в тот мартовский день из леса, записал я со слов Грушевского. Точь-в-точь записал все, как было рассказано.
Голубиный мост
Боржоми… Гул снежных обвалов разбудил горожан весенней ночью. Кура выплеснулась из каменных берегов и покатилась по улицам города, смывая все на своем пути.
Люди не успели перебраться в безопасные места — новая страшная угроза: нависшая над Боржоми Квибисская гора сдвинулась с места и поползла вниз…
Боржомцы начали неравную борьбу со стихией. А на помощь им со всех сторон Грузии уже спешили шахтеры, водолазы, взрывники. И, конечно, солдаты. Инженерные войска Закавказского военного округа. Они-то в конце концов и решили успех разыгравшейся битвы. Взбесившуюся гору расстреливали в упор из пушек. Снаряд за снарядом вколачивали артиллеристы в гигантский оползень. Каким-то чудом пригвоздили его к месту, сбалансировали потерявшую равновесие громадину.
Восстанавливать разрушенное принялись сразу же, не откладывая ни на час. Сквозь шум реки зазвенело железо о камень. Даже дети и глубокие старцы искали себе работу.
Первым делом надо было навести мост через Куру. Прежний висячий смыло, даже следов от него не осталось. А река, хоть и входила опять в свое русло, продолжала греметь и пениться ледяной водой.
Чтобы приступить к сооружению моста, требовалось прежде всего перекинуть канат с одного берега на другой. Но расстояние оказалось слишком большим, смельчаков же, бросавшихся вплавь, сносило течением.
Выручил один мальчишка. Подошел к самому краю обрыва, поглядел вокруг деловито и спросил:
— Мост на старом месте строить будем?
Боржомцы уверяют, что он точно так и сказал — не «будете», а именно «будем».
— Предположим, — отозвался инженер-строитель. — А что? Ты мастер? Да?
— Нет, вы скажите сначала, где будем строить?
— Здесь будем строить, — ответил инженер, делая ударение на слове «будем», чтобы передразнить мальчишку. — Ты первым строителем хочешь стать? Так, что ли?
— Зачем я?! — воскликнул тот и подбросил над собой сизого голубя, который не раздумывая полетел прямо через Куру.
Толпившиеся возле инженера горожане не сразу заметили, что к лапке голубя была привязана тонкая шелковая ленточка, а когда сообразили, в чем дело, птица уже достигла противоположного берега. С помощью этой ленточки стоявшие там люди перетащили через реку крепкую веревку, на веревке вытянули канат…
Об этой истории я узнал из газеты. А недавно сам побывал в Боржоми, шагал по новому мосту, любовался им. Он гудит на ветру, натянутый над рекой, как струна. Гудит и чуть-чуть вздрагивает, словно вспоминает, что случилось здесь той грозной ночью.
А голубь все еще продолжает удивительный свой полет над белопенной водой: боржомцы отлили из бронзы его фигурку и укрепили над мостом.
Мост теперь Голубиным зовется.
Я пробовал найти хозяина голубя — куда там! В каждом дворе мне показывали своего мальчишку и своего голубя:
— Смотрите, глядите, каков он, наш герой! А голубь? Красавец, да и только!
Ночные огни
Окна нашей квартиры обращены к фасаду огромного восьмиэтажного здания. Это общежитие нескольких московских институтов — авиационного, нефтяного, медицинского. Я всегда с большой симпатией относился к его населению — дружный, веселый, трудолюбивый народ! Но с некоторых пор начал проникаться к моим соседям особым уважением.
Проснулся как-то ночью, подошел к форточке глотнуть морозного зимнего воздуха и вижу такую картину: все окна общежития освещены, все восемь этажей пылают таким ярким пламенем, что им залиты и сквер, и улица, и даже моя собственная комната.
Ну, думаю, проспал! Вся Москва уже давным-давно на ногах.
Беру будильник, чтобы встряхнуть его как следует, но он, оказывается, ни в чем не виноват и по-прежнему служит мне верой и правдой — пружина боя заведена до отказа, ножницы стрелок аккуратно выстригают секунды и минуты, а времени в общей сложности всего-навсего четыре часа утра…
В полном недоумении звоню в общежитие, своему знакомому коменданту:
— В чем дело? По какому случаю такая иллюминация?
Он отвечает заспанным и даже немного сердитым голосом:
— Это не иллюминация, а сессия. Спи себе спокойно.
Именно с этой-то ночи я и потерял всякий покой. Стал, как старик, просыпаться и в два, и в три, и в четыре часа. Встану, подойду к фортке, чтобы набрать побольше кислорода в легкие, а сам не то машинально, не то сознательно считаю: сколько опять окон светится? И никак не могу сосчитать: в одном погаснет огонь — в двух других вспыхнет, в тех двух угомонятся, лягут спать ребята — им на смену подымаются другие…
И так все время. Сегодня сессия, завтра сессия, послезавтра сессия. Долго ли еще будет она продолжаться?
Снова звоню коменданту. Он терпеливо разъясняет:
— Это не сессия, это диплом. Спи, дружище.
Сегодня диплом, завтра диплом, послезавтра… Когда же, думаю, они, горемычные, защитят его?
А мой старый знакомый комендант опять «вносит ясность»:
— Это вовсе не диплом. Это заочники понаехали. Досыпай свое.
И так каждую ночь. Только один раз заметил я, что работяги наши, переделав наконец все свои дела, спокойно уснули сном праведников — ни огонька в их доме, ни блесточки!
— Сегодня-то уж твои подопечные отсыпались на славу, — доложил я утром коменданту, встретив его у газетного киоска.
— Не думаю. На новом месте всегда человеку плохо спится, особенно первые дни. Они ведь только что все на целину укатили.
Однако затишье длилось недолго. Примерно через неделю опять засияли все восемь палуб идущего в ночи корабля…
Снова стал я считать спросонья его бесчисленные огни. И скажу по совести — не было еще у меня в жизни такого радостного беспокойства. Чувство это начинает, кажется, передаваться и коменданту. Во всяком случае, он теперь почти совсем не сердится, когда я поднимаю его с постели, и, по-моему, даже чуть-чуть улыбается сквозь неожиданно прерванный сон.
— Это опять ты? Здоро́во! А у меня пополнение — студенты из стран народной демократии прибыли. Все как один полунощники вроде наших. Теперь, почитай, будет все сразу — и сессия, и диплом, и остальное-прочее: вишь, как смолят всю ночь. Но я не протестую — такое уж у них дело. А ты все-таки спал бы себе да спал. До утра ведь еще далече.
Но разве можно уснуть в такую ночь?
Вот и мои окна льют свой прозрачный, теплый свет на тихую московскую улицу.
Я тоже сажусь за работу.
Стюардесса
Бог знает куда забрался этот самый Гарм! Мы все бока отлежали, покуда последний раз скрипнули тормоза «Среднеазиатской стрелы». Но Гармом тут еще и не пахло. Отсюда до него лежал путь облаками.
Ближайший самолет уходил только через двадцать часов, но мы, честно говоря, даже не очень расстроились: в такой дороге двадцатью часами меньше, двадцатью больше — какая разница. По-настоящему приуныли мы, увидев этот самолет — потрепанный, облупившийся рыдван образца одна тысяча девятьсот неизвестно какого года. Весь в швах и заплатах, весь на живую нитку.
Нас было семеро, пассажиров. С нехитрым багажиком и то едва втиснулись в узкое алюминиевое чрево. Поднялись кое-как. Летим. Кидает так, будто вовсе не крылья по воздуху, а колеса по валунам. Настроение все больше портится. И вдруг происходит чудо. Из-за шторки, отделяющей нас от кабины летчика, появляется тоненькая, веснушчатая, лет восемнадцати девочка и голосом куда более прекрасным и торжественным, чем у любой стюардессы на самой знаменитой международной линии, говорит:
— Товарищи пассажиры! Командир корабля и экипаж приветствуют вас на борту нашего самолета! — Бережно оправляет белую, немыслимо белую для всей этой обстановки кофточку и не менее торжественно произносит: — Высота тысяча триста метров. Скорость сто восемьдесят километров в час. Температура за бортом минус пятьдесят два градуса. Продолжительность рейса три часа сорок пять минут. — И почти без всякой паузы, с чувством собственного достоинства: — За всеми справками, со всеми просьбами обращаться ко мне. Бортпроводница Котенкина… — Белозубо улыбается и добавляет: — Люся…
Может быть, кому-нибудь это покажется невероятным, но именно с той самой минуты кончается чертова наша болтанка между небом и землей. Мотор начинает гудеть ровнее, спокойнее. Крылья перестают трещать и грозить катастрофой. Все вообще идет совсем по-иному.
Мы и не замечаем, как проскакивают эти «три сорок пять». Мы готовы лететь еще сколько угодно. При любой температуре за бортом.
Матвеич
Костромина, одного из старейших верстальщиков нашей типографии, знали в редакции все и по имени, и по отчеству, но величали его только Матвеичем. Это повелось как-то сразу, и старик нисколько не обижался на такую нашу фамильярность, ему даже нравилось, когда дежурный по номеру, стараясь перекрыть шум работающих машин, кричал на всю типографию: «Матвеич, тисни четвертую!»
Не знаю почему, но имя это как-то особенно шло к старику. Казалось, что никто и никогда в жизни иначе и не называл его и что никогда не откликался он ни на какое другое обращение.
Даже когда он умер и мы провожали его в последний путь, на траурном митинге кто-то сказал в нарушение всех правил и обычаев. «Спи спокойно, наш дорогой Матвеич…»
У этого человека было очень много друзей. Слово «было» здесь даже лишнее. У него очень много друзей.
Сегодня ровно три года, как он ушел от нас. Вечером на Беговой улице соберутся самые близкие ему люди, и в большой комнате станет тесно. Я знаю, каждый из нас будет говорить о Матвеиче что-нибудь очень хорошее, и вовсе не потому, что о покойниках худого не говорят, — так уж как-то само собой получится.
Я тоже отложу сегодня все дела и поеду на Беговую. Мне хочется рассказать друзьям историю, слышанную мною от одного старого наборщика.
…Когда летом 1936 года смертельный недуг окончательно приковал к постели Горького, врачи начали составлять для печати официальные бюллетени о состоянии его здоровья.
Случилось так, что первое же сообщение врачей шло в «Правде» как раз в тот день, когда ее верстал Матвеич. Он прочел краткий, но выразительный текст в мокрой, только что оттиснутой полосе, сдвинул на лоб очки и побежал к секретарю редакции.
— Товарищ секретарь, этого нам печатать нельзя!
— Как нельзя?
— Так, нельзя. Я знаю Алексея Максимовича. Каждый свой день он начинает с чтения «Правды». Читает ее всю — от первой до последней строки. Вы представляете себе, как подкосит его это сообщение?
— Какое же решение вы предлагаете, Матвеич?
— Это не мое дело — решать, но сказать я обязан. А если хотите, есть и предложение. Надо для Алексея Максимыча печатать отдельную «Правду». Не простая это штука, но можно делать один экземпляр, в котором вместо бюллетеня была бы заверстана какая-нибудь заметка, ну вот хотя бы о том, как идет строительство новой домны.
Секретарь обещал подумать, посоветоваться с начальством, а утром Горький в «своей» «Правде» на том месте, где должен был стоять бюллетень, читал информацию собкора по Донбассу о том, что сооружение новой домны в Ясиноватой приближается к концу.
И Горькому стало лучше.
Он даже чуть-чуть улыбнулся.
Да, да, Матвеич знал это совершенно точно — он улыбнулся!
4
Журавли над Москвой
Осень наступила.
Сегодня в прозрачном московском небе проплыли построившиеся в треугольник журавли. Проплыли медленно, на ходу выравнивая строй, несмело набирая высоту, отряхивая с крыльев последние песчинки земли и роняя пушистые перья.
Ученые утверждают, будто журавли летят так медленно потому, что хотят сэкономить силы: впереди тысячи и тысячи километров, в пути встретятся бури, снежные тучи, над океаном стая не раз войдет в многоярусную полосу плотного тумана, крылья покроются грозной ледяной коркой, станут тяжелыми и жесткими, на них уже нельзя будет лететь — только планировать, выискивая хоть маленький клочок суши, хоть мачту корабля, где можно было бы перевести дух.
Все это верно, но в то же время достаточно ли верно все это?
Дай-ка я мысленно поднимусь по ступеням невидимой лестницы, приближусь к колеблемому ветром строю уже высоко взмывших птиц и постараюсь, поглядеть на них в полете, с самого близкого расстояния. Ведь с земли все разглядеть невозможно.
Поднимаюсь. Гляжу в упор.
Вот вожак. За ним — крыло в крыло — его верные товарищи. Крылья каждого движутся как руки опытного пловца — вверх идут заторможенно, расслабленно, зато опускаются с большой силой, энергично, так, что даже слышен свист рассекаемого воздуха.
И все-таки эта обращенная к югу стрела перемещается и относительно земли, и относительно вот этих облаков в самом деле совсем-совсем медленно. Иногда даже кажется, что она замерла на месте или вот-вот остановится.
«Ученые правы», — думаю я и хочу уже возвращаться на землю, как вдруг встречаюсь взглядом с вожаком журавлиной стаи.
Еще никогда в жизни не приходилось мне видеть таких глаз! Они раскрыты так широко и светятся такой щемящей тоской, какой я не встречал еще ни в чьих глазах на свете.
И вот что меня поражает больше всего: вожак не мигая смотрит только вперед, за дымку горизонта, остальные, тоже не мигая, глядят вниз, окидывая долгим, пристальным взглядом, может быть, в последний раз проплывающую под крыльями землю.
Поэтому-то они и летят так медленно!
Ученые правы самое большое наполовину: надо очень любить эту землю, чтобы расставанье с ней было таким трудным.
…Треугольник журавлей долго висит над осенней Москвой. После того, как он скроется из виду, к твоим ногам упадет несколько перьев. Я не боюсь прослыть слишком сентиментальным и хочу подать тебе один совет — собери эти перья и зашей их в подушку своего ребенка.
Калитвинский лес
Приходилось ли тебе когда-нибудь наблюдать, как идет надстройка зеленых этажей у маленьких островерхих елочек и сосенок? Каждый апрель — по этажу, каждую весну — новый неудержимый скачок вверх. Конечно, так растут, так рвутся к солнцу не только юные деревца, но пока они не забрались слишком высоко, пока они тебе по пояс, по грудь, по плечо, ты можешь следить за их ростом особенно пристально — буквально за каждым движением.
В нашем молодом лесу много таких деревьев. Бродить среди них, повсюду слышать шум этой стройки для меня всегда праздник: где еще можно воочию увидеть такое цветение жизни, так наглядно представить себе силу союза нашей земли?
В лесу человеку легче, вольготнее дышится. Еще бы! У меня, например, как только я попадаю в лес, веселее становится на душе. Тверже и уверенней ступаешь по земле, способной родить и растить таких богатырей и красавцев, как наши ели и сосны! Многим из них предстоит в жизни выйти в большое плаванье, вынести бури и беды, поднять еще выше флаги родной страны, пронести по многим морям и океанам ее паруса и сигнальные огни.
Об этом я всегда думаю, приближаясь к нашему Калитвинскому лесу после долгой разлуки.
Сойдешь с вечернего поезда, скатишься по крутой песчаной насыпи, взбежишь на курган — и пред тобой в сотый, в тысячный раз встанет лес таким, будто ты видишь его впервые в жизни:
…Ветер раскачивает высокие, стройные мачты. Они слегка поскрипывают на свежем ветру, даже гнутся под его резкими порывами, но никакой ветер не в состоянии их сломать.
А тут еще откуда ни возьмись чайки! Как они сюда залетают, не знаю, знаю только, что это мне очень нравится: лес, оглашаемый их резкими, летящими криками, еще больше становится похожим на флот, готовый двинуться в дальний путь.
Я уже слышу, как гремят якорные цепи, как поскрипывают тугие канаты лебедок, как тяжело трутся друг о друга выпуклые, просмоленные борта судов всех размеров и классов, как по трапам закатывают в них последние бочки с пресной водой…
Конечно, это все лишь плод воображения, но именно такие образы рождаются в моем сердце всякий раз, как я сойду с вечернего поезда, скачусь по крутой песчаной насыпи, взбегу на курган и предо мной в сотый, в тысячный раз встанет наш лес.
Я сегодня, как десять лет назад, вижу его будто впервые, будто я сроду еще в нем не бывал.
Тропинка
Я часто живу в деревне в одном из самых живописных уголков средней полосы России.
…Чистые речки, задумчивые зеленые озера, лесные поляны, до краев наполненные солнцем, грибами и земляникой. Есть где побродить, где остаться наедине с самим собой, есть что показать приезжему, еще не бывавшему здесь человеку.
И когда ко мне нагрянет в гости кто-нибудь из друзей, я немедленно тащу его в эти леса, в эти поля, к этим чистым и светлым родникам, будто с гордостью показываю ему свой собственный дом, где все еще не обжито, но все уже дышит теплом настоящего человеческого счастья.
…По дну таинственного оврага вечно куда-то торопится студеная Вертушинка. На опушке дремучего Глуховского леса возвышается знаменитое кресло Берендея — семейство берез, выросших из одного корня и образовавших стволами гигантский трон сказочного царя. В зарослях ивняка за Ликановым логом в любой день и час можно встретить лосей, гордо несущих на высоко вскинутых головах короны роскошных рогов.
Но больше всего я люблю показывать новому человеку даже не эти достопримечательности, а одну юркую лесную тропинку, которая мне дороже всех красот природы.
Она бежит напрямик, через овраги и болота, перепрыгивая через сваленные грозой стволы старых деревьев, крадется по шатким жердочкам, повисшим над глубокой водой лосиного водопоя, скачет на одной ножке по плоским камешкам Бабьего ручья, скользит по зыбкому льду первых заморозков, вязнет в глубоких сугробах января, топает по синим лужам марта.
В жару и в холод, днем и ночью бежит тропинка, аукаясь и рассыпаясь смехом, играя в чехарду с разбросанными в лесу валунами, затевая «салочки» с березками и кленами. Бежит и похлопывает ладошками по звенящим стволам деревьев. На секунду остановится, как бы прислушиваясь к лесной тишине, перекликнется с кукушкой разок-другой — и снова в путь: с горки на горку, с камня на камень…
Эта тропинка связала между собой две деревни — Глухово и Вертушино.
Есть и другие дороги для тех, кому надо попасть из одной деревни в другую. Можно, например, добраться проселком — пешком или на попутной полуторке (стоит только вовремя «голоснуть», чтобы шофер успел остановить машину). Но трудно найти путь из Глухова в Вертушино удобнее и лучше, чем эта веселая, скачущая тропинка. Протоптали ее глуховские ребята, которые каждое утро торопятся в школу, расположенную в Вертушине.
Всегда торопятся, всегда опаздывают и всегда приходят вовремя…
Вот и сегодня издалека можно услышать над лесом гомон их быстрой стайки. Они спешат, наверное, снова опаздывают и, конечно, опять прибегут вместе со звонком. За плечами у них туго набитый книжками ранец, на шее пионерский галстук цвета зари, над головою ветер шелестит листвой осенних берез и кленов.
Сейчас ребята войдут в школу, сядут за парты, раскроют книжки, и молодой учитель будет рассказывать им о том, что прямая линия — это кратчайшее расстояние между двумя точками.
Я могу поручиться — это совершенно верно: на узкой лесной тропинке, ведущей из Глухова в Вертушино, есть следы и моих башмаков. Между нашими деревнями нет пути короче и прямее, нет пути прекраснее!..
Тамара, Левка и я…
Когда мы учились в седьмом классе, у нас были очень сложные отношения. Я, наверное, уже был влюблен в Тамару. Она, не без оснований считая меня своим самым близким другом, рассказывала мне, что обожает Левку. А тот, совершенно ни о чем не догадываясь, всегда при нас громко вздыхал, глядя на Светку Павлову…
Я все чаще и чаще начинал задумываться над тем, как бы мне совершить какой-нибудь героический поступок. Пусть не на глазах у Тамары, но так, чтобы слух о нем рано или поздно все-таки дошел до нее.
Когда в городе случался пожар, я на своем гоночном велосипеде катил к месту происшествия следом за брандмайором. Я мечтал первым ворваться в горящий дом, вынести из огня ребенка или спасти старуху, но к моменту моего прибытия все люди и даже звери уже бывали спасены, и мне оставалось таскать багром какие-то громоздкие тлеющие корзины со звенящей рухлядью.
— Ты что, вчера на пожаре был? — ехидно посмеивалась Тамара на другой день.
— Был.
— Ну и как? Опять самовары спасал?
— Я вместе с пожарными ехал…
— Эх, ты! Вместе с пожарными! Вот если бы Лева…
Всегда этот Лева оказывался между нами. Я несколько раз даже давал себе слово поссориться с ним, но ничего из этого не выходило. Он и знать не знал о моих терзаниях и всегда широко, безоблачно улыбался, если я пробовал завести с ним разговор о Тамаре.
— Тамара? Она подарила мне самую редкую и красивую марку — синюю гвинейскую треуголку со штемпелем. Одного только не могу понять — почему она не дружит со Светкой?..
Не найдя у Левки ни сочувствия, ни поддержки, я снова и снова ждал возможности отличиться. В самых неожиданных ситуациях искал я подходящего случая. Даже на уроке литературы, когда было задано сочинение на вольную тему, я написал, например, о том, как довелось мне побывать у военных моряков и с борта крейсера «Парижская коммуна» в водолазном костюме спуститься на самое дно Черного моря.
Вечером, встретив меня на набережной Сейма, Тамара оставила подруг, быстро подошла ко мне и сказала сердито, но, к счастью, негромко такое, от чего у меня похолодело сердце:
— Даже девчонки знают, что «Парижская коммуна» не крейсер, а линкор. И вообще ты страшная тюря.
Я никогда с ней не спорил: видно, и вправду родился я таким невезучим.
Но однажды во время каникул мне все-таки посчастливилось: я с Левкой попал в Севастополь, к нашим новым шефам морякам — и воочию убедился в том, что «Парижская коммуна», которую я считал рядовым крейсером, в действительности была линейным кораблем самого первого класса. В составе ее команды мы даже приняли участие в больших летних маневрах флота и вместе со всеми получили благодарность контр-адмирала за отличное выполнение боевой задачи.
А когда человеку в первый раз повезло, ему обязательно повезет и во второй. Шефы познакомили нас со своими друзьями подводниками, и на «амфибии» я и в самом деле погрузился в морские глубины.
— Ты что, верно, на подводной лодке плавал? — спросила меня Тамара в первый же день сентября, когда мы снова рядом уселись за партой.
— А что?
— Как это что? Ты же самый настоящий герой!
— Мы вместе с Левкой спускались…
— Ну, за него-то я не беспокоюсь, он все может, а вот ты… молодец.
Она сказала это так, что я не знал, огорчаться мне или радоваться. И я опять промолчал.
На другой день, как и после того злополучного сочинения, мы с Тамарой снова столкнулись нос к носу на берегу Сейма. Она остановила меня и отвела в сторонку.
— Ты не сердись. Тебя и Леву у нас серьезно теперь все героями считают. Я горжусь вами.
Тут-то мне и высказать бы ей все, что накипело у меня на сердце. И про себя, и про нее, и про Левку. Но язык мой никогда в жизни не был еще таким сухим и тяжелым. Я пробормотал:
— Мы решили стать моряками — уезжаем в училище. Лева тебе не рассказывал?
Мы стояли с Тамарой, опершись о чугунную решетку набережной, глядели в глубокую и быструю воду Сейма и невзначай встретились взглядами в зыбком зеркале волны как раз в тот самый момент, когда к нам тихо подкрался Левка и крепко обнял обоих за плечи.
Я до сих пор не знаю, кому улыбнулась в тот миг Тамара — Левке, мне или мыслям своим?
Еще и не такое померещится, когда влюблен.
…Тамара любит Левку.
Сердце Левки томится по Светке Павловой.
Я готовлюсь к новым подвигам на суше и на воде.
Гудят столбы…
Всю зиму гудели телеграфные столбы. Гудели днем и ночью, так пронзительно и так настойчиво, что даже сквозь завывание пурги любому путнику отчетливо слышны были их бегущие вдоль дороги голоса.
Гудели столбы, гудели провода, гудели даже белые чашечки изоляторов — вместе тянули они непонятную мне песню, состоявшую из одного только звука, все время наплывавшего ровными волнами: ююю-ююю-ююю…
— О чем это они? — спросил я как-то соседскую девочку Галю, заметив, что и она внимательно прислушивается к этому гудению, и не только на расстоянии.
Она даже дорожку протоптала через сугроб к одному столбу и каждый раз, направляясь в школу, спешит к нему, чтобы снова послушать. Подбежит, положит аккуратно на снег клеенчатый синий портфель, снимет варежки, откинет золотые косички за спину, тихонько обхватит столб и слушает. Долго-долго, пока не помешает кто-нибудь, вроде меня, нежданным вопросом:
— О чем это они, а?
— А вы разве не знаете?
— Нет.
— Я тоже раньше не знала, а сейчас поняла. Это люди между собой о чем-то очень хорошем говорят. Про это я даже в книжке читала, но там все как-то туманно и неясно, а тут понятно каждому. Вы только послушайте!
В два угловатых прыжка Галя опять добралась до столба, прильнула к нему чутким ухом.
— Очень даже ясно, по буковкам, выговаривают: «Люблю-ю-ю-ю».
— Ну, это тебе просто кажется.
— Нет, не кажется. Я это слово теперь каждый день слышу. — И, помолчав, задумчиво и почему-то застенчиво добавила, низко-низко опустив глаза: — По многу-многу раз. Правда!
Очень хотелось мне немедленно подойти и вместе с Галей услышать чудесную песню столбов, но я ведь уже сказал девочке, что песня эта всего-навсего плод воображения, и снова, теперь уже насмешливо, повел плечами.
— Чудная ты, Галка.
Все, однако, оказалось не так просто, как я думал. На другой день, выйдя на улицу, совершенно неожиданно для самого себя, я вдруг круто свернул на узкую Галину дорожку, пробрался к столбу, приложил ухо к гладко выструганной поверхности и… замер, как завороженный.
Я услышал уже не бессвязное и непонятное мне прежде бормотанье металла, фарфора и дерева — грудной, чистый человеческий голос немножко нараспев и действительно очень ясно, четко, все громче и громче выговаривал: «Люблю!»
Голос этот показался мне удивительно знакомым. Где и когда я слышал его? При каких обстоятельствах?
Сразу никак не мог припомнить.
И вот что еще меня поразило. Круглая боковинка у дерева была совсем теплая, почти горячая — как щека у человека. Может быть, это первым весенним солнцем ее так прихватило? А может быть, за минуту до меня Галя опять стояла и слушала здесь голос своей грядущей любви? Не знаю. Может быть, даже и так.
Я оглянулся по сторонам: не наблюдает ли кто-нибудь за мною с усмешкой и ехидцей? Никого поблизости не было видно, и я вздохнул с облегчением.
Впрочем, свидетели были. Стройная елочка в двух шагах от меня на ветерке шарила зеленой лапкой по синему талому снегу. Вид у нее был такой, будто она уронила невзначай иголку и хочет отыскать ее в глубоком, рыхлом снегу.
Я подумал: обязательно найдет!
Еще несколько таких дней, как сегодня, — растащат ручьи снег во все стороны, и непременно отыщется елочкина иголка!
И еще я увидел: далеко за деревней по узкой, начавшей чернеть колее входил в лес человек и низко нагибал голову, чтобы не задеть ветвей, дружно обвисших под тяжестью последнего снега.
Это он весне кланялся.
И деревьям, из которых делают гудящие столбы.
Телеграмма
Бывают весны просто веселые. Бывают веселые и задумчивые. Идешь такой весной по лесу и дивишься — март уже наступил, пора бы птицам петь, а они молча раскачиваются на длинных упругих ветвях берез.
Такая весна была, например, в прошлом году.
Какая нынче получится? Пока трудно сказать. До весны еще далеко, но, очутившись в лесу, я уже в феврале прислушиваюсь к его движениям и шорохам.
Узкая лесная тропка скрипит под ногами, как половица в новом доме, и чтобы попытаться уловить первые весенние звуки леса, надо остановиться и некоторое время постоять не двигаясь.
Часто прохожу я этой тропкой — утром и вечером. И все напрягаю слух, ловлю себя на мысли о том, что весна в этом году будет особенная.
Правда, птицы все еще молчат, но поселок наш говорит с самого раннего утра на все более удивительных языках и наречиях. И о чем только не заводит он разговоров!
Где-то глухо и деловито бормочет неугомонная кузня. Новую песню разучивает клуб. Беспрерывно щебечет только что отстроенная почта.
Почтовое отделение разместилось в маленьком деревянном домике на самом краю поселка. Когда идешь мимо, то через распахнутые форточки слышишь трели телефонных звонков и упругие удары штемпельных молоточков.
Скоро на почте будет установлен и телеграфный аппарат, а пока что тексты телеграмм передаются по телефону на какую-то промежуточную станцию. Девушка, прильнув к трубке, громко, внятно, по слогам, чтобы не напутать, читает одну телеграмму за другой. И часто чуть не весь лес становится невольным свидетелем разговора человеческих сердец. Чего только не услышит он, к каким только страстям не прикоснется!
Одна телеграмма быстрее другой, как белка, бежит где-то по самым верхушкам деревьев:
«Возвращайся немедленно, жду…»
«Поздравляю днем рождения, целую, желаю счастья…»
«Буду шестнадцатого четырнадцатым, вагон шесть…»
«Срочно оформляй отпуск, приезжай, хочу тебя видеть…»
Теперь мне понятно, почему здесь так долго не поют птицы — молча раскачиваются на ветвях и слушают. В такие минуты им так же, как и мне, наверно, кажется, что вся Руза влюблена, вся ревнует, вся ждет и встречает, вся клянется в верности и верна. Ей все меньше и меньше идет это название — Старая Руза!
Сейчас зайду на почту и тоже дам телеграмму. Пусть продиктуют ее срочно, непременно при мне.
— Девушка, можно передать «молнию» в Москву?
Через минуту птицы, задумчиво раскачиваясь на ветвях, снова слушают веселый девичий голосок:
— «Срочно приезжай, я жду, я люблю тебя!..»
Убедившись в том, что моя телеграмма передана точно, без каких-либо искажений и сокращений, бережно свертываю и прячу квитанцию, выхожу на улицу и снова углубляюсь в лес. Меня нагоняют чьи-то замечательные слова:
— «Встречай, вылетаю самолетом…»
Может быть, это мне отвечают так быстро?
Ответят и мне! Не напрасно же, в самом деле, у нас в поселке почту построили.
Дорога
Это было в тысяча девятьсот… впрочем, не так уж существенно, когда именно. Важно, что это не выдумка, так уверил меня старик дагестанец, рассказавший, как ехал он однажды в молодости из Гумара в Чумчи по узкой горной тропе, на которой всадники старались не встречаться друг с другом.
— Это одна из самых опасных дорог в горах. То слева пропасть, то справа, — вздохнул старик и задумался.
Как все старые люди, он медлил с рассказом, а мне уже не терпелось:
— Вам, наверно, попадался когда-нибудь встречный там?
— Да. Один раз случилось.
— Ну, и как же вы?
— Я на буланом ехал. Он — на гнедом.
— Ну-ну! — не очень вежливо поторопил я своего собеседника.
— Если два всадника над пропастью съедутся, один должен уступить дорогу другому. Таков древний и мудрый обычай горцев.
История становилась все интересней, но из старика приходилось вытягивать буквально по слову.
— Кто же из вас уступил кому? Вы или он?
— Уступают тому, у кого более важное дело.
— У кого ж из вас важней было?
— Он к другу своему торопился. Железо вез для подков.
— А вы?
— Я на свадьбу к брату спешил.
— Значит, один торопился, другой спешил? Какая разница? Как решили в конце концов?
— Я ему предоставил решать — он намного старше был. У нас в горах все старший решает.
— Прекрасно. Как же он поступил?
— Он сказал: «Я старший, слушай меня. Приказываю, говорит, тебе ехать на свадьбу к брату. Свадьба всегда есть свадьба — самое важное дело на земле после того, когда виноград уже собран. Одним словом, тебе дорога!»
— И что же? — опять не слишком деликатно перебил я своего собеседника.
— Сам понимаешь. Одним добрым конем в тот день на свете меньше стало. Пришлось сбросить ему своего гнедого в пропасть.
— Как сбросить?
— Я же сказал тебе: место узкое, двоим никак не разъехаться, будь они самыми трезвыми людьми на всем Кавказе.
Поняв наконец, в чем дело, я умолк, откровенно говоря, не зная, верить всему этому или не верить.
Старик достал кожаный кисет, и мы закурили. Крепкий табак сделал на минуту и меня чуть ли не горцем, и я спросил в тон дагестанцу:
— Успели на свадьбу?
— Успел. Буланый все слышал, все понял, и к утру я был уже на месте.
Он посмотрел куда-то вперед, за дымку горизонта.
— А уступившего вам дорогу отблагодарили потом?
— За полвека ни разу не встретил его нигде. Горы! Но за мною не пропадет! — Старик улыбнулся, и улыбка на один миг вдруг разгладила все его бесчисленные и глубокие, как пропасти, морщины.
Рассказ был окончен. Я молча сидел против дагестанца и глядел на него словно на какое-то чудо. Он, поняв мое состояние, заговорил первым:
— Ну что? Понравился тебе наш обычай? Только честно давай, душой не криви.
Я ответил совершенно честно:
— Понравился. Жестокий, конечно, но в общем-то справедливый, наверно, обычай. А уж красивый-то наверняка.
— Почему жестокий? Только справедливый! Ты хорошо подумай, дорогой. Сто раз подумай.
Я думал долго. Несколько дней, потом несколько лет. И только сегодня, получив телеграмму от любимой, понял наконец, как прекрасен обычай горцев!
Правда, ехать мне пришлось не в горах, не верхом, всего лишь на поезде и пока что не на свадьбу, но торопился я очень. И все пятьсот километров под стук колес вспоминал рассказ дагестанца. А сам всю дорогу неотрывно смотрел в окно — нет ли встречного поезда: путь из Онежек в Дубну до сих пор у нас одноколейный…
Подсолнухи
Два раза в день проходила Марьяша этим полем — рано утром и под вечер, на работу и домой. И странное дело — с какой бы стороны она ни шла, с запада ли, с востока ли, подсолнухи, миллионы желтых глаз, глядели прямо на нее. Она сперва не замечала этого, а когда заметила, стала проверять, не ошиблась ли. Выйдет чуть свет на крылечко — и первым делом на поле взгляд: смотрят подсолнухи на нее? Смотрят! После рабочего дня возвращается из леспромхоза и уже издалека присматривается к подсолнечному полю: куда там глазеют ее друзья? На нее!
Так продолжалось уже третье лето. Удивлялась девушка и радовалась. Она даже сочинила озорную песенку, и когда знакомая дорожка приводила ее на залитое солнцем поле, пела:
Золо-золо-золо-золотые, Лупо-лупоглазые мои…Марьяша не знала, как она хороша собой, иначе, пожалуй, подумала бы, что подсолнухи просто любуются ею.
Если бы Марьяша захотела, она могла бы, конечно, вспомнить, как учитель на уроке ботаники рассказывал про подсолнухи, которые потому так и называются, что под светилом живут — куда солнце, туда и они головы поворачивают.
Шагает утром Марьяша на запад — солнце светит ей в спину, подсолнухи обращены к ней лицом. Вечером тропка ведет девушку с запада на восток — солнце сидит у нее на загорелых плечах, подсолнухи опять обращены к ней.
Вот и вся загадка! Так объяснил Марьяше и молодой сосед, инженер, недавно приехавший в гости к своей матери. Объяснил все по науке и даже добавил, что после захода солнца головки подсолнухов возвращаются в исходное положение.
— Вот так, смотри, — сказал он и смешно крутнул перед нею рыжим чубом. — Понятно?
— Понятно. Только…
— Что только?
— Как это у них стебелек выдерживает? Тяжело небось, глядишь — и совсем отвертится.
Инженер рассмеялся.
— Не отвертится!
Сказал так, а сам все-таки потрогал рукой свою шею, которая в последние дни начала у него почему-то побаливать, и вдруг покраснел: а что, если Марьяша уже заметила, как он из окошка следит за нею, буквально за каждым ее шагом?
Девушка, улыбнувшись, зашагала прочь, навстречу уставившимся на нее подсолнухам, и снова над полем вспыхнула песня-самоделка.
Марьяша пересекла все поле, ни разу не обернувшись, хотя знала, чувствовала, как вместе с миллионами желтых глаз глядит на нее сейчас еще одна пара — серо-зеленых, еще более пристальных, неотрывных.
Девушка совсем скрылась из виду, а песенка ее все порхала где-то у самого уха инженера:
Золо-золо-золо-золотые, Лупо-лупоглазые мои!Соловьи
В городе моей юности знаменитые на весь мир соловьи. Я слышал их много лет назад, но до сих пор все существо мое переполнено этим щелканьем, этими колдовскими звуками, проникающими в самые затаенные уголки души.
Когда прошлой весной мы приехали в Курск с Иринкой на Майские праздники, я прежде всего рассказал дочери про удивительное искусство лесных певцов. И должен был тут же обещать ей, что не позже как завтра утром она непременно услышит соловьиное пение.
— Только встать рано придется, имей в виду, — пытался урезонить я пыл дочери.
— Раньше, чем в школу?
— Намного! Не проспишь? Проснешься?
— Проснусь, не просплю. Но ты буди меня как следует, не жалей. Ладно?
Это было что-то новое. Обычно в школу спящую красавицу подымали в Москве всей семьей, даже кот Лапка вносил свою лепту в нелегкое это дело, а тут такой энтузиазм — куда тебе! Я, конечно, понимал, что решимости этой не слишком надолго хватит, и все-таки обещал:
— Разбужу, разбужу. Мне и самому охота послушать. Двадцать лет здесь не было.
— Двадцать лет? А это много?
— Много. Очень много! Целая жизнь, можно сказать…
Я расфилософствовался. Но от сознания того, что утром снова услышу зовущий и трепетный голос родного леса, на душе у меня становилось легко и покойно, совсем как тогда, в юности.
Я даже не заметил, как Иринка, утомленная дальней дорогой, уснула, а стрелки часов карабкались уже где-то у самой вершины циферблата.
Сам же я долго не мог уснуть в ту ночь. Сквозь зыбкую дремоту мне уже мерещились далекие всплески соловьиных рулад, я ворочался с боку на бок, прислушивался.
Даже стихи пригрезились — далекие и прекрасные, как сама юность:
Спи, царица Спарты, Рано еще, сыро еще…Наверное, с этими словами я и уснул, предварительно поставив рычажок будильника на предполагаемый час рассвета.
Проснулся я, однако, не по звонку. Кто-то невидимый в темноте молча, но настойчиво тормошил меня за плечи.
Ничего не понимая, я включил ночник на тумбочке. Передо мной стояла моя дочь, уже одетая, по-взрослому сосредоточенная, с узкими щелочками заспанных озабоченных глаз.
— Вставай скорей! Вставай! Они уже начинают! Слышишь?
Я вскочил по-солдатски. В открытую форточку действительно вкатывались первые горошины соловьиного свиста — еще редкие, мелкие, но почти осязаемые.
Через несколько минут мы уже шагали по лесу.
Лист клена
Над Москвой стоит тяжелый, низкий туман осени: город сжигает опавшие листья. Горят костры во дворах, на скверах, прямо на улицах. От горького ветра трепещут ноздри прохожих. Как бы ни торопился человек, все равно где-то на минуту замедлит шаг, прислушается. Кому убежавшее детство припомнится, кто о времени подумает — как быстро оно мчит, только дым голубовато стелется, кто про первую любовь — не очень вроде бы далеко отлетела, а уж поминай, как звали.
Мне всегда грустно осенью. Особенно когда костры.
Дворник, сгребающий облетевшие листья в кучу, чтобы поджечь и спалить их, кажется мне существом равнодушнейшим из равнодушных. Он, конечно, и не догадывается об этом — машет и машет метлой. И растут у меня под окном египетские пирамиды желто-красного шелеста.
Сквозь утренний сон слышу, как ходит метла по асфальту.
Опускаю ноги в холодные, как лужа, шлепанцы, подхожу к занавешенному тюлем окну, вижу привычную картину: дворник сметает листья. Мне хочется крикнуть ему в форточку, чтобы перестал.
С этой мыслью стою у окна. Дворник не слышит меня и не видит. Нагреб очередную пирамиду, отвернул полу фартука, нашарил спички в кармане, но почему-то не запалил. Постоял, посмотрел на листья, закурил папиросу. Курил долго, почти до самых пальцев добрался малиновый огонек, а он все тянул синий табачный дым.
Потом нагнулся и все-таки поджег…
Но в тот самый момент, как пламя охватило обручем весь ворох, дворник еще раз нагнулся и из провалившейся вдруг середины костра энергичным жестом выхватил самый яркий пятипалый лист клена на длинном черенке и, виновато оглянувшись, аккуратно, чтобы не сломать и не смять, положил его за борт телогрейки.
Пламя костра бушевало, как в мартеновской печи. Но дым его, хотя и продолжал слезить глаза прохожих, для меня с этой минуты не был больше таким горьким и удушающим, как прежде.
Синее небо
Собрание в библиотечном коллекторе было скучным. Храмов рисовал синим карандашом чертиков второй час подряд, и они уже заполнили больше половины блокнота. Чертики корчили гримасы, бегали по страницам вверх и вниз, кувыркались, падали.
— А вы, оказывается, художник! — услышал Храмов шепот за своим плечом и обернулся.
Белокурая девушка с любопытством смотрела на его рисунки. Храмов знал девушку в лицо — они иногда виделись на собраниях. Правда, до этого дня не обмолвились и словом, а тут вдруг разговорились.
— Вы, наверно, веселый-веселый человек, — сказала девушка.
— Почему вы решили?
— По этим смешным зверькам.
— Не угадали.
— Очень жаль.
— Почему?
— У меня сегодня такое настроение!
— Какое?
— Все кругом улыбается и звенит!
— Звенит?
— Еще как! Послушайте.
В эту минуту в президиуме резко звякнул колокольчик председателя. Храмов улыбнулся, но снова принялся за своих чертиков. Под его быстрым карандашом они продолжали сказочный танец. Только рожицы их — девушка это отлично видела — были грустные.
— Нарисуйте что-нибудь мне на память.
— Что вам хотелось бы?
— Если можно, небо.
— Небо? — задумался Храмов. — Почему именно небо?
— Смотрите, какое оно сегодня синее! Еще только конец зимы, а уже все васильки мира в нем.
Храмов внимательно поглядел на девушку.
— Вот глаза у вас действительно синие.
— Нарисуйте, прошу вас.
— Глаза?
— Не-бо! От такого неба с ума сойти можно.
Храмов послушно открыл блокнот на чистой странице. Девушка следила за каждым движением карандаша. Храмов чувствовал возле самого уха горячее ее дыхание.
Когда закончил свою речь последний оратор, Храмов вырвал из блокнота листок, испещренный синими завитками, протянул его девушке.
— Только, чур, не ругать — мазня какая-то вместо неба. Но лучше не умею.
Девушка почему-то покраснела.
— А мне нравится, честное слово! Это же замечательно! Спасибо, большое спасибо…
В ту же минуту они очутились в толпе, которая захватила их, понесла к выходу, а потом разъединила, не дав сказать больше ни слова.
Уже вечером, дома, Храмов подумал о том, что он был, пожалуй, не слишком приветлив. Девушка с ее восторженностью показалась ему вдруг необыкновенно красивой, возвышенной, так не похожей на всех, а он, толстокожий увалень, даже не догадался узнать ее имени…
«Ну, ничего, — утешал себя Храмов, — встречал же ее раньше, встречу еще».
С того дня не было среди библиотекарей Москвы более ревностного участника всех собраний в коллекторе, чем Храмов. Каждый раз он приходил одним из первых, чтобы занять именно то место, на котором сидел тогда.
Но белокурая больше не появлялась.
Незаметно наступила и промелькнула весна. Потом — лето с его отпусками. За летом — осень. В самый разгар ее Храмов уехал в длительную командировку. Вернулся только под Новый год. В течение зимы он еще несколько раз бывал в коллекторе, но девушки ни разу так и не увидел.
Когда по московским улицам зашагала еще одна весна, Храмов все глядел на высокое небо и удивлялся: какое оно, действительно, синее и бесконечное…
Так прошло два года. Был опять конец зимы. Храмов сидел в зале библиотечного коллектора, когда почувствовал на себе чей-то взгляд. Он обернулся и вздрогнул. Это была она. Ее волосы были просвечены солнцем, в широко раскрытых глазах отражался уголок синего неба.
— Здравствуйте! — тихо сказал Храмов.
— Здравствуйте, — еле слышно ответила девушка.
— Где же вы были столько времени?
— О-о! Где только не была я…
— Здесь вас, во всяком случае, не было.
— И вы заметили?
— Ну как же! Конечно!
— Я уезжала на Дальний Восток.
— Надолго?
— Надолго. Очень надолго. Мне пришлось уехать вскоре после того дня.
«После того дня! — чуть не закричал от радости Храмов. — Значит, она тоже его запомнила, тот день!»
— А небо-то сегодня опять синее! Вы обратили внимание? — Он посмотрел в уже знакомое им обоим окно.
— Да, пожалуй. Но уже не такое, как в тот раз.
— Облака не в счет! — решительно сказал Храмов. — Я о цвете говорю. Смотрите — синее-синее! Точь-в-точь как тогда!
Девушка опять улыбнулась. Храмов не заметил, что в улыбке ее было что-то задумчивое.
— Не совсем такое. В тот день оно было особенное, неповторимое. Потом такого неба я уже нигде не видела.
— Сегодня точно такое же, уверяю вас!
— Ну что ж, может быть, вы и правы. Но мне все-таки кажется, то сине́е было. Намного сине́е.
— Вот именно — кажется! Тот же февраль на дворе, то же небо над нами. Просто надо вглядеться внимательно, только и всего.
— То было знаете каким? Сказать или не сказать?
— Скажите.
Девушка щелкнула замком сумочки, извлекла из нее аккуратно сложенный листок от блокнота, бережно расправила его на узкой ладони.
— Вот каким было в тот день небо! Узнаете?..
Капля весны
О чем-то задумавшись, ничего не замечая вокруг себя, шагал я по снежной тропке. Шел, шел и вдруг остановился в изумлении: деревья надо мной широко и привольно размахивали ветками, на которых, оказывается, уже набухали почки! А рядом с почками, цепко ухватившись за какую-нибудь рогатинку, кое-где висели огромные капли. Время от времени какая-нибудь из них падала и долго, зигзагами, летела вниз, опираясь на упругий, все время меняющий направление ветер. Долетит до сугроба и сольется с солнцем, выступившим поверх наста. А то и не долетит — растащит ее воздушный поток на мельчайшие частицы, превратит в водяную пыль, обжигающую щеку последним холодком зимы.
Я подумал: а ведь есть же среди этих капель какая-то одна-единственная, с которой начинается настоящая весна?
Мысль эта показалась мне сперва наивной, потом забавной. Шел, насвистывал что-то, а сам все поглядывал на летевшие вокруг меня капли. Может, эта? Или эта вот?..
Воротился из леса промокший, иззябший, но веселый. Такой веселый, каким меня давно уже никто не видел.
— Ты что? В лесу был? — спросила дочь, оторвавшись от книжки.
— В лесу. Заметно?
— С головы до ног! Ну и как, хорошо там?
— Хорошо!
— Нет, ты все по порядку. Я давно в лесу не была. Все уроки, уроки…
Я рассказал Иринке, как бродил по лесу, как, дурачась, долго искал каплю, с которой весна начинается.
— Смешно тебе? Да? Взрослый дядя…
Но дочь посмотрела на меня совершенно серьезно.
— Ты скажи лучше — нашел или нет?
Я развел руками.
— Жаль! — вздохнула Иринка. Помолчала немного и добавила: — И до чего же интересно все в мире устроено!
— Ты о чем это?
— Прошлой весной мне пришла в голову точно такая же мысль, как тебе.
— О каплях?
— О каплях.
— Понятно.
— Нет, не понятно тебе. Я же вижу — не веришь. Почему?
— Может, это просто фантастика?
— Просто мы с тобой очень похожи друг на друга. Вот и все.
— Значит, тоже не нашла?
— А мне вот как раз повезло. Ту самую словила — первую!
Иринка протянула мне руку — вверх узкой, перемазанной чернилами ладошкой.
— Ну что ж, действительно повезло, выходит. Молодчина! Тут, наверное, секрет есть какой-нибудь?
— По-моему, надо вместе искать.
— Вместе?
— Да, вдвоем, например. Мы тогда с Васильком искали. Ходили-ходили весь день и нашли. Помнишь, ты еще рассердился, что поздно пришла? И в таком же виде, как ты.
— А руки вот надо бы хоть изредка мыть, — спустившись с небес на землю, заметил я не очень-то, кажется, к месту.
— В лесу бы сразу отмылись. Можно? На недоложко. Я уроки все сделала.
— А русский язык?
— И русский.
— И музыку?
— Угу.
— Ну, тогда разрешается.
— С Васильком?
— С Васильком, если вы такие шустрые. И если его отпустят, конечно.
— Он давно уже ждет. Смотри!
Я поглядел во двор. Соседский мальчишка стоял под самыми нашими окнами и настойчиво подавал какие-то знаки.
Петухи
С Ниной Жвания я познакомился у своих друзей на подмосковной даче прошлым летом. Нина была художницей и каждое утро отправлялась рисовать пейзажи. Мне с первого же дня пришлось по душе увлечение грузинской гостьи.
Нина выходила из дому еще по росе. Я бодро вышагивал следом, помогая тащить громоздкий брезентовый зонтик, раскладную скамеечку о трех ножках, желтый этюдник, до отказа набитый кисточками и красками.
Рисовала Нина отлично. Беззаботно и весело слоняясь по лесу, я бродил вокруг того места, где расположилась художница, и все время заглядывал через ее плечо на березку, которая под быстрой кистью с каждой минутой становилась все более прекрасной.
— Вам хорошо здесь? — спросил я как-то Нину, залюбовавшись ее работой.
— О! У вас тут чудесная прелесть! — воскликнула художница и вдруг удивленно прислушалась к собственным словам. — Что это я сказала такое? Чудесная прелесть?
— Да, именно так и сказали.
Нина сокрушенно вздохнула:
— Как плохо я говорю по-русски! Такого масла масляного вам, конечно, еще не приходилось слышать?
— Я всю жизнь занимаюсь языком, но впервые понял, что тавтология, в сущности, прекрасная вещь. Просто прелесть!
— Чудесная?
— Чудесная прелесть!
Мы расхохотались так громко, что лес вокруг зашумел, зааукал.
— А что же вам нравится больше всего?
Нина смотрела на меня и молчала.
— Ну, не стесняйтесь, не стесняйтесь, ведь мы же свои люди…
— «…И пусть нам общим памятником будет построенный в боях социализм».
— Вот видите, говорите, что плохо знаете русский, а русского поэта наизусть помните.
— Маяковский все-таки родился в Багдади.
— А вы?
— Я — в Вардзии.
— Это, наверно, очень красивое место?
— Очень.
— Еще красивей Подмосковья?
— Мне трудно сравнивать. Тут все так живописно, так поэтично и ново. А березы, березы!..
— Они-то больше всего и понравились?
— Они, пожалуй, больше всего.
— А еще?
— Смеяться не будете?
— Над чем смеяться? Не буду, конечно.
— Тогда прислушайтесь.
— Я ничего не слышу такого.
— Прислушайтесь как следует.
— Неужели кузнечики?
— Кузнечики тоже хороши. Но дальше, дальше, за лесом… Слышите?
Я напряг слух, но ничего особенно так и не смог расслышать.
— Петухи, петухи! — не выдержала Нина.
— Петухи?..
— Да! Это, несомненно, одна из самых чудесных прелестей Подмосковья.
Я с трудом уловил еле слышимые всплески утренней петушиной песни.
— А ведь в самом деле красиво.
— Правда? Это же настоящая музыка! Жаль, что этого нарисовать невозможно.
— Да, нарисовать это, наверно, трудно. Ну вот, видите, я совсем не смеюсь над вами.
— Это потому, что самого смешного я вам еще не сказала.
— Чего же именно?
— Таких красивых петухов можно услышать еще только знаете где?
— Не знаю.
Нина вздохнула, взяла с меня обещание, что ни в коем случае не обижусь, и наконец убежденно сказала:
— В Вардзии! Уверяю вас, только в Вардзии так божественно поют петухи по утрам…
Плакучая береза
Люблю русский лес — каждое деревце, былинку каждую. Каких только причуд природы в нем не встречал. А вот знаменитой плакучей березы не видал ни разу. Не растет она просто в нашей местности. Хоть тыща верст окрест обойди — не отыщешь.
Но вот попал я как-то в рязанские, есенинские края. От берез белым-бело вокруг, как во время метели. Березы, березы, березы…
— Берез-то тут сколько! А плакучие есть? — спросил я кого-то из встречных.
— Попадаются.
— Вот бы глянуть.
— Слышишь, бабы поют?
Я едва уловил доносившиеся откуда-то издалека голоса.
— Слышу.
— Ступай к ним. Они на поляне за теми вон оврагами. Возле поляны, на обочинке, и гляди березу. У самого края.
Я пошел на звук песни. То затухая, то вспыхивая, она словно дразнила меня. Вот вроде бы близко уже, вот снова отдалилась, почти совсем замерла. Но я все-таки не сбился, дошел в конце концов.
Вижу — действительно поляна и певуньи на ней. Сидят кружочком и тонкими голосами одна перед другой выводят:
Ах, вы, бабы, мои бабы, разведенки, брошенки…Мешать им не решился. Просто стоял, слушал, печальную песню. А конца-края ей не было. Полчаса стоял — все одну и ту же вели.
В этот момент кто-то легонько дотронулся до моего плеча. Обернулся — никого возле нет, только ветка дерева еще колышется перед самыми глазами. Взбираюсь по ней взглядом — встает передо мной во весь рост береза, каких еще не видал. Словно опустила тихо руки свои. Печально так уронила и замерла.
Так вот какая она, оказывается, плакучая-то!
Песня давно отзвенела, растаяла в высоком осеннем воздухе, а я все стоял и стоял. Уходить не хотелось.
Часто потом вспоминал я эту встречу в лесу — и песню, и березу, и пригорюнившихся баб.
А когда снова попал в те края, опять потянуло меня к той поляне. Захотелось свести туда и любимую, которой рассказал, как первый раз в жизни встретил в лесу плакучую березу.
— Плакучую? — удивилась она. — А мне веселиться, смеяться хочется!
И она действительно рассмеялась. Так счастливо, что и без того узкие глаза ее совсем превратились в две щелочки…
Взявшись за руки, мы шли через овраг, через болото, через лес. Добрались наконец до поляны. Все знакомо было мне здесь, как в собственном доме. Тут вот бабы сидели тесным кружком, тут я стоял, слушал их песню.
— А где ж та береза?
— А березы что-то не видно…
— Может, спилили? А это вот не она?
— Это не плакучая совсем. У плакучей ветки книзу, почти до самой земли. Вот так! — Я потянул ветку стоявшего подле нас дерева, изображая, как именно должна она опускаться у плакучей березы. Ветка хрустнула от напряжения, я отпустил ее.
Долго мы бродили и никак не могли отыскать березу.
Может, ветер был виноват? Налетел, раскидал по апрельскому небу веточки, и стали они совсем не плакучими, а веселыми.
Может, бабы? Не пришли, не затянули грустно-заунывной песни.
Может, потому, что сами были мы влюблены той весной? Самозабвенно, без оглядки влюблены друг в друга. Кто знает? Но березы мы не нашли в тот раз. И на другой день не нашли, хотя обшарили все поляны вокруг, все опушки, все обочинки.
Лебяжий камень
М. И. Жигжитову
Лебяжий камень? Лебяжий. Так окрестили его местные жители после одного случая, происшедшего прошлой осенью возле Камышинских озер.
…Солнечная еще стояла пора, но уже холодная. Роса белая выпадала утрами, как соль, а может, и вправду была это соль земли, про которую сказка сложена? Больно уж все в этом северном дальнем краю какое-то былинное, сказочное.
Летела лебяжья стая. Лебеди всегда пролетают над Камышиными озерами, каждую осень. Людям давно бы привыкнуть, но каждый раз все — и старые, и малые — стоят с запрокинутыми головами, пока не скроется из виду птичий, колеблемый ветром строй. А он тихо плывет, притомился в дороге, вот-вот остановится. Иногда и останавливается. Круг за кругом, круг за кругом — и села стая.
Так и в прошлый октябрь. Круг за кругом. Только видят люди — одна птица быстрей других и как-то боком снижается. Правое крыло почти недвижимо, будто повреждено чем-то. Дотянула все-таки до камышей. За нею — все. Дело под вечер было. Ребятишки место то заприметили — и утром, чуть свет, туда. Пробрались сквозь камышевую чащу, смотрят в упор на лебедей, ищут ту, что с перебитым крылом. Отыскать не могут.
Три дня и три ночи просидели лебеди в камышах. Потом снова увидели их в небе. Но прежде, чем покинуть эти места, они целый час кружили над одной точкой.
— Что это? — спрашивали друг друга ребята.
— Айда посмотрим, — сказал кто-то из них.
Снова полезли через частокол камыша. Нашли в зарослях двух птиц, в одной из которых сразу узнали ту, подбитую. Вид у нее был жалкий. Длинная шея распрямилась, припала к воде. Поврежденное крыло развернулось веером — можно было разглядеть каждое перышко.
— Она?
— Она самая.
— Погибает совсем.
— А вторая?
— Не вторая, а второй, — поправил несведущего старший из ребят. — С ней остался, кормить хочет. Гляди-ка…
Лебедь действительно, тоже низко нагибая шею, старался приподнять голову своей подруги, но та все больше и больше клонилась к воде.
Лебедь хрипло прокричал что-то на непонятном своем языке. Ребята хотели подобраться еще поближе, сделать что-нибудь, но старший их урезонил:
— Не тревожьте их. Лучше уйдем совсем отсюда.
На следующее утро над Камышиными озерами снова раздался хриплый, гортанный крик. Ребята сразу узнали голос птицы. Лебедь подымался все выше и выше. Решил, видно, своих догонять. Однако чем пристальнее вглядывались в него с земли, тем больше недоумевали: круги то шире, то у́же, но только над камышами, только над тем местом, с которого в небо поднялся.
— Все ясно, — сказал опять старший.
— Что ясно?
— Никуда не уйдет он отсюда.
— Брось…
— Вот те и брось.
— А как же? Один ведь остался.
— Потому и не уйдет. Уж я это точно знаю, батя рассказывал. Глядите.
Все и без того неотрывно следили за лебедем, а тут до хруста головы запрокинули. На одном из крутых виражей лебедь неожиданно исчез.
— Где он, ребята?..
И вдруг:
— Падает, падает!..
Даже быстрые глаза мальчишек едва поспевали за маленьким, ринувшимся к земле светлым комочком со сложенными крыльями.
Не стало на свете еще одного лебедя.
Теперь каждому, кто впервые появится в тех местах, показывают острый Лебяжий камень, единственный среди камышей и озер.
Если приедете туда и услышите эту историю, не вздумайте удивляться — местные жители свято верят в благородство лебедей и могут на вас обидеться.
Я видел Лебяжий камень. Белые тончайшие прожилки на его отвесном срезе показались мне пушинками с птичьего крыла. Будто на веки вечные вбиты в породу.
Конь
Веселый, огромный, занимающий почти полнеба конь стоял у меня под окном. Я давно любовался им, но долгое время не хотел этого показывать. Все мне чудилось: узнают люди, что конь живет только в моем воображении, — посмеются.
Особенно побаивался я одного соседа по дому, старика. Его окна тоже были нацелены прямо на мохнатое облако ракиты, в котором нежданно-негаданно пригрезились мне черты красавца коня — точь-в-точь как тот, что запомнился мне с самого детства. Орёлик его звали.
Как-то я заметил, однако, что и старик сидит, уставившись слезящимися, очевидно ничего уже не различающими глазами в серебристо-зеленые ракитовые ветви, и думает, думает о чем-то своем, заветном. О чем? Может, тоже молодость вспоминает? Может, сквозь шелест листвы слышатся и ему голоса далекого детства?..
А конь все стоял и стоял, все рыл копытами землю, которая, впрочем, тоже была скорее всего плодом моей фантазии; не видно земли много лет под сплошным серым асфальтом нашей улицы.
И все-таки конь был великолепен! Ветер расчесывал его волнистую гриву, солнце сияло на его крутых, чуть подрагивавших боках, глаза улыбались, губы двигались — ну совершеннейший Орёлик!
Мне было сладко следить за тем, как задумчиво и лениво жевал он облака и звезды, звезды и облака…
Дня не проходило, чтобы не полюбовался я сказочным конем, не провел с ним наедине хоть несколько коротких минут.
За этим занятием и застал меня как-то человек, которого я больше всего боялся. Подошел ко мне на улице неслышным стариковским шагом, когда я думал, что никого поблизости нет, и спросил:
— Вздыхаешь?
Я вздрогнул от неожиданности.
— Нет… Не вздыхаю, а что?
— Да так, ничего. А я вот вздыхаю и день, и ночь.
— Что такое? Обидел кто-нибудь?
— Никто меня не обидел. На ракиту эту вот гляну — душа и займется.
Я не знал, что ответить, как поступить.
— А ты ничего не замечал? Признавайся.
— Нет, — солгал почему-то я. — А вы?
— А я, как бы тебе сказать, молодые годы свои вспомнил. Эскадрон свой, буланого своего. Одним словом, не дерево — конь у меня под окном! Понял? Приглядись-ка. И ушами прядет, и губой шевелит, настоящий Турчак — и только!
Я поглядел на дерево, покрутил головой, будто выбирая лучший угол зрения. Наконец воскликнул:
— А ведь верно, конь! Ишь ты — и морда, и грива, и вообще… Как, вы говорите, его звать-то?
— Турчак.
— Турчак? Очень странное имя.
Старик рассердился:
— Да что ты понимаешь в настоящих конях! Запомни, мил человек: в настоящих!
Именно с этого дня стал разглядывать я своего Орёлика уже без всякой утайки. Люди шли мимо, а я стоял и глядел, сколько душа запросит.
Тем более что у моего Орёлика появился напарник — Турчак. Они теперь двое поджидали меня под окном.
Задумчиво плыли над ними облака и звезды. Но уже не только звезды и облака моего детства — тревожное, наискось раскроенное саблями небо Каховки и Перекопа полыхало над моей головой, когда я глядел на развевающуюся по ветру серебристо-зеленую гриву ракиты.
Скворцы
Весна в наших краях наступает всегда неожиданно. Проснешься однажды утром, а зайчик на стене уже совсем весенний, правдашний.
В этот раз я чуть было не проморгал весну.
— Ну как, все у тебя готово? — спросил как-то отец. — Не сегодня-завтра прилетят.
Я строгал и пилил целую неделю. Утром, до школы, выбежал в сад, выбрал дерево повыше, забрался почти до самой макушки и повесил новый скворечник. Спустился исцарапанный, даже в классе это заметили и весь день не давали проходу:
— Откуда такой? Что случилось?
Но мне не было обидно от этого. Обида пришла потом.
Вернулся из школы, сижу за уроками, а сам в окно на то высокое дерево поглядываю. Вдруг вижу — соседский малый, сорванец, которого мы все Хромым зовем, лезет с топором к моему скворечнику. Я отворил форточку, крикнул в темноту что было сил:
— Оставь, Хромой, слышишь? Не смей, кому говорят!..
Я готов был выскочить босиком на снег (мать только что унесла подшивать мои прохудившиеся валенки), а Хромой, словно зная, что я бессилен помешать ему, спокойно творил свое черное дело.
Я не мог уже ни уроки готовить, ни есть, ни пить, ни даже слова сказать в тот вечер. Только никто не заметил этого: мать воротилась не скоро, и отец, как всегда, запаздывал.
Утром, чуть свет, в подшитых валенках кинулся я в сад. Рядом с моими вчерашними следами в снегу были глубоко впечатаны огромные следы Хромого. Подбежал я к дереву, поглядел вверх и замер от удивления — скворечник был на месте.
Нет, думаю, тут что-то не так. Нашкодил, конечно, Хромой.
Снова пополз по стволу. Те же ветки, только в сто раз больнее, секли мне лицо и руки.
Подобрался к скворечнику и вовсе ничего понять не могу. Висит он оконцем на восток, точно как я его приладил вчера. А снизу голос:
— Ну как? Все в порядке?
Я вздрогнул, глянул себе под ноги и удивился еще больше: задрав голову, стоит у дерева и смотрит на меня Хромой.
— Слезай, — говорит, — приехали. Да не расшибись. Греха с тобой не оберешься.
Я спустился. Хромой деловито похлопал меня по плечу.
— А скворечники, между прочим, надо уметь строить. Чему только в школе вас учат?
— А что?
Он протянул мне ладонь, на которой лежало несколько кривых ржавых гвоздей.
— Вот. Из твоего скворечника вытаскал. Забивать-то надо с умом, не насквозь, а то всех скворцов перекалечишь. Понял?
— Понятно…
— То-то и оно!
Повернулся сердито Хромой и пошел от меня.
Я растерянно посмотрел ему вслед. Черный, поджарый, он сам в ту минуту чем-то был похож на первого весеннего скворца.
Мне даже показалось вдруг, что вовсе он и не хромой — просто неудобно шагать ему по глубокому, вязкому снегу марта.
Скворцы прилетели в тот же день.
Дятел
Он трудился возле моего окна каждый день, с утра до вечера. Кривобокая сосна снизу доверху сотрясалась под ударами его клюва.
Поначалу стук этот мешал мне работать. Я поминутно отвлекался, нервничал, но постепенно привык, как привыкают к ходу даже больших часов, перестают замечать неугомонную возню шестеренок, будто их и не существует вовсе.
Примерно через неделю я уже не реагировал на стук дятла. Зато стал замечать другое: стоило остроклювому остановиться, я мгновенно забывал обо всех делах, распахивал окно пошире, начинал шарить глазом по сосне.
Очень понравилась мне трудолюбивая птица, я пожалел, что так мало о ней знаю. При случае стал расспрашивать про дятла у мальчишек. Удивительные вещи они мне рассказали.
Оказывается, кривобокая сосна — это совсем не обычное дерево. Прежде чем облюбовать ее, дятел облетел весь лес, обследовал несметное множество ветвей и стволов. Ему требовалась «кузница», где можно было бы как следует укрепить сосновую шишку и выколачивать из нее семена. Я сперва не поверил ребятам, подумал — смеются над горожанином, — но потом убедился: они совершенно правы. Притащит дятел шишку, пристроит ее в рогатине половчее — и давай колотить. Кузница заработала! Обмолотит одну — за другую принимается. И так час за часом, день за днем, неделя за неделей.
Мне из окна удобно наблюдать за дятлом. Наверное, еще лучше дятлу видны сверху мои бумаги. Вскоре мне стало казаться, что дятел останавливается вовсе не затем, чтобы передохнуть, а для того, чтобы глянуть разок-другой в мою сторону.
Так прошло целое лето. Перед самым отъездом в Москву я узнал про «кузнеца» такое, во что вообще трудно было поверить.
— Вы знаете, какая профессиональная болезнь у этого вашего дятла? — спросил меня однажды местный учитель, услышав, что я проявляю такой интерес к птице.
— Нет, не знаю.
— Сотрясение мозга. Да, да, не смотрите на меня так, я в энциклопедию заглядывал — точно! Стучит, стучит день-деньской и умирает именно от этого, так сказать, на трудовом посту…
Не знаю, пошутил человек или в его словах была доля правды, но произвели они на меня впечатление ошеломляющее.
Я даже решил по приезде в город проверить все это, а сам с того дня уже не мог нормально работать. Сяду за стол, разложу бумаги, но смотрю не на них — только на дятла.
Как он там? Опять стучит? Стучит, горемычный. Стучит мощно, настойчиво, не жалея времени и сил. Стучит так, что по всему лесу, по всей округе слышны удары клюва о сосну.
Хочешь не хочешь, а сосед, наверное, прав. Гляжу на дятла, на адову его работенку, и постепенно у меня самого голова начинает болеть, ну просто раскалывается на мелкие части.
Встаю из-за стола, иду к учителю за тройчаткой.
Иду, а вдогонку мне неугомонное, почти ни на минуту не прекращающееся:
Тук-тук!
Так-так!..
Белый гусь
На одном берегу Дубны травка цвета свежевыкрашенного пассажирского вагона, на другом сугробы держатся так цепко, что их еще недели две никакие ручьи не растащат.
Долго хожу по скрытому от солнца берегу, с завистью поглядываю через реку, туда, где весна трубит уже в полный голос.
Впрочем, мне все больше и больше нравится именно этот удивительный контраст. Даже река начинает казаться разделенной кем-то надвое: возле нашего берега лед еще почти сплошной толщей лежит, у противоположного — разбит на куски, густо перемешанные с теплыми солнечными бликами.
Залюбовавшись, не сразу замечаю и вовсе удивительное — одна из льдин, самая белая, самая облачно-чистая, останавливается вдруг на всем ходу, замирает на месте, словно зацепившись за что-то, потом медленно, но решительно плывет поперек течения…
Протираю глаза, подхожу к самому обрыву и только тут понимаю: это гусь, самый обыкновенный гусь, отчаянно увертывающийся от быстрых, грозно сталкивающихся друг с другом льдин.
«Куда несет тебя в такую погоду? Ты что задумал, безумец?»
Я говорю это мысленно, хотя надо бы вслух да крикнуть во все горло: «Берегись! Ведь раздавит сейчас, чудик, раздавит!»
Но где там! Минута, другая — белая льдина, благополучно миновав все опасности, припаивается к противоположному берегу и там исчезает.
— На свиданку чапает! — слышу за своей спиной.
Оборачиваюсь — возле меня стоит соседский парень, улыбающийся, загорелый, в широко распахнутой на ветру телогрейке, в резиновых сапогах.
— На свиданку? Шутник ты все-таки, Зуев!
— Точно, точно, на свиданку. Верно слово, засек: третий день тот берег штурмует. Вчера еле жив остался.
Зуев смеется. Смех у него хороший — негромкий, добрый. Так смеются только очень счастливые люди.
Немного постояв со мной рядом, Зуев уходит. Я долго еще выискиваю глазами белого гуся на том берегу. Но он окончательно растворился там вместе со своими красными лапами.
Весь день вспоминаю гуся, а вечером снова спускаюсь к Дубне.
Громадные льдины мчатся со все нарастающей силой. Сквозь их шорох и треск, с той стороны неожиданно доносится до меня высокий девичий голос. Самой певуньи не видно, нельзя разобрать и ее слов, но песня, как воздушный мостик, все упрямей протягивается между двумя берегами.
Стремясь разглядеть, откуда, из-за какого плетня, льется она так звонко, так молодо, встаю на пенек, вытягиваю шею, весь превращаюсь в слух и зрение.
— Наше вам! — слышу за спиной знакомое.
Это опять Зуев. Только трудно его узнать: заношенную робу сменил новый костюм, в модном галстуке, выбрит. И лишь на ногах все те же резиновые сапоги.
— Куда в таком виде, Зуев?..
Он так торопится, что не успевает ответить. С разбегу ловко прыгает на ближайшую к берегу льдину, с нее — на следующую. И пошел, пошел на ту сторону…
В последних лучах заходящего солнца сразу намокшие сапоги Зуева вспыхивают вдруг ярко-красным пламенем и от этого на какую-то долю секунды становятся похожими на лапы белого гуся…
Старый дуб
Несчастья одно за другим сваливались на плечи старого дуба. Из войны он вышел полным инвалидом: ствол его был исклеван пулями, тяжелая крона, срезанная не то миной, не то снарядом, валялась поблизости комлем книзу, так что издали можно было подумать — растет подле старого новый дуб. Но это только казалось. Скоро листья отшибленной кроны завяли, сделались жестяными и противно заскрежетали на ветру.
Дерево еще продолжало борьбу, как вдруг новая гроза пронеслась над ним. Гроза в полном смысле этого слова.
Среди белого дня небо вдруг почернело, опустилось, загромыхало, и раскроенный надвое могучим ударом ствол стал огромной, расщепившейся почти до самой земли рогатиной.
Эта последняя рана была смертельной, но люди, жившие по соседству со старым дубом и за войну вдосталь насмотревшиеся в глаза смерти, не хотели в это верить. Они притащили проволоку, веревки, жерди, вооружились баграми и лестницами. Дуб обнесли лесами.
Кто-то из суетившихся вокруг него то и дело покрикивал:
— Давай, давай! Спасай вояку!
Кто-то поддакивал:
— Склеим еще, оживет! Ну-ка!
Незнакомый человек мог, пожалуй, подумать, что тут идет строительство силосной башни. Во всяком случае, вряд ли кто-нибудь из посторонних сразу догадался бы о том, что здесь происходит.
Люди, только что вышедшие из войны, сами еще не залечившие как следует ран, боролись за спасение старого дуба, и каждый старался изо всех сил, у каждого был свой план, своя идея.
Пока одни туго-натуго стягивали большие и малые трещины, другие конопатили их, шпаклевали, третьи густо замазывали образовавшиеся швы корабельным суриком, целую банку которого невесть откуда прикатил к дубу бывший моряк Малентьев.
Но несмотря на все это, раненый все-таки умирал…
Казалось, уже никто и ничто не сможет ему помочь. Он, вероятно, так и ушел бы от нас — тихо и бесследно. Распилили бы дуб на дрова. Постепенно все трудней и трудней было бы повстречать в этих краях человека, помнившего историю старого дуба.
Только удивительно мудро и тонко кое-что устроено на нашей земле.
Проснулся я как-то утром, подошел к распахнутому окну и вижу — под искалеченным дубом ходит мальчишка лет семи-восьми, не больше. Босой, оборванный, чумазый. Ходит, нагибается, что-то собирает в траве.
— Эй, приятель, что ты там ищешь?
— Желуди.
— Желуди? Зачем тебе?
— А так… Может, завтра в школу снесу…
Пока я спускался, чтобы поговорить с ним, его и след простыл.
В глубокой задумчивости стоял я под деревом, гремевшим над моей головой красной жестью последней листвы. Потом тоже нагнулся, поднял несколько нагретых на осеннем солнце желудей, положил их в карман.
А старый дуб, видно, понял нас, меня и мальчонку, — так и сыпал напоследок свои все-таки созревшие плоды, так и сыпал…
Бронзово-золотой становилась земля под их щедрым, тяжелым дождем.








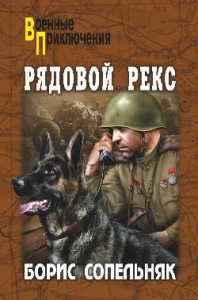
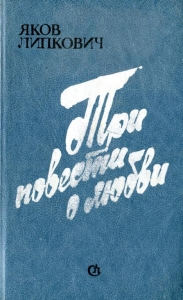

Комментарии к книге «Полынь на снегу (Повести, рассказы)», Виктор Петрович Тельпугов
Всего 0 комментариев