Любомир Дмитерко ПОСЛЕДНИЕ КИЛОМЕТРЫ Роман
Предисловие
Вышка у Бранденбургских ворот. Широкая магистраль, затененная изумрудными кронами кленов и лип, — геометрическое продолжение задумчиво-притихшей Унтер-ден-Линден, центральной улицы города-гиганта на Шпрее.
Тиргартен…
Тишина, покой, зеленое царство природы. На границе его — темное, понурое, будто приплюснутое сверху здание рейхстага, западноберлинский магистрат снял с него аварийный купол.
— Давайте поедем туда, — указав рукой в сторону замершей магистрали, предложил мой давний друг Иван Гаврилович Березовский. Теперь на его погонах звезды генерал-полковника. Обращаясь к седому, как и мы оба, человеку с моложавым и приветливым лицом, не то утверждает, не то спрашивает:
— Думаю, представитель посольства не возражает?
Тяжелая, неуклюжая «Чайка» сворачивает на боковую улицу. Проехав два квартала, останавливается перед контрольным постом британской зоны — будкой и шлагбаумом в стене границы, пересекающей город. Грузный офицер, чем-то похожий на мистера Пиквика, узнает посольскую машину. Взглянув на наши документы, он козыряет, дает знак часовому — пропустить. Заработала система сигнализации. Сфотографирован номер машины, передана информация в комендатуру зоны.
Еще несколько метров — и мы в другом мире.
Кипит, бурлит огромный город. Яркие витрины магазинов, показное, мишурное благополучие, шумная реклама, кричащие контрасты, циничное искушение, и над всем этим — тевтонский культ гигантизма: длинная, устремившаяся в небо стрела «Телефункена», ребристый хаос невообразимого кубического чудовища — дом-скала филармонии.
Но в неистовстве этой стихии есть неприступный для нее островок. Туда пролегает наша извилистая дорога.
Скульптурный ансамбль в Тиргартене. Памятник советским воинам. Навстречу седому генералу выбегает юный командир подразделения, лицо которого мне показалось очень знакомым.
— Товарищ генерал-полковник! Подразделение советских войск на посту Тиргартен, выполняя задание командования, несет караульную службу! Докладывает старший сержант Бакулин!
— Бакулин?!
Иван Гаврилович лукаво улыбается. Видно, он нарочно подготовил для меня этот сюрприз.
— Да, Бакулин Петр Петрович, сорок пятого года рождения, сын Петра Бакулина и Галины Мартыновой.
Комбат Бакулин… Телефонистка Мартынова… Так вот почему его лицо я словно бы уже видел ранее.
Молча пожимаю руку юноше…
Погостив немного в микрогарнизоне, возвращаемся назад. Снова тот же офицер, снова звонят сигналы: черная «Чайка» покинула британскую зону.
Унтер-ден-Линден. Советское посольство. Скромное, малозаметное здание. Сюда в июне 1941 года звонили с Вильгельмштрассе, 3: ведомство Риббентропа вызывало советского посла, чтобы сообщить о разрыве дипломатических отношений и начале войны.
Дальше иду пешком.
Посольства, государственные учреждения Германской Демократической Республики, университет Гумбольдта. Возле его темных древних стен — огромная толпа. Гомон полемизирующих, взмахи рук. Митинг, демонстрация, необыкновенное уличное происшествие? Нет, диспут. Свободный обмен мнениями между студентами Восточного и Западного Берлина.
Сворачиваю в сторону, хочется побыть наедине.
Узенькая, неказистая Бендерштрассе. На месте Новой имперской канцелярии — аккуратно подстриженный травяной ковер. В центре его конусообразный пригорок — стальной бункер Гитлера.
Тихо спускаются вечерние сумерки. Издалека доносится гомон дискутирующих. В соседнем дворе шумят-резвятся ребятишки. Играют в «рай» и «ад». Эти слова для них — только игра…
Рай — это и в самом деле нечто призрачное и условное.
А вот ад я видел. Здесь, в Берлине. Четверть века назад.
Часть первая ОДЕР
1
В просторном классе польской сельской школы метельным зимним вечером 1945 года командующий фронтом вручал ордена и медали группе награжденных офицеров. В комнате стояла настороженная тишина, проникнутая тем нервным напряжением, когда малейшее движение или шорох привлекают общее внимание. Авторитет маршала, сила воинской субординации невольно делали свое дело.
Глиняная печь с ободранной штукатуркой жарко полыхала.
На противоположной, еще не просохшей стенке — школа несколько дней подряд стояла пустой — в одинаковых ясеневых рамах висели портреты Сталина и Осубки-Моравского, тогдашнего премьер-министра Польши.
Привычно, размеренным шагом, подходил маршал к офицерам, вручал награды и хрипловатым, простуженным голосом произносил поздравительные слова. Церемония вошла уже в определенный ритм. Гвардии полковник Березовский, преодолев в себе первое волнение, спокойно ждал очереди. Возле него стоял худой, высокий узбек со скуластым лицом. Большая курчавая голова Березовского едва доставала его костлявого плеча.
Маршал подошел к узбеку:
— Капитан Абдурахманов, — прохрипел, подавляя кашель, маршал, — Военный совет фронта наградил вас медалью «За отвагу».
Приколол медаль к вылинявшему кителю, который висел на худой груди капитана, будто на палке, протянул руку. Но рука повисла в воздухе. Все, стоявшие поблизости, заметили, что правый рукав кителя капитана пустой.
Минутная тишина. Даже слышно, как трещит раскаленная печь, как с холодной стены падают на пол и звенят капли.
— На плацдарме?
— Так точно, товарищ маршал!
Командующий фронтом задумался. Ох этот сандомирский плацдарм, ключ к Варшаве! Крепким оказался орешком. Нужно было во что бы то ни стало захватить и удержать его…
Он обратился к адъютанту майору Борисенко:
— Орден Красного Знамени. Мигом!
Боевой орден с яркой багрово-белой лентой сверкнул на кителе безрукого капитана рядом с медалью.
— Спасибо за службу, товарищ капитан.
— Служу Советскому Союзу!
Маршал глянул куда-то мимо капитана, на стены обшарпанной ветрами и дождем школы. Увидел бесконечную фронтовую дорогу, черные силуэты пожарищ. Услышал голоса павших друзей. И, будто оправдываясь перед ними или перед тяжело раненным воином, обронил:
— Такова уж наша солдатская доля…
Сделал еще два шага, и взгляд его серых, будто перетлевший пепел, глаз остановился на Березовском.
Они видели друг друга впервые.
Путь прославленного маршала к этой встрече шел сверху, молодого полковника — снизу. Приняв боевую купель еще в водовороте гражданской войны, бывший крестьянин-батрак так и не снял с себя военной одежды. Закончив Академию имени Фрунзе, занимал различные штабные должности, а войну начал на посту командующего одним из фронтов, которые тогда часто перегруппировывались и меняли названия.
Березовский попал на передовую линию человеком сугубо гражданским. Учитель математики из пропахшего чабрецом и рутой подольского села, он в военных школах и академиях не учился, о военной службе не мечтал. В грозную годину, как и миллионы других, он взял в руки оружие. Бои, снова бои, ранения, медсанбаты, госпитали, тоска в резерве, курсы переподготовки и новые бои, но уже наступательные! Снова ранение, снова награды, высшая из них — Золотая Звезда за форсирование Днепра; новые знания и должности. И вот он — полковник, начальник штаба Отдельной гвардейской танковой бригады…
Орден Отечественной войны 1-й степени рядом с другими наградами уже ярко сверкал на гимнастерке гвардии полковника, а маршал почему-то дальше не шел и не отрывал пытливого взгляда своих пепельно-серых глаз от чуточку неуклюжей фигуры Березовского.
«Почему бы это? — подумал полковник. — Может, какие-нибудь претензии к нашей бригаде?..»
Словно бы в подтверждение догадки командующий сказал:
— Товарищ полковник, зайдите завтра ко мне. В одиннадцать тридцать.
Это было похоже на передачу мыслей на расстоянии. С самого утра Березовский размышлял, как бы ему помимо официальной встречи во время вручения наград побеседовать с маршалом хотя бы несколько минут наедине. И теперь с готовностью отчеканил:
— Есть, товарищ маршал!
Полковник Березовский на скорую поужинал с ординарцем Сашком Платоновым, гармонистом из Тулы, которого все в части называли насмешливо и ласково — Чубчик. Для аппетита выпили по СПГ (сто пятьдесят граммов) разведенного ректификату, который Сашко раздобыл на местном спиртовом заводе. К сожалению, удалось нацедить лишь одну канистру. После налета вражеской авиации завод горел, пламя охватывало цех за цехом, и операцию Чубчик проводил с известным риском для жизни.
Еще одна беда: канистру взял из-под бензина, мыть было некогда. Спирт промыл ее, впитав в себя не только остатки бензина, но и многолетнюю ржавчину, и всякую грязь. Вонючий коричневый напиток был явно непригоден для употребления. Но ловкий туляк не растерялся. Обменял у хозяйки дома, красивой и дебелой пани Ядвиги, концентрат пшенной каши на обыкновенный древесный уголь. Завернув его в бинт из индивидуального пакета, он процедил сквозь него непривлекательную жидкость и добавил к ней необходимую дозу воды. Добытый продукт имел вполне приличный вкус, напоминая эрзац немецкого шнапса, который иногда попадал к ним с трофеями. Закусили размоченными в воде сухарями, американской тушенкой и солеными огурцами, которыми угостила их пани Ядвига.
Хозяйка отнеслась к временным квартирантам весьма приветливо, но от приглашения поужинать вместе с ними отказалась. Не потому ли, что в соседней комнате яростно стучал сапожным молотком ее худощавый, нервный и, наверное, очень ревнивый муж. Отказ пани Ядвиги от ужина огорчил Чубчика, но Березовский не придал этому значения. Недавно он пережил еще одну душевную драму и к женскому полу относился с чрезмерной осторожностью. А главное, гвардии полковник на протяжении всего вечера неотступно видел перед собой коренастую фигуру седовласого маршала с простуженными, а может и простреленными легкими, ощущал на себе его пристальный взгляд…
Ой на горі там терен, Там виріс я сам оден, Там виріс я сам оден…Будто нарочно, возникла в памяти полузабытая материнская песня и тихо звенит, не угасает.
А з-під того терена Вийшла вдова молода, Вийшла вдова молода…— Товарищ комбриг!.. — прерывает грусть немой песни — ибо звучит она лишь в сознании полковника Березовского — неунывающий Платонов-Чубчик. Он разлегся на заднем сиденьи незаменимого на занесенных снегом или развезенных непогодой дорогах юркого виллиса. — Товарищ комбриг!.. — Платонову нравится то и дело повторять новый титул своего начальника и кумира. Он словно бы еще и еще раз поздравляет его с высоким назначением и одновременно наивно, почти по-детски, рисуется перед водителем виллиса — немолодым, молчаливым Павлом Наконечным. — Товарищ комбриг!..
— Чего тебе? — неохотно спрашивает ординарца Березовский и, плотнее закутавшись в теплую кавказскую бурку, погружается в песню, как в сон.
Песня помогает ему собраться с мыслями, вспомнить, что же произошло несколько часов назад.
…В назначенное время Березовский не застал командующего фронтом. Тот встречал на полевом аэродроме самолет из Москвы, на котором прибыл представитель Ставки Верховного Главнокомандования. Позавтракав, оба маршала долго совещались, видимо, представитель Ставки привез важные новости.
Тем временем Иван Гаврилович насупленно сидел за тесной школьной партой с мастерски выдолбленным католическим распятием. Кто-то продлил концы креста, чтобы он смахивал на свастику. А потом, наверное в последние дни, уже другая рука попыталась совсем уничтожить обезображенную христианскую эмблему. Это ковыряние ножом так и осталось на неподатливом дереве парты как лаконичный след исторических событий, пронесшихся через маленькое мазурское село.
Майор Борисенко, адъютант командующего, невысокого роста, с осунувшимся от хронического недосыпания и усталости лицом, разложил перед Березовским свежие газеты, привезенные из Москвы на самолете Ставки.
— Читайте, Иван Гаврилович.
— Спасибо.
Сводка Информбюро с фронтов, сообщения о трудовых подвигах в тылу, статьи Алексея Толстого в «Правде», Ильи Эренбурга в «Красной звезде», фронтовой очерк Бориса Горбатова, стихи известных поэтов…
Печаль цепко взяла Ивана Гавриловича за сердце. Как мать, что с нею? Тыл оживал, возвращался к мирным будням, а она одна-одинешенька. Старая, немощная. Только холодный остов торчит там, где был когда-то семейный очаг Березовских.
Подмывало поговорить с Борисенко, посоветоваться: поймет ли его командующий? Разрешит ли на несколько дней съездить в Озерца, пока здесь затишье? Комбриг Самсонов уже дал свое согласие.
Но не спросил Березовский, промолчал: все равно ведь Борисенко ничем не может помочь в этом щепетильном деле.
Командующий вошел неожиданно, закутанный в плащ-палатку, — на дворе моросило. Однако его нетрудно было узнать и в таком наряде. В фигуре маршала, в его походке чувствовалось что-то независимо-степенное и властное, присущее людям, которые привыкли командовать, приказывать, вести за собой других.
Услышав шаги, первым вскочил на ноги адъютант Борисенко, за ним встал и Березовский, сгоряча чуть было не разломав многострадальную ученическую парту. Кивком головы маршал пригласил его в соседнюю комнату, в свой временный кабинет.
— Вот что, — сказал он без предисловий, сбросив на пол намокшую плащ-палатку. Борисенко быстро подхватил набухший комок брезента и вынес его в сени. — Немедленно принимайте бригаду. Мы с представителем Ставки звонили в Москву, получили согласие.
«А Самсонов?» — чуть было не вырвалось у Березовского, но он прикусил язык. Не давала покоя одна лишь мысль: «Итак, мама останется одна. Сейчас не до таких просьб. А что же с Самсоновым? Снимают или дают корпус?»
Маршал подошел к оперативной карте, висящей на школьной таблице. Сегодня вид у него был бодрее, чем вчера. И голос не такой хриплый. Наверное, медицинская служба приняла экстраординарные меры. Желтым от никотина пальцем маршал показал на карте небольшой польский городок.
— Вот здесь, возле городка, старинный дворец каких-то магнатов. Место вашей новой дислокации. Ясно?
Березовский не торопился с ответом. Отдельная гвардейская после боев за Вислу находилась в резерве командующего фронтом. Следовательно, предстоит начинать новую страницу боевой одиссеи… Маршал воспринял его молчание как знак согласия.
— Ставка Верховного Главнокомандования уточнила наши задачи. Во взаимодействии с соседними фронтами мы переходим в наступление.
Теперь Березовский понял, почему прилетел представитель Ставки, и уже окончательно похоронил надежду на краткосрочный отпуск. Глухо спросил?
— Выручаем союзников?
— Угадали. В Арденнских горах, в Бельгии, идут ожесточенные бои. Англо-американские войска панически отступают, неся большие потери. Гитлер лично руководит контрнаступлением в Арденнах. Нужно сорвать его намерение, оттянуть силы.
— Понимаю.
— Только в районе сандомирского плацдарма наступление поведут несколько армий, в их числе танковая. Ваша бригада пойдет как передовой отряд в составе общевойсковой армии Нечипоренко, которая занимает рубежи на ловом берегу Вислы. Направление: Пилица — Нида — Одер. Темп продвижения сорок — пятьдесят километров в сутки.
«Вот это да… — думал обескураженно Березовский. — Вот это темп…»
Маршал словно разгадал его сомнения:
— Свыше ста пятидесяти лет нога иноземного солдата не ступала на немецкую землю. Само собой разумеется, враг окажет сопротивление. Поэтому я и поручаю эту миссию вам.
«Почему мне? Что произошло с Самсоновым?»
— Оперативная задача ясна?
Иван Гаврилович задумался. Он не любил стереотипные ответы типа: «Ясно, товарищ командующий!», «Слушаю, товарищ командующий!», «Есть, товарищ командующий!». Учитель в нем еще иногда брал верх над военнослужащим. Ведь его спрашивают, очевидно, не только ради формальности.
— Мое назначение решено окончательно?
Маршал удивленно уставился на него холодноватыми серыми глазами.
— Вы что… возражаете?
Березовский спокойно выдержал этот взгляд, еще не гневный, но уже явно недовольный.
— Если вопрос решен… Хотя мне лично это сейчас… Я собирался просить вас…
— Послушайте, Березовский. У вас, наверное, много свободного времени?
— Времени мало. Но вопрос слишком серьезный.
— Вы до войны были на педагогической работе?
— Да.
— Видно. — Отошел от карты, посмотрел в окно. В приоткрытую форточку влетал свежий, влажноватый ветерок, предвещавший оттепель. Зима была лютая, даже здесь, на берегах Белого Дунайца, термометр не раз падал ниже двадцати, а снега лежали, как в Подмосковье. Но приближение весны чувствовалось с каждым днем все явственнее.
Маршал сел за небольшой стол, выкрашенный в черный цвет, как и вся школьная мебель. Видимо, здесь когда-то размещался кабинет географии — комната и до сих пор была завалена учебными картами, большинство которых уже ничего не стоило: их одним взмахом перечеркнула война.
— Хорошо, спрашивайте.
Березовский пошел напрямик:
— Прежде всего, я хотел бы знать, чем вызвана замена командира бригады. Тем более в такое время…
— Не понимаю вопроса. Неужели вы ничего не знаете?
— Что вы имеете в виду, товарищ маршал?
— Вы когда выехали из бригады?
— Вчера рано утром. Попрощался с Самсоновым и…
— Это было ваше последнее прощание.
— Почему?
— Самсонов убит вчера же, между одиннадцатью и двенадцатью часами дня. Прямое попадание артиллерийского снаряда.
Спазма сдавила горло Березовскому. Он любил Самсонова. Это был прекрасный товарищ и воин. Атлет с лучисто-лазурными глазами. О храбрости его ходили легенды. Что ж, легенды остаются. А Самсонова больше нет.
Иван Гаврилович вспомнил грустный взгляд маршала вчера во время беседы с капитаном Абдурахмановым. Телефонные провода уже тогда донесли до него тяжелую весть.
— Мне понятны ваши чувства. Самсонов был хороший командир. Будьте достойным его преемником. А начальником штаба назначен Сохань.
Командующий встал.
— Желаю вам успеха. А неуспеха быть не может!
…Як вона ix родила, В тихий Дунай пустила, В тихий Дунай пустила…Виллис забуксовал, и шофер Наконечный прибавил газу. Машина рывком выскочила из ямы, наполненной талым снегом и размятым льдом. Теплый ветерок сделал свое дело.
2
Бригада стояла, выстроенная побатальонно. Ночью в Заглембье подморозило. Мороз, как умелый мастер, аккуратно застеклил лужи, подремонтировал дороги, покрыл землю слюдистым ледяным панцирем. На белом фоне заснеженных полей грозно и торжественно замерли шесть десятков бронированных крепостей, башни которых были украшены еловыми ветками, увиты черными лентами.
Покрытый красным шелком гроб установили на лафете пушки. Под звуки воинского оркестра траурная процессия медленно двигалась мимо боевых подразделений. Экипажи отдавали последний долг погибшему…
Березовский ощущал на себе внимательные взгляды танкистов. С любопытством и настороженностью посматривали они на нового командира.
Иван Гаврилович знал, что ему будет нелегко. Но он с гордостью смотрел на стальные шеренги тридцатьчетверок, на строй автоматчиков мотострелкового батальона, на техническое оснащение рот и батареи.
И вспомнился молодому комбригу первый бой, что навеки остается в памяти солдата.
…Истрепанная стрелковая рота получила приказ окопаться на юго-восточной окраине села Жабокрич. Был на исходе июль. Прошел месяц с того дня, когда Восемнадцатая армия, приняв на себя первый удар, с боями отступала на восток. Изнуренной и обескровленной, ей крайне нужна была передышка, чтобы собрать воедино разрозненные части, эвакуировать раненых, наладить связь с соседями, подготовить рубеж обороны. Хотя бы на один или на два дня необходимо было удержать Крижополь, Ободовку, Жабокрич — это испаханное бомбами, многострадальное Поднестровье.
В белесом от зноя небе проплыла черная рама «фокке-вульфа», и сразу же заговорила вражеская артиллерия. Огненный шквал накрыл село. А по полю, по неубранным хлебам, медленно, словно чего-то выжидая, двигались шесть немецких танков.
— Приготовиться! — прохрипел вчерашний учитель совсем не тем голосом, каким несколько недель назад предупреждал учеников о начале диктанта. — Стрелять только по моему приказу.
Рота, не насчитывавшая и полного взвода, к тому же плохо была и вооружена: не было у нее ни противотанковых ружей, ни гранат. Все ее вооружение составляли винтовки да десятка полтора бутылок с горючей смесью. Бойцы торопливо связывали воедино по две-три бутылки.
Теперь стало ясно, чего выжидают танки. «Рама» вызывала не только артиллерийский огонь. На маленькую, истрепанную в боях роту летели «юнкерсы» в сопровождении «мессершмиттов». После каждого бомбового удара «юнкерсов» «мессеры» заходили на бреющем полете так, что видны были лица летчиков, и секли, и секли, и секли из пулеметов все живое и мертвое.
Березовский увидел, что танки снова двинулись вперед, но не на их роту, не на притихшие окопчики. Фашисты не хотели рисковать. Они привыкли к войне-параду, войне-прогулке. Танки ползли по золотистой пшеничной ниве, заходя утомленной, измученной, но не сдающейся роте в тыл.
Первой мыслью Березовского было — швырнуть связки бутылок себе под ноги. Смерть, пусть лучше ужаснейшая смерть, лишь бы только не плен! Но в следующий миг он уже думал, как спастись самому и вывести то, что осталось от роты, из вражеского кольца. Этот бой проигран, но он не последний!
…И вот близится час последнего боя. Он грянет еще не сегодня, не завтра, но уже скоро. Где-то там, за сизым, туманным горизонтом — немецкая земля…
— Товарищ комбриг!..
Это Сашко Чубчик.
— Телефонограмма. Передала сержант Мартынова.
«Какая Мартынова?.. — Он медленно возвращался из путешествия в прошлое. — Ах, Галочка, Галя, штабной связист. Что случилось, почему так спешно?»
Посмотрел на скомканный листик бумаги… Мама!.. Старенькая, многострадальная мама! Ее нет… Сколько блуждала эта печальная весть по штабам, узлам связи, пока прибыла сюда, на КП бригады? День, два, вечность? Но, в конце концов, это не имеет значения. Что он может сделать, чем помочь горю? Траурная процессия, траурная музыка Шопена… Кого это хоронят — боевого комбрига или ее, седоглавую мученицу? Маму, которая все пережила: нашествие врагов, прощание с сыном, проводы дочери в неволю, смерть мужа, пожарище на месте родной хаты. И все лишь для того, чтобы в праздник освобождения умереть одинокой, чтобы закрыли ей глаза чужие люди?..
Вчетвером — комбриг Березовский, начштаба Сохань, замполит Терпугов и польский товарищ из сельского самоуправления — сняли гроб с лафета, поставили на мерзлую землю возле могилы. Расставались скупо, по-солдатски.
— Прощай, друг! Пусть будет пухом тебе земля!
Подполковник Сохань уже поднял было руку, чтобы дать сигнал для прощальных залпов, но полковник Терпугов остановил его. Пожилой человек, страдающий одышкой, он с трудом преодолел волнение и крикнул в мегафон:
— Боевые побратимы-гвардейцы! Склоним головы перед светлой памятью мужественного сына Родины, верного большевика-ленинца полковника Самсонова. А лучшим венком на его могилу пусть будет вот это. — Он показал бумажку, будто подтверждая свои слова. — Товарищи воины, вчера, семнадцатого января тысяча девятьсот сорок пятого года, доблестные войска нашего фронта, во взаимодействии с Первой армией Войска Польского, с боями освободили столицу Польши Варшаву!
После дружного «ура» прогремели артиллерийские залпы. Как реквием мертвым и салют живым.
Прямо с поля бригада двинулась к месту новой дислокации. В реве дизелей, грохоте гусениц, в едком дыме солярки двигались грозные тридцатьчетверки мимо могилы погибшего командира, мимо нового комбрига и его ближайших помощников.
Первым прогромыхал батальон Героя Советского Союза гвардии майора Бакулина. Почти по пояс высунувшись из люка командирского танка, комбат любовался бронированными крепостями, которые способны пройти огонь и воду, сокрушить врага, снести на своем пути любую преграду.
Природа щедро наделила красотой и силой уральца Петра Бакулина. Высокий, плечистый, с пышной шевелюрой, Петро, однако, не принадлежал к числу легкомысленных людей, и в действующую армию он попал благодаря своей незаурядной внешности и дьявольской дерзости.
Эту историю рассказывал сам Бакулин — сочно, с юморком: о том, как многие месяцы изнывал от тоски в тыловом гарнизоне, как командование несколько раз отклоняло его настойчивые рапорты об отправке на фронт и как, наконец, он прибег к радикальному приему — начал ухаживать за тоскующими гарнизонными молодками. Вот тогда не на шутку встревоженные мужья быстро договорились между собой, и навязчивый ухажер — к тому времени еще младший лейтенант — мигом очутился на передовой. Березовский не очень верил этим побасенкам, но и не опровергал их. В самом деле, неиссякаемая находчивость и необыкновенная отвага были всегда присущи гвардии майору Бакулину.
Второй батальон вел тоже уралец и тоже отважный человек — гвардии майор Чижов. Один из немногих кадровых офицеров, находившихся на фронте с первых дней войны, Василий Аристархович и ныне бросал свой батальон в огневой водоворот боя с таким же азартом и горячностью, как и шесть лет назад, когда он участвовал на БТ-5 в боях против японских самураев на Халхин-Голе.
Далее шел третий батальон горячего абхазца гвардии капитана Давида Барамия. За ним на колесном транспорте — МБА (моторизованный батальон автоматчиков) криворожского рудокопа гвардии капитана Геннадия Осадчего и другие подразделения. Они заполнили весь видимый отрезок дороги бесконечной колонной машин, так что и в открытом снежном поле трудно стало дышать от выхлопных газов их моторов. Колонна передвигалась открыто, от вражеских глаз ее скрывали низкие мохнатые тучи, с которых ласково сеялся на белое поле еще более белый, чистый и нежный снег.
День был нелетный, да и авиация у гитлеровцев теперь уже не та.
3
На новом месте дислокации к Березовскому сразу же зашел замполит Терпугов с письмом к вдове Самсонова.
Печальный долг!
…Иван Гаврилович видел жену и дочь Самсонова лишь один раз. Он познакомился с ними раньше, чем с самим Самсоновым, в их тесной двухкомнатной квартире в районе Садового кольца. Сохранились еще в самом центре Москвы узенькие улочки со старинными названиями — Садово-Каретная, Садово-Триумфальная, Тверская-Ямская. А неподалеку от них — шумная площадь Маяковского, улица Горького, площадь Восстания…
Березовский с трудом отыскал нужную ему дверь в темном подъезде, заставленном бочками с водой — на случай пожара от зажигательных бомб. Обитую войлоком дверь открыла жена Самсонова, имя и отчество которой он уже забыл, кажется, Тамара Демидовна или Денисовна, а может, не Тамара, а Татьяна. Нет, все-таки Тамара Денисовна. Он прочел это сейчас в письме, составленном работниками политотдела: «Уважаемая Тамара Денисовна!» Нетрудно себе представить, как воспримет она страшное известие. Тогда, увидев его танкистскую форму и полевые погоны, женщина сначала радостно воскликнула: «Вы от Миши?!», а потом шепотом спросила: «С ним ничего не случилось?» Он успокоил ее, хотя сам еще в бригаде не успел побывать, лишь получил туда назначение на пост начальника штаба и, узнав о том, что семья полковника Самсонова живет в Москве, считал своим долгом нанести этот визит.
Березовский повез Михаилу Самсонову коротенькое письмо от жены и дочери. Имя дочери — Валя, это Березовский помнит совершенно отчетливо, потому что так звали его тихую, нежную, неразделенную любовь, которой он не решился открыть свои чувства. Ждал, пока девушка окончит сначала девятый, а потом и десятый классы, потому что неприлично учителю ухаживать за ученицей. Ждал-ждал, да так и не дождался…
«Уважаемая Тамара Денисовна! С глубокой печалью сообщаем…»
Подписал письмо, не сказав ни слова. Полковник Терпугов заверил, что договорился с польскими товарищами об уходе за могилой.
Вошли тыловик Майстренко и разведчик Тищенко. Их вызвал комбриг. Терпугов задержался. Только что подписанное письмо белело у него в руке.
— Докладывайте, — приказал комбриг своему заместителю по тылу.
Семена Семеновича Майстренко все называли поэтом. Казалось бы, тут не до поэзии — бензин, солярка, продснабжение, вещевое обеспечение, финансовая отчетность… Но вот сумел же человек вложить в будничную работу что-то приподнятое, можно даже сказать, лирическое. Именно поэтому один из корреспондентов армейской газеты напечатал о Семене Семеновиче целый подвал под красноречивым заголовком «Поэзия в прозе». Героя очерка недвусмысленно назвали поэтом, и это прозвище закрепилось за ним навсегда.
Не только профессия, но и внешность Семена Семеновича ничего общего с поэзией не имела. Высокий, мускулистый, чем-то похожий на широко известные портреты выдающегося борца Ивана Поддубного, с геркулесовскими бицепсами и шеей, с отполированной, как бильярдный шар, лысиной, с усталыми светло-зелеными глазами и посеревшим от недосыпания лицом, он был интендантом с ног до головы.
— Взвесил, товарищ комбриг, — доложил он лаконично.
— И что же?
— Вытянем.
— Спасибо.
Вот и все. А означало это очень много: служба тыла тщательно продумала все, что касается материального обеспечения наступления, и не подведет.
С этим и ушел интендант Майстренко, чтобы с головой окунуться в заботы своей хлопотной деятельности.
Майор Тищенко внешне мало походил на разведчика. Низкорослый, грузноватый, он скорее похож был на бухгалтера, зоотехника, фармацевта, на кого угодно, только не на представителя романтической военной профессии. Говорил Тищенко то очень быстро, то медленно, даже запинаясь, но всегда заблаговременно и тщательно проверял данные, о которых докладывал.
— Чем порадуете, товарищ майор?
— Ничем, товарищ комбриг. Покамест ничем.
Березовский насупился. Для того чтобы составить план операции, им с Соханем крайне нужны были разведданные. Вот-вот вызовет к себе командующий армией.
— Степан Иосифович, что с вами?
— Ничего.
— «Ничем», «ничего», хорошие слова выбрали вы сегодня для беседы со мной. Не разведана местность, не выяснены огневые средства противника, а вы!..
Иван Гаврилович сорвался с привычной спокойной ноты, но Тищенко почти не слышал его слов — так тяжело стучало у него в висках.
Началось это еще вчера вечером. Чтобы заглушить головную боль, он проглотил таблетку пирамидона, однако и испытанное лекарство на этот раз не помогло. Навалилась стопудовая усталость. Никогда с ним такого еще не бывало.
— Завтра в восемь ноль-ноль жду вас с точными данными.
— Слушаюсь, товарищ комбриг.
4
Снег скрипел под ногами, и это раздражало. Правда, до вражеских позиций еще далеко, но такая уж работа у разведчика: малейший шорох может провалить любую операцию.
В белых маскхалатах, по белому полю, они передвигались медленно, словно привидения. Лишь надоедливое поскрипывание снега выдавало их присутствие. Не помогли и тряпки, которыми разведчики обмотали сверху валенки.
— В господа бога, трам-тарарам! — сердито ругался рядовой Леонид Лихобаб, низкорослый, щуплый, смахивавший на пятнадцатилетнего подростка.
— Тише. Перестань ругаться, — оборвал его высокий и сутулый сержант Григорий Непейвода.
— А ты что, верующий? — саркастически спросил Лихобаб, смешно подпрыгивая, чтобы не отстать от длинноногого сержанта.
— Наверное, — ответил Непейвода.
— То есть как?
— А так, — Григорий, торопясь, пригибался чуть ли не к самой земле. — Бога нет, это всем известно.
— Так почему же веришь? — на миг даже остановился оторопевший Леонид и снова бросился догонять своего товарища.
— Потому, что так мне легче. И не приставай ко мне, не надоедай…
На этом разговор и закончился. Лихобаб еще что-то бормотал, но слов его сержант не мог понять, — то ли из-за раздражающего скрипения снега, то ли из-за быстрой ходьбы.
Ночь выдалась лунная, разведчикам не по душе. В одном лишь повезло им: с юга, от Татринских перевалов, густо клубились темно-сизые, словно дым фугасок, тучи. Лунный свет еле просачивался сквозь них. Но вот-вот пойдет снег, а в метель легко потерять ориентир. Тогда не найти им свой Т-34, замаскированный в поле возле заброшенного сарайчика пастухов.
— В пречистую деву, трам-тарарам! — не внял предостережению сержанта Лихобаб: слишком уж раздражало его ненавистное скрипение.
— Хватит! — сказал сержант и остановился. — Так мы всех зайцев вспугнем, не только фрицев.
Они находились на ничейной земле. Где-то неподалеку пролегает неглубокая лощина, на противоположной стороне которой зарылись в землю немецкие форпосты.
Непейвода вынул из теплого полушубка схему, начерченную рукой майора Тищенко; прилегли на хрупкий паст. Лихобаб осторожно присветил трофейным фонариком, захваченным вместе с «языком» на сандомирском плацдарме. Вот он, этот желанный ярок, на схеме. До него каких-нибудь пятьдесят — шестьдесят метров, а дальше — спасительные заросли, их надежда.
— Дальше поползем, — приказал сержант.
Сняли с поясов гранаты лимонки и осторожно поползли вперед. Первым, как всегда, — Лихобаб, а за ним — сержант.
Это были хорошо натренированные и сработавшиеся напарники. Даже разница в росте оказалась для них весьма полезной. Когда нужно было проникнуть сквозь малейшую щель, это делал Лихобаб и уж потом расчищал дорогу Непейводе; по там, где нужны длинные ноги (хотя бы для прыжков через преграды) или физическая сила, там действовал Непейвода.
…Сливаясь с заснеженным полем, они осторожно и бесшумно ползли все дальше и дальше в глубину ложбины, в сизый мрак ночи.
На Алтае начинался рассвет, когда над заснеженными буераками Южной Польши, над погасшими мартенами Силезского бассейна сторожко хмурилась фронтовая ночь. Мать рядового Лихобаба Евдокия Пантелеевна растопила плиту. Праздничный запах смолистой хвои наполнил кухню. Сухие сосновые ветки громко трещали, взрывались жарким белым пламенем. Вскоре на раскаленной плите закипел чайник, сварилась в чугунке начищенная с вечера картошка. Сейчас хозяйка нарежет на горячую сковородку сало и лук, достанет из погреба соленых помидоров, пахнущих чесноком, укропом и вишневыми листьями, — и завтрак готов. Для всего бабского гарнизона.
Вот уже слышно, как из светлицы в сени вышла невестка, звякнула о косяк цинковым подойником, направилась в хлев. Рабочий день начался.
Позавтракав, невестка побежит в контору, где она работает счетоводом, а Евдокии Пантелеевне некуда торопиться. В овощеводческой бригаде — зимняя передышка, поэтому женщины принялись за другое: собираются по вечерам у того, у кого дом не тесен (а таких теперь большинство, потому что из каждой семьи кто-то ушел на фронт), вяжут из шерсти носки или шьют из выделанных заячьих шкурок рукавицы, — все это для них, для фронтовых героев, защитников Родины. Однако до вечера еще далеко, и Евдокия Лихобаб сможет за день переделать неотложную домашнюю работу, присмотреть за маленькими внучками.
Спокойствие и счастье Евдокии Пантелеевны весьма неустойчивы. О муже своем она уже редко когда вспоминает, ибо прожила с ним менее двух лет, а без него хозяйничает уже большую половину жизни. Только и осталась как память о нем — бессмертная партизанская песня про волочаевские дни. Да единственный сын Леня.
Невестка вошла в кухню с полным подойником, внесла с собой запах морозного утра и теплого молока. Казалось, будто этот молочный дух идет не только от подойника, но и от всей здоровой фигуры этой тридцатилетней молодицы.
— Как Лиска?
— А что ей?
Свекровь и невестка разговаривают между собой мало, да, возможно, это и к лучшему. Трогательной дружбы между ними нет, но и перебранки не отравляют им тяжелых, невеселых будней. Прожив столько лет без мужа, Пантелеевна испытала в жизни всякого, ходили и о ней слухи да пересуды. Поэтому она не очень обращала внимания на сплетни о невестке, не раз доходившие до ее слуха. Если уж смирилась с выбором сына, взявшего старше себя по годам Нюську Звонареву, которая еще подростком подалась в геологическую партию, долго где-то работала и наконец с ребенком на руках очутилась в родном селе, так что уж говорить теперь об истосковавшейся по мужской ласке солдатке!..
— Детей будить, мама?
— Буди Таню и Люду, им в школу. А маленькие пускай поспят.
Невестка пошла через сени, на другую половину, где на широких деревянных полатях под шерстяным одеялом спали четверо удивительно похожих друг на друга девочек. Глядя на них, бывшая Нюська Звонарева, а теперь Анна Лихобаб, видела свое собственное лицо в разные периоды детства: три года, пять, семь и десять. Трое младшеньких — Зина, Ира и Люда — были от мужа, а десятилетняя Татьянка от геолога Коли Наседкина — певца, гармониста, балагура, заманившего юную Нюську с собой. Он был единственный, кого она по-настоящему любила, и, наверно, он любил ее тоже, но жениться не мог, ибо уже, как впоследствии выяснилось, имел двух жен — в Чите и в Иркутске. Вот почему Нюська Звонарева возвратилась в Верхние Ростоки с разбитым сердцем и младенцем на руках. Но недолго сокрушалась девка. Вскружила голову охочему до танцев, низкорослому Леньке Лихобабу, который не только официально зарегистрировал с ней брак в сельсовете, но и удочерил Татьянку. Это событие не вызвало удивления. Честный, прямодушный, Ленька не отличался красотой, не был большим мастаком и в хозяйстве, — возьмет, бывало, ружье, уйдет подальше в лес и там, вместо того чтобы охотиться, слушает пение птиц. Изредка лишь подстрелит какого-нибудь обленившегося зайца. А Нюся взяла-таки всем: и заманчивым, как пшеничная сдоба, телом, и лицом, и ловкими в работе руками, и едким, остроумным словом.
По состоянию здоровья и по многодетности Лихобаб мог бы получить отсрочку, но он, вишь, взбунтовался. Вспомнил героического отца, партизана-волочаевца, и добился своего — был ныне там, среди героев…
Долго бредет ленивый зимний рассвет от Алтая к Висле. И все же, пока разведчики доползли к зарослям, они инстинктивно почувствовали, что вот-вот начнет рассветать. В последний раз остановились, чтобы перевести дыхание. Непейвода взглянул на левое запястье, где тускло сверкнул зеленоватым фосфором циферблат.
— Поздновато.
— Цыц! Слышишь?
Затаив дыхание, стали прислушиваться к темноте. Тот скрип, который до сих пор так раздражал их, теперь, кажется, становится их союзником. Отчетливо слышны шаги немецкого часового: скрип-скрип, скрип-скрип, тишина. Скрип-скрип, скрип-скрип, тишина… Один? Да. Приближается? Очень похоже. Скрип-скрип, скрип-скрип… Вот он — желанный шанс. Не прозевать бы!
Еще минута… Еще миг…
А Земля мчится по своей эллиптической орбите навстречу дню. Небо еще сохраняет цвет глубокой ночи, но восточный горизонт уже опоясался узенькой полоской, которая постепенно расширяется, растет. Тучи развеялись, луна, к счастью, зашла. Звезды холодные, неприветливые.
— Слушай, трам тарарам…
— Помолчи наконец!
Скрип-скрип… Скрип-скрип… Скрип-скрип…
Морозы в Очеретовке были слабыми и непродолжительными, но все же в январе Ингулец замерз. Лед был тонкий и малонадежный, однако воду святили в проруби, сбив для надежности возле берега деревянный помост. С этого помоста отец Борис размашистым крестом благословил мнимую Иордань, отсюда же и окроплял немногочисленных мирян священной водой.
Людей на крещение собралось немного. После бегства старосты Порфирия Ступы и нескольких полицаев паства отца Бориса почти целиком состояла из женщин. Среди них выделялась высокая, широкоплечая, пропахшая стеариновыми свечами и ладаном, сама похожая на негнущуюся восковую свечу, Матрена Илларионовна Непейвода, которая, родив трех сыновей, рано овдовела: ее мужа застрелил сосед-подкулачник. Двое старших сыновей перед самой войной женились: по одному плачет вдова и двое сирот, а по другому — бездетная жена. За третьего, самого младшего, Гришу, ревностно молится она, неутешная мать. И верит. Непоколебимо верит, что бог поможет ей.
Ефрейтор четвертой роты 208-го альпийского полка дивизии СС «Бавария» Бертольд Мюллер осознает, что нарушил устав боевого охранения, но ничего поделать с собой не может. Во всем повинна эта немилосердная, сатанинская холодная ночь. Еще неделю назад они были в Южной Италии. Еще неделю назад над ними шелестели вечнозеленые пальмы. Еще неделю назад он цедил из бочонка ароматное молодое кьянти и под теплой периной прижимал горячее тело визгливой, но уступчивой хозяйской прислуги Анджелины. Еще неделю назад даже в тоненькой шинели и сапогах из эрзац-кожи он чувствовал себя совсем хорошо. Еще неделю назад!..
А сейчас… Черт бы его побрал! Лежать притаившись! На этой промерзшей, забытой богом земле! Да он давно бы уже превратился в сосульку. В бездыханную ледяную глыбу. В мертвеца! Вот что было бы из него, если бы он действовал по уставу.
Нет, он будет двигаться, покуда жив. И выживет. Во что бы то ни стало выживет. Для этого у него есть фляга, в которой на донышке булькает не разбавленный шнапс, а крепкий ямайский ром. Подогретый огненным напитком, ефрейтор подпрыгивает и будет прыгать до самого утра, потому что движение, как и ром, согревает кровь. Проклятая ночь! Собачья жизнь! Жалкая судьба!
Любопытно, кто сейчас нежится там, в теплой каморке, в объятиях смуглянки Анджелины? А еще интереснее, кто спит с его собственной женой, худенькой, невзрачной, но хитрой, как кошка, Мартой. Есть ли еще у него домик, бакалейная лавочка, фрау Марта Мюллер, их сыночек Отто? И существует ли вообще на свете живописный Радебойль — спокойное предместье суетливого Дрездена? Дрезден часто подвергался ударам с воздуха…
Главное сейчас — выжить. Не замерзнуть, не упасть от пули и осколка, не умереть от тифа или туляремии. Во что бы то ни стало выжить! Любой ценой! Фюрер тоже не дремлет. Фюрер видит на десятилетия вперед. Уже по дороге сюда Мюллер сам читал в «Фолькишер беобахтер» о грандиозном плане генеральной реконструкции рейхстолицы — Берлина. Какие там будут сооружены здания, мосты, объездные дороги! Да, фюрер верит в победу. А доктор Геббельс по радио твердо пообещал новое, неслыханное до сих пор оружие. Держись, Бертольд, еще не конец!
А все же — невыносимый холод! До сумасшествия, до потери сознания. Уже и спасительный напиток выпил весь без остатка, а рассвет все еще не наступает. Как ни двигайся, как ни подпрыгивай — погибель берет за глотку. Ноги закоченели, не слушаются. И тени… Что это за тени? Хальт!..
Тысячи искр вспыхнули у него в глазах. Кто-то рванул за ноги, Мюллер свалился навзничь.
Непейвода и Лихобаб свое дело знали.
5
У сержанта Галины Мартыновой маленькое, ничем не примечательное личико с острым подбородком и похожим на кнопку носиком. Волосы русые, почти бесцветные, такие же и брови. Единственное, что выделяется на этом обыкновенном и все же чем-то привлекательном лице, — большие, неспокойные глаза. Цвет этих глаз не то темно-желтый, не то светло-коричневый — сразу и не определишь.
Видимо, за эти опьяняющие глаза и полюбил Петр Бакулин свою Галинку. А может, за искренность, сердечность, за детскую беззащитность в страшном военном водовороте…
К ухаживаниям героического комбата Галина отнеслась с предубеждением. Слухи о его поведении на Урале каким-то образом дошли и до нее.
Сержант Мартынова — маленькая частичка штабной машины, точнее, нерв, который активно действует в период подготовки операции. В бою связь осуществляется при помощи радио. Галя хорошо знает командиров подразделений, со всеми у нее хорошие, деловые отношения. Бывая в штабе, они часто заходят к ней, кто по делам, а кто просто так — отвести душу. Есть какое-то особое удовольствие в том, чтобы хоть на минутку забыть о жестоком военном быте и переброситься, пусть несколькими словами, с приветливой девчонкой, которая даже в вылинявшей гимнастерке сохранила детскую искренность и женское очарование.
Чаще других заглядывал к маленькой радистке Петр Бакулин. Началось это еще тогда, когда бравый уралец носил звездочки капитана и командовал ротой. Звание майора ему присвоили одновременно с награждением Золотой Звездой Героя за то, что его рота с ходу форсировала Вислу и закрепилась на левом берегу реки, в районе Тарнобжега. Это была существенная помощь соседней армии, которая в тяжелых боях удерживала сандомирский плацдарм.
Петр сразу же почувствовал холодность Галины, и это задело его за живое.
Бригаду вывели на отдых и пополнение. Появилось больше свободного времени, возникло настроение минутной размагниченности, проснулась жажда жизни. Галю и других девчат влекло кино, танцы, развлечения местной молодежи.
А Петр Бакулин переживал сложный этап в своей жизни. Некогда беззаботный юноша стал теперь возмужавшим воином. В первых же боях он осознал, что век танкиста недолог. Казалось бы, если до сих пор ты умел брать от жизни все, что дают молодость и красота, то теперь бери тем более. Завтра, быть может, твой последний бой. Но Петр думал иначе. Если останешься в живых — хорошо, а если нет — то кто же останется после тебя? Хотелось как можно прочнее утвердиться на житейской ниве, чтобы первый слепой случай не вырвал тебя начисто, с корнем…
Галина сердцем почувствовала эту перемену, и прежняя неприязнь к самоуверенному красавцу постепенно исчезала. Шли дни, бригада снова вела бои. На чужой земле, вдали от родных мест, под адским небом войны девушка поняла его чувства, его настроение, его печаль.
Теперь они ждали ребенка.
В камине по-гусиному шипели сырые поленья, в комнате — бывшей резиденции управляющего княжеским имением — было холодновато и чадно. Семен Семенович сидел свободно, с расстегнутым воротником, без пояса — близилась полночь, и он уже не ждал никого. Но у Ивана Гавриловича сквозь маскировочные портьеры пробивался свет — Майстренко нарочно выбрал себе комнату против окон комбрига, — а когда хозяин не спит, негоже отдыхать и подчиненному.
Кто-то постучал в дверь, он удивленно откликнулся. В комнату вошла начальник медицинской службы Аглая Дмитриевна Барвинская.
— Не гоните меня, Семен Семенович, — сказала врач вместо приветствия и опустилась в глубокое кожаное кресло с резной деревянной спинкой и подлокотниками. — Все равно не уйду. Некуда.
— То есть как?
— Очень просто: в медсанвзвод ночью не доберусь, отстала в пути, ехать с зажженными фарами опасно, «рама» засечет, а без света — заночуешь в канаве. Очень рада, что и вы не легли спать.
— Я по другим причинам. В любую минуту может вызвать комбриг, поэтому приходится на старости лет…
— Где еще та старость!
— Приближается. Как не верти, а уже полсотни с гаком. Не то, что некоторым…
— И «некоторым» тоже уже немало… — Не спрашивая разрешения, достала пачку папирос. — Угощайтесь.
— Спасибо.
Взял несгибающимися пальцами папиросу, не спеша закурил. Знакомый запах табака смешался с едким чадом камина, привычно щекотал ноздри.
Аглая Дмитриевна курила, выпуская с бледных, некрашеных губ аккуратные кольца легкого сизого дыма. Смотрела на эти кольца задумчивыми, узкими, как на старинных византийских иконах, глазами, словно забыла, где она, зачем пришла сюда. Очутившись в кресле, женщина вдруг почувствовала непреоборимую усталость. Сколько уже дней бригада то отдыхала, то перебазировалась. Только врачу и ее коллегам не выпадало отдыха ни днем ни ночью: раненых не вылечишь за день-два и даже не подготовишь к эвакуации. Разные ведь бывают раны: одна требует немедленного хирургического вмешательства, другая — терапевтических средств, третья — повторной операции, четвертая — обыкновеннейшего покоя, пятая…
Барвинская утеряла нить мыслей и, наверное, на какой-то миг задремала. Когда же открыла глаза, не могла вспомнить, о чем шла речь, бросила лишь:
— Медикаменты!
Это слово для подполковника Майстренко прозвучало как сигнал бедствия. Он ломал себе голову, как подтянуть медицинскую службу поближе к местам боев, как приспособить ее к требованиям стремительного, многодневного наступления, а вот порошки и микстуры…
— Сколько же вам нужно этого добра?
— Горы. Океан.
За облачком дыма ее узкие византийские глаза, казалось, заслонили собой все лицо, оно словно бы исчезло, растворилось в тусклом свете комнаты, остались только эти узкие, древние, мудрые, требовательные глаза.
Что-то тревожное, волнующее шевельнулось в сердце Семена Семеновича. Оно не имело никакого отношения ни к медикаментам, ни к интендантской службе вообще. Возможно, от их разговора — о старости, о годах. Сколько же Аглае Дмитриевне лет? Тридцать? Вероятно, около того. В боях за Львов погиб ее муж, летчик, и тогда говорили, что у Барвинской остался в Харькове восьмилетний сын. Где-то у чужих людей. Нелегко ей, бедняге, ох нелегко!
Майстренко хочется сделать врачу услугу, он находит среди бумаг ее заявку, датированную позавчерашним числом, и размашисто пишет на ней резолюцию: удовлетворить!
— Сделаем, Аглая Дмитриевна, непременно сделаем.
Он пытается заглянуть в ее дивные глаза, надеясь заметить в них признак удовлетворения, а может быть, благодарности, но глаз уже нет. Они спрятались под тяжелыми веками. Аглая Дмитриевна спит спокойным, глубоким сном. Маленькая, беззащитная и… привлекательная. Семен Семенович растерянно смотрит на Барвинскую. Что же делать?
Невольно взглянул на окна комбрига. Свет в них еще горел. Ну и пусть горит, но он свой рабочий день уже закончил.
Потихоньку затянул ремень, застегнул воротник, накинул шинель. Переночует сегодня у инженер-майора Никольского, тот, наверное, на передовой.
— Спокойной ночи, милая, усталая женщина!
Погасил свет и вышел.
Майор Тищенко только что закончил допрос контрольного пленного. Ефрейтор дивизии СС «Бавария» Бертольд-Гюнтер Мюллер рассказал о передислокации дивизии. Следовательно, нанеся удар англо-американским войскам и остановив их продвижение в Арденнах, Гитлер лихорадочно перебрасывает самые боеспособные части с других фронтов на Восток.
Майор снял трубку полевого телефона и услышал четкое:
— Сержант Мартынова слушает!
Маленький бригадный узел связи не спал.
Комбриг тоже ответил без задержки. Выслушав информацию, приказал передать ее дальше, наверх. А утром прийти с уточненными данными, нанесенными на карту.
Толстым синим карандашом Тищенко отмечает на карте-двухверстке подразделение дивизии «Бавария», конфигурацию линии обороны, огневые точки. Ефрейтор Мюллер ничем не отличается от многих других, кого пришлось допрашивать майору Тищенко. Сначала упирался, божился, что ничего не знает, а потом пошло как по маслу. Плакал, уверял, что его отец не верил в бога, а мать чуть ли не коммунистка: отдала дочь замуж за приказчика. Но в крах всех нацистских иллюзий еще, видно, не верит. Придется отправить эсэсовца во фронтовой разведотдел, возможно, там он скажет что-то более существенное.
Давило под грудью, голова гудела как с похмелья. Вышел из комнаты на свежий воздух.
В ночном небе полновластно господствовала война. Низко над землей шли на боевое задание тихоходные бомбардировщики женского авиаполка, базировавшегося на прифронтовых полевых аэродромах. Тищенко постоянно поддерживал связь с полковой воздушной разведкой, частенько гостил у девчат. Ему не раз приходилось наблюдать храбрых летчиц в их не очень благоустроенном фронтовом быту. Глянешь на них, когда они стирают белье, пришивают к гимнастеркам пуговицы или пишут письма близким и возлюбленным, и перед тобой обыкновеннейшие курносые, веснушчатые, кареокие и синеокие Маруси и Дуси, чьи-то дочери, сестры, нареченные. Сердце невольно защемит от боли за их суровую, нелегкую юность…
Инженер-майор Никольский не был на передовой, как предполагал Майстренко. Рекогносцировку местности Вадим Георгиевич успел закончить в течение дня и под вечер возвратился в замок.
Как ни сладко спал инженер-майор, но, услышав стук, сразу проснулся. Обул сапоги, накинул китель. «Кого это так поздно принесла нелегкая?» Услышал удивленный голос подполковника интендантской службы Майстренко:
— Вы дома?
— А где же мне быть? — не меньше удивился и Никольский.
И вот они сидят в каморке, где жила когда-то прислуга панов Конецпольских или Лянцкоронских. Семен Семенович озабоченно оглядывается по сторонам: где тут расположиться вдвоем, когда и одному тесно? Чтобы объяснить такой поздний визит, интендант коротко рассказал о своем приключении.
— Браво, Семен Семенович! — хохотал легкомысленный Никольский. — Вы и впрямь настоящий джентльмен! Аристократ духа! Однако упустить такой случай!
Но гость есть гость. Налил в рюмки прозрачной жидкости и провозгласил:
— За здоровье прекрасных женщин… и недогадливых мужчин!
— Ладно, ладно, — ворчал Майстренко. — Будто и вы не поступили бы точно так же.
— Упустили шанс, так уж помалкивайте…
Выпили снова, но ко сну не клонило.
— Проклятая судьба! — вдруг пожаловался гостю Никольский. — У меня жена в эвакуации — молодая, красивая… Успел пожить с ней какой-нибудь год-полтора… Часто думаю, что, возможно, и она там небезгрешная… Как мы встретимся с ней? Как переступим через эти фатальные годы? Все это не так просто…
«Ой непросто!» — подумал Майстренко и сочувственно посмотрел на инженера.
— А впрочем, — тут же утешал себя инженер-оптимист, — придется все списать за счет войны. Ничего другого не выдумаешь.
Чтобы возвратить себе хорошее настроение, Вадим Георгиевич снова вспомнил о Барвинской.
— А может, пойдем и посмотрим, как там Аглая Дмитриевна?
— Ничего с нею не случится, — возразил Майстренко. — Разве ей привыкать? Выспится в кресле или проснется и расположится поудобнее. А завтра скажет мне спасибо.
— Или назовет ослом. Ну, ну, не сердитесь. Вы настоящий джентльмен или, как говорят англичане, аристократ по происхождению.
— По происхождению я сын сапожника.
— А я — сын попа. Да, да, потомок мелкого сельского попика, от которого торжественно отрекся в тысяча девятьсот двадцать четвертом году, будучи семнадцатилетним недорослем. Об этом написано в моей героической автобиографии. Вступая в армию, я ничего не скрывал. Бедный папаша! Потерял любовь детей, уважение односельчан, а потом изверился и в боге. Суета!..
Только теперь понял Майстренко, откуда в подвижном инженере эта чрезмерная предупредительность. Пришлось бедняге гнуть шею да приспосабливаться еще с юных лет! Да и во внешности Никольского было что-то архаическое, поповское: и гладенькие, будто маслом смазанные, волосы, и рыжеватая, клиноподобная бородка, и пухлое, как пампушка, лицо, и жадный взгляд рыжеватых, как и бородка, глаз.
Никольский уступил гостю свою кровать, а сам устроился на стульях: шинель, плащ-палатка, противогаз под голову — и постель готова. Через несколько минут он уже по-молодецки храпел. А Семен Семенович долго еще переворачивался с боку на бок. Ему не давали покоя узенькие, византийские глаза.
Березовский и Терпугов обсуждали план политико-воспитательной работы во время наступательных действий.
У Терпугова больное сердце, ночная работа вредна для него. Березовский с сочувствием смотрит на осунувшееся, землистого цвета лицо заместителя по политической части и рад был бы поскорее закончить разговор, но Алексей Игнатьевич имел обыкновение излагать свои мысли очень обстоятельно, всесторонне аргументируя их. Он был лет на пятнадцать, а может и на двадцать, старше комбрига. Ему досаждает хроническая одышка, он часто умолкает, принимает назначенные врачом таблетки.
— Меня очень беспокоит проблема взаимоотношений с местным населением на немецкой территории. Гитлеровцы причинили нам много зла. В памяти у каждого бойца — сожженные города и села, горы трупов, замученные родные и близкие. Сердца воинов пылают священной ненавистью. А тут — аккуратные немецкие домики… Убедить солдат, что мирное население неповинно, что не все немцы фашисты, ох, скажу вам, заданьице!
Он вынул очередную пилюлю, но передумал ее глотать, видимо, уже переусердствовал. Спрятал обратно в нагрудный карман кителя, Однако воды из цинкового бака нацедил полную кружку и выпил одним духом.
— Я понимаю вашу озабоченность, Алексей Игнатьевич. Понимаю…
У комбрига тоже изболелась душа от размышлений об этом. Отец… Тихого, честного и гордого душою, его повесили на площади, а потом тело облили керосином и сожгли. Мать преждевременно ушла в могилу. Сестра на чужбине, в неволе, если жива. Валя… Пугливая, несозревшая любовь… Где она, что с нею? Знал: его горе, его беду нужно умножить на боль и муки миллионов, чтобы определить наказание душегубам.
Порывисто встал из-за стола:
— Для меня главное — успех наступления. Нужно, чтобы каждый боец знал, на какое расстояние мы продвинулись вперед и сколько километров еще осталось до границы Германии.
Комбриг считал вопрос исчерпанным, но Терпугов не уходил.
— Еще одно дело. Опять-таки о Самсонове. Собрали его личные вещи, нужно отправить в Москву.
— Отправьте с нарочным.
— С кем? Ведь сейчас наступление.
— Подумаем. И вот что: скажите Майстренко, пускай подготовит посылку для семьи покойного за счет трофеев, запасов… Он найдет.
Наконец распрощались. Иван Гаврилович погасил аккумуляторную лампу, но ложиться ему не хотелось.
Нащупал в кармане шершавый листик бумаги — письмо-треугольник от Маши Пащиной. Его принес сегодня с полевой почты Сашко Чубчик.
6
Петр Бакулин и Галя Мартынова проводили свой последний вечер. Завтра Галя отпросится в санчасть и откроет Аглае Дмитриевне свою тайну. А потом, как скажет врач: аборт или сохранение беременности. Петр настаивал на том, чтобы Галя ждала ребенка.
Галина плакала. Тихо, молча. Слезы катились по бледным щекам, по мелким веснушкам, и радостные, и неутешные… Ей очень хотелось иметь сына, похожего на Петруся, такого же красивого и боевого. Но война еще не закончена, все может случиться, а они не женаты, на фронте браки не регистрируют. Возвратишься в родной Кременчуг в свои девятнадцать лет одна, без мужа, с ребенком на руках…
Лежала навзничь на жилистой руке Бакулина, устремив взгляд в потрескавшийся потолок, который еле виднелся в ночной тишине, слушала монотонное тиканье часов. До сих пор она почти не замечала этого механического счета секунд. Одинаковые ходики висели чуть ли не в каждом доме, где ей приходилось стоять на квартире. А сейчас прислушалась к назойливому тиканью с тревогой, ибо это, наверное, уходили в небытие ее последние минуты с Петром.
— Ты не забудешь меня, Петя, если я не вернусь из медсанвзвода?
— Пока я жив буду, не забуду.
— Ты будешь жить. Тебя будет оберегать моя любовь.
— Спасибо.
Он крепкими, как гвозди, пальцами нашел ее маленькое шелковое ухо, нежно гладил его. Теплая волна любви и покорности разлилась по ее телу.
На следующий день Аглая Дмитриевна Барвинская позвонила начальнику политотдела Терпугову и сообщила, что в штабе бригады — неприятное событие. Сержант Мартынова забеременела и наотрез отказывается от аборта. Да аборт навряд ли и возможен: во-первых, запрещено законом, а во-вторых, очевидно, уже поздно.
— Кто отец ребенка?
— Не говорит.
Алексей Игнатьевич догадывался, кто здесь замешан. И ему понравилась позиция девушки: взять всю ответственность на себя. Вместо осуждения в его душе возникло сочувствие. Он спросил Барвинскую:
— Что вы предлагаете?
Аглая Дмитриевна посмотрела на Галю. Девушка сидела, низко опустив голову, под глазами темные пятна, в глазах — усталость и растерянность. Барвинская невольно вспомнила звонкий, бодрый голосок: «Сержант Мартынова слушает!» Так отвечала юная телефонистка ей, Аглае Дмитриевне, в те ужасные дни, когда она разыскивала своего мужа, своего Володю, а тот упрямо не подавал о себе вестей. И не подаст уже никогда… Вообще, кто бы ни позвонил на бригадный пункт связи, сержант Мартынова всегда старалась хоть чем-нибудь помочь. А теперь она сама нуждалась в помощи.
— Я уверена, — сказала врач в трубку, — что тут настоящее чувство. А нам после войны нужны будут счастливые матери и хорошие дети.
— Понял. Пришлите ее ко мне.
А сам уже по всем проводам искал командира бригады. Нашел его у начальника штаба Соханя.
— Товарищ комбриг, есть подходящий человек.
— Какой человек, зачем? — не понял комбриг.
— Для того, чтобы отправить в Москву с посылкой для семьи Самсонова.
7
У начальника штаба Соханя, поселившегося в одной из комнат дворца, — хоть топор вешай. Не помогает ни высокий потолок, ни тяга сквозь аккуратный кафельный камин, ни раскрытая настежь форточка. Собралось с десяток яростных курильщиков, все смолят: кто отечественные папиросы с длинными бумажными хвостами, кто топкие трофейные сигареты, заправленные в деревянные или костяные мундштуки, кто самокрутки из едкой махорки, а сам хозяин — шляхетскую трубку с длиннющим, похожим на кларнет, цибухом, разукрашенным квадратиками радужного перламутра. Эту диковинку нашли на чердаке, когда устанавливали на крыше пулеметные точки.
На совещании присутствуют все четыре комбата, командир самоходного артиллерийского полка подполковник Журба, командиры пулеметной и пулеметно-зенитной рот, истребительной противотанковой батареи, а также ближайшие помощники Гордея Тарасовича Соханя — Тищенко, Никольский, оперативники.
Несколько минут назад вошел и комбриг. Переговорив по телефону с Терпуговым, он стоял у окна, за которым сверкал голубой, открытый солнцу день. Вдруг установилась хорошая погода, небо улыбалось по-мирному. Иван Гаврилович отчужденно слушал размышления комбата 1 гвардии майора Бакулина. Только теперь до сознания комбрига дошел смысл информации замполита о беременности Галины Мартыновой.
Бакулин докладывал, что в его батальоне готовы к бою девятнадцать «коробок», которые полностью обеспечены экипажами и комплектами боеприпасов. Две машины остались в Заглембье — у одной неисправен двигатель, у другой вышла из строя муфта сцепления.
Березовский с любопытством рассматривал стройную фигуру комбата, его мужественное лицо, проникновенные глаза. Бедная Галя Мартынова! Тяжело ей будет одной там, в тылу. Дождется ли она его живым, неискалеченным? А если и дождется, то как сложится их послевоенная жизнь?
Никак не мог сосредоточиться на том, сколько танков отремонтировано, помнит, как придирчиво вникал в каждую мелочь Самсонов, когда он, Березовский, был начальником штаба, а Сохань его помощником в оперативных делах. Правда, педантизм Самсонова иногда нервировал его. Пускай Сохань во всем разберется сам.
После комбата 2 гвардии майора Чижова, комбата 3 гвардии капитана Барамия и командира МБА гвардии капитана Осадчего докладывал командир приданного артполка Журба. Это был худой, утомленный человек — его мучила язва желудка — с тонким, нервным, типично интеллигентским лицом, с черными, как воронье крыло, чубом, бровями, бородой.
Журба энергичными движениями гибкой, удивительно длинной руки указывал на карте огневые позиции вражеских противотанковых батарей, место расположения наблюдательных пунктов.
…Совещание длилось долго, но в конце уже без комбрига. С молчаливым шофером и неугомонным ординарцем он покачивался на открытом земным стихиям виллисе по малонаезженной, заметенной снежными буранами дороге. Торопился на командный пункт армии, куда его вызвал командарм Нечипоренко.
8
КП командарма расположился на окраине соседнего городка, центр которого недавно бомбили немцы. Пожар удалось погасить, только в одном месте еще вспыхивали гейзеры огня, окрашенные то черным, то белым, то оранжевым дымом.
— Горит спиртозавод, — со знанием дела определил Платонов-Чубчик.
— Бери канистру и поскорее туда, — нарушил молчание Павло Наконечный.
— Моих запасов хватит до Берлина.
Проезжали по узенькой улочке, уже расчищенной после бомбежки. Комбрига беспокоила активизация битой люфтваффе. Видно, дела союзников на Западном фронте совсем плохи, если Гитлер перебрасывает на Восток целые авиасоединения.
Это предположение подтвердил командарм Нечипоренко, которого Березовский застал на армейском узле связи. Генерал-лейтенант стоял у телетайпа с узенькой, густо покрытой буквами ленточкой. У него были маленькие, как и вся его фигура, руки, аскетическое, вытянутое лицо, плотно стиснутые нервные губы.
«Так вот он какой…»
Иван Гаврилович побаивался энергичных, умных, невысокого роста людей. Сколько ему приходилось встречать таких, все они отличались гиперболизированным самолюбием и властностью.
Узел связи размещался в бывшем сиротском приюте божьей матери Черной, или Ченстоховской. Неподалеку отсюда — польский пограничный город с известным на весь католический мир монастырем. Светловолосые и чернявые связистки в гимнастерках, в коротких юбках и аккуратных сапожках отнюдь не напоминали ни сирот, ни монахинь. Это было юное, веселое и храброе племя! Однако сейчас, в присутствии командарма, девчонки молча сидели за аппаратами, всем своим видом подчеркивая высочайшую скромность.
— Нате, читайте, — командарм протянул комбригу кусок телетайпной ленты. — «Первый» требует начинать действия завтра.
«Первым» не только в шифровках, но и в открытых разговорах называли командующего фронтом.
— Если завтра, так и завтра, — с каким-то равнодушием ответил комбриг.
Его тон вывел командарма из равновесия. Он покраснел и насупился. Это не удивило Березовского, ведь у него была своя теория относительно людей невысокого роста.
— Не понимаю вашей индифферентности. Объясните.
Командарм решительно отодвинул плащ-палатку, служившую дверью, и торопливо пошел узким, полутемным коридором. Этот коридор, похожий на подземный ход сообщения, привел их обоих в просторную низкую комнату. Тут стояло несколько парт и черная, со следами мела, таблица. Ивану Гавриловичу вспомнилась обшарпанная ветрами школа, безрукий капитан Абдурахманов, серые, пытливые глаза маршала.
— Союзники подводят? — спросил Березовский, стремясь приглушить гнев генерала, с которым так неудачно познакомился.
— Это меня не касается! — визгливо воскликнул Нечипоренко и смешно, по-петушиному подпрыгнул. — Я отвечаю не за союзников, а за свой участок фронта!
«Артист…» Командарм не понравился Ивану Гавриловичу с первого взгляда.
— Союзники драпают, — кипел генерал, — в этом нет ни малейшего сомнения! Но разве это означает, что мы с вами должны быть козлами отпущения? Разве разумно… — вдруг запнулся и резко изменил тон. — Однако приказ «Первого» не подлежит обсуждению. И я не позволю никаких дискуссий!
Березовский оторопел. Кто же начал дискуссию? Но не проронил ни слова.
Генерал-лейтенант Нечипоренко покосился на карту, будто на своего злейшего врага.
— Вот! Вот! Вот!.. — тыкал он в карту коротеньким указательным пальцем, будто стремился продырявить ее насквозь. — Фронт моей армии… — Он сделал ударение на слове «моей». — Весь участок плотно забит огневыми точками врага, фортификациями, проволочными заграждениями, минными полями. А какое пополнение прислали мне из резерва?
Комбриг молчал, догадываясь, что экспансивный командарм сам ответит на собственный вопрос. Так оно и случилось.
— Чернопиджачников прислали! — Для большей убедительности он взмахнул миниатюрной рукой. — Ленивых дядек, дезертиров, которые во время оккупации отлеживались на печи, а воевать не хотят и не умеют.
— Извините, товарищ командарм, — не удержался Иван Гаврилович. — Мы своих бойцов убеждаем, что не все, кто остался на оккупированной территории, дезертиры. — Чуточку поколебался и добавил: — Точно так же, как и не все немцы — фашисты.
— Вы верите этим басням? — сердито глядя исподлобья, спросил командарм.
Березовский молчал.
— Лично я — нет!
Из набитого картами полевого планшета генерал выдернул квадратик жесткой бумаги — свою драгоценнейшую реликвию. Показал Березовскому. С чуточку выцветшей фотографии веселыми глазами смотрела миловидная женщина, держа на руках худенькую, с продолговатым, аскетическим личиком девочку. Похож был на Нечипоренко и мальчик, который стоял возле матери, прижимая к груди плюшевого медвежонка.
— Анна Степановна, моя жена, — объяснил командарм. — И наши дети. Ромась и Наталка.
Иван Гаврилович понял, что эта фотография предвоенных лет непосредственно касается темы разговора, начатого генерал-лейтенантом, и настроения Нечипоренко.
— Их замучили. Всех троих. В Шепетовке. Жена поехала туда на лето к родителям и застряла…
Он говорил, глядя в одну точку, будто видел на невидимом экране страшные кадры казни. Горе командарма не могло не поразить самую черствую душу.
— За что же их? — вырвался неуместный вопрос.
— Ни за что, — тихо ответил Нечипоренко. — Я ездил в Шепетовку, проверял. Абсолютно ни за что. Анна Степановна была человеком тихим, неспособным к решительным действиям. Мальчику исполнилось тринадцать, Наталочке — на два года меньше. Их уничтожили как семью коммуниста. Так как же мы должны относиться к семьям наших врагов?
Генерал облизывал сухие, потрескавшиеся губы, глаза его пылали мстительным огнем. Видно, он каждый раз заново переживал свою тяжелую драму. Но и теперь Нечипоренко остался верен себе:
— Не бойтесь, я подчинюсь дисциплине. Но сердце… — Он прошелся по комнате, посмотрел в окно. — Вот эти… чернопиджачники. Знаю: не все лентяи, не все дезертиры. В конце концов, в окружение, в плен могли попасть и вы, и я. Не всегда успеешь застрелиться. Да и не всегда это нужно делать. А вот сердце — не лежит. Глупое оно у меня. Упрямое.
И неожиданно грустно улыбнулся. Заговорил совсем по-другому:
— Простите. Время дорого и вам, и мне. Не будем тратить его на эмоции.
Еще раз взглянул на снимок и осторожно, чтобы не измять, сунул в планшет. Подошел к карте, по-деловому спросил:
— Как же нам прорывать оборону врага? Густые перелески, болотистые районы, мощные огневые средства…
— Где намечен главный удар армии?
— Вот! — палец командарма задержался между двумя населенными пунктами.
— Разорвите два-три километра фронта, чтобы я мог ввести в горло прорыва пехоту.
— Нет, товарищ командарм, — возразил командир бригады. — Я не в состоянии этого сделать.
— Почему?
— Местность не для танков.
— Повторите.
— Местность танконепроходимая. Болота сверху примерзли, а внизу — западня.
— Вы что же, хотите, чтобы я прорвал оборону пехотой, кровью людей?
— В танках тоже люди.
За короткий миг лицо Нечипоренко трижды меняло цвет: оно было белым, красным, наконец, позеленело. Говорил еле слышно:
— Понял. Только теперь понял. Вот что означает ваше «если завтра, так и завтра»: индифферентность и легкомысленность. С чем вы приехали к командующему армией? Вы готовы к наступлению или нет?
— Завтра будем готовы. В пределах своего оперативного задания.
— Какое задание? Кто его поставил?
— Командующий фронтом.
В голосе командарма зазвучало презрение.
— Хотите вбить клин между мною и маршалом? Не выйдет! Прорвете оборону, а тогда…
— Прорывая такую оборону, я потеряю самые боеспособные машины. Кто же тогда будет продвигаться по полсотне километров в сутки, кто будет громить тылы врага, кто обеспечит быстроту и стремительность наступления?
— У вас три батальона.
— Барамия останется в резерве. Впереди — форсирование Одера. И я…
— «Я»… Не кажется ли вам, что вы слишком злоупотребляете этим своим «я»?
Послышался вопрос: «Можно?» — и в комнату вошел адъютант командарма капитан Рогуля. Тоже невысокого роста; наверное, низенькие начальники не любят рослых подчиненных.
— Товарищ командующий, обед готов!
Рогуля поистине адъютант по призванию: безошибочная интуиция всегда подсказывала ему именно ту минуту, когда следует явиться.
— Приглашайте гостя.
— Милости просим, — звякнул шпорами бравый капитан.
Обедали в маленькой уютной комнате. Кроме Нечипоренко и Березовского за столом сидели член Военного совета фронта генерал-майор Маланин и начальник штаба генерал-лейтенант Корчебоков — кубанский казак-великан, полная противоположность командарму.
Адъютант умело разлил в маленькие рюмочки красновато-рыжий напиток, поставил возле каждого открытую бутылку боржоми.
— «Рашпиль»? — спросил комбриг, рассматривая жидкость.
— Собственного производства, — подтвердил Рогуля.
«Рашпилем» они называли чистый спирт, настоянный на остром красном перце.
— За левый берег Одера! — провозгласил командарм.
— За взаимодействие с танкистами! — добавил начштаба.
Выпитая рюмка адского напитка поднимала настроение, возбуждала аппетит.
— Это как понимать — взаимодействие? — в лоб задал вопрос комбриг. — Я хотел бы условиться, товарищ командарм…
— Андрей Викторович только что из Москвы, — прервал его Нечипоренко, кивнув в сторону члена Военного совета. — Был наверху, — подчеркнул он многозначительно.
— Да, — коротко ответил Маланин. Он перестал улыбаться, не по летам моложавое лицо его стало серьезным. — Назревают серьезные события.
— Берлин берем, это ясно, — безапелляционно заявил Корчебоков.
— А дальше что? — не унимался командарм.
— Дальше? — включился в разговор Иван Гаврилович. — Дальше тоже словно бы ясно: заканчиваем войну…
Командарм вспыхнул.
— Во-первых, неизвестно, какие сюрпризы готовит Гитлер.
— Да, — поддержал его член Военного совета. И обратился к Березовскому: — Вы слыхали о выступлении Геббельса перед солдатами фольксштурма?
— О новом секретном оружии? — оживился Иван Гаврилович. — Пропагандистский трюк!
— Если бы так, — вздохнул Маланин. — А Фау-2, которые наносят удары по Британским островам? Разве это пропаганда? Скорее всего, это начало новой эры в производстве средств массового уничтожения. Еще два года назад Гитлер, Кейтель, Йодль и Шпейер в бомбоубежище Растенбурга просматривали снятый на пленку полет реактивной ракеты А-4. Ее конструктор профессор Браун с тех пор работает не покладая рук. На островах Балтийского моря у гитлеровцев есть специальная экспериментальная база.
— А в области авиации? — полюбопытствовал командарм.
— И в авиации, — согласился Маланин. — Инженер Вилли Мессершмитт создал реактивный вариант своего истребителя под маркой Ме-262, а его коллега Хейнкель сконструировал реактивную машину Хе-280. Обоих конструкторов поддерживает Геринг.
Неслышно, будто сквозь стену, появился Рогуля. Ни дверь, ни половица не скрипнули при этом, никто и не заметил, как капитан вошел. В конце концов на то он и адъютант.
— Товарищ командующий, прошу прощения… На проводе — «Первый»!
Командарм торопливо поднялся, держась, однако, с достоинством. По длинному коридору, который отделял их от узла связи, он шел неторопливо, широким шагом.
— Забеспокоился наш «Первый», — добродушно сказал начальник штаба. — Пошли и мы послушаем.
Нечипоренко сжимал в руке трубку ВЧ, стоя по команде «смирно».
— Слушаю… Так… все готово, товарищ «Первый». Полная договоренность, товарищ «Первый». Он сейчас здесь. Слушаю, товарищ «Первый».
И молча протянул трубку Березовскому.
Знакомый, хриплый, простуженный голос.
— Здравствуйте, Иван Гаврилович.
— Здравствуйте, товарищ «Первый».
— Рад, что вы нашли общий язык с «Пятым».
Березовский вспомнил, что «Пятый» — это Нечипоренко, а «Первый» объяснил:
— Человек он сложный, но военачальник отличный. Желаю вам успеха, а неуспеха…
— Быть не может! — комбриг закончил за маршала его излюбленную фразу и положил трубку на рычаг аппарата. — Ну вот и все.
— Что он сказал? — спросил командарм.
— Пожелал успеха.
— Понятно. Итак, начинаем.
— Я от своей оперативной задачи не уклоняюсь, — упрямо повторил Березовский.
— Благодарю за разъяснения, — сухо произнес Нечипоренко. — Сегодня же пришлите офицеров связи.
— Присылайте прямо ко мне, — сказал Корчебоков и велел телефонистке: — Соедините меня со всеми нашими хозяйствами.
— Есть, товарищ генерал.
— До встречи в Германии, — протянул Березовскому руку командующий армией.
— А Терпугову передайте, — добавил Маланин, — чтобы информировал меня о каждом контакте с немецким населением. Это очень важно.
9
Еще минуту, еще миг назад здесь стояла непуганая предрассветная тишина, серая насупленная темнота; висели неподвижные косматые тучи, белый, стерильно-чистый снег стлался по земле, мягко, неслышно, вот так и сеялся бы, наверное, целый день. Но вдруг не стало ни дня, ни ночи, ни туч, ни снега, ни рассвета, ни тишины.
Тысячи орудийных стволов, сотни минометов и реактивных установок извергали десятки тысяч тонн металла и огня на укрепленные позиции врага. Залп за залпом, взрыв за взрывом. Уходили секунды. Минуты. Час. Полтора.
Березовский стоит на покатом пригорке, смотрит в бинокль. Танки, его танки, его стальные крепости, его грозные «коробки», включив электростартеры, громко прогревают двигатели и медленно, будто допотопные динозавры, выползают на рубеж атаки. Группируются острым клином, на острие которого — первый батальон, возглавляемый командирским танком Петра Бакулина. За ним занял позицию танк командира роты старшего лейтенанта Коваленко. Далее разворачивают боевые порядки остальные роты первого и второго батальонов, держась позади тральщиков. Танки-тральщики должны «вытоптать» вражеские минные поля, обезвредить их. Каждый танк имеет прикрепленные к бортам два сосновых бревна, чтобы преодолевать другие противотанковые преграды.
Низко под облаками пронеслись эскадрильи Ла-5 и Як-9, чуточку медленнее пророкотали штурмовики Ил-4. К сожалению, это и все. Два дня назад Гордей Сохань порадовал комбрига: фронт получил новую партию первоклассных бомбардировщиков Пе-2 и Ту-2. А вчера загрустил: в долине Вислы, где расположены полевые аэродромы бомбардировщиков дальнего действия, низко залегли тучи, бушует метель.
Комбриг еще раз взглянул на ручные часы с зеленоватыми светящимися стрелками и на ходу бросил ординарцу:
— В машину!
На этот раз он имел в виду не юркий виллис — Павел Наконечный догонит их при первой возможности, — а командирский танк, стоявший у пригорка. Механик-водитель старший сержант Нестеровский ждал приказа комбрига, который одновременно был и командиром машины. На своих местах, готовые к бою, были стрелок-радист Кулиев и наводчик орудия Черный.
В боевом отделении танка — три сиденья: командирское, командира орудия, или наводчика, и заряжающего. Все здесь хорошо знакомо, эта «коробка» принадлежала Ивану Гавриловичу и раньше, когда он был начальником штаба. Танк покойного Самсонова он отдал Соханю.
Держа наготове микрофон бригадной радиостанции, Иван Гаврилович приник глазами к оптическому прицелу. На броне занимали постоянные места закрепленные за каждой «коробкой» группы автоматчиков из батальона Осадчего. А дальше, на сколько было видно, развернулись боевые цепи стрелковых подразделений армии Нечипоренко. Пехота, мужественная пехота! Хотя, бывает, в невероятных муках погибают в раскаленных «коробках» танкисты, погибают под гусеницами вражеских танков раздавленные артиллеристы, камнем падают с неба подбитые летчики, и все же они, если так можно выразиться, — элита, аристократы войны. А ты, пехота, ее вечный, обжигаемый солнцем, омываемый дождями, пронизываемый ветрами, жгучими морозами, убиваемый всеми видами оружия, — чернорабочий!
Сам был пехотинцем, знаю…
…Когда с остатками стрелковой роты Березовский вырвался из кольца, в которое части Восемнадцатой армии попали между Днестром и Бугом, разрывная пуля с «мессера» насквозь прошила его тело. Упал, срывая с себя окровавленную сорочку, с трудом перевязался ею, а на большее не хватило сил. Смерть тебе, тяжелораненый пехотинец, бесславная смерть! Однако на этот раз случилось иначе…
Впрочем, хватит, хватит об этом! Хватит обо всем, что не относится к сегодняшнему бою. Осталась одна минута: тридцать секунд… пятнадцать…
Крепче зажал в ладони микрофон и во весь голос воскликнул;
— Орлы-танкисты, впере-ед!
Покачнувшись, танк комбрига рванул с места, за ним последовал танк Бакулина, за Бакулиным — Коваленко, за Коваленко — Мефодиев, за Мефодиевым — Качан, а впереди — тральщики. Вращаются огромные железные цепи, крутятся валы с острыми металлическими зубьями, бьют и роют землю, а она то покорно безмолвствует, то огрызается взрывами мин.
Вдруг одна «коробка» остановилась, окутанная дымом. Между черными дымовыми клубами вспыхивают голубовато-сиреневые языки пламени. Горит танк старшего лейтенанта Коваленко. Видимо, тральщик проскочил мину…
Первый просчет, первые жертвы… Спасется ли кто-нибудь из членов экипажа? Успеет ли оказать им помощь санитарная служба? Трудно сказать. Боя уже не прекратить!
Первые танки достигли противотанкового рва и остановились. Саперы им сейчас не сумеют помочь — враг еще живой, еще дышит, несмотря на полуторачасовую артподготовку. Гитлеровцы бьют прицельным пушечно-минометным огнем. Навести переправу в этих условиях крайне трудно.
— Огонь, ребята, огонь из пушек! Расстреливайте ров прямой наводкой!
Огромными фонтанами поднимается смерч снега, перемешанного с песком, горячие осколки веерами разлетаются во все стороны, там, где они падают, снег шипит, превращается в лужицы талой воды.
Танк Героя Советского Союза гвардии майора Петра Бакулина мчит к ближайшему перелеску. Бой уже далеко позади, его не видно и не слышно. Это не тревожит комбата 1. Так или иначе, но бригада прорвалась и выполняет поставленную перед ней задачу. Комбат до боли натер переносицу монокуляром оптического прибора — видимость никудышная. Тучи, казалось, опустились еще ниже, снег повалил еще гуще. Комбат открыл крышку люка, но снежинки залепили стеклышки бинокля. Теперь можно полагаться лишь на собственные глаза.
Пилицу проскочили с ходу, фашисты не успели взорвать мост — удача! Огромная удача, которая всегда сопутствует тому, у кого в руках инициатива.
Настроение у комбата чудесное. Командир бригады по радио приказал ему сегодня же достичь польско-германской границы. Чтобы развить нужную скорость, Бакулин вывел свой передовой отряд на шоссе Ченстохов — Люблинец.
Первой идет его машина. За нею тарахтит танк скрупулезно-педантичного, немолодого, лысоватого лейтенанта Полундина. Умный, опытный офицер, человек не из робкого десятка. Ему бы давно уже пора носить звездочки капитана, командовать ротой или батальоном, а он, вишь, застрял на взводе, чуть ли не от самого дома. Орденами и медалями фортуна его не обделила, а вот про служебные ступеньки почему-то забыла…
Сейчас Полундин выполняет обязанности командира роты вместо старшего лейтенанта Коваленко, который временно вышел из строя. Временно или навсегда? Об этом они узнают лишь на ближайшем пункте боепитания. Где он будет, этот пункт? А они ведь израсходовали на проклятый ров чуть ли не половину снарядов.
— Сколько снарядов осталось? — спрашивает комбат заряжающего Мамедова, неразговорчивого азербайджанца, который сидит рядом и напевает какую-то бесконечную песню. Из-за этой песни, стука и грохота Мамедов не слышит комбата, поэтому Бакулину отвечает наводчик Голубец:
— Двадцать восемь.
Следовательно, израсходована половина: частично при форсировании рва, а частично уже по дороге — на подавление разных движущихся и неподвижных целей. Теперь придется экономить каждый снаряд.
Появление тридцатьчетверок вызывает повсеместную панику. Что бы ни попадалось у танков на пути: обоз, автоколонна, штабные машины — все погибает или же бросается наутек. Но вон там, впереди, виднеется какой-то населенный пункт. Там может вспыхнуть бой.
По радио комбат спрашивает Полундина, сколько у него снарядов. Сорок? Это уже лучше. Полундин осмотрительнее и скупее Бакулина, а тот уралец — душа нараспашку!
Вдруг Бакулин вспомнил о Галине. Ему искренне жаль ее, он до сих пор переживает разлуку. Но ничего не поделаешь! Зато радостно сознавать, что у тебя будет сын или дочь. Знать бы, кто именно!..
То ли тучи израсходовали все свои запасы, то ли танкисты проскочили полосу снегопада, но уже только отдельные снежинки игриво мерцают в воздухе. Сектор наблюдения сразу расширился, достигает теперь самого горизонта. Можно воспользоваться и оптикой. ТПК чудодейственно приближает населенный пункт, виднеющийся вдали, и комбат Бакулин лихорадочно сверяет свои наблюдения с картой. Нет сомнений: впереди немецкий город Обервальде. Старые стены, потемневшие крыши — черное пятно на озаренном зимним солнцем горизонте.
…Черный город встречает танкистов белыми флагами.
10
Узнав о том, что советские танки появились уже непосредственно на немецкой территории, Гитлер примчался в Цоссен. Сегодня этот юго-восточный форпост Берлина с его многоэтажными зданиями превратился в хаос руин. Бомбардировщики союзников побывали здесь не один раз. Разрушенные здания — будто наружный защитный барьер над глубокими катакомбами, составляющими второй, подземный город. В нем расположился штаб генерала Йодля — оперативный мозг сухопутных вооруженных сил гитлеровской империи: рабочие комнаты, узел связи, шифровальный отдел, зал для совещаний, спальни, столовые, бары с электрическим освещением, вытяжной вентиляцией, горячей водой.
Внешне Гитлер воспринял фатальное известие с неожиданным спокойствием. В цоссенском подземелье он появился без очередной истерики и проклятий. Однако вид его поразил генерал-полковника Альфреда Йодля.
— Провидение, — бормотал фюрер. В его мутных зеленовато-голубых глазах светилось нечто похожее на радость. — Провидение, — повторил он хриплым, жутковато-спокойным голосом и направился к карте, висевшей на стенде. После прошлогоднего покушения и ранения фюрер ходил боком, поддерживая здоровой правой рукой искалеченную левую.
— Где они сейчас? — спросил он вдруг громко и яростно.
Йодль вздрогнул от резкого гортанного восклицания, Гитлер заметил это и ехидно бросил:
— Дрожите?
Йодль внутренне съежился, но этого не мог заметить никто, даже провидец фюрер. Лицо же начальника генерального штаба, продолговатое, обмякшее, уже не способно было ни бледнеть, ни краснеть. Оно всегда было желтоватым. Последние двое суток Йодль не спал ни минуты, держась на тонизирующих препаратах. Неутешительные вести одна за другой поступали с Восточного фронта, где, как и следовало ожидать, началось мощное наступление русских.
Йодль не раз пытался убедить фюрера в том, что Сталин не останется равнодушным к просьбам Черчилля и Рузвельта о стратегической помощи в связи с неудачами, постигшими на Западноевропейском театре действий фельдмаршала Монтгомери и генерала Эйзенхауэра. Но все напрасно: фюрер не согласился вывести из Курляндии шестнадцатую и восемнадцатую армии, в составе которых законсервировано двадцать шесть дивизий, чтобы действовать не растопыренными пальцами, а сжатым кулаком. Тогда фюрер, правда, в шутку назвал его паникером и пораженцем. От этой шутки у Йодля похолодела спина.
— Где они? — все более разъяряясь, спрашивал Гитлер, хотя маниакальная радость в его тусклых, склеротических глазах не угасла.
— Здесь, мой фюрер, — пошевелил непослушным языком Йодль, указывая район на восток от Оппельна.
— Поздравляю вас, генерал! — сказал Гитлер и, как и раньше, боком, тяжело дыша, двинулся назад к столу.
Это, наверное, тоже была шутка или хуже — ирония, сарказм, однако Гитлер говорил вполне серьезно. И от этого Йодлю становилось еще жутче.
— А мы с вами где были в сорок первом и сорок втором? — уже спокойнее, почти мягко обратился к Йодлю Гитлер. И, не ожидая ответа, чеканил слова, пристукивая в такт им правой рукой по столу; — Под Москвой! Под Петербургом! На Кавказе! — Названия Ленинград он не признавал, а о Сталинграде промолчал. Это слово было для него слишком ненавистно.
Йодль стоял обескураженный и отупевший. Фюрер снова резко спросил:
— Итак, какой вывод мы должны сделать?
— Слушаю, мой фюрер.
— Что мы с ними поменялись ролями. И только.
Начальник генерального штаба молча ждал, что будет дальше. Он хорошо знал привычку Гитлера — провозгласить парадоксальный тезис и тут же лихорадочно развить его в теоретическую концепцию. Конечно же безошибочную, ибо фюрер — человек, который не ошибается. А Гитлер уже увлекся, его мутно-голубые глаза пылали.
— Тем лучше для нас!
Некоторое время он смотрел в одну точку, словно видел там нечто великое, известное и подвластное лишь ему одному. Наконец он сухо, деловито приказал:
— Созвать совещание на четырнадцать ноль-ноль. Вызвать: рейхсмаршала, рейхсфюрера СС, рейхсминистров, являющихся членами политического штаба национал-социалистской партии. Повестка дня: генеральное контрнаступление на Восточном фронте.
— Будет исполнено.
Альфред Йодль почувствовал, что у него не только похолодела спина, но и отнимаются ноги. Нужно во что бы то ни стало двигаться, действовать, а не думать…
Очень хотел бы прогнать прочь назойливые мысли и рейхсмаршал Герман-Вильгельм Геринг. И не только о ближайшем будущем, но и о сегодняшнем дне. Вызов на совещание к Гитлеру застал его в комфортабельном бомбоубежище, под руинами роскошного дворца Карингалле.
Берлин недавно снова бомбили американские «боинги» в сопровождении британских «харрикейнов» и «спитфайеров». На Фридрихштрассе рухнул театр-варьете, кажется, разрушен мост через Шпрее. Там сейчас хаос и паника, в борьбу с которыми вступили пожарники и полиция. Пробиться почти невозможно, однако это не может послужить оправданием опоздания на совещание в Цоссен. Наоборот, это повод для очередной взбучки. Еще бы! Рейхсмаршал Германии, рейхсминистр авиации, главнокомандующий военно-воздушными силами люфтваффе, который торжественно заверил фюрера и народ, что ни одна бомба не упадет ни на один немецкий город, опаздывает на вызов ставки из-за вражеского воздушного нападения на столицу империи! Более позорной ситуации и выдумать нельзя!
Пришлось добираться в объезд, по бесконечным лабиринтам разрушенных кварталов, на Тельтов-канал. Бронированный «хорьх» с усиленным мотором рвался вперед, но на пути то и дело возникали свежие неубранные завалы, незасыпанные воронки, штабеля трупов, толпы горожан из разбомбленных домов, огромное множество беженцев из Померании, Восточной Пруссии, Силезии, а также обледенелый снег, лежавший на улицах и переулках предместья с самого начала зимы.
Страшная зима! Ужасные налеты! Гигантский город постепенно превращался в необозримые руины. Обгорелым скелетом торчит и бывший фешенебельный дворец рейхсмаршала, построенный в неповторимые тридцатые годы, когда на фюрера и его приспешников сыпались, как из рога изобилия, сокровища из богатейших банковских сейфов Германии. И одновременно с этим — радость молодости, развлечения с красивейшими женщинами Берлина. Его дворец Карингалле в Шорфгайде с бесценными коллекциями живописи, скульптуры, фарфора, с чудесным парком и щедрыми угодьями для охоты на оленей являл собой, что называется, новоявленные сады Семирамиды. Однако ни над дворцом, ни над парками колпак из непробиваемого стекла, к сожалению, не поставишь… Конец, всему конец! Если, конечно, сегодня Адольф не придумает чего-то необычайного…
Примерно с такими же мыслями прибыли на совещание почти все его участники. Каждый прекрасно знал, что положение катастрофическое, хотя не каждый, даже самому себе, откровенно в этом признавался: боялся обвинения в пораженчестве.
Геринг и впрямь чуть было не опоздал, преодолевая завалы и полицейские барьеры. Не везде помогал ему даже флажок рейхсмаршала, трепетавший на радиаторе рябого от камуфляжа «хорьха». Наконец Цоссен! Геринг спустился в подземелье, сдал оружие — после покушения на фюрера 20 июля 1944 года эта процедура стала обязательной для всех — и вошел в холл перед конференц-залом. Здесь было малолюдно и тихо. Никто не осмеливался ни громко разговаривать, ни курить — Гитлера все это раздражало. Здоровались и разговаривали шепотом. Об этом забыл Геринг. Торопясь, он вскочил в дверь, и его «Хайль Гитлер!» прозвучало слишком громко и не очень искренне. Неуместным был и парадный мундир рейхсмаршала, от воротника и до пряжки пояса увешанный орденами и лентами. Геринг понял это, однако справился с минутной растерянностью и взглянул на своих врагов — а здесь не было у него ни единого настоящего друга — с вызовом и пренебрежением.
К нему подошел долговязый Риббентроп и вежливо поздоровался. Дипломат-неудачник, выходец из кругов прусской аристократии, Иоахим фон Риббентроп лютой ненавистью ненавидел зазнавшегося плебея-выскочку. Но Геринг давно был назначен преемником на случай смерти Гитлера, и этим обстоятельством невозможно было пренебрегать. Фортуна изменчива, никто не знает, что будет завтра.
Риббентроп жаловался на уклончивость американских политиков, которых он всеми средствами настраивал как против русских большевиков, так и против английских плутократов. Геринг невнимательно слушал рейхсминистра иностранных дел, в голосе которого нетрудно было уловить страх и отчаяние. «Что будет со всеми нами?» — в который уж раз мелькнула неотступная мысль.
Могло ли быть все иначе? Несомненно! Если бы Адольф послушал башковитых интеллигентиков Мессершмитта и Хейнкеля, дал разрешение и средства на строительство экспериментальных сверхскоростных самолетов! Однако ведь не дал, отверг их проекты, отказал им! «Все вы рассчитываете на годы, а мне история отпустила недели…» Болтун! Хорошо, что он, Герман Геринг, на собственный риск велел продолжать работу, и не позднее чем через месяц-полтора первые Ме-262 взлетят в небо. Но не поздно ли будет?
Геринг бросил Риббентропу какую-то незначащую фразу и уже вознамерился подойти к Гиммлеру, но в последнюю минуту заколебался. Рейхсфюрер СС сидел рядом со своим личным представителем при ставке Гитлера обергруппенфюрером Фегеляйном, в недавнем прошлом малограмотным торговцем лошадьми, а ныне очень влиятельным чиновником, благодаря женитьбе на Гретль Браун, сестре любовницы фюрера. Интересно было бы переброситься с Гиммлером несколькими словами, несмотря на то что между ними пролегла пропасть — рейхсфюрер сам претендует на место преемника Гитлера, — а у простодушного красавчика Фегеляйна можно было бы выведать последние данные о настроении Адольфа. Да бог с ним, надоело уже унижаться.
Гиммлер сам позвал его, приветливо махнув холеной рукой извечного канцеляриста. Это был палач, орудовавший не топором, а циркулярами, согласно которым уничтожались сотни тысяч людей.
Геринг подошел к ним, и Фегеляйн, имевший чин, равный генералу, встал.
— Присаживайтесь, рейхсмаршал, — пригласил Геринга рейхсфюрер СС.
— Благодарю, насиделся в машине, — ответил Геринг и, чтобы не торчать, оперся коленом толстой ноги на неуклюжий стул.
Это вынудило Гиммлера встать со своего места. Невольно должен был он учесть то, что еще с момента подавления заговора Рема и его сторонников Геринг считался вторым человеком в партии — он опережал даже непосредственного заместителя фюрера Рудольфа Гесса. Правда, после фатального полета Гесса в Великобританию и неудач подчиненной Герингу люфтваффе на второе место после фюрера неожиданно выполз треклятый интриган рейхслейтер Борман, но это все равно не утешало ни рейхсмаршала, ни рейхсфюрера.
Отдав дань партийной субординации, Гиммлер все же не удержался от шпильки:
— Говорят, через Берлин трудно проехать.
— Я ведь проехал.
— Еще бы! На то вы и главнокомандующий воздушными силами!
У Геринга под левым глазом задергался припудренный шрам — памятка боевых подвигов в кайзеровской авиации.
Но Гиммлер снисходительно засмеялся:
— Не сердитесь, мой друг, мне тоже нелегко. После Освенцима срочно эвакуирую Майданек. Вагонов нет, графики поездов нарушены. Да и куда эвакуировать? Бухенвальд и Дахау переполнены до отказа. А узников еще сотни тысяч.
— Примите мое сочувствие, дорогой рейхсфюрер.
Маленькое, густо усеянное рыжими веснушками лицо Гиммлера внезапно нахмурилось. Он взглянул на Геринга из-под стеклышек старомодного пенсне близорукими, покрасневшими от бессонницы глазами и спросил совершенно серьезным тоном:
— Вы помните дело доктора Рунге, рейхсмаршал?
— Какого Рунге?
— Физика, профессора, одним словом, ученого червя, запятнанного еврейским происхождением своего дедушки или бабушки и связями с эмигрантом Эйнштейном.
— A-а… Этот фантазер?
— Тот самый. В свете последних данных, его фантазии о возможности получения плутония из высокорадиоактивных веществ имеют под собой реальную почву.
— Так что же случилось с этим Рунге?
— Фюрер отказал ему в ассигновании средств на эксперименты, требуя, чтобы новое оружие было изобретено не через два года, а через три-четыре месяца. Тогда я хотел заняться этой проблемой, добился средств, но вы, как руководитель всех военно-научных исследований рейха, не разрешили мне.
— По той простой причине, что гестапо выявило его неарийское происхождение. Проблему получения плутония поручено разрабатывать профессору фон Брауну и доктору Штейнгофу. Оба они — чистокровные арийцы.
— Логично, рейхсмаршал. Однако, если бы шли по пути Рунге, вермахт уже в конце прошлого года имел бы атомную бомбу. А фон Браун и Штейнгоф просто сожрали миллионные ассигнования…
— Но они создали управляемые снаряды…
— И ракеты, которые взрываются, не взлетев.
— Кто же мог все это предвидеть?.. Где этот Рунге сейчас?
— Где же ему быть: в тюрьме.
Геринг тяжело выпрямился. К чему этот лысый удав завел разговор о Рунге? А Фегеляйн молча слушает и загадочно улыбается. Не иначе — расскажет обо всем Еве Браун, а она — фюреру.
— Итак, вы посадили его за решетку, а теперь хотите взвалить вину на меня?
— Нет, я просто велел пересмотреть дело доктора Рунге. Однако боюсь, что мы уже упустили время.
— То есть как! Вы не верите в победу?
Но Гиммлер не растерялся.
— В победу еврейских фантазий не верю.
Наконец часы подошли к четырнадцати ноль-ноль. Прозвучало разноголосое «Хайль Гитлер!», и фюрер, боком, старчески шаркая, направился через холл. Притихшая элита третьего рейха двинулась за ним в зал.
Гитлер сел за огромный, покрытый темно-зеленым сукном стол. Позади, во всю стену, свисал красный шелковый штандарт с белым атласным кружком, в который впились черные зигзаги свастики. В углу, справа от фюрера, стоял его скульптурный портрет, в полный рост, с поднятой вверх рукой. Живой Гитлер мало был похож на свое мраморное подобие: там была молодость, решительность, усиленные подхалимским мастерством художника.
На лице фюрера и сейчас решительность. Подлинная она или показная — кто его знает. Но все почувствовали, что Гитлер не имеет намерения сдавать позиции без боя.
— Генерал Йодль! — сказал Гитлер резко, раздраженно. — Мы ждем вашей информации.
Как всегда, бледный, болезненный, но безотказный Йодль подошел к карте. Длинная деревянная указка с рукояткой из слоновой кости поползла сначала на запад — через Берлин, Нюрнберг, Гейдельберг, реку Рейн и герцогство Люксембург, остановившись на пограничных департаментах Франции и Бельгии.
— Здесь, на Западноевропейском театре войны, — объяснял усталым, лишенным каких-либо эмоций голосом начальник штаба верховного командования немецких сухопутных сил, — в середине декабря прошлого года мы начали хорошо подготовленное контрнаступление. Развивая успех, доблестные воины фюрера под его личным руководством остановили продвижение вражеских войск. Сбитые с выгодных позиций в Арденнских горах, оторванные от баз снабжения, деморализованные силой наших ударов англо-американцы начали паническое отступление и очутились на грани полного краха. Но им на помощь пришли большевики. — Указка переместилась через Центральную Европу и остановилась в междуречье Одера и Вислы. — С левобережных плацдармов на Висле советское командование внезапно начало наступление на берлинском направлении. К сожалению, враг добился известных преимуществ. Войска Первого Белорусского и Первого Украинского фронтов ворвались на исконную территорию рейха, подошли вплотную к Одеру, а в отдельных местах… — указка ткнула в район Кюстрина и Оппельна, — форсировали Одер.
— Какова ситуация в Арденнах? — прервал его Гитлер.
Йодль судорожно глотнул слюну. От фатальных неудач и бессонных ночей у него плохо работала поджелудочная железа, пересыхало во рту, деревенел язык.
— Докладывайте, — подгонял его Гитлер.
Сухой и шершавый язык не слушался, говорить было трудно.
— Нам пришлось снять оттуда… Я уже докладывал вам, мой фюрер.
— Докладывайте всем.
— Мы сняли оттуда шесть дивизий.
— Это улучшило наше положение на Востоке?
— До некоторой степени. Темп продвижения советских танков значительно замедлился. Их базы снабжения остались на правом берегу Вислы, а на территории Польши и Силезии началась оттепель. Полевые аэродромы раскисли, авиация бездействует.
— Провидение, — прошептал Гитлер.
«Провидение», — подумали все присутствующие. И первая искра надежды затеплилась в их сердцах.
У Гитлера была исключительная интуиция, помогавшая ему угадывать и использовать в своих целях настроение масс. К тому же он слепо и безоглядно верил в силу провидения, дарованного ему богом. Сначала это была игра, он делал вид, что верит в свою необычайную миссию пророка и провидца, потом игра превратилась в маниакальное убеждение.
— Разрешу себе добавить, — сказал в заключение Йодль, — что мы в свою очередь удерживаем надежные опорные пункты на правом берегу Одера и в Северной Померании.
Указка еще раз скользнула по карте. Потом Йодль поставил ее в специальный желобок у стенда, поклонился фюреру и занял свободное место в первом ряду.
Наступила продолжительная пауза. Гитлер встал, все также поднялись.
— Садитесь, — прогнусавил фюрер.
Все сели.
Гитлер подошел к карте, уставился на нее, словно бы колдуя. Все загипнотизировано смотрели на него. Они ждали чуда, надеялись на чудо, ибо в нем усматривали свой единственный шанс.
— Рейхсмаршал Геринг! — выкрикнул Гитлер.
Грузный Геринг мигом поднялся, застыв по команде «смирно».
— Слушаю, мой фюрер.
— В каком состоянии наши аэродромы?
— Люфтваффе базируется на стационарном бетонированном аэроузле… — чуть было не произнес «возле Берлина», но осекся: география не столь уж приятная, чтобы к ней привлекать внимание.
— Сколько самолето-вылетов в сутки может обеспечить люфтваффе?
— Я полагаю…
— Точнее, рейхсмаршал, точнее!
— Не менее… пяти тысяч, мой фюрер.
— Не слишком ли много? Вы всегда преувеличиваете свои силы и недооцениваете силы противника! Это ваш существенный недостаток.
— Я учту это, мой фюрер.
— На три тысячи вылетов ежедневно вы способны?
— Ручаюсь головой, мой фюрер.
Многочисленные ордена вызывающе звякнули, и это обескуражило Геринга. К его счастью, после взрыва бомбы, которую по поручению заговорщиков подложил Штауфенберг, Гитлер стал хуже слышать и не обратил внимания на этот бессмысленный звон. Он обратился к Гиммлеру:
— Господин рейхсфюрер!
Генрих Гиммлер, с удовольствием наблюдавший, как фюрер распекает Геринга, вскочил с места и замер.
— Я назначаю вас главнокомандующим группой армий «Висла».
— Такой группы нет, мой фюрер, — отважился на реплику Йодль.
— Она будет, — безапелляционно отрезал Гитлер. — Записывайте, генерал.
Он оживился, отступил от карты, плотнее прижал больную руку здоровой, чтобы она не дергалась. Начал диктовать генерал-полковнику Йодлю:
— Сформировать группу войск «Висла» под командованием рейхсфюрера СС Гиммлера. Группе подчинить девятую армию в составе пяти пехотных дивизий и одной танковой, вторую армию в составе тринадцати пехотных дивизий и одной танковой. Создать новую, одиннадцатую, армию, передав ей резервные части и офицерские школы. В помощь группе «Висла» перебросить из центральных районов рейха девять пехотных дивизий, четыре танковые и одну моторизованную. Выяснить также возможность переброски на Восток новых контингентов войск с Западного фронта, из Норвегии, Италии…
Пока Гитлер диктовал свой хорошо обдуманный приказ, Гиммлер лихорадочно соображал, кто подложил ему эту свинью, кому он более всего мешает в осуществлении каких-то тайных планов. Геринг? Нет, его карта бита. Риббентроп? Фюрер давно презирает долговязого болвана. Геббельс? Шпейер? Кейтель? Вряд ли. Первые два — люди гражданские, в военные дела не вмешиваются, третий — наоборот, старый фельдмаршал, для которого назначение руководителя СС на высокий пост в вермахте, несомненно, является оскорбительным вызовом. Следовательно, Борман? Да, он, и только он! Этот плюгавый нелюдим, сосредоточивший в своих руках всю казну партии, все бесчисленные богатства, вкладывал их по собственному усмотрению в нейтральные иностранные банки. Став начальником партийной канцелярии и главным секретарем фюрера, он пользуется безграничным влиянием на Гитлера. Вот чья эта работа! Но почему, зачем, с какой целью?
Гиммлер не успел разобраться до конца в своих догадках. Гитлер закончил диктовать и обратился к присутствующим с речью. Ее нужно выслушать внимательно, ибо она тоже — приказ и директива, каждое положение которой придется выполнять в условиях очень трудной борьбы.
Постаревший, контуженный бомбой заговорщиков, Гитлер мало чем напоминал мюнхенского путчиста, нюрнбергского пророка, берлинского диктатора. Он конвульсивно подергивался, кричал и захлебывался, и все же фанатизм, решительность, вера в провидение постепенно вдохновляли его, подчиняли и гипнотизировали присутствующих.
— Сегодня наши войска не только на Одере, но и в России. На Курляндском полуострове мы держим и будем держать полумиллионную армию как раз на полпути между Берлином и Москвой. Это наш заслон, наш форпост до будущего наступления! На Дунае, только в районе Будапешта, у нас есть одиннадцать отборных танковых дивизий и другие боеспособные единицы. Могучие клещи охватывают советские вооруженные силы с севера и юга. Большевики не пали на колени, когда мы схватили их за горло. Почему же сегодня перед лицом временных неудач должны пасть мы?! Взгляните на конфигурацию Восточного фронта. — Он, видимо, перед этим не колдовал у карты, а внимательно изучал ее. — Я с глубочайшим убеждением заявляю: наши авангарды на том берегу Одера имеют во сто крат более важное значение, чем большевистские — на этом берегу. Почему? А потому, что московские авантюристы, в угоду лондонским политическим банкротам, бросили лучшие, отборнейшие части нам в пасть. Мы пережуем, перемелем их и выплюнем им в лицо! Советские танки на Одере? Да. Но они без боеприпасов, без горючего, без артиллерийских и пехотных заслонов. Вы говорите, генерал Йодль, что большевистские склады за Вислой? Это армейские и фронтовые склады, запасы которых исчерпаны для первой стадии наступления. Теперь эти склады пусты. Боеприпасы, горючее, резервы большевикам нужно подвозить с Украины и Белоруссии. В условиях весеннего бездорожья. Единственная возможность у них — железные дороги. Но здесь свое слово скажет наша люфтваффе. Не правда ли, рейхсмаршал Геринг?
— Так точно, мой фюрер!
— Фронт по Одеру для большевиков — дырявый мешок, который не скоро залатаешь и наполнишь. Для нас же — могучая стальная пружина, стиснутая до предела. Она даст отдачу, и мы снова двинемся на Восток. Вы увидите, как тогда начнет распадаться беспринципная коалиция русских большевиков, английских плутократов, американских спекулянтов и французских масонов. А тем временем у нас появится новое, невиданное оружие. Работа немецких ученых завершается. Долой из наших рядов трусов и пораженцев! Будущее принадлежит великой и могучей Германии!
Он обессиленно упал на стул. Все вскочили, неистово выкрикивая «Хайль Гитлер!». Одни искренне верили в провидение, чудо, грядущую победу. Другие хотели бы верить, ибо в противном случае — безвыходность, пропасть…
11
Бакулин с консервной банкой в руках удобно расположился на гранитном пьедестале громоздкого памятника, возле которого стоит его «коробка». Из люка выглядывает заряжающий Мамедов, он тоже лакомится консервированными черешнями, напевая свою бесконечную песню. Механик-водитель Потеха уверяет, что этой песни Мамедову хватит до самого Берлина. Сейчас Потехи нет. Он вместе с наводчиком Голубцом направился за продуктами для роты. С Бакулиным кроме Мамедова остался стрелок-радист, щуплый, жилистый юноша со странной фамилией Кардинал. Откуда взялась эта фамилия, не знал ни он, ни его отец — колхозный конюх с Житомирщины. Навряд ли смогли бы объяснить этот факт и ученые-лингвисты. Но этим исключительность Кардинала не ограничивалась. Парень был истовым художником, возил в танке этюдник и при малейшей возможности рисовал, рисовал, рисовал. Он уже обследовал близлежащую улицу, но ничего подходящего не нашел. Попросил Голубца и Потеху, если на пути у них окажется магазин художественных принадлежностей, раздобыть краски и кисти. А тем временем обыкновенным карандашом в походном альбоме он запечатлевал, как Герой Советского Союза Петр Бакулин мирно ест компот из черешни на пьедестале памятника неизвестному прусскому генералу, бронзовая голова которого снесена осколком снаряда.
Творческую идиллию нарушил приезд комбрига. Комбат поставил банку с компотом у ноги обезглавленного вояки и соскочил с пьедестала. Рапорт его был краток: после трагического случая с экипажем Коваленко потерь в батальоне больше не было. Иван Гаврилович обнял храброго уральца, поздравил его с продвижением по вражеской земле.
— Угощайтесь, товарищ комбриг. — Бакулин протянул неначатую банку. — Вот, черти, консервируют, будто только что с дерева.
Березовский взглянул на этикетку.
— Где взяли?
— А тут… В каком-то разбитом продуктовом магазине. Все витрины были выбиты, прочесть невозможно.
— Проверяли?
— Проверяли на своем гвардейском желудке.
— Я ведь предупреждал вас, Бакулин. Тут не до шуток!
— Порядок, товарищ комбриг. Закупорены герметично.
— Смотрите! Как бы беды не случилось!
Комбриг внимательно рассматривал красочную этикетку, на которой выделялось написанное по-французски: «Изготовлено в Бельгии». Эти слова напомнили ему сегодняшнюю печальную и трогательную встречу, которую не забудет он, наверно, до конца своих дней. Находясь в боевых порядках второго батальона, он получил радиограмму от командарма Нечипоренко: «В нескольких километрах слева от вас расположен концлагерь. По приказу Гиммлера узников, которых не успели вывезти, уничтожают. Поспешите им на выручку».
Комбриг связался по радио с Чижовым и приказал:
— Будьте готовы к неожиданностям. Идите за мной.
Продвигались они по чистому полю, на которое недавно выпал снег. Под ним могли быть мины. Хотя вряд ли: если гиммлеровские палачи не успели эвакуировать заключенных, то было ли у них время устанавливать противотанковые заграждения? И все же оказалось, что лагерь был окружен противотанковым заслоном, созданным заранее: железной оградой чернели бетонированные ежи, оттопырив острия обрубленных рельс.
— В обход! — подал команду Иван Гаврилович, надеясь, что где-то должен быть разрыв в этой стене; ведь машины гитлеровцев как-то въезжают в этот ад и выезжают из него.
Проезд между ежами в самом деле был. С противоположной, западной стороны. Эсэсовцы хотели и тут вырыть ров или яму, но не успели. Услышав грохот советских танков, бросились наутек.
Из бараков на снег и мороз выскакивали мужчины, женщины, дети. Немощные, изможденные, еле держались они на ногах. Но всем, особенно женщинам, хотелось встретить героев в приличном виде. Живые мертвецы срывали с себя опостылевшие лохмотья, наспех одевались в платья и туфли, валявшиеся возле разбомбленного эшелона, который не успел уйти. Не знали, сердечные, что праздничная одежда еще больше подчеркивала землистый цвет их лиц, выцветшие глаза, наголо остриженные головы.
Вот и эта стройная, с глубоко запавшими глазами, светловолосая женщина в легкой голубой пижаме на морозе и ветру выглядит трогательно и смешно.
— Вам не холодно? — спросил у нее комбриг.
— Же не компран па, — ответила она, пытаясь улыбнуться. — Же сюи бельж.
Березовский почти не знал французского языка, но все же понял ответ девушки, понял, что она из Бельгии. На этом их разговор прервался. Потом он встречался с чешкой из Брно, еврейкой из Мукачево, полькой из Кракова. Польский язык Иван Гаврилович за время пребывания в Польше изучил довольно неплохо. С жительницей Кракова ему легче было объясняться. Девушка сказала:
— Мы стояли по три часа каждое утро и по два часа ежевечерне на морозе и под дождем в одном белье. Те, кто не выдерживали, давно уже там…
Она указала рукой на окруженное колючей проволокой поле, где чернели штабеля брикетов.
— Печи горели днем и ночью. Моя мать тоже там…
Послышались родные русские, украинские и белорусские слова. Две подруги — Лида из Запорожья и Женя из Минска — подошли к полковнику. Лида была очень бледна, у Жени на щеках нездоровый румянец: у двадцатилетней девушки после двух лет неволи начался туберкулезный процесс.
Печальные рассказы девушек разбередили душу Ивана Гавриловича. Среди заключенных было много таких, которые попали сначала в Германию на работу, а потом за неосторожное слово или неласковый взгляд очутились в лагере смерти. То же самое могло случиться с его сестрой Настей…
Сашко Чубчик подал комбригу пожелтевший листок из школьной тетради, на котором было написано карандашом: «В. Ш. 1923 года рождения. Именно такие годы, когда хочется жить как можно лучше, а я все это переживаю в неволе». И внизу адрес: «Германия, Котценау, Гартенштрассе, 16». Далее стихотворение «Письмо матери»:
Не буду я, мамо, Вам ложечки мити, Бо я виїжджаю Німоті служити. Буде вам без мене Невесела хата, Не будуть ходити Хлопці та дівчата. Ой у полі жито Росте під травою, Ой чи буде, мамо, Вам жалко за мною?..В. Ш. — инициалы Валентины Шевчук, его бывшей юношеской мечты с родной Подольщины. Год рождения, кажется, тоже совпадает. Это, конечно, еще ничего не значит: наивно верить в такое совпадение обстоятельств, однако листок из тетради он бережно сложил вчетверо и спрятал в карман вместе с письмом от Маши Пащиной.
Белые сочные черешни бельгийского происхождения напомнили ему о встрече в мрачном царстве колючей проволоки. Комбриг вынул из кармана истершийся листок и сверил невольнический адрес неизвестной В. Ш. с картой Восточной Германии. Котценау не очень далеко отсюда, на том берегу Одера.
Стрелок-радист Кардинал, взобравшись на гусеницу тридцатьчетверки, склонился над незаконченным рисунком. Из башни «коробки» комбрига высунулся испачканный мазутом старший сержант Нестеровский и стрелок-радист Кулиев. Саша Платонов вручил им по банке черешни. Наводчик Черный соскочил на старинную мостовую, с которой теплые языки оттепели старательно слизывали снег, и, выбирая удобные позиции, щелкал фотоаппаратом. Черный сфотографировал комбрига и комбата за дружеской беседой на фоне безголового бронзового прусского генерала, заснеженные, грозные тридцатьчетверки. Далее он принялся фотографировать дома-близнецы с выбитыми окнами, белые простыни капитуляций, полуобгоревший автобус, на выцветшем борту которого сохранилось название туристской фирмы «Митропа», опрокинутый вверх колесами двенадцатитонный грузовик «опель-блиц».
Приближались сумерки. Пока «коробки» заправятся, если смогут доставить сюда горючее (проклятая оттепель!), смотришь, и ночь нагрянет. Лучше уж заблаговременно устроиться на ночлег, а может и на более длительный постой. По приказу командира этим занялись Чубчик и Кардинал. Они пошли по следам саперов на разминированные объекты, все время держа автоматы наизготовку, — чужой город, чужая земля…
Березовский, расположившись на уголке пьедестала, по примеру других товарищей рискнул отведать фламандских черешен. Сначала нервничал, почему все еще не подтягиваются тылы, а потом погрузился в свои размышления, не заметив, как нахлынули на него воспоминания… Был он обыкновенным крестьянским парнем, комсомольцем, агитатором за коллективизацию. Примерно на двадцатом году жизни, пройдя пешком более десяти километров, впервые увидел чудо — кино. Он уже не помнит названия фильма, в памяти осталось ошеломляющее впечатление, с которым он возвращался ночью в свое Озерцо. Быть может, именно этот забытый фильм и подтолкнул его еще упорнее засесть за книги. Сыну бедняка не трудно было поступить в вуз, и вон он — студент Каменец-Подольского института народного образования, а затем и учитель средней школы в родном селе. Преподавал он арифметику, алгебру, геометрию, тригонометрию. Для большинства — скука, лишь для некоторых волнующая тайна чисел, линий, фигур. К этим «некоторым» принадлежала и быстроглазая умница Валя Шевчук, которой он мысленно пророчил лавры Софьи Ковалевской. Он помогал Вале решать сложные задачи, встречался с нею после уроков в математическом кружке, где он был руководителем, а она — старостой. Вот-вот должен был объясниться в любви, но все не решался, оттягивал до тех пор, пока война не нарушила все его планы. Учитель спешно надел солдатскую форму. Сначала он был пехотинцем, командиром роты; в выгоревшей степи между Днестром и Бугом он был тяжело ранен с вражеского самолета. От верной смерти его спасли танкисты. Три танка, исклеванные пулями, исцарапанные осколками, искореженные в яростных боях, — все, что осталось от бронетанковой бригады, а может и корпуса… Прорывая кольцо окружения, мчались они степью, слепые от ненависти и ярости. Случайно подобрали его, случайно он выжил. Однако танкистом стал не только из-за этого случая. Проснулся в нем математик, влюбленный в числа и цифры. На курсах и в боях ускоренным темпом овладевал он теорией и практикой танкового дела. Страна как раз перевооружала армию. Создавались новые бронетанковые соединения, нужны были кадры, кадры, кадры…
А перед тем — скучные госпитальные палаты, опостылевшие лечебные процедуры и ясный лучик в сером мраке госпитального быта: медицинская сестра Мария Пащина. Ее чуткая забота, нежные руки, ласковые глаза. Глаза, которые склонялись над ним, будто две полоски весеннего неба…
Воспоминания комбрига неожиданно прервала песня — громкая, привольная, широкая, как черноморская степь.
К центральной площади с памятником Карлу Клаузевицу — только теперь Иван Гаврилович прочел это имя на пьедестале — приближалась толпа полонянок. Сопровождали их Голубец и Потеха. Одетые в самую лучшую одежду, с чемоданами и узелками в руках, гордо шагали они под крыльями песни, которая была их документом, пропуском, путеводителем на Родину.
Гей, на горі, там женці жнуть… А попід горою, яром-долиною, Козаки йдуть. Гей, долиною, гей, широкою Козаки йдуть!Песня явственно адресовалась им — казакам-танкистам, героям-освободителям. Звучали в ней смех, шутка, звучали любовь и благодарность к воинам, бурное ощущение обретенной свободы.
Увидев комбрига, Голубец и Потеха растерялись, девчата остановились и умолкли. Не успел Березовский и слова промолвить, как из рядов вышла высокая черноглазая девушка, метнула в него искристым взором, обняла и крепко поцеловала. За нею и остальные, недавние невольницы, бросились к Бакулину, Черному, Нестеровскому, Кулиеву, все вокруг зашумело, забурлило. Даже Мамедов прервал свою нескончаемую песню, неторопливо спустился с брони и оказался в чьих-то объятиях. Потеха метнулся к люку своей тридцатьчетверки и там, среди укладки пулеметных магазинов, схватил трофейный сиренево-вишневый аккордеон. На чужеземной площади стало радостнее, еще веселее.
Чернобровая девушка, первой вышедшая из рядов из восклицаний подруг Березовский уже знал, что ее зовут Катериной, — потащила его танцевать, другая увлекла комбата. Так завертелись, закружились пара за парой. А кто не танцевал — напевал, выкрикивал какие-то слова, хохотал, забыв на время о тяжелых днях, чтобы они никогда больше не приснились!
Однако нет, будут, будут сниться! Пройдет первая вспышка радости, первое опьянение. Начнутся продолжительные будни, дальние дороги, горькие новости на родных пепелищах, тоска по утраченному, утерянному навеки, — по весеннему цвету юности, которую не вернуть.
Где-то задержались Чубчик с Кардиналом, зато Павел Наконечный пригнал наконец виллис комбрига, в котором, завернувшись в тулуп, — ехали с ветерком! — сидел замполит Терпугов. Прибыл и ГАЗ-63 с личными вещами комбрига, а вскоре появился и Семен Семенович Майстренко с колонной покрытых брезентом «студебеккеров». На бронетранспортере примчались представители армии Нечипоренко организовывать комендатуру, налаживать нормальную жизнь.
Терпугову по пути следования уже встречались собранные в колонну полонянки, и Алексей Игнатьевич приобрел определенный опыт в этом деле.
Прежде всего стихийный праздник он превратил в организованный митинг. Березовский сомневался, стоит ли это делать в данной ситуации, однако не стал возражать — он занялся распределением боеприпасов и горючего.
Терпугов не ошибся, полонянки слушали очень внимательно. Они снова почувствовали себя частицей великой Родины, причастными к ее могуществу, славе, к близкой победе над врагом. В глазах у многих девушек засверкали слезы гордости и счастья. Под конец митинга появился инструктор политотдела по комсомольской работе старший лейтенант Яша Горошко. Вид у него был воинственный: на плече — автомат, в кобуре — трофейный парабеллум, на боку — планшет с картами и набором разноцветных карандашей.
В толпе полонянок он сразу же заметил стройную Катерину, безошибочно угадав в ней врожденного вожака. Как только замполит закончил речь, Яша и Катерина принялись составлять списки девчат по группам: нужно ведь всех накормить, устроить на ночь, а завтра раздобыть транспорт для отправки их на Родину. В блокноте старшего лейтенанта красным карандашом подчеркнуты слова: «Поговорить с Майстренко относительно машин». Горошко знал, что разгружающиеся сейчас машины рано утром будут возвращаться в тыл, на армейские базы.
Кардинал и Чубчик возвратились в часть не одни: с ними пришли четверо немцев. По приказу фашистского командования заминированный город должен был взлететь на воздух, поэтому населению под угрозой оружия было приказано спешно покинуть его, точнее, остаткам населения, ибо все, у кого были родственники в центральных районах или кто чувствовал за собой какую-нибудь провинность, удрали без напоминания. Оставались в городе лишь очень старые, больные и те, кому некуда было деваться. Вот из таких горожан и состояла эта случайная делегация. С бойцами немцы объяснялись при помощи Кардинала, знавшего немного язык, однако для серьезной беседы с комбригом нужен был настоящий переводчик. И тут оказалось, что Катерина Прокопчук хорошо знает немецкий язык. Последние месяцы девушка работала в патриархальной семье, осевшей в Обервальде. Профессор Шаубе уезжать с насиженного места не захотел — вместе с женой и племянницей он остался в городе. Сейчас Шаубе возглавлял делегацию. Это был небольшого роста пожилой, измученный человек с поблекшим лицом, на котором светились умные, наблюдательные глаза. Профессор опирался на толстую трость со множеством металлических пластинок, на которых были выгравированы названия различных городов, посещенных им.
— Профессор Фридрих Шаубе, — представила его Катерина Прокопчук, — мой хозяин.
Девушка смутилась и, зардевшись, добавила:
— Бывший…
— Я надеюсь, что фрейлейн Катрин не в обиде на меня? — с достоинством произнес профессор.
Катерина перевела его слова и от себя добавила, что профессор действительно был неплохим человеком. Трое других членов делегации одобрительно кивали головой. Профессор называл их, а Катерина переводила:
— Владелец парикмахерской Иоганн Мангейм.
— Владелец слесарной мастерской Вольф Пабст.
— Пианист Амедей Розенкранц.
Пианист еще был молод, выглядел лет на тридцать. Кисти обеих рук у него были ампутированы. Как в дальнейшем выяснилось, они были отморожены под Сталинградом. Парикмахер и слесарь были в таком возрасте, что не подходили даже под тотальную мобилизацию. Каждое слово профессора они дружно сопровождали кивками головы. Пианист стоял несколько в сторонке — высокий, хмурый, углубленный в себя.
Почувствовав благожелательное к себе отношение, профессор откровенно признался: все они приготовились к смерти и поэтому были очень удивлены, что советские солдаты не стреляли в них. В разговор включился полковник Терпугов, поручив заботы о дальнейшей судьбе полонянок Яше Горошко и сотрудникам вновь сформированной комендатуры.
Фридрих Шаубе пригласил «господ полковников» к себе на ужин. Это было для Березовского неожиданным. Сожженные дома, безлюдные кварталы — все это было очень знакомо и привычно. Разговоры о взаимоотношениях с немцами — отцами и женами тех, кто совершал в годы войны преступления на советской территории, отошли на второй план, как сугубо теоретическая проблема. И вот теперь этот суровый вопрос из сферы теории переходит в практику. И эта неожиданная делегация, и это еще более неожиданное приглашение… Как на это ответить? Противоречивые мысли проносились в голове, и он начал понимать раздражительную непоследовательность Нечипоренко. Однако победило благоразумие: он решил принять приглашение, чтобы во время этого ужина разобраться в настроениях местных жителей, или, быть может, открыть для себя что-то интересное.
Уточнил с Бакулиным ближайшие задачи батальона, назначил ему место следующей встречи, отдал Майстренко последние приказания относительно расквартирования штаба, затем велел Платонову взять все необходимое для ужина и с Наконечным ехать вперед, по указанному адресу. Сам комбриг с Терпуговым и немцами решил идти пешком. Город небольшой — лучше уж пройтись, осмотреть его.
Катерина очутилась на распутье. Ей не хотелось отрываться от подруг, которые, судя по всему, завтра утром уедут на Восток, поближе к дому. Но, с другой стороны, за этот памятный день она успела подружиться со многими хорошими людьми из части…
— Как же быть с Катериной? — спросил замполит.
— Без переводчика нам теперь не обойтись, — задумавшись на миг, ответил Иван Гаврилович.
Алексей Игнатьевич согласился с комбригом.
Вот так и была решена дальнейшая судьба девушки.
Катерина имела при себе лишь небольшую сумку, ушла из профессорского дома в чем была. Теперь она бросила свою нехитрую поклажу в виллис к Сашко и Наконечному, а сама присоединилась к профессору и его спутникам.
Наступили сумерки. Звезды, изредка пробивавшиеся сквозь серые тучи, не могли осветить этот мертвый город, который давно уже не знал вечернего освещения.
— Видите, — объяснял профессор своим спутникам, — город превратился в руины.
— Мы не жили, — добавил парикмахер, — мы прозябали в темноте.
— Словно кроты, — закончил мысль слесарь.
Березовский и Терпугов освещали дорогу батарейными фонариками. Лучи фонарей выхватывали из тьмы то воронку от артиллерийского снаряда, то целый квартал, разрушенный бомбами, то черную замшелую подворотню, то кусок стены с пометкой наших саперов: «Мин нет». Время от времени навстречу им попадались патрули комендатуры, город начинал жить новой, неведомой доселе жизнью.
Изредка встречались и прохожие. Утомленно брели вчерашние узники концлагерей — страшно изможденные люди в полосатых тюремных робах. Они боязливо оглядывались вокруг, все еще не веря в свое освобождение. А вот грузная немка натужно толкала впереди себя тачку, на которой сидел завернутый в одеяло ее парализованный муж. Спросили, куда она направляется, — в ответ последовало равнодушное:
— В монастырь умирать.
Послышались автоматные очереди, из дома напротив выбежал, яростно отстреливаясь, эсэсовец с окровавленной физиономией. Его настигла автоматная очередь из окна верхнего этажа.
Будничная хроника войны…
В городском лабиринте, попрощавшись, исчезли поодиночке слесарь и парикмахер. Безрукий пианист поднимался с ними на крутую гору, на вершине которой белели стены коттеджей. Наконец попрощался и он.
— Бедняга, — вздохнул вслед ему профессор Шаубе.
— Фашист, — шепнула Березовскому Катя. — Потерял руки, не может играть, мучается, страдает, а за Гитлера горло готов перегрызть.
Профессор то ли догадался, о чем говорит его бывшая работница, то ли просто так, для уточнения, объяснил:
— Наш сосед.
Будто хотел этим подчеркнуть, что только это и связывает его с пианистом.
Несмотря на преклонный возраст, Фридрих Шаубе при помощи трости довольно ловко взбирался на гору, пока, наконец, не остановился перед чугунной калиткой.
— Милости прошу в мой дом.
На маленьком дворике уже стоял виллис комбрига. Павел Наконечный фарами осветил каменную лестницу, которая вела на крыльцо, в вестибюль особняка. На этой лестнице уже стоял с автоматом Сашко Чубчик, давая понять, что все здесь в порядке.
Там, у калитки, профессор торжественно, чуточку даже церемонно произнес: «Милости прошу в мой дом». А здесь, над входом в вестибюль, висела медная табличка с бюргерским кредо: «Мой дом — мой мир». За порогом этого микромира радовали глаз красивые портьеры, удобная мебель, копии с картин Дюрера на стенах. В одном месте выделялись четырехугольники свежей краски, более светлой, чем сами стены — поблекшие, давно не ремонтировавшиеся. Этот контраст был заметен даже при тусклом свете керосиновой лампы.
— Здесь, в рамках под стеклом, висели цитаты из «Майн кампф», — громко, не таясь, сказала Катерина.
Знакомое сочетание слов дало хозяину возможность понять, о чем идет речь. И он сразу же включился в разговор. Говорил он быстро, горячо, Катерина едва успевала переводить.
— Да, здесь нашли себе место выдержки из этой каннибальской книги. Но здесь было не только это. Здесь было еще кое-что. Здесь… — он ткнул палкой в стену, — и здесь… Да, фрейлейн Катрин? Говорите все…
— Тут висели фотографии его сыновей, — объяснила девушка чуточку растерянно. Она жалела, что возвратилась в этот дом, полный противоречий и внутренней борьбы.
— Ну да, — нервно подтвердил Шаубе. — Здесь висели фотографии двух моих сыновей — Альфреда и Готлиба. Оба сейчас на фронте. Где они и что с ними, не знаю. И, видимо, никогда не узнаю. Конец!..
Он плюхнулся на миниатюрный, почти игрушечный диванчик пурпурного цвета. Сидел подавленный, обессиленный и отчужденный. Он и сам сейчас походил на игрушку, в которой перестала работать заведенная ключиком пружина. Немного передохнув, Шаубе заговорил тише и спокойнее:
— Такой конец предвидел мой третий сын Бернард. Он был самым старшим. Его портрета вы здесь не видели, фрейлейн Катрин, и никогда о нем не слыхали, не правда ли? Бернард Шаубе погиб в Бухенвальде, от пули эсэсовца. Как и его партийный товарищ Эрнст Тельман, с которым они работали в Рот Фронте.
Для Катерины это и в самом деле была новость. Девушка догадывалась, что у Шаубе есть какие-то семейные секреты, которыми хозяин не считал необходимым делиться с ней.
Напряженную паузу нарушил Сашко Чубчик, принесший пакеты с едой. Катерина повела его на кухню, оставив на некоторое время комбрига, замполита и немецкого профессора. Чтобы дать возможность Фридриху Шаубе успокоиться, гости молчали в ожидании возвращения Катерины. Березовский взял первый попавшийся журнал из тех, которые лежали на низеньком газетном столике, и начал перелистывать его: он немного умел читать по-немецки.
Это был иллюстрированный еженедельник с претенциозным названием «Радость и труд», издание так называемого рейхсминистерства труда. Руководил министерством хронический алкоголик доктор Лей, пьяная физиономия которого мелькала на многих страницах издания. Чаще всего — рядом с фюрером: на Мюнхенской художественной выставке, со всей очевидностью свидетельствовавшей о вырождении изобразительного искусства под прессом фашистской диктатуры; при рассмотрении и утверждении генерального плана реконструкции Берлина, которому не суждено было осуществиться; на строительстве автострады Бреслау — Берлин, словно бы нарочно сооруженной для советских автоколонн… Удивляло сравнительно небольшое количество фронтовых фотографий, хотя страна истекала кровью в ужасной, самоубийственной войне. Как видно, фашистские заправилы всем этим хотели подчеркнуть, что война идет победоносно, вдали от границ рейха, что нет ни голода, ни холода, ни городов-кладбищ, ни концлагерей, ни тотальной мобилизации стариков и подростков.
Березовский подал журнал Терпугову, обратив его внимание на снимок с Мюнхенской выставки: чванливая фигура диктатора с выпученными стеклянными глазами на фоне гигантской скульптуры дискобола. Создавалось впечатление, что атлет, замахнувшись тяжелым диском, вот-вот стукнет фюрера по затылку. Это похоже было на карикатуру. Алексей Игнатьевич улыбнулся, а Шаубе объяснил:
— Культ грубой физической силы.
Катерина возвратилась в комнату с фрау Шаубе. Магда Шаубе, тоже маленькая и беспомощная, всей своей фигурой, жестами, интонацией, даже лицом была очень похожа на мужа. Она старалась приветливо улыбаться, но в поблекших старческих глазах проглядывало тревожное: что же будет дальше? В немом вопросе — и боль о своей собственной судьбе, судьбе мужа, дома, и неутешное материнское горе. Можно годами молчать о старшем сыне, можно сорвать со стен фотографии младших сыновей, но вырвать их из сердца, не думать о них ни одна мать не в силах.
«Видимо, это и к лучшему, что оба они в таком возрасте, когда притупляются мысли и чувства. Будь они помоложе, их нервы не выдержали бы, не вынесли такого напряжения…»
Фридрих Шаубе словно бы угадал мысли комбрига.
— Я не знаю, откуда человек берет силы… Не знаю. Перед нами жалкие осколки семьи, которая могла быть счастлива.
— Ты рассказал господам о Бернарде? — спросила Магда у мужа.
— Да, рассказал. Тяжкое горе обрушилось на нашу семью. Однако я молил бы бога, если бы только это несчастье постигло меня, чтобы не было еще большего, самого ужасного: краха Германии, ее позора.
— Хайль Гитлер! Паф! Паф! Паф!.. — послышались визгливые восклицания. Они принадлежали высокой, стройной златокудрой женщине, стоявшей в кухонной двери. Броская красота ее невольно привлекала взор. В простом, стального цвета, полувоенном платьице она чем-то походила на одну из героинь нормандских саг.
Молодая женщина неестественно засмеялась, обнажив большие пожелтевшие от никотина зубы. Мучительный смех искажал ее красоту, было в нем что-то отталкивающее, конвульсивное. И вдруг — о чудо человеческой памяти — перед глазами Ивана Гавриловича возникли кадры из того первого кинофильма, который ему пришлось увидеть в районном городке в далекой юности. Это была старая, немая лента, он и название ее вспомнил: «Арсенал».
…Тысяча девятьсот восемнадцатый год. Последние дни первой мировой войны. Регименты кайзера Вильгельма развернутой цепью топчут украинскую землю. Некоторые солдаты покачиваются, поддерживаемые руками других. Это мертвые. Живые идут в атаку, таща под руки мертвецов, чтобы и самим стать мертвецами. Черной тучей плывет газ. Солдаты в противогазах. Но вот один из них не выдерживает и, задыхаясь, срывает с себя маску. На экране появляется надпись: «Есть газы, веселящие душу человека». Солдат, наглотавшись «веселящего» газа, начинает корчиться от смеха.
Взрывается снаряд. На песке — голова немецкого солдата. Глаза раскрыты. Ужасная улыбка, обращенная в небесную пустоту, исказила солдатское лицо…
— Подойди сюда, Инга, — ласково сказала фрау Шаубе, — и не нужно этих неуместных шуток…
— Я только хотела напугать варваров, — спокойно ответила Инга и села на стул.
— Остерегайтесь провокаций, — шепнул комбригу замполит.
Алексей Игнатьевич уже пожалел, что согласился посетить старого профессора. Хотя директива Главного политического управления и обязывает налаживать контакты с местным населением, однако над ним тяготело чувство ответственности и за комбрига, и за себя, и за любой возможный инцидент.
— Наша Ингред слишком экзальтированна, — сказал профессор, не очень удивленный поведением племянницы.
— Она столько пережила, — добавила его жена. — Мы все пережили много, но она в таком возрасте…
— Это что? — встряхнула золотыми кудрями Инга. — Рыдания дядюшки и тетушки над гробом любимой племянницы? — И подчеркнуто фамильярно обратилась к Терпугову: — Дай закурить, господин большевистский офицер.
— Не курю, — ответил немного смущенный таким обращением Терпугов. На выручку ему поспешил Березовский:
— Пожалуйста, фрейлен…
— Фрау, — подсказала Катерина.
— Простите, фрау Инга. Берите. — Березовский протянул взбалмошной красавице коробку «Казбека», которую он носил на всякий случай. Инга бесцеремонно взяла из нее сразу несколько папирос. Понюхала табак и восторженно воскликнула:
— О!..
Появился Платонов-Чубчик с подносом в руках. На фронте ординарец — и швец, и жнец, и в дуду игрец. Сашко понемногу привык к этой роли, хотя в такой, как сегодня, ситуации он оказался впервые.
— Прошу в столовую! — спохватилась фрау Магда. Взяв лампу, она двинулась в соседнюю комнату.
Стол уже был накрыт. В хлебнице лежал нарезанный тоненькими ломтиками эрзац-хлеб землисто-пепельного цвета, в масленке — комочек неестественно белого маргарина, в сахарнице — мелкие, как мак, таблетки сахарина. Тут же лежали принесенные Чубчиком копченая колбаса, галеты, сахар.
Хочу шнапсу! — заявила Инга. Трудно было понять суть ее поведения: психическая аномалия или нарочитая игра?
И Терпугов, и Березовский знали, что в данных обстоятельствах пить не следует. Разве лишь по капельке для приличия. Целебная жидкость всегда была в походной фляжке Платонова. Когда рюмки были наполнены, никто первым не решался провозгласить тост. Березовскому и Терпугову сейчас было не до тостов — они все время думали о своих подразделениях, о предстоящих боях; Платонову в присутствии старших не положено было начинать первым.
Затянувшуюся паузу нарушил профессор Шаубе.
— За победу разума над безумием!
Кто выпил, кто лишь пригубил, а Инга, лихо осушив рюмку, громко захохотала.
— Разум… Ха-ха-ха!.. Разум, безумие, честь, бесчестье… Ха-ха-ха!.. — И протянула пустую рюмку: — Еще!
Березовский замялся, она вырвала у него из рук флягу Платонова, налила себе в рюмку и залпом выпила ее. И снова захохотала.
— А где был, дяденька, ваш мудрый разум тогда, когда вы цепляли на стены фразы из «Майн кампф»? И тогда, когда вы срывали их? Ха-ха-ха! И в обоих случаях вами руководил страх. Паф! Паф! Паф!.. Вот чего вы боялись. Вы — знаменитый профессор, знаток Петрарки и Данте. А Данте, между прочим, не испугался ни преследований, ни изгнания, ни остракизма.
— Инга! Это в конце концов невыносимо! — не удержалась фрау Магда.
— Пускай говорит, — тоном обреченного согласился Шаубе. — Она говорит правду.
— Правду?! — Слова профессора, мягкий тон его голоса не успокоили разъяренную Ингу. — Где она? Где? Нет правды! Нет ее, как нет разума, чести, совести, любви, верности — всего того, что выдумали книжные черви. Есть только сила — грубая, жестокая! Вчера она была у Гитлера, сегодня — у Сталина. Вот и вопите, дяденька, во всю глотку: «Гитлер капут!» Проклятье… Проклятье человеческому разуму с его кровавым безумством.
Поднялась — буйная, красивая, охмелевшая от водки и ярости, выбежала из комнаты. Никто не пошевельнулся, видимо в этом доме уже привыкли к ее выходкам. Сквозь приоткрытую дверь виднелась стена смежного кабинета. На полках под стеклом ровными рядами стояли книги, книги, книги… Царство разума, мудрости веков, — как говорил когда-то учитель десятилетки Иван Березовский. Но ведь там, на полках, рядом с Шиллером и Гете нашел себе место роскошно изданный человеконенавистнический бред Гитлера и Розенберга. Пигмеи рядом с титанами.
Смешались понятия, стерлись критерии, рухнули иллюзии. Для нас это понятно: социальные противоречия, политические конфликты, диалектика борьбы. А для такой Инги…
— Она много пережила, — виноватым голосом повторила фрау Шаубе. — Жила в Бреслау, неподалеку отсюда. В одну из ночей бомба попала в их дом. На ее глазах погибли отец, мать, то есть моя сестра, и пятилетняя дочурка, настоящий ангелочек… А еще раньше погиб ее муж в боях под Харьковом. Боже милостивый, где тот Харьков, зачем он нам?!
— Инга правду говорит, — заученно повторил профессор. — Страх… Отвратительный, липкий, ужасный. Он держал нас в своих тисках. Страх и ложь. Да еще циничная демагогия. То «молниеносная война», то «эластичная оборона», то «реконструкция столицы рейха», то вдруг заявление: «Мы будем бороться и позади Берлина…» Вот так, до последней минуты.
— Скажите, пожалуйста, — прервал его Терпугов, — от вашего старшего сына, Бернарда, не сохранилось никакого архива? Я имею в виду документы, дневники, письма…
— Все конфисковало гестапо, — вздохнув, ответил профессор.
— Нет, кое-что осталось, — не очень смело напомнила ему жена.
— Ты имеешь в виду то, что привезла из Веймара?
— Ну да. — И объяснила гостям: — В Веймаре живет моя сестра… Третья сестра. Собственно, я не знаю, что там сейчас происходит и жива ли она еще… Одним словом, я поехала к ней, когда узнала, что наш сын в Бухенвальде. Это возле самого Веймара, в том чудесном буковом лесу, где любил прогуливаться Гете. Бернарда уже убили. Моя сестра через знакомого служащего лагеря получила… за большие деньги кое-что из вещей Бернарда. Сейчас я принесу.
Старушка с трудом поднялась с места и пошла в комнату с книжными стеллажами.
— Если бы нагрянуло гестапо с обыском, — горько сказал профессор, — нам бы не сносить головы за эти вещи. Однако нашу виллу охраняли цитаты из фюрера и два сына на Восточном фронте.
Фрау Магда возвратилась, держа в руках обгоревший янтарный мундштук, старую заржавевшую зажигалку и выцветшую фотографию.
— Вот и все.
Терпугов явно был разочарован — он надеялся на большее. Чтобы скрыть свои чувства, он проглотил одну за другой несколько таблеток, даже не запивая водой. А Березовский чего-то особенного и не ожидал. Он все еще находился под впечатлением, которое произвела на него Инга, и потихоньку спросил у Катерины, как племянница профессора относилась к гитлеровцам.
— Не выходила из дому, целыми днями спала, а по ночам читала и курила, если удавалось раздобыть табаку или чего-то в этом роде, — ответила Катерина.
— Обратите внимание на фотографию, — сказала фрау Магда. — Катрин, прочти господам офицерам.
Катерина взяла фотографию, начала внимательно всматриваться в еле заметные буквы на обратной стороне.
— Катрин видит эти вещи впервые, — объяснила старушка. — Они были спрятаны.
Катерина наконец прочитала полустертый годами текст и удивленно подняла брови:
— Здесь написано: «Эс лебе Ленин!» — «Да здравствует Ленин!». А на фото — товарищ Тельман и…
— И наш Бернард, — гордо произнес профессор.
Не только Березовский, но и Терпугов уже не жалели, что оказались в этом странном особняке.
Алексей Игнатьевич попросил драгоценную реликвию, чтобы переснять фото для армейской газеты и боевых листков. Хозяева охотно согласились, поверив честному слову советского офицера. Условились, что завтра же шофер комбрига вернет ее профессору. И заберет — теперь уже навсегда — бывшую полонянку Катерину Прокопчук.
Возвращались на виллисе. Несмотря на надежные тормоза, Наконечный осторожно вел машину по узенькой улочке, которая стремительно спускалась вниз из района особняков в центральную часть Обервальде. В целях предосторожности фары пришлось выключить.
Внезапно улицу и соседний квартал осветило багровое зарево. Сначала все подумали, что это налетели фашистские самолеты и перед бомбардировкой развесили над городом осветительные ракеты. Однако нет, источник света был не в небе, а на земле.
— Чудеса! — воскликнул Чубчик.
— Неужели, пока мы ужинали, немцы бомбили город? — удивился Терпугов.
— Не бомбили, а подожгли, — догадался комбриг. — Пустили нам красного петуха.
И приказал шоферу:
— Включи фары, теперь уже все равно. И как можно скорее в район пожара!
Виллис, выхватывая из темноты мрачные стены средневековых каменных строений, мчался навстречу гигантскому пожару, который полыхал возле кафедрального собора. Горели соседние здания, пожар угрожал и самому собору.
— Провокация, — нахмурился полковник Терпугов.
Судя по всему, поджигатели заранее приготовили бензин или керосин, наметили для поджога дома с деревянными лестницами, балконами, галереями, гонтовыми крышами, которых много было в старой части города.
— Вот они! — воскликнул Чубчик, указывая дулом автомата.
Три тени, одна за другой, прошмыгнули от собора в переулок.
— За ними! — приказал комбриг, беря автомат наизготовку.
Алексей Игнатьевич выхватил из кобуры пистолет. Наконечный направил машину в тесный переулок. Фары цепко схватили и уже не отпускали трех беглецов.
— Стой! Стрелять буду! — крикнул Березовский и дал очередь трассирующими пулями над их головами. В ответ с противоположного конца переулка сверкнула такая же предупредительная очередь вверх. Только теперь поджигатели остановились, поняв, что бежать некуда. Навстречу виллису направлялся пеший комендантский патруль.
Беглецы затравленно озирались по сторонам, может быть все еще не теряя надежды на спасение. Хорошо было видно приземистого пастора в черной сутане до самой земли; рядом с ним стояла высокая щуплая женщина, дрожавшая от страха. Третий стоял в сторонке, лицом к стене, словно бы надеясь слиться с ней.
— Кто такие? — спросил комбриг Березовский.
Пастор хотел что-то ответить, но одеревеневшие губы не подчинялись ему. Женщина, очевидно экономка пастора, резко опустила руку в карман.
— Руки из кармана! — приказал Иван Гаврилович.
Немка вынула руку, ухо комбрига уловило шорох спичечной коробки.
— А вы? — обратился Терпугов к третьему. — Идите сюда!
И когда тот обернулся, Терпугов и Березовский узнали в нем безрукого пианиста.
— Подлец! — вырвалось у Алексея Игнатьевича.
— Сколько домов сожгли? — подавляя ярость, спросил Березовский.
Пастор и экономка нервно встрепенулись и упали на колени. Пианист, взмахнув обрубками рук, истерически выкрикнул:
— Хайль Гитлер!
Очередь автомата скосила его. Это сделал Сашко Платонов.
Пастора и его экономку забрал патруль военной комендатуры.
12
На прифронтовых дорогах можно встретить самые разнообразные надписи. Одни на картоне или фанере — распоряжения комендатуры дорог, другие, как коротенькие деловые записки, начерчены мелом и угольком на ближайшем заборе или на стене придорожного здания: «Петренко — налево 400 метров», «Костюхин с горючим — седьмой дом отсюда», «Хозяйство Бойко» и указательная стрелка, где это хозяйство искать.
Уже не один десяток километров отмахал на виллисе комбриг, но время от времени наталкивался на лаконичное уведомление гигантскими буквами то мелом на заборах, то углем на стенах: «Кваша пошел на Берлин!».
После утреннего совещания с Соханем, который ночью прибыл в Обервальде, комбриг решил ознакомиться с районом Одера, где намечалась переправа бригады. Чтобы выиграть время, пересел в виллис, приказав лейтенанту Черному привезти тридцатьчетверку в условленное место. Туда же должен был прибыть и инженер Никольский со своими помощниками.
Обервальде был далеко позади. Там сейчас кипит жизнь. Сохань разрабатывает новый этап операции, Майстренко подтягивает тыловое хозяйство, Терпугов налаживает работу политорганов, в функции которых теперь входила и еще одна очень важная задача — разъяснять наши цели и идеи местному населению. Дело новое, к тому же осуществлять его нужно было на немецком языке. Старший лейтенант Горошко договорился об этом с несколькими полонянками, в том числе и Катериной Прокопчук.
Ужин в доме профессора в Обервальде разбередил душу Березовскому, напомнил ему о том, что сопровождало его с юношеских лет: о тельмановском Рот Фронте, о многовековой культуре немцев, об интернациональной солидарности трудящихся.
Догнали толпу беженцев. За исключением нескольких стариков, это все были женщины разного возраста, почти все они катили впереди себя нагруженные домашними пожитками детские коляски. Кое-где в колясках сидели ребятишки. Услышав сигналы автомобиля, беженцы бросились врассыпную. Одна коляска опрокинулась в кювет. Из нее выпал ребенок, изможденная бледнолицая женщина распласталась над ним в немом отчаянии.
— Так вам и нужно! — вырвалось у Наконечного. — Чтоб знали, волчицы, что такое война!
— Дети не виновны, — возразил Чубчик.
— Все они одинаковы, — стоял на своем Наконечный.
Комбриг приказал остановить машину. Наконечный выполнил приказ, но сам даже не сдвинулся с места.
Иван Гаврилович знал, что у водителя есть свой личный счет к врагу. А у кого его нет? Вот у Платонова тоже — отец-ополченец погиб под Тулой, брата-комсомольца замучили полицаи. Но Сашко остался человеком. Без этого, без человечности, мы, очевидно, утратили бы свой облик, перестали быть самими собой, советскими людьми.
Немка лежала ничком на снегу и глухо стонала. Перепуганный ребенок молчал, хлопая доверчивыми глазами. Сашко посадил ребенка в коляску, вывез ее на дорогу. Женщина не шевельнулась. Чубчик и Березовский подняли ее. Она взглянула на них безумными от испуга глазами: «Не могу! Я больше не могу!».
Полковник, с трудом подбирая немецкие слова, сказал громко, чтобы это услышали и все остальные:
— Возвращайтесь домой! Для вас война закончилась!
Фронтовая дорога разворачивала перед экипажем виллиса новые картины. Мелькали населенные пункты. Грохотали танки резервных маршевых рот, подтягивались тылы стрелковых дивизий. Надписи сообщали: «Синюков — третья улица направо», «Медсанбат — налево в школе», «АХО — пятый дом за углом». Метровыми буквами вписывал свое имя в летопись победы неутомимый Кваша. Хотя до Берлина было еще довольно далеко.
Зато уже близко Одер. На правом фланге клубится дым, горит Оппельн. Ночью в город прорвалась штурмовая группа танков во главе с Бакулиным. Противник отступил за речку, ведя интенсивный артогонь с левого берега. В некоторых кварталах города еще идет бой.
По обочинам дороги отдыхает группа освобожденных из фашистской каторги иностранных рабочих. Увидя советского офицера, они встают, машут руками, выкрикивают приветствия на французском, голландском, чешском языках.
Машина комбрига приближалась к Одеру. Впереди еле заметно замаячили фигуры. Трое в гражданском — он, она и девушка-подросток. Шли навстречу. Комбриг остановил машину. Все трое автоматически подняли руки вверх. Храбрее всех выглядела, хотя и с поднятыми руками, десятилетняя девочка.
— Вы Одер хорошо знаете? — спросил комбриг у мужчины.
Ответили втроем на ломаном польском языке:
— Мы поляки! Гитлер капут! Не убивай, пан!
Березовский понял, что ничего от них не добьется и разочарованно махнул рукой. Троицу будто ветром сдуло.
Берег реки запрудили люди, кони, машины. Одер… Онемеченная славянская Одра. Ключ к оперативным просторам Саксонии. Он стал и могучим магнитом, который притягивал к себе передовые силы наступающих частей, и серьезной преградой, тормозившей их продвижение вперед.
Река спокойно течет, закованная в берега дамб, то привольно разливаясь, то вдруг разветвляясь на рукава, которые омывают два узких и длинных островка. Только кое-где лед сплошной, но все равно он еще очень крепок. О настиле для танков нечего и думать — такой лед не выдержит. Нужно искать брод.
Неподалеку виднелось какое-то здание. Держа автомат наизготовку, комбриг в сопровождении Платонова подошел к усадьбе и постучал в окно. В комнате блеснул огонек. Вскоре во двор вышел пожилой худощавый мужчина.
— Чем могу служить? — спросил он на довольно сносном русском языке.
— Откуда знаете русский язык? — удивился полковник.
— Ничего особенного: мы ждали господ, — с некоторой бравадой отпарировал немец, — потому и научились.
«Врет, — подумал Иван Гаврилович. — Топтал, сукин сын, нашу землю либо теперь, либо еще в восемнадцатом, тогда и нахватался».
А вслух спросил наугад:
— Где твои сыновья?
— Сыновья? — переспросил бауэр и грустно покачал головою. — Эх, были бы у меня сыновья…
Он не скрывал своей враждебности. Казалось, даже кичился ею. Комбриг закурил папиросу, курил он редко, лишь тогда, когда очень нервничал. Сплюнул на снег горьковатую слюну и твердо сказал:
— Покажешь брод.
— Значит, паны, — бауэр снова говорил с насмешкой, — прошли Днепр и Вислу, а на Одере ищут брода?..
— А ты поменьше разглагольствуй. Так будет лучше.
Бауэр пошел к машине в своей легкой фланелевой сорочке. К виллису подкатила еще одна машина — пикап Никольского. Вадим Георгиевич шел навстречу.
— Ну, вот и мы, — произнес он, как всегда, бодро, перекрывая грохот мотора, гул близкой канонады: совсем неподалеку отсюда заняли позицию танки Чижова, которые вели огонь по противоположному берегу.
— Возьмите еще кого-нибудь с измерительными приборами, — приказал комбриг инженер-майору, — пойдем к реке.
Никольский прихватил не одного, а двух техников-лейтенантов одинакового роста и даже внешне чем-то похожих друг на друга: тоненькие усики, стрелочкой баки, видно, такая уж мода завелась в инженерной службе. Как выяснилось позже, и звали их одинаково — Юриями.
Шли гуськом: немец — провожатый, Березовский, Платонов, Никольский и оба Юрия. Один нес измерительные приборы, другой — надувную резиновую лодку. На темном небе все ярче вырисовывалась фронтовая феерия. Справа, над Оппельном, полыхало зарево. Слева, в районе Кенджина, тоже разгорался бой. На советские части, пытавшиеся форсировать реку, противник обрушил массированные удары ночных бомбардировщиков. Осветительные ракеты покачивались на горизонте, как гигантские розовые медузы.
Участок, избранный Березовским для обследования, был сравнительно спокойным. Неудобные подъезды, дамбы, которыми заслонилось разъединенное двумя островками течение реки, остановили батальоны Чижова здесь, у рыбацкого поселка Шварцфельд.
Пробравшись по льду через оба рукава на левобережный островок, Березовский и спутники остановились перед основным течением. Прилегли за кустами лозняка. Мягкие бархатные кисточки приятно щекотали лицо, напоминали комбригу беззаботное детство, прибрежное Озерцо, шутливые баталии в страстную субботу.
— Вот здесь, — указал рукой бауэр. — По колено, не больше.
— Измерим, — произнес Березовский.
— Юрики! — шепотом позвал лейтенантов инженер-майор.
На ничейной земле, в такой близости от противника, необходимо соблюдать максимальную осторожность. Лейтенанты на ощупь разматывали рулетку, прилаживая к концу ленты металлическое грузило. Возле берега было шесть метров. Надули резиновую лодку, чтобы замерить на фарватере.
— Шесть? — переспросил Никольский. — Это ведь не брод, а пропасть.
Комбриг разъяренно оглянулся назад, но бауэра и след простыл. Послышался всплеск воды, замелькали над водой руки.
— Гитлеровская шкура! — выругался Иван Гаврилович.
Стрелять нельзя, — вызовешь на себя огонь с того берега. Если же не убить гада, переплывет и укажет цель. Первыми сориентировались лейтенанты. Столкнули лодку на воду, один налег на весла, другой зажал в руке саперную лопатку. Они быстро пересекли пловцу путь и бесшумно покончили с ним.
Возвратились с реки ни с чем. До поздней ночи сидели комбриг с инженером в теплом доме, прикидывали все возможные варианты преодоления реки. А около полуночи на мотоцикле прибыл офицер связи. Отдельная танковая бригада получила новое задание. Командарм Нечипоренко вызывал комбрига Березовского на КП армии в городок Обернигк, неподалеку от Обервальде.
Часть вторая СИЛЕЗИЯ
1
На следующий день, сидя в виллисе и кутаясь в спасительную бурку, Иван Гаврилович вспоминал события прошлой ночи.
В щедро натопленном доме владельца паровой мельницы, который горячо доказывал свое чешское происхождение, было тихо и уютно. Может, и в самом деле Ганса Кубке звали когда-то Яном Кубкой, который в молодые годы отправился из перенаселенного Оломоуца на заработки в Восточную Германию и тут осел, женившись на вдове шваба-мельника. Все может быть. Ведь он сам позвал к себе советских воинов на постой и предупредительно проявлял славянское гостеприимство. Ему помогала жена — седая немка с двумя рядами вставных зубов, грузная женщина, намного старше своего мужа.
На сковородке шипела яичница, в четырехугольной зеленой бутылке ждал своей очереди самодельный шнапс. Узкая шейка бутылки была обтянута аккуратным разноцветным веночком из пористой резины. Капельки спиртного из начатой бутылки всасывались в резину и не пачкали скатерть.
— Выпьем, чтоб дома не грустили, — промолвил Березовский, налив рюмки.
Выпитая рюмка не развеселила, а наоборот, навеяла еще большую грусть. Ивана Гавриловича не переставало мучить то, что его нигде никто не ждет. Разве лишь сестра Настя, если осталась в живых…
Вадим Георгиевич пожаловался: давненько не было писем от жены, возвратившейся из эвакуации в освобожденный Днепропетровск. Как там поживает его Элеонора, как ведет себя сын Валерик, какова причина перебоев в переписке: задержка полевой почты в связи с частыми передислокациями или, быть может, одинокая женушка нашла себе кого-то, кто пригрел ее в холодном, неуютном городе? Что делать, если это так? Списать за счет войны? Пропади она пропадом, эта проклятая война! Даже с его оптимизмом волком взвоешь!
Вдруг инженер-майор вспомнил о записке в кармане. Будет комбриг рад или нет, в этих деликатных делах трудно заранее угадывать, но его долг — выполнить обещание, данное женщине. И Вадим Георгиевич провозгласил тост:
— За тех, кто ждет встречи с нами!
Шнапс был чистый, не отдавал ни сивухой, ни свеклой, как это часто бывало в польских селах, — во всем проявлялась немецкая аккуратность.
Березовский невесело сказал:
— Меня никто не ждет.
— Это еще неизвестно, — возразил Никольский. Он с улыбкой дернул свою рыжую клинообразную бородку, на полном лице заиграла лукавая усмешка. — А вдруг кто-нибудь да ждет?
— На что вы намекаете?
— На это. — Инженер-майор вынул из планшета маленький бумажный треугольник, объяснил: — Разыскивая вас, натолкнулся на санроту сто двадцатого стрелкового полка и встретил медсестру Пащину.
— Машу Пащину? Что она там делает?
— Очевидно, проходит службу.
— А рука? Ей ведь должны были ампутировать руку.
— Я такого не заметил. Она об этом не пишет?
— Нет. Просит лишь о встрече.
— Вот видите, я отгадал!
В санроте было относительно спокойно. Сто двадцатый полк не принимал участия в битве за Оппельн, три его батальона заняли оборону на правом берегу Одера, четвертый находился в резерве. Боевые операции сводились к артиллерийской дуэли через реку. Старых раненых уже эвакуировали в тыл, новых было немного, лишь те, кто зазевался во время артогня.
Разместилась санрота в помещении больницы, растянувшемся вдоль реки селения Шварцфельд, на южной окраине которого находилась мельница Ганса Кубке. Насмешил их утром этот Ганс Кубке, то бишь Ян Кубка, как он себя упорно называет. Когда Березовский уже собрался в дорогу, мельник подошел к нему и подобострастно начал просить дать ему справку о том, что он, Ян Кубка, является «порядочным человеком». Вот где коренилась причина его любезного гостеприимства!
Комбриг торопился, переговоры о «справке» в шутку поручил завершить Никольскому, который оставался на месте до новых распоряжений.
В машине Березовский еще раз перечитал давнишнее Машино письмо, полученное в польском феодальном замке. Пащина писала тогда о ранении в руку и просила непременно заехать к ней поговорить. О чем? Хотела восстановить прежнюю добрую связь? А как же лейтенант-артиллерист? А он… Это верно, что письмо пришло очень несвоевременно: как раз готовилось наступление, и комбригу никак невозможно было вырваться с КП и разыскать польский городок Соколув и полевой госпиталь в нем. Однако можно было связаться по телефону или послать Сашка Платонова, или, по крайней мере, написать несколько слов. Нет, не отсутствие времени, а дикая ревность стискивала ему, седеющему дураку, сердце.
Сейчас он увидит ее. Военфельдшер — старый, бывалый солдат — вытянулся перед полковником и пообещал, что медсестра Пащина «мигом появится здесь». Побрел за нею по длинному хмурому коридору, где остро пахло йодом, хлоркой, карболовой кислотой. Березовского раздражали эти специфические запахи. Слишком уж много госпиталей выпало на его долю, слишком много ран, операций и торопливых перевязок, когда с тебя вместе с бинтами и засохшими струпьями сдирают кожу.
Вышел на свежий воздух, сел на очищенную от снега и уже подсохшую скамью, прилепившуюся к больничной стене. На верхушке гибкого ясен я ритмично покачивается и самозабвенно каркает ворона — чувствует приближение весны…
Маша бежала стремглав, на ходу срывая с себя белый халат, нерешительно остановилась и тихо произнесла:
— Здравствуйте, Иван Гаврилович.
Почти механически комбриг среагировал на это «здравствуйте» вместо ожидаемого «здравствуй».
— Здравствуй, Машенька, — ответил он и, тревожно взглянув в ее ласковые глаза, на побледневшее, настороженное лицо, обеспокоенно добавил: — Идем отсюда, простудишься.
— Идем, — согласилась Маша, хотя никто из них не знал, куда им идти.
Один лишь взгляд комбрига, и от машины уже бежал Сашко Чубчик, неся черную кавказскую бурку.
Маша впервые видела Платонова, как и он ее. Ординарец у Ивана Гавриловича недавно, с тех пор как тот стал полковником и начальником штаба бригады. Зато бурка была хорошо ей знакома. Девушке стало неловко, на бледных щеках густо выступил румянец, она снова стала похожей на ту, прежнюю, — пригожую станичницу с Донского края.
Березовский накинул на Машу бурку, накрыл с головой. В этом шатре девушке было тепло, и они присели на скамью. Убаюканная собственным карканьем, ворона умолкла, размеренно покачиваясь на тонкой верхушке, словно акробат на трапеции. Чубчик возвратился в машину. Они снова были вдвоем.
— Как твоя рука? — спросил комбриг.
— Еще побаливает.
— Хорошо, что не ампутировали.
— Ага.
— Как же ты была ранена?
— Во время бомбежки.
Березовского встревожил лаконизм ее ответов. Что с нею? Вот выбежала, казалось, обрадовалась встрече, а нет в ее тоне, ее поведении того, на что он надеялся, чего ждал. Зачем же писала, приглашала к себе?
Лишь теперь до его сознания дошла деталь, на которую он вначале не обратил внимания. Ведь и письмо ее, и записка были слишком лаконичны, официальны, и обращалась она в них тоже на «вы»… Да и об ампутации… Явно ведь выдумала. Не для того ли, чтобы он непременно приехал?
Времени в обрез, его ждут в Обернигке, поэтому спросил напрямик:
— Маша… ты хотела меня видеть?
— Очень хотела, Иван Гаврилович.
— Значит, не забыла?
— О нет. Вы для меня будто родной отец.
Следовательно, так и есть: злосчастных пятнадцать лет, лежащих между ними, не переступить никогда. Вот почему появился на их пути артиллерийский лейтенант. Не был бы он, был бы кто-нибудь другой.
Маша не до конца понимала, что творится в душе Березовского, потому что воспринимала события не так, как он. В шестнадцать лет стройная, физически зрелая казачка добровольно пошла на фронт, не задумываясь над катаклизмами истории. Трещали границы, исчезали с лица земли города, села, памятники культуры, менялась карта Европы… Девушка знала другое: ломаются установившиеся нормы, вчерашние ценности сегодня становятся мелочью, сама жизнь человека фатально обесценилась. Каждый день она видела раны, боль, огонь и смерть. В этом страшном хаосе она и сама искала забвения и хотела уделить капельку счастья другим. Ее любили, влюблялась иногда и Маша, но все менялось в гигантском калейдоскопе: бои, санроты, медсанбаты, живые люди, которые через минуту становились мертвецами.
Она была счастлива с Березовским. Счастлива, давая счастье тому, кого вырвала из небытия, кто выделялся среди других умом, вежливостью, образованностью. Когда же на пути ей встретился тот — молодой, сильный, красивый, девушка почувствовала, что это нечто совсем другое, настоящее, единственное. Она не подсчитывала лет поседевшего Березовского, не взвешивала, не размышляла, а просто безоговорочно кинулась на зов сердца.
Теперь они сидели рядом, вдали от тех звезд, под которыми зажглась и погасла их зыбкая любовь. Каждый думал о своем, понимая и не понимая другого.
— Зачем же ты хотела меня видеть?
— Иван Гаврилович, помогите…
— В чем?
— Разыскать Колю.
«Колю? Кто он? Ее брат?»
— Какого Колю?
— Его… Журавлева. Николая Зосимовича. Говорят, он где-то здесь, поблизости, в артиллерийской части. Его видели в Польше, возле Вислы.
Исчезли остатки надежды, но не вспыхнули ни ревность, ни гнев. Скорее — глухая боль.
— Он покинул тебя?
— Нет, нет! Коля тоже меня ищет.
— Откуда ты знаешь?
— Сердце подсказывает.
— Маша!..
— Что, Иван Гаврилович?
— Ничего. У тебя чуткое сердце, дай боже, чтобы оно не ошиблось.
— Вам легче найти Журавлева. Он уже капитан, командует дивизионом. В каком-то корпусном артполку. Но в каком, не знаю.
— Если он в корпусном, узнать нетрудно. Корпусной артиллерии не так уж много.
— В корпусном, это точно. Мне бы только номер полевой почты…
— Ты долго будешь здесь, в санроте?
— Наверное, уже до конца.
— Хорошо. Сделаю все возможное.
— Спасибо.
Когда встали, она прижалась к его груди, прикоснулась мягкой щекой к подбородку, прошептала:
— Прости меня, Ваня.
Выскочила из бурки, подхватила скомканный халат и исчезла в черном тоннеле коридора.
Трудно сказать, чем занимались жители Обернигка в мирное время. Город сохранился полностью. Однако не видно в нем ни промышленных предприятий, ни административных зданий. Одни лишь коттеджи, веселые стайки аккуратных коттеджей под черепичными крышами среди вечнозеленых елей и пихт.
Кто здесь жид? Что делал, куда девался народ?
Все коттеджи, за исключением занятых отделами штаба армии, пустовали под белыми флагами. Лишь на одном из них развевался красный флаг, а на двери виднелась прибитая гвоздями пятиконечная звезда. Но пуст был и этот коттедж.
У шлагбаума на посту стоял приземистый сибиряк-автоматчик в полушубке и валенках. Ночью, правда, приморозило, но сейчас припекало солнце, и часовой в своей таежной одежде выглядел неуклюже. Он, наверное, чувствовал это и сам. Встав посредине улицы так, что его медвежья фигура загородила проезд, сибиряк поднял левую руку вверх, а правой сжимал автомат, стараясь придать своему лицу серьезное выражение.
Сашко Чубчик сразу узнал в нем фронтового новичка.
— Эй, парень, открывай ворота, принимай гостей!
Часовой не ответил, лишь взял автомат наизготовку.
— Остановите, — велел комбриг Наконечному. Сняв бурку, он выскочил из машины и подошел к солдату: — Давно служите?
Сибиряк растерялся. Устав караульной службы диктовал неумолимые параграфы, но полковничьи погоны…
— Первый день, товарищ гвардии полковник.
«Это хорошо, — подумал комбриг. — Значит, прибыло пополнение».
— Молодец! — вслух похвалил Березовский. — Как зовут?
— Рядовой Барских, товарищ гвардии полковник, Иван Мокеевич.
— Выходит, мы тезки, я тоже Иван.
Солдат улыбнулся широким, скуластым лицом, дернул веревку, и шлагбаум поплыл вверх.
Иван Гаврилович искренне завидовал юной наивности сибиряка, его полному радужных надежд будущему. Другое дело, конечно, что завтра этот коренастый красавец может пасть на поле боя — от этого не застрахован никто. Зато любимая девушка его не оставит и родным отцом не назовет.
Прежде всего он заехал в артиллерийское управление. Отыскал знакомого майора, с которым пришлось хлебнуть лиха еще в Восемнадцатой, и попросил его узнать и сообщить в санроту сто двадцатого стрелкового полка медсестре Марии Пащиной, в каком дивизионе корпусной артиллерии проходит службу капитан Журавлев Николай Зосимович.
Командарма застал в кабинете, на втором этаже одного из коттеджей у полудужия гор. Над входом в помещение ощерилось зубастое рыло дикого кабана, в вестибюле красовалось во весь рост чучело оленя с гигантскими ветвистыми рогами. Видимо, особняк принадлежал заядлому охотнику, потому что не было здесь недостатка и в медвежьих, и в волчьих, и в лисьих шкурах.
Генерал-лейтенант Нечипоренко сидел за столом в одной шелковой майке и сноровисто пришивал к полевой гимнастерке белый воротничок. Он так увлекся этой работой, что сначала не заметил Березовского. Поднял голову, когда тот поздоровался.
— А, это вы. Садитесь.
Ивана Гавриловича ничуть не удивило занятие командующего. Отличительная черта кадрового офицера: всюду, при всех обстоятельствах оставаться солдатом.
— Та-ак, — наконец заговорил генерал, явно удовлетворенный результатом своей работы. Перекусил нитку, положил иглу в футлярчик пластмассового медальона, кончиком большого пальца провел по шву — нет ли узелков. Еще раз убедившись, что работа чистая, привычно накинул гимнастерку на рыжий, с проседью, чуб и резко рванул ее вниз. Многочисленные ордена и медали позванивали, когда он на ощупь застегивал пуговицы.
— Товарищ командарм, — не выдержал Березовский. — Что означает ваш неожиданный вызов?
Покончив с последней пуговицей, командующий вздохнул:
— И для меня это неожиданность.
— Мы сегодня были бы на левом берегу.
— Будете в другой раз.
— Когда? Война заканчивается.
— Что?! — командарм раскатисто захохотал. — Спасибо, что рассмешили. А я был лучшего мнения о ваших стратегических способностях. — И сразу же стал серьезным: — Что, тянет за Одер, на Берлин? Совершенно закономерно. Но ваш Майстренко, хотя и поэт, однако не бог, а фронтовые базы — за Вислой. Дороги раскисают с каждым днем, автотранспорт поглощает астрономическое количество горючего. Железнодорожные пути не подведены, не забывайте о разнице в ширине колеи. Их необходимо либо перешивать, либо перегружать все в польские и немецкие составы. К тому же люфтваффе базируется на бетонированных берлинских аэродромах Иоганишталь, Шенефельд и других и поэтому покамест имеет преимущество в воздухе. Командующий группой армий «Висла» Гиммлер получает все новые и новые дивизии из разных районов Европы. По тем же причинам еще более сложная обстановка создалась на соседнем фронте. Что вы на это скажете, товарищ стратег?
Не дожидаясь ответа, командарм быстро подошел к карте на стене и продолжил свои объяснения:
— Гитлеровцам отступать некуда. Соотношение сил и конфигурация фронта диктуют им единственный выход: отсечь армии соседнего фронта, которые выдвинулись вперед, двумя встречными ударами — с севера на юг, из района Арнсвальде в Померании, и с юга на север, из района Глогау в Силезии. Реально?
Сама карта давала исчерпывающий ответ на это. Две стрелы угрожающе нацелились: одна, из Восточной Померании, — вниз, другая, из Нижней Силезии, — вверх.
— Таким образом, гитлеровцы будут стремиться зажать нас в котле. Это был бы колоссальный триумф для них. Но произойдет наоборот: мы устроим котел им. И не один, а два. Наши соседи в Померании, а мы в Силезии. Вот здесь: район Глогау — Губен. Тут противник организовал оборону группы южносилезских городов. Наша пехота ведет тяжелые бои. Города расположены близко друг от друга, местность густо покрыта шахтами и заводами, изрезана десятками шоссе и железнодорожных линий. К тому же леса, перелески, речки, каналы, яры. Не местность, а черт знает что! Фашисты надеются отсидеться там до судного дня. Вот мы и устроим им судный день! Так-то, дорогой товарищ!
Нечипоренко показал на карте, как будет закрыт силезский котел.
Вокруг карих глаз комбрига собрались мелкие морщинки — он приценивался, анализировал. Первый успех, давшийся так легко, невольно родил иллюзии: еще один-два рывка и — Шпрее, Берлин. А теперь поворачивай оглобли.
Неслышно — звериные шкуры скрадывали шаги — вошел член Военного совета генерал-майор Маланин.
— Не помешаю?
У Андрея Викторовича, как всегда, было бодрое настроение. Он поздоровался с Березовским как со старым знакомым.
— Воюете? — И смеясь добавил: — На карте бить фашистов легче, правда?
— Не всегда, — ответил Нечипоренко. — Ивана Гавриловича от этой карты тошнит. Офицер связи догнал его на берегу Одера, когда он готовился к броску.
— А это верно, — признался комбриг. — Как говорится, видит око, да зуб неймет.
— Ничего, все еще впереди, — заверил член Военного совета. — Зато какая миссия возлагается на вашу бригаду.
— Знаю, Силезия.
— А точнее?
— Район Глогау — Губен.
— Это общее направление операции, которую осуществит армия, — уточнил командарм. — А задача вашей бригады — Глейвиц.
— Это название вам ничего не напоминает? — спросил комбрига Маланин.
— Крупный промышленный город, железнодорожный узел, важный порт на Глейвицком канале…
— И все? — Андрей Викторович пришел на помощь. — Про Сараево помните?
— Сербский город, где в четырнадцатом году был убит наследник австро-венгерского престола Фердинанд и его жена. Это стало формальной причиной первой мировой войны.
— Вот-вот. Приблизительно такую же роль во второй мировой войне сыграл Глейвиц. Гитлер тогда еще побаивался беспричинно напасть на Польшу, с которой Англия и Франция заключили договор о взаимопомощи. Фюреру нужен был формальный повод. Поэтому группа немецких уголовных преступников, переодетая в форму польских жолнежей, под командованием эсэсовского генерала Отто Скорцени тридцатого августа тридцать девятого года напала на этот пограничный немецкий городок, подняла стрельбу и разгромила радиостанцию. А в ночь на первое сентября…
— Это уже и мои ученики знали, — закончил Березовский. — Немецко-фашистские войска перешли границу Польши.
— Следовательно, ваша миссия в самом деле историческая.
Командарм смотрел на Березовского с еле заметной иронией: упоминание о гражданской профессии, чрезмерная эмоциональность казались ему странными.
А член Военного совета продолжал:
— Герхарта Гауптмана читали?
— А как же. «Ткачи», «Потонувший колокол».
— Вот и хорошо.
— Что, подтвердилось? — спросил Нечипоренко.
— Да. — В голосе Маланина звучала взволнованность. — Живой. Есть данные, что, хотя Гитлер афишировал профашистские настроения писателя, старик потихоньку писал антигитлеровские стихи. Вот бы нам их раздобыть! — Он снова обратился к Березовскому: — Я уже звонил Терпугову… Это был бы серьезный козырь в работе с местным населением.
— А где сейчас Гауптман?
— В Силезии, на вашем участке наступления. Село Агнетендорф, вилла «Визенштейн». Запишите. Вы должны сделать все, чтобы гитлеровцы не успели насильно эвакуировать выдающегося писателя или чтобы он не погиб во время возможного боя.
— Задача почетная, — согласился комбриг. — Но я буду просить…
— Что там еще? — прервал Нечипоренко.
— Нужна мотопехота.
— Нет.
— А сибиряки?
— Какие сибиряки? — На лице Нечипоренко была святая невинность. Член Военного совета улыбался прищуренными близорукими глазами.
— Откуда эта информированность? — подтрунивал командарм.
Но Березовский был настроен решительно.
— Рейд обеспечиваю, а освоение территории — нет.
— Хорошо! — сказал командарм. — Дадим автоматчиков. Но с одним условием: скажите, откуда узнали о сибиряках?
Пришлось рассказать о сценке на дороге. Командарм насупился, а Маланин добродушно рассмеялся:
— Меня самого чуть было не задержали. Строгие ребята!
Попрощавшись, комбриг неслышно ступал по мягким, как сухая трава, шкурам, и не знал — радоваться ему или огорчаться? Задание важное и почетное, но… Другие тем временем пойдут на Берлин!..
2
Командный пункт бригады немедленно перебазировался в Гейнцдорф — силезский городок под веселыми черепичными крышами, затерявшийся в типично немецком лесу. Идеально прочищенные междурядья и просеки, каждое дерево проштамповано, имеет свой номер, записано в книге. Развернув ее, лесничий видит, какое дерево следует подкармливать или лечить, а какое — выкорчевать, дабы на его месте посадить другое. Лес от такого ухода в большом выигрыше, но в то же время он много и проигрывает. Ибо что же это за лес без единого перекошенного ствола, поваленного дерева, цветущего куста, ореховых зарослей, сказочного царства папоротника! Стоит он и вытянутыми участками молчаливых деревьев напоминает вымуштрованных солдат.
Белые полотнища капитуляции еще развевались над Гейнцдорфом, а Семен Семенович Майстренко уже распоряжался здесь, будто у себя дома. Он радостно доложил комбригу, что в селе все в порядке: три четверти населения — поляки, встречают советских солдат как освободителей и братьев.
Освоившись в отведенном ему доме, Иван Гаврилович сразу же позвонил майору Тищенко: необходимы разведывательные данные. Вместо Тищенко ответил капитан Осика: Степан Иосифович заболел, лежит в инфекционной палате. Аглая Дмитриевна подтвердила: у майора Тищенко болезнь Боткина. Состояние серьезное.
Поговорил с Майстренко и Никольским — вечные вопросы снабжения в бою, преодоление вражеских фортификаций, связался с Соханем. Штабной чародей уже договорился с Корчебоковым относительно мотопехоты. Авиаторы, несмотря на нелетную погоду, обещают штурмовики. И за это спасибо.
Вошел Терпугов с письмами. Снова эти печальные похоронки! Родителям старшего лейтенанта Коваленко, семьям других погибших. Сколько он еще подпишет их до конца войны?
После этого вызвал Осику, длинноногого, горбоносого капитана, который замещал Тищенко на время его болезни. Задание разведчикам: немедленно раздобыть информацию о позициях противника на данном участке, раскрыть его замыслы.
Звено ночных бомбардировщиков У-2, которым командует Инна Потурмак, после спешных приготовлений взлетело в ночное небо. Десант разведчиков — капитан Осика, сержант Непейвода и рядовой Лихобаб — разместился в трех самолетах позади летчиц на штурманских местах. Втиснуться в узкие сиденья с громоздкими парашютами было нелегко. К тому же каждый из них кроме автомата с запасными дисками имел еще и дополнительный груз: Осика — радиопередатчик, Непейвода — ручные гранаты, Лихобаб — пакет с сухим пайком на всех. Оделись в черные суконные униформы, теплые куртки, черные береты — обычную одежду силезских горняков.
Замысел был такой: перелететь линию фронта, приземлиться на парашютах (самолеты возвратятся назад) на территории заброшенной шахты «Мациола-3», которую никто не охранял.
Эти данные получены в Гейнцдорфе от хозяйки квартиры, где поселился Осика. Матильда Бжезская, по происхождений полька, девичья фамилия Офярек, сама пришла в штаб и рассказала о себе, о своем муже, Казимеже Бжезском, которого фашисты замучили в Освенциме, и брате Болеславе Офяреке, который живет по ту сторону фронта в селении Мациола Дольная, уезд Глейвиц. Рация ее брата не раз подавала сигналы советским самолетам еще тогда, когда фронт проходил на восток от Львова. Разведчики помогли пани Матильде связаться по радио с братом. Болеслав ждет.
Иного выхода у них не было. Перейти фронт по сильно укрепленной немцами территории невозможно.
Несмотря на темноту, Сергей хорошо видит Инну. Кожаный шлем, кожаное пальто, вся она в мягкой шевровой коже — такая близкая и такая далекая. Он хорошо представляет ее напряженное лицо, сосредоточенные черные глаза, крепко стиснутые губы и нежные руки, которые уверенно держат штурвал, направляя навстречу опасности свою деревянную, ничем не защищенную машину.
Милые, бесстрашные руки!
Всего лишь несколько минут назад на размокшем черноземе, с которого не мог бы взлететь ни один другой самолет, она нежно взяла в ладони его лицо, и в этом прикосновении было все: любовь, восторг, благословение на подвиг. Хотя сама она совершала подвиг каждым своим вылетом.
Он летит с Инной не впервые. У них было общее, незабываемое приключение. Ему, офицеру связи из кавалерийского корпуса, срочно нужно было добраться на КП соседней стрелковой дивизии. Случайно из авиаполка туда же летела Инна Потурмак. Было это осенью на том берегу Вислы. Противник яростно бросался в контратаки, защищая подступы к великой польской реке. За ночь немцам удалось потеснить дивизию и захватить село, в котором вчера располагался командный пункт. Зелена Гура — называется это село. Это название Сергей будет помнить всю жизнь.
Инна мастерски посадила самолет на изрытое картофельное поле и спокойно выруливала поближе к селу. Сергей уже успел расстегнуть привязные ремни, как вдруг увидел: навстречу им бегут немцы. Времени для разворота машины не было, и летчица, набирая скорость, пошла прямо на фрицев. Всего лишь в нескольких метрах от них самолет оторвался от земли. Гитлеровцы инстинктивно прижались к пашне, а потом застрочили из автоматов, в нескольких местах прошив перкалевый фюзеляж. Но самолет с каждой секундой все дальше и дальше удалялся.
В отличие от Осики два других разведчика не знали даже имен летчиц, которые вели самолеты. Григорий Непейвода впервые в жизни поднялся выше церковной колокольни в степной Очеретовке. До сих пор для него единственной и непоколебимой реальностью была земля — с дворами, долами, реками, лесами и всем живым на ней. И поэтому он сразу почувствовал себя неуютно в таинственном ночном небе.
Леонид Лихобаб летел не впервые, но мысли у него тоже были земные, отнюдь не связанные с небом. Накануне вылета он получил письмо от матери. Евдокия Пантелеевна пишет, что дома все в порядке, дочери растут, все четверо. Про свою жену Нюську пускай не переживает, потому что, если бы она даже и захотела подурить, ничего у нее не выйдет: не только в Верхних Ростоках, но и на всем Алтае путного мужика днем с огнем не сыщешь.
— В бога, в антихриста, в сорок святых! — бормочет Леонид. — Для такой, как Нюра, найдется!
Ему и приятно и в то же время немного страшно, что у него такая приметная жена: ни один мужчина не пройдет равнодушно мимо нее. Поскорее бы все закончилось, чтобы вернуться к ней, и вернуться не как-нибудь, а героем, настоящим героем…
Самолет ревел и содрогался, вибрируя корпусом. Казалось, вот-вот мотор захлебнется и…
На линии фронта их обстреляли, но слишком малая высота и удивительная тихоходность машины и на этот раз ввели в заблуждение пунктуальных немецких зенитчиков. Снаряды взрывались либо значительно выше, либо намного в стороне от неказистых самолетов. Под ними снова простиралась бездонная пропасть. Ни один огонек не нарушал сурового режима светомаскировки.
Ночь, темнота, гул моторов… Наконец в черной бездне что-то сверкнуло раз и еще. В переговорной трубке Осика услышал голос Инны:
— Приготовиться к прыжку.
И через какой-то миг:
— По-шли!
Потом, вдогонку, от всего сердца:
— Счастливо!
«Спасибо, родная!»
Не сказал этого, а только подумал, камнем падая вниз. Осика максимально затянул прыжок без парашюта, чтобы не отнесло ветром. Так он учил Непейводу и Лихобаба, но, к сожалению, это была лишь теоретическая учеба. Сейчас он увидит, пошла ли впрок его учеба, — поняли они, как им вести себя, сумеют ли оправдать надежды, возложенные на них?
Дернув наконец кольцо и почувствовав, как раскрытый купол резко рванул его и притормозил дальнейший полет, Сергей осмотрелся по сторонам. Один за другим раскрылись в воздухе еще два купола. Орудуя ногами, Сергей направлял полет на слабый огонек мигающего фонарика.
Почувствовал под ногами твердую промерзшую землю. Быстро сложил парашют, прислушиваясь к темноте. Глухо ухнуло за терриконом, приземлился кто-то из двух его товарищей. И вдруг — стон. Приглушенный, но болезненный… Третий, судя по габаритам, Лихобаб, возился, освобождаясь от строп. Неподалеку от террикона мигнул фонарик. Со свернутым парашютом Осика направился туда.
— Кто здесь есть? — спросил по-польски.
— Свои, пан, не бойся.
— Болеслав?
— Нет, Болеслава схватили.
— Кто схватил?
— Гестапо.
— Когда?
— Под вечер.
— Вот это новость!
А голос незнакомого поляка скороговоркой информировал:
— Схватили его прямо на дороге. Но Болеслав Офярек при себе ничего не имел. Ни списков, ни листовок. И он никого не выдаст — кремень. — Говоря это, поляк быстро ощупывал ногу Непейводы. — Обыкновенный вывих.
Непейвода пытался встать.
— Не, пан, сейчас ходить не вольно. Нужно лежать. Подошел Лихобаб, целый, невредимый. «Трам-там-там, в тысячу апостолов!» — насупленно бормотал он. Эта воздушная экспедиция ему явно не понравилась.
— Пан есть один? — спросил Осика.
— А кого я мог взять, когда такое творится? — откликнулся поляк. — Хорошо, что Славик успел меня предупредить.
— Как пана зовут?
— Збигнев.
Поляк крепко схватил сержанта за вывихнутую ногу и резким движением вправил ступню на место. Сразу видно: горняк, имел дело с травмами. Развернул бинт индивидуального пакета и туго затянул ногу.
— Пожондек. Можно спускаться.
— Спускаться?
— Да. Мы не можем идти отсюда. Комендантский час. Збигнев посоветовал действовать так: спуститься в штольню, куда никто из немцев не осмелится заглянуть. Там есть лежаки, вода, харчи. Устроить на день-два пана с поврежденной ногой и самим переждать там до утра. А утром…
Збигнев пошутил:
— Утром, проше пана, прояснится не только в небе. В штольне было неплохо оборудованное укрытие. Засветив шахтерскую лампу, Збигнев нашел все необходимое и сделал еще раз перевязку Непейводе. Использовал для этого две ровные дощечки и обмотку, отрезанную от парашюта. Пока длилась эта процедура, измученный полетом Лихобаб крепко уснул. Вскоре захрапел и Непейвода.
— Будет пан спать? — спросил Збигнев Осику.
— Навряд ли.
Хотелось дышать свежим воздухом, видеть небо над головой, действовать. Нет ничего хуже неопределенности, неизвестности, бездеятельности.
Не менее активным характером обладал и Збигнев. Он вынул сложенную вчетверо бумажечку, развернул ее и расстелил на запыленном деревянном столе. Это была схема шахты.
— Проше пана, наша копальня — настоящий лабиринт. И таких здесь огромное множество. Вся Силезия, или, по-нашему, Шленск. Не смогут фашисты обыскать каждую штольню. Это, пся крев, напрасная затея. Один раз прочистили, а теперь не имеют на это ни времени, ни людей. Разве ж мы не слышим, как бьют орудия? О матка боска, уже совсем близко!
После небольшой паузы он снова наклонился над схемой.
— Ну хорошо, пускай будет так, пойдем дальше. Вот здесь, — указал пальцем, — наша жилая секция Мациола Дольная. Вот домик Болеслава Офярека, куда сейчас, пся крев, и не потыкайся, могут следить, хотя, по правде говоря, у них тут большой переполох, и они растерялись. Славика могли схватить совершенно случайно. Может, что-нибудь недозволенное говорил. Или слишком смело посмотрел какому-нибудь дьяволу в глаза. Они, холеры, этого не любят!.. Какова ваша цель? — спросил без малейшего перехода.
— «Язык». Тут допросим, передадим данные по радио, а сами подождем наших.
— Понятно.
Он сказал это по-польски («зрозумяло») как-то особенно вдумчиво и заботливо. Интересный человек! Теперь при свете лампы Осика внимательнее присмотрелся к нему: кто же он, их спаситель, возникший из темноты?
Збигнев был, наверно, на два-три года старше Сергея, который в прошлом году отметил свой первый юбилей: четверть века. Лицо у Збигнева было изнуренным, с черными точечками угольной пыли.
— Утром пойдем ко мне, — сказал горняк. — Пройдем так, что нас никто не увидит. Я живу с мамой.
— А семья? — поинтересовался капитан.
— Какая семья! Когда началась война, мне едва стукнуло девятнадцать.
«Вот оно что! Он не старше, а моложе меня…»
— А я уже был коммунистом, — гордо завершил Збигнев короткий рассказ о себе. И быстро встал с места: Будем спать, потому что времени осталось мало.
Уснул и Збигнев. Только капитан Осика долго еще лежал и думал. Удалось ли Инне и ее подругам благополучно возвратиться на аэродром? Любит ли его Инна? А его чувство к ней — настоящее или нет? Доживут ли они оба до конца войны? А если и доживут, то что будет дальше? Сможет ли он возвратиться к своей специальности зоотехника? Устроит ли Инну — храбрую летчицу, девушку с поэтической душой — жизнь в каком-нибудь животноводческом совхозе на Черниговщине?
Эти мысли наконец оборвал сон.
Ранним утром шли они по тихому поселку. Осика, Лихобаб, Збигнев. Непейводе был дан суровый приказ: ждать. Воды и пищи у него достаточно. Если же в штольне покажутся немцы, разведчик знает, как ему действовать: последний патрон для себя.
Лихобаб шел позади, спокойный и равнодушный. Его, трам тарарам, не удивишь ничем! Ему к лицу одежда польского горняка, особенно берет. Вот бы появиться в этой одежде в Ростоках да предстать перед Нюсей!
В доме Збигнева они застали еще двух мужчин, которых заблаговременно предупредил Болеслав. Один представился горняком Яном Колендрой, другой — маркшейдером Рудольфом Шульцем. Немец? Да. Чистокровный ариец, а потому имеет знакомых в танковой дивизии «Рейх», тылы которой размещены в их поселке. В числе этих знакомых наиболее подходящей кандидатурой для разведчиков мог бы быть радист Эдмунд Фогель. Он всегда в курсе штабных новостей, через него проходят все распоряжения и приказы. Хотя Фогель прямо об этом не говорит, за такое расстреливают, но чувствуется, что он изверился в гитлеровской авантюре и понимает неизбежность катастрофы. К тому же он по уши влюблен в Габриэлу Шульц, сестру Рудольфа. Если ему гарантировать жизнь и будущее с любимой девушкой, он, наверное, расскажет о самом необходимом даже без принуждения.
Вошла женщина с бледным, осунувшимся лицом, похожая на Збигнева.
— Прошу, панове, гербату.
Морковное пойло, дымившееся в стаканах, трудно было назвать чаем. Выручила смекалка Лихобаба, который догадался рассовать по карманам шахтерской куртки часть сухого пайка. Рафинад и галеты всем пришлись по вкусу. За гербатой и утвердили заманчивый план, договорившись о деталях.
На девять часов был назначен первый сеанс радиосвязи со своими. Капитан Осика доложил командованию бригады о первых успехах десанта, а сам с огромной радостью узнал о том, что все девчата возвратились на базу. Правда, в самолете Инны авиамеханики обнаружили шесть пробоин от осколков зенитных снарядов.
Сначала все шло как по-писаному. Габриэлла Шульц заранее договорилась с радистом Фогелем о встрече на центральной площади селения возле единственного рассохшегося без воды фонтана.
— В нашем доме семейный праздник — день рождения брата, — сказала Габи, приглашая молодого человека в гости.
Эдмунд отказывался: совсем нет времени, да и подарка еще не приобрел. Но она все-таки настояла, уговорила.
Стол уже был накрыт. Фогель поздравил «именинника», поздоровался с поляками Збигневым, Яном, с любопытством взглянул на незнакомого высокого шахтера.
— Курт Зоннтаг, мой школьный товарищ, — представил Сергея Осику маркшейдер.
Друзья договорились не пугать радиста сразу, а сначала подпоить его и, если будет возможно, потолковать по-хорошему. На всякий случай в соседней комнате стоял начеку вооруженный Лихобаб.
Выпили за «именинника», его очаровательную сестру, за представителя вооруженных сил рейха Эдмунда Фогеля. С угреватого лица радиста не сходила снисходительная и высокомерная улыбка. Он решительно отодвинул рукой рюмку, чувствовалось, боится охмелеть. Габи, по условному знаку брата, плотнее придвинулась к Фогелю и, словно в шутку, выдернула из кобуры офицерский браунинг.
— Осторожно, заряжен! — строго предупредил Фогель.
Но револьвер был уже в руках Рудольфа.
— Что это значит? — поднялся радист. На его бледном как мел лице выступили капельки пота, щеки покрылись красноватыми пятнами. — Немедленно отдайте оружие!
— Отдадим! — пообещал Рудольф Шульц. — Садись!
— Милый Эдди! — подошла к Фогелю Габи. — Я люблю тебя и не хочу потерять…
Но он резко оттолкнул ее и рванулся к двери. Дорогу ему преградили оба поляка. Вошел Лихобаб с автоматом наизготовку. Эдмунд Фогель оглянулся:
— Западня… — прошипел он в отчаянии и упал на стул.
— Послушай, Фогель, — спокойно произнес маркшейдер. — Моя сестра любит тебя, это факт, иначе я не стал бы возиться с тобой, нашли бы кого-нибудь другого для этой беседы.
— Какой беседы? Чего вам нужно? — разъяренно взглянул он на Осику и Лихобаба.
— Это советские разведчики, — невозмутимо пояснил Шульц.
— Проклятье! — в глазах Фогеля теперь был панический страх.
— Так послушай же нас. Силезия окружена, твоя дивизия в котле. Еще день-два, и всем вам — конец. За что ты будешь умирать? За кого?
Радист молчал.
— За фюрера? За того, кто, пролив реки крови, принес нам гибель? Еще день, еще неделя — и все. Позорный конец.
— Неправда! — вдруг вскочил на ноги Фогель. — Ты паникер! Мы накануне триумфа! Нового огромного триумфа!..
— Я знаю, что ты имеешь в виду, — продолжал Рудольф.
— Не знаешь, не знаешь!.. — истерично воскликнул Фогель. — Это произойдет сегодня ночью. Пустите меня, я должен быть в штабе!..
Не для всех присутствующих последние слова таили весомое содержание. Но для Осики в них вместилось много.
Березовского разбудил Чубчик-Платонов. Ивану Гавриловичу снились родные Озерца: цветет вишня, привычно гудят пчелы, хлопочет возле ульев отец. Стариковское это, говорят, занятие, но отец еще с молодых лет любил пасеку, а пчелы признавали его своим хозяином. Интересно, как это пчела привыкает к человеку, безошибочно узнает его?
В мирное время, когда вот так будили его, просыпался медленно, с неосознанным сопротивлением, с неизменным: «А?», «Что?», «Что случилось?». Теперь вскочил, будто подброшенный пружиной.
— Майор Тищенко… — доложил ординарец.
— Из госпиталя? Что ему?
— На проводе, — только и мог объяснить Чубчик.
Иван Гаврилович схватил трубку.
— Тищенко? Где вы?
— На работе, — будничным тоном ответил майор.
— А госпиталь?
— Бежал… — И перешел к существу вопроса.
— Выходит, этот Осика не зря ест разведческий хлеб, — подытожил комбриг, выслушав сообщение майора.
И закружилась средь ночи штабная карусель. У танковой бригады и других частей, которые участвуют в операции, осталось два или три часа, чтобы, выждав момент, перейти на вариант номер два. Оба варианта — первый и второй — детально разработал штаб армии. Номер один — наступательный, если придется прорывать вражескую оборону самим, номер два — оборонительный, если вылазку сделает враг, пробиваясь на соединение с померанской группировкой. Следовательно, вводится в действие вариант номер два. Танки Бакулина и Чижова и самоходки Журбы занимали заранее определенные места засад, а свежий батальон Барамия должен быть готовым к контрнаступлению.
Гвардии майор Бакулин со своим Т-34 занял позиции как можно ближе к переднему краю немцев. Во дворе заброшенного помещичьего фольварка замаскировалась тридцатьчетверка начальника штаба Соханя, которую тоже решено было бросить в бой вместо сожженной машины Коваленко. Этой «коробкой» командовал сейчас лейтенант Белокамень, который только что возвратился из госпиталя. Обоим танкам и трем самоходкам приказано перекрыть гудронированную дорогу из Глейвица на Оппельн. Также тщательно контролировались остальные дороги — от селения к селению, от шахты к шахте, между заводами, фабриками, мастерскими, фольварками. Сетчатая паутина дорог, с одной стороны, способствовала врагу, давая возможность наступать одновременно в нескольких направлениях, а с другой — упрощала задачу обороны: наступление расчленялось на отдельные сектора, силы распылялись, их легче было отсекать и уничтожать по частям. Все будет зависеть от того, сумеет ли враг добиться успеха на первом этапе боя.
Командир бронетанковой дивизии «Рейх» генерал-лейтенант Карл-Иоганнес Брукнер досконально знал рельеф местности. Она затрудняла широкий маневр, поэтому он решил осуществить прорыв по трассе Глейвиц — Оппельн. Это направление, безусловно, предусмотрит советское командование и сосредоточит здесь основные огневые средства. Поэтому русских необходимо ввести в заблуждение: имитировать наступление на трассе, а тем временем обойти их позиции двумя боковыми дорогами. Только двумя, во избежание раздробления сил. На карте генерала Брукнера начерчено три направления. Прямая красная стрела — легенда главного удара, две извилистые — синяя и зеленая — по ним с боем прорвутся основные силы дивизии.
На красной стреле ударный кулак из пятерки «тигров». Маловато, но Силезия — не Курская дуга! Танки-гиганты протаранят оборону противника, вызовут на себя огонь, прорвутся в тыл и поднимут панику. Березовский сегодня нападения не ждет, поэтому вслепую бросится спасать положение. Пока на трассе будет идти бой, дивизия двумя обходными путями выйдет на оперативный простор.
План разработан до мельчайших деталей. Полки заняли исходные рубежи. Остается разве лишь помолиться богу, дабы помог он фатерлянду в эту тяжкую годину.
Карл-Иоганнес Брукнер поднял глаза на суровое распятие из кости, которое всегда возил с собой. Приобрел его он в безоблачные годы юношеских мечтаний, когда писал стихи, увлекался философией. Философ Фридрих Ницше и привел его к ефрейтору Адольфу Шикльгруберу. От «По ту сторону добра и зла» до «Майн кампф» — таков был его путь.
— Господь с нами!
Генерал окунулся в холодную влажность февральской ночи. Привычно взглянул на небо — погода летная — и неторопливо побрел к машине. Его догнал адъютант оберлейтенант Краузе, подхватил за локоть, помогая сесть в неуклюжий штабной автомобиль. Сел рядом, укрыл ноги генерала шерстяным пледом (память о Париже триумфального сорокового года) и дипломатично кашлянул в кулак. Брукнера, который хорошо знал привычки своего адъютанта, это насторожило.
— Ну, что там? — спросил он недовольно.
— В оперативном отделе исчез радист Фогель. Посылали на квартиру, говорят, из штаба не возвращался.
— Какое предположение?
— Дезертирство.
— Поздно, — вздохнул Карл-Иоганнес Брукнер. Трудно было понять, что он имеет в виду: поиски дезертира или изменение в плане операции. Так и не объяснив своей мысли, генерал приказал шоферу:
— На позиции!
Ровно в пять тридцать на полную мощность заработал радиоузел роты пропаганды дивизии СС «Рейх». На этот раз громкоговорители не вопили о новом уничтожающем оружии и близкой победе фюрера, не призывали советских воинов сдаваться в плен, суля сказочные выгоды. Из многочисленных репродукторов понеслись звуки бодрых походных песен и бравурных воинственных маршей. Взвились в небо сотни белых, желтых, красных, розовых и сиреневых ракет.
Под эту увертюру громыхающей лавиной колонна «тигров» двинулась по гудронированному шоссе, обстреливая его обочины. Советские танки, самоходки, противотанковые батареи пока молчали. Ведущий «тигр» медленно приближался к перекрестку.
И тогда заговорил противотанковый дивизион. Отдельные снаряды, попавшие в броню из легированной крупповской стали, не причинили «тигру» большого вреда. Яростно отплевываясь огнем, он двигался на позицию взвода Полундина, несколькими выстрелами превратив строение дорожного участка в груду обломков.
В это же время по дорогам, отмеченным на оперативной карте зеленой и синей стрелами, двинулись основные подразделения дивизии «Рейх». Пробиваясь сквозь огневые заслоны Отдельной танковой бригады, они направлялись к перекрестку. Этот узел дорог, перерезанный «тиграми», открыл бы им выход в тылы советских войск.
Иван Гаврилович тревожно наблюдал за боем, который, едва начавшись, разгорался с фантастической быстротой. Тьма скрадывала от глаз детали, но общая картина вырисовывалась четко и ярко. Комбриг стоял на броне танка гвардии капитана Барамия, батальон которого в бой пока не вступал, ожидая своей очереди. Еще миг — и ведущий «тигр» раздавит огневую точку Полундина. Хотелось крикнуть в мегафон, предостеречь, дать совет, но кто сейчас его услышит…
Полундин заговорил сам. Подпустив фашиста совсем близко, он прицельно ударил по гусеницам и смотровым щелям. Удар был точный. «Тигр» утратил зрение и ход. Но он еще был страшен в своем слепом гневе. Медленно поворачивая тупую голову-башню, он извергал огненную смерть, пока снаряд противотанковой пушки не заклинил ему башню.
Подбитый танк загородил путь остальным четырем, Не задумываясь, они пошли в обход — первые два через подворье фольварка, остальные — через придорожные заросли. После короткой огневой стычки с ними покончили Качан, Мефодиев и самоходки Журбы.
Неожиданно драматично сложилась ситуация в фольварке. Замаскированные тридцатьчетверки Бакулина и Белокаменя ничем не обнаруживали себя, немцы двигались вслепую. Этим и хотел воспользоваться Бакулин, чтобы пропустить их и ударить сзади по двигателю и бакам с горючим. Но Белокамень не понял его замысла. То ли изменила фронтовая выдержка, то ли погорячился наводчик Шульга, только они преждевременно открыли огонь и демаскировали себя. «Тигры» расстреляли их в упор.
Бакулин мгновенно оценил обстановку: «тигры» вырываются на промежуточную асфальтированную дорогу, ведущую к перекрестку. Но вот на перехват им спешат «коробки» Мефодиева и Качана, самоходки Журбы. Значит, комбриг заметил опасность. Взглянув на наводчика, Голубец понял его без слов и ударил по ближайшему «тигру». Мимо. Еще раз! На этот раз удачно: извилистой змейкой по вражеской броне побежал голубой огонек.
Бакулин спрыгнул на черную, покрытую лужами землю и побежал к расстрелянной «коробке» Белокаменя. На ходу сорвал с себя кожанку, макнул ее в лужу и начал сбивать пламя с тридцатьчетверки. Кожанка уже дымилась, а огонь не унимался. Вдруг Петро уловил характерный едкий запах — из переднего люка клубился черный дым. Там метался механик-водитель Степура, Облитый дизельным маслом, он горел, как живой факел. Комбат вытащил его и толкнул в лужу. Придя немного в себя, Степура начал кататься в холодной воде. Бакулин полез в танк. Среди стреляных гильз съежились наводчик Шульга и заряжающий Седых. Дым выедал Бакулину глаза…
— Товарищ комбат, они убиты, — услышал шепот пулеметчика Кочеряна.
— А ты ранен?
— Не знаю. Ударило в живот, кровь… Не знаю.
— А Белокамень? Где командир танка?
— Я тут, товарищ майор, — сквозь стон отозвался тот.
— Что у тебя?
— Нога…
Белокамень мог выбраться через верхний люк, но, видимо, надеялся чем-то помочь своим товарищам. Его израненная левая нога безвольно повисла.
— Знамя бригады у нас… — простонал Белокамень.
— У вас?
«Ах да, это же машина Соханя, принадлежавшая ранее Самсонову…»
— Где знамя?
Белокамень молчал. Наверное, потерял сознание.
— Знамя у меня… — задыхаясь, прошептал Кочерян.
Было невыносимо душно, угарно. Бакулин боялся угореть. К тому же в любую секунду мог произойти взрыв. Проверил пульс у Шульги, у Седых. Пульса не было.
— Кочерян, немедленно выбирайтесь наружу.
Ответа не было.
Бакулин взял из рук погибшего воина свернутое бархатное полотнище, взвалил себе на спину Белокаменя и сквозь пламя, которое уже охватило люк, вывалился на мокрую землю. Там ему помог Степура.
Едва успели они отползти за какое-то здание, сизый рассвет потрясло взрывом. Будто из вулканического кратера, метнулось вверх багровое знамя, перевитое траурными лентами маслянистого дыма.
Комбриг Березовский стоял на обгоревшем «тигре», подбитом взводом Полундина на скрещении дорог. Это была удобная позиция для наблюдения.
Бой не прекращался, растекаясь узкими ручьями по проселкам. Наткнувшись на сопротивление, бронированные полки генерала Брукнера не выполнили сурового приказа о компактности ударов — их расчленили удары танковых батальонов и артиллеристов Журбы. Невысокий энергичный подполковник Журба, командир артиллерии, в солдатской каске, в опаленном комбинезоне, доложил комбригу об успехах и нуждах артиллеристов.
Иван Гаврилович, несмотря на огорчительные потери, понесенные его подразделениями, в целом был доволен ходом боя. Теперь он ждал того переломного момента, который трудно предвидеть заранее, но который можно уловить интуитивно, благодаря опыту командира. Когда этот момент, по его мнению, наступил, комбриг ограничился одним коротким словом:
— Пора!
Давид Барамия, нервничая не меньше комбрига, мгновенно вскочил на броню своей тридцатьчетверки. Срываясь на фальцет, крикнул в мегафон:
— Вперед, орлы-ы-ы!!!
…В тот же самый день, под вечер, передовой отряд советских танков достиг шахтерского поселка Мациола Дольная. В поселке царил образцовый порядок. Его установила рабочая милиция, которую возглавил вырванный из гестаповских застенков Болеслав Офярек и его помощники товарищ Збигнев и Рудольф Шульц. Под их надзором был оставлен пленный Эдмунд Фогель для передачи армейской разведке. Осику, Непейводу и Лихобаба капитан Барамия принял на броню танков.
Танки держали курс на Глейвиц.
3
Галя Мартынова прибыла в Москву. С шумного Белорусского вокзала вышла на площадь, от которой начиналась улица Горького. По этой улице нужно было пройти к Садовому кольцу, здесь, неподалеку, проживала семья Самсонова.
В столице еще держалась зима, ночью выпал свежий снег, придав городу торжественную нарядность. Снег весело поскрипывал под сапогами, это подбадривало, настраивало на радужный лад. Все было здесь необыкновенным: и спокойный ритм города, и огромное множество людей, и их преимущественно гражданская одежда. Галя засматривалась на причудливые женские шляпки, на меховые шубки, о существовании которых, казалось, давно уже забыла. Однако в городе было много и военных. Где-то на полпути, между вокзалом и площадью Маяковского, она увидела на стройном гвардейце темную танкистскую шинель, и сердце ее вздрогнуло. Но нет, не он! Далеко отсюда Петр Бакулин!..
Галя шла медленно. Вещевые мешки, особенно тот, который с гостинцами для Самсоновых, врезались в плечи.
Натренированное ухо следило за воздухом — фронтовая привычка. Но небо было спокойно, в нем еле заметно покачивались аэростаты заграждения. Но вот неподалеку от площади Маяковского прохожие вдруг засуетились, началась толчея, как во время воздушной тревоги. Чтобы сориентироваться в обстановке, Галина опустила свою ношу на ступеньки крыльца невысокого старомодного здания и прислушалась. Нет, это не тревога!
Вооруженные автоматами конвоиры вели пленных фашистов. Бесконечная грязно-зеленая река текла по Садовому кольцу, сворачивая на улицу Горького, мимо Галины Мартыновой, очевидно на Белорусский вокзал.
Не только разношерстная толпа, в оцепенении застывшая по обочинам улицы, но и она, фронтовичка, впервые в жизни видела такое множество фрицев. Длинная немая колонна двигалась понурым позорным маршем, который отнюдь не напоминал тех напыщенных парадов из трофейной кинохроники, которые сержант Мартынова видела на экране полевой кинопередвижки. Безликие, худые и грязные, в обшарпанных, измятых, заляпанных грязью шинелях, в изорванных кожанках, с наброшенными на плечи замусоленными одеялами. Вот вам и высшая арийская раса!
Прошел час, полтора, два. А колонна двигалась без конца и края, будто что-то фантастическое, нереальное… Утомленная, измученная длинной дорогой, Галина присела на вещевой мешок, другой зажала в руке и сидела так с закрытыми глазами. Однообразный шорох изорванных сапожищ по истолченному снегу доносился до ее ушей, будто из очень далеких воспоминаний.
…Тамара Денисовна доставала из вещевого мешка подарки: металлические банки с американским колбасным фаршем, жестянки с консервированными черешнями — трофей из Обервальде, — плиточки французского шоколада, продолговатые блоки чайного печенья, квадратики пищевых концентратов, хрустящие синие пачки рафинада. Нашлись в мешке еще и изюм, урюк, инжир и другие деликатесы, присланные на фронт из Закавказья и Средней Азии.
Бледные губы Тамары Денисовны, к которым давно не прикасалась помада, плотно стиснуты, а из небольших серых глаз скатывались слезы, оставляя на щеках мокрые полоски.
Рядом стояла, словно в оцепенении, Валентина. В глазах ее, похожих на материнские, была боль, но Валентина не плакала.
Выложив продукты на стол, Самсонова присела на стул, вытерла платочком слезы.
— Спасибо… — тихо обронила она. — Спасибо, что не забываете.
Снова взяла в руки прочитанное уже перед этим письмо от командования, пробежала его глазами и отдала дочери.
— Спрячь, Валя. — И уже к Мартыновой: — Вы не откажетесь переночевать у нас?
Галина молча кивнула в знак согласия. Так и осталась она временно на Садово-Каретной.
На следующий день она написала два письма: коротенькое — в Кременчуг и пространное, обстоятельное, — на полевую почту. Вдвоем с Валентиной отправились на Центральный телеграф, надеясь, что оттуда письма пойдут скорее, чем из обыкновенного почтового ящика.
Знакомая площадь Маяковского. Ветер разорвал пелену туч, и город озарили косые солнечные лучи.
— Как много солнышка! — невольно вырвалось у Галины.
— Тебя это удивляет? — спросила Валя. — Разве на фронте нет солнца?
— Конечно, есть… Но мы… мы не любим его.
— Почему?
— Воздушная опасность.
— Ах, вот оно что!
Валентина не совсем понимала новую подругу. Воздушная опасность на протяжении одного-двух лет угрожала и Москве, но преимущественно ночью, когда солнца не бывает. Чтобы появиться над городом, вражеским эскадрильям нужно преодолеть заграждения могучей противовоздушной обороны, а этого им никогда так и не удалось сделать. Если же и прорывались, то лишь отдельные самолеты, сбрасывавшие бомбы торопливо, наугад.
— А что ты думаешь, глядя на солнце? — спросила Мартынова.
— Думаю о том, что мой отец уже никогда его не увидит. — И объяснила: — Он был солнцепоклонником. Помню, с малых лет, куда бы нас ни забросила судьба, а семьям военнослужащих часто приходилось менять местожительство, отец огораживал в летние дни домашний солярий и заставлял нас, особенно утром, загорать под ультрафиолетовыми лучами. Это я сейчас такая бледная, а в детстве совсем другим был цвет лица…
— Я тоже любила солнце, — призналась Галина. — Ведь у нас Днипро, пляж, песчаный, золотой, чудо! Но на фронте никто не любит солнце. При солнечной погоде непременно бомбят…
— Москву тоже бомбили, — сказала Валя с таким оттенком, будто была рада, что тоже испытала фронтовые невзгоды.
— Что-то не видно, — оглянулась вокруг Мартынова. — Все дома целы.
— Это здесь целы. А в других местах, например на Арбате, по-другому выглядит: театр Вахтангова начисто был сметен с лица земли. А на окраинах часто горело, я сама видела. С крыши нашего дома далеко видно.
— Охота тебе на крышу лазить.
— А как же! Мы ведь противовоздушную вахту несли. И я, и мать. Ты, наверное, думаешь, что мы тут потихоньку прозябали? Видела бы, как ночью, под рев сирен, рыщут по небу прожектора, как сыплются подлые «зажигалки», только успевай подбирать и тушить их. Не один дом сгорел бы, если бы не было вахты.
Слушая подругу, с любопытством оглядывая улицы Москвы, Галина всеми своими помыслами была на Одере. Виделся ей тяжелый танковый бой, пылающие «коробки», Петрусь в копоти и ссадинах (лишь бы только не раны), потом она снова вслушалась в горестное повествование Валентины и сказала:
— Да, всем досталось в эту проклятую войну… Ты учишься или работаешь?
— Учусь, — извиняющимся тоном ответила Самсонова. — В консерватории на дирижерском факультете.
— Ого!
Еще одну площадь миновали, поравнялись с памятником Пушкину.
— Вон там, — Валя рукой указала вниз, за памятник, — Арбат. Там упала бомба.
Так сержант Мартынова, прибывшая со станции Ченстохов в Москву, постепенно включалась в будни тыловой жизни…
Вот и Центральный телеграф — глыбистое здание, расположенное на углу широченной улицы и узкого переулка, запруженного пикапами и грузовиками. На эти машины грузили связки газет, обшитые мешковиной посылки, бумажные мешки с письмами.
Галя и тут не доверилась синенькому ящичку. Вошла в помещение, где стояли высокие деревянные ящики со специальным отверстием для писем и государственным гербом.
Опустив письма, Галя восторженно рассматривала главный зал телеграфа.
— Интересно? — спросила Валя.
— Здорово! — призналась связистка. — Какая же здесь сложная механика, сколько писем, газет, телеграмм… Ей-же-ей, здорово! — Галина даже прищелкнула языком. — Вот бы попрактиковаться.
— Устраивайся. Будем ходить вместе в театры.
Мартыновой не хотелось сейчас думать ни о работе, ни о театрах. Отдохнуть бы как следует, выспаться за все ночные тревоги и дежурства…
— Хочешь взглянуть на Московскую Государственную консерваторию имени Чайковского?
— Хочу.
— Тогда пошли.
По Газетному переулку прошли на улицу Герцена, и вот оно — величественное здание прославленной консерватории.
Мелодии Чайковского! Она вдоволь наслушалась их вечером, в филиале Большого театра, куда повела ее Валя. Шел балет «Лебединое озеро». Галина смотрела его впервые, а Валя, наверное, в сотый раз.
Перед этим Валентина с большим трудом уговорила гостью снять военную форму, которая в эшелоне за много дней пути измялась и загрязнилась. К счастью, в вещмешке сержанта Мартыновой нашлось голубое бархатное платье с белым воротничком и шевровые туфли. Но давно уже девушка отвыкла от высоких каблуков. Поэтому во время спектакля она тайком то и дело снимала туфли, давая отдых ногам. Хорошо, что в раздевалке у нее и шинель, и сапоги!
Публика очень пестрая — гражданские в гражданском, военные в своем, только она, дура, прислушалась к совету… Ведь гимнастерку можно было выстирать и просушить утюгом. Тогда не чувствовала бы себя не в своей тарелке.
Но вскоре она обо всем этом забыла. Под звуки очаровательной музыки балерины в белоснежных пачках в самом деле похожи были на игривых лебедей. И пошло, полилось, поплыло…
Когда занавес опустился, сержант Мартынова горячо хлопала в ладоши, что-то восторженно кричала, слившись в единое целое со всем залом.
В антракте к Самсоновой подошел высокий, стройный юноша. Называл ее вежливо и солидно: Валентина Михайловна. По обрывкам разговора нетрудно было догадаться, что они давние друзья и понимают друг друга с полуслова.
Второй акт был таким же чарующе-трогательным, а в антракте к ним снова подошел стройный юноша. Пригласил в буфет. Валентина официально представила их друг другу, назвав юношу молодым композитором Олегом Кондрацким.
— Я тоже побывал на фронте, — сказал композитор, когда они спустились в буфет. — Ездил с концертной бригадой.
— Олег был на Курской дуге, — дополнила его Валя.
— Да, да, — сказал он. — То, что я там увидел, не забуду никогда. — Его продолговатое худощавое лицо стало грустным и вдохновенным. — Обоянь, Солнцево, Прохорова… Самолеты, танки, звон, скрежет, огонь. И среди всего этого — человек. Я хочу воссоздать этот ужас и стойкость наших людей во Второй симфонии, которую заканчиваю.
В буфете продавали яблоки, крюшон и конфеты на сахарине. Они пили крюшон, ели горьковатые конфеты. Олег что-то энергично доказывал Валентине, которая спросила у него, скоро ли он закончит свою симфонию. Галина к их разговору не прислушивалась, снова улетев мыслями далеко.
Это было в самом деле похоже на сон. Пылающий танк старшего лейтенанта Коваленко, из которого вряд ли кто спасся, тральщики, которые пропахивают минные поля, самоходки, бьющие прямой наводкой по противотанковым укреплениям, встречные удары «тигров» и «Фердинандов», истерический вой пикирующих бомбардировщиков, охваченная пламенем и дымом земля. Это последнее, что вынесла Галина с собой оттуда. И вдруг этот зал, пестрая толпа зрителей, эта чарующая музыка…
Однако отчетливо чувствовалось: война присутствует и здесь. Об этом свидетельствовал и нетопленый зал, и полевые погоны на гимнастерках и кителях, и горькие конфетки на сахарине. А более всего — мысли и разговоры людей. Вот и Кондрацкий, оправдываясь перед своей подругой, уверял ее:
— Пишу, перечеркиваю, несу дирижеру и… забираю обратно. Это же не обычная война, поймите, это битва всего чистого и честного, что есть в человеке, против дикости и варварства. Я проштудировал Ницше, раздобыл и прочел «Майн кампф» и ужаснулся: какая чудовищная опасность угрожала человечеству. О нет! Либо я напишу что-то такое, что можно противопоставить фашистской философии звериных инстинктов, либо изорву и сожгу все до последнего клочка бумаги. Ибо иначе…
Галина не слышала конца его фразы — прозвучал третий звонок, и они направились в зал.
Но теперь музыка — мягкая, трогательная музыка Чайковского — почему-то не доходила до ее сознания. Галя мысленно была там, на далеком огненном рубеже, где сейчас сражалась ее бригада.
Даже у гардероба она не могла еще опомниться, не могла толком ответить Валентине, которая спрашивала ее о впечатлении, о постановке, не могла понять, почему она, собственно, тут.
Подбежал Олег — попрощаться. Ему нужно было встретиться с дирижером, договориться об очередной переделке своей симфонии.
…Над зимней Москвой сверкали голубые весенние звезды.
«Сегодня звезды сини, словно сливы, такие звезды выдумала ты!» — продекламировала Валя.
— Маяковский? — спросила Мартынова.
— Нет, Луговской.
Они пошли вниз, на Манежную площадь, к станции метро «Охотный ряд». В тусклом свете весенних звезд, будто на гигантском фотонегативе, выделялись темные силуэты Кремлевских башен. Рубиновые звезды на них были плотно завернуты в чехлы.
— Ты любишь его? — спросила Галина об Олеге.
— Наверное, — просто и искренне ответила Самсонова.
— А он тебя?
— Наверное. — И засмеялась.
— Почему же он так официально, по имени и отчеству?
— Стесняется.
— Чего, любви?
— А мы с ним о любви еще не говорили.
— То есть как?
— Так. Ищет меня, делится творческими замыслами, жалуется на неудачи, прислушивается к советам и — на этом все.
— Давно так?
— Второй год. Он уже закончил композиторский факультет, остался в аспирантуре.
— Сколько же ему лет?
— Двадцать семь.
— А тебе?
— Двадцать четыре. А что, и на фронте существуют анкеты?
— А то как же? Судя по всему, вам давно бы уже пора и под венец.
— Он, наверное, никогда не объяснится. Робкий.
— Так ты скажи ему сама.
— Пускай уж закончится война.
— При чем здесь война?
Сказав это, Галина запнулась. Не стремится ли она оправдать самое себя? А почему ей, собственно, оправдываться? Не искала она своего счастья, оно само пришло…
Налетел легкий ветерок, закружились в воздухе снежинки, будто лебединый пух на зачарованном озере. Галя протянула руку, снежинки таяли на ладони, приятно охлаждая ее.
Валентина предложила:
— Пошли на Красную площадь. Ночью там очень красиво.
Мартынова охотно согласилась.
Они направились к величественному силуэту Спасской башни. Остановились возле затемненного Мавзолея, и именно в этот миг на башне пробили куранты: на всю Москву, на всю страну. Этот вещий звон могли сейчас слышать и на КП танковой бригады, и в боевых порядках танкистов.
На ступеньках Мавзолея, будто высеченные из гранита, стояли часовые. Снег запорошил их шинели, и что-то торжественное и суровое было в этих статуях с влажным блеском живых глаз.
Когда подошли к воротам Спасской башни, куранты затихли. Тут тоже стояли часовые, но в непринужденных позах. Они могли снять с шапки снег, отряхнуть полы шинелей, сделать шаг-другой, чтобы размяться.
Вдруг в воротах мелодично зазвонил звонок, чем-то напоминающий театральный, который извещает о начале действия. Часовые засуетились, один подбежал к телефону, другой к воротам, из которых на полной скорости вырвалось несколько черных легковых автомашин. Пересекли площадь и скрылись в сумерках противоположной улицы.
— Наверное, от Верховного Главнокомандующего, — сказала Валентина.
Галина изумленно взглянула на зашторенные окна за Кремлевской стеной.
4
Этот кабинет помнил каждый, кто хотя бы раз побывал в нем. Просторная, светлая комната с настоянным запахом некрепкого ароматного табака. Три окна обращены на тихий кремлевский двор. Гладенькие белые стены обшиты внизу панелью из полированного дуба. Высокий сводчатый потолок. Над письменным столом Ленин — в широком кресле, с «Правдой» в руках. На стенах, по бокам от ленинского портрета, большие портреты Суворова и Кутузова. Они появились тут недавно, после того как были утверждены ордена в честь великих полководцев. Пол покрыт мягким ковром от двери до стола. В углу, слева от дверей, напольные часы, черный деревянный футляр, украшенный перламутровой инкрустацией. Справа от входа — небольшая витрина с посмертной маской Владимира Ильича.
Сталин только что возвратился из Ялты. Там, в Ливадийском дворце, на берегу штормового предвесеннего моря, состоялась встреча Председателя Совета Народных Комиссаров Советского Союза, президента Соединенных Штатов Америки и премьер-министра Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии.
Атмосфера была не менее напряженной, чем на предыдущей встрече в Тегеране. За восемь дней подведены итоги четырех лет борьбы против общего врага и намечены перспективы Европы и мира на много десятилетий вперед.
В целом Ялтинским совещанием Сталин был доволен. Многое удалось отвоевать. Да, именно отвоевать. Весомость твоих аргументов за дипломатическим столом прямо пропорциональна отвоеванному и завоеванному армией, которую ты представляешь.
Он только что отпустил заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных Сил генерала Антонова и его помощников. Антонов был с ним в Ялте, информировал конференцию о положении на советско-германском фронте. Нужно было видеть, какими колючими глазами впился в него Черчилль! Типичный империалистический хищник, похожий на бульдога, каким его изображали в двадцатых годах на плакатах РОСТа. Рузвельт тоже смотрел внимательно, но куда-то мимо оратора, словно бы хотел увидеть то желанное будущее, которое придет после войны.
Антонов произвел в Ялте убедительное впечатление на всех. На войне люди быстро обретают опыт, мужество. Все время вертелось слово «вырастают», но отбросил его как шаблонное, затертое. Не самый ли большой изъян нашей пропаганды заключается в том, что кое-кто слишком часто употребляет одни и те же слова и образы, отчего они утрачивают активное влияние. Спросил об этом у Щербакова, который сидел на диване, держа в руках газетные гранки.
Александр Сергеевич согласился.
— Это верно. Достаточно просмотреть хотя бы эти гранки.
— Что это? — спросил Сталин, посасывая угасшую трубку.
— Передовые статьи центральных газет об итогах Крымской конференции. Газеты разные, а статьи словно бы под копирку.
— А может, это и неплохо?
— Не понимаю, товарищ Сталин.
— Может, в данном случае так и нужно?
— Возможно. Но хотелось бы все-таки слова более живого, образного.
— Вы так считаете?
В вопросе Сталина прозвучала нотка неудовлетворения. Сталин не любил возражений. Не дав Щербакову ответить на свой вопрос, он продолжал привычным, назидательным тоном:
— Сейчас нет необходимости растекаться мыслью по древу. Эти статьи будут читать не только наши друзья, но и враги. А они есть не только в Германии. Скажите: вы лично доверяете Черчиллю?
— Рузвельт, наверно, надежнее, — схитрил Щербаков.
Сталин взял со стола черную картонную коробку с зеленым кантом, на которой темным золотом отпечатано название: «Герцеговина Флор». Старческими пальцами разминал папиросы и вытряхивал из них табак в небольшую обкуренную трубку. Делал это неторопливо, занятый своими мыслями. Наконец сказал:
— Дело не в личных качествах того или иного буржуазного деятеля, хотя и это очень важно. Дело в социальных и политических закономерностях. Не чья-либо личная прихоть, а историческая необходимость вынудила Англию, а затем и Америку стать нашими союзниками по антигитлеровской коалиции. Необходимость!
— Так как же быть с передовыми? — напомнил Щербаков. Его подгоняла другая необходимость: газеты уже печатаются, пора подавать в ротационные машины и первые полосы.
Сталин раскурил наконец трубку и вдруг улыбнулся:
— Пишите так, чтобы было очень убедительно, но и не очень конкретно. Примерно как в Ялтинском итоговом коммюнике. — И, демонстрируя свою нестареющую память, процитировал: «Наши общие военные планы станут известными лишь тогда, когда мы их осуществим». Коротко и неясно. Покажите ваши оттиски.
— Вот они.
Взял синий карандаш, сел за стол, читал гранки, вычеркивал, дописывал.
— Ну вот. Благословляю.
Щербаков направился в соседнюю комнату — передать по телефону редакторам газет коррективы Верховного.
Воспользовавшись паузой, в кабинет вошел дежурный.
— Переделали? — спросил Верховный Главнокомандующий.
— Готово, товарищ Сталин.
Положил на стол два приказа Ставки. Один — о назначении генерала армии Алексея Иннокентьевича Антонова начальником Генерального штаба вместо маршала Василевского. Другой — о назначении Александра Михайловича Василевского на пост командующего Третьим Белорусским фронтом вместо погибшего под Кенигсбергом генерала армии Черняховского. Сталин знал содержание обоих документов и подписал их без замечаний. Спросил у дежурного:
— Членов Политбюро известили?
— Так точно. Будут ровно в час.
— Хорошо. Придется снова заседать ночью.
Дежурный вышел, возвратился Щербаков. Сталин поднялся, долго стоял молча, курил трубку, потом сказал:
— Кирпонос, Ватутин, Черняховский… Большие надежды возлагал я на них. Нет их. Ватутину было сорок два. Черняховскому тридцать восемь. Вот и приходится бросать в огонь старую гвардию: Жукова, Конева, Василевского…
Ничего не сказал Александр Сергеевич, лишь тяжело вздохнул:
— Завидую тем, кого бросают в огонь, товарищ Сталин.
— Хотите на фронт?
— Хотел бы. Да врачи, к сожалению, не имеют такого желания. Наверное, уложат все-таки в постель.
— Держитесь, товарищ начальник Главного политического управления. Победу будем отмечать широко. Вот когда пригодится нам ваш пропагандистский талант.
— Постараюсь достойно встретить победу, товарищ Сталин.
Шутка прозвучала грустно. Сталин знал от врачей о состоянии здоровья Щербакова обстоятельнее, чем сам больной, а поэтому переменил тему разговора.
— Операции на фронте развиваются более или менее удачно…
— Это называется «более или менее»? — отважился пошутить Александр Сергеевич.
— Я мог бы сказать «совершенно» лишь в том случае, если бы наши войска были на окраинах Берлина.
— К сожалению, это невозможно. Войскам необходима передышка, необходимо подтянуть резервы, тылы…
— К сожалению. — Сталин сделал длинную паузу, набивая трубку. — К сожалению. — И вдруг — совсем о другом: — На словах они — Рузвельт с Маршаллом и даже Черчилль с Иденом — миролюбивые ангелы. А на деле…
— Тянут, — подхватил Щербаков, — отказались активизировать военные действия в Италии, помешать переброске на наш фронт гитлеровских войск из Норвегии…
— Вы говорите о деталях, — начал нервничать Сталин, — а я о главном.
Щербаков не возражал. У него стучало в висках, снова поднималось давление. А Сталин приглушил раздраженность, сегодня он был в хорошем настроении.
— Главное для нас — будущее Балканских стран, Польши, самой Германии. В этом, в самом важном вопросе, мы вроде бы добились в Ялте значительного сдвига. Но где гарантии? И Рузвельт, и Черчилль заверяют, что нет оснований бояться чего-то нежелательного. Предположим, пока все мы живы, бояться нечего. Новая агрессия невозможна. Но пройдет десять лет, а то и меньше, и нас не станет. Придет новое поколение, которое не пережило, не изведало всего того, и, естественно, будет иметь свои взгляды, что тогда?
Трудно было ответить на такой вопрос. Да Сталин, очевидно, никакого ответа и не ждал. Перевел на другое:
— В тридцать девятом, когда мы предлагали им: пропустите наши войска через Польшу, они отказали. А теперь, вишь, шелковые.
— На них влияет положение на фронтах, — оживился Щербаков. — Польша полностью освобождена, наши войска в Будапеште, на Одере…
— Да, на Одере, и простоят там полтора-два месяца, а за это время…
— Разве что-нибудь может измениться?
— Все! — сказал Сталин, сделав рукой, сжимавшей трубку, характерный жест. — И прежде всего намеченные нами государственные границы Германии и Польши. Тут Черчилль чего-то выжидает, на что-то надеется. Возможны два варианта, кроме того, который мы зафиксировали в Ялте. Либо немцы подпишут сепаратный мир с нашими союзниками без нас, либо…
— Во что бы то ни стало будут стремиться добиться перелома на фронте.
— Да. Снимая для этого свои последние дивизии с Запада. А потерпев фиаско, сдадут Берлин англо-американцам.
— Гитлер на это не пойдет, — не очень уверенно возразил Щербаков.
— Гитлер не вечен. В Берлине появились весьма влиятельные силы, которые, наверное, оценивают нынешнее положение рейха более трезво, чем фюрер.
Наступила тишина.
— Изучите этот вопрос вместе с Антоновым, — приказал Сталин. — Используйте все возможности разведки. Наши союзники думают, что, возвратившись из Ялты, мы почиваем на лаврах. Пускай себе думают. Вы согласны?
— Осторожность не помешает никогда.
— До свидания.
— До свидания, товарищ Сталин!
5
Из всей делегации, которая должна была посетить Герхарта Гауптмана, к своей миссии надлежащим образом подготовилась разве лишь Екатерина Прокопчук. Остальные знали о выдающемся немецком писателе немного. Иван Гаврилович помнил некоторые его пьесы. Алексей Игнатьевич твердо запомнил основное: Гауптман отрицательно относился к господствующей в кайзеровской Германии юнкерской касте. Его первую зрелую пьесу «Перед восходом солнца» поставил кружок «Свободная сцена» в помещении Берлинского «Лессинг-театра», к пьесе «Ткачи», посвященной рабочему восстанию в Силезии, собирался написать предисловие Лев Толстой; один из первых переводов этой социальной драмы на русский язык осуществила Анна Ильинична Ульянова-Елизарова, а редактировал этот перевод Владимир Ильич Ленин. Все это были очень важные аргументы в пользу литератора, в творчестве которого бывали также огорчительные неудачи.
Яша Горошко был рад тому, что увидит живого немецкого классика, хотя тоже имел о нем самое общее представление.
Екатерина, узнав о своем участии в делегации в роли переводчицы, разыскала в Глейвице собрание сочинений писателя в нескольких томах, напечатанное старым готическим шрифтом. Сначала это замедляло чтение, но через час-два она привыкла. Одну за другой прочитала девушка с десяток драм, пока наконец дошла до «Розы Бернд». Эта пьеса потрясла ее. Екатерина словно бы еще раз пережила свою трагедию, свою исковерканную юность. Конечно, между уманской комсомолкой и батрачкой помещика Фламма не могло быть ничего общего. Но пришло лихолетье… Собственно, и сейчас они разные — Екатерина Прокопчук и Розина Бернд. Все у них разное. Общее только одно: растоптанная девичья судьба…
Свежевыструганный сосновый указатель извещал, что до Агнетендорфа осталось пять километров. Вскоре на двух машинах — виллисе комбрига и политотдельском газике — они въехали в большое село с ярко-красными черепичными крышами. Терпугов по-русски спросил у человека, напоминавшего типично гауптмановского персонажа: где здесь вилла «Визенштейн»? Тот указал рукой на пригорок и крикнул по-польски:
— То ест, проше папа, там!
Березовский и Терпугов вышли из машин размять ноги. Машины тронулись вперед, то и дело останавливаясь в ожидании их.
— Считаете, что об архиве и спрашивать не следует? — начал комбриг.
— Попробуем, но вряд ли что-нибудь выйдет. Сам Геббельс занимался этим вопросом. По его поручению уполномоченный министерства пропаганды Вильфред Баде совсем недавно приезжал сюда. Гауптман запретил прикасаться к архиву, но Баде вывез его.
— В Берлин?
— Если б только! Там еще можно было бы разыскать. Нет, по данным политуправления фронта, архив Гауптмана находится в замке Кайбиц, в Баварии.
— Это же не так далеко.
— Американцам ближе.
Герхарт Гауптман доживал свой последний, восемьдесят третий год. Память писателя тускнела, разум постепенно угасал, но воля оставалась непоколебимой. Когда-то кайзер Вильгельм Второй назвал его — доктора Оксфордского университета и лауреата Нобелевской премии — врагом Германской империи. Но он шел своим путем. Не сломил его и гитлеровский режим. Предчувствие фашистского вырождения он воплотил в драме «Перед заходом солнца». Гитлеровцы ответили ему глухой ненавистью. Гестапо не спускало с него глаз, а он писал. Пьесы «Магнус Гарбе» — откровенный вызов фашизму, «Смерть Агамемнона» — в защиту гуманизма, антигитлеровские стихи. К сожалению, эти стихи не сохранились. Вопреки воле автора фашисты вывезли их вместе со всем архивом, дабы скрыть это духовное наследие от нового поколения немцев. Что же теперь ему скажут эти, красные? Что он скажет им?
Гауптман сидел в гостиной своей просторной виллы, увешанной картинами на библейские и фольклорные темы, обставленной старинным фарфором, вазами из прозрачного хрусталя. День был теплый, но солнечные лучи не согревали старого писателя. Он дремал в резном кресле, причудливом шедевре мастеров, ровесников его молодости, которые умели из непокорного бука создавать такие чудеса: кресла, шкафы, фонари, королевские кареты. Эти мастаки, как и герои его пьес, ушли в небытие вместе со своей эпохой. Их проглотила техника и ее вездесущий продукт — металл.
Закутанный одеялами и пледами, с паровой грелкой под ногами, ждал хозяин «Визенштейна» невиданных, неслыханных гостей, словно пришельцев с иной планеты.
Екатерина почему-то представляла себе, что Гауптман похож на профессора Шаубе, ее хозяина из Обервальде. Однако никакой схожести не обнаружила, — даже старость не нивелировала их личностей. К тому же Фридриху Шаубе были не чужды радости и огорчения жизни, а Герхарт Гауптман уже почти покорился холодной власти небытия. Девушка вспомнила афоризм одного из гауптмановских героев: «Для молодых смерть — возможность, для старых — неизбежность». Ее поразила суровая правдивость этих слов.
В музейной гостиной в самом деле ощущалась неизбежность смерти. В конце концов так могло показаться Екатерине и всем остальным, ведь знали они и о преклонном возрасте хозяина, и о старческих недугах, и о длительной изнурительной борьбе, которую он вел за право быть человеком.
Тело спрятано в пледах и одеяле, видно лишь лицо, необыкновенно худое и вытянутое. Щеки побриты и напудрены: неизвестно, каждый ли день домашние так заботятся о нем или это сделано только ради сегодняшнего визита. Писатель смахивает на старого пастора-протестанта, готового идти на эшафот во имя своих убеждений. Поражают руки, белые, длинные, положенные поверх одеяла, они, как и глаза, словно бы кричат о жажде работать, действовать. Екатерина вспомнила Матиаса Клаузена, одного из последних трагических героев, созданных фантазией Гауптмана: «Я влачу мертвую душу в еще живом теле». Тут, очевидно, было наоборот: умирало тело, рвалась к жизни душа.
По бокам у старика, будто в почетном карауле, стояли мужчина и женщина. Оба еще довольно молоды, лет по тридцать с небольшим каждому из них. Женщина некрасива, но симпатична, с приветливым лицом, со спокойными зеленовато-серыми глазами, светлыми волосами, которыми она часто встряхивает по-девичьи задиристо. У мужчины квадратное лицо, выдающиеся скулы, открытая враждебность в больших, недоверчивых глазах.
Гауптман поднял правую руку и вяло махнул ею в знак приветствия. Березовский заговорил первым: пребывая в этих местах, они считали своим долгом навестить выдающегося немецкого писателя, который так много сделал для культуры и будущего своего народа. Екатерина дословно перевела эту краткую речь. Светловолосая женщина, встряхнув локонами, одобрительно улыбнулась, а мрачный мужчина еще больше насторожился. Глаза Гауптмана вспыхнули живым огоньком.
— Нет ни одной минуты, — сказал он тихо, но четко, выразительно выделяя каждое слово, — нет и не будет, когда бы я не думал о Германии. Я не знаю других мыслей, кроме мыслей о Германии.
Женщина, продолжая приветливо улыбаться, украдкой взглянула на мужчину. В ее глазах мелькнуло беспокойство. Тот стоял невозмутимо, будто глухонемой.
Екатерина поименно назвала гостей. Гауптман внимательно рассматривал каждого, потом, указав глазами на Березовского, с улыбкой обронил:
— Беккер.
Иван Гаврилович вопросительно взглянул на переводчицу, видимо студенческие знания улетучились из его памяти. Екатерина объяснила:
— Господин Гауптман говорит, что вы, товарищ полковник, похожи на героя его пьесы «Ткачи» бунтовщика Беккера.
— Да, да, — подтвердил писатель, догадываясь о чем говорит девушка.
— Передайте господину Гауптману, что я весьма польщен. Теперь я хорошо вспоминаю и другие его пьесы, которыми увлекался в молодости.
Гауптман поблагодарил за доброжелательность и представил членов своей семьи.
— Моя невестка…
— Барбара Гауптман, — добавила светловолосая и, вежливо кланяясь, встряхнула кудрями.
— Мой сын…
— Бенвенуто Гауптман, — резко, по-военному, отчеканил мужчина.
— Садитесь, господа, — пригласил хозяин, жестом указав, что это касается и его домашних.
— Я вынужден предупредить, — предостерег Бенвенуто Гауптман, — что отец нездоров и аудиенция должна быть как можно короче.
— Я позабочусь о кофе, — вскочила Барбара. — Господа пьют черный кофе?
— Если вы так любезны, — ответил комбриг.
Барбара вышла на кухню. С гостями остался неприветливый Бенвенуто. Интересно, откуда это итальянское имя?
Наверное, писательская интуиция подсказала старику, ибо он объяснил:
— Бенвенуто — мой сын от второго брака. Его мать была ревностная католичка. Она и дала сыну католическое имя.
— Я тоже убежденный католик, — с вызовом подчеркнул сын. — Но я выше религиозных постулатов ставлю земные интересы немецкой нации.
— Мой сын слишком увлекающийся, — старался смягчить впечатление Гауптман.
— Чем же именно он увлекается? — напрямик спросил Терпугов, чувствуя враждебность Гауптмана-младшего.
Бенвенуто догадался, о чем идет речь, но не отступал.
— Чем? А хотя бы и идеалами могучей немецкой империи. Да, да, великой империи! От Балтики до Каспия. Что в этом плохого?
— А что хорошего? — спросил Яша Горошко.
— Минуточку! — остановил его начполитотдела. — Пускай человек выговорится.
Но Гауптман-младший умолк. На свое откровенное высказывание он, вероятно, ждал гневного ответа ненавистных ему красных командиров, возможно, даже и угроз. А вместо этого услышал спокойную насмешку:
— Итак, до Каспия? Почему же не до Тихого океана?
Бенвенуто затравленно посмотрел на Терпугова, безошибочно угадав в нем «большевистского комиссара», по не сдался.
— Мир должен быть разделен на сферы влияния.
— Гитлер претендовал на полное владение миром.
— Гитлер просчитался.
— Только в этом?
— Да.
Воцарилось неприятное молчание. Березовский, обычно равнодушный к курению, сейчас мечтал хотя бы об одной затяжке. Ему вспомнилась смешная трубка Соханя, подумал: именно в эти минуты Гордей Тарасович и штабисты, склонившись над картами, намечают новые удары по гитлеровским недобиткам… «Мели Емеля! Твоя песенка спета!»
Алексей Игнатьевич более серьезно относился к таким стычкам. Гигантский плуг нашего наступления глубоко перепахивает ниву немецкой жизни. Позади словно бы чистая пахота. Но бурьян живуч! Нужно сейчас выявлять его и выпалывать. Потом будет поздно.
Он посмотрел на Гауптмана. Что скажет он? Старик дремал. А может, лишь прикидывался? Может, вечная, непрестанная борьба в собственном доме является главной причиной его болезни и изнеможения?
Яша Горошко не удержался:
— Товарищ полковник, разрешите мне.
— Говорите, — согласился Терпугов.
— «Идеалы Германской империи»? — горячился комсopr. — С Майданеком? С Освенцимом? С нашими пленницами? — он непроизвольно указал на Екатерину. — В середине двадцатого столетия? Варвары! Дикари! Детоубийцы! — И, оглянувшись: — Извините, товарищ писатель.
Последнее обращение Екатерина перевела, как «господин Гауптман».
Гауптман повторил:
— Он слишком увлекается. — И добавил: — Бедный мой Бенвенуто, ты гудишь, как разбитый колокол.
Был ли это намек на трагическую судьбу мастера Генриха из «Потонувшего колокола» или тривиальный образ, никто не понял. Но сынок огрызнулся:
— Колокол великой Германии поврежден, но не разбит. Он гудит, как набат.
— Несчастные дети, — сказал Гауптман. — Их отравили.
Возвратилась Барбара, неся поднос с фарфоровыми чашечками, в которых дымилась густая черная жидкость. Виновато улыбаясь, она предупредила:
— Я забыла предупредить. Вместо кофе — желудь с цикорием, вместо сахара — сахарин. Мы уже привыкли к этому.
На подносе было только шесть чашечек. Барбара объяснила:
— Мой свекор не пьет.
— Да, — подтвердил Гауптман, — даже цикорий. Хотя немцы любят его издавна. У нас есть даже исторический анекдот на эту тему.
Пока гости разбирали горячие, дымящиеся чашечки, старик попросил:
— Расскажи, пожалуйста, Барбара.
Барбара охотно выполнила его просьбу.
— Однажды Фридрих Великий, путешествуя по стране, заночевал в горном отеле. Утром ему захотелось выпить чашку черного кофе. Император позвал хозяина гостиницы. «Цикорий для кофе имеешь?» — «Имею, ваше величество». — «Неси его сюда». — «Как, весь?» — «Весь, который имеешь». Пошел хозяин и принес целый мешок этого зелья. «Это все?» — «Все, ваше величество». — «Ой врешь!» И к своим слугам: «Бить плетьми, покуда не признается». — «Смилуйтесь, ваше величество, — закричал несчастный. — Признаюсь: оставил лишь горсточку для своей семьи». — «Неси и эту горсточку». Хозяин принес. «А теперь, — сказал император, — свари мне чашку настоящего черного кофе».
Все вежливо засмеялись, обжигая губы невкусной бурдой с отталкивающим запахом.
— Цикорий еще полбеды, — закончила милая хозяйка. — За эти годы нам пришлось привыкать к значительно худшим эрзацам.
Собираясь к Гауптману, Березовский, по опыту в Обервальде, предложил Терпугову «потрясти» Майстренко и взять с собой немного продуктов. Но тот отсоветовал, думая, что это произведет неблагоприятное впечатление. Теперь комбриг решил отбросить излишнюю деликатность и хотел было просить Барбару составить список самого необходимого, но Алексей Игнатьевич, догадавшись об этом, шепнул ему:
— Потом.
А сам перешел к главной цели визита.
— Господин Гауптман! Нам известно, что во время войны вы писали стихи.
— Писал, — лаконично подтвердил Гауптман.
Иван Гаврилович обрадовался, что Терпугов остановил его, иначе можно было бы испортить все дело.
— Я писал, как велела мне совесть.
— Где эти произведения?
— Их нет, — вмешался Бенвенуто.
— Извините, я обращаюсь к автору.
— Поздно, господин полковник, — выпалил сын откровенно и цинично. — Поздно!..
— Неужели вы не помните их? — с надеждой спросил писателя Терпугов. — Хотя бы одно или два…
— Не та у меня теперь память, — горько признался хозяин виллы.
— Отец утомлен, — решительно встал Бенвенуто. — Ему необходимо отдохнуть.
Начали прощаться. Гауптман, как о чем-то особенно важном и дорогом, снова произнес:
— Запомните: нет ни одной минуты, когда бы я не думал о Германии. И если можно к этому что-нибудь добавить, то разве лишь непоколебимую веру в возрождение моей отчизны, от которой я никогда не отрекусь. Да, она возродится. Без зверства, без милитаризма. Новая, свободная, справедливая.
Бенвенуто пренебрежительно махнул рукой.
— Он отжил свое!
Березовский попросил Екатерину, и девушка от себя предложила Барбаре Гауптман помощь продуктами. Барбара обрадовалась. Она энергично встряхивала кудряшками, несколько раз повторив слова благодарности.
— Бедный старик, — сказал Терпугов, когда они сели в машину. — Ну и сыночек! — И для успокоения проглотил таблетку.
Екатерина подумала: «Тут так же неспокойно, как и там, в доме Шаубе». А вслух промолвила:
— Я узнала этого Бенвенуто.
— Вы виделись с ним раньше? — удивился Иван Гаврилович.
— Ну да. На страницах пьесы «Перед заходом солнца».
— В самом деле, как перед заходом солнца…
Комбриг с грустью взглянул на одинокую виллу, в которой угасало светило классической немецкой литературы.
Часть третья НЕЙСЕ
1
После завершения Силезской операции бригада Березовского форсированным маршем снова двигалась к Одеру, в район города-крепости Штейнау, расположенного на западном берегу реки.
Два моста из марочного железа соединяли когда-то берега быстротечной реки. Мосты гитлеровцы взорвали, а исковерканные брусья и рельсы свисали до самой воды — к ним накрепко пристал лед.
Гарнизон Штейнау состоял из нескольких разгромленных эсэсовских дивизий, батальонов фольксштурма, унтер-офицерской школы и штабных взводов. Благодаря удобному рельефу местности (Штейнау стоит на высоком холме у самой реки), а также старым крепостным фортификациям город стал мощным узлом обороны, который постоянно угрожал нашим левобережным плацдармам. Начальник гарнизона полковник Рейхардт получил личный приказ Гитлера во что бы то ни стало удержать город и остановить дальнейшее продвижение советских войск за Одер.
Когда Березовский и Сохань прибыли в район Штейнау, пехота Нечипоренко уже захватила плацдарм на противоположном берегу реки и удерживала его. Саперы заканчивали сооружение переправ на юг от города. Подходили новые танковые и артиллерийские части, которые с марша готовились форсировать водный рубеж.
Заканчивался февраль, но весна уже давала о себе знать. Поля вдоль Одера раскисли, прибрежный лед набух и потемнел.
Комбриг обеспокоенно посматривал на термометр: ртутный столбик упорно полз вверх выше нуля. Особенно обеспокоен был инженер-майор Никольский.
Березовский, Сохань и Никольский по нескольку раз за ночь наведывались на только что сооруженную понтонную переправу, советовались с командиром понтонного батальона, вслушиваясь в подозрительную темноту. Вода в реке заметно прибывала. С гнетущим предчувствием прилег комбриг на приготовленную Чубчиком в штабном «додже» постель.
Разбудил его Сохань. Лицо начальника штаба было серое, озабоченное.
— Пошла, проклятая.
Спросонок Березовский не сразу понял в чем дело. Он лишь слышал, как тарахтит движок полевой электростанции и радист в траншее под палаткой монотонно повторяет:
— «Пуля»! Я — «Пуля»! Откликнитесь! Да это «Пуля», откликнитесь!
Лишь немного погодя до слуха Ивана Гавриловича донесся шум, которого он так боялся: шум половодья.
— Думаете, снесет? — спросил тревожно.
Сохань, сердито посмотрев в сторону реки, выдернул изо рта трубку:
— Уже снесла.
Через несколько минут были на Одере. По широкому плесу вырывалось из леса полноводное, с белеющими льдинами течение, яростно билось в берега, пенилось, бурлило. Бойцы понтонного батальона мужественно боролись со стихией, им помогали саперы, но поделать ничего не могли. Река уже использовала преимущество того, кто нападает первым: неожиданность и стремительность. Снесла переправу, разбросала понтоны.
На том берегу, на плацдарме, послышалась пулеметная трескотня, сухой шелест мин. Немцы начали новую контратаку. А там всего лишь горсточка наших смельчаков.
Высоченный худой человек подошел к Березовскому.
— Погибнут все, товарищ комбриг.
Иван Гаврилович не сразу понял, кто он и чего хочет. Присмотревшись внимательнее, вспомнил. Это же Осика, капитан Осика — разведчик с острым, как топор, профилем Дон-Кихота!
— На плацдарме ваши? — спросил Березовский, имея в виду разведчиков.
— Нет, товарищ комбриг. Если бы там были мои, я тоже был бы с ними.
А бой за рекою клокотал. Нужно немедленно туда. Любыми средствами! Во что бы то ни стало!
— Вот когда пригодится мой высокий рост, — сказал Осика, раздеваясь: — Разрешите, товарищ комбриг, по-нашему, по-деснянскому.
— А я с берегов Сейма, — решительно снимал одежду механик-водитель Потеха.
Через несколько минут комбриг имел уже точные данные о глубине русла на юго-восток от Штейнау. Оттуда и начал переправлять бригаду.
Штурм Штейнау начался на следующий день, на рассвете. Танкистов и пехоту поддерживала артиллерия. Массированный огонь артиллеристов и удары авиации деморализовали немецкую оборону. Однако гитлеровцы сражались яростно. Танкисты Чижова перерезали магистральное шоссе, батальон Барамия пересек железную дорогу на Любен и Котценау. Путей для отступления не осталось.
За толстыми монастырскими стенами засела большая группа фашистов — остатки переброшенной с Эльзаса дивизии, которой Гитлер дал строгий приказ: «Восстановить границу Германии». Командовал группой капитан Бернгоф.
Бой за монастырь длился до поздней ночи. Это беспокоило комбрига: на следующий день бригада должна была выйти к селу Цедлиц и захватить окраины города Любена. Медлить никак нельзя — немцы лихорадочно готовились к обороне Любена.
Комбриг уже вторично вызывал по радио Бакулина, но тот не отвечал.
— Попробуйте еще! — приказал Березовский радисту.
Радист долго и однообразно кричал в эфир, но комбат не откликался. Вдруг в наушниках послышался голос:
— Докладывает гвардии лейтенант Полундин. Бакулин ранен. Я принял командование батальоном на себя. Веду бой за монастырь.
…События этого дня словно бы нарочно сложились так, чтобы вписать еще одну страницу славы в боевую биографию комбата Бакулина. Переправившись за Одер, батальон миновал лес и вырвался на широкий луг, простершийся к небольшой речке-притоку, которая с юга омывала холм Штейнау. Поросшие мхом столетий стены города ожили вспышками огня, луг простреливался насквозь. Однако это был беглый, малоэффективный огонь. Снаряды падали в размокший грунт, вздымая фонтаны песка. Скованный предрассветным заморозком луг выдерживал тяжесть «коробок». Видимость была чудесная, возможность маневра неограниченная. Низко над долиной промчались два звена «илов» и ударили по огневым позициям врага. Воспользовавшись этим, Бакулин отдал команду с ходу форсировать приток вброд.
Его тридцатьчетверка первой выскочила из воды. Голубец в упор расстрелял из пушки противотанковую преграду, а Потеха, виртуозно маневрируя, таранил остатки бетонного заграждения, пока не вырвался на старую, разбитую мостовую, которая крошилась под тяжелыми траками. Танку преградил путь интенсивный огонь из небольшого дома у дороги. Стены его были изрешечены пулями и осколками, крыша сорвана снарядом. Из темных отверстий окон зажигательными патронами бил крупнокалиберный пулемет.
— Полный вперед, на таран! — крикнул комбат.
Просвистел фаустпатрон, да поздно! Танк уже таранил здание. Под траками гусениц снова выщербленный булыжник, а за танком — груда дымящихся развалин.
Среди охваченных пламенем домов метались факельщики, поджигая эвакуированные кварталы, прилегающие к монастырю. Созданная таким образом огненная завеса должна была преградить путь советским танкам, дать возможность остаткам гарнизона закрепиться в монастырских бойницах.
Танки Бакулина, Полундина, Мефодиева, Качана били из пулеметов и пушек, уничтожая факельщиков и противотанковые засады, медленно пробивались вперед. Комбат 1, приникнув к смотровой щели, руководил боем. Но с каждым метром дым и пыль все больше ухудшали видимость. Бакулин принял решение вылезти на броню танка.
Комбат пристально всматривался вперед, и экипажи услышали еще несколько его приказов: «Внимание, опасность слева!», «Голубец, по дому с деревянной вышкой термитным!», «Мефодиев, не садись Полундину на хвост, оторвись хоть на десять метров!», «Автоматчикам спешиться, идти под прикрытием „коробок“!..»
Но сам он соскочить с брони не успел. Внезапно свет в глазах вспыхнул нежно-розовым цветом. Сознание Бакулина еще успело зафиксировать сильный толчок, а дальше все затихло, исчезло, погрузилось в черноту.
— Почему вы умолкли, Полундин? Докладывайте, что случилось с Бакулиным?
— Докладываю, товарищ комбриг. Попадание фаустпатроном из засады. По броне. Комбат горел. Пламя удалось сбить. Раненого передали санитарам.
— Выполняйте обязанности комбата, — приказал комбриг. — Монастырскую стену пробейте из пушек прямой наводкой. Действовать применительно к обстановке, но чтобы через два часа монастырь был взят!
Поздно ночью в одном из немногих уцелевших домов Штейнау перед комбригом Березовским сидели пленные: начальник гарнизона полковник Рейхардт и комендант монастыря лейтенант Готлиб Шаубе, заменивший убитого в бою Бернгофа.
— Зачем вы оказывали это бессмысленное сопротивление? — спросил через капитана Осику командир бригады.
— Нам приказано было удержать город любой ценой. Перед этим был объявлен приказ Гиммлера о том, что десять родственников каждого, кто сдастся в плен, будут расстреляны. Нам обещали помощь. Заверяли, что наступление Советской Армии захлебнется.
Равнодушие и апатия залегли в красных от бессонницы и усталости глазах гитлеровского полковника.
Лейтенант Шаубе понуро молчал. Он даже не догадывался, что именно его личность интересовала сейчас комбрига значительно больше, чем сам полковник Рейхардт.
«Хорошо Рейхардту, — думал подавленный лейтенант. — Он из Рура. Там уже англичане или американцы. По крайней мере его семья, если она не погибла от бомб, чувствует теперь себя спокойно. А что с моими родными?.. Если бы мы сумели удержать оборону, вскоре перешли бы в контрнаступление. До Обервальде совсем недалеко!..»
Вошел майор Тищенко. Лицо его было бледно. Березовский понял причину волнения майора. Слишком много крови пролилось за этот небольшой городок. А завтра новый бой. И новые потери.
— Отправьте в штаб армии.
— Обоих? — спросил Тищенко.
— Полковника. А с лейтенантом я потолкую. Капитан Осика, останьтесь.
Тищенко заговорил с Рейхардтом по-немецки, и они вдвоем вышли из комнаты. Лейтенант Шаубе удивленно поглядывал то на Березовского, то на Осику. А Березовского постепенно охватывала ярость. Профессорский выкормыш! Этот уж наверняка мог пойти по дороге старшего брата!
— Вы тоже верили, что наше наступление можно остановить?
— Я хотел бы верить в это.
— В явную бессмыслицу?
— Все мы люди, господин полковник.
— Даже тогда, когда бросаем женщин и детей в душегубки?
— Даже тогда, когда выполняем приказы своих командиров. Но я в душегубки никого не бросал.
— Вы убивали наших солдат!
— Я только выполнял приказ.
— Чей?
— Старших по званию.
— А те, старшие, еще более старших?
— Безусловно.
— А самые старшие?
— Им приказывал фюрер.
— Таким образом, за все, что случилось, несет ответственность он один?
— С него все началось.
— А чем закончилось? — И почти закричал: — Неужели же в том, что Бернард Шаубе погиб в Бухенвальде, что два его брата стали исполнителями каннибальских приказов, что их двоюродная сестра чуть не сошла с ума, что сам профессор Шаубе эксплуатировал рабыню с позорным клеймом «ост»… во всем этом повинен только фюрер и больше никто? А кто же тогда все остальные — овцы, ослы или соучастники преступления? А?
Лейтенант, бледный, подавленный, покачнулся. Осика подал ему стул.
— Вы были в Обервальде? — наконец выдавил он.
— Да.
— Кто из моих остался в живых?
— Все, кроме Бернарда. Где Альфред?
— Не знаю. Ничего не знаю. Все перепуталось…
— В самый раз начать распутывать.
Позвал Платонова, дремавшего за ширмой из плащ-палатки:
— Полковника Терпугова сюда! Мигом!
Было слышно, как ординарец вскочил и побежал. Политотдел размещался здесь же, на втором этаже.
Комбриг прошелся по шелестящим ворохам содранных со стен плакатов. Здесь размещалось уездное отделение Германской рабочей национал-социалистской партии. Не хотелось поселяться в таком доме, но вокруг были одни лишь руины. В конце концов дом ведь не виноват…
— Ваш отец передал нам фото старшего сына.
— Бедный отец!
— Почему?
— Ему всю жизнь приходилось мирить непримиримое.
В комнату вошел Терпугов. Алексей Игнатьевич был сонный, утомленный, мешки под глазами отяжелели, видно, не очень помогали и пилюли.
— Это Готлиб Шаубе, — сказал Иван Гаврилович.
— Тот самый?
— Да.
— Думаете использовать для контрпропаганды?
— А почему бы и нет? Сын профессора, брат коммуниста… С паршивой овцы, как говорится, хоть шерсти клок.
— И то верно, — согласился Терпугов.
— Так как будем распутывать запутанное, Шаубе?
Лейтенант пожал плечами.
— Я не знаю, что господин полковник имеет в виду.
— Подумайте, господин лейтенант. Настало время думать.
— Что я должен сделать?
— Рассказать немецкой молодежи правду.
— В чем эта правда заключается?
У комбрига слипались глаза. Он еле одолевал усталость. В разговор вступил замполит.
— Расскажите о себе, о своей семье. И о том, как вы обороняли Штейнау. Как была напрасно пролита кровь, разрушен город, памятники старины, промышленные предприятия, кормившие людей. Война проиграна. Немцам, и в первую очередь молодежи, следует задуматься над своим будущим. Что будет завтра?
— А что будет завтра? — сухо полюбопытствовал пленный.
— Завтра на руинах повергнутого рейха встанет новая Германия. Свободная, очищенная от нацистской отравы. Об этом говорил и ваш великий писатель Гауптман. Но благосостояние Германии, ее жизнеспособность будут зависеть от того, насколько сейчас удастся сохранить людские и экономические ресурсы. Следовательно…
— Нарушить присягу? — вспыхнул пленный.
Березовский поднялся, чтобы развеять дремоту, которая наваливалась все больше и больше. С наслаждением топтал сапогами нацистские плакаты, слушал, как страстно и убедительно говорит Алексей Игнатьевич.
— Нарушить старую клятву и принять новую. Не маниакальному фюреру, не его безумным идеям, а родной земле, родному народу. Неужели вы не понимаете этого?
— Кому я должен сказать это?
Иван Гаврилович не удержался:
— Своим родителям. Брату Альфреду. Всем немцам. Всему миру!
— По радио, — уточнил Терпугов.
Готлиб Шаубе склонил голову. Потом спросил:
— А если я не сделаю этого?
Первой мыслью было: «Еще и торгуется, сволочь!» Второй: «Но не падает на колени, не прикрывается братом-коммунистом, как щитом». Поэтому сказал откровенно:
— Сейчас мы не решаем вашу судьбу. Вы пленный офицер и подлежите законам войны. Не хочу ни искушать вас обещаниями, ни запугивать угрозами. Вы должны взвесить сами.
— Ясно. Мне это нравится.
— Итак?
— Разрешите подумать.
— Времени мало. Мы стоим у ворот Берлина.
— До Берлина еще далеко.
— Ближе, чем до Сталинграда.
— До Берлина еще далеко, — упорно повторил Шаубе. — И война еще не проиграна. Но я… я дам ответ завтра утром.
— Хорошо, — согласился Березовский и приказал Осике: — Устройте пленного на ночь.
— Слушаюсь, товарищ комбриг.
— Крепкий орешек, — сказал Терпугов, прощаясь.
— Это хорошо. Не трус.
Перед тем как лечь спать, комбриг позвонил в санчасть. Ответил спокойный голос Аглаи Дмитриевны. И когда эта женщина спит?
— Бакулин у вас?
— В операционной.
— Что с ним?
— Ожоги. Переливаем донорскую кровь.
— Сделайте все возможное! — и мысленно выругал себя за бестактность. Укоренилась у него привычка всегда приказывать!..
Барвинская замялась.
Неужели обиделась? Нет. Голос у нее неизменно ровный.
— Возле него опытный хирург, — властно ответила Барвинская.
— Да, да, я понимаю. У Бакулина должен родиться ребенок.
— Знаю, — голос на другом конце провода словно бы потеплел. — Будем надеяться, товарищ комбриг, что уральский организм победит.
2
Безусловно, Сталин имел основания не доверять Черчиллю. И все же не из Англии, а из Америки еще в сорок втором году прибыл на Европейский континент полномочный эмиссар, о коварной цели которого знали лишь единицы.
Это был статный, пятидесятидвухлетний джентльмен с ласковыми глазами на мясистом лице, с крутым, волевым подбородком. Обведя вокруг пальца и предупрежденное воинской разведкой гестапо, и полицию французского профашистского правительства Петэна, он побывал в оккупированном Париже, где восстановил связи с давнишней американской агентурой, и далее запросто направился в Берн.
Столицу Швейцарии мистер Булл, то есть Бык, знал с юношеских лет, потому что начинал дипломатическую карьеру как секретарь американского посольства сначала в Вене, потом здесь, в Берне, и, уже в дальнейшем, в Берлине. Дослужившись до советника посольства в Пекине и начальника ближневосточного отдела государственного департамента США, респектабельный американец, которого тогда называли просто Алленом Даллесом, вышел в отставку и нанялся на работу в солидную юридическую фирму «Салливен энд Кромвелл», одним из хозяев которой являлся его родной брат Джон-Фостер Даллес. Будущий мистер Булл ведет дела могучих индустриальных и финансовых корпораций, в их интересах меняет правительства на Ближнем Востоке, продвигает к власти марионеточных диктаторов в Латинской Америке.
Кто же он — дипломат, юрист или шпион?
И первое, и второе, и третье.
Накануне второй мировой войны, когда английский филиал германского банкирского дома Шредеров значительно оживил финансовые операции в Соединенных Штатах, братья Джон и Аллен Даллесы становятся членами правления американского филиала немецкого шредеровского банка на нью-йоркской Уолл-стрит под вывеской «Джон-Генри Шредер энд К0». Аллен к тому же был назначен директором концерна «Шредер траст компани». Вся жизнь этого джентльмена, с тех пор как он покинул дом отца — пресвитерианского пастора в Уотертауне, штат Нью-Йорк, — представляет собой непрерывную цепь умопомрачительных метаморфоз.
Связанный с Даллесом немецкий вице-консул в Берне Гизевиус детально информировал его о подготовке покушения на Гитлера. В случае успеха этой операции в Берлине должны были инсценировать «государственный переворот», а новое «правительство», одобренное мистером Буллом, на выгодных условиях капитулировало бы, передав американцам ключ от Берлина.
Но покушение не удалось: бомба сработала не совсем точно. Участники покушения были казнены. Буллу пришлось начинать все сначала.
Прежде всего нужно сохранить финансовые основы германской экономики. Еще в 1926 году в швейцарском городе Базеле, неподалеку от границ с Германией и Францией, был создан Банк международных расчетов.
Его назначение: посредничество между германскими военными промышленниками и американскими и английскими банкирами, которые обеспечивали деньгами милитаризацию и фашизацию Германии. В состав правления этого Банка и сейчас входили три немецких финансовых магната: президент гитлеровского Рейхсбанка Курт фон Шредер, рейхсминистр промышленности Вальтер Функ и президент концерна «И. Г. Фарбениндустри» Герман Шмитц. Возглавлял Базельский Банк международных расчетов представитель моргановского «Ферст нейшнл бенк оф Нью-Йорк» Томас Маккитрик.
Встреча с ним успокоила мистера Булла. «Мы не даем машине остановиться — заверил Маккитрик. — Ведь когда наступит перемирие, бывшим враждующим державам может очень пригодиться такое сильное орудие, как наш банк.»
Волновало Аллена Даллеса-Булла другое. Красные успешно форсируют Одер, последнюю серьезную водную преграду на Восточном фронте. Впереди — Берлин!..
Аккуратный, с претензией на архитектурную изысканность особняк на скалистом берегу быстротечной Ааре сочетал в себе комфортабельность гостиницы с уютом частной квартиры. Островерхую черепичную крышу венчала башня с железным флюгером, смахивавшим на рыцарскую алебарду.
Аллен Даллес опустил раму окна — оно открывалось сверху вниз, как в железнодорожных вагонах, — и жадно вдохнул утренний воздух, настоенный на целебных травах плоскогорья. Солнечные лучи упали на позолоченные кресты кафедрального собора и церкви святого Руха, на башню городской ратуши, скользнули по шпилям дворца Моне, по крышам и окнам парламента, университета, Альпийского музея.
Даллеса радовало бодрящее солнечное утро. В Нью-Йорке в его оффис на Уолл-стрите редко заглядывает солнце. Цены земельных участков на Манхеттене бешено возрастают, что вынуждает застройщиков увеличивать количество этажей. Вместо солнца — тень от небоскребов. Да и окон там не откроешь, они герметически закупорены, дыши искусственным эйр-кондишн.
Постучав в дверь, в комнату вошла хозяйка дома Гелена Дитман, которая лично обслуживала наиболее выдающихся постояльцев. Яичница с беконом по американскому образцу, черный кофе, сливки, сахар, булочка с маслом и джемом — по-европейски. Для завтрака вполне достаточно, а в час дня у него состоится ленч с племянником в ресторане «Золотой грот».
Кроме трех употребляемых языков Швейцарской федерации — немецкого, французского и итальянского, госпожа Дитман свободно владела еще и английским. Даллес обменялся с нею несколькими словами, похвалил сегодняшнюю погоду, поблагодарил за завтрак. Хозяйка ушла, а постоялец быстро вышел на улицу, взял такси и приказал шоферу:
— В аэропорт!
Самолеты между Берном и Римом, хотя и с перерывами, но все же курсировали. Швейцария давала визы всем, даже тем, кто прибывал под вымышленной фамилией. Это был удивительный островок спокойствия и благосостояния в океане кровавых битв, страданий, голода.
Сын Джона-Фостера Даллеса был таким же высоким и сильным, как и все потомки пресвитера с Атлантического побережья. Унаследовав от своего деда тягу к религии, он посвятил ей жизнь, правда, отказавшись от протестантского учения и возвратившись в лоно католической церкви. Теперь Джон-Фостер, Даллес-младший, занимал значительное место среди ватиканского духовенства. Влиятельные люди пророчили ему высокую должность настоятеля собора святого Петра.
Поздоровавшись, дядя и племянник пересели в другую машину: зачем водителю такси знать, с какой целью гость госпожи Дитман ездил в аэропорт?
Говорили о погоде в Италии, о здоровье его святейшества папы римского, о семейных новостях.
К делу перешли уже в ресторане «Золотой грот». Сидели под открытым небом, рядом журчал фонтан, напоминая божественные фонтаны вечного города. Римские фонтаны высохли из-за недостатка воды. Город переживал агонию. Италия чувствовала себя, как на вулкане. Вот-вот произойдет взрыв.
Новости, которые привез из Рима Даллес-младший, опечалили мистера Булла. Проклятый Витторио-Эммануил! Пигмей на королевском троне! Раз уж удалось изгнать дегенерата Муссолини, должен был бы позаботиться о разумной развязке этой европейской заварухи.
Возглавив в Берне и Базеле пункты американской стратегической разведки, Аллен Даллес все время искал тропинки к осуществлению своей миссии. После неудачного покушения на фюрера решено было наладить контакты с обергруппенфюрером CС Вольфом, пребывавшем в Риме, и главнокомандующим гитлеровскими войсками в Италии фельдмаршалом Кессельрингом. Есть надежда втянуть их в тайные переговоры. Однако дело идет медленнее, чем продвигаются советские войска в Силезии и Пруссии.
Игру, от которой зависело будущее Европы, необходимо было усилить новой, весомой картой. Этой картой должен был стать папа Пий XII, который до сих пор трусливо медлил и сопротивлялся.
«Золотой грот» славился изысканной кухней. Свежий воздух разбудил аппетит Даллеса, заказали белое рейнское вино, спаржу, цветную капусту, лягушачьи ножки, жареных улиток, множество салатов с разнообразными соусами и приправами. У себя на родине он довольствовался более простой едой, но здесь не устоял перед европейскими искушениями!
Племянник — отец Бартоломео — не пил ничего, а ел лишь спаржу, цветную капусту в сухарях и растительные салаты. Церковное самоотречение обязывало его к трезвости и вегетарианству. Следовательно, мистеру Буллу пришлось пить за двоих. Он с наслаждением цедил терпковатый напиток, искренне расхваливая его при этом.
— Что-то вы, дядюшка, больно уж хвалите вражеское немецкое вино, — заметил отец Бартоломео.
— Немцы все-таки большие мастера, дорогой мой отец. И этого у них не отнимешь. Но что касается кухни, швабы уступают французам.
И далее принялся за лягушачьи ножки в сухариках. Косточки вкусно хрустели на зубах, а мясо было белое, мягкое, сладкое, как у молодых цыплят. Поливая их по американскому обычаю душистым кетчупом, Даллес-Булл наслаждался, как истинный гурман.
Улитки ему не понравились. Кельнер принес их на горячей сковородке, где они жарились в своих панцирях. На донышке у сковородки были углубления, в каждом из которых в растопленном масле кипел несчастный моллюск. Нужно было специальными щипцами хватать раскаленный панцирь и маленькой острозубой вилкой выковыривать из нее то, что осталось от улитки. А оставалась от нее черная щепотка горького, тягучего, как резина, мяса. Американец, быть может, и не ел бы этого сомнительного деликатеса, если бы не пряный кетчуп.
Напоследок, как и надлежит, кельнер подал десятка полтора сортов сыра. Племянник отведал тоненький ломтик местного швейцарского, а дядя нацелился на изрядную порцию излюбленного рокфора. Долго жевал острую, пропахшую гнильцой скользкую смесь сыра и плесени. Наконец, безапелляционно изрек:
— Без немцев в Европе наступит хаос. Это нужно усвоить раз и навсегда. Необходим прочный и надежный санитарный кордон. Иначе большевики, ваше преподобие, доберутся и до Ватикана.
…На письменном столе Даллеса лежала последняя сводка о положении на фронтах, только что полученная от пресс-атташе американского посольства. Фрау Дитман привыкла к серым продолговатым конвертам с федеральным гербом США: взъерошенный, будто хочет взлететь против ветра, орел с изогнутым клювом держит в когтях развернутую книгу — библию или конституцию, этого фрау Гелена не знала. Конверты приходили каждый день, всегда в одно и то же время. Она клала их постояльцу на стол возле массивного кожаного бювара. Тут хранились бумаги, которые не нужно было прятать в сейф.
Пробежав глазами сводку, мистер Булл сказал:
— Наконец-то!
— Генерал Эйзенхауэр наступает? — спросил племянник, снимая с себя длинную сутану коричневого цвета.
— Нет. И наш Айк, и фельдмаршал Монтгомери никак не наберут разгон. Да и куда им торопиться?
— То есть как куда? А Берлин?
— Берлин им не под силу. Штурмовать столицу рейха в состоянии только красные. Но этого не должно случиться. И об этом позаботимся мы с вами, святой отец.
— И я тоже?
— Да. Затем тебя и пригласили сюда.
— Я прибыл на свидание с близким и дорогим родственником.
— Ну да. Однако надеюсь, святой отец не откажется по-дружески посоветовать его святейшеству Пию немного активизироваться в своих земных деяниях. Европа стоит перед страшной дилеммой.
— Его святейшество сам ныне в трудной ситуации.
— Знаю. Как ближайший друг Муссолини и бывший папский нунций в Мюнхене, который всеми средствами способствовал укреплению нацистов, римский владыка оказался в дураках. Однако наместники божьи не подлежат земным законам, а отчитываются лишь перед всевышним, Влияние папы на католический мир по-прежнему безгранично. К тому же в его руках набитые золотом подвалы «Банко ди Ромо»…
— Не понимаю.
— Не прикидывайся наивным, мой милый мальчик. Каждый день проливается кровь. Христианская кровь! Какими должны быть деяния божьего пастыря? Мир! Мир во имя спасения душ христианских! К этому нужно призывать обе стороны. Быть может, не вердиктами и буллами, а конкретнее, действеннее. Скажем, тайные встречи, переговоры… Для начала повлиять на Кессельринга, Вольфа и всю гитлеровскую камарилью в Италии. Им легче всего создать инициативную группу государственного переворота. Пий XII старый друг фюрера, ему поверят…
— А если нет?
— Он ничего не теряет. Судить его может только бог, да и доказательств никаких не будет. Такие разговоры проводятся с глазу на глаз. Тем временем понемногу, день за днем, готовить к этому и общественное мнение. У папы могучий аппарат по всему миру. Где не проложит дороги божьим словом, пускай сыпанет золотом. Впрочем, зная скаредность римского владыки, я не уверен, что он раскошелится даже ради такой благородной цели. Поэтому передай его святейшеству вот это. На нужды святой церкви.
Дядюшка достал из кармана чековую книжку. На чистом бланке позолоченным «паркером» поставил солидную шестизначную сумму и подписался.
— Кстати, на аудиенции у его святейшества не забудь намекнуть: земля горит под ногами не у нас, американцев, а у него, божьего наместника. Хотя, признаюсь, нам тоже нелегко. Наш либеральный президент слишком уж цацкается с красными…
— Разве президенту не известно о вашей миссии, дядюшка?
— Возможно, и известно. Однако это не тот человек, который нужен сейчас в Белом доме.
Мистер Булл подошел к окну, долго слушал шум бурной Ааре. Казалось, что нить разговора прервалась. Но он снова связал ее.
— Однако, как видишь, мы свой долг выполняем.
Отец Бартоломео задумался. Божий слуга, ватиканский викарий не имел желания вмешиваться в печальные дела земной юдоли. В его представлении возник юркий остроносый человечишко, подвижные и недоверчивые глаза которого загадочно сверкают за стеклышками старомодных очков в металлической оправе. Какие бы грехи ни числились за изворотливым дельцом Эудженио Пачелли или за папским нунцием, который откровенно афишировал свои симпатии к мюнхенским путчистам, их обоих давно уже нет, они не существуют. Вместо этого появилось другое лицо — божий наместник, его святейшество папа римский. И не ему, юному янки, который взобрался лишь на первые ступеньки ватиканской иерархической лестницы, представать пред святые папские очи с будничными делами мирской суеты!..
Отец Бартоломео намеревался отказаться от поручения своего дядюшки. Но посмотрел на медвежью спину и бычий затылок своего могущественного родственника и понял, что никак не удастся отвертеться. Да и нужно ли? Если красные перейдут Альпы…
Словно бы угадав его сомнения, Аллен Даллес обернулся, заговорил быстро, с заметным нью-йоркским акцентом:
— Ты сам говорил, мой милый, что сегодня Италия напоминает пороховую бочку. Если мы будем так колебаться, красное знамя может взвиться и над Римом. Его поднимут итальянские коммунисты из гаррибальдийских отрядов Сопротивления. То же самое будет и в Париже. А уж советское командование протянет так называемую руку помощи, в этом можешь не сомневаться. Время не ждет! Спасибо провидению хотя бы за это.
Даллес подал племяннику информационную сводку за прошлые сутки. Джон-Фостер, Даллес-младший, прочел:
«Немецкие войска нанесли неожиданный контрудар в районе Штаргарда. Армии Жукова вынуждены отступить на юг на 10–12 км. Акция застигла маршала Жукова врасплох, на его участке как раз началась перегруппировка, вызванная длительным наступлением. Ситуация для красных осложняется тем, что группа армий маршала Рокоссовского тоже активно действовать не способна, ибо ждет пополнения в живой силе и технике. Вполне вероятно, что хорошо укомплектованная вторая немецкая армия ударит по флангу и тылам советских войск, нацеленных на Берлин. Наступление красных фактически приостановилось, они переходят к обороне по всей линии, в том числе и на Одере».
Божий слуга перекрестился и провозгласил:
— Господи, будь с нами!
Дядя Аллен воспринял эти слова как доброе предзнаменование и произнес:
— Фельдмаршал Кессельринг один из немногих, а может и единственный, кто может взять на себя такую ответственность, пока не поздно. Итак, запомни: Германия без Гитлера, но со спасенным вермахтом, который снова обеспечит порядок в Европе. На таких условиях мы немедленно подпишем договор о мире.
— Я сделаю все возможное, дядюшка.
На кафедральном соборе зазвонили к вечерне. Святой отец перекрестился и взял молитвенник.
— Мое место в церкви.
— А мое — в баре. Ты помолишься всевышнему, а я выпью бутылочку холодного ирландского эля. Как видишь, по своим вкусам я настоящий интернационалист, — как бы в подтверждение этих слов, сэр Аллен вынул из верхнего кармана элегантного темно-синего пиджака гладенькую английскую трубку и с наслаждением закурил.
Они вышли из гостиницы вместе, миновали несколько кварталов, а потом каждый пошел своей дорогой.
Фрау Дитман, дождавшись, пока их шаги удалятся, подошла к телефону и набрала номер немецкого посольства. Разговаривала она не с вице-консулом Гизевиусом, а со вторым секретарем посольства, поддерживавшим непосредственную связь с ведомством Гиммлера. Гелена Дитман информировала его о беседе между мистером Буллом и миссионером из Рима. С особенным презрением произносила она имена Вольфа и Кессельринга, как возможных предателей тысячелетнего рейха. Фанатичная немка швейцарского происхождения не знала лишь одного: обергруппенфюрер Карл Вольф искал контактов с американским эмиссаром не по своей инициативе, а во исполнение поручения рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера и его ближайшего помощника бригаденфюрера Вальтера Шелленберга.
Фрау Гелена не могла знать также и того, что поданные ею сведения второй секретарь немедленно закодировал и в следующую ночь по агентурному радиоканалу передал своему начальнику.
3
Отдельная танковая бригада полковника Березовского получила приказ достичь левобережного притока Одера — судоходной реки Нейсе, с ходу овладеть городом Котценау и закрепиться там.
Группа прорыва состояла из шести «коробок» гвардии капитана Барамия. Комбат 3 приник к стеклышкам стереотрубы, включил передатчик и еще крепче зажал в потной ладони микрофон.
— Внимание! — произнес он почти автоматически, всматриваясь в дым и пламя, надвигавшиеся на его танк. — Внимание! — повторил он еще раз. — Иду на мост! Когда буду на том берегу, идти за мной. По одному! — И сержанту Солохе, своему механику-водителю, приказал: — Впере-ед!
«Сволочи! Все-таки подожгли мост… Успели. Лишь бы только не перегорел деревянный настил… Чтобы гусеницы не провалились… Не взорвались бы баки с горючим…» — подумал комбат.
А траки гусениц уже выбивали чечетку по пылающим доскам: та-та-та, та-та-та, та-та-та… Хищно вырывается из-под них черный шлейф с мириадами искр. Комбат Барамия этого не видит. Он чуть не задыхается от чада и дыма. Видно ли хоть что-нибудь Солохе, не идет ли он вслепую? Еще миг, один только миг!.. Вдруг машина резко останавливается и начинает крениться назад. Настил провалился, не выдержав тяжести. Танк повис над пропастью. Комбат приказывает: «На мост не идти — опасно!» Сержант Солоха нечеловеческими усилиями продвигает машину вперед. Тридцатьчетверка вибрирует, будто железная лихорадка бьет ее. Еще усилие, еще миллиметр… Наконец гусеницы зацепились за металлическое перекрытие моста. Водитель прибавляет газ, вибрация уменьшается. Под гусеницами грунт.
— Ищите брод! Прикрою ваш переход огнем!
Перед тридцатьчетверкой вырастает батарея противотанковых «кобр». Набрав скорость, машина мчится на ближайшее орудие. Остается не более десяти — пятнадцати метров, когда из ствола «кобры» вырвался клубок дыма. Т-34 замирает на месте. Барамия падает вниз, на твердое днище, на острые грани стреляных гильз. В танке все измяты, поцарапаны, но боеспособны. Комбат поднимается, нащупывает Фау-1, высовывается из верхнего люка и швыряет гранату. Очень своевременно. Второй снаряд попадает в систему управления. Но экипаж живой! За первой гранатой летит вторая, третья… Наводчик Коля Арбузов и заряжающий Мазуренко на своих местах. Башня не повреждена. Замерший танк огрызался орудийными выстрелами, пулеметными очередями. Под прикрытием огня своей «коробки» Барамия и Солоха, перебегая с места на место, швыряют гранаты в расположение врага. Расчет первой «кобры» уничтожен, но орудие цело. Комбат и механик-водитель поворачивают его и открывают огонь по позициям врага. Солоха, смахивая с лица пот, торопливо подает снаряды, запас которых весьма изрядный. «Кобра» бьет прямой наводкой по оторопевшим расчетам соседних орудий. Кое-кто уже поднял вверх руки. Но на помощь им прибыл батальон фольксштурма. Над советскими танкистами нависла опасность. Все пятеро собрались возле «кобры». «Коробка» вот-вот взорвется. «Шрапнельный, давай шрапнельный!» — кричит комбат. Шрапнель расстилает по земле смертоносный веер, Пугливые фольксштурмовские фрицы залегают, но ненадолго. Кто-то вскакивает, бежит, за ним еще и еще, секут из пулеметов. «Шрапнельный, шрапнельный», — кричит Барамия, но Солоха уже не слышит, он тяжело ранен.
Но, видимо, в великой книге бытия смерть Давида Барамия и других членов его экипажа не значилась в этот день. Грохот, выстрелы и среди фольксштурмовцев — паника, бегство. Заместитель комбата гвардии старший лейтенант Горчаков за это время переправился с остальными танками. Тридцатьчетверки в упор расстреливали последних защитников Котценау.
Начальник гарнизона, в распоряжении которого осталась только комендантская рота, выбросил белый флаг.
Котценау больше города Обервальде. Но чем-то напоминает этот, первый на их пути, немецкий город. Точно такие же однотипные дома, улицы, лабиринты переулков. И непременно центральная площадь, застроенная ровным, как под линейку, четырехугольником.
«Германия, Котценау, Гартенштрассе, 16… Именно такие годы, когда хочется жить как можно лучше, а я все это переживаю в неволе».
Пожелтевший листик из школьной тетради сохранился в полевом планшете комбрига, а слова неведомой В. Ш. то и дело возникали в памяти. Было похоже на слуховую галлюцинацию, настолько отчетливо он слышал не только содержание слов, но и тембр девичьего голоса: низкий, грудной, проникнутый безнадежной печалью. «Не буду я, мама, вам ложечки мыть, ибо выезжаю немчуре служить…» В. Ш. …Неужели это все-таки Валя Шевчук?
Прошел не один час, пока Ивану Гавриловичу удалось отправиться по адресу, обозначенному под трагической исповедью невольницы.
Гартенштрассе… Садовая улица… Нашел ее на самой окраине города. Садов поблизости не видно. Точно такие же каменные здания, а в них — парикмахерские, кафе, магазины. Все закрыто. В шестнадцатом номере первый этаж занимает магазин бумажных изделий и канцелярских принадлежностей. На вывеске фамилия собственника: Франц Фредер. За разбитой витриной, под слоем пыли — альбомы и краски для рисования, папки для нот и служебных бумаг, почтовые марки для филателистов, карандаши, автоматические ручки, тетради…
Истертая чугунная лестница ведет на второй этаж. В ноздри бьет едкий запах плесени и кошачьих отбросов. На двери медная табличка с фамилией хозяина, почтовый ящик. Из щели торчат газеты. Дернул первую попавшуюся, вынул «Берлинер берзен-цайтунг», дата позавчерашняя, аншлаг на всю первую страницу: «Берлин мы не сдадим никогда!»
Постучал в дверь — тишина. Только эхо глухо откликнулось под мрачными сводами. Нажал на щеколду — не заперто. Видимо, хозяева очень торопились. Услышал позади себя знакомый голос:
— Разрешите, товарищ комбриг!
Первым в квартиру торговца Фредера прорвался Сашко Платонов с автоматом наизготовку. Предосторожность оказалась напрасной. В квартире действительно никого нет. Повсюду разбросаны вещи домашнего обихода, одежда, обувь, конторские книги, бумаги, фотографии. Туго пришлось господину Фредеру и его семье в последние дни гитлеровского рейха!
Одна комната, другая. Всюду следы поспешного бегства.
— Товарищ комбриг!
Это снова Сашко. Как и тогда, в лагере смерти, держит какую-то бумажку. Подает комбригу.
— Где ты ее взял?
— Вот здесь, в тетрадке.
— А тетрадь где была?
— На кухне.
Комбриг направился на кухню. Молочно-белый, недавно выкрашенный буфет с многочисленными ящичками. На каждом написано: «соль», «сода», «мука», «крупа». А рядом — специальная шкала с красной пуговкой, которую хозяйка изо дня в день передвигала, чтобы знать, сколько чего осталось: муки столько-то, маргарина столько. Напротив буфета свободный уголок, видимо, здесь стояла кровать или топчан. Кровать выбросили, когда девушку за какую-то «провинность» отправили в лагерь. Осталась только тумбочка, а в ней старенькая зубная щетка, тетрадь в черной обложке, исписанная украинскими стихами и песнями. Кроме того, в тетради записи, письма, фотография красивой девушки. Видно, взять тетрадь с собой ей не разрешили, и она вырвала из нее самый дорогой листик: о матери. Не взяла ни фотографию (зачем она ей?), ни этой бумажки, которая погубила ей жизнь.
Березовский прочел ее раз и еще раз:
«Приказ к исполнению. Список № 1. Фамилия Шовкун, имя Василина, год рождения 1923, место проживания село Красиловка. Вы обязаны непременно явиться в село Гоголев в помещение школы 3.6.1943 года в 8 часов утра для осмотра. Кто не явится, будет наказан тюрьмой.»
Вот и расшифровались загадочные инициалы. Нет, не Валя Шевчук, не она! Да разве ему от этого легче?
Наверное, у него был очень подавленный вид, потому что Сашко протянул руку:
— Разрешите, товарищ комбриг.
«Чего он хочет? Бумаги? Что с ними делать? Ага, это документы. Грозные документы обвинения…»
— Хорошо, возьми. Отдадим их в политотдел. Пускай используют в боевом листке.
Вышли из зловещей кухни. В квартире стояли сумерки, окна прикрыты шторами. Еще одна комната, в ней тоже следы переполоха. На столе незаконченный обед, недопитое вино. На стенах, в маленьких рамках под стеклом цитаты из человеконенавистнической книги бесноватого фюрера «Майн кампф». Над дверью знакомое кредо: «Мой дом, мой мир». На косяке две метки роста, над которыми химическим карандашом надписи: Вальтер и Отто. Очевидно, сыновья. Так и есть, вот семейная фотография — фатер, муттер и два долговязых болвана в форме гитлерюгенда.
Подошел Чубчик.
Очередь из автомата пробила семейное фото. Эхо отгудело в пустых комнатах, и стало тихо. Совсем тихо, словно стены были из ваты. А потом ударил колокол — один, два, три, четыре… Громкий, отчетливый звон, будто церковный. Это били настенные часы, отсчитывая тяжелым желтым маятником время…
Громкие возгласы и гомон обозов донеслись с улицы. В город вступала пехота.
4
Вместе с Яшей Горошко и Готлибом Шаубе Катерина составила текст обращения пленного лейтенанта к немецкой молодежи. Поручение важное, в особенности теперь, когда войска переходили к длительной обороне. Расшатанная, но еще довольно мощная геббельсовская пропагандистская машина максимально использует передышку на берлинском направлении, дабы вдолбить в головы немцев радужные надежды: новое, уничтожающее оружие — раз, запланированное мощное контрнаступление — два, разброд в лагере союзников — три, провидение фюрера — четыре…
Было бы неправильным характеризовать положение как «на Восточном фронте без перемен». Бои шли днем и ночью, особенно на северных участках. Рассчитанная на далеко идущий оперативный эффект акция гитлеровцев в районе Штаргарда сорвана, контрудар отбит, линия фронта восстановлена. Началась ликвидация вражеской группировки в Восточной Померании, на помощь которой так и не прорвались моторизованные дивизии из Нижней Силезии. В районе Кольберга советские танки вышли на Балтийское побережье, сильный танковый удар нанесен в направлении Кезлена, полностью окружен Бреслау.
В Котценау было где разместиться штабу бригады. Политотдел занял просторный особняк на тихой улице, примыкающей к Рингплацу — одной из узловых площадей. Особняк принадлежал богатому адвокату, который отдал свою послушную юриспруденцию на произвол лживой фашистской Фемиде. В его кабинете теперь хозяином был полковник Терпугов, а в библиотеке работала переводчица Катерина Прокопчук.
Вступительную часть обращения тщательно отредактировали и перешли к конкретным призывам. Решившись на важный переломный шаг в жизни, Готлиб, однако, еще не все осознал до конца. Уже более часа они, что называется, толкли воду в ступе, не находя общего языка.
— Скажи ему, Катя, — не выдержал старший лейтенант Горошко, — что мы не на дипломатической конференции. Речь идет не о коммюнике или декларации. Речь идет о призыве: «Спасайте Германию, пока еще не поздно».
Катерина добросовестно переводила.
Готлиб отвечал:
— Да, я именно это имею в виду. Судьба Германии будет решена на какой-то дипломатической конференции, к которой я вовсе не причастен. Тогда всем станет ясно…
— Но ведь сегодня еще напрасно льется кровь!
— Я очень сожалею. Я не хочу ничьей крови. Но что я могу поделать?
— Призвать своих ровесников бросить оружие.
— Их за это расстреляют. Неужели я должен хотеть, чтобы их расстреляли? — И лихорадочно доказывал: — Солдатам запрещено бросать оружие. Это противоречит воинской дисциплине. Неужели вы не понимаете?
— Я понимаю, голубчик, что ты изворачиваешься!
Катерина деликатнее переводила подобные резкие заявления политотдельского комсорга. Но все же обеим сторонам трудно было прийти к соглашению. Узнав поближе немецкие взгляды на жизнь, Катерина Прокопчук не считала молодого Шаубе коварным лицемером. Некоторые истины, очевидные для Якова Горошко, Шаубе просто не воспринимал. Ведь он принадлежал к поколению, которому с юных лет не разрешалось мыслить. А в армии и тем более. Таким был не только он, но и те, к кому он должен был обращаться с речью.
— Яков Захарович, — обратилась Катерина к Горошко. — Кое в чем он, пожалуй, прав.
Горошко удивленно поднял на нее глаза.
— Ты что… Заодно с ним?
— Не заодно, но нужно его понять. И объяснить ему…
— Я и объясняю.
— Да, но вы не хотите выслушать его.
— У нас нет времени для дискуссий!
— Готлиб до сих пор находится под гипнозом тех понятий, которые он усвоил с детских лет.
— А его брат Бернард?
— Бернард старше на много лет. Он воспитывался под знаком Рот Фронта. А этого отравили в школе, в гитлерюгенде, в так называемых трудовых лагерях. Да и дома висели цитаты из гитлеровской библии, а средний брат Альфред бредил идеями сверхчеловека…
Яша Горошко более всего презирал всяческие антимонии. Ему страшно не нравилось, когда его начинали учить люди ниже его по званию и занимаемой должности. Поэтому вскипел, но по-рыцарски удержался. Нет, инструктор по комсомольской работе даже не допускал, что испытывает какие-нибудь чувства к бывшей полонянке. Влюбиться в девушку с весьма сомнительной автобиографией (так Яша называл все формы жизнеописания) старший лейтенант не имел права. Но вот беда: Катерина ему все же нравилась. Независимо от своей автобиографии. И с каждым днем все сильнее и сильнее.
И как ты докажешь позорность примиренчества и оппортунизма, когда с самого утра выжидаешь момент пригласить эту черноглазую девушку на киносеанс, который состоится сегодня в 18.30 в зале уцелевшей гостиницы «Адлер»?
Перепалка затихла. Пленный внимательно следил за выражением лица старшего лейтенанта, которого инстинктивно боялся, и девушки, к которой испытывал симпатию. Но он не сумел разгадать смысла их фраз. Лишь чувствовал, что офицер нападает на него, а девушка защищает. Сам Готлиб искренне сожалел, что в разгаре боя на развалинах монастыря не успел пустить себе пулю в лоб. Не нужно было бы теперь решать дилеммы, которые недоступны ни его пониманию, ни тем более его возможностям. Господи милосердный! Он только что снова услышал имя своего брата. Того самого Бернарда Шаубе, которого всегда считали позорным пятном на репутации их добропорядочной семьи и которого никто вслух не осмеливался вспоминать. Теперь ставили в пример, называли образцом настоящего немца!.. А он, Готлиб, патриот Германии, солдат фюрера — раздавленный банкрот, чужой на родной земле, ничтожество. Хотелось кричать, биться о стенку головой. Однако реальная действительность неумолима: Советская Армия за Одером.
Неожиданно для Яши, но не для Катерины пленный согласился:
— Хорошо. Я скажу им об этом.
— О чем именно?
— О том, что мы банкроты, что началась агония.
— Вот-вот! — Горошко спешил как можно скорее покончить с делом. — Что пора всем честным немцам начинать новую жизнь.
— О новой жизни я ничего не знаю. Какой она будет?
— Это решит немецкий народ.
— Пускай решает. Народ, а не я. Сначала нужно, чтобы прекратился этот кровавый кошмар. Верно?
— Безусловно.
— Вот я и говорю: в Штейнау мы стояли насмерть, и это ничего не дало. Чуда не произошло и не произойдет никогда. Довольно напрасно проливать кровь! Мы окончательно погубим Германию. Ее может спасти не война, а мир.
Старший лейтенант Горошко был в восторге:
— Ты смотри! Как здорово!
— Потому что от души, — сказала Катерина, старательно записав выстраданные слова Готлиба Шаубе.
Киносеанс организовала комендатура города только для военных. Через день-два фильм будет показан и местному населению, наверное на площади, прямо под открытым небом, но сегодня еще рано, еще не подтянулись фронтовые тылы.
У картины было краткое и выразительное название «Актриса». В ней речь шла о патриотизме милой девушки, о ее любви к искусству и вообще о любви. Зрители — танкисты, связисты, саперы и представители других родов войск — воспринимали фильм очень горяче, он переносил их в очень далекий, почти призрачный мир, знакомил с неизвестными им сторонами жизни, а тема любви волновала всех. Отовсюду сыпались реплики, то и дело раздавался смех. Даже старший лейтенант Горошко, увлекшись задорной песенкой героини, похлопывал в ладоши и весело подпевал ей.
В этой искренней, оживленной аудитории только Катерина чувствовала себя одиноко. Как и героиня картины, она была первой певуньей и плясуньей в школе, как и та, мечтала о настоящем, большом искусстве. Но той суждены были сцена и аплодисменты, а ей — полицейские нары.
А потом, потом, потом…
Это часто случается с Катериной: мысли яростной лавиной накатываются на нее и тогда она глохнет, слепнет, цепенеет, и уже ничего не остается у нее, кроме воспоминаний — болезненных, жестоких и неумолимых.
Так случилось и теперь: на экране звучали арии, вспыхивали аплодисменты, падали к ногам цветы, преодолевала препятствия чистая и пылкая любовь, а девушка слышала тяжкие рыдания матери, душераздирающие паровозные свистки, печальный гул ветра в проводах, злобное рычание овчарок… Набитые до отказа больными женщинами и детьми блоки, утренние переклички босиком на морозе, вытатуированный на руке номер… И в перспективе — фашистский крематорий для живых.
Альфред Шаубе… Помощник коменданта. Он перевез ее в свою квартиру как прислугу и насильно совершил над нею то, что и полицаи…
Когда же тысячелетний рейх начал трещать, разваливаться, группенфюрер СС Альфред Шаубе получил направление в действующую армию на Восточный фронт. Предполагая, что не все еще утрачено, он отвез ее в Обервальде к своим родителям.
О, он считал себя ее спасителем, благодетелем, господином!.. За это она ненавидела его еще больше. Она намеревалась его убить. Испугалась? Нет! Это был тот период ее жизни, когда она уже перестала бояться смерти.
Катерина могла покончить с ним и с собой. И вероятно, так и поступила бы, если бы не заметила появившийся в глазах эсэсовцев страх, нараставший с каждым днем и часом. Заметались, завертелись душегубы! По ночам земля гудела от далекой канонады… «Так испейте же, палачи, свою чашу расплаты до дна! А я еще буду жить! Теперь я хочу жить!..»
Семья Шаубе отнеслась к рабыне с Востока весьма доброжелательно. Это была типичная либерально-интеллигентская семья, дети которой окончательно вышли из-под влияния родителей.
— Катерина! Катерина! Прокопчук!..
Сеанс закончился, зрители покидали зал. Яков Горошко смотрел на Катерину с удивлением и тревогой. Услышав свое имя, она встала, побрела, все еще находясь во власти тяжких воспоминаний, задевая коленями откидные сиденья. Горошко следовал за ней, и когда они вышли в холодный сумрак вечера, спросил:
— Что с тобой происходит?
— А что такое?
— Понимаешь, ты спала… Спала с открытыми глазами.
— Это со мной иногда случается. От переутомления.
Иначе объяснить не могла и не желала. Милый, наивный молодой человек! Не касайся моих ран, они заживут нескоро. И не приставай, пожалуйста, ко мне со своими лирическими воздыханиями. Ты не переживешь бездны моего падения и моего страдания и не сможешь понять и простить мне это никогда…
5
Поезд ползет сквозь ночь. Прифронтовой санитарный эшелон. В вагонах спят, стонут, бредят…
Комбат Бакулин долго сопротивлялся, но все же его отправили на эвакопункт. А там разговор короткий — в эшелон! Из эшелона, само собой разумеется, в госпиталь. Зато уж из госпиталя — куда угодно, только не в резерв. Потому что из резерва направят в ту часть, которая заново формируется, и не видать тебе родной бригады как собственных ушей. Нет уж, поищите дураков в другом месте! Из госпиталя — хоть пешком, но в одном направлении — на фронт, к своим!
Но будет ли тогда фронт?
Ожоги заживают не за один и не за два дня. Человеческая кожа слишком ненадежная оболочка против огня и металла.
Он получил сильные ожоги еще тогда, в танке Белокаменя, когда спасал Знамя бригады. Долго лечил руки белым стрептоцидовым порошком, который сушил раны, приглушал боль. Затем был Штейнау, взрыв фаустпатрона и огонь, который охватил все тело. Этих ожогов никакими порошками не уймешь.
Куда же их везут?.. Разве тут узнаешь! «Куда едем, сестричка?» — «Куда нужно, туда и едем!» — и весь разговор. Хотя бы не очень далеко упекли. Вряд ли далеко будут везти: ведь половина из них вскоре снова будет готова к бою, поэтому на кой леший зря возить людей туда и сюда?
Бакулин искренне сочувствовал когда-то Галине, что она не увидит Берлина. Но вот, выходит, не увидит и он. «Нет, дудки, убегу, увижу! Еще погуляем по берлинским проспектам, развеселим уральскую душу!»
— Раненый Бакулин, пожалуйста, не кричите, вы мешаете другим!
Это дежурный врач Софья Ароновна. Чего ей нужно? Он ведь не кричит, не бредит, он ведь слышит ее. И стук колес слышит, и пыхтение паровоза, и свой пульс, что бешено бьется…
Софья Ароновна ставит ему под мышку градусник. Высокая температура? Глупости! Ведь он прекрасно все понимает. И все помнит. Пылающий Т-34, охваченный дымом Штейнау и все, что было перед этим.
Берлин… Он бредил им еще там, на Урале. Рвался туда. Десна… Вброд! Хлопцы дерзко вторглись во владения водяного, распугивая рыб и русалок. Днепр… На понтонах. Его танк — первый. Осенние пажити возле села Лютежа. Немцы, похожие на болотных чертей. Под их огнем ремонтировал со своими ребятами поврежденную гусеницу. Вырвался на шоссе Киев — Димер. Наделал переполоху. Далее — Висла, Тарнобжег, плацдарм. За это получил Золотую Звезду… Где она? Где моя Звезда?!
— Тише, Бакулин, имейте совесть.
— Где моя Звезда? Где партбилет?..
— Все получите после выздоровления. Только не кричите!
После выздоровления? Значит, есть надежда. Он еще повоюет. Как воевал до сих пор. На Пилице, на Ниде, на Одере. Разве ж можно… Разве ж можно после всего этого не увидеть Берлина?!
А поезд двигался в ночной тьме. Медленно, на ощупь.
6
Галина Мартынова принимала сегодня уже 101 телеграмму. Сто событий, сто судеб, сто выкриков отчаяния (и редко когда — радости!) прошли за эту смену через ее маленькие рабочие руки, через ее изболевшееся сердце.
Уже третью неделю работает Мартынова на Московском телеграфе, а бесконечный поток печальных известий трауром плывет из смены в смену. Нет, сегодня она больше не может! Это мука, невыразимая мука, постоянно быть немым свидетелем чужого горя. Видеть бледные лица и наперед знать, каким будет лаконичный телеграфный текст.
Вдруг в окошке появилось знакомое лицо — Валя Самсонова. В глазах ни радости, ни грусти, скорее, тревога и неопределенность. Что случилось? Ведь у Вали самое страшное — смерть отца — уже позади. Вот-вот наступит счастливая минута — помолвка с высоким застенчивым композитором. Зачем же она пришла? Почему задерживается у окошка?
Наконец Валя бодрым, но не совсем уверенным тоном произнесла:
— Галинка, танцуй!
— Письмо? От Пети? Нет!..
Сразу заметила: не его рука. Чуть было не сомлела. Ох эти треугольники со штемпелями полевых почт!
Сидела, будучи не в силах развернуть скомканный листик бумаги. Валя крикнула:
— Вечером увидимся, я тороплюсь!
И уже скрылась. Наверное, на улице ее ждет Олег Кондрацкий. Галя закрыла окошко — пускай за нее поработают другие девушки. В следующий раз она выручит их.
Письмо было от Барвинской. Они сблизились между собой в те дни, когда Мартынову комиссовали на отправку в тыл. Барвинская потеряла мужа, Галина разлучалась с милым. Между ними возникло чувство близости и симпатии, хотя Аглая Дмитриевна была лет на десять старше Галины. Спасибо ей за то, что не забыла, нашла время для письма. Наконец до Гали дошел смысл ее послания: Бакулин жив, но в тяжелом состоянии. Получил ожоги, его отправили в тыловой госпиталь. Далее шли слова сочувствия, подбадривания. Так пишут всегда, хотя все понимают, что никакими словами не поможешь.
Бакулин жив… Нет, он был живым, когда писали письмо. С тех пор прошло одиннадцать суток, сотни часов, тысячи минут. В любой миг могло свершиться непоправимое.
Из глубочайших уголков сознания девушки нарастает не ясный, не выразительный, но все более ощутимый протест. Какая же она дура! Не будет конца этой проклятой войне, никогда не прекратится печальный поток писем и телеграмм, не выживет Петя Бакулин! А если выживет и на этот раз, то снова полезет в огонь, потому что не щадит он ни себя, ни ее, ни того ребенка, которого он так страстно пожелал. А она?.. Зачем ей ребенок? Куда она денется с ним? Не идти же с младенцем к Самсоновым, у них Валя сама собирается замуж, наверное, будет жить у матери, зачем же им какая-то Мартынова с ее бедой! В Кременчуг? Ни за что на свете! Если мать и примет ее с ребенком, то отчим замучит своей черствой вежливостью, педантичной порядочностью. Живьем съест ее без слов.
В эту минуту Галя ненавидела Бакулина и его ребенка. Петр значительно старше ее, опытный, овеянный славой, какое он имел право так поступить с зеленой девчонкой?!
Галя оделась и, сославшись на недомогание, ушла с работы. На улице зима из последних сил еще боролась с весной, шел противный дождь со снегом. Галя двигалась вслепую, сама не зная куда. Бичевала себя за неумные мысли, за обидные упреки в адрес Бакулина. Она была сама не своя с тех пор, как осталась без него. Думала, что работа принесет ей успокоение, однако нет, стало еще хуже. За каждой трагической телеграммой улавливала свою судьбу, свое будущее. Так изо дня в день. Замирало сердце, дрожали руки, а она ждала, ждала, ждала…
И вот дождалась. Конечно, Петя ни в чем не виноват, эти ее мысли несправедливы. Он хороший, честный, мужественный. Все ее сомнения от горя, от отчаяния. И все же, даже если он будет жить и судьба снова сведет их зачем им сразу после войны, среди развалин и неустроенности, еще и младенец на руках? Для того, чтобы привязать к себе Бакулина? Нет, это нечестная игра. Если любит, если будут счастливы, она родит ему еще ворох детей. Но только не в это лихолетье…
Это так только казалось, что она бредет наугад. Потому что и самой себе не призналась бы, что бежит в узенький переулок, по которому каждый день шагает на работу и с работы. Там ей давно уже бросилась в глаза маленькая металлическая вывеска, покрытая белой выщербленной эмалью…
Мирон Борисович Шапиро, старый, опытный врач, один из немногих, кому еще удается сохранять в Москве частную практику. Старик работал и в поликлиниках, но только консультантом, а в основном на старости лет занимался частной практикой, принимая главным образом постоянную клиентуру.
Шапиро нисколько не удивился, увидев перед собой девушку в шинели. Таких клиенток война посылала часто, они были выгодны тем, что расплачивались главным образом не деньгами, а продуктами — хлебом, сахаром, крупяными концентратами, мясными американскими консервами, папиросами.
Он предложил гостье снять шинель, уже и расстегнул ее, но девушка вдруг спохватилась, запротестовала:
— Нет, нет, простите. Я ошиблась!
И хлопнула дверью.
Мирон Борисович горько улыбнулся. Что ж, он видел и не такое…
Галина возвратилась к Самсоновым уже ночью, начисто разбитая усталостью и гнетущими мыслями. Она до сих пор жила у Тамары Денисовны, работа на почтамте была временной, московской прописки не имела, а добиваться койки в общежитии связистов в своем положении не решалась. Тамара Денисовна ждала и Галину, и дочь, которая тоже где-то запропастилась, была встревоженная и злая. Чуть было не обругала Галину, но, увидев ее состояние, сменила тон;
— Деточка моя, что с тобой?
Мартынова дрожала то от холода, то от горячки. Самсонова взяла из ее рук мокрую шинель, сняла с нее гимнастерку и сапоги, растерла сухими и сильными пальцами застывшие ноги Галины. Силком уложила девушку в постель. Галина слабо сопротивлялась, она совсем измучилась за этот бесконечно долгий день.
— Чаю! Горячего чаю! — приказывала самой себе Тамара Денисовна, и через миг шипел уже на кухоньке примус, полыхая синим керосиновым огоньком. Зажурчала вода из крана, крепкой струей ударившись об алюминиевое донышко чайника. Слегка запахло дымком, копотью, домашним теплом.
Когда возвратилась домой Валентина, Галя уже спала, а в соседней комнате потихоньку стучала по клавишам машинки Тамара Денисовна. Учреждение, в котором она работала, эвакуировалось в Куйбышев. Жена полковника не захотела отдаляться от фронта, от мужа. Поэтому приходилось теперь зарабатывать на хлеб насущный случайной работой.
— Мама… — прошептала ей на ухо дочь. — Олег… — И не договорила. Да и не нужно было. Вместо слов все сказали глаза.
— Поздравляю тебя, доченька! — И заплакала. От горя и от счастья.
7
Комбриг Березовский приник к влажной весенней земле, с удовольствием вдыхая знакомые с детства запахи. Следил глазом за мушкой старой трехлинейной винтовки.
Выстрел ударил отдачей в плечо, вспугнул голубовато-зеленую полевую тишину. Будто огненная вспышка, пестрая птица прыгнула вверх и затем упала на пшеничную ниву. К ней бросились комбриг и ординарец, лишь владелец трехлинейки Павел Наконечный спокойно сидел в виллисе и скептически поглядывал на это развлечение.
Красавец фазан распластал широченные радужные крылья. Березовскому стало как-то не по себе: зачем это случайное, ненужное убийство?
Вокруг снова было тихо. Где-то вдали, в прозрачной голубизне, трепетал певучий жаворонок, смеялось солнце, легкий ветерок игриво шевелил зеленую ниву. Тишина, спокойствие, мир?..
Нет, только иллюзия. Вот уже рокочут в вышине «юнкерсы» и «мессершмитты». У комбрига екнуло сердце за судьбу бригады, выведенной на отдых в район уцелевшего кирпичного завода на берегу Одера. Хорошо ли замаскировались штаб и батальоны в самом заводе и соседней роще? Готовы ли к бою зенитные средства?
Но самолеты пронеслись мимо, видимо, они держали курс к другим целям, — быть может, спешили на помощь своей группировке, окруженной в Бреслау. Там ведет тяжелые бои двенадцатая армия, отвоевывая у фашистов каждый дом, каждую улицу.
Березовский мысленно уже упрекнул себя: пожалел птицу там, где гибнут тысячи людей. И все же чувство неудовлетворенности не исчезло.
Саша Чубчик поднял фазана, осмотрел рану, похвалил:
— Чистая работа, товарищ комбриг.
— Брось в машину.
Виллис мчится по асфальту. Извилистая дорога то удаляется, то приближается к бетонированной автостраде Бреслау — Берлин — Дрезден. Хорошие дороги в Германии, ничего не скажешь. И солнце приветливое, и природа щедрая, и люди, как оказалось, — не все плохие. А вот — развалины и могилы от Бреста до Сталинграда. И это еще не все.
Сегодня на совещании командарм Нечипоренко информировал: «Три полосы обороны опоясывают Берлин. Каждая состоит из переплетения противотанковых рвов, наполненных водой каналов, замаскированных ям, железобетонных надолбов, огневых точек. В районе Берлина сосредоточено около трех тысяч танков, более двух с половиной миллионов фаустпатронов. Эти данные подтверждены нашими друзьями в Берлине».
Ставка Верховного Главнокомандования Советских Вооруженных Сил отвела несколько недель для перегруппировки и подготовки к решающему штурму. Следовательно, необходимо срочно доукомплектовать подразделения, проверить материальную часть, обдумать план прорыва оборонительных зон, а главное — подучить новичков из маршевых рот.
Навстречу виллису катятся грузовики с красными флажками. Это колонна артснабжения торопится в тыл за боеприпасами. В кузовах сверкают белые и цветастые платки — возвращаются домой полонянки.
Иван Гаврилович долгим взглядом провожает каждую машину, каждое девичье лицо. Ни Насти, ни Вали нет.
8
Весна…. Запах теплой земли и молодой нежной зелени пробуждал тоску по родным нивам, по извечным весенним хлопотам пахарей и сеятелей.
Над Бреслау днем клубился дым, а ночью полыхало зарево. Изредка на помощь окруженному гарнизону ползли в заоблачной выси тяжелые «хейнкели», «юнкерсы», «дорнье». За ними охотились наши зенитки, стволы орудий которых разрисованы красными звездочками по количеству сбитых самолетов. До отказа нагруженные толом, аммоналом и снарядами самолеты мгновенно взрывались, падали на землю искореженными кусками дюраля. Советские летчики тоже изредка бомбили отдельные участки города, где нацисты оказывали особенно упорное сопротивление. Но основные воздушные трассы пролегли уже на север, в район Восточной Померании. Над Одером небо было относительно спокойным.
В минуты передышки танкисты играли в волейбол, вертели на турниках «солнце», купались, наяривали на скромных тульских трехрядках и роскошных трофейных аккордеонах. Трамбовали в горячем танце чужую землю, а кое-кто направлялся на соседнюю автостраду, где в придорожном поселке дислоцировалась рота несравненных регулировщиц. Вместо воды лакомились березовым соком в близлежащих рощах, сок этот оказался не менее вкусным, чем волынский или рязанский.
Иван Гаврилович смотрел на вновь прибывших новичков и двадцатидвухлетних ветеранов с любовью и завистью. Какое это счастье — молодость, устремленность в будущее.
А через неделю или две он, бывший педагог Иван Березовский, пошлет эту буйную радостную певучую юность на смерть. Пошлет, не колеблясь, сознавая суровую необходимость своих действий…
Не только на склонах алтайских гор, но и в ложбинах еще сплошняком лежал снег, вода в Катуни и в Чарыше была ледяная. Однако весна уже чувствовалась в прилете скворцов, в лесных подснежниках, в жарких снах Нюськи Лихобаб. Сны греховные, но совесть у красивой солдатки чиста. Монахиней Нюся стала непроизвольно: не найдешь сейчас в Верхних Ростоках стоящего мужчину, да и работы по горло. Мужчины на фронте, женщины в тылу. Такое маленькое счастье выпало на долю этой своевольной и острой на язык молодицы.
Встала, оделась, плеснула в лицо ключевой обжигающей водой и айда в леспромхоз. Теперь уже и на лесоразработках, на тягачах, за рулем — всюду женская гвардия. Кто постарше и послабее здоровьем — работает в конторах и детских учреждениях, а у кого возраст и здоровье в норме — нечего дурака валять.
Довольно долго Нюся как могла отлынивала от тяжелого труда, держалась за спокойную канцелярскую службу. Но потом в ее жизни произошел резкий перелом. И произошло это само по себе. Нюся вдруг испугалась. Не за себя, за детей. Это для постороннего глаза ее дети разделены: тот от Наседкина, а эти — от Лихобаба. А для нее они все одинаковы, все родные, кровные.
Детей Анюта любит больше всего на свете. Быть может, потому, что старшая дочь напоминает ей о жаркой любви к морально неустойчивому геологу, а трое остальных, — наоборот, компенсируют жизнелюбивой молодице отсутствие настоящего и глубокого чувства; так или иначе, но за своих девочек она готова на все. А пришлось сделать не так уж и много — взяться за тяжелый мужской труд, как это сделали миллионы ее соотечественниц. Это она решила в тот же день, когда увидела детишек, привезенных сюда, в хлебный край, из блокадного Ленинграда.
Каждый день слышала Нюся Лихобаб о войне. Пылали города, исчезали с лица земли села, живые люди горели в танках и самолетах, погибали в атаках и контратаках. Озверелые захватчики доползли до Волги, плодородные поля превратились в мертвую пустыню. Фашисты топтали, уничтожали, жгли, убивали. Вешали беременных женщин, живьем закапывали седых матерей, стреляли в детей, удушали газом, сжигали в печах…
Да, все это было.
Но далеко.
Из лекций, политинформаций, по радио узнавала Нюся о героическом труде на Урале и в Сибири, Средней Азии и на Дальнем Востоке. Каждый сбитый самолет, сожженный танк, разбитое орудие нужно немедленно заменить новыми, нужно давать действующей армии оружие, одежду, продовольствие, пополнение. Гигантская битва требовала титанических усилий.
Да, Нюся слыхала об этом.
Но только слыхала…
И вот война пришла в Алтайский край, в Верхние Ростоки. И пришла она в совершенно непредвиденном обличье — в виде живых детских скелетов.
В тот печальный день Анна Лихобаб впервые в жизни услышала ученое словцо: дистрофия. Противное слово. Страшное.
Вот тогда она и увидела войну вблизи. Тогда и решила: трехмесячные курсы шоферов… Первые неудачи, первые успехи, труд до десятого пота.
Ради этих детей.
Ради своих девочек.
В Очеретовке над Ингульцом начали сеять. Горький это был сев. Женщины, подростки, старики и инвалиды. Основное тягло — коровы и люди.
Среди женщин — Мотря Непейвода, солдатская мать. Высокая, с лицом желтоватым, как пчелиный воск, в неизменной черной одежде, голова повязана белым платком. Так одето большинство женщин. Издали они напоминают стаю опечаленных грачей неизвестной белоголовой породы.
Мотря боронует пашню, кормилица ее, Белозерка, еле тащится. Тянет неумело, неровно: то дергает, то берет в сторону, то внезапно пятится, как норовистый конь. Копи теперь в артели — несколько кляч-доходяг, на более тяжелых и ответственных работах: в плугах и в сеялке. Там лемеха пропахивают грунт не глубоко, как при царе Горохе, но все же раз за разом доносится скрежет и восклицание: это снова из матушки-земли извлечен еще один печальный трофей — ржавый штык, пробитая пулей солдатская каска, истлевший череп. Того и гляди на мину напорешься.
Боронить безопаснее — тут уже прошли и лемеха, и конские копыта.
Белозерка останавливается, задирает голову и ревет. Словно бы кого-то зовет. Кого же? Заботливого хозяина, который накормит досыта, или, быть может, лучшую коровью долю? Кто его знает. Мотря стегает хворостиной по худым осунувшимся бокам, корова делает еще несколько тяжелых шагов и останавливается. Уже не ревет, наоборот, понурила голову, молчит. Теперь никакие понукания не помогут. Выбилась из сил горемычная. Мотря и сама еле держится на ногах. И лета немолодые, и еда кое-какая, и печаль неистребимая извели ее начисто.
Мотря присела возле коровы, окинула взором поле, и сердце ее снова заболело: ведь было же здесь когда-то золотое море. Настоящее, как в песне поется: и необозримая ширь, и волны с бурунами, и краса первозданная. Пшеница — до самого горизонта, три сына-сокола… И вдруг загудело, загрохотало… То не скирды горели, то развеялась дымом ее материнская радость. Марк погиб под Житомиром, Карпа сгноили чужеземцы в Уманской яме. Не увидит даже их тел, не похоронит рядом с отцом на кладбище, не поставит крест или какой-нибудь другой знак. Нет, ничего нет. Лишь Григорий воюет. А она плакала, плакала, да и начала молиться полузабытому богу. Все делала, как напутствовали старые люди, как советовал отец Борис. Только бы возвратился живым и невредимым последний, самый младший…
Солнце припекает, измученную женщину клонит ко сну. А еще сильнее донимает голод. Но нельзя ей ни спать, ни засиживаться — на работе ведь! Нужно вставать. Вон уже шагает по пашне длинноногий бригадир Никон Омельченко. Не сюда ли направляется?
Не любит Мотря Никона. Не за то, что он плохой человек, а за то, что никакой: ни злой, ни добрый, ни рыба ни мясо. Потому видно, что чахоточный. Чахотка, известное дело, тоже не мед.
Пока Мотря вставала и принималась за работу, Омельченко приблизился к ней.
— Мотря, где твой Грицько?
— А ты разве не знаешь?
— Знаю.
— Так зачем же спрашиваешь?
— Потому что нашим доблестным освободителям и героям нужен хлебчик. Не так ли?
— Ох, не учил бы!
Мотря махнула хворостиной, коровенка натужно двинулась вперед.
9
Докатилась весна и в туманный Лондон. Город залечивал раны, полученные за пять лет разбойничьих бомбардировок пиратами люфтваффе и коварных обстрелов, управляемыми снарядами ФАУ-1 и ФАУ-2. Новости, поступавшие одна за другой с континента, подбадривали, вселяли веру в близкий крах гитлеровской авантюры.
Наконец была осуществлена долгожданная операция «Оверлорд». На гигантских баржах, которые несли на себе по сорок танков, англо-американские дивизии форсировали Ла-Манш и высадились в Северной Франции. В Европе открылся второй фронт.
Сегодня у лондонцев (да и не только у них!) снова радость: Советская Армия сломила сопротивление нацистов в Придунайских Альпах и приближается к столице Австрии Вене. Итак, на очереди — Берлин!
Правда, радовались подобному развитию событий не все.
Премьер-министр правительства его величества в Соединенном Королевстве сэр Уинстон-Леонард-Спенсер Черчилль вошел в свой кабинет на Даунинг-стрит, 10. В просторной комнате с обшитыми резным деревом степами слышались шаги прежних его обитателей — хитроумного Дизраэли и красноречивого Ллойд-Джорджа. Других своих предшественников сэр Уинстон никогда не вспоминал — это были в большинстве своем ничтожные личности. Как шарлатаны-лейбористы, так и представители тори, наподобие Невилла Чемберлена или Стенли Болдуина — этих жалких ничтожеств, с которыми он воевал на протяжении целого десятилетия. Кризис… Перманентный кризис на людей, способных взвалить на свои плечи хлопоты гигантской империи.
В кабинете его уже ждала новая стенографистка. Ее предшественница, внимательная и старательная миссис Глория Харди, погибла в автомобильной катастрофе у моста Ватерлоо. Несчастный случай? Навряд ли. Катастрофа была вызвана паникой, паника — воздушной тревогой, тревога — налетом, а налет — войной. Все закономерно и логично.
При появлении премьер-министра стенографистка встала. Дымя неизменной «гаванной», Черчилль тяжелой походкой пожилого и грузного человека подошел вплотную к девушке и изучающим взглядом окинул ее с ног до головы. Давнишняя его привычка. Еще с времен колониальных войн, которые вела Британская империя и в которых он принимал участие в разных ролях: офицера, корреспондента, разведчика, дипломата. Всегда доверял первому впечатлению о человеке, стараясь оценить его качества безошибочно. «Глаза искренние, улыбка лукавая, бюст фламандки, талия осы, ноги длинные и сильные, как у кенгуру».
Налюбовавшись юной красотой, умело подчеркнутой средствами косметики, Черчилль произнес:
— Вы сотканы из контрастов, мисс… простите…
— Менсфилд. Мери Менсфилд, сэр.
— Мисс Менсфилд. Но это вам на пользу. Где вы работали до этого?
— В канцелярии премьер-министра, сэр.
— Я вас никогда не встречал.
— Извините, сэр.
Она покорно села, а он долго стоял и рассматривал ее сквозь дымку сигарного дыма. Что-то привлекло его внимание в этой девушке. Да, она — полная противоположность пожилой миссис Харди. То была серая трудовая пчела. Это — яркий тропический мотылек из джунглей Бразилии. У него цепкая память на лица. И он убежден, что видит это очаровательное создание впервые. Однако лицо незнакомки ему чем-то знакомо. Глаза, улыбка, мягкие ласковые черты. И припухлые, чувственные губы.
— Приступим к работе, мисс Менсфилд.
На коммутаторе сверкнул зеленый огонек и приглушенно зазвонил телефон. Черчилль велел:
— Возьмите, пожалуйста.
— Алло! — промолвила девушка уравновешенным деловым голосом, держа в руке трубку, она повернулась к всемогущему шефу: — Сэр Чарльз Вильсон.
— Старый, надоедливый тиран! Что ему нужно?
Неохотно взял трубку, заранее зная, что его давний друг и личный врач снова будет надоедать нудными и неосуществимыми советами.
— Слушаю, Чарли.
Голос Вильсона звучал встревоженно. Врачу не нравится последняя кардиограмма лорда Черчилля, не в восторге он и от анализа крови. Ох, эти врачи с их кардиограммами и рентгенами, со смехотворными требованиями: «Не утомляйтесь, сэр» или «Не принимайте так близко к сердцу!». И все это говорят серьезным тоном ему, от которого в значительной мере зависит не только будущее Британской империи, но и судьба человечества!
Впрочем, педантичный Чарльз прав. Сэр Уинстон и сам ощущает, что его могучий организм понемногу сдает. Беспокоит сердце, горчит во рту. Еще бы: его печень вынесла огненное нашествие не одной цистерны французского мартеля, курвуазье и отнюдь не плохих армянских и грузинских коньяков. Ими щедро одарил его в Москве Джозеф Сталин.
Разговаривая с надоедливым эскулапом, который так старательно обрисовывал его старческую немощность, Черчилль следил глазами за Мери Менсфилд и искренне пожалел, что никакого Мефистофеля не существует. Есть только старость… И смерть.
Оборвал разговор очередным обещанием непременно выполнять все предписания врачей.
— Итак, мисс…
Менсфилд застыла в ожидании. Он диктовал неторопливо, то усаживаясь за огромный стол, то расхаживая по мягкому персидскому ковру.
«Его превосходительству Франклину-Делано Рузвельту, президенту Соединенных Штатов Америки.
Сэр!
Ничто не произведет такого психологического влияния и не вызовет такого отчаяния среди всех немецких сил сопротивления, как падение Берлина. Для немецкого народа это будет убедительнейшим признаком поражения. С другой стороны, если дать возможность Берлину, лежащему в развалинах, выдержать осаду русских, то следует учесть, что до тех пор, пока там развевается немецкий флаг, Берлин будет вдохновлять сопротивление всех немцев с оружием…»
Черчилль взвешивал каждое слово. Во-первых, рождается важный исторический документ, который он опубликует в своих мемуарах, в этом духовном завещании потомкам. Во-вторых, хотя Рузвельт мудрый и дальновидный политик, все равно, там, за океаном, он не очень отчетливо представляет себе всю опасность победного марша большевистских армий. И слишком симпатизирует большевикам, учитывая понесенные ими жертвы.
Перед британским премьером предстает продолговатое лицо седого человека, навсегда прикованного параличом к креслу коляски. Умные карие глаза, большие руки с длинными пальцами, которые всегда жестикулируют. Вспоминаются многочисленные встречи, беседы, споры. Черчилль дымит сигарой, размышляет. И вдруг, взглянув на стенографистку, находит ответ на вопрос, не дававший ему покоя: кого напоминает ему эта девушка.
…Линейный корабль «Принц Уэлльский» тайно отплыл под покровом ночи от пирса Скапа-Флоу. Впереди Атлантический океан, кишащий немецкими подводными лодками. Длинный путь до Пласенша-Бей на Ньюфаундленде, где должна произойти встреча премьер-министра Великобритании с президентом США. Британского премьера сопровождали: генерал-майор Чани, генерал Ли и еще несколько советников. Медленно протекают дни вынужденного досуга. Энергичный капитан линкора Лийч делает все возможное, чтобы развеселить высоких гостей. Одно из средств — просмотр новых кинофильмов, которыми он запасся в Лондоне.
— Мисс Менсфилд, вы видели фильм «Леди Гамильтон» с Вивьен Ли в главной роли?
— Конечно, сэр. Чудесный фильм. Я смотрела его четыре раза.
— А я — пять. Честное слово. Вам нравится?
— Да, сэр.
— Вы очень похожи на нее.
— Благодарю, сэр. Мне об этом уже говорили.
— Вот как. И поэтому вы смотрели эту ленту несколько раз?
— Нет, сэр. Мне нравится Лоуренс Оливье, играющий адмирала Нельсона.
Сэр Уинстон замолк надолго. Перед его взором проходили кадры фильма, глубоко тронувшего его. Вивьен Ли… Как она играет, боже милосердный! Однако впечатление могло усилить и то, что он давно не видел кино, не был в театре, не слушал музыки. Ничего, кроме сигналов тревоги, воя бомб, грохота взрывов. Работа, работа, работа… И вдруг в океане бездна свободного времени! Лишь мысли, неотступные мысли путешествовали с ним. Тяжелые мысли. Это был не апрель сорок пятого, а август сорок первого…
Линкор «Принц Уэлльский» — гордость Британского королевского флота — теперь уже не существует. Навеки исчез в бездне Тихого океана вместе с моряками и их капитаном. Прямое попадание торпед, сброшенных японскими самолетами. Могучий корабль раскололся надвое.
— Так на чем мы остановились, мисс Менсфилд?
— «Всех немцев с оружием…»
— Благодарю. Пишем дальше: кроме того, существует еще один аспект, который вам и мне следовало бы рассмотреть. Русские армии, бесспорно, захватят всю Австрию и войдут в Вену. Если они захватят также Берлин, то не создастся ли у них слишком преувеличенное представление о своем вкладе в нашу общую победу…
Заметив удивление в искренних, зеленоватых, как морская вода, глазах стенографистки, раздраженно сказала:
— В святом писании, мисс Менсфилд, есть важное мудрое изречение: «Оберегай правду путем неправды». Вы согласны с этим?
— Да, сэр. Простите, сэр. Прошу, сэр.
— …И не сможет ли это привести к такому умонастроению, которое вызовет серьезные и весьма значительные трудности в будущем?
Он снова остановился. Другая картина возникла перед глазами: берег Черного моря, Крым, Ялта, Ливадийский дворец. Джозеф Сталин — резкий, прямой и беспощадный, придирчивый к каждому слову. Когда он, Черчилль, поставил вполне логичный вопрос: что будет с голодной Германией после войны, — ведь если хочешь ехать на коне, должен кормить его овсом и сеном, — Сталин сделал первый выпад: прежде всего конь не должен брыкаться. Когда же он, Черчилль, заявил: если вместо коня употребить — точно так же для метафоры — автомобиль, то для пользования им необходимо иметь бензин. Сталин резко ответил: «Аналогии нет. Немцы не машины, а люди». А какой бой дал дядя Джо в вопросе репараций по проблемам послевоенной Польши! По сути, им с Рузвельтом пришлось капитулировать. Точно так же и в вопросе Объединенных Наций, когда Сталин отклонил ряд кандидатур, предложенных союзниками, а вместо этого добился права на подписание Декларации ООН Украинской и Белорусской республиками. А ведь тогда советские войска только-только приближались к Кенигсбергу!
— Диктую, мисс. Поэтому я считаю, что с политической точки зрения нам следует продвигаться в Германии как можно дальше на восток и что в случае, если Берлин окажется в пределах нашей достижимости, мы, бесспорно, должны его взять.
Черчилль сделал еще одну паузу, пристально всматриваясь в лицо стенографистки. Миловидное личико, черт возьми! Проклятый Гете, хотя и немец, а в одном «Фаусте» сказал о трагизме старости больше, чем велеречивый Шекспир во множестве трагедий.
— Итак, мисс Менсфилд?
— «Бесспорно, должны его взять».
— Так. Именно так. Это, пожалуй, разумно и с военной точки зрения.
Задумался: стоит ли добавить к посланию несколько фраз интимного характера? Хотя бы о том, что по материнской линии он прямой потомок деда-американца, лейтенанта армии Джорджа Вашингтона, и всю жизнь чувствует себя причастным к молодой американской нации. Нет, не следует. Кажется, он уже говорил об этом президенту в Ньюфаундленде или в другой раз, когда отдыхал во Флориде.
— Благодарю, мисс. Зашифруйте и…
Снова вспыхнула контрольная лампочка, зазвонил телефон.
Черчилль сам взял трубку. Звонил начальник генерального штаба сухопутных войск фельдмаршал Брук. Он доложил об успешных действиях советских войск по ликвидации немецкой танковой группировки в Померании и о сосредоточении огромных сил Советской Армии на берлинском направлении.
Закончив разговор с фельдмаршалом, премьер-министр велел стенографистке:
— Еще маленькую телеграмму, мисс Менсфилд.
— Слушаю, сэр.
— Европейский фронт. Ставка главнокомандующего. Фельдмаршалу Монтгомери. Предлагаю тщательно собирать немецкое трофейное оружие и складывать в соответствующих местах, чтобы легко можно было снова раздать его немецким солдатам, с которыми, возможно, придется сотрудничать, если советское наступление будет продолжаться дальше. Записали?
— Да, сэр.
— Плохие новости, мисс Менсфилд.
— Лондон торжествует, сэр. Скоро конец войне.
«В чью пользу будет этот конец? — думал лорд Черчилль. — Трудновато будет нам с Рузвельтом за круглым столом переговоров после такого триумфа красных. Но я не отступлю уже ни на дюйм!»
Дальновидный политик и дипломат Черчилль даже в мыслях не допускал, что на следующей встрече «большой тройки» он будет играть второстепенную роль, а Рузвельта и вовсе уже не будет в живых. Он не мог предположить, что Англию будет представлять лидер лейбористов Клемент Эттли, а Америку — Гарри Трумэн.
Однако сегодня Черчилль держал власть в своих руках, знал ей цену, упивался ею.
— Помолитесь в душе, мисс Менсфилд, чтобы сбылось желанное.
Черчилль имел в виду поверженный Берлин и над ним два дружественных флага: британский «Юнион Джек» и американские «старз энд страйпс», а в меди армейских оркестров — памятное еще с времен военной академии в Сандхерсте: «Вперед, воины Христовы!» Неужели этого не будет?
— Помолитесь, мисс Менсфилд.
— Да, сэр. Слушаюсь, сэр. Мне можно идти?
— Идите, милая Мэри Менсфилд. И да будет с вами всегда та высочайшая сила, которая сотворила мир и управляет им.
Девушка осторожно, будто по мелкой воде, ступала по ковру своими стройными ногами. А лорд Уинстон тихо напевал строчки из излюбленного церковного гимна «Боже, наш спаситель в прошлые века!» Этот гимн четыреста лет назад пели железные всадники Оливера Кромвеля, провожая в могилу тело его двоюродного брата и ближайшего друга — храброго Джона Хампдена…
10
Все дороги между Одером и Нейсе запружены боевой техникой. Фронт подтягивал силы для последнего, завершающего удара.
Бригада Березовского до вечера должна была прибыть в район Западной Нейсе, Выполнение плана передислокации усложнялось перегрузкой дорог: машины — гусеничные и колесные — продвигались со скоростью пешехода. Даже юркий виллис комбрига еле-еле делал тридцать — сорок километров в час.
Иван Гаврилович приказал шоферу свернуть на боковую дорогу, надеясь, что в объезд он снова попадет на автостраду.
Колеса виллиса закрутились быстрее, стрелка спидометра показывала семьдесят миль. Вскоре проскочили мимо столбика с надписью: Шулленбург. Невольно вспомнилось, что так звали немецкого посла в Москве, который известил о начале войны…
Вдруг Иван Гаврилович чуть было не вскрикнул от радости. Навстречу им шло четверо девчат-полонянок. А среди них… нет, это была не Настя Березовская и не Валентина Шевчук.
— Оксана! — воскликнул комбриг, дав знак водителю остановить машину.
Да, он не ошибся. Перед ним стояла девушка из его родного села Озерцы Оксана Булах, самая близкая подруга Насти. Девушка всплеснула руками и бросилась к нему.
— Иван Гаврилович!.. Ой боже!.. Неужели?..
— Да, да, это я. Здравствуй, Оксана! Скажи мне правду: Настя жива?
— Жива, Иван Гаврилович. Здесь она, в Шулленбурге.
«Наконец-то! Сколько дней… сколько километров… уже утратил всякую надежду…» А вслух:
— Садись же, показывай!
— Можно и пешком, здесь близко, — и к подругам. — Я возвращаюсь, девчата. Ауфвидерзеен!
— Куда нам?
— К Кугелю. Вон там, видите, дуб у ворот, — показала Оксана на высокое ветвистое дерево.
— Гони туда, — приказал Березовский шоферу, соскочив на землю. — Рассказывай же, — торопил он Оксану.
— А что рассказывать? Согнали нас, как стадо овец, постригли наголо. Вот, видите? — смахнула с головы платок, открыла мальчишеский ежик. — Потом в запломбированных вагонах кого куда… Мы с Настей и еще несколько озерянских попали прямо сюда, на станцию, а дальше — под плети бауэра.
— Били?
— Не спрашивайте об этом. Никогда не спрашивайте. Ни у меня, ни у Насти. Ведь все это миновало, правда?
— Ужели не веришь?
— Верю, но и побаиваюсь. Не будут ли упрекать дома?
— За что?
— За слезы, за муки… Разве дуракам законы писаны?
— Это верно. Однако после войны… После такой войны…
Березовский задумался, не закончив фразы. Разве после войны люди превратятся в ангелов? Вероятно, по всякому будет… И спросил наугад, потому что прямо не решался:
— Кто еще из озерянских здесь?
— Немного, — Оксана перечислила нескольких девчат из разных уголков села, однако Валентины Шевчук не назвала. А красавец-дуб уже шелестел над ними.
— Вот мы и пришли.
Подворье богатого бауэра. Могучее дерево у ворот, словно вывеска, свидетельствует о древности и солидности этого рода. Невысокий, приземистый и продолговатый дом в несколько комнат. И просторная рига. И конюшня. И хлев. Достаток! Здесь из года в год гнули спину батраки, а во время войны их заменили полонянки.
В хлеву ревут голодные, недоенные коровы. Им откликаются коровы из соседних усадеб. Полонянки единодушно заявили: «Пропадите вы пропадом!» И перестали разносить корм, забросили куда-то подойники. Нужно было бы хозяевам самим позаботиться о своих коровках, но они почему-то не торопятся. С тревогой ждут чего-то…
Вчерашний хозяин Насти герр Леопольд Кугель, изрядно выпив, слоняется по подворью, подбирая какие-то вещички. Возле риги ржавеет недействующий привод, лишь следы от конских копыт, будто иероглифы, на утоптанном кругу. Коней тоже проглотила тотальная мобилизация. Из дома доносится веселый гомон девушек и парней, а с кухни вкусно пахнет жареной гусятиной.
Леопольд Кугель горько улыбается:
— Дас ист аусганг. Шлюсс, пан, шлюсс.
Тут еще ощущается влияние польского языка и заметно стремление хозяина выдать себя за поляка или полуполяка. Оксана спросила о Насте. Кугель поднял глаза на полковника, догадываясь, видимо, что перед ним Настин родственник. На потном лице бауэра мелькнула еще более подобострастная улыбка.
Оксана метнулась в дом, и вот уже…
— Ваня! Братик!..
Сестра бросилась ему в объятия.
Чорна гречка, білі крупи, Тримайтеся, дівки, купи. Не будете триматися, Будуть люди сміятися!..А может, это просто кошмарный сон? Годами думал о ней. Выглядывал. Искал. И вот, найдя, теряешь снова…
А із гречки буде каше, А Настуня вже не наша. Нам іі вже не видати, Гречку з нею не збирати!..Настя играет свадьбу. Странную, непривычную…
Рядом с нею сидит ее суженый — высоченный светловолосый Гуго Граафланд. Обычная история: встретились на чужбине, в горьком, подневольном труде сдружились, полюбили друг друга. И счастливая развязка — оформили брак у пастора местной лютеранской кирхи, уезжают к молодому на его родину.
На его родину!.. В страну тюльпанов, в королевство Голландия или Нидерланды…
Есть такая маленькая держава в Европе на берегу Северного моря, отгородившаяся от него каменными дамбами. А на бывшем морском дне — плантации красных, розовых, оранжевых, желтых тюльпанов. Цветы и молочные изделия — основные статьи экспорта этой страны. Сейчас дамбы, кажется, разрушены, часть Голландии залита водой. Но плотины можно восстановить. Люди там трудолюбивые, почва плодородная. Но какая же все-таки это далекая, какая недостижимая чужбина!
Ох, война, война, распроклятая война!..
А Настя, чернявая девчонка, не очень и красивая (у девушки большой, мясистый, как у всех Березовских, нос), прижимается к похожему на белоперого гуся Гуго, будто ничего больше ей не нужно. Любовь!.. И возражать ни к чему, и примириться невозможно. Как они, черт возьми, нашли общий язык, как они между собой разговаривают? Прислушался: по-немецки…
Распоряжалась на свадьбе Оксана Булах (вчера шла она с подружками созывать гостей, а встретив Ивана Гавриловича, побоялась признаться ему), и невысокий, курчавый, атлетического сложения парень с Полтавщины — не Оксанин ли суженый?
— Ну, споем, что ли? — крикнул курчавый полтавчанин и первым начал: «Побреду, побреду по колени в лебеду…»
На дворе скучали Наконечный и Чубчик. Шофер категорически отказался от рюмки — за рулем. Чубчик опрокинул одну-единственную за здоровье молодых и убежал от искушения: ведь прифронтовая зона, к тому же едут отсюда на КП армии.
По этой же причине воздержался от спиртного и комбриг. А потому ему, трезвому, среди подвыпивших, было еще грустнее и тягостнее…
Вошел Кугель — непрошеный гость в собственном доме. Кривляясь и жестикулируя, показал, что хочет выпить. Кто-то смилостивился и налил ему граненый стакан темнобурого, закрашенного цикорием самогона. В каком-то болезненном отчаянии, словно бы упиваясь позором самоунижения, хрипло воскликнул:
— Hex жие совет зольдатен! Гитлер капут!
Выпил, закашлялся и пошел прочь, вытирая губы рукавом старенького, замусоленного пиджака. Долго торчал у входной двери. Да и что он должен был делать? С другой половины дома, сквозь немытые стекла окон боязливо выглядывала его семья. Кажется, одни лишь женщины. Никто из них не решался выйти из дому. А коровы ревели…
— Что же будет, Настя?
— Ничего, братик. Писать буду.
«Куда? В Озерки? По школьному адресу? Село, конечно, восстановят. И новую школу построят. Да уже никогда, наверное, не будет вести уроков в этой школе учитель математики Иван Березовский…»
Он и сам не знал, что будет делать после войны. Зачем думать об этом, когда война еще не закончилась? Настя уловила его настроение, придвинулась к нему поближе:
— Не горюй, Иванко, не пропаду. У родителей Гуго — свой цветник. Небольшой, но прибыльный.
«И все уже она знает! Это его слова, его влияние. Вот этого белобрового гусака!»
Однако пора. В соседнем селе его ждет маленький, быстрый, как ртуть, командарм.
— Прощай, сестра!
— Сейчас, братик! Минуточку!
Оторвала кусочек обоев. Гуго Граафланд нацарапал несколько слов корявым крестьянским почерком.
— Вот тебе, Ваня, наш адрес.
Взял эту бумажечку, сложил вчетверо и почувствовал, как впервые за все эти годы у него — стреляного-перестреляного пехотинца, мятого-перемятого танкиста, выступили слезы на глазах…
Потом стоял на шоссе, будто слепой и глухой.
Развернул бумажечку. Корявые буквы, голландские слова. Снова свернул, спрятал в планшет. Если останется в живых, напишет. Обо всем. Одна она у него. Одна-единственная.
Вдруг вспомнил, что так и не решился спросить еще об одной близкой душе.
— Сашко!
— Слушаю, товарищ комбриг!
— Вернись-ка ты на свадьбу. Расспроси у Оксаны или же у самой Насти… — он немного замялся, — что случилось с их ровесницей Валентиной Шевчук. Ясно?
— Ясно, товарищ комбриг.
А шоссе гремит. Танки, самоходки, «катюши», понтоны, грузовики. И все в одном направлении: на северо-запад. Вдали, на горизонте, синеет лес. Туда! Там начинаются Бранденбургские лесные массивы. Там Бранденбургские озера. А за ними — Берлин!
Возвращается виллис, на нем трое. Настя! Она обрадовалась возможности еще раз увидеть брата. Хотя везла ему невеселую весть.
…Валю схватили вместе с Настей и Оксаной. Тряслись в запломбированном вагоне. Все утратили надежду на побег, только Валя верила. Она ни за что не могла смириться с рабством. Все ждала случая для побега.
Случилось это тут, на полустанке Шулленбург. На какой-то узловой станции их вагон отцепили от общего состава и пригнали сюда. Было холодное осеннее утро, моросил дождь.
— Мы молча выходили из вагона по шаткой доске, одна за другой. Отклоняться в сторону запрещено. Разговаривать — тоже. Вдруг услышали: «Девчата, прощайте!» Валя Шевчук выскочила из шеренги и побежала. Вслепую, наугад. Охрана не торопилась. И только после того, как Валя отбежала на сотню шагов, хлипкий обер-ефрейтор вскинул автомат и выпустил очередь. Стрелял вверх. Валя изо всех сил мчалась по мокрому, вспаханному полю, перепрыгивая через ямы и купы ботвы. «Гуля-ля!» — кричал обер-ефрейтор и строчил из автомата в серое, хмурое небо. Валюшка тем временем бежала все дальше и дальше, и в наших сердцах уже закралась надежда на ее спасение. Но почему же хохочут охранники? Через миг все выяснилось: они спустили с поводков овчарок. Специально натренированные собаки сбили Валю с ног и…
Виллис повез назад родную и чужую, близкую и бесконечно далекую Анастасию Граафланд, а ее брат, Иван Березовский, не мог прийти в себя. Снова все перевернулось в его душе, все умерло, погибло, кроме одного: мстить! Мстить подлым выродкам, которые затравили волкодавами красу, юность, живой пытливый ум…
Колонна пленных двигалась на него зловещим привидением. Вот они! Вот!.. Кто докажет, что это не те, которые спускали на девичью красоту голодных собак?!
Стрелять их, стрелять! Хотел лишь предупредить конвоиров, чтобы не мешали, чтобы не попал случайно кто-нибудь из них под пулю.
Но конвоиров не было. Ни спереди, ни сзади, ни с боков. Пленные шли сами. Четким, маршевым шагом. Вел их плюгавый обер-ефрейтор. В руках он держал какую-то бумажечку, видимо, адрес ближайшего пункта сбора, куда им приказано явиться. Никто не сбился с шага, никто не убегал, не искал укрытия в окрестных лесах и селах, на родной земле. Мертвецы… Колонна мертвецов.
Часть четвертая БЕРЛИН
1
Генерал-лейтенант Нечипоренко разговаривал по телефону с «Первым».
Комната в школьном помещении казарменного типа была сплошь завалена картами, пачками бумаг: штаб армии только что прибыл сюда и не собирался здесь задерживаться. Впереди Берлин…
— Да, впереди Берлин. Понимаю, товарищ «Первый». Учту…
Командарм положил трубку ВЧ, посидел некоторое время неподвижно, осмысливая услышанное. Затем встал, неторопливо прошелся по комнате, на миг задержался у окна, за которым раскинулся густой кленовый парк, обошел вокруг стола, снова выглянул в окно и только после этого сказал:
— Последние строгие инструкции, напутствия и указания. Что я могу поделать. Ведь впереди — действительно Берлин. И бойцы ждут его как высочайшей награды. Последняя возможность воздать врагу за все, что он творил эти четыре года, — за муки и надругательства, зверства и разрушения. Разве можно заковать их в путы абстрактной морали? Нет, нет, нет! Око за око, кровь за кровь! Вы согласны со мной?
Иван Гаврилович потупился.
— Сложный вопрос.
— А на мой взгляд, яснее ясного. Это мы создаем сложность. Мы! — снова прибег он к излюбленной манере подчеркивать местоимения. — А тем временем все довольно просто: либо мы уничтожим зло в корне, либо через десять лет повторится то же самое. Вы их передачи слушаете?
— Изредка.
— Вот, полюбуйтесь.
Включил элегантный трофейный «Филиппс». Сквозь шум и трескотню полились звуки бравурной музыки. Недолго пришлось вращать регулятор волн, чтобы поймать голос Геббельса, который выступал в эти дни очень часто. Его выступление было адресовано немецким солдатам. Переводил Нечипоренко, чуточку даже бравируя хорошим знанием языка противника. Рейхсминистр похвалялся, что реактивные истребители МЕ-262, недавно взятые на вооружение, превосходят скоростью и маневренностью все до сих пор известные самолеты мира. Они уже нанесли ощутимые удары по англо-американской и большевистской авиации. Теперь, после смерти президента Рузвельта…
Командарм и комбриг удивленно переглянулись.
…крах беспринципной коалиции неизбежен!
Геббельс перешел к трафаретным заверениям о секретном оружии расплаты фергелтунгваффе. Он призывал солдат во что бы то ни стало отстоять рубежи на подступах к имперской столице. Нечипоренко выключил приемник.
— Неприятный сюрприз накануне нашего наступления, — он имел в виду новость о Рузвельте.
— А не вранье?
— Я был в войсках, последней сводки не видел. Сейчас проверим. — Снял трубку. — «Девятого»!
Через несколько минут в трубке послышалось:
— «Девятый» на проводе.
— Андрей Викторович, — начал командующий и тотчас же умолк. Одобрительно кивнул головой. — Очень хорошо. — Положил трубку, пояснил: — Идет сюда.
Неприятная весть глубоко обеспокоила обоих.
— Если это даже пропагандистский трюк, то и он произведет серьезное впечатление на немецких солдат. Оружие расплаты — понятие привычное, о нем слыхали не раз. Реактивные «мессеры» летают уже почти месяц, а заметного перелома нет. Так вот вам новый козырь! Но если это правда…
— Неужели без Рузвельта антигитлеровская коалиция в самом деле развалится?
— Развалится или нет, но сопротивление немцев удвоится. Появилась хотя бы какая-то — пусть даже иллюзорная — надежда. Моральный фактор. Однако пошли к картам!
Накануне, поздно вечером, Йозеф Геббельс возвратился в Берлин из очередной поездки на недалекий теперь Восточный фронт. Возил туда, кроме зажигательных речей, сигареты и коньяк из награбленных по всей Европе запасов. Над Берлином гудели чужие бомбовозы, беспомощно метались в небе серебристые щупальца прожекторов, проносились в темноте молнии трассирующих очередей, грозным фейерверком вспыхивали разрывы зенитных снарядов.
Чем ближе к центру, феерическое зрелище разгоралось все сильнее, видно было как днем. Пылала недавно сооруженная Новая имперская канцелярия, Адлон-отель, соседние здания. Министерство пропаганды с облупленными стенами и карнизами, без окон и дверей торчало странным привидением. У подъезда толпились представители берлинской прессы, ожидая от него, рейхсминистра пропаганды и рейхскомиссара обороны Берлина, подбадривающих новостей с фронта. Во избежание надоедливых вопросов Геббельс хотел уже приказать шоферу с ходу проскочить на закрытый двор. Но заметил вдруг, что корреспонденты радостно возбуждены, приветливо машут руками. И он приоткрыл окошко:
— Господин рейхсминистр! Рузвельта нет!
— Рузвельт мертв!
— Хайль Гитлер!
— Хайль Гитлер! — повторил главный пропагандист агонизирующего рейха. И быстро выскочил из машины, которую затормозил догадливый шофер.
Прихрамывая, Геббельс бежал по узкой лестнице вниз, в подвал, где укрылось от бомб его министерство. А за ним, как в дни триумфов «господствующей расы нордических сверхлюдей», катился, спотыкался, сопел и топал ногами длинный хвост репортеров.
— Господин рейхсминистр! Как вы оцениваете это знаменательное событие?
— Повлияет ли оно на ход войны?
— Что нового на Восточном фронте?
А он шаркал все ниже и ниже, опираясь на палку, и только на последней ступеньке вдруг остановился, поднял вверх руки и, преодолевая одышку, голосом пророка произнес:
— Друзья мои, наступает новая эра!
И снова поковылял в свои апартаменты, крикнул кому-то из подчиненных: «Шампанского!», вбежал в кабинет и плюхнулся в огромное кожаное кресло, почти с головой утонул в нем. Все идет так, как предвидели великие астрологи Германии. Перелом должен произойти, и он произойдет!
Кабинет имел прямую связь со штаб-квартирой Гитлера. Возбужденный Геббельс снял трубку и, захлебываясь от счастья, произнес:
— Мой фюрер, поздравляю вас! Рузвельт умер. Звезды указывают, что вторая половина апреля будет для нас поворотным пунктом. Сегодня пятница, тринадцатое апреля, это и есть поворотный пункт!
— Я всегда верил в свой гороскоп и в гороскоп Германии, — прохрипело на другом конце телефонного провода.
— Да, да, мой фюрер, ваш гороскоп счастливый!
В подтверждение резонности своих слов Геббельс хотел было напомнить, что оба гороскопа, составленные лучшими гамбургскими звездочетами, провозвещали начало великой войны в 1939 году, сплошные победы до 1945 года, затем цепь горьких поражений и опять новые триумфы — со второй половины апреля. Однако не сказал: фюрер знал об этом и сам. Геббельс лишь добавил:
— Еще раз поздравляю, мой фюрер. Хайль Гитлер!
Он верил в то, что судьба действительно не отвернется от Германии. В самом деле, действительность не раз подтверждала силу пророчества звезд. Например, когда 20 июля 1944 года в растенбургском «Волчьем логове»[1] взорвалась подложенная преступниками бомба, казалось, — всему конец. Но провидение спасло фюрера. Или взять раннюю весну этого года, когда красные вышли на Одер. Небывало раннее половодье на Одере и в верховьях Эльбы остановило их наступление. Будто нарочно для того, чтобы события затянулись до апреля. И вот — новое знамение божие!
Геббельс схватил последнюю радиосводку. Москва еще не сообщала о смерти президента США. Красные войска ничего не знают.
Бросился к машине. Приказал заменить шофера, потому что этот валился с ног, и снова помчался сквозь Бранденбургские леса на огневые позиции защитников Берлина.
Командующий армией развернул карту и жестом пригласил Березовского подойти ближе. Оба склонились над двухверсткой.
— Вот здесь у них… — Нечипоренко сделал резкое ударение на последнем слове и еще раз повторил: — Здесь у них сильно укрепленная Шпрембергская высота. Укрепление нужно прорвать. Во взаимодействии с пехотой. Тут пятидесятикилометровых рейдов не будет. За высотой… вот отсюда… — Он ткнул пальцем в карту, — до Берлина… — провел рукой в воздухе, потому что места на двухверстке не хватало, — всего полсотни километров. Хорош кусочек?..
— Я ждал этого четыре года, товарищ командарм.
— Рад, что на этот раз мы с вами нашли общий язык.
Генерал-майор Маланин спросил с порога:
— Новость слыхали?
— Узнали от щедрот господина Геббельса, — пустил шпильку командарм. — Итак, правда?
— К сожалению. Разрешите выехать в войска. Нужно разъяснить политработникам, агитаторам, что смерть президента не повлияет на развитие событий.
— Вы уверены в этом?
— Во всяком случае, Гитлера уже ничто не спасет. А Германию спасать нужно.
— Э-э, — отмахнулся Нечипоренко. — Мы про мораль, а они — про секретное оружие расплаты.
— Гитлер еще только надеется на секретное оружие, а у нас оно есть.
— Реактивные самолеты?
— Не только. Я имею в виду наше моральное оружие, которое помогло нам отстоять Сталинград и теперь поможет взять Берлин.
— Почему же оно секретное?
— А разве для миллионов людей мира это не секрет, не загадка: как мы выстояли, благодаря чему побеждаем. — И продолжал: — Это оружие появилось не сегодня. Оно — от Ленина, от баррикад Октября. Именно поэтому мы воюем против гитлеровцев, а не против немецкого народа. — Обращаясь к Березовскому, произнес: — Хочу поблагодарить вас, Иван Гаврилович.
— За что?
— За встречу с Гауптманом. Да и за речь лейтенанта Шаубе. Мы напечатали ее листовкой и разбрасываем с самолетов на вражеские окопы. Что называется, на голову самому Геббельсу.
2
Через три дня после смерти Рузвельта советское командование официально уведомило союзников о начале Берлинской операции. Это сообщение застало главнокомандующего союзническими вооруженными силами в Европе генерала Эйзенхауэра в его штаб-квартире вблизи Франкфурта-на-Майне. Сэр Дуайт-Девид Эйзенхауэр играл в крокет с лейтенантом Джоном Эйзенхауэром, своим сыном, офицером штаба. Главнокомандующему как раз нужно было провести деревянный шар сквозь «паука» — основную проволочную фигуру игровой площадки, когда адъютант Мекдоналд доложил ему о важном известии. Эйзенхауэр вытянулся, держа в руках легкий ясеневый молоток для удара по крокетным шарам. У него было некрасивое, обезьяноподобное лицо, он знал об этом, но зато выправкой обладал стройной, несмотря на то что ему шел пятьдесят пятый год. Это незадачливые газетчики выдумали, будто его увлечение игрой в гольф — чудачество, хобби. Святая наивность! И гольф, и крокет, и ежедневные спортивные упражнения — все подчинено одной цели.
Минуту-две Эйзенхауэр молчал. Потом передал молоток адъютанту.
— Поиграйте за меня, Мекдоналд. Извини, Джон. Дела…
Чтобы иметь эффектный вид, он четко отпечатывал шаги длинными худыми ногами. Со стороны могло показаться, что он ступает на котурнах. Джон улыбнулся: «Как не прячь старость, она все равно высунет нос!»
Штаб главнокомандующего разместился в подвалах разрушенного завода, который на протяжении последних лет работал для нужд войны. Такое размещение отвечало интересам безопасности: уничтоженные здания вряд ли кто станет бомбить вторично. Часовой эффектно отдал честь главнокомандующему. Так повторялось каждый раз, когда генерал входил в свое комфортабельное убежище или выходил из него.
В кабинете тускло мерцали плафоны искусственного дневного света, работала установка кондиционирования.
На стене, над генеральским креслом, портрет президента в траурном крепе. Лицо озабоченного интеллигента. Гримаса вечного неудовольствия, недоверчивое выражение утомленных карих глаз. Все теперь отошло в небытие. Прикованный к креслу калека активно боролся, завоевывал симпатии, устранял конкурентов, требовал покорности, прочно и долго держал руль управления. Единственного за всю историю страны, его четыре раза подряд избирали президентом Соединенных Штатов. Эпоха Рузвельта!.. С 1932-го по 1945-й!
Через несколько дней портрет покойника снимут и повесят изображение безликого владельца галантерейной лавки из Ламары, штат Миссури, Гарри Трумэна. Схитрил Рузвельт, сделал уступку правым элементам демократической партии, взяв себе в вице-президенты крикливого Гарри, который с 1934 года болтал одно и то же: обессилим и Германию, и Советский Союз! Доболтался: Германия летит в пропасть краха, а Советский Союз уже на вершинах триумфа.
На столе, как всегда, кроме деловых бумаг — толстенная книга в черной обложке с тисненным золотом крестом: Библия. Источник вечной мудрости. А рядом, на боковом столике — стопка детективных романов. Вот это и есть его настоящее хобби!
Снова и снова перечитал сообщение красных о наступлении на Берлин. Это не было для него неожиданностью. Разведывательные службы зафиксировали неслыханное сосредоточение сил на участках Жукова, Конева, Рокоссовского. Но мысль билась на одном и том же, будучи не в состоянии оторваться от крепа на портрете президента.
Трумэн, прибрав к рукам гигантский аппарат национальной администрации, на выборах 1948 года, наверное, выйдет победителем и просидит в Белом доме еще четыре года… Не более! В 1952 году простаку Гарри стукнет шестьдесят восемь, и он окончательно сойдет с арены. Вот тогда…
Снял трубку внутренней связи:
— Генерала Брэдли!
Начальник штаба знал об информации советского командования. Его мнение? Немедленно форсировать наступление на Берлин. Опередить русского медведя!
Продиктовав директиву об усилении наступательных действий, Эйзенхауэр повесил трубку на крючок и выключил микрофон. Разговор с Брэдли закончен. Историческим его никак не назовешь. «Усиление наступательных действий!..» И это в то время, как с берегов Одера вот-вот грянет буря. Возможности Москвы безграничны. И не только технические — моральные. Такой армии еще не было в истории человечества. Придется распределить роли на уборке урожая: одни польют ниву кровью, другие — срежут колоски. Военный должен быть стратегом, а политик реалистом.
Эйзенхауэр включил мембрану:
— Рад видеть полковника Бернстайна.
— К вашим услугам, генерал!
Бернстайн, вертлявый, лопоухий, льстиво улыбаясь, направляется от двери к столу.
— Как чувствуете себя, полковник?
— О’кэй, генерал.
— Операцию «Кайзерод» закончили?
— Почти, генерал.
— Это уклончивый ответ, Бернстайн.
— Нет, генерал. Все идет по плану. Запломбированные грузовики с имуществом, изъятым из шахты «Кайзерод», скрыты в лесах Тюрингии под усиленной охраной.
— Когда они будут отправлены за пределы Германии?
— При первом случае.
— Куда именно, известно?
— Да, в Роттердам. Там есть надежный банк.
— Отобрали все самое ценное?
— О, само собой разумеется, генерал. — Глаза полковника засверкали. — Слитки чистого золота… только чистого, сэр, со штампом имперского монетного двора Германии и пробой, утвержденной главными биржами мира.
— Что еще? — жаркий блеск жадности передался и генералу.
— Ящики драгоценнейших самоцветов, валюта разных государств, картины прославленных мастеров… Я составил полное описание… Оно утверждено генералами Поттоном и Зибертом.
Полковник положил на стол реестр, в котором были перечислены извлеченные из поташной шахты «Кайзерод» возле тюрингского хуторка Меркерс фантастические сокровища. Руки у него дрожали.
Эйзенхауэр внимательно вчитывался в каждую строку этого уникального документа. Вот что по праву принадлежит истории. Но никогда, наверное, не будет ею разглашено.
…Произошло это случайно. Передовой бронетанковый отряд третьей американской армии, продираясь сквозь лесные массивы Тюрингии, встретил на просеке три полуживых привидения в полосатых лагерных лохмотьях. Венгр, поляк и француз армянского происхождения Жозеф Артурянц рассказали о шахте и ее тайне. Все трое были узниками Бухенвальда, которых эсэсовцы группой пригнали в Меркерс разгружать «блиц-опели». Чувствуя близкий крах, заправилы гитлеровского рейха собрали награбленные сокровища, надеясь таким образом откупиться. Узники выполнили работу и направились в обратный путь, в Бухенвальд. По дороге эсэсовцы всех их перестреляли, кроме этих троих, прикинувшихся мертвыми.
— За эту операцию, Бернстайн, вы отвечаете головой.
— Так точно, генерал!
Полковник дрожал как в лихорадке. Такое имущество! Двадцать четыре железнодорожных вагона, заполненных до отказа. Вот бы получить один процент от такого богатства! Хотя бы один процент!..
— Где хранится этот реестр, полковник?
— В штабном сейфе, генерал.
— Принять самые строгие меры предосторожности!
— Именно так, генерал.
— Ол райт!
Отпустив Бернстайна, Эйзенхауэр снова поднял глаза на портрет президента. Сейчас по всей стране — дни траура. После торжественных церемоний в Вашингтоне, проделав путь между Потомаком и Гудзоном, тело президента навеки упокоится в тихой усадьбе Гайд-Парка. На горизонте демократической партии угасла яркая звезда.
Однако «жить — значит бороться». Кто это сказал? Сенека или Вольтер, какое это имеет значение? Поскорее бы только ящики с надписью «совершенно секретно — собственность рейха» попали в Роттердам, а оттуда в Штаты. Такой вклад в сейфы Пентагона не забудется. Президентское кресло в Белом доме стоит того, чтобы за него побороться!
Дуайт-Дэвид Эйзенхауэр просмотрел еще несколько деловых бумаг и пошел заканчивать партию в крокет. Часовой у двери поприветствовал главнокомандующего, как и положено по уставу.
3
Давно уже перевалило за полночь, а Сталин не спал. Вокруг — пустота и тишина. Разве лишь звякнет внезапно телефон, да и то приглушенно, словно бы даже боязливо.
На столе — шесть толстых красных папок. Все они — со срочными материалами.
Война еще длится. Еще притаился, ощерившись, фашистский зверь в железобетонном логове. На что-то надеется. Ведь недаром же бродит по Европе американский разведчик Аллен Даллес. Новый президент торопит генерала Эйзенхауэра, а старый премьер — фельдмаршала Монтгомери: скорее вперед, как можно скорее в Берлин! Чтобы сесть за стол послевоенного совещания с равными козырями в руках.
Это будет самое трудное совещание «великой тройки», более сложное, чем в Тегеране и Ялте. Во-первых, Рузвельта нет. Во-вторых, заметно ослабевает чувство общности, продиктованное войной. Начнутся бои за мирным столом, ожесточенные бои! К ним нужно приготовиться заблаговременно. Нужно взвесить каждое слово, нужно аргументировать каждое требование. Факты и цифры, цифры и факты. Они в этих фактах, подготовленных военными, дипломатами, экономистами, юристами. Все это будет рассмотрено на Политбюро и в Совнаркоме, возвращено на доработку, снова и снова рассмотрено и обсуждено, пока не ляжет на круглый стол конференции.
Трубка в руке угасла и остыла, а он все мерял шагами комнату, до отказа набитую книгами. Но сейчас не до книг. Сейчас главное — вот эти папки с бумагами.
Первая — об Испании. В этом вопросе неизбежна стычка, особенно с Черчиллем. Возможно, это будет и не Черчилль, в Англии вскоре состоятся выборы, но так или иначе борьба вспыхнет непременно. Великобритания, да и Америка будут выгораживать каудильо Франко, он не объявлял им войну. Но разве можно забыть, что генерал Франко незаконно захватил власть, благодаря поддержке Гитлера и Муссолини? Что он, по их образцу, ввел в стране режим фалангистской диктатуры? Что испанская «Голубая дивизия» принимала участие в походе к берегам Волги? И самое главное: существование франкистского режима будет вдохновлять фашистские и полуфашистские силы Европы, Южной Америки, всего мира.
Что предлагает комиссия? Осудить режим каудильо? Мало. Мягко. Беспринципно!
Синим карандашом Сталин перечеркнул вывод комиссии, написал на полях: «Рекомендовать полный разрыв дипломатических отношений с профашистским правительством палача Франко».
Вторая — о немецком флоте. Не сказано, о каком. Уточнил: «О военном и торговом». Почти все немецкие плавающие средства захватила Англия. Добиваться передачи их Советскому Союзу как стороне, понесшей наибольшие потери.
Третья папка — западная граница Польши. Снова будет бой. Восточная граница окончательно утверждена в Ялте — линия Керзона. Предложение относительно западной: от Балтийского моря на юг по Одеру и Нейсе. Не сказано, по какой Нейсе, их существует две: Восточная и Западная. Перед словом «Нейсе» вставил «Западной». Американцам это все равно, но англичане станут на дыбы: речь идет о важном промышленном районе Силезии.
Четвертая — Италия и другие сателлиты. Италия воевала на стороне Гитлера, точно так же, как Румыния, Болгария, Венгрия и Финляндия. Союзники восстановили с Италией дипломатические отношения и открывают перед нею двери в Организацию Объединенных Наций. Необходимо добиться равных прав для Балканских стран, Венгрии и Финляндии.
Пятая — репарация с Германии, Австрии и Италии. Слова «Австрии и Италии» обвел карандашом и поставил знак вопроса. Эту проблему можно выдвинуть, но настаивать не стоит. После аншлюса Австрия перестала существовать как отдельное государство, стала частью рейха, своей армии не имела. Следовательно, воюющей стороной ее не назовешь. Италия натворила немало бед, однако с нее мало что возьмешь. Другое дело — Германия. Тут репарации должны иметь не только экономический, но и воспитательный характер, чтобы никогда и никому не повадно было творить подобные злодеяния.
Шестая папка — Кенигсберг. Присоединение города и области к Советскому Союзу. Тут все аргументировано.
Встал, раскурил трубку, прошелся по комнате. За окнами морозный рассвет, московская весна в этом году задерживалась.
Вот и использовал последнюю ночь передышки. Завтра, послезавтра и в течение последующих ночей и дней времени не будет: потоком будут идти вести с фронтов.
Штурм Берлина начался с наступлением рассвета.
Сообщений еще не могло быть, а все же позвонил в приемную дежурному:
— От маршала Жукова нет ничего?
— Только что звонил.
— Что у него?
— Готовится.
— Только готовится? Соедините меня с ним.
— Слушаюсь, товарищ Сталин.
Тишина. Через три державы, через две тысячи километров проносятся волны высокой частоты, чтобы найти безымянную высотку и на ней наблюдательный пункт глаза и мозг гигантской операции.
Через миг послышался глухой, хорошо знакомый голос:
— Здравствуйте, товарищ Сталин.
— Здравствуйте. Что у вас?
— Все готово.
— То есть как готово? Где вы сейчас?
— В землянке. В последний раз сверяем карты.
— Который же час?
— Половина пятого по-московскому и половина третьего по среднеевропейскому.
— Ах вот оно что! — Сталин впервые за эту ночь улыбнулся. — Заработался я. Утратил ориентиры. Смотрю: белый день…
— А у нас до рассвета еще два с половиной часа. Ровно через двадцать восемь минут начнем.
— Как погода?
— Неплохая. Над приодерской долиной туман. Но наши У-2 неутомимы. Целую ночь сбрасывали на вражеские позиции очень полезный груз. Вскоре заиграет оркестр. Начнем свадьбу.
— Пускай она закончится салютом на Красной площади.
— Так и задумано.
— Желаю вам удачи!
— Спасибо!
Уже звенят трамваи на Манежной, Моховой, на москворецких мостах. Трудовая ночь передает эстафету трудовому дню. Одному из последних дней второй мировой войны.
4
Белые космы тумана были видны и невооруженным глазом, бинокль здесь мало помогал. Весенняя земля парила, звала пахарей, ждала, когда в нее упадут первые зерна.
Березовский опустил бинокль. Он стоял в открытом верхнем люке тридцатьчетверки. Перед глазами комбрига развернулись боевые порядки батальонов Чижова и Барамия. Верхние люки всех танков были открыты, из них выглядывали сосредоточенные лица командиров машин. Вот-вот начнется. Вот-вот.
Иван Гаврилович в последний раз окидывает взором свои подразделения. За ветеранов комбриг спокоен, знает их хорошо, доверяет им полностью. А за новичков побаивается. Главное, чтобы хватило выдержки до последней возможности идти в атаку с открытыми люками. Потому что только так они будут видеть обстановку и действовать в соответствии с нею. Командир, который преждевременно опускается в темноту танка, торопливо захлопывая за собой крышку, сразу слепнет и утрачивает ориентиры. Никакие оптические приборы не могут полностью заменить открытый обзор. Об этом не раз напоминал он вчерашним курсантам на учениях у Одера. Пойдет ли впрок эта наука?
За спиной у комбрига автоматчики, приникшие к броне. Среди них и Сашко Платонов. Неугомонный Чубчик жаждет как можно скорее увидеть Берлин. Вот судьба и свела его со взводом автоматчиков, которыми командует красивый великан Иван Барских. Тот самый тезка комбрига, сибиряк, с которым они повстречались когда-то на КП армии Нечипоренко.
Наконец предрассветную тишину рассекает огненный шквал тысяч «катюш» и орудий. Земля содрогается, стонет. А над нею, над траекториями полета снарядов и мин плывут в высоте звездокрылые птицы беззвучно и грозно. Их звуков не слышно: адский грохот на земле оглушает так, что невозможно собраться с мыслями. Все вокруг гудит, грохочет, содрогается.
Так продолжалось тридцать минут.
Так длилось тридцать минут, и каждому, кто был свидетелем этого фантастического, этого яростного зрелища, могло показаться, что там, по ту сторону узкой полосы ничейной земли, уже ничего больше не осталось, кроме испепеленной полосы, разгромленных металлических и железобетонных перекрытий, изломанной, покрученной, обгоревшей техники, искалеченной природы, убитых людей.
Однако так только кажется. Опытные командиры и бойцы знают: враг упорен и изобретателен. Он глубоко вгрызается в землю, еще много нужно усилий и жертв, чтобы выбить обреченных гитлеровцев из зон обороны, из укрытий.
Туман перемешался с дымом и тяжелыми бурыми полосами ложится на луга и перелески. Где-то высоко в небе еле-еле угадывается рассвет, а над ошеломленной землей еще блуждает перепуганный мрак.
Вдруг его толкают и гонят впереди себя десятки зенитных прожекторов, которые стелются по поверхности земли, выискивая, нащупывая, выслеживая объекты атаки для танков и пехоты. А над всем в небе тысячи разноцветных ракет.
Враг ослеплен. Враг притаился. Враг оцепенел. Но руки вверх не поднимает.
— Впере-ед! — скомандовал по радио полковник Березовский и предусмотрительно предупредил: — Идти с открытыми люками до последней возможности!
Т-34 качнулся, заскрежетал, зацепил траками примороженный грунт, тронулся. Чубчик встал во весь рост, держась за башню. Губы у него шевелились. Березовский скорее догадался, чем услышал: Сашко поет. И понял, что именно он поет. И сам подхватил:
Слушайте, Берлин и Рим, Пушек наших гром. Слушай, мир, пришла пора, Слушай, мы идем!Иван Гаврилович не заметил, что микрофон не выключен, и неожиданная, непредвиденная планом битвы песня понеслась по маленьким движущимся стальным крепостям:
Броня крепка и танки наши быстры, И наши люди мужеством полны. На штурм идут советские танкисты, Своей великой Родины сыны!…Где-то после полудня передовой отряд гвардии капитана Барамия вырвался на ровную и гладкую автомагистраль и остановился, заняв оборону. Нужно перевести дыхание, перевязать и отправить раненых, устранить мелкие повреждения, пополнить боеприпасы, заправить танки горючим.
Тут и догнал комбата комбриг.
Светило ласковое весеннее солнце. От невероятной тишины болели барабанные перепонки. На придорожном плакате черное чудовище с огромным ухом немо восклицало: «Тш-ш!» В последние месяцы в гитлеровском рейхе царила болезненная шпиономания. А возможно, гитлеровская верхушка просто боялась нежелательных разговоров. Миллионы плакатов на всех дорогах, по всем городам и селам угрожающе предостерегали: «Молчи!»
Над дорогой стоял тяжкий смрад. На телеграфных столбах, сколько охватишь взором, качались трупы в болотной зеленой форме. На груди у каждого белела дощечка с черной надписью: «Файглинг» — «Трус». Это были те, кто понимал бессмысленность дальнейшего сопротивления.
— Вот оно как, — указал рукой Барамия.
— Вижу, — ответил комбриг. — Потому-то они так яростно и сопротивляются.
— До Берлина тридцать девять километров, — прочел на указателе Сашко Чубчик. Итак, будет еще тридцать девять боев.
— И сто тридцать девять в самом Берлине, — сердито сплюнул Барамия и произнес непонятные слова.
Сашко поинтересовался:
— На каком это?
— На мингрельском. Если бы не комбриг, я сказал бы тебе и по-русски.
Тем временем автострада оживала. Похоронная команда снимала и закапывала трупы повешенных. Прибыла санитарная летучка за ранеными, потом появились автоцистерны с бензином и дизельным горючим, машины с красными флажками — боеприпасы, интендантские фургоны с горячей пищей. Фронт и тыл подтягивались еще ближе к окончательной цели наступления. Главного наступления Великой Отечественной войны.
От большей части Новой имперской канцелярии остались обгоревшие стены и потрескавшийся мраморный цоколь. Американские «летающие крепости» и советские бомбардировщики изрядно покорежили казенную помпезность гигантского сооружения, которое по указанию фюрера проектировал главный архитектор рейха и рейхсминистр хозяйства Альберт Шпейер.
Словно крысы на тонущем судне, Гитлер и его ближайшие подручные забились в восемь комнаток-нор стального бункера, на глубине пятнадцати метров под землей.
Утром двадцатого апреля Гейнц Линге, личный слуга Гитлера со званием штурмбанфюрера СC, сделал очередную запись в своем дневнике: «Сегодня день рождения фюрера. Ему исполняется пятьдесят шесть. Выглядит очень плохо».
Сообразительный лакей завел себе эту тетрадь, будучи твердо убежденным в том, что каждое записанное в нем слово взойдет когда-то золотыми рейхсмарками и обеспечит ему беззаботную старость. Аккуратно закрыл дневник, положил в маленький ночной столик, запер ящик на ключ. Ждал, когда проснется хозяин.
Еще десять дней назад полтора десятка слуг были отправлены в баварские горы, в Оберзальцберг, куда сегодня должен переехать фюрер. Оттуда он будет руководить боями, которые спасут фатерлянд.
Наконец зазвенел звонок, и Линге бросился очертя голову. Возле спальни фюрера его встретил майор Альберт Борман, адъютант Гитлера, брат Мартина Бормана — казначея и фактического руководителя нацистской партии. Борман-старший и партийная касса находились в другом бункере, тут же, поблизости. Третий и последний бункер принадлежал комендатуре полуразрушенной Новой имперской канцелярии.
— Подожди минутку, — приказал слуге адъютант. — Фюрер чувствует себя плохо.
И бесшумно скрылся в соседней комнате-клетке.
Не через одну, а через целых тринадцать минут — Линге следил по часам для дневника! — из спальни выплыл приземистый доктор Морель с неизменным своим саквояжиком. В нем — Линге знал это доподлинно — шприц и удивительная мешанина лекарств, которыми жуликоватый Морель поддерживал гаснущие силы фюрера.
Гитлер сидел на постели, опустив на пол худые, узловатые ноги. Был он в длинной, до самых пят, ночной сорочке. Лицо пепельно-серое, под глазами тяжелые синие мешки, руки дрожат, особенно левая, контуженная взрывом бомбы заговорщиков.
— Доброе утро, мой фюрер! — поздоровался Гейнц Линге. — Сердечно поздравляю вас с днем рождения. Желаю вам крепкого здоровья и…
— Оставь, Линге, не нужно. Я свое здоровье отдал Германии. И здоровье, и жизнь. Давай одеваться.
Каждодневная процедура одевания была настолько знакома штурмбанфюреру, что он мог выполнять все необходимые движения с закрытыми глазами. Общаясь со своим властелином, Линге никогда не позволял себе излишней фамильярности. Но сегодня, в такой день, отважился на слова успокоения.
— Я хорошо знаю Оберзальцберг. Это поистине очаровательное местечко. Там…
— Никуда я не поеду, Линге. Слышишь, никуда! — И уже не для слуги, а для истории изрек: — Мы не капитулируем никогда!
Гейнц Линге оторопел. Как?! А слуги, поехавшие в Оберзальцберг для подготовки квартиры? Счастливцы! Теперь они, по крайней мере, среди гор, на свободе.
Он машинально подал черные штаны, коричневый китель с черной повязкой, сапоги… Если фюрер передумал, значит, что-то изменилось. Видимо, он будет руководить решающими боями отсюда!
В самом деле, с тех пор, как было решено переезжать на юг, то есть за десять последних дней, изменилось очень многое. Красные перешли в генеральное наступление. Оборонительные зоны немцев не выдерживали удара. Гул канонады доносился до окраин Берлина.
Замыкалось кольцо и с других сторон. В Вене красные, на верховьях Дуная — французы, на Эльбе — американцы, на окраинах Бремена и Гамбурга — англичане.
Оберзальцберг? Бесплодная фантазия, наивная мечта! Свой долг он выполнит до конца здесь, в Берлине.
Завтракал у Евы Браун. Она специально приехала сюда на день его рождения и заняла в бункере отдельную комнату.
Воспаленными от бессонницы глазами смотрел он на свою любовницу, на свою позднюю странную любовь единственного, по-настоящему верного ему человека во всей Германии. Вспомнил шумный Мюнхен, рекламное фотоателье Гофмана и ее — скромную сотрудницу, дочь старомодного учителя ремесленной школы. Их скупая любовь в нанятой квартире, длительные разлуки, ее сомнительное положение в обществе.
Чтобы доставить ему удовольствие, Ева включила «телефункен». Торжественный с артистическим надрывом голос Геббельса, слишком громкий для его мизерной фигуры, поздравлял немцев с днем рождения фюрера, призывал их верить в победу. Гитлер поморщился. Ева нажала на миниатюрный белый клавиш, приемник умолк.
…Через два часа, ослепленный солнцем, Гитлер выполз из укрытия. Еще раз увидел жуткие руины, под которыми теперь постоянно жил и дышал. Во дворе и в саду валялись обломки стен, мраморных плит, бронзовых канделябров. Деревья протягивали к нему изуродованные ветви и изломанные стволы: некоторые из них, вырванные с корнем, лежали, как мертвые солдаты на поле боя. «Проклятье! Ничтожный, жалкий немецкий народ, оказавшийся недостойным своего великого вождя!..»
Лицо его подергивалось, рот конвульсивно хватал пьянящий воздух, руки и плечи судорожно дрожали. А ему нужно было сделать еще один жест для истории: в изуродованном саду разрушенной канцелярии он, великий фюрер тысячелетнего рейха, должен был сегодня, в честь своей годовщины, принять делегацию гитлерюгенда.
Делегацию — два десятка мальчишек школьного возраста, наспех одетых в военную форму, — привел руководитель гитлеровской молодежи Берлина Артур Аксман. На трагикомической церемонии присутствовали Гиммлер, Геринг и Геббельс.
Перед Гитлером теснилась шеренга бледнолицых подростков с набожными и перепуганными глазами. Не было у них ни солдатской выправки, ни арийской осанки, ни тевтонского запала. А он пошлет их на смерть. В решающий бой. Прямо отсюда — к черту в зубы!
И не пожалел. Не испытывал ни малейшего сожаления или колебания. Если произойдет чудо, то немецкая нация достойна своего фюрера. Если нет, то немецкий народ слишком слаб, чтобы выдержать это историческое испытание, и единственное, чего он достоин — уничтожения!
Так фюрер думал.
А говорил обыкновенные, банальные слова о чести и долге солдата. Сначала бормотал глухо, неубедительно. Но постепенно разгорался. И вот уже его резкий, хриплый голос рычал в пустыне развалин так, словно он выступал перед гигантской, многомиллионной армией. Той самой армией, которую толкнул в могилу под Брестом, Смоленском, Одессой, Киевом, Севастополем, Москвой, Ленинградом, Сталинградом, Новороссийском, Орлом, Курском, которую потопил в Дону, Днепре, Висле, Дунае, Одере…
— Мои солдаты! Воины великой Германии! — обращался он к кучке затравленных подростков. — Слава немецкого оружия еще будет греметь в победных битвах…
«Так и есть, — мысленно распекал себя разъяренный от злости Гиммлер, — профессор де Крини говорил правду: болезнь Паркинсона в ее классическом проявлении. Это болезненное, маниакальное состояние длилось годами. Я знал об этом. Еще было время, была возможность. Мы имели друзей по ту сторону фронта от Аллена Даллеса до папы Пия. Какого черта я колебался! Верность? Вряд ли. Чувство долга? Глупость! Страх? Видимо, прежде всего. Особенно после неудачного покушения в Растенбурге. А теперь поздно. Поздно, поздно, поздно…»
«Я ни в чем не могу себя упрекать, — размышлял Геринг. — Я издавна предчувствовал, что этот разъяренный сифилитик до добра нас не доведет. Но игра есть игра. Разве я ничего не выиграл? Из прозябающего летчика я превратился в сказочного богача. Передо мной склонялись короли и президенты. В мою постель охотно ложились самые привередливые красавицы мира. Я охотился на оленей в парках собственного имения. А теперь сам стану объектом охоты. Таковы законы борьбы…»
«Чудо будет, непременно будет, — упрямо убеждал себя Геббельс. — Гороскоп обмануть не может. Смерть Рузвельта — лучшее доказательство этому. На севере группу морских и сухопутных войск возглавит гросс-адмирал Дениц, объединившись с группой Штейнера, на юге еще прочно держится Кессельринг. С Эльбы в район Берлина подойдет девятая армия и вместе с двенадцатой нанесет удар по южному участку русских. Мы выстоим, пока появится новое секретное оружие. Немецкий дух не сломить никому!» Веря и не веря собственным мыслям, он оцепеневшими пальцами нащупывал в нагрудном кармане металлические капсулы, в которых притаились шесть смертельных доз цианистого калия: для жены и пятерых дочерей. Для себя — пуля…
И только наспех одетые в военную форму мальчишки не думали ни о чем. Совершенно ни о чем. Они пожирали глазами божественное видение. Думать их отучили с первых шагов жизни.
Двадцатого апреля советская дальнобойная артиллерия открыла огонь по Берлину. Две величайшие армии мира, которые до сих пор сражались на тысячекилометровых пространствах, сосредоточились на небольшой площади, вокруг одного города. Возможности маневра для танковых частей уменьшались с каждым километром.
Бригада Березовского наступала в направлении Цоссена, в подземелье которого размещался штаб сухопутных войск рейха. По данным разведки, штаб во главе с генералом Йодлем спешно эвакуировался в Потсдам, поближе к штаб-квартире фельдмаршала Вильгельма Кейтеля, руководившего боями на Западном фронте.
Вокруг Цоссена мощные укрепления, и его решили обойти слева, через Луккенвальде. Батальоны Чижова и Барамия пробились сквозь противотанковые рвы и подвижные огневые заслоны, прикрывавшие подходы к небольшой речке. Комбригу показалось странным, что гитлеровцы словно бы охотно впустили наши тридцатьчетверки на прибрежный покосный луг. Взглянул на карту, которую держал перед собой, и понял маневр врага. Это была ненадежная, болотистая местность, естественная западня. Сверху заманчиво зеленели луговые травы, на бугорках уже зацвела желтоватыми звездочками заячья капуста, а ближе к берегу, сквозь сухую прошлогоднюю ботву пробивались свежие ростки травы. Но внизу, под всем этим, таилось болото. При помощи оптики хорошо было видно как всю эту поляну, так и замаскированные вражеские батареи на той стороне небольшой речушки, которая неподалеку отсюда впадала в систему озер, а из них вытекала дальше в Хафель и Эльбу. С тяжелыми боями, прорвав укрепления Шпрембергской возвышенности и с ходу форсировав Шпрее, бригада вползала в губительные трясины многочисленных болот и озер, которые гигантской подковой охватили город с юга — от Штраусберга до Бранденбурга.
Передние машины выскочили было на поляну и сразу же дали задний ход. Танк Барамия выдвинулся вперед и начал медленно пробираться по болотцу, выискивая пригодную дорогу. За ним пошли другие. Комбриг еще раз окинул взором карту. На ней были обозначены инженерные укрепления и огневая система противника. Именно в этом месте извилистая речушка делала наибольший изгиб, и заманчивый луг вытянулся впечатляющей дугой. Комбриг приказал:
— «Сорок шестой» и «пятьдесят девятый», стоп! Не вытягивайтесь в одну линию! Вас перебьют перекрестным огнем. Наступайте широким фронтом. Огонь, огонь по противоположному берегу!
Комбаты начали перегруппировывать роты. Но фашисты воспользовались этой минутной ошибкой. Вспышка за вспышкой — и уже усиливается огонь с обоих флангов.
Снаряды месят луг, попадают в тридцатьчетверки, искры и пламя сверкают и сразу же гаснут. У тридцатьчетверок крепкий панцирь, от большинства попаданий остаются лишь вмятины. Потом, когда закончится бой, они будут подсчитаны, сколько у кого — десять, двенадцать или больше. А сейчас бой в разгаре, и среди девяти снарядов может найти тебя тот единственный, последний…
Спасибо неугомонному, энергичному Журбе. Он своевременно подоспел со своими самоходками и обрушил прицельный огонь на головы фашистов.
Но танк Барамия загорелся.
Первым на помощь ему бросился Голубец. Когда Березовский прибыл к месту происшествия, Голубец и его товарищи уже погасили пожар. Им помогло то, что поблизости были небольшие озера.
В танке заклинило башню, пришлось вытаскивать экипаж через передний люк. Первым из него вывалился механик-водитель в тлеющем комбинезоне. Он был оглушен и произносил всего лишь одно слово: «Братишки… Братишки…» С этим словом упал на землю. Повторял его, катаясь по мокрой траве. Водителя оставили, он вскоре придет в себя. Другие хлопцы тоже отделались легкой контузией или царапинами. В самом тяжелом состоянии был комбат: ранение в области печени.
Голубец наложил Барамия повязку. Она сразу же пропиталась кровью. Раненый лежал на левом боку, на броне танка комбрига — его собственная тридцатьчетверка, облитая водой, окуталась даром, дышала еще не остывшим огнем. С каждой минутой комбату 3 становилось все хуже и хуже. Березовский, вызвав по радио Соханя, попросил его раздобыть санитарный самолет и прислать за раненым. Для посадки указал отлогую высоту, которую только что оседлал Полундин.
Собравшись с силами, Барамия заговорил:
— Плохо мне, понимаешь? Плохо. Отнесите меня на гору. На высокую гору. Откуда виден Берлин.
Всем стало горько. Они находились в болотистой долине, Берлин был совсем близко, но его еще никто не видел. Все они надеялись увидеть его завтра или послезавтра, у комбата такой надежды уже не было.
Комбриг взял раненого за руку, нашел пульс.
— Держись, Давид. Сейчас прибудет самолет. А Берлин от тебя не удерет.
Березовский приказал своему механику-водителю Нестеровскому осторожно вести танк на высотку, куда должен был приземлиться самолет.
Березовский остался на броне возле комбата с ординарцем Платоновым и стрелком-радистом Кардиналом. Танк медленно двигался по озимым хлебам. Грунт был мягкий, однако каждый толчок причинял муки раненому.
Танк забирался все выше в гору. В солнечном небе грохотали Пе-2, шли бомбить Берлин. Чубчик вынул носовой платок и, смочив его водой из фляги, приложил комбату к губам. Барамия молчал.
Остановились у автострады. С каждой минутой здесь все усиливалось, все нарастало движение. Бронетранспортеры с саперами спешили на помощь танкистам, впереди множество рек и озер, труднопроходимая местность, минные поля. Туда же командование перебрасывало понтонные части. Мчались санитарные машины и мотоциклы офицеров связи. Грохотали резервные танковые роты, подразделения мотопехоты, цистерны с горючим. Привычные фронтовые будни.
— Вот и хорошо, Давид. Сейчас прибудет самолет… — Березовского беспокоило упорное молчание комбата. — Давид! — Барамия не отвечал.
Сашко Чубчик потрогал платочек. Он был мокрый и холодный.
Комбриг склонил голову.
— Не дождался, бедняга, ни Берлина, ни самолета…
Он хотел снова вызвать начальника штаба, чтобы тот не беспокоился, самолет уже не нужен, как вдруг Чубчик, забравшийся на башню, крикнул:
— Товарищ комбриг, смотрите!
— Самолет?
— Берлин!
Это было невероятно. В бинокле вырисовывались какие-то фантастические стены, крыши, башни, а над всем этим — столбы огня и дыма.
Смотрели долго, до боли в глазах. Верилось и не верилось, что это Берлин, что вскоре всему конец. Однако нужно рыть могилу. Еще одну могилу на пути великою похода…
Тем временем Кардинал, не расстававшийся с карандашом и альбомом, уже рисовал. За рекой гремел бой, по автостраде мчались машины, а молодой художник был занят своим: он создавал картину «Танкист на смертном одре…»
«Когда закончится война, — думал он, — я буду рисовать тишину. Осточертел мне этот вечный грохот и шум. А тишину можно нарисовать! Неподвижные тополя среди безбрежных полей, цветущий сад, встреча восхода солнца ошеломленным малышом…»
Танкисты быстро вырыли яму. За годы войны каждый из них, — роя щели, траншеи, могилы, — перекопал немало… Комбриг вынул из кармана погибшего партбилет, медальон с домашним адресом и фотографию тонкобровой девушки.
Когда тело Барамия снимали с брони, низко над автострадой показался небольшой моноплан. Это был не санитарный С-5, а обыкновенный «кукурузник» У-2, а на нем летчица и пассажир в танкистском шлеме. Самолет приземлился на озимом поле, в пассажире все сразу же узнали прославленного комбата Бакулина. Он шел навстречу им осунувшийся и словно бы помолодевший, лицо его было испещрено багровыми полосками шрамов, руки еще забинтованы.
Летчица Инна Потурмак доложила комбригу, что санитарная авиация вся в разгоне, поэтому ей приказано было прибыть в его распоряжение. По дороге из штаба армии напросился этот бесплатный пассажир.
Березовский, ни о чем не спрашивая, обнял Бакулина.
— Ну, как вы тут? — опомнившись от первого возбуждения, спросил прибывший.
— Да вот, воюем, — ответил нисколько не удивленный его появлением комбриг.
— Как мои ребята?
— Не подкачали.
— Кто над ними?
— Полундин.
— Ясно.
Комбриг не стал хвалить Полундина, в глазах Бакулина и без того сверкнул ревнивый огонек. Без лишних слов, по-деловому предложил:
— Принимай батальон Барамия. А там видно будет.
— Служу Советскому Союзу!
Посмотрел на желтое, искаженное смертью лицо боевого друга.
— Прости, Давид. Война…
Инна Потурмак подала комбригу пакет:
— Из штаба армии.
Березовский разорвал конверт, пробежал глазами документ, передал Бакулину. Выдержка из Указа: гвардии капитану Барамия присвоено звание Героя.
— Вот что, — сказал Иван Гаврилович летчице. — Не будем мы его закапывать вот так, наспех. Вези в штаб армии. Пускай похоронят как надлежит — со всеми воинскими почестями. И… — минутку подумав, добавил: — Покажи ему Берлин. С высоты.
Березовский говорил о мертвом, как о живом. Вспомнил в этот миг. Мефодиева, Коваленко, других своих побратимов…
Когда Барамия посадили в самолет и крепко привязали к сиденью, летчица, прежде чем запустить пропеллер, подозвала Сашко Чубчика и что-то зашептала ему. Потом сунула в руку солдатское письмо-треугольник. Комбат уловил конец ее фразы: «Только передай, непременно передай, лично!» И только после этого побежала выполнять необычный приказ командира бригады.
Березовский вопросительно взглянул на ординарца.
— Капитану Осика, — сказал Чубчик.
Жизнь и смерть шли рядом.
Тельтов-канал.
О нем столько передумано, переговорено за эти продымленные дни и ночи! Вот он — перед глазами. И восторг, и разочарование. Ничего особенного: обыкновеннейший грязноватый канал. Закованный в бетон, он волнистой линией окаймляет южную границу Большого Берлина между железнодорожными магистралями на Магдебург и Лейпциг.
Местечко Тельтов сейчас представляло собой сплошную пустыню раздробленных камней, битого кирпича, смятой арматуры, обгоревших «тигров», «пантер», «фердинандов», «блиц-опелей». Кладбище человеческого труда и надежд, изрытое траншеями, издолбленное воронками… Хорошо поработали в эти дни наша дальнобойная артиллерия, бомбардировщики, штурмовики, «катюши».
Но в этом мертвом хаосе все еще теплится жизнь. Теплится лишь для того, чтобы убивать или быть самому убитым.
Гвардии майор Бакулин вывел третий батальон на дамбу, по которой через канал автострада вела в берлинские районы Лихтерфельде, Шенеберг и в центр города. Комбат уже собирался выкрикнуть: «Вперед! Дае-ешь Берлин!», но заметил посредине дамбы глубокую воронку от фугаски, которую танкам не преодолеть. Понял, что представляет собой прекрасную мишень для «кобр», притаившихся на противоположной стороне. Скомандовал задний ход, но батальон сгрудился на узеньком пятачке перед дамбой, возможность маневра равнялась, что называется, пулю. Танк Голубца подошел последним. Лейтенант сообразил, что тут будет много мороки, пока танкисты очистят дамбу, а саперы под огнем противника залатают воронку. Единственный выход искать брод.
Неподалеку отсюда увидел подходящее место с покатым берегом. Дал команду задраиться, захлопнул крышку люка и велел механику-водителю осторожно спускать машину вниз. Заторможенные гусеницы, размалывая бетон, с пронзительным скрежетом медленно и грузно спускались к воде. А Бакулин тем временем взял максимальный разгон и чудом перескочил через воронку — его танк на берлинском берегу оказался первым.
Форсировав Тельтов-канал, они пересекли официальную границу имперской столицы. Комбриг поздравил экипажи по радио. Вдруг танк сильно тряхнуло. Попадание снаряда. Их нащупала «кобра». Будто нарочно, чтобы предостеречь от преждевременного торжества.
— Осколочным! — приказал Березовский. — Прямой наводкой!
Комбриг поднял люк башни. Увидел перекошенную вражескую пушку, возле которой суетились те, кто уцелел. Замахнулся и изо всей силы швырнул гранату. Взрыв, фонтан земли и дыма, кто-то упал, кто-то побежал.
Танк мчался по берлинскому предместью. Охваченный азартом, не думая об опасности, комбриг выбрался на броню, чтобы бить, бить, бить фашистскую нечисть фугасками, лимонками, автоматными очередями.
Когда кончилось горючее и танк замер в каком-то искалеченном сквере, все вокруг горело. И комбинезон на Березовском тоже. Чубчик со словами: «Сейчас, сейчас, товарищ комбриг!» мокрым ватником начал сбивать с него пламя. В скверике был кран для поливки клумб. Электростанция и водопровод в Берлине все еще работали. Танкисты набрали в шлемы воды, обливались ею, с жадностью пили.
Прямо из огня появились два виллиса. Подрулив к скверику, из них вышли в плащ-палатках Маршал Советского Союза, командующий армией и член Военного совета с адъютантами Борисенко и Рогулей. Видно, не только комбрига охватил яростный азарт…
— Кто это здесь носится в аду? — знакомым хриплым голосом спросил маршал. Он положил руку на плечо комбрига, посмотрел на его обгоревший и мокрый комбинезон, весело засмеялся: — Как же вы в таком виде пожалуете к Гитлеру в гости?
Березовский смутился, почесал облупившийся на весенних ветрах нос и тоже пошутил:
— Думаю, что у него вид теперь куда похуже!
— Однако, — торопился маршал, — отдыхать еще не время. — Обратился к танкистам: — Поздравляю с первыми шагами на берлинской земле! — Приветливо махнул рукой, освобождая от необходимости отвечать по уставу, обнял комбрига: — А вас, товарищ Березовский, поздравляю с орденом Богдана Хмельницкого. Как вы думаете, товарищ командарм?
— Так, товарищ маршал, — ответил Нечипоренко. — Кто-кто, а он, — командарм сделал ударение на местоимении, — полностью заслужил. — И к Березовскому: — Поздравляю вас, Иван Гаврилович. Только не думайте, что война закончилась. Впереди, — генерал-лейтенант показал на лабиринт пылающих зданий, — еще много работы…
— А после Германии — Япония, — добавил Маланин. — На наш век этого добра хватит.
Пожали ему руку и скрылись в пожаре.
5
Галя Мартынова с нетерпением схватила письмо, адрес был написан рукой Бакулина. Огромный холл почтамта каруселью завертелся вокруг нее. Петр писал с КП армии. Жив, здоров, возвращается в бригаду. Беспокоится о ней, любит ее!
Хотелось танцевать, смеяться, кричать от счастья. Скорее бы на воздух, на простор! Увидеть Валю, Тамару Денисовну, рассказать им или прочесть вместе с ними эти драгоценные строчки.
Но до конца смены оставалось еще полтора часа. Нужно приглушить свои чувства, свою радость, разделяя радость и горе других. Телеграммы плыли нескончаемым потоком.
Вдруг поток прекратился. Прокатился торопливый гомон, послышались выкрики удивления, очереди людей покачнулись, зашевелились и — растаяли. Воздушная тревога? Почему? Каким образом?
Закрыв окошко, Галя надела шинель и выбежала на улицу Горького. Широкая улица до отказа заполнена людьми. Сверху, со стороны площади Московского Совета, мужчины и женщины, многие с детьми на руках или на плечах, двигались вниз к Манежной и Охотному ряду, что-то выкрикивая и показывая в сторону Красной площади. Галина тоже взглянула туда.
На Кремлевских башнях ярко пылали рубиновые звезды. Почти полторы тысячи дней и ночей прятались они от вражеского глаза под маскировочными чехлами и только теперь засияли вновь. Сначала Галя увидела одну звезду, потом другую, а когда неудержимый людской поток понес ее с собой мимо театрального подъезда, мимо гостиниц «Националь» и «Москва», перед глазами девушки предстало непередаваемое зрелище.
Об этом событии уже узнала вся огромная столица. Толпа вокруг Кремля с каждой минутой разрасталась. Загремели оркестры, зазвучали песни. Люди поздравляли друг друга.
6
Березовский по радио разыскивал Майстренко. «Поэт своего дела» застрял со всем хозяйством где-то в районе Тельтов-канала. Бригада после боев в Лихтерфельде очищала Штеглиц, приближаясь к центру. Враг яростно цеплялся за каждую улицу, переулок, здание.
Перед глазами комбрига возникали эпизоды этого многодневного изнурительного боя. Танкистам и автоматчикам то и дело преграждали путь движущиеся и врытые в землю «тигры», «пантеры», «фердинанды», хитро замаскированные «кобры», пулеметные гнезда, снайперы, охотившиеся с каждого балкона и окна. Но более всего досаждали фаустпатроны.
Так и не разыскав в этом вавилонском столпотворении своего заместителя по тылу, комбриг связался с начштаба Соханем.
— Как дела у Бакулина?
— В батальоне большие потери.
— Когда вступит в бой Полундин?
— Когда понадобится.
— Даю два часа. Где Майстренко?
Ищи иголку в стоге сена.
— Если найдете, поторопите. И Никольского тоже.
— Инженер-майор на железной дороге.
— Что он там делает? Нам нужно обезвредить фаустников. Беда мне с помощниками: один поэт, другой бабник. Не иначе, нашел уже где-нибудь берлинку…
— Он в этих делах мастак! А что там у вас, трудно? — перешел на серьезный тон Сохань.
— Трудно, очень трудно. Тяжелые потери изо дня в день. А сегодня — особенно.
…Т-34 с проломленным бортом. Сквозь пробоину видны искореженные внутренности машины, раненый механик-водитель Потеха и убитый командир взвода Голубец. Молодой коммунист обезвредил двух «фердинандов», которые перекрывали важный перекресток. Но внезапно вырвался третий и вплотную выстрелил в борт.
Эвакуировать мертвых не было возможности. Похоронная команда собирала их, вносила в списки и хоронила в скверах и на площадях. Для братских могил использовали воронки от бомб и снарядов.
А бригада шла вперед, с каждым шагом приближая конец фашистской армии, гибель тех, кто развязал войну.
Наконец комбриг смог выбраться из своей машины. Бой на короткое время затихал, у экипажей заканчивались боеприпасы. Березовский закашлялся от гари и дыма. Видимость никудышная, невозможно понять — день или ночь? А сверху немилосердно печет весеннее солнце. Когда глаза немного освоились, увидел поодаль, за углом здания, группу штабных офицеров. Среди них — о диво дивное! — Семен Семенович Майстренко. Не дожидаясь напоминаний, «поэт» окружным путем провез через пылающие кварталы горючее, боеприпасы, термосы с горячей пищей.
— Семен Семенович, на крыльях?
— Зачем крылья? Ползете ведь как черепахи.
— Ползем… — Березовский смотрел вперед: кварталы, кварталы, кварталы, кварталы. Дома высокие, капитальные. Сколько их еще будет: двести, пятьсот, тысяча?.. — Тут не проедешь пятьдесят километров в сутки…
— Эх, делали и по семьдесят.
— Было. А вот сейчас не так: дают нам прикурить, негодяи, издыхая.
— Отступать-то им некуда.
— Ну да.
Только что затих бой. Танкисты Бакулина и Чижова, автоматчики Осадчего, артиллеристы Журбы очищали соседний квартал, а из подземелий уже выползали похожие на привидения жители. С волчьей жадностью смотрели на бойцов, которые торопливо завтракали.
Комбриг приказал передать берлинцам два бидона с едой и пять буханок хлеба. Разгоряченные боем, подавленные утратой друзей, разъяренные бессмысленным сопротивлением фашистов и к тому же и сами проголодавшиеся, танкисты безмолвно выполнили приказ. Лишь Майстренко недовольно ворчал. Но и он смягчился, увидев, как изнуренные, еле живые женщины хватают еду не для себя, а для детей.
Вместе с Майстренко на передовую прибыли Терпугов и Аглая Дмитриевна. Начмед уже успела оборудовать в одном из подвалов передвижной пункт, где работали без отдыха хирурги.
Из окутанного дымом переулка появился капитан Осика. Без шинели он казался еще более худым и высоким. Доложил комбригу, что в очищаемом квартале обнаружен немецкий военный госпиталь — около двухсот солдат и офицеров, раненных в последних боях. Часть из них в тяжелом состоянии.
«Ну и леший с ними!» — хотел было сказать Иван Гаврилович, но в разговор вмешался Терпугов. Страдая от одышки, Алексей Игнатьевич уже не глотал, а жевал таблетки, чтобы ускорить действие препарата на организм. Однако это не мешало ему энергично настаивать на том, чтобы раненым была оказана немедленная помощь.
— А если среди них окажется убийца моего мужа? — сердито спросила Барвинская.
Ответ был коротким и решительным;
— Даже тогда.
Аглая Дмитриевна подчинилась. Березовский на этот раз промолчал.
Вскоре бой вспыхнул с новой силой. Бакулин докладывал, что впереди зеленый массив — парк или сквер. Подступы к нему заминированы. Просил саперов. У Чижова фаустпатроном подожжен еще один танк. А Никольский как сквозь землю провалился.
Сашко Чубчик сообщил, что связисты уже подтянули линию. Где установить аппарат? Помог майор Тищенко. Разведчики очистили от мин подвал в разрушенном доме. Здание принадлежало филиалу Дрезденского банка, в подвале множество сейфов с деньгами и ценными бумагами.
Через несколько минут там расположился КП бригады. Запертые сейфы стояли вдоль стен. Вскоре их откроют работники особого отдела, сейчас не до этого. Нить связи протянулась отсюда до КП армии. Позвонил начальник штаба армии Корчебоков: почему продвигаются так медленно? Пришлось объяснять, что такое уличный бой, когда танки не имеют простора для маневрирования и на каждом шагу натыкаются на западню. Объяснение лишнее, генерал-лейтенант Корчебоков и сам понимал это, но, как и полковник Березовский, он знал: на войне не существует объективных причин и никакие оправдания не принимаются во внимание.
Вбежал старший лейтенант Горошко с текстом очередного выпуска боевого листка. Выпуск посвящен воспитаннику Ленинского комсомола, кандидату партии Ярославу Голубцу, павшему смертью храбрых. Полковник Терпугов утвердил текст и приказал комсоргу оформить материал на присвоение Голубцу звания Героя Советского Союза посмертно.
Комбриг связался с Бакулиным. У того уже работали саперы, разминирование шло нормально. В этот же миг Березовский увидел Никольского.
В тусклых сумерках подвала среди страшного беспорядка инженер-майор как всегда выглядел эффектно и самоуверенно. Красные от переутомления глаза сверкали возбужденно и радостно. Иван Гаврилович набросился на него с упреками. Никольский вежливо выслушал их, не оправдываясь, спокойно сказал:
— Раздобыл, товарищ комбриг.
— Что вы раздобыли? Манну небесную? Фрицы жгут нас фаустпатронами, а вы…
— А я искал. Понимаете, теоретически это очень просто. Средство от фаустпатронов существует. Стальные щиты, служащие дополнительным панцирем. Но где достать стальные листы, когда ни один завод не работает? А я, представьте себе, раздобыл. На станции Осдорф в эшелоне.
Комбриг оторопел. Вот тебе и Никольский!
— Как же их перевезти?
— Уже перевез.
Радость и благодарность звучали в голосе комбрига.
— Айда к ребятам!
Но не так легко вырваться с командного пункта. Вошел Тищенко со странным юношей и еще более странной девушкой.
— Ко мне?
— К вам, товарищ комбриг.
Березовский недовольно поморщился, кивнул Никольскому:
— Немедленно свяжитесь с комбатами.
Только теперь Березовский заметил, что инженер-майор был не один: у входа в подвал его ожидали два техника-лейтенанта. Комбриг узнал их, это были два Юрия, вместе с которыми они недавно измеряли уровень воды в Одере. На улице стояли нагруженные стальными щитами «студебеккеры» Никольского. Мимо них с поднятыми вверх руками понуро брели обезоруженные фрицы, выкуренные из нор соседнего квартала.
Тищенко тем временем что-то объяснял Терпугову, показывая на задержанных девушку и парня. Начполитотдела приказал Горошко, выходившему следом за Никольским:
— Переводчицу!
— Слушаюсь, товарищ замполит!
Юноша прилично одет — в черном, почти незагрязненном костюме. Высокий, светловолосый, чуточку похожий на Настиного мужа — чужеземца Граафланда. Девушка — типичная азиатка, со смуглым лицом, черными, диковатыми глазами, в аккуратном белом платье, тоже непривычно чистом для этого дыма, копоти, пыли.
Юноша что-то горячо доказывал по-немецки с мягким провинциальным произношением. Указывая на себя, он вместо «их» говорил «иш», а слово «медхен» произносил, как «медшен». Девушка молчала.
— Кто они? Где вы их задержали? — спросил комбриг у майора.
Тищенко ответил, что они сами натолкнулись на разведчиков, разыскивая советских офицеров. Если посмотреть на их аккуратную одежду, можно подумать, что эта пара свалилась с неба.
Вошла Катерина Прокопчук. За эти несколько недель девушка совсем освоилась, тревога из ее глаз исчезла, движения стали более уверенными, а выражение лица — более спокойным. Ей очень шли хромовые сапожки, зеленая суконная юбка, гимнастерка и пилотка цвета хаки. В особенности пилотка. Она придавала ласковой и рассудительной девушке задиристо-лихой вид.
Катерина не все поняла из непривычного говора юноши, но ей помогла его спутница, говорившая по-немецки выразительнее своего друга. Наконец Катерина смогла изложить суть дела.
— Его зовут Адам Фихтель, он эльзасский немец, в Берлин прибыл нынешней зимой по заданию подпольной антифашистской организации «Красная капелла». Центр организации — за границей, в Париже, разведгруппы действовали в Брюсселе и Берлине. Фихтелю нужно было найти надежное укрытие, и он устроился шофером в посольство Сиама. Возил дочь посла Вантанг — так зовут девушку — на уроки музыки. Они полюбили друг друга, и он постепенно доверился ей. В усадьбе посольства расположено небольшое святилище, где в дни религиозных праздников молились Будде посол и его семья. Оттуда Адам Фихтель вел радиопередачи. Там они были и прошлой ночью, когда на сиамское посольство упала бомба, стерев его с лица земли. Родители Вантанг и все сотрудники погибли. Святилище уцелело.
— Я ведь говорю: с неба упали, — пошутил Тищенко.
— Постойте, постойте. — прервал Терпугов. — Какое святилище? Какие передачи?
Катерина передала вопрос юноше и тотчас же перевела его ответ:
— Передачи «Красной капеллы», адресованные антифашистскому центру. У них была агентурная сеть, ведшая наблюдения за передвижением гитлеровских войск, движением на железных дорогах, изучала настроения солдат, офицеров, населения. Члены организации проникли в отделы генерального штаба, органы гестапо, добывали секретнейшие сведения.
Юноша патетически воскликнул:
— Мы не покорились. Антифашисты Германии боролись. Нас поддерживали друзья во всей Европе. Много наших товарищей погибло в застенках гестапо на Принц-Альбертштрассе…
Присутствующие слушали эту историю, не веря ни единому слову. Сказка, легенда, фантазия. Только Катерина не сомневалась:
— Я слыхала о «Красной капелле».
Не призналась, от кого именно слыхала. Не хотела вспоминать Альфреда Шаубе. Пускай уйдет в небытие все, что связано с этим человеком. Катерина искренне сочувствовала Вантанг, нежной и мужественной девушке с далекого континента. «И тебя задела грозовая туча…»
— Отправьте в штаб армии, — приказал комбриг. — У нас достаточно хлопот и без них. — Посмотрел на часы: «Уже должен бы появиться Полундин».
Вдруг снова заговорил юноша:
— Неподалеку отсюда есть еще один радиопередатчик. Там мой друг. Мы работали с ним в паре.
— Идите и не морочьте нам головы, — отмахнулся Иван Гаврилович.
Но юноша не унимался:
— Он еще, наверное, живой. Он расскажет вам больше, чем я. Это Курт, рыжеволосый Курт. Я покажу, где он. Его непременно нужно спасти. Пошли!..
— Куда?
— На Бисмаркплац.
Комбриг развернул карту.
— Бисмаркплац еще не очищен.
— Да. Там эсэсовцы. Они его схватят. Нужно несколько солдат. Всего лишь несколько ваших солдат. И Курт расскажет все!
Ситуация осложнялась: а что, если правда? Этот уверенный тон, ссылка на Центр, подтверждение Катерины… Да и разведданные якобы поступали из Берлина.
Юноша умолял:
— Вы не верите, я вижу, тогда спросите Центр.
Инициативу взял в свои руки Терпугов.
— Верим или не верим, а проверить обязаны. Либо он сумасшедший, либо…
— Он не сумасшедший, — сказала Катерина. — «Красная капелла» существовала.
А юноша продолжал?
— Я пойду с вами. Если погибнем, то вместе. Я проведу вас под землей. А Вантанг… она останется здесь как заложница. Не теряйте же времени!
Он чуть не плакал.
Комбрига искусила не столько возможность разыскать еще одного члена какой-то мифической организации, сколько перспектива подземного сообщения с Бисмаркплац, куда пробивались Бакулин и Чижов. Поэтому он коротко приказал Тищенко?
— Действуйте!
Через несколько минут был сформирован отряд под командованием капитана Осики. В отряд вошли сержант Григорий Непейвода, рядовой Леонид Лихобаб и остатки взвода автоматчиков во главе с Иваном Барских. Дорогу указывал немец-антифашист Адам Фихтель.
Тищенко направился в санчасть, его трясла лихорадка, он боялся, что может упасть и не подняться. Вантанг сидела на железном банковском ящике, склонив голову. По нежным рукам ее, которыми она закрывала глаза, текли слезы. Положение у нее было незавидное: родители погибли, возлюбленный ушел, быть может тоже навстречу своей смерти, она осталась совсем одна среди чужих и совершенно непонятных люди. Легонькое белоснежное платьице — все ее имущество.
Катерина успокаивала сиамку. Было что-то трогательное в этих двух девушках, которых немилосердная судьба так неожиданно сблизила. Немного успокоившись, Вантанг попросила на память красную звезду. Катерина сняла с пилотки и приколола к белому платью, напротив сердца.
Внезапно несколько снарядов, один за другим, взорвалось на улице. Артиллерийская вилка? Вбежал Сашко Чубчик и доложил:
— Два «тигра» и «фердинанд»!
— Откуда они взялись?
— Из переулка.
Карта подсказала: окруженная и изрядно потрепанная в районе Шенеберга бронетанковая группировка немцев, очевидно, рвется на запад, чтобы соединиться со своими силами у Потсдама. А там — либо вместе драться за Берлин, либо сдаться американцам. Где же это замешкался Полундин?
Позвонил Сохань: Полундин вовремя отправился на помощь Бакулину и Чижову, но по дороге вынужден был принять бой с фашистскими войсками, которые прорываются из Франкфурта-на-Одере к Эльбе.
Березовский схватил автомат, гранаты. Терпугов тоже потянулся к гранате.
— Нет, нет, вы оставайтесь на КП. Могут позвонить из армии. Я сейчас вернусь, только выясню обстановку.
Терпугов закашлялся, разгрыз пилюлю и с грустью сказал:
— Обижаете старика.
Комбриг пошутил:
— Да и девушки тут одни.
Катерина поднялась.
— Вантанг останется здесь, а я пойду с вами.
На улице снова взорвалось несколько снарядов.
Обстановка была не из радостных. Два «тигра» и «Фердинанд» против его тридцатьчетверки, на которой маневрировал Нестеровский. Из башни вел наблюдение Кардинал, давая указания механику-водителю. Под укрытие стен бежали захваченные врасплох Тищенко и Майстренко. Березовский крикнул Чубчику:
— Назад, за гранатами. Мигом!
Платонов бросился выполнять приказ, нырнув в сумерки банковского подвала, а Катерина Прокопчук очутилась возле комбрига. Майстренко и Тищенко уже не бежали, а ползли, попав в полосу огня.
Возвратился Сашко с несколькими Фау-1. Будет и для Тищенко с Майстренко, которые вооружены лишь пистолетами ТТ. Смешная девчонка эта Катерина. Упорно следует за Березовским, не желая уступить Чубчику его законное место.
— Так не годится, — сказал комбриг. — Возвращайтесь, Катя, в подвал, ситуация здесь опасная. А ты, Сашко, занимай позицию вон за тем перевернутым ежом.
Оба вроде бы послушались. Подползли Тищенко и Майстренко. Комбриг поставил перед ними задачу, а сам залег за ворохом битого кирпича. Через миг возле него снова появилась Катерина. Однако на этот раз он не прикрикнул на нее, не прогнал — не было времени. Из переулка высунулся длинный ствол 125-миллиметровой пушки. «Тигр» шел прямо на тридцатьчетверку, которая, отбиваясь от другого T-VI и «фердинанда», была беззащитной перед ним. Преимущество Ивана Гавриловича заключалось в том, что экипаж «тигра» не видел его и не знал об опасности. Выждав, когда танк выполз из переулка, комбриг привстал на коленях, размахнулся и швырнул гранату. Когда дым и пыль рассеялись, подбитый танк яростно скрежетал гусеницами на месте. Но вдруг он начал разворачивать башню в сторону вороха битого кирпича, за которым притаились комбриг и упрямая девушка.
Гигантский ствол орудия уставился на них. Березовского это не пугало: они находились в безопасной зоне, под таким углом орудие не попадет в цель, снаряд пролетит значительно дальше. Зато сейчас заговорит пулемет. Разрывными. Наверное, меняют кассету.
Комбриг взглянул в глаза Катерины. Девушка не раз нежно посматривала на него, еще с момента первой встречи в Обервальде. С момента того первого и единственного поцелуя. Теперь, в ожидании смерти, она сказала взглядом то, чего не отважилась бы сказать словами. Березовскому стало и радостно, и страшно.
Башня танка повернулась еще на несколько градусов. Их брали на прицел точно, уверенно.
Глаза Катерины смотрели на него с любовью, печалью и жутким спокойствием. Еще миг… секунда… Нет! Иван Гаврилович заметил в руке Катерины гранату. Мощную фугаску, о которой девушка, вероятно, забыла. Выхватил спасительное оружие, спустил с предохранителя и размахнулся. Два взрыва одновременно сотрясли пятидесятитонное тело T-VI. Вторую гранату метнул Платонов. «Тигр» вспыхнул. Комбриг, зажав автомат, пристально следил: не выскочит ли кто-нибудь из пылающего танка. Не выскочил никто.
Кардинал бронебойным снарядом подбил «фердинанда», расчет самоходки бросился наутек: один, два, трое. Бежали вслепую, прямо на Тищенко и Майстренко. У тех не было автоматов, бросать гранаты бессмысленно, слишком короткое расстояние. Старый разведчик встал во весь рост с пистолетом в руках: «Руки вверх!» Ему очень хотелось взять «языка», чтобы до конца выяснить намерения окруженной группы. Один фашист поднял руки, другой побежал в противоположную сторону. А третий скосил майора Тищенко из парабеллума, хотя и сам пал от пули Майстренко. Комбриг очередью из ППД догнал убегавшего.
Теперь против тридцатьчетверки стоял только второй T-VI. Кардинал развернул башню и выстрелил. Перелет. Но в этот миг открылся башенный люк «тигра», чья-то рука подняла вверх белую нательную сорочку.
Рыжеволосый Курт трахнул передатчиком о ствол толстой акации. Вот и все. Последнее сообщение, только что переданное им в Центр, было лаконичным: «Гитлер покончил самоубийством. Главой государства назначен гросс-адмирал Дениц, рейхсканцлером — Геббельс».
Точка. Если эсэсовцы и схватят его, при нем не найдут ничего компрометирующего. Документы в порядке. Слесарь-водопроводчик. Как настоящий немец, он до конца выполнял приказ рейхскомиссара обороны Берлина, исправляя повреждения водопровода.
Курт поднял разбитый радиопередатчик: лучше бросить его в воронку. Правда, оттуда доносится невыносимый смрад. Защитники Бисмаркплаца сбрасывали трупы в ямы, не имея времени закапывать их. Зато там никто не будет искать следов его нелегальной деятельности.
Курт в последний раз взглянул на семиэтажное здание, в котором провел много тревожных и бессонных ночей. У него здесь было вполне респектабельное жилье, а передачи он осуществлял из разных мест. Дьявольски неспокойная работа! Хорошо, что он действительно был квалифицированным слесарем и устроился на очень удобную службу: всегда его вызывали срочно, всегда он куда-то торопился, бежал со своим чемоданчиком с инструментом.
Ближе к воронке смрад усиливался, и Курта затошнило. Он вспомнил, что давно, очень давно ничего не ел. Смрад вызвал судорожные спазмы в желудке. Леший с нею, с этой воронкой, лучше уж бежать куда глаза глядят. Курт швырнул передатчик в густой куст жасмина, который вот-вот должен был расцвести. Курт решил пробежать мимо отвратительной ямы, закрыв нос. Но навстречу ему поднялось вдруг какое-то чудовище. Курт оцепенел: галлюцинация? Мертвец, который ожил? Кажется, так. Идет на него, сверкая одним глазом. Вместо второго кровоточит рана. Безвольно свисает искалеченная правая рука. Что ж, по крайней мере, не будет стрелять.
Форма на нем в кровавых пятнах. На петлице двумя зигзагами буквы СС. Раненый эсэсовец (или привидение с того света) схватился левой рукой за тонкий пенек срубленного осколком деревца. Вместе с обрубком он очумело покачивался на худых ногах, обутых в ботинки с крагами.
Чтобы выбраться из забаррикадированного двора, вокруг которого еще шел бой, нужно было двигаться только вперед: в углу, возле гидрокрана, есть канализационный люк, ведущий в подземелье. Курт заставил себя двигаться. Ведь этот полутруп не сможет остановить его. Однако эсэсовец остановил громким и властным «Стой!» Курт был просто поражен — откуда в этом искромсанном теле такой громкий голос?
Уставившись на Курта единственным глазом, эсэсовец резко спросил:
— Который час?
От неожиданности Курт растерялся. Он не знал, который час. Он забыл, какой сегодня день. И даже какой месяц: еще апрель или уже май? Курт сказал то, что заполонило его мысли, вертелось на языке:
— Гитлера нет! Гитлер мертв!
— Что?! — дико взревело чудовище.
Курт повторил с наслаждением:
— Мертв! Мертв! Мертв!
— Врешь, собака! — взревел полутруп. — Скажи мне, который час, я жду сигнала атаки. Мы спасем фюрера. Мы… — обернувшись к клоаке, от смрада которой Курт задыхался, он рявкнул: — За мной!
Оттолкнувшись от пенька и утратив равновесие, упал навзничь, назад в яму.
Командный пункт отдельной танковой бригады снова разместился в подвале, но уже в нескольких километрах от филиала Дрезденского банка. Это была глубокая сырая пивная, где не только давно опустошенные и заплесневевшие бочки, но и закопченный бетонный свод и влажные каменные стены насквозь пропахли крепким баварским хмелем.
Бои шли в центре Берлина. Обстановка усложнялась с каждой минутой. В очищенные кварталы снова врывались гитлеровцы, отсиживавшиеся в многочисленных казематах и бомбоубежищах, имевших между собою подземные сообщения. Оказавшись в тылу советских войск, они били им в спину.
Распространился слух о смерти Гитлера, из уст в уста передавались подробности этого события, хотя никто не знал толком — истинные они, эти подробности, или выдуманные. Известно было, что застрелился Геббельс, отравив перед этим жену и пятерых дочерей. Куда девались Гиммлер, Геринг, Розенберг, Риббентроп и другие, никто не знал.
Сашко Чубчик охрип, вызывая по телефону Майстренко. Интендант молчал. Бригаду мучили голод и жажда. Комбриг послал ординарца на поиски «поэта». Уже ночь, а вокруг светло как днем от пожаров. Терпугов дремал, положив круглую, как мяч, голову на руки. Осика с помощью Катерины заканчивал предварительный допрос Курта Леебе, Адама Фихтеля и Вантанг Мани.
Странный человек эта Катерина! Прижалась к нему тогда, перед нацеленным стволом вражеского танка, обожгла душу и снова застеснялась, отдалилась. Глаза светятся, щеки осунулись, наверное, голодна. Самого Березовского тоже мучил голод. Неожиданная стычка с «тиграми» и «фердинандом», во время которой погиб Тищенко, затяжной бой на Бисмаркплац, новые и новые группы изможденных берлинцев, особенно детей, с которыми делились последним, исчерпали даже личные запасы предусмотрительного Чубчика.
Но вероятно, Катерине тяжело было не только от голода и жажды. К этому ей не привыкать. Скорее всего теперь, в преддверии конца войны, девушка с новой силой почувствовала тяжесть и горечь искалеченной юности…
Немцы-антифашисты и сиамка подписали протокол допроса. Осика повел их, чтобы отправить машиной на Гринштрассе, где размещалась оперативная группа командарма. Катерина Прокопчук прощалась с Вантанг Мани как с близкой подругой. Теперь комбриг и Катерина остались вдвоем, если не считать Алексея Игнатьевича, спавшего неподалеку от них.
— Товарищ комбриг…
Лукаво улыбаясь, девушка протягивает кусок шоколада. Малюсенький кусочек.
— Это вам.
— А тебе?
— У меня есть.
И показывает еще один, точно такой же.
Березовский берет не только потому, что голоден: своим отказом он обидел бы ее. Никогда не любил шоколад, но сейчас это была вкуснейшая еда в его жизни.
— Катерина…
— Что, Иван Гаврилович?
И тут неожиданно ввалился Майстренко. Березовский взглянул на него, и злость исчезла. Семен Семенович держал в руке ветку дымчато-голубой, как рассвет, как мечта, как весеннее небо, сирени.
— Товарищ комбриг, поздравляю!
— С чем?
— С весною.
Ивану Гавриловичу и приятно, и чуточку неловко. Сам не знает почему. Наверное, потому, что давно уже отвык от нежностей. Они остались там, в далеком мире юности. На смену им пришли оперативные карты, гранаты Фау-1 и четвертый десяток беспокойных и отнюдь не лирических лет.
Катерина берет у Майстренко сирень и прикасается к ней губами. Просит интенданта:
— Подайте, пожалуйста, гильзу.
Подполковник наклоняется, поднимает стреляную латунную гильзу, их тут валяется немало — для свечей, пепельниц. Воды нет, водопровод разрушен, но все равно. Девушка, обрезав концы веточек, вставляет цветы в пустую гильзу.
Наконец еще одно чудодейственное явление: Платонов-Чубчик с мешком, наполненным продуктами. А за ним — Никольский, Осика, Горошко.
Осажденные, загнанные в норы, обреченные на гибель гитлеровские вояки получили двадцатиминутную передышку. Гвардейская бригада подкреплялась перед последним штурмом. Подчиненные Майстренко передали старшинам рот термосы и ящики с продовольствием.
Сашко распаковал вещмешок, выложил на стол хлеб, колбасу, консервы, сахар. Майстренко сиял с пояса обшитую сукном алюминиевую флягу, подал комбригу:
— Разделите по-отечески.
Иван Гаврилович отвернул крышечку, понюхал и закрыл от удовольствия глаза.
— Что это за нектар?
— Французский мартель. С голубой ленточкой.
— Где же ленточка?
— Стеклянную тару при себе не носим. По соображениям безопасности.
Березовский еще раз нюхнул флягу и причмокнул.
— Это тебе, Сашко, не ректификат, настоенный на бензине.
— Тогда были другие времена, товарищ комбриг, — оправдывался ординарец.
Комбриг разлил коньяк в серебряные рюмочки, которые где-то подобрал Чубчик.
— За будущее! За мир!
Катерина тоже выпила, взглянув на комбрига с вызовом и доверием.
— Каким же оно будет, грядущее? — задал вопрос самому себе и другим Семен Семенович.
Задумались. Жевали черствый ржаной хлеб и твердую, пропахшую старым салом и интендантскими складами колбасу. Думали каждый о своем.
Сквозь овальные, закованные в железо окна в отблесках пожаров видны отдельные фрагменты уличной жизни: проезжают грузовики с боеприпасами, устало шагают резервные подразделения пехоты, подтягивается корпусная артиллерия на могучих и громыхающих тракторах. Неподвижно стоят тридцатьчетверки Полундина. Приняв с ходу бой с гитлеровской бронечастью, рвавшейся к Эльбе, батальон только сейчас прибыл к пункту назначения. Устроив привал, танкисты грелись на солнце, дремали в тени, играли на аккордеонах и губных гармошках.
В пивную не проникал с улицы ни грохот тягачей, ни звук аккордеонов. Все уличные эпизоды выглядели отсюда, будто кадры немого кино.
После рюмки и еды наступила усталость, клонило ко сну. И тут Сашко, словно бы уловив общее настроение, запел не своего бодрого «чубчика», а новую грустную:
Горит свечи огарочек, Гремит недальний бой, Налей, дружок, по чарочке, По нашей фронтовой…В такие минуты не существовала суровой военной субординации. Старая пивная, которая слышала лишь сальные остроты пьяных бошей, бравурные песенки кайзеровской солдатни, хвастливые выкрики нацистских молодчиков, наверное, впервые в жизни слушала задушевные слова мужественной грусти сурового, в те дни понятного осуждения:
Давно мы дома не были, Сражались на войне. В Германии, в Германии, — В проклятой стороне.Зазвонил телефон. Платонов, оборвав песню, схватил трубку, откликнулся и шепотом сообщил:
— Будет говорить «Шестой».
— Командарм, — вырвалось у комбрига, хотя присутствующие и так знали условный номер командующего армией.
Офицеры сразу же подтянулись, прогоняя усталость и сонливость. Внимательно слушали, но по отрывистым ответам комбрига трудно было что-нибудь понять. Закончив разговор, Березовский объяснил суть дела так же лаконично, как отвечал «Шестому».
— Приказано к десяти ноль-ноль штурмом овладеть центральной казармой войск СС берлинского гарнизона. В казарме окопались головорезы, прикрывающие выход в район Бранденбургских ворот и рейхстага.
Лирическое настроение испарилось. Все понимали важность и трудность задачи. Быть может, и последней на этой войне.
— Полундина ко мне, — приказал комбриг ординарцу.
Через минуту комбат 1 получал по карте задание: пока другие подразделения будут штурмовать казарму, обойти ее по коридору, проложенному сквозь стены соседних зданий.
— Вот так, — ноготь рассек квартал пополам.
Тут же, по телефону, комбриг отдал приказ саперному взводу запастись толом и идти на операцию вместе с батальоном Полундина.
— Я тоже иду с вами, — сказал Полундину Иван Гаврилович.
По берлинским улицам мчатся тридцатьчетверки Полундина. Впереди с гвардейским знаменем — флагманский танк комбрига. Знамя держит, стоя на броне, старший лейтенант Горошко. Комбриг Березовский из открытого люка башни осматривает пылающие руины.
За танками — бронетранспортеры саперов и штабной виллис с замполитом Терпуговым и переводчицей Прокопчук. Осика устроился на броне Т-34 комбата Полундина. Никольский на бронетранспортере с саперами, Майстренко оставлен на КП для связи с Гринштрассе и тылами.
Передний край утопает в дыму и пыли. Повсюду пылало, тлело, дымилось, выедало глаза, но даже ближайший тыл не сравнишь с передовой. Там хоть как-нибудь можно дышать. Тут горит и дымит все, даже железо и камни.
Кто-то подрывал многоэтажное здание, кто-то подкапывался под другое, чтобы пробраться туда; кто-то гранатой выбивал дверь, а кто-то прыгал в окно. Но в этой безумной феерии взрывов, орудийных выстрелов, залпов «катюш», вое мин и трескотне пулеметов — всюду, всюду, всюду личная инициатива офицеров и бойцов согласовывалась с единым замыслом и планами командования.
Когда в этот спланированный хаос прибыли свежие силы, чтобы занять свое место и выполнить задание, от действующих батальонов Чижова, Бакулина, Осадчего мало что осталось.
Петр Бакулин свирепствовал:
— Гады! Воевать по-человечески не умеют. Залезли в щели и швыряют фаустами. Разве это война?
Он почернел с ног до головы: сапоги, комбинезон, бинты на руках, лицо, шлем — все в копоти, в саже, в пыли. Бакулин сердился, но и радовался одновременно: пришла подмога.
Уже давно рассвело, хотя смену ночи и дня в этом мраке трудно было определить. До окончания срока, отведенного на выполнение задачи, осталось около трех часов. Эсэсовцы превратили свою центральную казарму в настоящую крепость. Все подступы к ней простреливались из огневых точек, расположенных в подвалах, на балконах, в дверях и окнах, на чердаке и на крыше. С обоих боков плотно прижались жилые кварталы, узкие улицы между ними и казармой забаррикадированы и заминированы. Взять казарму можно только обходным маневром, как и предусмотрел комбриг. Он повторил Полундину свое прежнее приказание:
— Пробить коридор через здание.
— Невозможно, товарищ комбриг, — возразил Полундин, — через дома невозможно.
— Почему? — спросил Березовский.
— Посмотрите.
Иван Гаврилович взглянул на здание и все понял: в окнах мелькали тени перепуганных людей.
— Кто эти люди? Откуда они здесь?
Осика уже собрал информацию.
— Это жильцы, товарищ комбриг. Им запрещено выселяться отсюда.
— Кто запретил?
— Комендант казармы.
— Живой заслон?
— Да.
— Сволочи! — ругался Бакулин.
За короткий миг нужно переосмыслить обстановку, окончательно решить, что делать. Взрывать дома с женщинами и детьми? Нет, отпадает. Эвакуировать мирное население… Куда? Под огонь эсэсовских пулеметов? Те не помилуют, будут стрелять. Да и времени нет. Посоветовавшись с Терпуговым, Никольским и комбатами, комбриг решился на единственно возможное: при помощи бога войны таранить казарму в лоб.
Командир артиллерии Журба за эти дни казался совсем миниатюрным, будто высох, стал ниже ростом. Однако энергии в нем не уменьшилось. Задачу понял: бить прямой наводкой главным образом болванками. Сделать пролом. Завершат дело танкисты и автоматчики.
Внешне ничто не изменилось. Ни грохот не усилился, ни дыму и копоти не стало больше. Артподготовка, штурм, прорыв, бой… К этому привыкли, это была работа. Тяжелая, кровавая работа. Прошло два, три, четыре часа. В полдень начало затихать. На месте казармы возвышался гигантский обгоревший скелет. Ни один эсэсовец не сдался.
С нашей стороны в бою пали:
девять танкистов;
тридцать автоматчиков;
гвардии старший лейтенант Горошко;
гвардии майор Бакулин.
Петр Бакулин не особенно надеялся, что в этой войне он выживет. Предчувствие, фатализм, малодушие? Нет, все что угодно, только не последнее! Скорее всего — простой расчет: со смертью невозможно играть без конца.
Все в его действиях было закономерным. Не закрыл люк, ибо в этом мраке через смотровые щели и оптику не увидел бы ничего. А он вел бой и отвечал за батальон. Снаряд разорвался на броне, танк лишь встряхнуло, он шел дальше, но комбат больше не подавал команды. Красная струйка на виске. Осколочек весом в несколько граммов. Меньше револьверной пули…
Яков Горошко, наоборот, надеялся выжить. Конечно, погибали и инструкторы политотделов, работники политуправлений, но за день-два до финала?.. Он уже планировал свою послевоенную жизнь. Но вот нужно было брать штурмом наиболее укрепленный сектор казармы. Эсэсовцы вели такой плотный огонь, что автоматчики не выдержали, залегли. Старший лейтенант держал в руках Знамя бригады. Ни секунды не колеблясь, он понес его вперед, повел бойцов за собой. Упал, скошенный автоматной очередью. Знамя из его рук подхватил командир отделения автоматчиков Иван Барских.
Были раненые. Много раненых. Их нужно было выносить из боя, спасать. Это делали батальонные фельдшеры, ротные санитары, медсестры, к которым добровольно присоединилась Катерина. На санитарном пункте, разместившемся в одном из жилых домов, хозяйничала Аглая Дмитриевна Барвинская и ее небольшой штат. Сначала несмело, а потом все активнее ей помогали жители домов, среди которых оказался и профессор медицины с мировым именем.
Катерина падала от изнеможения. Долго подавляла в себе и усталость, и слабость, но больше уже не было сил на это. Вышла на улицу, вдохнула едкий запах гари, и ей стало совсем плохо. Схватилась обеими руками за иссеченную пулями водосточную трубу, прижалась щекой к жесткому, ржавому железу. Но не удержалась. Сползла вниз на каменный выступ под стеной. Не могла толком сообразить, что с ней происходит: слепнет, глохнет или засыпает.
Вдруг услышала песню. Услышала, или это только померещилось? Мыслями девушка перенеслась в зеленое село над Росью, в мглистый летний вечер, когда песня, словно бы сама по себе, возникает из тихой рощи, зеленых лугов, белого облачка, подсвеченного заходящим солнцем.
По той бік гора, По сей бік гора, Поміж тими крутими горами Сходила зоря-я…Теплый сочный бас красиво начинал эту песню, — видно, жила она в его сердце с давних пор, с материнской колыбели.
Ой то не зоря — Дівчина моя 3 новенькими та відерцями По воду пішла-а…Нет, это не грезы. Громкий бас заводит, а к нему неумело, искажая слова, присоединяется тенорок.
Дівчино моя, Напій хоч коня З рубленоі нової криниці, Срібного відра-а…Басок четко и ясно произносит «відра», а тенорок явно выводит «ведра», однако это не портит впечатления. Песня плывет протяжно и искренне, кажется, даже заглушает грохот затихающего боя, торжествует над пожарами и смертью.
Последним усилием воли Катерина превозмогает усталость и сон. Видит двух певцов, идущих в обнимку, — обожженные, задымленные, в пыли. Это — Григорий Непейвода и Леонид Лихобаб. То ли хлопцы хлебнули трофейного шнапса, то ли опьянели от счастья: сколько тропинок исходили они в разведку, сколько минных полей миновали, сколько колючих заграждений перерезали, «языков» взяли, тысячи раз залегали под пулеметным огнем, спасались от снайперских пуль и вот — живы и здоровы, дошли до Берлина!
Всех очаровал их не очень стройный, однако трогательный дуэт. Их песня придавала бодрости и уверенности. А Катерину это задело за живое, наверное, больше всех.
Подвиг и смерть Яши Горошко потрясли девушку. Невольно она упрекала себя за невнимание к юноше, за то, что его беззаботность и неопытность воспринимала как легкомыслие. Да, внешне он казался балагуром, а на самом деле под юношеской бравадой крылось нечто большее, значительно большее, чего она не сумела разгадать.
Руки Катерины, забрызганные кровью, гимнастерка в шершавых темных пятнах. Вверху над нею, на крыше противоположного дома под серым, мутным небом, наспех оборудуют наблюдательный пункт комбрига. Там со стереотрубой в руках Иван Гаврилович, рядом с ним полковник Терпугов с биноклем и неотступный Сашко Чубчик с бригадным Знаменем.
Березовский стоит у самой кромки крыши, над пропастью, прекрасная мишень для снайперов и пулеметчиков. Катерина знает, что он пренебрегает опасностью, как это всегда делал Петр Бакулин, как это в решительную минуту сделал Яков Горошко. Ей становится страшно. Этой утраты она не переживет.
Катерина вспомнила свою печальную одиссею, свою девичью Голгофу, упала на камни и зарыдала.
Знамя бригады развевалось на сильном ветру. Сейчас рядовой Александр Платонов понесет его дальше, бой не закончился, он лишь перебросился в следующий квартал. Здесь, на плоской крыше двенадцатиэтажного дома, где в мирное время был лечебный солярий, идеальное место для наблюдательного пункта. Юркие связисты уже протянули сюда нитку, и запыленный бородач привычно проверяет линию: «„Волга“, я — „Волга“, слышишь меня?» Вот так, через битвы, пожары, зарева, кровь, сотни рек и тысячи километров пришла Волга в гости к Шпрее.
И в стереотрубу, и в цейсовский бинокль хорошо видна извилистая, закованная в гранит, немецкая река, забаррикадированный мост Мольтке, возле которого идет ожесточенный бой. Далее видны срубленные фашистами аллеи Тиргартена, серая, облупленная громада рейхстага, черный и мрачный на фоне багрового неба контур Бранденбургских ворот.
Сколько охватывает глаз — взрывы, вспышки, тучи дыма, бой, бой, бой…
— Когда же все это закончится? — скорее к себе, чем к Терпугову, обращается Иван Гаврилович. — Завтра или послезавтра?
— В начале войны мы считали время годами. Потом месяцами. Теперь считаем днями, а возможно и часами…
— Да. Однако тем временем погибают такие, как Голубец, Барамия, Тищенко, Горошко, Бакулин…
— Жестокость была и есть оружием фашизма. Однако победило наше оружие.
Берлин содрогался от взрывов, глухо стонал, корчился и хрипел, схваченный за горло рукой справедливого возмездия.
— Всей бригадой, — сказал Терпугов, — нужно усыновить ребенка Бакулина и Мартыновой. Собрать средства и назначить опекунский комитет.
— Сделаем это в первый день мира.
Заканчивался тысяча четыреста двенадцатый день Великой Отечественной войны…
Послесловие
Когда я возвращался по Унтер-ден-Линден, над городом залегла ночь. На гостинице «Беролина», зданиях Александерплац вспыхивали неоновые лозунги «Фройндшафт унд Фриден!» — «Дружба и мир!». За черным массивом Тиргартена устремлялись в небо огненные вулканы торговых реклам.
У стен университета уже почти стихло. Западноберлинские студенты торопились на пограничную станцию метро «Фридрихштрассе». Они везли с собой незаконченные разговоры, неисчерпанные темы, прочные убеждения, болезненные сомнения, симпатии и антипатии. Фройндшафт унд Фриден — дружба и мир!..
В глубокой задумчивости шел я от распроклятого бункера в советское посольство. В ночном воздухе были покой и тишина.
Со двора посольства на большой скорости промчалась знакомая «Чайка». И вдруг мне показалось, что за ветровым стеклом тускло сверкнул генеральский погон. Но я не успел как следует рассмотреть: шофер, не убавляя скорости, резко срезал угол поворота. Через мгновение сигнальные огоньки машины исчезли в районе Бранденбургских ворот.
— Что случилось? — спросил я у дежурного по посольству.
Он взволнованно ответил:
— Неофашисты напали на гарнизон в Тиргартене. Тяжело ранен наш боец.
— Кто? — вырвалось у меня с тревогой, потому что перед глазами возникла фигура юного Бакулина.
— Фамилии еще не знаю.
В конце концов не имеет значения — кто именно. Петр Бакулин-младший или кто-нибудь из его боевых побратимов только что упал, сраженный вражеской пулей…
Нервно пульсировали часы. Сотрудник посольства то и дело посматривал на телефон, ожидая новых сообщений.
— Провокация… Наглая провокация…
«Выстрел из прошлого», — подумал я.
Перед моими глазами ярко мерцал праздничный Александерплац с гигантскими лозунгами, призывающими к миру и дружбе. Они — из сегодняшнего — светили в будущее.
Район боев — Берлин — Киев
1945–1970
Примечания
1
«Волчье логово» («Вольфсшанце») — ставка Гитлера под Растенбургом в Восточной Пруссии, в глубине лиственного леса.
(обратно)
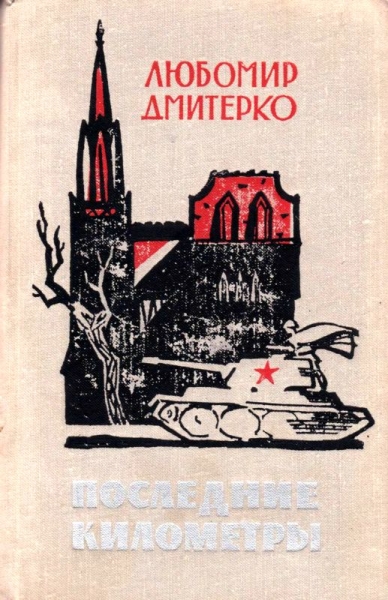



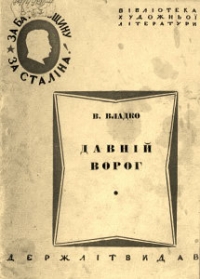

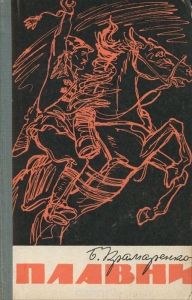



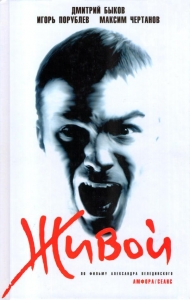
Комментарии к книге «Последние километры», Любомир Дмитриевич Дмитерко
Всего 0 комментариев