Борис Николаевич Полевой
ДОКТОР ВЕРА
Ощущение времени
Писательское имя Бориса Полевого прочно связано с «Повестью о настоящем человеке», с книгой, которая на долгие годы приковала к себе внимание читателей не только в нашей стране, но и далеко за ее пределами. Позже Полевой писал новые книги, романы и очерки, и они тоже не обойдены вниманием читателей и критики, но именно в «Повести о настоящем человеке» писателю удалось столь счастливо уловить токи времени, тему и общественную потребность в ней и раскрыть эту тему с такой гражданской страстью, создать таких живых и обаятельных героев, что это произведение и до сих пор завоевывает все новые и новые поколения читателей.
«Повесть о настоящем человеке» стала мандатом Бориса Полевого, удостоверяющим личность писателя-гражданина. Предъявив читателям такой мандат, писатель взял на себя огромную ответственность. Его имя стало известным, от него ждали новых книг и читали их с требовательным вниманием.
Борис Полевой не обманул этих ожиданий. На протяжении двух десятилетий мы встречаем имя писателя на газетных полосах и на страницах журналов, за это время появились книги очерков и рассказов, романы «Золото», «Глубокий тыл», «На диком бреге». Как и «Повесть о настоящем человеке», эти произведения имеют документальную основу, они свидетельствуют о неиссякаемом интересе писателя к жизни, к ее наиболее характерным фактам и событиям.
Многолетний журналистский опыт и запас впечатлений давно уже позволяют Борису Полевому надолго засесть за письменный стол, однако он не изменяет своей профессии журналиста, которая и сделала его писателем. Поездки по стране, на стройки чередуются с поездками за рубеж, а потом работа над очередным романом или очерком... Корреспондентское удостоверение «Правды» Б. Полевого никогда не лежит в бездействии.
И вот перед читателем новая книга: повесть «Доктор Вера». Не глядя на титул, по первой же страничке вы узнаете ее автора. Да, это Борис Полевой, знакомый читателю, верный себе, потому что вновь построил здание повести на основе жизненного сюжета (об этом он сам рассказывает в авторском вступлении), и в то же время, новый, избравший для своего произведения особую форму «ненаписанных писем», что придало повести доверительную, задушевную интонацию.
Повесть «Доктор Вера» возвращает нас к событиям первого года войны, которые главным образом происходят в оккупированном гитлеровскими войсками городе Верхневолжске. И хотя в основе ее лежат конкретные события и прообразом героини является живой реальный человек, человек необыкновенной судьбы, повесть Полевого отнюдь не «жизнеописание». Это художественное произведение. И это тоже «повесть о настоящем человеке», о настоящих советских патриотах, которые в невероятных условиях гитлеровской оккупации выполняли свой гражданский и человеческий долг, шли на великий риск ради спасения жизни раненых и больных.
Молодая женщина-врач Вера Николаевна Трешникова, судьба которой драматически осложнена тем, что ее муж, честный большевик-ленинец, партийный работник, был в свое время оклеветан и репрессирован,- возглавляет маленький коллектив медицинских работников как бы легального, а фактически подпольного госпиталя, где вместе с больными и ранеными жителями Верхневолжска находились солдаты и офицеры Советской Армии. Душою и политическим организатором этого госпиталя становится тяжело контуженный полковник Сухохлебов, старый коммунист, во многом напоминающий комиссара Воробьева из «Повести о настоящем человеке». Но несмотря на всю их духовную близость, этих людей не спутаешь. У каждого из них свой характер, свое лицо, свой облик.
На страницах нового произведения развертываются события острые, полные драматизма и напряжения, возникает галерея запоминающихся характеров, таких, как старая фабричная работница Мария Григорьевна, ставшая медицинской сестрой, суровый и непокладистый «лекарь» Иван Аристархович Наседкин, старый рабочий-подпольщик Петр Павлович Никитин, отчаянный, забубенная головушка, Володя Мудрик и его преданная подруга Антонина, шутливо прозванная мужским именем Антон.
Обаятельны и достоверны дети «Доктора Веры» - Домка и Сталька, которым выпало на долю мужать в этих нечеловечески трудных условиях. Но по каким-то характерным проявлениям их детской психологии читатель видит, что из этого нового поколения вырастут честные и отважные люди, настоящие патриоты.
Не менее зримо рисует автор рядом с ними и гитлеровских оккупантов, и тех, кто продал Родину за чечевичную похлебку, и просто слабых душою.
Борису Полевому хорошо удалось передать атмосферу оккупации, атмосферу героики будней войны на невидимом фронте. Читая повесть, мы еще раз убеждаемся, что тема минувшей войны отнюдь не исчерпала себя в литературе, что и сейчас, спустя более двух десятилетий, она звучит для нас современно и волнует не меньше, чем в произведениях, созданных по свежим следам войны.
Ощущение времени и духовных запросов общества не изменило Борису Полевому.
А. МИХАЙЛОВ
Несколько слов до…
Однажды на исходе зимы с группой друзей возвращался я из путешествия по Америке. В Париже мы пересели на советский лайнер. Как только он, набрав высоту, пробил облака, вырвался на насыщенный солнцем простор и лег на курс, я сразу почувствовал себя дома.
Черт знает, так уж должно быть, мы все устроены, что, очутившись за рубежом, как бы хорошо нас там ни принимали, какие бы диковинки нам ни показывали, мы вскоре начинаем скучать по родине, по самому советскому воздуху, по нашему особому, интересному и нелегкому бытию. И хотя позади были десятки тысяч миль Соединенных Штатов, невиданные нами до тех пор города, любопытные знакомства, беседы, споры с умными людьми иного, не нашего мира, все мы, сразу забыв об этом, жадно накинулись на душистый черный хлеб из бортового пайка и на наши газеты: мы их не видели, как нам казалось, давным-давно.
Газеты посвящены Дню Советской Армии. Со страниц смотрят люди в военной форме - солдаты, офицеры, генералы, маршалы. Читаю статьи, очерки, а внизу, под белой шкурой облаков, прошитой косыми солнечными лучами, плывет Европа - самый тесный, возделанный и обжитой кусок земли, который люди, смотрящие сегодня со страниц, спасали и спасли от величайшей из бед, когда-либо угрожавших человечеству.
Перебирая газеты, я добрался до «Медицинского работника». И тут как-то сразу бросилось в глаза: «Гор. Калинин...» Мой родной город] Что же там произошло? Заглавие статьи: «Родина помнит». Подпись :«Подполковник медицинской службы Н. Вишневский». Начал читать - ив ушах вдруг зазвучали полузабытые голоса моей юности. Рассказывалось о женщине-враче, знакомом мне человеке. С мужем ее я дружил в молодые годы. Да и самое ее знал когда-то тоненькой курносой девушкой с большими серыми глазами. И судьба этой женщины, трудная, даже на определенном этапе трагическая, была мне известна.
Ничего нового, в сущности, я в статье не нашел. Обо всем, что в ней писалось, земляки уже рассказывали. Но одно дело узнавать пусть и самые необыкновенные вещи на родине, в неторопливой беседе за стаканом чая и совсем другое - когда эта история врывается в самолет, несущий тебя над чужими странами. И по-новому зазвучала одиссея женщины-солдата, совершившей в войну такое, что теперь, из мирного сегодня, кажется почти невероятным.
Тогда, в самолете, я дал слово описать эту историю. Теперь она перед вами. Но должен предупредить вас, читатель,- повесть «Доктор Вера», хотя а выросла из жизненного материала, не биографический очерк, не хроника совершившегося. Я прошу мою землячку, если ей в руки попадет эта книга, не прикладывать к ней точную мерку своей хорошей жизни и не судить меня строго за то, что я по-своему рассказываю о событиях, которые она пережила.
Вот что я почел долгом сообщить вам, читатель, до того как вы откроете эту книгу.
Часть первая
1
...Ты знаешь, Семен, все эти последние ночи меня мучает странный, навязчивый сон. Стоит прилечь, закрыть глаза, как я тотчас же ясно вижу какой-нибудь уголок Верхневолжска... Красное кирпичное здание моей школы, по-осеннему голые тополя школьного сада и острые ажурные шпили моста, выглядывающие из-за них... Высокая набережная над Волгой, старинные чугунные решетки и почему-то обязательно скамья, на которой мы с тобой однажды встретили поднявшееся солнце. Помнишь, когда усатый милиционер, которому ты дал закурить, сказал, подмигнув: не знаю, мол, что уж и пожелать вам, молодые люди, спокойной ночи или доброго утра. Или видится земляной вал над речкой Тьмою, где мы с тобой ночью слушали сумасшедшего соловья, неведомо как и зачем залетевшего в самый город. Но чаще и явственнее всего я вижу нашу Восьмиугольную площадь - зеленые шары подстриженных лип и памятник Ленину, возле которого мы с Домной всегда ожидали, когда наш папка появится из своего горкома, чтобы по пути домой прогуляться с нами по набережной.
Словом, вижу, Семен, нечто очень знакомое, и над этим уголком города в небе стаей, почти теснясь, плывут бескрылые машины, похожие на огромных толстых гусениц. Делают круги, снижаются. И вот уже от этих гусениц отделяются и летят, будто семена, сорванные с одуванчика ветром, серые и тоже бесформенные существа.
Ниже, ниже... Вот они уже приземлились... Нет, это не гитлеровские парашютисты. Это вообще и не люди, а что-то неведомое и по-непонятному страшное. Может быть, жители другой планеты? Я почему-то не могу их как следует рассмотреть, но чувствую - надвигается неотвратимое. Меня охватывает ужас: скорее к детям! Дети одни! Бежать, бежать к ним!.. А ноги точно бы влипли в землю, не оторвешь, не пошевелишь.
Между тем серые существа уже скользят по улицам, заползают в окна и двери. Дети! Дети же!..
И нету сил сдвинуться с места. Ужас, нет, даже не ужас, а тоска обреченности охватывает меня. Я просыпаюсь в слезах, просыпаюсь и не могу понять, где я, что со мной... Что-то стучит, и от этого знакомого двойного ритмичного стука все кругом содрогается. Потом догадываюсь - это же сердце мое стучит. До меня доходят разнотонный надсадный храп, стоны, сонное бормотание. Из тьмы вырисовывается круглое старушечье лицо с морковным румянцем на щеках. Маленькая проворная ручка, точно бы соля, крестит меня. Пухлые губки бормочут:
- Свят, свят, свят! Вера Николаевна, да проснитесь же вы, Христа ради! Опять дурным голосом вопите...
Все становится на свои места. Я вижу весь свой угол. Он отгорожен составленными рядом шкафами от палаты тяжелых, «зашкафник», как именует его наш сын. Вижу рядом курчавую головенку Стальки, на другом конце кровати розовую физиономию Домки: мы спим втроем и располагаемся валетом... Здесь же они, со мной, мои дорогие! С ними ничего не случилось.
- Да проснитесь же, проснитесь скорее, бог с вами!
Да, да, я уже проснулась... Но липкий сон этот еще тут, в душной полутьме, пропахшей карболкой и лизолом. Чтобы окончательно от него отвязаться, я встаю, надеваю тапки, халат, напяливаю шапочку, укрываю получше ребят и иду в беспокойную полу-тьму палат, слыша за собой частые шаркающие шажки и вздохи тети Фени - нашей старой хирургической няни.
Почему на меня нагоняет ужас этот сон? То, что происходит наяву, не менее страшно. Сырые, холодные подвалы огромного газоубежища битком набиты человеческими страданиями. Раненых, обожженных везут, несут днем и ночью. Тебе, Семен, и не представить, что делается сейчас в Верхневолжске. Тревога за тревогой. Нас, правда, первое время не очень бомбили. Говорили даже, будто Гитлер хотел сохранить наш город, чтобы разместить в нем войска по пути к Москве. Но в последние дни он, должно быть, раздумал. Его самолеты налетают то и дело. Ну от них все-таки нас как-то защищают истребители, зенитки. А вот на днях немцы прорвались к городу со стороны аэродрома. Установили там артиллерию. Это куда опаснее. От снаряда в убежище не спрячешься.
Но хуже всего неопределенность. В сводках - враг остановлен на подступах к Верхневолжску. Несет существенные потери в живой силе и технике... Подбито... Уничтожено... Партизаны, действующие в лесах Верхневолжска... А вот старуха, которую привезли вчера с раздробленной ногой, утверждает: «Гитлер» уже подошел к самому противотанковому рву... И эта спешная эвакуация госпиталей, а главное - что санитарные маршруты проходят теперь наш город, не останавливаясь даже на пересортировку. Мы-то, медики, знаем, что это значит...
Прошлые сутки, пока Дубинин обивал пороги, добывая машины, чтобы вывезти самых тяжелых, я не отходила от операционного стола. Чтобы не свалиться с ног, подхлестывала себя кофеином. Грохот. Все наши подвалы трясутся, цвет то и дело гаснет. Больные стонут. Ужас! Но вот, отоперировав, положили на каталку последнего. Кажется, можно и прилечь. Легла, - куда там, просто повалилась на койку. И ты понимаешь, Семен, тут же подумала, где-то там, в нашем «зашкафнике», подстерегает меня проклятый сон. Испугалась и не могла уснуть...
Но то был все-таки сон, а вот сейчас это ощущение неведомой, неотвратимой беды томит меня наяву. Я стою у въезда на мост. Красиво изогнувшись, он навис над черной водой, по которой густыми круглыми лепешками медленно плывет сало. Невдалеке горит что-то большое, - кажется, городской театр. В отсветах пожара, сквозь редкий, косо летящий снег, я вижу, как мимо меня к мосту и дальше, в Заречье, глухо гудя, громыхая колесами, гусеницами, топоча по деревянному настилу, движется живой поток, такой густой, что, не сходя с места, я все время ощущаю, будто плыву ему навстречу.
Семен, родной, ты знаешь, сколько мне пришлось пережить в последние годы. Но поверь, что такое ощущение полной беззащитности перед неотвратимой бедой я знала лишь в том сне.
Частая, то затихающая, то разгорающаяся перестрелка доносится со стороны фабричного района. Гитлеровские стервятники гудят над головой. То близкие, то далекие разрывы встряхивают под ногами мокрый асфальт... Зарево над всем городом. Липкий, розовый, точно бы кровью пропитанный снег и этот человеческий поток... Кажется, перерублена аорта, и кровь, пульсируя, вытекает из города, агонизирующего в освещенной багровыми огнями полутьме.
Всем своим существом я рвусь к этим людям, бегущим за реку. Но мне нельзя. Там, в городе, в огромных сырых подвалах бомбоубежища, мои раненые и мои дети. Но и туда мне нельзя. Мы договорились с Дубиничем, что вот здесь, на подъезде к мосту, я встречу машины, которые он за нами пришлет. Так мы условились. Кто же мог утром думать, что начнется этот стихийный исход из города и мост окажется запруженным? И вот я жду. Сколько жду - не знаю. Мне кажется, очень давно.
А люди идут и идут в штриховке косо летящего, багрового снега. Несут детей. Волокут мешки, чемоданы. Ведут увешанные узлами велосипеды. Толкают детские коляски, оседающие под тяжестью пожитков. На лица лучше не глядеть. И все-таки, Семен, они счастливцы по сравнению со мной. Через несколько минут река отделит их от того неведомого и страшного, что где-то уже тут, близко. А я? А раненые? А Сталька и Домка? Да где же. где этот окаянный Дубинин с машинами?..
Ну да, теперь ясно: это горит наш театр. Пожар разошелся. Свет его, пробивая багровую пелену падающего снега, выхватывает уже из тьмы контуры Заречья. Мне кажется, что недалеко от моста, справа, под насыпью, среди деревцев молоденького бульвара, я вижу несколько крытых грузовиков. Наверное, это машины, посланные за нами. Если бы это так! На душе становится немного легче: схлынет поток - они прорвутся. Тут недалеко, за какой-нибудь час эвакуируем всех своих больных и раненых. Мария Григорьевна - баба толковая, наверное, все уже подготовила. Дубинин, конечно, скотина. Он должен был с первым эшелоном отправить меня с ранеными и ребятами... Нет, может быть, он и скотина, но все-таки не настолько, чтобы совсем забыть о нас... Наверное, и сам мается там, за мостом, с машинами...
- Вера Николаевна! - зовет меня кто-то.
Я оглядываюсь. Мимо в толпе как бы плывут, раскачиваясь, три ломовые подводы. На одной из них гора чемоданов, рюкзаков, баулов, узлов. Все это затянуто брезентовым полотнищем, на котором намалеван розовый куст. Вокруг подвод, держась за грядки, плетутся мужчины, женщины. Их франтоватые одежды как-то не идут к тоскливому выражению измученных лиц. Эти люди знакомы и незнакомы. Где я их видела? Ах, вот что - это же артисты нашего театра. Ну конечно! Вон там, поверх их пожитков, осанистый старик в боярской шайке. Любимец города, комик Лавров. Он сидит спиной к лошади, прижимая к себе одной рукой картину в золоченой раме, другой - закутанную в шаль маленькую старушку. Взгляд его прикован к зареву. Из глаз текут густые, будто бы глицериновые, будто бы театральные слезы.
- Почему вы стоите, Вера Николаевна? Уходи-те, уходите сейчас же! Немцы во дворе «Большевички». - Это говорит мне высокий, представительный мужчина, фамилию которого я не могу вспомнить, но знаю, что он играл Вершинина в «Бронепоезде» и что когда-то во время моего дежурства его привезли прямо из театра и я тут же оперировала его по поводу гнойного аппендицита.
Почему я здесь стою? Ах, вот кто мне поможет.
- Голубчик, вы. конечно, помните Дубинина? Ну, такой русый, курчавый. Когда вы у нас лежали, он заведовал хирургическим. Он там, за рекой, застрял у моста с машинами. Найдите его, скажите, пусть пробивается. Сейчас же, немедленно. У меня около шестидесяти лежачих, и еще привезли. Скажите - тут такая каша, я ничего не могу... Отыщете? Скажете?.. Передайте - жду его здесь, как мы с ним условились.
Почему этот актер смотрит на меня так испытующе?
- Вы остаетесь? - спрашивает он, будто не слыша моей просьбы.
- Что же мне делать?
- Наш Винокуров тоже остался. У него книги, уникальная, видите ли, библиотека... Мы до последней минуты не теряли надежды. - может, уговорим, одумается. Я стучал ему в дверь ногой, он даже не открыл. - В этих словах яростное презрение к этому Винокурову, а может быть, увы, и ко мне...
- Поймите, я не могу, не имею права.
Налетевший ветер откинул полу пальто. Актер увидел больничный халат, должно быть, поверил мне, ярость погасла в его глазах. Мясистое его лицо стало тоскливым.
- ...Вы помните Киру Владимировну Ланскую, жену Винокурова? Она погибла. Дежурила с щипцами на крыше театра, сбрасывала зажигалки. Упала фугаска, и взрывной волной сбросило вниз. Даже тело впопыхах не отыскали... А какой был талант! - Он вдруг схватил меня за руку. - Идемте, идемте с нами. Пусть с больными останутся другие, вам нельзя. Понимаете, вам нельзя оставаться. Пошли! - Он все сильнее тянул меня за руку. - Ваш муж выдавал мне когда-то партбилет. Я вас здесь не могу оставить. Слышите, доктор!
Семен, когда он помянул тебя, я сразу подумала: а как бы ты поступил на моем месте, какой бы дал мне совет? И я угадала. Я вырвала руку и отбежала к гранитному парапету. От моего рывка у актера слетела шапка. Пока он нагибался, на нее кто-то наступил, по ней прошло колесо тележки. Он поднял шапку и, не отряхивая грязный снег, надел.
- Умоляю, найдите Дубинина, передайте ему...
Актер посмотрел на меня тем сожалеюще-понимающим взглядом, каким старые больничные сиделки смотрят на умирающего, и, обгоняя поток беженцев, заторопился вслед за своими. Контуры моста и все Заречье уже начали вырисовываться в кровавой полутьме потрясаемого заревами утра.
Тут я заметила: поток поредел. Люди уже не идут, а бегут. Пожилые солдаты в мятых шинелях, в пилотках, надвинутых на уши, как чепцы, торопят, размахивая флажками и вяло матерясь. Я ждала. Теперь-то уж машины могут прорваться. Машин не было... Мимо с ревом пронесся большой крытый грузовик. Где-то на середине опустевшего моста он остановился. Из-под брезентового шатра торопливо выпрыгивали красноармейцы. Они стали выгружать какие-то ящики, коробки и прилаживать их к стальным фермам. Молодой командир в новеньком и потому пронзительно-белом полушубке возбужденным голосом отдавал команды. Я сразу прикинула - эта огромная машина может поднять человек сорок, всех, кто не в состоянии самостоятельно двигаться. Вот кто нас выручит. Бросилась к командиру. Красноармеец с флажком преградил было мне дорогу, но я оттолкнула его и добежала до старшего лейтенанта.
- Машина, умоляю, мне нужна машина... Тут недалеко, всего пять минут... Ради всего святого, дайте машину, у меня больные и раненые, много раненых...
Занятый своими бойцами, он не слышал, а может быть, делал вид, что не слышит меня.
- Товарищ командир, неужели вы так бессердечны?
Не знаю уж, за кого он меня принял и как понял мою просьбу, но в светлых, совсем мальчишеских глазах было столько тоскливой злости, что мне стало жутко. И будто хлыстом замахнулся: «А иди ты!» Но, должно быть, увидев халат, выбившийся из-под пальто, сдержался и только произнес:
- Уходите прочь. Немедленно! Сейчас моста не будет.
На миг я остановилась в нерешительности. Солнце уже поднялось, и оттого, что выпавший ночью снег точно бы покрыл все ватой и простынями, кругом стало светло, как в операционной. На этой стерильной белизне вырисовывалось над рекой здание речного вокзала, похожее на именинный торт, и отчетливо чернели опустевшие русла схлынувшего человеческого потока, уходящего в Заречье. Само Заречье казалось даже пустынным, лишь у моста люди в военном и в штатском копали какие-то ямы. Несколько крытых грузовиков действительно стояли недалеко от моста. Пусть Дубинин струсил, пусть эти грузовики не наши, - есть же там какое-то начальство.
Да и шоферы - разве кто-нибудь посмеет отказаться эвакуировать нашу несчастную больницу?
Все это мгновенно пронеслось у меня в голове. Завернув полы пальто, я что есть мочи бросилась на тот берег. И тут услышала бухающие шаги, тяжелое дыхание за спиной.
- Стой! Куда?.. Стой, застрелю... Ошалела?
Это тот красноармеец, который давеча загораживал мне дорогу. Он запыхался от бега. Он едва может передохнуть, но, передохнув, выплюнул мне в лицо целый ком брани и толкнул меня в спину прикладом:
- Назад... Бегом! Не видишь...
И действительно, солдаты, возившиеся у ящиков и коробок, торопливо лезли в машину. Как, уже? Животный, не позволяющий рассуждать страх понес меня обратно. Я уже выбежала на дамбу, где простояла всю ночь, когда услышала раскатистый грохот.
Что-то сильно толкнуло, и я упала лицом в грязный, истоптанный снег.
2
Мне кажется, Семен, я тут же вскочила. Но, может быть, это не так. Во всяком случае, когда, поднявшись на ноги, я оглянулась, ядовито-желтое, акрихиновое облако, взметнувшееся в небо, уже рассеивалось, и, будто проявляясь на фотобумаге, все четче проступало кружево прекрасного и гордого нашего моста, на фоне которого, помнишь, по обычаю, снимались на память всем классом выпускники городских школ в день расставания. Это кружево было оборвано, скомкано. Стальные лохмотья опускались почти до самой воды.
Вибрирующий звон в ушах. Тупое покалывание. Кажется, будто отлежала все тело. И эта противная слабость, вяжущая движения, заставляющая дрожать ноги, руки. Ставлю диагноз: контузия, но легкая. Ловлю себя на том, что с опаской смотрю на голубое, как всегда после снегопадов, небо: где они, эти страшные машины моих снов? Небо чисто. В промежутках между орудийным громом слышно даже, как в школьном саду чирикают пичуги. Подташнивает. Еле стою. Кажется, не могу двигаться, а кругом - ни души. Жуткое ощущение безнадежного одиночества перед неведомой опасностью, так мучившее в снах, охватывает меня наяву с новой силой.
Площадь перед школой вспорота, покрыта рябинами воронок. Дыбится скрученный штопором трамвайный рельс. Голубеет детская коляска, набитая узлами, и возле нее полузасыпанные обрывки человеческих тел. Вдруг бросается в глаза оторванный угол школы. Точно сцена, открылся на втором этаже класс, в котором я когда-то училась. Рядок парт, доска на стене. На ней, кажется, даже что-то написано мелом. А у двери, ведущей в коридор, портрет, - наверное, портрет Тимирязева, висевший тут и в мои времена. Вдруг вспоминается: в этой школе учился наш Домка... Домка, дети, раненые! Они же там, в этих подвалах. Может быть, поступили новые, требуют немедленной помощи...
Да что ж ты стоишь, дура?! Туда, к ним, скорее туда! Сначала, преодолевая вяжущую слабость, я еле двигаю ногами, потом иду, потом бегу. Бегу что есть сил по пустому городу, все время слыша где-то впереди звук своих шагов. Бегу, ничего не видя, пока не перехватывает дыхание... Уф, мочи нет! Прильнула всем телом к чугунному столбу. Штопорами свисают с него оборванные трамвайные провода. Они слегка позванивают. Или это звенит в ушах? Только бы не задохнуться, преодолеть тоскливую безнадежность, лишающую воли и сил. И тут я соображаю - а ведь недаром там, на мосту, актер говорил: «Вам нельзя оставаться». «Вам» он повторил дважды и как-то особенно подчеркнул. Этого мерзавца Винокурова он тоже не зря помянул. И взгляд у него был настороженный, испытующий... Семен, ему ведь известно, что с тобой произошло и где ты находишься! И, конечно, он прав. Ты ж понимаешь, мне, именно мне нельзя было оставаться у немцев. Полгорода знает: Трешникова - жена осужденного, сосланного. Если я даже героически погибну, как эта Ланская, о которой актер рассказывал, все равно будут говорить - нарочно осталась с немцами. Этот человек - я спасла ему жизнь, а ведь и он, может быть, так думал.
Удар пушки. Знакомое нарастающее шуршание в небе. Мы уже опытные. Я знаю: раз я это шуршание услышала, снаряд уже перелетел. Еще, еще. И пусть попадет, пусть, так лучше. Как Ланская: миг - и ничего... А какая была артистка!.. Опять тяжелый снаряд. Ну, ну, что же ты, падай на меня... Нет, перелетел, раскидал деревянный дом недалеко от Больничного городка. И тут будто игла в нерв: стой! Ты хочешь смерти, а больные! А твои дети!.. Ведь снаряды ложатся недалеко от них.
Отталкиваюсь от чугунного столба. Бегу что есть силы и уже не помню, как добираюсь до руин больничных зданий. Ныряю в пролом забора. Дорожка, протоптанная за эти дни, прямо через больничный парк приводит меня к входу в наши подземелья. Вчера тут все кипело, ревели сирены машин, стучали костыли, скрипели носилки. Стоны, ругательства, плач, успокаивающий шепот сестер. Теперь даже следы этой тягостной суматохи прикрыло мокрым снегом. У бетонного лаза, ведущего в подземелье, вижу одинокую фигуру. Это наша сестра-хозяйка Мария Григорьевна Фельдъегерева, женщина широкая в кости, с худым, бледным, как у большинства старых текстильщиц, лицом.
Что это она? Держит в руках моток проволоки и неторопливо прикручивает над входом флаг, странный флаг - наволочку, прибитую к ручке от щетки, на которой, должно быть, с помощью стрептоцида, изображен красный крест. На звук шагов обернулась, деловито отложила флаг и обыденно оказала:
- Я ж им говорила - Вера Николаевна обязательно вернется.
Бросилась к ней. Уткнулась в ее худое плечо, замерла, боясь даже пошевелиться.
- Мария Григорьевна, милая... Что же это? Как же это?
Она слегка отстранилась, лицо сурово, но спокойно.
- Что есть, то есть. Теперь, Вера Николаевна, не слезы лить, не себя терзать, а думать надо, как нам дальше жить, что делать будем.
Удивительный человек эта наша Мария Григорьевна. Скупа на слова, суха. Я ни разу не видела, как она улыбается. И сейчас вот ни слова утешения. Отстранилась, опять занялась флагом. Но поразительно - именно это подействовало на меня, как валерьянка.
- Немец - что ж, тоже ведь люди. Я так считаю, он нас не тронет. На что им наши больные да раненые?
Глуховатый, неторопливо-спокойный, как всегда, голос звучит как-то даже неправдоподобно в это окаянное утро.
- Тут без вас еще троих приволокли. Двое легкие, мы их с Фенькой самосильно обработали, а третий парнишка - этот тяжелый. Мать его на тачке приволокла. В живот осколок угодил. Температура. - И, одернув полотнище самодельного флага, советует: - Вам бы его прямо на стол, этого Василька... А?
Почему она так спокойна? Катастрофа же, в городе фашисты. Мы одни среди этого зверья. А она достала откуда-то из-под пальто чистую марлечку, тянется ко мне.
- Дайте вам глаза вытру. Негоже, чтобы врач к больным зареванным появлялся. - Вытирает мне лицо и даже слюнит марлечку, чтобы снять грязь со щеки.
- А мои? - вдруг вспоминаю я.
- Что с ними станется? - с полуслова понимает Мария Григорьевна. - Тут вертелись, а обстрел начался - отправила их вниз, мастерить второй флаг.
И тут:
- Вера!
Как-то сразу возникли Сталька и Домка. Оба, как у нас говорят текстильщики, «раздеткой», в одних своих белых халатах. Бросились ко мне, повисли на шее. И хотя мне, единственному врачу этой забытой больницы, конечно же, нельзя показывать малодушия, я прижимаю их к себе и даю волю слезам.
3
На мгновение все забывается - и сон, и явь, и страшные мысли. Ничего нет, лишь эти два теплых родных существа. Но только на мгновение. Кто-то резко дергает меня за рукав:
- Пока тут со своими лижешься, Василек-то помрет.
Это кричит мне в ухо маленькая женщина с худым, угловатым личиком. На этом личике большие синие глаза. Они смотрят с нетерпеливым гневом.
- Это мать... - начинает Мария Григорьевна.
Но мне не надо пояснять. Я догадалась, знаю, это та женщина, которая привезла на тачке раненого сына. И она, конечно, права в своем гневном нетерпении.
- Сейчас, сейчас, минуточку... Ступайте к нему...
По требованию Марии Григорьевны покорно отираю лицо снегом, сушу полою халата и, приведя себя, насколько это возможно, в порядок, спускаюсь в наше подземелье.
Еще в первые дни войны мы, наивные тогда люди, изобразили на крышах зданий Больничного городка огромные, видимые с любой высоты красные кресты. Должно быть, именно они и указали цель гитлеровским стервятникам. Наш Больничный городок, которым мы в Верхневолжске так гордились, был разрушен крупным налетом. От него мало что осталось. В ту ночь мы почти непрерывно оперировали. Страшная ночь. На моих руках умер наш учитель, хирург Кайранский. Погибло много медицинского персонала. Хирургический корпус обрушился, но филиал его, размещенный в подвале газоубежища, уцелел. Массивные бетонные потолки выдержали. Вот тут-то и было оборудовано наше новое хирургическое отделение для жертв бомбежек и пожаров. Оборудовали его даже неплохо. Вентиляторы очищали воздух, горело электричество, да и чувствовали мы себя здесь, под руинами, как-то безопаснее, ибо, как утверждал известный тебе Сергей Дубинин, по какой-то там теории вероятности, что ли, бомба не могла попасть вторично в одну и ту же цель.
Что касается меня, то я понемногу привыкла к нашим подвалам, где нам удалось организовать некое подобие больничного стационара. Здесь нелегко работать. Не то что в военных госпиталях. Народ все больше гражданский, не обстрелянный, не закаленный, нервный. Во время налетов, когда земля начинала дрожать, в отсеках подвалов, которые мы по привычке называем палатами, поднималась такая кутерьма, что даже Дубиничу с его внушительной внешностью и сочным юмором с трудом удавалось утихомиривать людей.
Но в это утро подвалы поразили меня тишиной. Такой тишиной, что отчетливо было слышно, как потрескивают светильники, которые мы понаделали в банках из-под мази Вишневского. Натолкнувшись на эту тишину, будто на невидимую стену, я остановилась.
- Ну как, что там? Приедут, что ли, за нами? - раздался из тьмы мужской голос, в котором еще звучала надежда.
- Чего пушки-то умолкли, а? Неужто опять отступили?
Стало понятно: знают. Знают или догадываются. Но, догадываясь, обманывают себя, боясь верить страшной правде. Я не новичок в медицине и все-таки всегда мучаюсь, когда приходится сообщать родственникам больного тяжелые вести, а тут такое... Остановившись как бы на грани этой настороженной тишины, я никак не могу подыскать нужные слова. Слишком уж они страшны. И вот раздается бесстрастный, тусклый голос Марии Григорьевны Фельдъегеревой:
- Вера Николаевна ждала машины, пока мост не взорвали. Не прорвались к нам машины. - И тут же добавляет: - Доктор говорит - видела, наши за рекой окопались. Дальше не пустят... Говорит, Сибирь и Урал на выручку подходят...
Откуда она взяла? Разве я это ей говорила? Но уже женский голос со звенящими истерическими нотками кричит из-за брезента, которым мы отгородили женское отделение: .
- Драпанули и нас немцам бросили? Мы что, угары, что ли? В помойку нас?
Другая женщина уже голосила сквозь судорожные рыдания:
- Горькие мы, горькие-гореванные! Что же теперь с нами будет-та?.. Да фашист нас по жилочкам расщипает, по косточкам растащит, судьба наша окаянная...
Кто-то, выбранившись в сердцах, вздыхает:
- «Ни пяди своей земли не отдадим никому...» Не отдали...
Но голос этот сразу же тонет в грозном шуме:
- Ну, ну, на кого замахиваешься! Заткнись, паникер!.. Эй, кто там поближе, дай ему по шее!
А за брезентом, в женском отделении, причитают, как над покойником:
- Бедные мы, несчастные, на горе, на муки нас мать родила...
- Доктор, как же это? Выходит, верно, Гитлеру оставили?
Ты бы, Семен, конечно, знал, как ответить, что им сказать, а я, что я им отвечу, когда у самой слезы перехватывают дыхание... Чувствую, еще немного - сама примусь голосить, как та женщина, что причитает за занавеской. Но опять звучит спокойный, тусклый голос:
- У немцев ведь и Тельман был, сколько за него голосовало... Чай, не всех Гитлер в свою веру перекрестил. Культурная небось нация, что им больные да увечные.
Это опять Мария Григорьевна. С удивлением смотрю на эту высокую, худую, обычно такую скупую на слова женщину. Всем нам хорошо известно, что гитлеровцы - звери, утерявшие все человеческое. В памяти бесчисленные примеры садистских неистовств, сожженные деревни, повешенные раскачиваются на фонарных столбах, тела мирных людей, раздавленных танками. Сколько всего этого мы видели на газетных фотографиях... «Культурная нация»! Да как она решилась произнести это?.. Одернуть ее? Но, в сущности, это единственная для всех нас надежда... Как быть? И тут, Семен, я вдруг с холодной ясностью осознаю, что никто уже мне не посоветует, не растолкует, не поможет, что все мы очутились в каком-то ином, опасном мире, где люди не чувствуют локтя соседа, и отныне должны в нем жить, решать и действовать на свой страх и риск.
- Я уж флаги с красным крестом у входа вывесила, пусть знают - больница.
- Они вон как раз по красным крестам-то и сыпанули бомбы, - слышится насмешливый мужской голос.
Кто-то все настойчивее тянет меня за руку.
- Докторица, миленькая, иди же ты скорее. Васька-то, Василек-то мой...
Это та худенькая женщина с угловатым личиком. Она толкает меня в дальний конец подвала, где в полутьме белеет стена нашей операционной.
- Правильно, Вера Николаевна, ступайте мойте руки. Там уж Федосья его к операции готовит.
И я иду, будто распоряжение это исходит не от молчаливой и тихой нашей сестры-хозяйки, а от самого Дубинина - грозы и любимца хирургического отделения.
После того как нас разбомбили и мы обосновались в этих огромных подвалах бомбоубежища, угол последнего отсека отгородили от палаты дощатой переборкой и, покрасив все в белый цвет, организовали там операционную.
Рабочих нам не дали, - откуда их было взять, когда фабрики и заводы спешно готовились к эвакуации. Но Мария Григорьевна пошла по старым общежитиям текстильщиков, именуемых в наших краях «спальнями» или «казармами», и отыскала среди пенсионеров и плотников, и слесарей, и монтеров, и сантехников. Они провели к нам воду, восстановили отопление, протянули электрическую сеть и даже опустили над операционным столом великолепную лампу-рефлектор.
...Раненый уже был перенесен с каталки на стол. Это рослый подросток с таким же, как у матери, угловатым лицом и с такими же васильковыми глазами. Лежа неподвижно, он не стонал, даже не охал, но губы у него были искусаны в кровь, а в глазах, почти округлившихся, было такое страдание, что я невольно отвела взгляд.
- Милая, спаси. Одни мы с ним, никого у нас нет. Спаси, хорошая, дорогая...
Искусанные губы паренька шевелятся. Что он произносит - не слышно, но по движению их я угадываю укоризненное: «Мама!»
Умница эта тетя Феня. У нее все готово: облачилась в операционный халат, вымыла руки, повязала лицо маской. Выставив вперед локти, она движется на мать.
- Кыш, кыш! Сюда, как в алтарь, чужим входить негоже. Кыш, тебе говорят, тут все стерильное. Еще уронишь в Васькину рану какую-нибудь микробу.
Женщина подчиняется, выходит. Война уже произвела тетю Феню из операционных нянь в хирургическую сестру. Сейчас, когда нас, настоящих медиков, осталось двое, она смело встает к столу на место ассистента, проворно готовит больного к операции. Натирая щетками руки, искоса слежу за ней. Ловко, очень ловко обрабатывает она операционное поле! Молодец! У меня даже легчает на душе, возвращается уверенность, и я уже могу сосредоточиться.
Внешнее пальпаторное обследование немного успокаивает. Рана не кажется тяжелой: небольшой осколок разорвал ткани брюшины, прошел насквозь. Удивительно, но, кажется, он даже не задел кишок. Когда мы входим в брюшную полость, это подтверждается, но все так залито кровью, что приходится долго повозиться, заглушая кровотечение.
Третьим в операционной мой Домка. С тех пор как я перешла на казарменное положение и мы переселились из своей комнаты сюда, в подземную нашу больницу, он исправно исполняет обязанности санитара. Дубинин подарил ему старый халат, шапочку и торжественно наименовал его братом милосердия. Сейчас «брат милосердия» подсвечивает нам, высоко подняв ацетиленовую лампу. С больничной жизнью он свыкся, научился довольно ловко менять и даже накладывать повязки. Но на операции он впервые. Вид живого разрезанного тела, скользких пульсирующих внутренностей - все это его поразило. Я вижу в просвете его маски расширенные глаза, пот, выступивший на переносице. Слышу прерывистое дыхание. Только бы не брякнулся в обмороке, не уронил лампу, только бы в разгар операции нам не очутиться в темноте. Нет, кишки действительно не задеты. Уф, какая удача! И поврежденные сосуды, кажется, удалось перехватить, хотя кровь еще откуда-то поступает.
- Ну, Василек, как ты себя чувствуешь?
- Ничего.
- Больно?
- Не очень.
Совсем другое говорят его синие, широко раскрытые глаза.
Но все-таки операция наладилась, идет все легче. Я уже могу различать голоса, доносящиеся из-за переборки. И вдруг отчетливо слышу: «...А может, это вредительство? Может, она нарочно и подстроила, чтобы мы все к Гитлеру попали». Кто-то коротко отвечает: «Вот и дурак». Но тот, кому это адресовано, не унимается. «А может, дурак-то не я, а как раз ты. Муж у нее сидит? Может, она за мужа-то своего, за тюрзака, нам и мстит?..» Да это же обо мне... Руки разом слабнут, теряют уверенность. Заставляю себя нарочито громко спросить тетю Феню:
- Давление?.. Пульс?..
А себе говорю: не слушай, не смей слушать! Но не слушать уже не могу. И слышу, как тонкий, с истерическими нотками голос уже из женского отделения кричит: «Верно, верно! Они ведь хитрые. Они какую хочешь шкуру напялят. Говорили ж, что кто-то ночью с крыши фонариком самолет на Больничный городок навел. Вон развалины-то кругом. Кто? Кого чужого на крышу пустят?» Ой, как дрожат руки!.. Но тут кто-то сердито прерывает: «Таранта ты, таранта, глупый разум! С детьми, с детьми она же здесь. Какая бы мать детьми рисковать стала!» И опять этот ужасный женский голос частит: «Вот-вот, дети-то - оно и не случайно, с дедом-то их, чай, в куацию не пустила. И ты на меня не гавкай. Ишь Гитлер какой!» - «Кто - я Гитлер?» Новые и новые голоса. Я уже знаю - началась одна из тех истерических перебранок, какие порой вспыхивают в госпиталях и какие, я это тоже знаю, так трудно гасить. Но операция требует все больше внимания. Поврежденные сосуды, кажется, зажаты. Откуда же кровь?.. Теперь я вижу только эту раскрытую кровоточащую рану, клеенчатые, лоснящиеся внутренности, пульсирующие шнурки сосудов и эту темную густую жидкость, неведомо откуда выступающую. Откуда? Что повреждено?..
Ужасный разговор, доносящийся до меня через переборку, теперь воспринимается как что-то постороннее, меня не касающееся, будто работает репродуктор, который позабыли выключить. Даже о том страшном, что произошло утром, перестаю думать. Что же кровоточит?
Найти поврежденный сосуд помогает моя помощница:
- Вот она откуда, кровушка, бьет...
Верно! Правильно! Ай да тетя Феня! Кайранский шутил про нее: «Это моя левая рука». У меня ей, как видно, суждено стать правой рукой. Быстро перехватываем поврежденную вену кохером и облегченно вздыхаем. Операционное поле очищено от крови, и я могу с головой погрузиться в операцию.
Как говорил Кайранский, хирург должен не только быстро войти в живот оперируемого, но еще быстрее из него выйти. Стараюсь исполнить этот завет. Операция идет к благополучному, как мне кажется, концу, и я уже начинаю чувствовать ту сладкую усталость, которая всегда приходит после напряженной и удачной работы.
- Ну как, Василек?
- Ничего... Больно стало... Будто кто-то тянет, тянет.
- Это, милачок, хорошо, что больно, - частит тетя Феня. - Это, Васютка, значит, жизнь в тебе кипит, хворь из тебя выходит... Знаешь, милачок, кто тебе операцию делал? Бога благодари, доктор Трешникова Вера Николаевна тебе операцию делала. Всего тебя распорет и зашьет, ты и не заметишь.
- Иглу, кетгут...
- Сейчас, Вера Николаевна, сейчас.
Тут как-то особенно, резко скрипнув блоком, бухает вдали входная дверь, В палатах, где только что бушевал опор, вновь настает та тишина, которая утром показалась мне страшнее любой истерики. Торопливо застучали об асфальтовый пол ноги в тяжелых, подкованных сапогах. Слышатся отрывистые фразы на чужом языке. Немцы! Шаги все ближе. Свет начинает дрожать. Это лампа заходила в руке у Домки.
- Свети лучше, - машинально произношу я, заставляя себя не отрывать глаз от операционного поля. - Тетя Феня, зажим!
Вспотевшее лицо старухи лоснится, ее быстрые, навыкате глаза так и бегают в щели маски.
- Крючок... Не этот, побольше... Чего вы копаетесь?
У Домки, будто от холода, клацают зубы.
- Ма!
- Свети как следует. Держи лампу так, чтобы не было тени от рук... Тетя Феня, конец кетгута.
Я говорю это громко и, кажется, спокойно, но если бы ты, Семен, знал, чего стоит мне это спокойствие.
- Вот, Вера Николаевна, вот. - У тети Фени срывающийся голос. Шепотом, будто открещиваясь от нечистой силы, она частит: - Свят, свят, свят!
Внимание, Вера, внимание! Ты не можешь, ты не смеешь отвлекаться! И вдруг отчетливо, как при вспышке молнии, вижу тот страшный день, когда немецкие бомбардировщики накрыли наш Больничный городок. В этот день Кайранский оперировал у себя наверху, а мы с Дубиничем - тут, в бомбоубежище. И вот удар, от которого все содрогнулось. Мы оглохли от грохота. Шум. Крики. Вопли. Мрак, погас свет. Зажгли запасные ацетиленовые лампы и продолжали оперировать. Некогда даже было подняться, узнать, что там, наверху, почему стало вдруг тихо.
И вот носилки. Их ставят прямо на резервный стол. На носилках Кайранский, - халат окровавлен, на руках еще перчатки. Даже марлевую маску он не снял, и видный нам кусок лица белее этой маски. Дубинин бросился к нему, расстегнул халат. Мы видим: обе ноги оторваны. Хлещет кровь. Действуя почти инстинктивно, мы начинаем искать и перехватывать оборванные сосуды и даже не заметили, как старик пришел в себя. Вдруг слышим:
- Коллеги, вы что же, не видите - это бесполезная возня. Все кончено... Оставьте меня. Там много тех, кому вы можете помочь.
Мы, конечно, продолжали делать, что могли. И он из последних сил, гаснущим голосом кричал:
- Довольно! Не смейте! - И совсем тихо: - Феня, мне морфий, двойную дозу...
Несколько пострадавших стонали на носилках. Мы не посмели ослушаться. Глотая слезы, мы занялись ими и даже не видели, как он отходил.
И вот сейчас, когда топот подкованных сапог, гулко разносящийся в настороженной тишине палат, приближался, передо мной возникло лицо старика Кайранского, его сердитые, требовательные глаза. Я стискиваю зубы и продолжаю операцию.
Топот замер возле простыни, отделявшей операционную. Тишина. Голос Марии Григорьевны, спокойный и решительный:
- Сюда нельзя, тут операция.
Но отлетает откинутая резким движением простыня - и перед нами немецкие солдаты в глубоких, рогатых, надвинутых на глаза касках, как раз таких, какие мы привыкли видеть на карикатурах Кукрыниксов. Подшлемники возле ртов мокры. Зеленоватые шинели с поднятыми воротниками грязны и измяты. Лица солдат красные и потные. Они, должно быть, только что из боя. Это угадывается и по шальным глазам. Вот тот, высокий, - он, кажется, какой-то чин. У него худое обветренное лицо. С виду оно спокойно, но глаза, как бы живущие сами по себе, так и бегают по полутемным углам операционной. И где-то в глубине их мне чудится настороженность. Может быть, даже страх.
Мгновение мы смотрим друг на друга в упор. Что чувствую я, советская женщина, при виде этих первых живых гитлеровцев? Ничего особенного. Только гнев на людей, посмевших ворваться в верхней грязной одежде в комнату, где все стерильное, где больной с открытой раной лежит на столе. По привычке хирурга я стою с поднятыми вверх руками. Ловлю себя на этом и опускаю руки.
Но прежде чем я решаюсь что-то сказать или сделать, толстенькая тетя Феня, этот беленький добродушный шарик, катится на офицера, нацелив ему в грудь локти, которые она выставила вперед. Старуха налетает на него, как клуша на ястреба, и сыплет из-под маски:
- Сгинь, сгинь, рассыпься... С ума сошел! В операционную в верхнем! Сгинь отсюда!..
Офицер как-то инстинктивно пятится к двери. Солдаты переглядываются. Один из них, коренастый, рыжеватый, начинает каким-то ужасно медленным движением снимать с шеи ремень короткого ружья, похожего на пистолет. Я бросаюсь к офицеру и, отведя назад руки в стерильных перчатках, говорю, стараясь смотреть ему прямо в беспокойные глаза:
- Уйдите. Вы же видите, здесь идет операция. О-пе-ра-ция... Немедленно уйдите.
И представь, Семен, он меня, должно быть, понял. Не выдержал взгляда, опустил глаза. Что-то
буркнул солдатам. Те, как мне показалось, даже с облегчением, бухая сапогами, заспешили прочь из операционной, и офицер, выходя, даже козырнул в мою сторону. Шаги удаляются. Взвизгивает блок, захлопывая тяжелую дверь. И сразу, точно плотина прорвалась, зашумели, загомонили в палатах, а я будто пришла в себя после обморока, и мне задним числом стало так страшно, что закружилась голова...
- Положь скальпель, слышишь, положь скальпель.
Это тетя Феня наступала на Домку. А тот, держа лампу в левой руке, правой, как нож, сжимает большой скальпель. Он весь трясется.
- Если бы он... я бы его... Я бы ему всю рожу... Попробовал бы...
Мамочки! Неужели же он... Что-то белое и холодное касается моего лица. Это тетя Феня, смочив вату в спирте, водит ею по моему лбу.
- Кто, кто там? - еле слышно шепчет больной.
- А, так тут один... Зашел... заблудился, - отвечает старуха, охлаждая мне лицо прохладной ватой и будто смывает все боли и тревоги.
Придя в себя, быстро заканчиваю операцию и. взглянув на часы, вижу, что провозились мы всего час с небольшим. Но он, этот час, показался мне длиннее суток. Уже без меня тетя Феня и Домка перекладывают оперированного на каталку и вывозят в палату.
Полутьма. Мне вдруг страшно захотелось уснуть хоть ненадолго, хоть на минутку. Но я почему-то думаю - надо же кончить операцию. Последний шов. «Иглу, кетгут...» - шепчут губы.
- Вера Николаевна, ступайте к себе. - Это голос Марии Григорьевны. - Прилягте, усните.
Что такое? Открываю глаза - операционная. В полутьме тетя Феня собирает в кастрюльку инструменты. Потом передо мной возникает какая-то тень. Кто-то трясет меня за плечи. Требовательно, почти яростно уставились в меня синие глаза.
- Доктор, он будет жить, Василек мой?
Маленькая кудрявая головенка Стальки жмется ко мне.
- Ма, ты устала, пойдем, пойдем спать.
- Вы посмотрите его. посмотрите. Он прямо полыхает, мечется. - требуют синие глаза...
Встряхиваюсь. Иду в палату. Василька положили с краю. Лицо у него белее наволочки, но оно спокойно, это измученное, еще больше обострившееся, мальчишеское лицо. Пульс? Пульс еще слаб, но ничего угрожающего.
Я смотрю в требовательные глаза матери. Ничего не говорю, только смотрю. Но она поняла, бросилась на колени и тянет мою руку к губам.
4
Еле доплелась к себе в «зашкафник». Села на койку, сбросила туфли, чуть прикорнула у стены и, должно быть, уснула. Нет, не уснула, а просто забылась, потому что в следующее мгновение очень отчетливо услышала разговор. Голос Домки:
- Ну куда ты, девка, прешься. Вера же спит.
- А вовсе и не спит, вон сидит, и глаза открыты. - В щели между шкафами мне виден черный хитрый Сталькин глаз. - И я по делу. Эта тетка шумит, у Василька жар, стонет он.
- Ну и что? Это всегда так. Местная анестезия кончилась, стало больно... Пусть Вера спит, я сам поговорю с теткой. Я ей объясню. Надо же Вере отдохнуть.
Глаз между шкафов скрылся, и я вижу, как мимо щели мелькают два белых халата. Эх, Семен, Семен, видел бы ты, как выросли наши ребята, какие они стали заботливые и как они мне тут помогают! Нет, я не преувеличиваю. Помогают. С месяц назад, когда начались бомбежки и раненых можно было ждать в любой час, а врачей стало не хватать, мне пришлось перейти на казарменное положение. Но ты же представляешь, как далеко от нашей квартиры до Больничного городка. Могла ли я часто вырываться к детям? Я заперла нашу комнату и перетащила детей в госпиталь. Тут для нас отгородили угол: койка, тумбочка, шкаф, столик. Дежурства мои стали круглосуточными. Ребятам, конечно, было скучно. Стали понемножку нам помогать. Из Домки - а он у нас теперь уже мужичок - получился, честное слово, неплохой санитар. А Сталька, разве ж она, при ее непоседливости, могла отстать от брата? Нашла себе дело: разносит градусники, записывает температуру, оправляет тяжелым постели. Видел бы ты, с каким важным и озабоченным видом она выносит «утку» или судно! Вообще она у нас брезгуша, но тут откуда что берется... Мария Григорьевна сшила Стальке из какой-то ветоши белый халатик, больные и раненые именуют ее «сестричка», и она этим бесконечно горда.
Наша строгая Громова, заместившая погибшего Кайранского, однажды дала мне за них выговор: «Мы сами можем работать сутками - это наш долг, но кто вам дал право эксплуатировать детей?» А я думаю - ты бы одобрил. Ведь сейчас и на заводах ребята точат снаряды. Твой отец рассказывал, что в цехе для них скамеечки у станков поставили - росту не хватает... Нет, по-моему, труд никогда не портил человека. А как они оба вымахали за этот месяц! Хорошие ребята у нас растут, Семен...
Вот и сейчас я вышла к Васильку и вижу - оба стоят возле койки, и тут же его мать. Спорят. Она кричит им что-то, должно быть, обидное.
- Тридцать семь и пять. - докладывает мне Домка, как-то очень терпеливо слушая кричащую женщину. - Пульс - восемьдесят пять.
- Вот-вот, сама там дрыхнет, а детки тут в жизнь человеческую, как в игрушку, играют... А он, бедный, стонет, может, ему последний час пришел... - дребезжащим голосом кричит мать Василька. - Я на вас жаловаться буду, я письмо на вас напишу.
- Кому? - умудренно спрашивает Домка.
Женщина смолкает, должно быть, пораженная тем небывалым обстоятельством, что жаловаться-то действительно некому и некуда.
- Ступай найди тетю Феню. Пусть приготовит шприц.
- Вас понял, - отвечает Домка, подражая летчику из какой-то кинокартины, и, сделав налево кругом, отправляется выполнять распоряжение.
Хотя халат Дубинина ему почти впору и со спины он в нем совсем взрослый, в сущности, он мальчишка и недалеко ушел от ребят, с которыми должен был бы учиться в шестом классе. Измеряю температуру, подсчитываю пульс. Нет, все точно. Домку можно не проверять. Мать успокоилась, присела на койку и, привалившись к спинке, сразу задремала. Мне вдруг тоже захотелось спать.
- Железо и то устает, - говорит Мария Григорьевна и решительно ведет меня под руку через погруженные во тьму палаты в наш зашкафный уголок.
Привела, усадила. Сняла с меня шапочку, расстегнула халат.
- Спите, надо будет - разбужу.
Я посмотрела на часы - они стояли.
- Сколько же сейчас может быть времени?
- А кому оно нужно теперь, время? - Мария Григорьевна взбила подушку. - Нам с вами оно теперь ни к чему. Будем жить, как кроты: круглые сутки ночь, - и гадать, когда наши вернутся.
В ровном, обычно бесцветном голосе ее прорвалась тоска. Не оглядываясь, она мягко толкнула меня к подушке, и я будто сразу провалилась в темную теплую воду. Но снилось хорошее - берег нашей Тьмы, цветущие черемухи. Ты, Семен, босой, в косоворотке, и будто бы я тоже босая. Бежим мы по влажному заливному лужку, и прохладная трава хлещет меня по голым ногам. Ты все хочешь меня догнать, а я не даюсь, увертываюсь, хохочу, и мне необыкновенно хорошо. Ты все-таки догнал бы меня, наверное, и я хотела этого, ждала, но...
- Вера Николаевна, Вера Николаевна! - Кто-то раскачивал меня за плечо. - Проснитесь, матушка, дело.
Еще не открыв глаза, я по уютному запаху хлеба, чистой одежды и еще чего-то очень домашнего догадываюсь, что рядом тетя Феня. Но сон так хорош: солнечный день, река, луг все еще живут во мне, и не хочется уходить от этого.
- Проснитесь, без вас не раскумекаешь, беда...
Беда! Это слово в последнее время мы слышим слишком часто. Оно как бы реет в воздухе... Беда! Я сразу скидываю ноги с кровати.
- Что, что там? Что-нибудь с Васильком?
- Нет, Василек спит, мать возле него... Пришел тут какой-то бородатый. Начальника госпиталя требует, со мной и говорить не стал. Грозится.
- Немец?
- Нет, вроде наш.
- А кто?
- Не говорит. Вертлявый, будто из цыган, подавай ему начальника - и все. - Тетя Феня оглянулась на занавеску, отгораживающую вход, и зашептала: - Карманы у него оттопыренные. Он все за них хватается. Жутко аж, хотя чего ж нам бояться - голому разбой не страшен.
Я обулась, надела халат. Милый сон еще жил во мне. Перед глазами маячило твое, Семен, широкое, круглое лицо, разгоряченное бегом, твои маленькие, хитро прищуренные глазки, твои губы, в уголках которых всегда, даже когда ты сердишься, живут смешинки. Ты был еще со мною, и, вероятно, поэтому я спокойно пошла навстречу незнакомцу с оттопыренными карманами, хотя хорошего, конечно, в нашем положении ждать нечего и неоткуда.
Входная дверь терялась в темноте, и когда точно бы из нее выступила невысокая фигура, мне показалось, будто она возникла из-под земли. Четко виднелись лишь бинты на голове этого человека да странно поблескивали белками, точно бы источали свет, его глаза.
- Феня, принесите лампу, - распорядилась я.
- Не надо, зачем освещать мою запущенную внешность?
- Вы кто?
- Если я скажу, что медведь, вы все равно не поверите.
- А ты не охальничай, не охальничай, - зачастила тетя Феня, рассыпая слова, как горошек. - Просил начальника - вот тебе начальник, говори, что надо, и уходи с богом.
Старуха подняла свечу. Из тьмы выступило смуглое лицо, на три четверти заросшее молодой бородкой, густой и черной.
- Вы, тетенька, шари-вари не затевайте. По личному вопросу мы вам слово дадим в конце. - И с силой, которую в этом невысоком человеке трудно было даже предполагать, незнакомец поднял тетю Феню под локти и отставил в сторону. От него веяло чем-то тревожным, настораживающим.
- Ранены? Переменить повязку?
- Успеется. - Он снизил голос. - Я не о себе. - Посмотрел на тетю Феню, театрально удивился: - Как, тетечка, вы еще здесь? А ну, погуляйте по воздуху, посчитайте звездочки, нам с начальником тэт на тэт потолковать надо.
У меня радостно всколыхнулось сердце, Наверно, он из-за реки, от наших.
- Тетя Феня, проведайте оперированного.
Все - и это ночное вторжение, и странная, вывихнутая какая-то речь незнакомца, и даже его лицо с плюшевой бородкой - все настораживало. Но старуха права, голому нечего бояться разбоя. Что может быть хуже того, что с нами уже произошло в это роковое шестнадцатое октября?
Я поставила перед незнакомцем табуретку.
- Садитесь.
- Комфорт для следующего раза. Это, так сказать, частный визит. - Он перешел на шепот: - Доктор, слушайте сюда. В одном месте лежит один человек. Он срочно нуждается в медицинской помощи.
Я рассердилась: «в одном месте», «один человек» - что это за иксы и игреки?
- Вы пришли в советский госпиталь и разговариваете с советским врачом.
- В городе, который, между прочим, временно занят немецко-фашистскими оккупантами, - насмешливо уточнил обладатель плюшевой бородки и продолжал своим противным, ёрническим тоном. - На меня ваше лечебное заведение произвело исключительно хорошее впечатление, и я, пожалуй, привезу сюда моего любимого дядюшку, Вера Николаевна.
- Вы меня знаете?
- У нас общие знакомые. - И посерьезнел: - Прошу приготовить через час коечку. И тихо, не надо сенсаций. Они не для этого сезона.
Он бесшумно исчез, будто растворился во тьме: ни дверь не стукнула, ни ступеньки не скрипнули.
Велела Фене приготовить койку.
- Должно быть, из циркачей, - сыпанула горошек слов тетя Феня. - Ишь ты - «шари-вари». Это у них язык такой особенный. А ручищи железные. Поднял - и болтай ногами, как кукла. Вы его поостерегитесь. У моего брата двое из цирковых на квартире стояли - всем угодникам поклоны клал, чтобы только поскорее съехали... - И вдруг Феня, жалостно глядя на меня, вздохнула. – Эх, Вера Николаевна, Вера Николаевна, сколько на вас бед-то сразу свалилось...
- Разве только на меня? А остальные? А вы...
- Я что, меня, голубка моя, жизнь-то покатала-помотала, а вам-то с непривычки каково?
Мне «с непривычки»? Эх, тетя Феня, тетя Феня, добрая душа! Вас катало и мотало, а меня?.. Но все-таки надо же заснуть. Я обязана выспаться. Ведь теперь каждую минуту может начаться то страшное, чего я боюсь во сне и наяву...
Не хотелось будить ребят. Не раздеваясь, я прикорнула на коротком клеенчатом диванчике в отсеке, оборудованном под приемный покой. Закрыла поплотнее глаза, мечтая снова увидеть тебя во сне. Но ты не вернулся и сон не пришел.
Эх, Семен, как же мне тебя не хватает! Как нужен мне ты, ты весь, твой ум, твоя твердость, твое знание людей, весь ты, крепкий, мускулистый, полный веселой, добродушной энергии!.. Мне нелегко живется. Говоря честно, среди забот и дел я иногда днями не вспоминаю тебя. А вот сейчас почему-то вдруг вспомнился и не идет из головы последний вечер, который мы провели вместе.
Помнишь, как это было? Они приехали за тобой, а ты неожиданно задержался на собрании на «Большевичке». Не застав, они извинились и что-то там бормотали, что зашли на минуточку, посоветоваться с тобой насчет организации каких-то там политкружков, что ли. Время было такое, что я сразу все поняла, и мне стоило большого труда сделать вид, что я поверила. Но мне удалось, и я последила из-за шторы, как их машина отошла от подъезда и скрылась за углом. Семен, ты ведь совсем не подготовил меня к этому, все свалилось мне на голову, как льдина, сорвавшаяся с крыши в оттепельный день. Когда в ту пору исчезал кто-нибудь из наших друзей по комсомолу, выросший в крупного работника, и я, чуть не плача, говорила тебе, что не могу поверить в вину того-то и того-то, ты, правда, отвернувшись или глядя себе под ноги, выдавливал: «Черт его знает, всякое случается. За Васькой я ничего не знаю. Но вон на процессах-то что открывается!» Или резко обрывал меня: «Ну что ты пристаешь? Зря не возьмут, а возьмут невинного - выпустят. Нечего психовать...» Ты до последнего дня верил или делал вид, что веришь в то, что все идет правильно, что кругом враги и их надо искоренять быстро и беспощадно. Впрочем, во сне ты иногда выкрикивал знакомые имена, и я не могла понять - с гневом или с болью.
И вот очередь дошла до тебя. Я это сразу поняла. Да и ты, как мне кажется, не слишком удивился, когда по соседскому телефону я отыскала тебя на «Большевичке» и стала просить, чтоб ты вернулся домой через черный ход. Ты так и сделал.
Как врезался в память этот вечер! Ты старался казаться спокойным. Пробовал даже шутить. Помнишь? «Ехать так ехать», - сказал попугай, когда кошка тащила его за хвост». Ужасная шутка!.. Но тебе не удалось скрыть, что ты растерян и потрясен. Я оказалась даже деловитее. У меня был уже план.
- Вчерашнюю зарплату я не трогала, - сказала я. - Есть еще то, что мы отложили на путевки. Забирай все деньги и уезжай. Уезжай в Москву, там разберутся.
И помнишь, Семен, что ты мне ответил:
- Коммунист не может бежать от советских органов, даже если они в данную минуту в отношении его допускают ошибку. Перед партией я чист. Невиновному у нас нечего бояться.
Ты велел мне опустить шторы и спокойно, будто собираясь в командировку, стал всовывать в портфель белье, умывальные принадлежности, зубной порошок, пачки «Беломора». А я? Я не в силах была помогать. Смотрела и даже не плакала. Собрав портфель, ты сказал: «Давай присядем». Сели. Ты закурил было папиросу, но тут же, скомкав, отбросил ее. Прошел в детскую. Постоял над Сталькиной кроваткой, усмехнулся: «Вот курчавка, вся в тебя. Мамкина дочка!» А над кроватью Домки: «А вот этот уж мой. Ишь какой подосиновик!» И тут вздохнул. Это запомнилось потому, что вздыхать - это не в твоем характере. «А славный у нас парнишка растет!» И чуть спустя: «Ты им, пожалуй, скажи, что батька, мол, в спешную командировку на Дальний Восток уехал. А впрочем...» - и махнул рукой.
Потом подошел ко мне, взял за руки и, смотря в глаза, будто гипнотизируя, произнес:
- Вера, я большевик-ленинец. Я никогда и ни в чем не погрешил перед партией. Что бы тебе ни говорили, это так. - Помолчал. - И бате это передай... - Вздохнул. - Бедный старикан, рабочая косточка, вот переживать-то будет. - Потом упрямо, сердито встряхнул головой. - Разберутся... Рано или поздно во всем разберутся... Иначе не может быть. - И мне показалось, что ты улыбнулся. Да, да, улыбнулся, а может быть, эта улыбка, всегда жившая у тебя на губах, сама, непрошеная, вылезла на свет божий.
Я тогда испугалась этой улыбки. Испугалась и опять стала упрашивать тебя добраться до первой от города станции, сесть в поезд, уехать в Москву. Поступил же так Токарев, которого кто-то предупредил, что выписан ордер на его арест. Добрался до столицы, бросился в свой наркомат, и нарком отправил его в Ташкент, в длительную командировку.
- Сделай так. Сделай. Ну, ради меня, ради детей.
Ты даже рассердился.
- Секретарь горкома бежит от советских органов... Да как я тогда коммунистам в глаза смотреть буду? - Будто отрубил: - Нет. - И вдруг решил: - Вера, я сам пойду туда. Так будет правильно. Раз человек явился сам, это лучшее доказательство его невиновности... Ну, а в случае... Тогда пишите прямо Иосифу Виссарионовичу. Отвезите в Москву и сдайте в экспедицию в Кремле. - И встал. - Ну, я пошел.
До меня даже не сразу дошло, что это значит: «Я пошел»,- а когда дошло, портфель выпал из рук и пачки с «Беломором» рассыпались по полу. Притворно сердито ты сказал: «Ну, вот, помогла, чем могла», - и с какой-то тягостной, преувеличенной старательностью принялся их собирать. Собрал, положил портфель на кресло, прижал меня к себе. Обнявшись, зашли мы еще раз в детскую, постояли над спящим Домной. Ты сказал: «В нашу, никитинскую породу. И волосом и характером рыжий. Мой след на земле». Я прижалась, будто хотела слиться с тобой, раствориться в тебе, но тебя, такого всегда чуткого и отзывчивого на мою ласку, со мной уже не было. Ты мягко расцепил мои руки.
- Верка, помни, что я говорю: правда победит. Она все победит. - И потом - я это особенно хорошо помню – добавил: - Ты у меня хороший парень, Верка. Из хорошего теста. Жди. - Это были последние слова, с которыми ты скрылся за дверью.
Я бросилась к окну, но разглядеть тебя не смогла - во дворе было темно. Ты и запомнился таким, каким был в дверях, - твердый, верящий. Таким ты представляешься мне и сейчас, в этом душном подвале, на фоне литых бетонных сводов, на которых, будто листья древнего папоротника на каменном угле, отпечатались шершавые доски опалубки.
Ты видишь, Семен, я помню твой наказ и, вопреки всему страшному, что случилось и что сейчас творится в городе, надеюсь и жду. А как мне было нелегко, родной. Я ведь не знаю даже, дошел ли ты тогда сам или тебя взяли по дороге. Ту ночь я, конечно, не спала, а на заре разбудила ребят, сказала о внезапном твоем отъезде на Дальний Восток и повела к деду, в ваш никитинский домик. Петра Павловича я подняла с постели. Он сидел на крыльце, босой, в нательной расстегнутой рубахе, с редкими, рыжеватыми, всклокоченными волосами, с помятым со сна лицом. Слушая меня, он стругал какую-то щепку, будто бы весь уйдя в это занятие, и это меня злило. Ведь я говорила ему о сыне, о нашей страшной семейной беде. А он молчал. Его округлое, полное лицо ничего не выражало, кроме разве сосредоточенности на никчемном обстругивании какой-то никому не нужной щепки.
- Это дела партийные, Вера, - сказал он, наконец, поднимая ее и стряхивая с колен кудрявую стружку. - Коммунисты в них и без нас с тобой разберутся. - Помолчал, посмотрел куда-то вверх, на прикрепленную к березе скворечню, где навстречу вернувшемуся скворцу-папе жадно гомонило в домике его потомство. - Сколько врагов-то сидит, может, кто нарочно Семеху и оговорил. Враг - он на все пускается. - Он бережно огладил оструганную щепочку своими короткими, поросшими рыжим пухом пальцами. Только теперь это была уже не щепка, а маленькая деревянная ложечка для соли или горчицы. И вдруг он яростно изломал эту ложечку. Помолчал, тяжело дыша. - Разберутся. Не такие клубки распутывали. Что внуков к нам привела, правильно. Пусть тут перебудут. Нечего им у тебя там... Татьяна за ними присмотрит, она свободная, в школе каникулы.
Где-то недалеко, совсем рядом, в утреннем нежном воздухе захрипел слабенький гудочек. Старик встрепенулся, оживился, будто даже обрадовался.
- Зовет. Пора. Пройди в дом, Татьяна тебя чаем напоит. Ей потихоньку про Семеху скажешь, а ребятам пока - ни-ни. Уехал, мол, батька надолго по партийной мобилизации, слышишь, Вера? Нет, не может быть, чтобы за ним что-нибудь было. Вернется.
Торопливо, деловито старик стал подниматься на крыльцо. Завод рядом. Между первым и вторым гудком полчаса. Я преградила ему дорогу.
- Надо же что-то делать? Семен говорил - письмо товарищу Сталину отвезти в Москву, сдать в Кремль.
Старик остановился в дверях.
- Что ж, у Иосифа Виссарионовича других дел, кроме нашей беды, нету? - И брюзгливо, как это он частенько изъясняется: - Что ж, в Верхневолжске и правда перевелась? Найдем, найдем правду... Оклеветали, оговорили его враги за то, что сердцем чист, партии предан. Яснее ясного.
Тяжело ступая босыми ногами, он скрылся в сенях. Я все еще стояла у крыльца, когда он вышел, уже в спецовке, надвинув на глаза свою кепочку с пуговкой, и я поразилась, как он вдруг постарел, как побледнели у него щеки и погасли глаза.
- В больницу свою придешь - сразу же в партком. И сообщи. Слышишь? - сказал он голосом. которому безуспешно старался придать бодрость. - Чтоб от тебя от самой узнали, понимаешь? Виноват там, не виноват - не рассуждай, взяли - и все. Партийная организация должна первой обо всем узнавать. Ну, бывай. - И ушел, как-то расслабленно подволакивая ноги.
А ребята, ничего не зная, шумели с Татьяной в доме. Ты же знаешь, как они любят свою молодую веселую тетку. И этот шум, смех и даже то, с какой охотой они согласились пожить у деда, не улучшило моего настроения. Признаюсь, Семен, после этого разговора невзлюбила я твоего папашу. Все будто бы у него правильно, и самообладание сохранил, и советы дал, и ребят приютил, но все не то, не то. Не этого я от него ждала. Вот Татьяна - другое дело. Усадила ребят завтракать, выбежала ко мне:
- Что там у вас. почему в такую рань? Что с батей? Сряжается на завод, и слезы текут. Спросила, в чем дело, - обругал предпоследним словом. Верочка, что?
Увела меня к себе в мезонинчик, и наплакались мы с ней вдоволь. И от этого мне вроде бы легче стало, и нервы в порядок пришли. А как они мне понадобились в тот день, мои нервы!
Тяжкий разговор в парткоме, вопрошающие взгляды хороших людей, моих товарищей, в которых сочувствие мешалось с настороженностью, эта невидимая, но очень ощутимая пленка, которая как бы сразу отделила меня от всего, в чем я продолжала жить. Я - та же и не та, прежняя и какая-то уже другая. Даже когда главный хирург Валентина Леопольдовна Громова, у которой мы с Дубиничем когда-то стажировали, высокая, костистая старуха с сизыми пальцами, изъеденными дезинфекциями, демонстративно пожала мне руку, с вызовом глядя на окружающих, и на всю ординаторскую провозгласила: «Вы, Вера, отличный хирург и прекрасный человек, и таким вы для меня и останетесь». - даже это резануло меня, ибо, вопреки словам, подтверждало, что и в ее глазах я уже не прежняя.
Ты исчез для нас. Исчез, будто умер, с той только разницей, что близкие знают, где могила умершего, могут прийти поплакать, повспоминать. Мы долго ничего не знали, и лишь потом Татьяна потихоньку передала мне конверт, надписанный незнакомым почерком, в который чья-то добрая рука вложила письмо на обертке махорочного пакета, то самое, что ты бросил из поезда.
Известие, что тебе как-то и с кем-то удалось послать письмо товарищу Сталину, возбудило новые надежды. Но дошло ли оно? Может быть, так же застряло, как и те, что посылала я. Но надежда не угасла. Сколько он получает таких писем? При его занятости скоро ли дойдет очередь до наших. Надежда живет. И знаешь, Семен, о чем я сейчас подумала: вот тебя реабилитируют, ты: отыщешь где-то в эвакуации отца, Татьяну, и они тебе вдруг скажут: «А Вера-то с детьми осталась у немцев». Представляю, как тебя это потрясет. Но ведь ты не подумаешь, что я осталась нарочно?..
Помнишь, как-то мы с тобой ездили к Домке в пионерский лагерь. Пошли собирать голубику, забрались в болото, и нас накрыл туман. Мы заплутались и бродили до вечера. Выбившись из сил, я висела у тебя на руке, еле переставляя ноги. Мне все казалось, что мы просто кружим по лесу. Но ты авторитетно говорил: «Ничего подобного», - и уверял, будто в этой сырой, белесой, сочащейся влагой мгле видишь на небе какую-то звезду. Ты шел на нее, на эту звезду, и вел меня. Мы выбрались на дорогу, и лагерь оказался совсем недалеко. Тогда я эту звезду так и не разглядела. А теперь вижу ее во мраке.
Вокруг много людей. У меня есть друзья. Но ближе тебя никого нет. И вот стало привычкой мысленно беседовать с тобою. Вырвется свободная минута - и я как бы пишу тебе письмо, рассказываю обо всем, что меня занимает, радует, гнетет, ищу твоего сочувствия, совета. Не думай, родной, что я забываю, что с тобою и где ты. Ты всегда со мной, все время во мне. И вот сейчас, когда мне, наверное, даже тяжелее, чем тебе, мне нужны твой опыт, твое мужество, твоя помощь. Мысленно писать тебе каждый день письма я приучилась давно. А теперь... теперь это мне нужно больше чем когда бы то ни было.
Ах, если бы ты знал, как мне тяжело и как мне тебя не хватает вот здесь, у нас, в наших подземных норах, в городе, по которому - ведь это подумать только - ходят фашисты. От одной мысли этой можно сойти с ума. Но мне нельзя сходить с ума. Я не имею на это права. У меня на руках столько больных и раненых.
5
Нет, больше не уснуть. Ну, а если не спать, лучше что-то делать. Обитатели наших подземелий, как это ни странно, после всех переживаний спят. Даже Василек перестал стонать, а мать его так и уснула, сидя на полу и положив голову на его койку.
Вместо трех медицинских постов, какие у нас были позавчера, сейчас один. На дежурстве Мария Григорьевна. Она сидит возле раскаленной печки-времянки и скатывает старые бинты, которые днем успела-таки выстирать, прокипятить и высушить. Ее хмурое лицо резко озарено светом раскаленной печки. Оно кажется даже не бледным, а зеленоватым. Такие лица у текстильщиц, долго работавших в отбельном цехе, и румянец на них пробивается разве что в праздник после одной-двух рюмок. И в самом деле, наша Мария Григорьевна Фельдъегерева проработала в отбельной «Большевички» с самой революции. В позапрошлом году фабричный треугольник торжественно проводил ее на пенсию. Но хотя квартира Фельдъегеревых полна внуков, дома она не усидела. Сразу же по объявлению войны пошла на курсы сестер Красного Креста, окончила их, как раз когда начались бомбежки и мы стали формировать свою больницу для жертв воздушных налетов.
Дубинин не хотел было ее брать, во-первых, из-за возраста и, во-вторых, потому, что искренне полагал, что внешность женского медперсонала должна радовать глаз больных и что это тоже немаловажный лечебный фактор. Внешность Марии Григорьевны глаз явно не радует. Но пожилая, невзрачная женщина добилась, чтобы ее зачислили временно на место сестры-хозяйки. Задолго до конца испытательного срока она стала хозяйкой не по должности, а по существу, и хозяйкой рачительной, придирчивой, во все вникающей, все умеющей, грозой нерях, болтушек и, как у нас говорят, «трепачей».
Признаюсь, и я поначалу побаивалась ее глухого голоса, требовательных глаз, всегда поджатых губ. А вот сейчас вижу над ворохом бинтов ее грубоватый, высвеченный неярким огнем профиль, и оттого, что она рядом, мне становится как-то покойнее, хотя ни на минуту не могу забыть, что по улицам нашим ходят гитлеровцы.
Присаживаюсь к ее столику.
- Ну как?
- Тихо. Как смену от Федосьи приняла, никто ни разу и не покричал. Васятка вон и тот спит... Вы уж, Вера Николаевна, на матку его, на Зинку-то эту, не сердитесь. Вовсе ошалела баба от горя. Безмужняя она, всего и свету в окне - парнишка. - Вздохнула, помолчала. - Что, сон не идет? Ну, так скатывайте вон бинты, чего попусту сидеть.
Беру бинт. Расправляю. Начинаю скатывать.
- Вам тетя Феня говорила: тут парень какой-то заросший приходил... Как вы думаете, о ком он заботится?
- Доставит - узнаем, чего зря голову ломать. Катайте, катайте бинты, это ведь как семечки грызть...
И действительно, однообразное занятие это успокоило. Даже самая страшная мысль, которая, как азотная кислота, разъедает мне душу, мысль о том, что я, жена человека, осужденного по таким статьям, вместе с детьми оказалась у немцев, даже эта мысль тускнеет и притупляется.
- Подсчитала я тут харчи наши. Маловато. На теперешний состав от силы недели на три хватит, - размышляет вслух Мария Григорьевна. А руки работают, работают. Работают, как умные, ловкие механизмы, действующие сами по себе. - Что делать станем?.. К гитлеровцам за харчами не сунешься? Нет. Стало быть, самим добывать... Где? Знать бы точно, когда там наши соберутся с силами и дадут им по шее. И дадут ли, прежде чем нас голодуха за горло схватит... Ведь далеко не ушли. На Волге уперлись. Слышите их разговор?
Действительно, из-за реки глухо доносилась отдаленная канонада. Мария Григорьевна не утешает, нет. Просто раздумывает вслух. И как мне дороги это ее спокойствие, ее исполненное веры «дадут по шее». В этом она не сомневается. И в том, что скоро дадут, не сомневается тоже. Даже вон продукты хочет рассчитать... Но, в самом деле, как же быть с продуктами, медикаментами, инструментами? Кто нас снабдит? Каюсь, в горячке страшных этих событий я даже и не подумала об этом. А эта женщина, оказывается, уже и позаботилась.
- Ну, с бельем мы пока выйдем, - продолжает Мария Григорьевна. - Тут мы с Федосьей вечером в развалинах до кастелянской ходок отыскали. Цело белье, хоть водой и плесенью тронуто. Посмотрели - сойдет, если проветрить и высушить. Вот только помногу вешать сразу нельзя. Как раз немца приманишь. Он, говорят, до барахла, ух, жаден. Придется помаленьку. Но с бельем не беспокойтесь, с бельем обойдемся, а вот харчи...
Закатала бинт, отложила в аккуратную стопку. Взялась за другой. За этим нехитрым делом я позабыла даже и о немцах, и о незваном госте с плюшевой бородкой. Катаем бинты и обсуждаем дела, будто на утренней врачебной летучке. У меня ведь не меньше проблем: на шестьдесят раненых один врач, две сестры, из которых одна хозяйка, а другая всего-навсего хирургическая няня... Вместо трех - единственный санитарный пост.
- Это тоже большой вопрос, - соглашается Мария Григорьевна. - Однако это дело обходимое. Я, может, вы слышали, вдовой за вдовца вышла. У него трое мальцов, у меня одна девчонка. Четверо. Двоих вместе народили - шестеро... Семья. Сам работал, и я работала. У нас так дело было налажено - старшие за младшими ходили, стирать, стряпать, штопать мне помогали. И вот всех подняла. Сейчас двое в пехоте, один летчик, а дочка санинструктор в санбате, все воюют, а младшие с дедом в эвакуации. Насчет людей, Вера Николаевна, не бойтесь, в большой семье один одному помогает. Ходячие вон и сейчас уголь носят, печки топят, столярничают, тетки, что покрепче, посуду моют, кухарят. У нас основной вопрос какой? Автоклав, - в тазах много ли накипятишь?.. Все думаю: а ведь тут, под развалинами, где-то четыре лежат. Красавцы. Неужели ни один не уцелел? Вот все мечтаю: откопать бы да и к нашим печам приспособить. А?
Она катает свой бинт, а я свой. Продукты, штаты, автоклав... Неужели она уже свыклась с тем, что город оккупирован?
- Вот вы давеча в палате сказали: «Немцы люди». Вы в это верите?
- Не звери ж. Были ж давеча... Я вот прикинула: какой расчет им нас обижать - хворые, калечные, к чему их убивать? Сами помрем. Однако, - собеседница понижает голос и вместе с бинтами приближается ко мне, - однако тех, кто командиры и политсостав, надобно нам остричь. Форму-то их, вы уж извините, Вера Николаевна, без вашего разрешения, пока вы Васятку оперировали, мы тут сожгли.
- Как сожгли? - чуть не вскрикиваю я.
- В печах, - спокойно отвечает собеседница. - А ну как немец догадается, что у нас тут половина солдаты, да еще ком- и политсостав... Другой разговор с нами поведет. Вот тут уж, верно, нам несдобровать.
- А как же мы их оденем, когда поправятся?
- Тут, как Федосья наша говорит, бог даст день, бог даст и хлеб... Что-нибудь придумаем... Люди помогут.
- Какие люди?
- Как какие? Наши же, советские.
Все это произносится так обдуманно, что и у меня появляется надежда: все действительно преодолимо.
- - Вы просто золото, Мария Григорьевна.
- Самоварное, - без. улыбки поправляет она.
- Все вы знаете, все умеете.
- Вам бы, Вера Николаевна, мою жизнь прожить, с шестью детьми да с мужем, которого в получку от пивной хоть паровозом оттаскивай, тоже научились бы сметану из камня выжимать. Федосья вон говорит: «Нужда скачет, нужда пляшет, нужда песенки поет». Споем и мы нашу песню... Прилегли бы вы малость. После бинтов небось уж и в сон клонит.
Я иду в свой угол, но лечь не удается. У входа шум, осторожные шаги, приглушенные голоса. Как-то уж механически спешу навстречу этому шуму. Мария Григорьевна опередила меня и, оказавшись первой у входа, поднимает ацетиленовую лампу.
- Тише вы! Спят же люди.
6
Первым в проеме двери появляется наш знакомый с плюшевой бородкой. В паре с высокой, крупной теткой, закутанной в темный платок, он тащит носилки. Кто на них - не видно. Он закрыт с головой пестрым стеганым одеялом, искусством набирать которые из разноцветных лоскутков славятся старые текстильщицы. Из-под одеяла видны ноги в растоптанных валенках с толстыми подошвами. Все - и носилки и люди - густо облеплены мягким снегом.
- Антифашистская погодка, - произносит плюшевая борода и, сорвав с головы шапку, принимается осторожно сбивать снег с пестрого одеяла. - Ну, начальнички, койка готова? Командуйте, куда нести.
Женщина в шали боязливо вглядывается в тьму палат, и тут я замечаю странность в ее одежде - все ей мало, узко, коротко. Руки торчат чуть не по локти, юбка не скрывает колен и так узка, что вот-вот треснет по швам. А на крупных ногах - хромовые командирские сапожки. Прошу мне посветить, приподнимаю одеяло. На носилках - пожилой человек с измученным лицом, тоже точно бы выросший из своей одежды. Он так высок, что на носилках не уместился. Ноги свисают с полотнища. Совершенно неподвижен, будто мертв, но глаза открыты и смотрят из глубины темных впадин измученно, страдальчески. Присев возле него на корточки, спрашиваю:
- Вы меня слышите?
Он закрывает глаза, и я понимаю: слышит.
- Что с вами? Что вы чувствуете?
Молчит, лишь кривая усмешка трогает угол его большого рта. Я без труда расшифровываю: неужели, мол, сами не видите?
- Что с ним произошло? Кто он? Откуда?
- Стало быть, порядок прежний? - насмешливо отвечает плюшевая борода. - Анкеточка? Возраст? Пол? Национальность? Состоял ли в других партиях? Нет ли родственников за границей?
- Он тяжело контужен, - отвечает женщина тоненьким детским голоском, таким неожиданным при ее массивной фигуре.
Теперь она сбросила шаль на плечи и оказалась молодой рыжей девицей с розовым, как у всех рыжих, лицом, густо побрызганным по лбу и переносью крупными веснушками.
- Старший санинструктор Антонина Садикова, - рекомендуется она мне и даже пристукивает каблуками хромовых своих сапожек.
- Антон, - с усмешкой поправляет плюшевая борода. - Царь-девица, дайте ей точку опоры, и она одной рукой выжмет все ваше лечебное заведение. - И вдруг, остановившись, тоже вытягивается: - Виноват. - Это уже явно в ответ на взгляд, брошенный в его сторону с носилок.
Действительно, в пожилом человеке с измученным, длинноносым лицом, обметанным неопрятной платиновой щетиной, есть что-то значительное, внушающее невольное уважение. Большой рот полуоткрыт. Крупные растрескавшиеся губы запеклись. Серые, широко посаженные глаза лихорадочно сверкают. Без термометра ясно - жар. Он облизывает воспаленные губы, выжимая ломкую, вымученную улыбку, и что-то рокочет таким глубоким басом, будто звуки вылетают из глубины кувшина.
Но слов не разобрать.
- Что вы говорите? Где болит?
Наклоняюсь, почти приставляю ухо к его губам. И разбираю:
- Диагноз Антона правильный - контузия, обостренная гриппом. Лежу вот. - И улыбается измученно и даже виновато.
Койку мы приготовили в первом отсеке, недалеко от моего «зашкафника». Когда перекладываем новичка с носилок, убеждаюсь, что плюшевая борода права. Девица, которую они именуют мужским именем, поражает всех силой. Она без напряжения и очень ловко подхватывает больного, поднимает на руки, держит, пока Мария Григорьевна откидывает одеяло, а потом бережно, не выказав при этом особого напряжения, опускает на простыни.
- Ух ты! - восхищенно произносит Домка, который, конечно, уже вертится тут в своем халате, стараясь чем-нибудь помочь.
- Вот тебе и «ух ты», товарищ врач, - подмигивает ему плюшевая борода, от которого сильно попахивает водкой. - Она унтерман, не понимаешь? В цирк ходил когда-нибудь? Ну вот, так она в цирке четырех мужчин под куполом на перше носила.
- Вы из цирка? - Домка с жадным интересом смотрит на рыжую царь-девицу.
- Ага, - с детским простодушием детским голоском подтверждает она.
- А вы тоже циркач? - обращается Домка к плюшевой бороде.
- Не циркач, а цирковой, товарищ доктор. Один-Мудрик-один. Ар-р-ригинальный номер... Жонглер с гранатами.
К моему ужасу, неведомо откуда у него в руках оказываются четыре металлические бутылки защитного цвета, и он начинает перебрасывать их из руки в руку. Все четыре. Летая, они успевают по нескольку раз перевернуться и возвращаются к нему. Черные глаза его при этом смотрят мне прямо в лицо победно и нагло. Дескать, видела?
- Это настоящие гранаты? - шепотом спрашивает Домка, восторженно следя за сложными поворотами зеленых бутылок, летающих и кувыркающихся в воздухе.
- Давай, доктор, десяток фрицев. Ставь на тридцать шагов. Попробуем... Один-Мудрик-один!.. Смертный аттракцион. Спросите Антона - она опилки нюхала, знает в цирковой работе толк.
И тут я с ужасом начинаю понимать, что он не врет, этот ловкий человек, не спускающий с меня своих наглых глаз, что в руках у него настоящие гранаты, что каждая из них таит смерть.
- Перестаньте сейчас же! - с ужасом кричу ему.
Он улыбается. Гранаты мелькают в бешеном темпе. Да он, наверное, совсем пьян. Мне вдруг представляется: промах, одна из этих бутылок грохается об асфальтовый пол, рвется, все летит в воздух: Домка, Сталька, этот контуженный, царь-девица, я... Уже плохо соображая, что делаю, бросаюсь к этому Мудрику.
- Не смейте! Вон отсюда!
Он нагло смотрит на меня - глаза в глаза, зрачки в зрачки, а гранаты летают, крутятся.
- Не жильтесь, доктор, пупок развяжется.
Не знаю, что со мной произошло, Семен. Я, как ты помнишь, и на детей никогда руку не поднимала.
А тут размахнулась и влепила этому типу пощечину, да такую, что будто ладонь обожгла. Гранаты сразу, точно по волшебству, все четыре, оказались у него в руках. Мгновение он стоял оторопелый, потом, тихо ступая, угрожающе двинулся на меня. Но я не отошла, я даже не опустила глаз, и он остановился, попятился, этот Мудрик, И вдруг как-то шутовски выпалил:
- «Ха-ха-ха!» - добродушно вскричал старый граф, думая обратное. - Рывком напялил свою барашковую шапку. - Ну, доктор, считайте, что ваш ангел-хранитель - стахановец, а у чертей сегодня выходной. - Он преувеличенно театрально раскланялся. - Всеобщий комплимент. - И, будто сходя с арены, легким шагом направился к выходу.
- Вовчик! - Антонина рванулась было за ним, но в эту минуту контуженный, лишившись сознания, застонал, заскрипел зубами, и она бросилась к его койке.
- Как вы могли, как вы посмели! - шептали пухлые, пестрые от веснушек губы царь-девицы. В глазах, меж длинных медных ресниц, стояли слезы. Они смотрели на меня с ненавистью, эти зеленые, русалочьи глаза. Рука же моя еще чувствовала ожог пощечины. Мне стало не по себе.
Я уже раскаялась. Он же ничего плохого, в сущности, не сделал... Домка в своем докторском халате и Сталька, вылезшая из кровати в одной рубашонке, со страхом глядели на меня. Но если бы хоть одна из гранат грохнулась об асфальтовый пол? Если бы они взорвались в воздухе? Чем-то жутким попахивало от наигранного веселья этого Мудрика... Ой, как скверно все вышло! Вон и Мария Григорьевна, и даже мой старый друг тетя Феня с осуждением смотрят на меня. Так тебе и надо, Верка!
Делаем контуженному обезболивающую инъекцию. Он успокаивается, затихает. Антонина сама вызывается остаться на посту до утра. Я соглашаюсь. Надо же дать выспаться тете Фене и Марии Григорьевне. Столик дежурного переносим к койке вновь поступившего. Он спит. Я тоже прилегла. Но сон не идет, в щели между шкафами мне видно освещенное притушенным светильником лицо новой дежурной, ее обильные, пышные волосы. С лица еще не сошло выражение детского удивления и обиды.
Кто же такая эта девушка, согласившаяся остаться у нас медсестрой? Она очень сноровисто помогала мне осматривать вновь поступившего, ловко, без всяких указаний сделала ему инъекцию. Она необыкновенно простодушна. Я уже знаю, что она дочь циркового артиста и сама циркачка, но до того, как попасть на арену, мечтала, оказывается, поступить в медицинский институт и, по ее выражению, «потерпела фиску», что, кажется, означает на ее языке фиаско. В начале войны окончила курсы медицинских сестер, «теперь поступаю в ваше распоряжение». О военной службе, даже о том, кого они к нам принесли, упорно не говорит: контуженный - и все тут. Но я поняла, что это какой-то большой военный. Как его имя, какого он звания, как оказался на оккупированной территории - об этом ни слова. Не отвечает на вопросы, будто не слышит их.
Вижу в освещенную щель: она встала, наклонилась, - должно быть, поправляет на больном одеяло. Исчезла из виду. Щегольские ее сапожки скрипят, удаляясь. Догадываюсь - обходит палаты. Нет, эта девица для нас клад. Теперь нас уже четверо. Четверо не трое. Если бы не эта дурацкая моя выходка... И как это ты, Верка, сорвалась? Впрочем, что сделано, то сделано. Ну, а если бы этот сумасшедший нас тут взорвал?
...А немцы? Вот уж день прошел - и ни один к нам не сунулся, кроме тех, что вперлись во время операции. Но то не в счет, то солдаты, им было некогда. А другие? Что они с нами сделают? Что нас ждет? Хоть бы детей куда спрятать...
Нет, Верка, нет, не думай об этом! Надо спать. Завтра голова должна быть ясной. Спокойной ночи. Семен!
7
Солнце не проникает в наши подвалы. Время здесь измеряется ритмом больничной жизни, который довольно точен.
Когда я проснулась, из дальнего угла первого отсека, где за дощатой переборкой Мария Григорьевна расположила судомойку, доносилось позвякивание алюминиевой посуды. По этому да еще по пресному запаху овсяной каши, висевшему в воздухе, я догадалась, что больные уже позавтракали, а я безнадежно проспала обход.
- Вы так вчера измаялись, рука не поднялась вас разбудить, - оправдывалась Мария Григорьевна.
- А больные? Как Василек? Как этот вновь поступивший? - Я соскочила с кровати и быстро оделась.
- Без вас обход сделали - все в порядке...
- Как? Кто обошел?
Бледное лицо Марии Григорьевны не умеет улыбаться, но усмешка, даже лукавая усмешка звучит в голосе:
- Новость, Вера Николаевна, нашему полку прибыло. Лекарь объявился.
- Какой лекарь? Откуда?
- Сейчас увидите. - И она кричит куда-то за шкафы: - Иван Аристархович, начальник госпиталя кличет!
Эта Мария Григорьевна, кажется, может заменить всю громоздкую медицинскую иерархию - от сестры-хозяйки до заведующего горздравом. Даже вон должности раздает - начальник госпиталя... Но прежде, чем я успеваю улыбнуться этой мысли, простыня, исполняющая у нас обязанности двери, зашевелилась, откинулась, и передо мной возник пожилой человек с лицом моржа из школьного учебника: морщины вокруг тупого, толстого носа, седые, жесткие, свисающие вниз усы. большие круглые глаза. Он в халате, из бокового кармана торчит старозаветный стетоскоп. Такими у нас давно уже не пользуются.
- Честь имею. К-хе, к-хе... Лекарь Наседкин, к-хе... - бормочет он.
Странное чувство переживаю я: удивление, радость, настороженность, благодарность и испуг - все сразу. Да, и испуг... Ты коренной верхневолжец и помнишь, конечно, эту купеческую фамилию - Наседкины. И его самого, этого дядьку, конечно, помнишь. Ну, знакомый твоего отца, старый брюзга, никогда ни с чем не согласный. Осенью они с Петром Павловичем в ночь под выходные дни ездили по грибы и всегда меж собою спорили и бранились... И отец твой ему в сердцах выпаливал: «Ох, Иван Аристархович, недалеко яблочко от яблони укатилось, папашины дрожжи в тебе бродят. Сомнительный ты человек». А тот, бывало, только кхекает в усы... Помнишь?
И вот этот «сомнительный человек» передо мной.
- Пришел предложить услуги. Работа, надеюсь... к-хе к-хе... найдется?
Старик Стоял, держа в руках акушерский чемоданчик, и как-то странно посматривал на меня.
- О чем говорить, Иван Аристархович! Вы уж утренний обход сделали.
Это я выпалила разом, торопясь победить в себе какую-то подлую настороженность.
- Без анкетки, значит, принимаете? Непривычно. - Под тяжелыми его усами мне почудилась насмешливая, даже недобрая улыбка. - А вы обо мне все знаете?
- Ну, кто же вас не знает, Иван Аристархович! Скольких вы людей от смерти спасли. - Это опять выручает Мария Григорьевна.
- И меня в том числе. От кори. В двадцать седьмом году, - подтверждаю я, хватаясь за это давнее воспоминание. Действительно, когда-то болела я тяжелой формой поздней кори, и мама не раз говорила, что спас меня этот человек.
- Вас?.. Не помню... Ну, не важно. Так принимаете? Анкета моя вам действительно известна?
- Что же. Иван Аристархович, вас тоже забыли, как старого Фирса в пьесе «Вишневый сад»?
- Нет. Остался сознательно, - твердо отвечает он.
- Как? С немцами?
- Почему с немцами? Со своими, с русскими. Не все же ушли. Надо кому-нибудь и о тех, кто остался, заботиться. - И снова уже настойчиво повторяет: - Вы - начальник госпиталя, принимаете меня на работу? И я еще раз спрашиваю: известна вам моя анкета?
Ну кому же из верхневолжских медиков не известно об этом человеке, являющемся своего рода достопримечательностью нашего фабричного района! Знаю я, конечно, и о том, почему, рекомендуясь, он говорит о себе не «врач», а «лекарь».
Он и в самом деле не врач, а фельдшер, не имеющий врачебного диплома, но на всех трех фабриках нашего текстильного города Иван Аристархович Наседкин знаменит не меньше, чем самые выдающиеся врачи. И когда лечение не ладится или затягивается, как это было когда-то со мной, здесь советуют: «Сходите-ка к Аристархычу». К нему идут, и он действительно помогает. Не знаю, что уж тут действует: истинная, кстати сказать, обширная, медицинская практика или не менее важное при многих болезнях самовнушение. Только лечение его, обычно самое простецкое, не выходящее за рамки старой фармакопеи, часто оказывается более действенным, чем новейшие открытия медицины и модные лекарства.
О лечебных методах, применяемых им, в городе ходило немало анекдотов. Так, директору текстильного треста Токареву, персоне в наших масштабах весьма важной, он рекомендовал от полноты... колоть по утрам дрова. Полкубометра зараз. А заведующему горздравотделом, хирургу по специальности, однако, как и все мы, хирурги, побаивавшемуся операционного стола, он от язвы желудка рекомендовал... кислую капусту и рассол. Тот даже обиделся: «Я достаточно зарабатываю и могу позволить себе самую дорогую диету». Иван Аристархович будто бы улыбнулся в свои моржовые усы. «Ешь капусту, язва сама заштопается». И килограммы у Токарева действительно убавились, а язва у заведующего горздравотделом «заштопалась».
И историю этого человека мы, верхневолжцы, тоже знали. Сын верхневолжского богатея, крупного мельника, домовладельца и торговца мукой, в дни первой мировой войны он был военным фельдшером. Частенько заменял на фронте в горячие дни врачей, делал даже сложные операции. Еще на фронте он женился на землячке, сестре милосердия, бывшей акушерке из нашего города. После Октябрьской революции в потрепанной офицерской форме он вернулся в Верхневолжск. Мельница, магазин и большой дом, принадлежавшие Наседкиным, к тому времени уже были национализированы. Он поселился в домике родителей жены на окраине, в Красной слободке, занялся практикой и понемногу заслужил известность.
Происхождение сильно портило ему биографию. О том, что он сын богатого купца, нет-нет да и вспоминали, даже когда-то по ошибке лишили избирательных прав. И хоть это было быстро исправлено, он этого не забывал. К тому же слыл он человеком строптивым, имеющим на все свое мнение и не стесняющимся при случае высказывать его в глаза и большим начальникам.
Давно, еще после гражданской войны, город охватила эпидемия какого-то особого острого гриппа, именовавшегося у нас «испанкой». Врачи сбились с ног, и Наседкина пригласили в фабричную больницу на врачебную должность. Временно, на эпидемию. Он не отказался и с тех пор так и работал, получая ставку врача, но самолюбиво именуя себя лекарем.
Вот какой была «анкета» этого человека. Я ее. конечно, знала. К уже известным добавился теперь еще один пункт: он, по его же словам, сознательно остался в оккупированном городе. И все-таки я обрадовалась: ведь сам собой решался вопрос о врачах. Может быть, Семен, я все-таки поступила легкомысленно? Но ведь ты же советовал думать о человеке хорошее, пока он не докажет, что он плох. Ведь так? Я сказала старику:
- Я знаю вашу анкету, Иван Аристархович, и я очень рада, что вы к нам пришли.
Он молча протянул руку. Рука у него крепкая, сухая, жесткая. Пожатие сильное, мужественное.
Он провел у нас весь день. За ужином, хлебая из миски наш суп из полбы, в котором лишь для запаха варилось несколько воблин, блюдо, к великому огорчению Марии Григорьевны, уже получившее в госпитальном фольклоре наименование «суп рататуй», я прямо спросила его: как же это он решился все-таки остаться у немцев?
- Вера Николаевна, повторяю: не у немцев, а с русскими. - Он без стеснения облизал ложку. - Ваш прекрасный Дубинин так драпанул, что и вас впопыхах позабыл. Лучше это? Ведь город-то, Вера Николаевна, голубушка, не совсем пустой. Бей медицины людям разве можно? Не царские времена, мы наших людей медициной избаловали.
- Но ведь это же, наверное, страшно, Иван Аристархович, - взять вот так и решить остаться с врагом. Я случайно, вынужденно осталась и теперь вот самые сильные наркотики глушу, но ни разу как следует не уснула.
- И напрасно, голубушка, напрасно. Страшно - это когда из корысти подлость делаешь, а если у вас руки чистые... Вольной - он везде больной. Его лечить надо.
- И вы не боитесь?
- А чего пугаться? Гитлер вон к Москве прорывается. Это и впрямь страшно. А насчет меня как индивидуума, - свои мне не очень доверяли, это верно. А немцы? Какое, Вера Николаевна, голубушка, немцам дело до старика лекаря без диплома. Очень я им нужен.
Он говорил, будто думал вслух, но мне, Семен, слышались в его словах не то горькие, не то насмешливые нотки.
Как раз когда мы с Наседкиным вели этот разговор, произошло то, чего я со страхом ждала все это время.
- Пришли, - выпалила тетя Феня, вкатываясь в наш «зашкафник». - Они пришли.
- Кто они? - спросила я упавшим голосом, хотя сразу же поняла, о ком идет речь.
- Фрицы. Трое. Главный-то - рыжий, а усы что у таракана-прусака... Прусак вас и требует.
Мгновение я, точно парализованная, не могла двинуть ни рукой, ни ногой. Ну что, что случилось, Вера? Немцы - ну и что? Пришли - ну и что? Самое страшное произошло вчера - они оккупировали наш город. Должны же они рано или поздно появиться у нас. Все это было верно. Но само сознание, что они тут, рядом, что мне надо с ними говорить. - все это просто ошеломило. Я растерялась.
- Идите, - твердо сказал Наседкин. Он взял меня под руку и повел.
Тетя Феня бормотала мне вслед:
- Ничего, Вера Николаевна, ничего, богат бог милостью...
Солдаты стояли по обе стороны двери - мордастые, рыжие, стояли, расставив ноги и положив руки на эти короткие свои ружья, автоматы, что ли. Тот, которого старуха назвала «Прусаком», суетливо вышагивал по маленькой каморке приемного покоя. Действительно, он чем-то, этой суетливостью, что ли, напоминал тех рыжих усатых тараканчиков, с которыми наши санитарные врачи вели долгую борьбу в рабочих общежитиях и которых у нас звали прусаками. Он был жидкого сложения, но на незначительной физиономии его бросался в глаза толстенький, какой-то подвижной носик и палевые усы, подкрученные на концах шильцем.
- Вы,- пани докторка, есть шпитальлейтерин... э-э... шеф немочници? - спросил он, остановившись перед самым моим носом. Не представившись, даже не поздоровавшись, он начал медленно, то и дело спотыкаясь, лепить фразы из славянских и немецких слов. По общему смыслу я понимала, что он там выквакивает. Но он говорил такие дикие вещи, что не верилось, что это именно он и хочет сказать... Прошлое ушло безвозвратно. Мы включены в сферу нового порядка, провозглашенного фюрером. Советы разбиты, германские пушки обстреливают Москву. Красная Армия бежит за Урал... Я должна это усвоить и приспосабливаться к новой жизни под эгидой Великой Германии. Чем скорее я это сделаю, тем лучше для меня.
Он, этот тараканчик, то и дело подвинчивая свои усики, явно рисуясь, корчил передо мной важную персону. Иногда останавливался и спрашивал: «Ви то поняль?..» Судорожно жмурился, дергал носиком-хоботком, и мне вдруг подумалось, что передо мной не человек, а существо с какой-то иной планеты, существо, в котором нет человеческого, которое живет по каким-то иным, своим законам, непонятным для нас... Те, кто не хочет их понять, недостойны жить в мире нового порядка, те. кто противится, будут уничтожены беспощадно... Бред, страшный бред, но я слушала всю эту тарабарщину. Что мне оставалось делать? В заключение он мне объявил, что какой-то там их чин, комендант, что ли, я как следует уж и не поняла, разрешил нашей, как он выразился, «немочнице», то есть больнице, продолжать существовать и что меня пока что - он это «пока» подчеркнул - оставляют на положении «шпитальлейтерин», то есть, вероятно, начальницы больницы. Так я, во всяком случае, поняла. Затем мне было приказано к завтрашнему утру составить список больных и персонала. Точно в указанный срок. Потом, не снимая верхней одежды, он вместе с обоими солдатами отправился по палатам. Пальцем, будто скот, пересчитывал больных, заглядывал под койки. Что-то записывал. Иногда наклонялся над тем или другим больным, дергал носиком.
- Ви нет есть большевик? Нет комиссар? Юде, еврей?..
Я шла за ним и уже не во сне, а наяву переживала такое мне знакомое состояние тоскливой безнадежности, с той только разницей, что от него нельзя уже было избавиться, проснувшись.
В заключение было сказано, что «пани шпитальлейтерин» за все, что здесь происходит, отвечает перед германским вермахтом, и для наглядности он показал перстом, как мне придется висеть на веревке в случае каких-нибудь нарушений закона. Затем он вручил мне большой жесткий пакет с сердитым расплющенным орлом в уголке и приказал расписаться на конверте.
- Бефель! - строго произнес Прусак, и носик его дернулся как-то особенно многозначительно...
Но что значит слово «бефель» и что содержалось во врученной мне бумаге, узнать сразу не удалось. В приемный покой вкатилась тетя Феня:
- Иван Аристархович просит в операционную.
Что такое? Что там еще? Я сунула бумагу в карман халата и побежала. Оказывается, пока я объяснялась с немцами, женщины на санках привезли какую-то ткачиху Пашу. Занесло ее на огороженный немцами участок во дворе «Большевички», ну, часовой и пальнул. Разве они нас за людей считают? Два ранения, оба навылет. Много крови. Когда я вошла, она уже лежала на столе, Антонина готовила больную, а Наседкин тер щетками руки.
- Я тут похозяйничал без вас - нельзя ждать.
- Серьезно?
- Если задета аорта, скверно. Кровища вон как хлещет. Пальпаторно тут ничего не узнаешь. Давайте скорей...
Переоблачаясь, я с благодарностью думала, как все-таки хорошо, что рядом этот спокойный, уверенный старик.
- В ту войну они все-таки еще людьми были. А эти..-. - Наседкин даже свистнул.
- О ком вы?- не сразу поняла я.
- Об этом сверхчеловеке... О Прусаке. Ну, пошли, пошли, пани шпитальлейтерин!
Когда вчера мы оперировали с тетей Феней, мне удалось отключиться даже от страшного разговора, доносившегося из-за переборки. А сейчас вот этот проклятый Прусак не идет из головы, я никак не могу сосредоточиться. Вместо того чтобы активно оперировать, я ассистирую Наседкину, стремлюсь угадывать его мысли, предупреждать его движения. Но это нелегко Я привыкла помогать Кайранскому. Стиль у него был иной. Работал легко, увлекался, иногда даже начинал напевать. Наседкин только кхекает да изредка ворчит утробным голосом на тетю Феню:
- Наркотиков не жалей, надо снять боль... Э, перестаралась, Христова невеста, смазала всю картину!
Тетя Феня шариком катается по операционной, и наконец и я перестаю думать о немцах и ощущаю давно не приходившее ко мне чувство уверенности. Вспоминаю Кайранского: «У хирурга должны быть глаза орла, сердце льва и пальцы леди!» Пальцы леди! А у меня перед глазами большие, короткопалые, совсем не «хирургические» руки. Они, эти руки, точно сами безмолвно разговаривают с моими руками. Постепенно он. я, тетя Феня как бы сливаемся в один организм, у которого шесть рук и тридцать пальцев.
В отличие от мужественного, терпеливого Василька, оперируемая нервна и малодушна. Ее стоны иногда переходят в крик, даже в вой. Она дергается, рвется. Работаем молча, только слышатся утробные команды:
- Показания?
- Сто... Восемьдесят шесть...
- Крючок. Не этот, поменьше.
Все, все ушло - ни бед, ни печалей. Весь мир сдвинулся в это маленькое поле живой пульсирующей ткани, где легко и ловко хозяйничают короткопалые руки. Ничего не вижу, только этот омытый потом лоб женщины, болезненно вздрагивающие веки, разъятую рану, трепещущее, как птица, сердце, пульсирующие сосуды. Странно это, - хотя мы провозились немало, мне кажется, что все было окончено необыкновенно быстро. Вот уже Наседкин выпрямился, потянулся так, что захрустели кости.
- Иглу... Кетгут...
Тетя Феня торопливо катается на своих коротеньких ножках. Со мной она прямо-таки словоточит, а тут все молча, слова не проронит.
- Уф, конец! - Наседкин выпрямляется, еще раз победно оглядывает крупные стежки ровного шва и выходит в предоперационную. - Федосья, цигарку!
Тетя Феня, работавшая когда-то с ним и знающая его повадки, достает у него из кармана кисет, бумажку, сыплет табак, слюнит, сгибает самокрутку в этакую трубочку, вставляет ему в рот и зажигает.
Старик стоит, опираясь плечом о стену и. жадно затягиваясь, начинает разоблачаться. Втроем укладываем больную на каталку. Она пришла в себя, удивленно смотрит вокруг, должно быть, не понимая, что с ней.
- Ну, Пелагея батьковна, замуж будешь выходить, на свадьбу позовешь. Зашили мы твои дырки на совесть. И фрица благодари - он тебя аккуратно прострелил, ничего серьезного не задел. Вот какой добрый фриц попался. Федосье вон накажи за его здоровье молебен справить...
- Спасибо, - шепчут бледные губы.
- Счастливочко.
Тетя Феня и Домка увозят каталку с больной, а у меня все еще не прошло радостное ощущение удачи.
- Как все здорово у вас. Иван Аристархович!
- Руки, - самодовольно произносит он. И раз-водит пальцы, как два веера. - У вас - диплом, голова, а у меня - руки. - И усмехается в моржовые усы. - А вы меня брать не хотели.
- Иван Аристархович, с чего вы взяли? - бормочу я, чувствуя, как кровь бросается мне в лицо.
- Не краснейте, я привык. - Он прислюнил свою цигарку и остатки табака ссыпал в кисет. При этом я опять обратила внимание, что пальцы у него толстые, короткие, а руки-лапы кажутся неуклюжими. А вот во время операции я просто влюбилась в эти его руки. И мне теперь стыдно гнусной подозрительности, которую я испытала утром, когда этот человек предложил нам свои услуги. Ну какое мне дело, была ли у его отца мельница двадцать пять лет назад? Да, Семен, человека надо ценить не по тому, что о нем говорят, и не по тому, что записано в его анкете, а по тому, что и как он делает. Ведь так? Я нее помню твои слова: коммунизм - это расцвет человеческой личности в коллективе, это взаимная помощь, взаимное доброжелательство, взаимное доверие. Ну, и общая ненависть к врагу, конечно. Но ведь к врагу, именно к врагу, только к врагу.
Наседкин пробыл у нас до ужина. Напяливая свою старомодную шубу на полысевшем хорьковом меху с тощими хвостиками, он спросил:
- Ну, так когда начинаем рабочий день, товарищ шпитальлейтерин?
- Как обычно, в девять, Иван Аристархович.
- В девять? - Он подумал. - В девять поздно. Приду в восемь. Счастливо оставаться. - И ушел, спокойный, деловитый, обычный, унося с собой свой акушерский чемоданчик.
Только тут, сунувшись за носовым платком и почувствовав в кармане что-то холодное и жесткое, я вспомнила об этом самом «бефеле», оставленном Прусаком. Это официальная бумага городской комендатуры, напечатанная на русском языке. «Бефель» - приказ. Оказывается, я теперь не только шпитальлейтерин, но и шеф-артц, то есть главный врач гражданского госпиталя, и мне, на основе распоряжения какого-то там имперского уполномоченного, надлежит содержать вверенный мне госпиталь в чистоте и порядке, тщательно регистрировать каждого поступающего, а в случае, если среди них окажутся большевики и особенно комиссары, а также люди еврейской или цыганской крови, я обязана немедленно сообщить об этом в третий отдел штадткомендатуры. Жалкое оборудование наше, которое мы насобирали в руинах, оказывается, собственность какого то вермахта, и за сохранность его я тоже отвечаю. Ну, а в конце большими буквами напечатано: «За неисполнение данного приказа, равно как и любого его пункта, вы будете подвергнуты наказанию по германским законам военного времени».
Вот, Семен, как обстоят дела. Ты знаешь, что я решила? Спрятать эту бумагу и никому из наших не показывать. Зачем говорить людям, что они живут под топором? Вот только я-то знаю, что надо мной висит топор... Ну, ничего, ничего, как-нибудь.
Наркотиков у нас чертовски мало. Но я полагаю, что сегодня имею право на двойную дозу. Надо же мне уснуть.
8
Знаешь, Семен, кем оказался тот, кого принесли на носилках ночью? Эта Антонинища так мне тогда и не сказала. Но он сам рекомендовался:
- Сухохлебов Василий Харитонович. Полковник.
У него тяжелая контузия. Очень мучается. Стараемся с помощью наркотиков держать его в состоянии полусна. Впрочем, у него не поймешь, спит или бодрствует. Но я уже научилась различать: когда бодрствует, лежит тихо, с закрытыми глазами, а во сне начинает метаться, стонет, командует: «Выбросьте роту из резерва на правый фланг...», «Аэродром не сдавать, держать до последнего...», «Левого соседа на провод...» Впрочем, и бодрствуя, он иногда. забывшись, разговаривает сам с собой. Такая у него, должно быть, привычка. Но тогда уж слов не разберешь.
Все свободное время Антонина вертится около его койки, ловит каждое движение, то подушку поправит, то одеяло подоткнет. Он относится к ней с ласковой шутливостью, как и к моим ребятам. На меня она волком смотрит, должно быть, из-за этого парня, из-за Мудрика, которому я влепила пощечину. Тетя Феня, это наше госпитальное Совинформбюро, уже как-то прознала, что он будто бы суженый Антонины. Впрочем, что она вкладывает в понятие «суженый», так и осталось неустановленным.
А я сейчас вдруг поймала себя на странной мысли, что этот Сухохлебов напоминает тебя, Семен.
Вообще-то трудно себе и представить двух более непохожих людей, чем вы. Ты - коренастый, плотный, как гриб подосиновик. У тебя широкое, полное лицо. Сухохлебов высок, костист да еще к тому же носат. Кажется, взяли его когда-то за голову и за ноги и долго тянули, а потом потащили за нос. Руки у него длинные, худые, на них обозначились вспухшие вены.
У тебя, Семен, как у всех блондинов, отдающих в рыжину, кожа светлая, даже розовая, у него смугловатая, тусклая, покрытая сероватой щетиной, а на лбу и у глаз морщины. Но когда он улыбается, - а он. несмотря на тяжелое свое состояние, улыбается нередко, - морщины укладываются так уютно и весело, что он сразу будто молодеет.
Внешне вы совсем разные люди и все же чем-то похожи. А чем - не знаю и понять не могу. Он молчалив, но его не назовешь нелюдимым. Наоборот, со всеми ходячими он уже в дружбе. Ребята наши в нем души не чают. А вот разговорить его трудно: «да», «нет» - и все.-Наседкин после обхода присаживается на его койку именно «помолчать». Молчать они могут долго, думая каждый о своем.
Понемножку и Антонина, кажется, начала опускать свои иголки. Рассказала мне, что он командовал их дивизией, в составе которой они с боями отступали от границы. Дивизия имела приказ оборонять наш город, заняла оборону, но так как укрепиться не успела, понесла большие потери. Выясняется, что и город наш не бежал в панике, как мне мерещилось, когда я стояла у моста, наблюдая беженцев. Дивизия Сухохлебова, прикрывая отход, все-таки задержала немцев где-то у аэродрома и пионерских лагерей, в тех самых местах, Семен, где мы с тобой гуляли по выходным с ребятишками. Теперь я поняла, почему там грохотала артиллерия. Пока Сухохлебов там сражался, за реку подтягивались свежие части. Они-то и остановили немцев. Вот какова, оказывается, была картина. Там, у аэродрома, где-то на командном пункте, разорвавшийся рядом снаряд засыпал Сухохлебова. Его откопали, привели в себя, но эвакуировать не успели, танки немцев уже ворвались в город. Антонина и этот Мудрик, воевавшие с ним с самой Латвии, спрятали его в каком-то сарае, а ночью перенесли на «Большевичку», в одну из рабочих спален, а оттуда к нам.
Антонина - санинструктор из его медсанбата, а этот Мудрик - какой-то разведчик и будто бы даже «язычник», то есть специалист по ловле «языков». Впрочем, эта Антонина, несмотря на свою детскую внешность, не так уж проста. О Мудрике явно что-то недоговаривает. Но какое мне, в сущности, до этого дело?
Мудрик появляется у нас не часто. Он обитает где-то в городе, куда мы без крайней надобности не выходим, и, по-видимому, ведет ночную жизнь, о которой нам ничего не известно. Во всяком случае, у нас он появляется только с темнотой, с наступлением комендантского часа. Меня он всячески избегает. Тихо проскользнет к койке Сухохлебова и шушукается с ним. Потом отправляется к Марии Григорьевне, с которой у него тоже завелись дела. Она припрятывает для него миску нашего знаменитого «супа рататуй», хлеб, берет в стирку и штопку его белье, и я догадываюсь, что не без помощи этого ловкача у нас стали появляться в рационе, хотя и в микродозах, хотя лишь для самых тяжелых, такие продукты, как сливочное масло, колбаса и даже яйца.
Я тоже стараюсь его не замечать. Но вчера из-за своих шкафов невольно подслушала его разговор с тетей Феней.
- Да скажи, Христа ради, откуда это у тебя, мил человек? Мы и вкус его позабыли, шоколада, - допрашивала снедаемая любопытством старуха.
- А мы, почтеннейшая, цирковые иллюзионисты. Ор-ри-гинальнейший жанр. Мы берем шляпу системы цилиндр, ставим на стол - айн, цвай, драй, как говорит фюрер, - и вынимаем из-под нее кролика, отличного кролика... Полтора кило мяса, не считая ушей.
- Так что же ты, работаешь у них, что ли? - допытывается неутомимое наше Совинформбюро.
- «Работаешь»? Мне больно слышать такие слова, мамаша. Знаете, какие стихи однажды про меня написал в городе Николаеве один мастер-куплетист в стенгазете «Лонжа»: «В еде он очень был проворен, ну, а в труде наоборот...» «Работаешь»? Нет, почтеннейшая, Гитлер с Вовчика Мудрика не разжиреет. Ловкость рук - и никакого мошенства.
С Антониной у него тоже своеобразные отношения. Иногда, спустившись к нам, он, не заходя в палату, свистит с порога в три такта - два коротких и третий длинный, оттянутый, что-то вроде «фю-фю-фью-ю-ю!». Тем же негромким свистом откликается Антонина. Если она не на дежурстве, быстро одевается и исчезает с ним.
- Это у них особый свист, - пояснила мне Сталька, страшная сплетница, обладающая к тому же способностью запоминать чужие фразы и даже передавать их с соблюдением интонации. - Международный язык мастеров цирка. - И тут же довольно ловко воспроизвела: - Фю-фю - фью-ю-ю!
Мы с Мудриком почти не встречаемся, а когда он попадается мне навстречу и разминуться невозможно, он насмешливо вытягивается, бросает руку к козырьку и проходит мимо гусиным шагом, будто перед знаменем. Больные помирают со смеху. Но я не сержусь. Чувствую себя виноватой. Да и вообще он, кажется, славный парень. Как-то попробовала даже перед ним извиниться.
- Не надо слов, - остановил он меня величественным, театральным жестом. - Начальников надо уважать: рабочий и крестьянин трудятся двумя руками, интеллигенция - тремя пальцами и головой, а начальство - одним перстом указующим. Это ценить надо. - И, картинно откозыряв, сделал налево кругом.
Мария Григорьевна в этом Мудрике души не чает, тетя Феня следит за ним с обожанием, а Антонина услышит его свист и вспыхивает, как костер. Так, что огромные ее веснушки перестают быть заметными. И если при этом она занята, уйти с ним нельзя, все у нее начинает из рук валиться.
Я составила расписание дежурств: три сестры, по восемь часов каждая. Оно висит на стене моего «кабинета», пришпиленное к одному из шкафов. Когда у Антонины ночное дежурство, мы этого, «фю-фю» не слышим. Ну, а когда она свободна, ее не удержишь. Неизвестно только, как они избегают немецких патрулей. Возвращается она ночью, и я слышу, как, стараясь пробраться незаметной, натыкается в темноте на койки, гремит табуреткой и как потом стонет сетка койки под тяжестью этой массивной девицы. Сухохлебов добродушно поддразнивает Антонину Мудриком, и у той не только лицо, но шея и руки краснеют...
И все же чем же этот Сухохлебов похож на тебя, Семен? Наш Домка - неплохой шахматист. На кружочках от пластыря он нарисовал шахматные фигурки, и вот сейчас они разыгрывают очередную партию. Домка, видимо, попал в трудное положение - хмурится, трет лоб, сопит. Вот Сухохлебов сделал какой-то ход, мальчишка удивленно смотрит на доску. Вскочил. В сердцах плюет на пол. Проиграл. Сухохлебов улыбается всеми своими морщинками, потирает руки. Счастлив, будто выиграл не у мальчишки, а у какого-нибудь Капабланки или Ботвинника, что ли... Постойте, граждане, а может быть, вот эта самая улыбка, которая, не трогая губ, все время живет в уголках его большого рта, и делает его похожим на тебя, Семен? Ну да, ну да! Ты тоже этак вот незаметно улыбаешься.
Конечно же, общее у вас - юмор. Вчера было так: тетя Феня, чрезвычайно гордая тем, что Сухохлебов называет ее не «няня», а «сестрица», пожаловалась ему на запоры, которые в последнее время мучают больных. Торчавший рядом брат милосердия с высоты своего медицинского авторитета изрек: «Каков стол, таков и стул». И когда до Сухохлебова дошел медицинский смысл этого изречения, он так захохотал, что под ним застонала койка. Хохотал звонко, по-мальчишески, взахлеб, вытирая с глаз слезы. Это умение смеяться и, смеясь, радоваться - это тоже твое, Семен.
И все-то он видит, во всем разбирается. Вот, например, пришла Мария Григорьевна расстроенная. Докладывает: скверное дело - из кладовки пропадает сливочное масло, которое мы бережем для самых тяжелых и выдаем им микродозами, чтобы подольше растянуть. Ломаем головы, кто способен на такую подлость. Сегодня она подкараулила: Зина Богданова, мать Василька. Застала на месте, когда та отрезала кусок от бруса. Меня это просто потрясло. Мы ей доверились, приняли к себе сиделкой, кормим наравне со всеми, а она... Главное - в такое время. Я велела ей сейчас же убираться из госпиталя. Немедленно. Тете Фене, попробовавшей было за нее заступиться, тоже попало. Узнал об этом Сухохлебов, подозвал меня и мягко сказал:
- А вы, доктор Вера, поинтересовались, куда она это масло девает?
- Да для Васятки, для Васятки своего, - ворвалась в разговор тетя Феня. - Я сама видела, как она его подкармливала. Говорит, будто на какие-то там серьги выменяла... Серьги? Были у нее когда-нибудь серьги?
- Ну вот, видите, - только и произнес Сухохлебов.
Мне стало стыдно.
- Тетя Феня, - попросила я, - она на «Большевичке», кажется, в сорок восьмой, живет? Сходите за ней, поищите.
- А и ходить некуда, она вон, во дворе, возле двери плачет.
- Как во дворе? С тех пор? В такой мороз? - Мне стало даже страшно.
- А как же, мать ведь, - подтвердила старуха. - Сучку вон и то от больного щенка палкой не отгонишь.
А когда Зинаиду вернули, замерзшую, тихую, будто окаменевшую, честное слово, я почувствовала
себя виноватой. И вдвойне виноватой оттого, что сыну ее все хуже, что мучает его сильный жар, и мы с Наседкиным боимся - не начался ли у него перитонит.
За эти дни мы не то чтобы свыклись с нашим положением, - свыкнуться с ним нельзя, - но как-то приспособились, что ли.
После появления Прусака немцы будто забыли о нас. Приезжал только на следующее утро какой-то солдат на мотоцикле за списком больных и персонала и укатил. Должно быть, им не до нас, что ли.
Этот самый «бефель» лежит у меня в чемодане под бельем, и я понемножечку уже забываю о топоре, висящем у меня над головой.
Все мы, даже тот паникер, что подозревал, будто я нарочно оставила госпиталь у врага, даже он верит теперь, что оккупация эта ненадолго. Немецкое радио целые дни дует марши и врет, что их генералы будто бы уже рассматривают в бинокль Москву. Никто у нас им не верит. Столицы им не видать. Об этом и разговоров уже в палатах не слышно. Лежат и гадают, когда нас освободят. Через месяц? Через два? К новому году? Мне все вспоминается та звезда, которую ты видел на небе, когда мы заблудились в тумане возле пионерского лагеря. Вот я теперь тоже вижу такую звезду и даже не верю, а знаю, что нашествие это как эпидемия - пока всех косит, но будет ей скоро конец. Я даже как-то перестала думать о том, что будет со мной после освобождения. Будь что будет, лишь бы скорее шли наши. Лишь бы возвращалось свое, родное, без чего, как видно, нашему человеку просто невозможно жить.
9
Тетя Феня вчера изрекла: человек не скотина, ко всему привыкает. Горько, чудовищно, но в общем-то верно. Мы вроде бы даже как-то свыклись с нашим кротовым существованием, и мне кажется, что тут, в темных наших подвалах, нам удается сохранять свой, советский микроклимат.
Мария Григорьевна, Феня, Антонина, те из выздоравливающих, кто уже двигается, совершают вылазки по разным хозяйственным делам. Сестра-хозяйка даже ходила в комендатуру, относила извещение о новых больных. Их четверо. Не очень серьезные случаи, но трое из них военные, один даже политрук роты, так что «бефель», снова нарушен, и у меня есть все основания быть наказанной «по немецким законам военного времени». Я это знаю, но ни на мгновение не колебалась, принимать их или не принимать.
А вот из госпиталя выходить боюсь. Просто физически боюсь солдат в чужой форме на наших улицах. Боюсь, что первый же патруль задержит меня, застрелит на месте или оправдаются эти упорные слухи, что ведутся облавы на молодых женщин и девушек, их будто бы хватают для офицерских домов терпимости. Ребятам тоже строго-настрого запретила выходить. Лишь иногда с темнотой мы выбираемся из подвала подышать свежим воздухом.
Новости нам приносит Наседкин. Ровно в восемь он появляется у нас, тщательно обмахивает веником валенки, сдирает с усов сосульки, греет руки над печкой. Затем достает из чемоданчика свой всегда безукоризненно наглаженный халат, шапочку, переобувается из валенок в тапки. Переодевшись, направляется прямо к койке Сухохлебова, и оттуда я слышу его кхеканье.
- Ну как ночь провели, голубчик?
- Да ничего, Иван Аристархович, спасибо. Ну, а как на улице?
Несколько минут они шушукаются. Потом Наседкин с Антониной отправляются в обход палат, и уже Сухохлебов рассказывает нам, что произошло в городе и, как мы все говорим, «на воле», то есть за линией фронта.
Не знаю, откуда у него эти новости, и верны ли они, но известия в последнее время не так уж плохи. Впрочем, и по звуку артиллерийской перестрелки, время от времени доносящейся до нас, мы понимаем, что в наших краях все попытки гитлеровцев прорваться за реку «терпят фиску», как выражается наша Антонина. Их туда не пустили. Обещанный Гитлером парад немецких войск на Красной площади явно сорвался, хотя они еще и кричат, будто обстреливают Москву из дальнобойных пушек.
- Нет, Москвы им не видать, - говорит Сухохлебов, потирая руки. - Скоро такое начнется... - прибавляет он и так многозначительно смолкает, будто не старый лекарь, а сам Верховный Главнокомандующий сообщил ему о своих замыслах.
Все понимают: знать он об этом, конечно, не может. Но в его неистовой убежденности, что именно так и будет, - огромная сила. Даже самые заядлые брюзги и истерики, какие у нас, увы, имеются, даже они не пытаются спорить. Ему просто верят, и вера эта действует как живая вода.
- Откуда это у вас? Вы же не сходите с койки и не можете быть информированы больше, чем любой из нас, - спросила я его как-то.
Морщинки веселыми лучиками побежали от уголков его глаз.
- Я знаю столько же, сколько и вы, добрейший наш доктор Вера. Ничуть не больше. Но как-никак я кадровый военный. Это раз. И я большевик - это два. Старый, много повидавший большевик. Вот и все мои тайны. Вы. врач, по разным известным вам признакам ставите больным диагноз. Вот и я пытаюсь.
Не знаю, уж кто, Наседкин, Мудрик или любезнейшая Антонина, возвращаясь из своих ночных вояжей, приносят ему новости, но только он осведомлен и о том, что происходит в городе. Тоже в общем-то неплохо: из-под Москвы на запад непрерывно идут поезда и автоколонны с ранеными немцами. В последние дни их транспортируют даже самолетами. Под сортировочные госпитали заняли все больницы, здание обкома, облисполкома, общежитие педагогического института, школы. Мертвых не успевают даже хоронить. Их так и везут куда-то на машинах через город, навалом, будто дрова. И мы радуемся. Радуемся даже тому, что недавно наша авиация накрыла и уничтожила помещение трамвайного парка, которое, говорят, в этот день было тесно набито санитарными машинами. Радуемся, что кто-то в городе запалил их продовольственные склады и что неизвестный человек, которого так и не поймали, ранил военного коменданта прямо у него в кабинете и что комендант, по рассказам, отдал богу душу по пути к санитарному самолету.
Нет, вести ободряющие. Действуют они на моих подопечных гораздо эффективнее, чем самые сильные успокаивающие средства, которых, к слову сказать, у нас давно уже не хватает. Однажды после ухода Наседкина Сухохлебов показал мне листовку. Она была явно отклеена со стены, заскорузла от клейстера, разорвана. Но все же можно разобрать и сообщение Советского Информбюро, и заметку в конце сводки, в которой говорилось, что советская авиация массированным налетом в районе станции В. разбомбила четыре эшелона с живой силой и техникой противника. Мы вспомнили, как позапрошлую ночь глухо рокотало в южной части города, и как зарево там распахнулось на полнеба. Сразу поняли, что это за таинственный город В. Поняли и порадовались: нет, мы не забыты.
Заскорузлый от клейстера листок этот до самого вечера гулял по палатам, с койки на койку, из рук в руки, и даже Даша, прядильщица с «Большевички», у которой роговицы опалены при тушении зажигалок, и которая ходит с глазной повязкой, долго щупала этот листок. И, конечно, благодаря этому листку день у нас прошел тихо - ни одной истерики, ни одной ссоры, ни одной перебранки. Казалось, даже раны и ожоги не так сильно мучили в этот день, и самые нетерпеливые спокойно переносили перевязки. Сказала об этом Сухохлебову. Он улыбнулся куда-то внутрь себя.
- Ну что же, мы материалисты, нам в чудеса верить не положено. А в силу слова верьте сколько угодно. Хорошее большевистское слово - сила вполне материальная.
А вот меня листовка эта не успокоила. Наоборот, взволновала. Кругом борьба. Борьба не на жизнь, а на смерть - на фронте и тут вот, в тылу врага. Кто-то зажигает склады, кто-то стреляет в коменданта, взрывает эшелоны, портит мосты. А я вот сижу в своих подвалах, боюсь на улицу нос высунуть. Стыдно признаться. Семен, но я еще не решилась даже дойти до домика твоего отца, не знаю, цел ли он, хотя до него от нас десять минут ходу. Боюсь, просто боюсь. И вот сейчас листовка эта лежит передо мной, прижатая к столу какой-то склянкой. Лежит как живой упрек моему малодушию и трусости. Я боюсь выйти на улицу, трясусь при виде какого-нибудь вшивого фрица, все время думаю об этом проклятом «бефеле», который приходится все время нарушать, о наказании, которое меня за это ждет, если все откроется. Я даже вздрагиваю и сжимаюсь, когда хлопает блок входной двери.
Ну почему, почему, Семен, у тебя, человека мужественного, волевого, такая трусливая жена?
10
Впрочем, с немцами, которые с недавних пор надзирают за нашим госпиталем, я все-таки научилась держаться, мне кажется, правильно.
Теперь они появляются у нас дважды в неделю, с точностью, будто на работу, - ровно в одиннадцать. Они из санитарного отдела комендатуры. Обычно их трое - двое офицеров и солдат, не знаю уж, зачем они его с собой таскают. Старший из них - капитан, доктор Краус, медик, высокий, сутуловатый, лысый, в очках без оправы и с золотыми оглобельками, заправленными за большие, оттопыренные уши. Тетя Феня окрестила его «Толстолобик». И действительно, шишковатый лоб его необыкновенно высок и как бы нависает над лицом. Это неторопливый человек с усталыми глазами, тихим голосом. Во рту или в руке у него всегда трубка, но я не помню, чтобы он хоть раз ее курил. Второй - уже известный нам Прусак, препротивная личность в лейтенантском звании, в присутствии Крауса ведущая себя смирно, даже подобострастно. Солдаты меняются.
Появляются они всегда одинаково, будто совершают какой-то ритуал. Стук, распахивается дверь. Настороженно вглядываюсь в полутьму, грохоча сапогами, входит солдат и, застывая у двери, кладет руки на автомат. За ним, сгибаясь, чтобы не удариться лбом о косяк, появляется Толстолобик и, наконец, соблюдая почтительную дистанцию, - Прусак. Солдат так и остается у двери, а офицеры направляются ко мне. Краус наклоняет голову и начинает говорить, а Прусак, вероятно, опережая его, переводит все одну и ту же фразу:
- Господин доктор Краус свидетельствует свое уважение доктору пани лекарке Вере и выражает надежду, что она чувствует себя хорошо, потому что у нее отличный вид и превосходный цвет лица.
Толстолобик еще раз кланяется, но мне смешно. Ведь он умнее и интеллигентнее этого пошлого приветствия, должно быть, однажды и навсегда вызубренного Прусаком.
Затем задается вопрос о поступлениях. Поступления теперь редки. Это жертвы бомбежек, пожаров. Осколочные ранения. Ожоги. Вчера, ночью, правда, привели раненого летчика. Его прятали где-то в рабочем общежитии, но рана воспалилась, потребовались медицинская помощь и квалифицированный уход. Я помню, конечно, этот «бефель», но появление новичка меня уже не испугало: семь бед - один ответ. Уничтожили его одежду, нижнее белье, постригли беднягу ужасной нашей машинкой, после чего голова его стала похожа на облезлую шапку. Сочинили для него легенду.
Легенда - это уже сухохлебовское нововведение. Он настоял, чтобы каждый военный сочинил для себя легенду, объясняющую, где он работал в городе, как сюда попал, где был ранен, кем доставлен. Эти легенды вызубриваются назубок, и Сухохлебов сам экзаменует усвоение. Он почему-то придает этому особое значение, хотя пока что ни одному из наших ни разу не приходилось пускать эти легенды в ход.
Не знаю, может быть, я ошибаюсь, но мне кажется, что Толстолобик вообще не интересуется, откуда и кто новые больные. Прусак же обычно весь настораживается. Подскакивает к койке новичка и, глядя на него в упор, задает тоже известные всем нам вопросы:
- Большевик? Комиссар? Еврей? - Лицо его при этом морщится, а носик так и ходит.
Получив в ответ три уверенных «нет», он некоторое время с сомнением смотрит в лицо спрошенного, потом многозначительно кивает головой и передает свое резюме Толстолобику. Иногда что-то в этих «нет», должно быть, кажется ему подозрительным. Он сообщает Толстолобику о своих сомнениях, но тот брезгливо отмахивается. Потом они, набросив халаты, обходят палаты, причем Толстолобик идет, явно скучая, зато Прусак с подчеркнутым усердием заглядывает в лица больных, под кровати, на кухню, в кладовку. К этому рвению своего подчиненного Толстолобик относится с подчеркнутым пренебрежением. Вообще они, должно быть, не терпят и побаиваются друг друга.
Может быть, мне только кажется, но я начинаю думать, что этот Краус, немолодой немецкий врач, немножко симпатизирует мне. Однажды он зашел в «зашкафник», присел на табурет, достал из кармана бумажник, вынул фотографию, показал мне. На ней изображены крупная женщина и два рослых симпатичных парня. Моих школьных познаний немецкого хватило лишь на то, чтобы понять: жена и сыновья, оба солдаты, и, слава богу, один сейчас во Франции, а другой - в Африке, в войсках генерала Роммеля, а не здесь, в этой холодной и страшной стране. Уходя, Толстолобик вынул из подсумка две плитки шоколада, протянул Стальке и Домке. Политичный Домка сделал вид, что не заметил, отвернулся, ковыряя сучок на тыльной стороне шкафа. Сталька оттолкнула руку, протягивающую шоколад. Я испугалась. Толстолобик вздохнул, покачал головой и вышел из нашего «зашкафника», оставив шоколад на столе.
- Ауфвидерзеен, фрау Вера!
- До свидания, господин Краус!
Тут, Семен, я должна тебе признаться в дрянном поступке: я не вернула шоколад и не сказала никому, даже Сухохлебову об этом злосчастном подарке. Очень хотелось побаловать ребят этим лакомством. Но они у нас народ твердый, заставили меня разделить плитки на мельчайшие дольки, а Сталька раздавала потом по крошке всем нашим подземным жителям.
Первую дольку, конечно же, получил Сухохлебов. Просто понять не могу, чем этот человек приворожил ребят. Не только моих, но и бедного Василька, койку которого, по его просьбе, даже поставили теперь рядом с Сухохлебовым. Вот и еще одно сходство между вами. Тебя ведь, Семен, дети тоже любили.
- Нам вас, Василий Харитонович, сам господь бог послал, - брякнула ему как-то тетя Феня.
- Ну что ж, не очень, конечно, четкая формулировка, Федосья Ивановна, но раз не отдел кадров, то, может быть, и господь бог, шут его знает, - согласился он.
И все-то он понимает. До всего ему дело. Тут как-то Мария Григорьевна посокрушалась о плохом питании, и возникла у них идея организовать целую экспедицию. Я уже говорила, что хирургический корпус вместе с кухней и кладовыми, где хранились запасы, разрушен, но не сгорел. Вот и посокрушались они, сколько продуктов завалено в этих кладовых.
- А какие там продукты? - поинтересовался Сухохлебов.
- Да разные. Крупы, горох. Консервов не больно много, но и консервы были. Ящиков десять. И масло - чуть начатая бочка... Мало ли... Вот, все пропало. - И она даже слюнки с шумом подтянула.
- А почему пропало? Консервы-то не гниют, - сказал Сухохлебов и даже приподнялся на локте. - Раз не было пожара, целы консервы. А что, если попытаться раскопать?..
Мария Григорьевна некоторое время сидела молча, пожевывая губами. Она не умеет у нас быстро решать. Посидела вот так. Потом встала и сказала:
- Попробуем, - и ушла.
Этим же вечером экспедиция, сколоченная из выздоравливающих, начала раскопки. Разбирали камни несколько ночей. Трудились все, даже моя Сталька таскала битые кирпичи. И ведь докопались: несколько кулей муки, консервы, бочонок повидла, бутыли с постным маслом, порядочно крупы и гороху. Правда, все это сильно подмокшее и тронутое мышами. Но в нашем положении не до качества.
Когда все эти трофеи перенесли в чулан с толстой железной дверью, предназначенной для хранения противопожарных инструментов, я, поглядев на богатства, вздохнула с облегчением. Голод, приближение которого мы ощущали всякий раз, наблюдая, как день ото дня знаменитый «суп рататуй» становится все жиже, отступил. Ну хоть ненадолго. Хотя бы на несколько недель.
Теперь, вдохновленные этим успехом, оба они мечтают о новой операции. Сухохлебов вспомнил, что в их дивизии в обозе были лошади. Были кони и в разведвзводе. Почти все перебиты. В октябре в этот год уже стала река. Стало быть, мороженая конина и до сих пор лежит в снегу, замерзшая, занесенная метелями. Мороженая конина? Ну что же, в нашем положении и это пища. И вот у них имеется проект - разрубить эти туши, привезти и засолить. Плохо? Да нет, прекрасно. Просто прекрасно!
Видишь, Семен, и радости у меня появились. И я уже не паникую, а верю, что мы продержимся, дождемся своих. На чем основана эта вера? Да всерьез ни на чем. Просто много у нас хороших людей и тут, под землей, на крохотном клочке, где мы сохраняем свои порядки, и в городе, по которому шагают гитлеровские патрули.
Вот Наседкин, - сколько его обижали. Кому бы, как не ему, может быть, и припомнить сейчас все обиды или, вспомнив отцовское дело, начать хапать и богатеть. Ну как же, один медик на весь район! Последнее отдадут, лишь приди к больному. А он вон с точностью, будто ему номерок вешать, идет каждый день пешком к нам в госпиталь, где ничего не получает, кроме миски знаменитого нашего супа, горстки каши да кусочка хлеба с повидлом.
Или Мудрик. Занят какими-то своими, не знаю уж, чистыми или нечистыми, делами. Как я его оскорбила! Но, являясь к Сухохлебову и к своей крале, никогда не забудет что-нибудь принести для нашего госпиталя. Прошмыгнет через палаты, сунет Марии Григорьевне и исчезнет. Тут как-то, опередив Антонину, я вышла из своего «зашкафника» на его тихое «фю-фю-фью». Он усмехнулся. Бросил к моим ногам рюкзак, в котором громыхнуло что-то тяжелое.
- Гостинец вашим доходягам. Не побрезгуйте.
В мешке были... коробки с отличными конфетами нашего довоенного производства. Я даже вскрикнула:
- Откуда?!
- Со склада, фрау Вера, со склада трофеев. Под расписочку, с расчетом на том свете, угольками. - И он картинно поклонился, как артист, выполнивший любимый публикой номер. - Заметьте: Мудрик никогда не удалялся с манежа без хлопка...
Он еще больше оброс, борода из плюшевой стала каракулевой. Глаза увеличились и как-то лихорадочно сверкали в углубившихся впадинах. Должно быть, нелегко приходилось ему.
- Володя, не надо, не рискуйте. Мы тут откопали немного продуктов, обойдемся без ваших гостинцев. Не надо рисковать...
- А вы красивая, - вдруг брякнул он, смотря мне прямо в глаза.
- Не будете лезть в петлю? Обещаете?
- Я на лонже жить не умею, - как-то посерьезнев, сказал он.
- А что такое лонжа?
- Спросите на досуге у Антона, она вам объяснит.
- И все-таки не рискуйте. Не будете, да? - Я притронулась к его рукаву. Мне действительно было жаль эту слишком уж удалую голову. – Ну, я прошу вас.
Он отдернул руку, отодвинулся, и я опять услышала это противное балаганное:
- «Ха-ха-ха!» - вскричал старый граф, думая обратное...
А потом он сидел у койки Сухохлебова. Они о чем-то секретничали. Лицо у него было серьезное, он озабоченно тер ладонью свою каракулевую бороду.
Мудрик внезапно появляется и внезапно исчезает. Я очень боюсь, как бы его не принесло, когда здесь немцы. Кто знает, что может выкинуть этот отчаянный парень... Впрочем, вряд ли есть такая опасность. Он ходит бесшумно, как кошка, и чутье у него, должно быть, тоже кошачье...
И еще, Семен, скажу тебе по секрету: беспокоит меня этот Толстолобик. Я его просто боюсь. Нет, не какого-то подвоха с его стороны. Это интеллигентный человек и совсем не похож на гитлеровца. Но сочувствие его к нам может быть неправильно истолковано. Для госпиталя это, вероятно, полезно, но вот для меня... Сейчас вон Сталька, эта курчавая обезьянка, уморительно изображает его:
- Яволь, фрау Вера... Ауфвидерзеен, фрау Вера... Натюрлих, натюрлих...
Все, даже Сухохлебов, покатываются со смеху, а мне вдруг становится страшно. «Фрау Вера»! Если до наших дойдет, как адресуется к твоей жене немецко-фашистский оккупант, если там узнают о шоколадках, которые он оставляет моим детям... Я знаю, ты бы меня понял. Но ведь ты у меня особенный, и не ты будешь судить мои поступки.
«Фрау Вера»! Да, это звучит просто угрожающе.
11
Семен, я в смятении. Две новости принес сегодня Наседкин - страшную и странную.
Страшная такова: в город прибыли новые немецкие части - рослые, упитанные солдаты, один к одному. Не в пример тем, которых мы до сих пор видели, хорошо, тепло обмундированы. Шинели у них не серо-зеленые, а черные. На фуражках - череп и кости. Наседкин говорит, эту эмблему носили в ту мировую войну русские головорезы из батальонов смерти. Что-то в этом роде и, наверное, гораздо хуже, на гитлеровский манер. Чтобы разместить их штаб, немецкий же госпиталь был срочно вытряхнут из здания облисполкома. Они разместились в верхних этажах, а в стенах первого пробили широкие ходы, и в залах у них гараж. Эти «черные» сразу же развернулись: начали прочесывать рабочие районы, говорят - похватали массу людей. Их куда-то увозят в закрытых машинах с металлическими кузовами. Целыми семьями будто бы берут.
Сухохлебов пояснил: «Это войска эс-эс». Больше он ничего не сказал и только попросил меня запретить выздоравливающим без разрешения выходить из госпиталя днем. И все. Но потом, я слышала, как он что-то обеспокоенно бормотал, разговаривая сам с собой.
Не знаю уж, в связи ли с появлением немцев в черном или просто время пришло, но только я и весь наш персонал получили через Прусака приказ в двухдневный срок явиться в какой-то там третий отдел штадткомендатуры, зарегистрировать свои паспорта и получить «аусвайсы» - это что-то вроде видов на жительство.
Передавая мне это распоряжение. Прусак как-то особенно многозначительно дергал носиком и несколько раз повторил:
- Ви отвечайт. Шпитальлейтерин отвечайт...
Едва он успел убраться, как состоялась наша первая встреча с представителем «новой гражданской администрации», о которой столько трещит немецкая газетенка «Русское слово»: ее недавно стали издавать в нашем городе какие-то паршивцы. Ввалился омерзительнейший тип в роскошном романовском полушубке явно с чужого плеча, со старой шашкой на ремне. Представился: полицай здешнего околотка. Так, между прочим, и сказал - не «полицейский», а «полицай».
- Извещение получила? - спросил он меня. - То-то. Чтобы мне все явились, как часы. Кто отфилонит, с тем в гестапе говорить будут. Поняла?
От него несло луком и водочным перегаром. Огляделся, высмотрел на стене местечко и, сопя от усердия, принялся с помощью липких бумажных ленточек наклеивать какое-то объявление с гитлеровским орлом наверху. Наклеивал и все с опаской косился на больных. Десятки глаз разглядывали из полутьмы его полушубок, повязку, шапку. В палате стояла тишина.
- Начальничек, следи, чтоб какая большевистская сволочь не сорвала. Ответишь...
Палата молчала, и тишина эта была выразительней любых слов. Полицай отступил к двери и уже оттуда закричал:
- Эй, доходяги! Вам подфартило, имеете шанс. Комиссары, командиры, жидобольшевики есть? Стучите в комендатуру. Оплата сдельная: по десять косых за голову - хошь деньгами, хошь шамовкой... Поняли? Можно и мне сообщить, - фарт пополам, не в церкви, без обману. Поняли?
Палата продолжала молчать. Было так тихо, что хриплый голос отдавался в углах, хотя эхо в наших подвалах раньше, кажется, не водилось.
- Можно и письменно, втихаря, без всякого шухеру, - прибавил полицай, оглядываясь, продолжая пятиться к двери, словно опасаясь, как бы кто не пальнул в него.
Тут кто-то уронил табуретку, и этот «представитель новой администрации», даже не оглянувшись на звук, втянул голову в плечи и метнулся к двери, путаясь в своей шашке. И вот тут, Семен, мне довелось услышать такие ругательства, каких не слышала и в детстве, хотя и выросла я на берегу, у дровяной пристани, а гонщики и катали, как ты знаешь, великие виртуозы по части брани.
Потом я прочла вывешенную им бумагу:
«Извещение
На основании приказа рейхскомиссара сим довожу до сведения всех обывателей города Верхневолжска, что:
Параграф первый. Люди, которые будут прямо или косвенно поддерживать и укрывать членов большевистских банд, именующих себя партизанами, военнопленных беглецов, саботажников и бродяг, предоставлять им пищу, кров или иную помощь, будут караться смертью, и имущество их будет немедленно конфисковаться.
Параграф второй. Лица, кои своим своевременным сообщением в третий отдел штадткомендатуры или через полицию помогут германским военным властям поймать или уничтожить члена любой большевистской банды, а также иных искомых любой из перечисленных категорий, получат немедленно тысячу рублей наличными или, по желанию, продуктами питания в соответствующем эквиваленте.
На основании распоряжения рейхскомиссара Отто Кирхнер - штадткомендант, штурмбанфюрер СС.»
Прочла я это извещение и, признаюсь, как-то вся сжалась. Ведь это о нас, ведь это прямо нам, мне адресовано. Новое? Нет. Все это уже было в этом проклятом «бефеле», который я спрятала в чемодане с детским бельем. Но о том знаю лишь я одна. А это - у всех на виду... Нехорошо, очень нехорошо так думать, но вдруг все-таки кто-нибудь из наших соблазнится и донесет... Разные люди, иных я просто и не знаю... И если хоть кто-то один...
Он уже давно бежал, этот «представитель новой администрации», совсем не страшный, скорее комичный, похожий на персонаж из какой-то, не помню уже какой, оперетты, а я все не могла успокоиться... Может быть, кто-то лежит и уже прикидывает, сколько можно заработать, предав нас: в семье не без урода, паршивая овца все стадо сгубит... Сколько таких пословиц... Нет, нет, об этом лучше не думать. Побежала, конечно, к Сухохлебову, но об этих своих терзаниях и ему сказать не решилась. Завела разговор о регистрации: как нам быть?
- Обязательно зарегистрируйтесь. Точно и в срок. Какие тут могут быть сомнения? - тихо басил он. - Комендатура имеет список персонала, зачем попусту дразнить гусей? Может быть, сумеем достать эти штуки для раненых? И для меня тоже? - Он хитро подмигнул. - Только моя фамилия теперь Карлов. Карлов Анатолий Дмитрич, агроном из пригородного совхоза «Первая пятилетка». - И, заметив мое удивление, достал из-под подушки паспорт, старенький, потертый по углам и, несомненно, настоящий паспорт, с фотографии которого смотрело его характерное, носатое лицо.
Он подмигнул ребятам, как всегда толкавшимся поблизости:
- А ну, кто я есть?
Оба ответили:
- Дядя Толя.
- Агроном Карлов.
- Ну вот, видите, и имя прижилось. - Сухохлебов улыбался. - Ну, а чего задумалась, доктор Вера? Рано или поздно должны же они были взяться за упорядочение комендантских дел. Они и раньше бы взялись за это, да, видать, Москва очень отвлекает. - И вздохнул: - Москва, Москва, нелегко тебе приходится...
О полицае, об извещении, что белеет на стене и прямо-таки притягивает мои глаза, я так и не поговорила. Не спросила даже, что означает превращение Сухохлебова в Карлова и откуда взялся паспорт. И все-таки почему-то успокоилась. Решили: завтра с утра пойдут регистрироваться Мария Григорьевна, тетя Феня и Антонина. Вернутся - расскажут, что и как, а на следующий день пойду я. Впрочем, я не совсем успокоилась: что там ни говори, а страшное это дело, по выражению Мудрика, «дергать черта за хвост».
Так вот, это первая новость, а вторая такая, Семен, что я, вот честное слово, до сих пор и не поверила в нее. Не хочу, не могу поверить.
Утром, по обыкновению своему, выкуривая перед обходом толстенную цигарку, Иван Аристархович как-то нехотя, с трудом выдавил из себя:
- А ведь я сегодня, Вера Николаевна, вашего свекра встретил.
- Петра Павловича? Не может быть!
Я точно знала, что задолго до исхода из города он вместе со своим ремесленным училищем отплыл на одной из барж, отправлявшейся вниз по Волге, в глубь страны. Перед эвакуацией зашел в госпиталь прощаться. Говорил, уезжает вместе со своей «ремеслухой», предлагал захватить внуков. И все еще сокрушался: все мягкое он закопал, а вот домишко не на кого оставить, пораскрадут все. Жалел, что поросенка приходится забить, а он весу еще не набрал. А какой боровок к рождеству бы вырос... Знаешь, ведь есть, есть в нем эта черта, которую я никогда не любила. Но остаться у немцев? Как это можно? Кадровый слесарь, любивший всегда хвастать: «Я - российский пролетарий». Нет, нет...
- Вы с кем-нибудь спутали, Иван Аристархович.
- Спутал? Нет, голубушка. Вера Николаевна, то-то и оно, что не спутал. Мы с ним нос к носу встретились, где трамвай в снегу стоит. Смутился он. Стоит и молчит. Спрашиваю: «Что хоть делаешь-то?» Отвечает: «Слесарю. А ты?» Отвечаю: «Тоже вот по специальности - людей лечу». Спрашиваю: «Завод твой в эвакуации, где ж ты слесаришь?» Еще пуще смутился. «А, какое тут слесарство, горе одно, дома ковыряюсь - лудить, паять, ведра починять. Жрать-то надо». Тут я, Вера Николаевна, голубка моя, не стерпел и за все двадцать пять лет моих обид на нем отыгрался. «А я, говорю, частной инициативой не занимаюсь. Я - в советском госпитале». Он встрепенулся: «У нее?» - «У нее». На том и разошлись. - Толстая цигарка даже потрескивала от жадных затяжек, из-под прокуренных моржовых усов валил едкий дым. - Так-то. Вера Николаевна, голубушка. Вот ведь как бывает.
- А о внуках спросил?
Наседкин курил. Ясно было - неприятно ему об этом рассказывать. Не оборачиваясь, стоя спиной, так, что я сзади видела лишь кончики его усов, ответил глухо:
- Не совру, не спросил. - И перевел разговор: - Ну, а Васятка-то наш как?.. Плох? Да, бедный малый. Осмотрим, да и решать надо. - И пошел по палатам, сопровождаемый Антониной.
Странно, дико все это, Семен. Если бы ты и в самом деле мог слышать меня, я бы тебе эту новость, пожалуй, и не сообщила. Каждый день наблюдаю, как беда сплачивает людей, поднимает их. Едва получат возможность вставать с койки, давай им какую-нибудь работу. Те, что не встают, и то чистят картошку, выбирают из крупы или гороха мышиный помет, мало ли... Эта Паша, которую мы с Наседкиным недавно оперировали, в тот же день лежа скручивала бинты. Зинаида Богданова, что масло крала, днем мается у койки сына, а ночью моет посуду, стирает... А тут Петр Павлович с его всегдашним: «Мы, старые пролетарии...» Домишко, поросенка пожалел... Нет, нет, Семен, я все-таки в это не верю. Преодолею завтра свои страхи, схожу к нему, на худой конец хоть уговорю его отремонтировать автоклав, который наши откопали в развалинах. Руки у него золотые, это у него не отнимешь.
Новости так меня взволновали, что никак не могу успокоиться! В палатах тихо, слышно, как Паша, скатывая бинты, что-то насвистывает, да Антонина, моя полы, на какой-то особый, неизвестный мне, печальный мотив выкрикивает тонким голоском частушки:
Дайте девочке винтовку,
Дайте серого коня,
Я убью злодея Гитлера,
И кончится война.
Странная все-таки девица. Теперь со мной свыклась, и я все про нее знаю. Она из Латвии, из того края, где живут русские крестьяне, но еще девочкой попала в цирк: «с детства опилки нюхала», как она выражается. Занималась акробатикой. Ловкость и невероятная сила выдвинули ее в группе гимнастов «четыре-Ригас-четыре» в «унтерманы». Она стала «нижним человеком», держащим на себе грех партнеров, выделывающих при этом в воздухе разные штуки.
Когда Латвия воссоединилась с Советским Союзом, девушка попыталась поступить в медицинский институт. Провалилась, а в первые дни войны пошла, как она по-старинному говорит, в «сестры милосердия».
Ах, товарки-санитарки,
Белые косыночки.
Осторожнее кладите Вову на носилочки...
Голосишко тоненький, почти детский и очень смешно контрастирует с ее большой, прекрасно развитой, сильной фигурой. Огромный ребенок. Она чирикает, как воробей, должно быть, совершенно не сознавая своей женской привлекательности и не замечая, как мужчины жадно провожают ее взглядами. В речи ее случаются смешные выражения. Так, рассказывая о рижском кладбище, она сообщила, что там очень красивые «фамильярные склады». Про Наседкина, которого она побаивается, она заявила, что он «страдает мантией величия», а сейчас вот, испрашивая у меня разрешение помыть полы, сказала: «А то у нас прямо Авдеевы конюшни».
Но как работает! Подогнула халат чуть ли не до подмышек, засучила рукава, поддернула юбку, и вот уже больше часа, не разгибая спины, гоняет воду огромной тряпкой по шершавому асфальтовому полу. В одиночку передвигает койки, даже вместе с больным, если тот не может подняться. В полутьме розовеют ее большие стройные ноги.
У миленочка мово !
Поговорочка на «о».
Он на «о», и я на «о».
Значит, буду я яво...
Может быть, все это рассчитано? Нет, нет, чепуха! Это действительно простодушнейшее существо...
Сегодня решили мы с Наседкиным вновь вскрыть брюшину у Василька, хотя он и очень слаб. Другого выхода нет. Он весь пылает, почти не выходит из забытья. На мать страшно смотреть. Она не кричит, не бранится, даже не заговаривает. Только смотрит на нас своими васильковыми глазами. Ну лучше бы уж бранилась. Итак, решено - завтра с утра веду детей к деду, а потом иду регистрироваться в комендатуре.
Вот твердо все решила, и на душе стало спокойнее.
12
Утром, не давая себе раздумывать и колебаться, я вышла из наших подвалов на волю. Вышла и сразу же зажмурилась. Честное слово, Семен, вот дожила до тридцати с лишним лет и не знала, что на свете может быть такая красота. Собственно, ничего, конечно, особенного. Сколько раз ждал ты меня в нашем больничном парке перед хирургическим и легко представишь все, что открылось передо мной. Только вместо нашего больничного здания - руины, кирпичные холмы, заваленные снегом, и над этими холмами, как последний гнилой зуб во рту старика, осколок стены, почему-то устоявший при взрыве. И тоже покрытый кристаллической изморозью.
И все-таки красота утра потрясла меня. Все в густом инее. Деревья сверкают, искрятся, будто их окунули в перенасыщенный соляной раствор, и все они обросли кристаллами. И сугробы сверкают. А тугие спирали оборванных проводов похожи на елочную канитель. Я просто не узнала знакомой картины. Так же вот порой преображается на глазах молоденькая хорошенькая сиделка, пришедшая из дома кое в чем и переодевшаяся в белую больничную одежду.
Кстати, по совету Сухохлебова для этого первого своего выхода я тоже надела белую госпитальную косынку. Мы накроили их из ветхих простыней по дореволюционной русской выкройке, чтобы концы спускались на плечи, а на лбу оказывался маленький красный крест. Сухохлебов в шутку ли, всерьез ли утверждает, что этот традиционный наряд армии милосердия предохранит нас на улице от многих неприятных случайностей. Ну что же, проверим, ведь рано или поздно придется выбираться из наших под-валов. Ребята тоже взволновались. То, что мы идем к деду, Стальку очень обрадовало, а Домка задумался и ничего не говорит. Мне даже кажется, что он весь как-то насторожен.
Когда первое очарование от этого сияющего дня прошло, глаза привыкли к белизне и острому сверканию инея, меня поразил вид неузнаваемо изменившихся улиц, заметенных снегом, заваленных сугробами, которые никто с начала зимы, должно быть, так и не разметал. Военные машины пробили на проезжей части широкую колею, и не по тротуарам, а именно по этой колее и брели редкие прохожие. Они не одеты, а закутаны. Даже на мужчинах платки или шали. Лица коричневые, белеют лишь щеки, нос да часть лба.
Мы прошли трамвайную остановку, обошли по сугробу вросший в снег вагон с прицепом и, бредя по колее, стали обгонять пожилую женщину и девочку, которые старались вытащить заехавшие в снег сани, к ним был привязан большой, продолговатый, завернутый в простыню предмет. Я-то, разумеется, сразу поняла, что это, и, хотя старуха и девочка выбились из сил, хотела было скорее провести ребят мимо, но Домка тут же принялся помогать, вытолкнул сани в колею и, когда выпрямился, я увидела его расширенные испугом глаза.
- Что это, тетя?
Старуха ответила спокойно и будто даже безразлично:
- Нашу мамку везем. Померла наша мамка, хоронить едем.
- Отмаялась. - Это сказала девочка, ровесница нашей Стальки, и в устах ее как-то очень странно прозвучало старушечье это слово.
- Пособили бы, если по пути, - попросила женщина.
Домка впрягся в Сани, и они бойко побежали по накатанной колесами колее.
- Простудилась она еще на окопах, наша мамка, - рассказывала старуха, семеня за санями. - Все кашляла, все кашляла. К врачу бы, а где сейчас найдешь вашего брата?- Старуха покосилась на мою косынку. - Свои ушли, а кому до нас теперь дело? Да всех и не перелечишь. Войди вон в любую спальню, хоть на «Ворошиловке», хоть на «Большевичке», - все кругом дохают, не то что лечить, хоронить некому, так мертвяки в своих каморках на постелях и лежат, благо холодно, тлен не трогает.
Эта сверкающая, щедрая русская зима и мертвые где-то в своих домах, на своих постелях... Нет, в наших подвалах, видать, не так-то уж и плохо. Помогаю Домке тянуть сани, а сама смотрю вперед, вон он, на углу, домик нашего деда. Окна не замерзли, не смотрят бельмами, как в большинстве домов на этой улице. И над трубой в неподвижном воздухе стоит дымок, пушистый, как лисий хвост... Живут...
Ну что ж, вот мы и дошли. Отдаем старухе веревку и все трое невольно провожаем глазами сани.
От колеи к калитке ведет отчетливая, хорошо протоптанная и даже расчищенная лопатой дорожка. Над калиткой вывеска под стеклом: «Слесарная мастерская. П. П. Никитин». А по фасаду продолговатая: «Ремонт примусов, кастрюль, бидонов, ведер, стенных часов, патефонов». Просто под горло подкатило негодование. Дом свой пожалел, поросенка. Приспособился... Ремонт кастрюль и примусов...
Нет, Семен, слушай дальше. Слушай и знай, что в этом моем мысленном рассказе я вполне объективна, ничего не прибавляю и не убавляю. Немало мне приходилось в жизни разочаровываться, но тут... Ты слушай, слушай.
Когда мы открыли калитку, в доме звякнул колокольчик. Знаешь, точь-в-точь такой, какие прибивали когда-то торгаши над дверями своих лавчонок. Поднялись по чисто выметенному крыльцу и в окошко увидели за цветами круглую физиономию твоего отца.
Он отпер дверь. Сталька бросилась к нему с криком: «Деда!» - но Домка остановился на крыльце, и мне пришлось почти силой втолкнуть его в прихожую. Он все-таки вошел, но поклонился деду, как постороннему, и сразу же уставился на старенький радиоприемник, изрыгавший какие-то марши.
Нет, нет, я и мысленно не хочу ничего преувеличивать. Старик обрадовался, и больше, конечно, детям, чем мне... Но на его мясистом лице дрожала какая-то совсем не свойственная ему, этакая растерянная, блудливая улыбочка. Забыв даже, что ему следовало хотя бы для приличия удивиться нашему появлению, он бормотал:
- Вот и ладно, вот и хорошо. Входите, входите, гости дорогие. С морозцу чайку попьем. - И подмигнул Стальке. - У меня еще с лета варенье, малиновое да крыжовенное, Татьяна наварила... Ты чего, Дамир, стоишь? Раздевайся... Ух ты, какой молодец, выше матери вымахал!.. Вера, ты уж сама раздень Стальку, не умею я с вами, с бабами... Да вы садитесь, садитесь, вот стулья.
Он старался вести себя так, как будто мы недавно виделись и теперь вот заглянули по пути. В этом была стыдная фальшь. А в приемнике между тем музыка прервалась и какой-то жестяной, слишком уж чисто выговаривающий слова голос начал по-русски:
- Главная ставка фюрера, третье ноября. Наши армии нанесли Советам новый мощный удар на западных подступах к Москве. Передовые панцирные части уже пробились к городу, и танкисты видят из своих башен в бинокли кресты и шпили русской столицы...
Петр Павлович, поначалу, должно быть, забывший о радио, рванулся к приемнику, выключил его.
- Вот брехуны, вот брехуны! Это ж придумать надо - видят кресты. - И засуетился: - А вы садитесь, сейчас самовар вздую... Ты, Сталька, поди и не знаешь, что это за машина такая - самовар? Электричества-то нет, вот и пришлось старую технику реабилитировать... Уж как хорошо-то, что вы меня отыскали... А я-то думал, вы уж - тю-тю... за Уралом шанежки лопаете.
Мне стало стыдно, но я ничего не сказала. А Сталька - знаешь ведь, какая она у нас...
- А вот и соврал, деда, - бухнула она. - Ты же знал, что мы здесь, рядом.
Старик покраснел так, что на подбородке и на щеках обозначились его светлые волосы.
- Врет он, старый хрыч, Аристархыч... Был лишенцем и сейчас в душе лишенец.
- А откуда же вы угнали, что это он нам о вас рассказывал? - ломким, петушиным баском выкрикнул Домка, называя деда на «вы». Он не отводил глаз от патентного свидетельства, висевшего на стене в черной аккуратной рамке. В свидетельстве говорилось, что «ремесленнику Никитину Петру Павловичу, слесарю высшей квалификации, отдел коммерции и промыслов бургомистрата города Верхневолжска разрешает вести на дому слесарное дело». Были какие-то подписи, печать, и сверху типографским способом был отштампован злой гитлеровский орел, держащий в когтях венок со свастикой. Вот этот-то орел, должно быть, и приковал Домкин взгляд.
От этого орла мальчишка не мог отвести глаз. Теперь он вперил их в лицо деда.
Тут стукнуло кольцо калитки. В сенях пронзительно задребезжал ветхозаветный колокольчик. Открылась дверь, и появилась какая-то старая, а может быть, и не старая, но старообразная, обмотанная платками женщина. Она прижимала к себе большой, продолговатый, завернутый в скатерть предмет, который при каждом ее движении издавал мелодичный глубокий звон.
- Часы вот вам принесла. Старорежимные, хорошие, фирмы Беккер. Примите.
- Ступай, ступай, никаких часов я не беру. Ишь чего выдумала! - засуетился старик, виновато оглядываясь на нас и стараясь оттеснить посетительницу за дверь.
- Ну как же так, у хозяйки нашей Огурцовой Ксении Николаевны третьего дня взяли. Хорошую цену дали. Уж возьмите, чудные часы, как бьют! Я бы разве продала? Родилась, выросла под их бой, а что поделаешь, есть-то надо. Картошка вон на рынке почем. - Женщина умоляюще сложила руки. - Ну возьмите, у меня мама уж и не встает...
Ой, что я пережила, Семен!
- Да ступай ты со своими часами! - заорал Петр Павлович срывающимся голосом. - Сказано - не беру никаких часов. Прочти на вывеске: слесарь - лужу, паяю, починяю. Понятно?
Но беда, наверно, сильно прижала эту маленькую женщину. Она упорствовала, чуть не плача.
- Ну зачем вы неправду-то говорите? Вон, вон они, круглые. Это хозяйки моей. Огурцовой, часы. Что я, их не знаю? - Действительно, недалеко от окна, в стороне от верстака с тисочками и маленького токарного станка, рядом с кучей ржавой ерунды, стояло на полу несколько часов, в том числе круглые столовые, в светлой оправе из карельской березы. Женщина указывала на них. - Взяли ж, а почему мои?.. Я совсем дешево. Ну, сколько сами дадите. - Она задела часами за верстак, и они издали громкий, многоголосый, органный стон. - Мне хоть на картошечку. - И женщина вдруг грохнулась на колени, протягивая руки.
- Ступай, ну, ступай!- упрашивал старик, силой поднимая ее с полу. - Не могу я, на торговлю другой патент нужен. Что мне, из-за тебя головой рисковать?
Женщина поднялась. Неприязненно посмотрела на меня, сделала понимающее лицо.
- Ну что ж, верно, верно... Я после зайду. А часы уж, извините, оставлю, тяжело мне таскать.
И в окно сквозь жирный, с водянистыми стеблями вечно цветущий кустик, стоявший на подоконнике, который в наших краях почему-то зовут «ванька-мокрый», мы увидели, как она положила часы на перильца крыльца и побрела к калитке. Тут, ничего не сказав, Домка сорвался с места и вылетел на улицу, хлопнув калиткой так, что с ворот посыпался снег.
- И с дедом не попрощался! - горько сказал старик.
- И я не попрощаюсь. Думаешь, буду я с тобой, с буржуем, чай пить? - Эти слова вылетели у Стальки. Не глядя на растерявшегося деда, она дергала меня за руку. - Пойдем, ма, пойдем. Не надо нам его варенья, ни малинового, ни крыжовенного.
Что там скрывать, Семен, сцена с часами и меня потрясла. Нэпманов я еще смутно помню, но ростовщиков и скупщиков видела разве только в театре. И узнать в этой роли твоего почтенного папашу, видеть, как он, всегда кичившийся своей «рабочей костью», скупает по дешевке вещи у людей, оказавшихся в беде, видеть у него на стене патент со свастикой, - да, это было, пожалуй, самым страшным из того, что пришлось мне пережить с тех пор, как в город вошли немцы. Для сына отец всегда отец, но я никогда не найду для него оправдания. Да и какой он мне родственник? Знать его не знаю. Эта мысль как-то сразу меня успокоила, и я деловито повела беседу.
- Я, собственно, Петр Павлович, по делу к вам, как к специалисту. У нас в госпитале - вы же знаете о нем - так вот, в госпитале не пущен автоклав. Мы откопали его в развалинах, но он испорчен. Нужно отремонтировать, приспособить к печному отоплению и наладить... Платить мне, правда, пока нечем, но...
- Вера, зачем ты так? - почти простонал он.
- Так как же, Петр Павлович? Мы бы были вам очень благодарны. Могли бы дать за труд немного продуктов.
- Завтра приду, - сказал он.
Я встала. Он опять жалко забормотал:
- Уходишь? Ну как знаешь. А то заходила бы, - один живу, по людям скучаю.
Один... И опять соврал. В прихожей под вешалкой стоял чей-то костыль. Ну, взял какого-нибудь инвалида в подмастерья, какое мне в конце концов дело... Врать-то зачем? Мы двинулись к двери. Старик шел за нами.
- Вера, тут у меня кое-какие харчишки... возьми для ребят... Сталька, вот тебе баночка с вареньем. Дай я тебе сейчас заверну.
У девочки загорелись было глаза, но все-таки она героически отстранилась.
- Не надо... Не надо нам никаких харчишек... - И дернула меня за рукав. - Ма, пойдем.
Мы вышли. Старик, не одеваясь, в косоворотке, в тапках на босу ногу, стоял на крыльце.
- Вера, в случае чего заходи... И ребята... А насчет автоклава - это я вам соображу. - Нечаянно он толкнул часы, лежавшие на перилах, и в морозной тишине раскатился их мелодичный утробный звон. Под этот звон й хлопнула за нами калитка.
- Ну что же вы! - сказал Домка. Весь посинев от холода, он подпрыгивал, греясь.
- Ма, мы к нему больше не пойдем? Ма же... - настойчиво скулила Сталька, дергая меня за руку.
Мы все трое почти бежали из вашего дома, где тепло и светло, где уютно пахло геранью, хлебом и чем-то вкусным, в вонючие наши подвалы, в наш настоящий дом.
Остаток дня и вечер были очень тяжелыми. Четверым было худо. Вчера мы снова оперировали Василька. Увы, перитонит! До глубокой ночи я просидела у его койки. Малый весь пылает. Откачали много гноя, сделали, что могли. А что мы тут можем? Все наши сульфамиды кончились. Нет простого стрептоцида. Я даже рискнула попросить у Толстолобика. Обещал. Но немцы уже пропустили одно посещение. Их нет... А Василек - молодчина - терпит, ни стона, ни звука, ни жалобы. Мать его в состоянии какого-то транса. Вот и сейчас сидит у него на койке, держит его руку и смотрит ему в глаза... Ой, хоть бы утро скорее! Завтра, может
быть, Толстолобик все-таки принесет наконец обещанное... Как это ужасно - понимать, что человек угасает, видеть, как жизнь уходит из него, точно знать диагноз и быть бессильной хоть чем-нибудь помочь. Передо мной и сейчас вот глаза его матери - синие, безумные...
Хоть бы заснуть поскорее!
13
Васильку, кажется, лучше. Это общее наше с Иваном Аристарховичем заключение. Температура спала. Но он очень слаб. Пульс еле прощупывается. Он ничего не ест. Были немцы. Толстолобик осмотрел Василька и подтвердил наш диагноз. Потихоньку от Прусака сунул мне несколько коробочек какого-то сульфамидного препарата, название которого мне неизвестно. Говорит - хороший. И еще я заметила - Толстолобик нервничал. Должно быть, у них под Москвой все-таки неважно. Уходя, он довольно свирепо потребовал, чтобы мы привели в порядок, как он выражается «скорбные листы». Потом, когда Прусак поотстал, вполголоса выпалил целую, должно быть, заранее заготовленную им фразу по-русски:
- Это есть важно, доктор Вера. Как будет... О, ферлейхт зо? Порядок... - И повторил: - Порядок, большой сейчас порядок.
Уже потому, что он не воспользовался переводчиком и решил, по-видимому, сделать это предупреждение непосредственно, я поняла, что это почему-то действительно для нас важно, что-то нам угрожает. Поняла и встревожилась...
Ну, а регистрация в комендатуре и получение видов на жительство, этих самых «аусвайсов»? Еще вчера, вернувшись в госпиталь от Петра Павловича, мы увидели всех трех наших сестер в роскошных «старорежимных» косынках. Стояли окруженные всеми, кто мог ходить. Целая толпа.
- А они, бог с ними, как в газете на картинках, - горошком сыпала тетя Феня. - Картузы домиком, сапоги ведерком, и все на одно лицо. Здоровенные мужики на машинах тюкают. А драться - нет, греха на душу не положу, не совру, не дерутся. И слова похабного от них не слыхала. Один даже мне на скамью показал: «Дескать, садись, тетка, чего стоишь?» Обходительный.
- Ладно, раскудахталась - «обходительный», - оборвала ее Мария Григорьевна. - На скамью ей показал... А они наших людей во дворе горкома под вой моторов каждую ночь в расход списывают. Это тоже обходительные? Скольких похватали... Что не рассказываешь?
- А то мы не видели, про то слышали... А город - матерь божия! Весь, будто кладбище, занесен, и возле тропок на главной улице кучи человечьего. Кучи, все кучи... Это удивляться можно, откуда при немцах столько говна. Едят мало, а кругом кучи, - частит тетя Феня, быстро перестроив повествование. - И откуда только берется?
Город действительно тонул в обильных снегах, и действительно возле узеньких тропок, протоптанных вдоль улиц, перед слепыми домами, где еще теплилась жизнь, много мерзлого кала. Стены желтели от мочи. На Советской я обгоняла людей, несших воду в ведрах, кастрюльках прямо с Волги. Прохожих почти не было. Только по проезжей части с ревом, тяжело покачиваясь, двигались одна за другой пестро раскрашенные машины да, гремя подкованными каблуками по мерзлой земле, шагали патрули.
Семен! Я уже говорила тебе, что в ночь исхода наш Верхневолжск напоминал смертельно раненного, у которого кровь хлестала из артерий. Ну, а сегодня он походил на покойника, - нет, даже не на покойника, а на полураспотрошенный труп в анатомичке. И люди бродили по нему, как последние осенние мухи.
День был морозный, хрусткий, звонкий, и это как бы подчеркивало трупный распад.
Тут и там видела я небольшие, уже обветренные объявления. Было слишком холодно, чтобы их разглядывать. Но я споткнулась возле трамвайного столба и чуть носом не ткнулась в такое объявление. Невольно прочла. И лучше бы уж не читала.
«В ночь на 20 октября злонамеренным лицом был тяжело ранен при исполнении обязанностей офицер вермахта. Так как это уже не первый случай, по моему приказу было расстреляно 25 (двадцать пять) мужчин. Во избежание повторений этого требую еще раз сообщить германской администрации о всех подозрительных лицах и случаях...»
И все та же подпись:
«Отто Кирхнер, штадткомендант. штурмбанфюрер СС»
А ведь я иду туда, в комендатуру. И не могу не идти. Обязана идти...
Странно, - на всем пути от Больничного городка до Восьмиугольной площади, где в помещении центральной сберкассы сейчас их штадткомендатура, я не встретила ни одного знакомого. А может быть, встретила и не узнала. Большинство жителей ходит сейчас, как выразилась Сталька, «неумыткой». Лица у всех коричневые. На них. будто у негров, выделяются зубы и белки глаз. Это я разглядела в приемной, помещавшейся в зале, где я когда-то каждый месяц сдавала членские комсомольские взносы.
Регистрация шла в несколько очередей, по группам букв алфавита и, надо отдать немцам справедливость, организована была неплохо. Я быстро нашла очередь и стала понемногу продвигаться к своему оконцу. Не привыкли мы к таким молчаливым очередям. Все как бы стеснялись друг друга. Никто не разговаривал... Нет, не все, конечно, были на одно лицо, как это мне Показалось сначала. Вон дебелая девка, изуродовавшая избытком помады и краски свое простое и даже миловидное лицо. Вон какой-то попишка комсомольского возраста с жиденькой, мочальной бородкой... Что это? Кажется, инженер Блитштейн с «Большевички». Я его когда-то оперировала. Откуда он взялся? Может быть, это все-таки не он? Лицо скрыто за поднятым воротником... Нет, он. Как же ты, голубчик, остался? И зачем пришел сюда на регистрацию? Ведь эти черномундирные немцы просто охотятся на евреев...
Все томятся, опустив головы. Тишина прерывается лишь покашливанием, сморканием да громким стуком пишущих машинок за перегородкой. И ведь действительно тетя Феня права - странно видеть мужчин-военных за этим женским у нас делом... Вдруг покашливание и сморкание как-то разом стихли. Что-то произошло. Оглянулась и вижу в дверях - кого бы ты думал, Семен? Киру Владимировну Ланскую. Ту самую актрису, которую оплакали ее друзья. Живая, здоровая, она, близоруко щурясь, смотрит на всех этих голодных, потерявших свой облик людей в жеваных одеждах и царственно улыбается. Она нисколько не изменилась. На ней серая каракулевая дошка, пуховый белый платок, прикрывая пышные русые волосы, свободно спадает на плечи. На руке, которой она придерживает платок у горла, лайковая перчатка. Ланская обводит взором прищуренных глаз таблички у столов регистрации. Кто-то озябший, закутанный в плед вышел из очереди и поясняет:
- Вам сюда, Кира Владимировна. Вот тут ваша буковка.
- Ах, мерси! Я совсем слепая стала, - произносит она глубоким контральто.
Тут взгляды наши встретились. Ланская узнала меня, улыбнулась, подошла, взяла за руку.
- Милая, и вы здесь? Вот сюрприз! Что же вы тут делаете? - Большие серые глаза снисходительно-ласковы. - Впрочем, что я спрашиваю, ваша косынка - ваш ответ. Кстати, она вам очень к лицу. Вы в ней совсем юная и страшно хорошенькая... Работаете в их госпитале?.. Пристают? Хамят?
У нее огромное обаяние. Я сразу поверила в ее улыбку и в ее участие, потянулась к ней. Но что-то, - может быть, именно этот ее слишком уж свежий вид, - все-таки настораживало.
- Я слышала, вы упали с крыши...
- Слышали? Да? От кого? - оживленно спросила она. - Впрочем, меня то и дело об этом спрашивают. Мы, актеры, - романтики, любим присочинить... Нет, просто у меня подвернулась нога, и меня увели во время налета. Видите, и сейчас хромаю. За мной наблюдает главный хирург их госпиталя. - И шепотом: - Такой сверхважный сухарь. Говорят, ученый, но я не верю, вероятно, обычный армейский костоправ. Интересно, пошла бы мне ваша косынка? - И совсем без перехода, тихо: - Сейчас мы с вами быстро устроим эту дурацкую процедуру, зарегистрируемся, получим «аусвайсы» - и отсюда прямой ко мне. Лады? Ах, как я изголодалась по хорошим людям среди этих механических обезьян! Вы посмотрите мою ногу, а я вас угощу французским коньяком «камю». Идет?.. Вы знаете, эти сверхчеловеки, покорители Европы, немцы, хлобыщут здесь только французские и испанские вина. Именно хлобыщут или глушат, если угодно, потому что ни черта в них не смыслят. А насчет очереди - сейчас, айн момент.
Окруженная густым косметическим благоуханием, сопровождаемая удивленными, неприязненными взглядами, Ланская подошла к барьеру, поманила одного из писарей, попросила доложить коменданту... Слишком уж она выделялась в этой печальной, однообразной толпе, из-за перегородки ее заметили. Машинки перестали стрекотать. Тут и там выставились любопытные физиономии. Просьба ее, вероятно, не совсем обычная, была, однако, тотчас же выполнена. Из боковой двери, ведущей в кабинет начальника сберкассы, появился немолодой, наголо обритый офицер в очках. Сухо кивнул мне, учтиво, как знакомой, откозырял Ланской, сделал ей знак пройти за перегородку.
- О нет, господин лейтенант, я не одна. Со мной моя подруга, доктор... доктор...
- Трешникова, - тихо подсказала я, уже понимая, что попала в скверную историю.
Зная, что мне не следует идти туда, я попыталась вернуться в очередь.
- Нет, нет, Кира Владимировна, вы уж идите. Я тут со всеми. Моя очередь недалеко...
Но ее было не остановить.
- Доктор Трешникова - известнейший хирург Верхневолжска. Попросите господина штурмбанфюрера Кирхнера принять ее.
«Штурмбанфюрер Кирхнер! Это тот, что расстрелял двадцать пять заложников, - пронеслось у меня в голове. - Это его извещение приклеили у нас. Идти к этому палачу? Нет, нет...»
- Доктор очень торопится, - продолжала Ланская, насмешливо поглядывая на меня. - Скажите, что ее ждут раненые германские воины...
- Я работаю в нашем госпитале. В нем только русские! - закричала я в ужасе.
Все восемь очередей молчали. Лица были повернуты к нам. Они ничего не выражали, эти лица. Но глаза... Лучше бы мне не видеть эти глаза... А тут еще я вдруг заметила в углу, на скамейке, Мудрика. Ну да, это он в своей каракулевой бородке. Но что это? Сидит, откинувшись на спинку деревянного дивана, положив на костыль забинтованную и, кажется, даже загипсованную ногу. В руках госпитальная палка. Сидит и исподтишка посматривает на меня... Он ранен? Когда? Почему не пришел к нам и почему не мы наложили ему повязку?.. Я хотела пойти к нему, но снова появился гологоловый лейтенант, как видно, адъютант коменданта, и сделал знак - прошу. Мудрик откровенно усмехался.
Я, как и все мы, много слышала о немецких фашистах, которые, кстати, именуются не фашисты, а нацисты. Видела их в фильмах, в пьесах. Но если бы мне сказали, что этот немолодой, толстый, благодушный офицер в свободном черном кителе, сидящем на нем, как пижама, новый нацистский комендант нашего города, штурмбанфюрер войск эс-эс, я бы не поверила. При нашем появлении он учтиво вышел из-за стола, усадил нас в кресло и довольно прилично выговорил по-русски:
- Целую ручки, весь к вашим услугам.
- Господин штурмбанфюрер. это моя подруга доктор Трешкина. Хирург, восходящее светило медицины. Если бы не ее искусство, я бы, вероятно, не имела сейчас удовольствия с вами разговаривать. Она собрала меня буквально из кусков, - ворковала Ланская, небрежно бросив ногу на ногу, однако так, чтобы видно было ее круглое, полное колено. Продолжая выдумывать про меня дикую ерунду, она достала сигарету, повертела в пальцах, и толстяк тотчас же протянул ей зажигалку. Впрочем, слушая ее болтовню, он просматривал какой-то длинный, лежащий на столе список и, когда она замолкла, поднял на меня светлые, водянистые глаза.
- Трешникова? Вера Трешникова? Я слышал о вас, доктор Трешникова. У вас госпиталь на семьдесят пять коек. - Он встал, повернулся к стене, где над ним, под портретом пучеглазого Гитлера в военной форме, висел план города и, ткнув карандашом в нарисованную на плане кроватку, сказал: - Ваш госпиталь здесь? Я осведомлен. Вы - шпитальлейтерин, вы делаете одно... вас зинд да?.. одно благородное дело.
Он знает о нас. Он даже фамилию мою правильно произнес, не в пример Ланской. Хорошо это или плохо? Мы изображены на его плане, узаконены. Наверное, все-таки это лучше. Но что ему отвечать? О чем вообще может говорить советский человек с гитлеровским офицером? Я вопросительно взглянула на Ланскую, - она сидела, откинувшись на спинку кресла, небрежно покачивая ногой, покуривая, мучительно напоминая, нет, не Любовь Яровую, а какую-то другую женщину из этой пьесы. На губах насмешливая, но отнюдь не злая улыбка. Она наблюдает за мной, как взрослый человек, бросивший трусливого мальчишку в воду, снисходительно наблюдает, как там он барахтается, ожидая, что он выберется сам, и в то же время давая ему понять, что утонуть он ему не даст.
- Мы, господин штурмбанфюрер, знаем, как вы заняты, мы на минуточку, - произносит она на самых воркующих нотах своего богатого голоса. - Мы должны зарегистрироваться, получить эти, ну, как их, о господи, ну... эти ваши штучки... «аусвайсы». Но там такая очередь... Вы, как истинный офицер, конечно, рыцарь... Не поможете ли вы двум растерявшимся дамам?
- О, да, да, мы все так обязаны вам, фрау Ланская, за ваши... вас зинд да?, за ваше искусство.
Он вызвал звонком адъютанта, распорядился. Тот взял наши паспорта и исчез, а хозяин кабинета тем временем отошел к маленькому столику, где стоял графин. Отвернувшись от нас, положил в рот пилюлю. Быстро запил. «О, да у тебя, батенька, должно быть, язва. Да и свирепая», - подумала я, заметив гримасу боли на его мясистом лице.
- Фрау Ланская, мое намерение открыть здесь к рождеству офицерское варьете очень велико... нет, важно, да, так, важно. Оно одобрено командованием. Москва к тем дням будет взята, возможно, мы достанем столичных актеров, но звездою, разумеется, будете вы. - Толстяк галантно поклонился и постарался проглотить болезненную икоту.
- Да, да, конечно, мы уже сейчас готовим с господином Винокуровым программу. Мне подарили фаши... о, черт, немецкую пластинку... Я разучиваю песенку на вашем языке.
- Хорошо бы что-то такое... о, вас зинд да? что-то херцлихен... херцлихен... О, нун зо... сердечное, сердечное. Мы далеко от нашей милой родины, от своих любимых жен и матерей. Храбрые солдаты скучают по семьям... Что-то... О, как же это будет по-русски?.. Ну, что согреет сердце.
- Поняла, учту ваше пожелание. Что-нибудь согревающее сердце? Прелестно... Отлично задумано. Но, может быть, господин комендант пришлет мне что-нибудь, что согреет наши желудки?
- Желудки? Вас ест желудки?.. Ах, зо, ха-ха!.. Натюрлих, натюрлих... Германское командование умеет ценить тех лиц, которые ему искренне служат.
И когда адъютант принес наши паспорта и мы расписывались на каких-то трех листках, он тут же отдал ему по-немецки соответствующие распоряжения. Ланская лихо подмигнула мне.
Снова надо было пройти через зал, сквозь строй насмешливых, недоумевающих, очень недобрых взглядов. Артистка шла, привычно улыбаясь. Несмотря на заметную полноту, она легко несла свое большое, складное тело. А я бросилась через приемную, как человек бросается через огонь во время пожара. И хотя я не сделала ничего плохого, не произнесла ни одного компрометирующего меня слова, я чувствовала себя перед этими людьми преступницей.
Я была уже у двери, когда меня остановило тихое восклицание: «Товарищ доктор!» Инженер Блитштейн. Это, конечно же, он, хотя его трудно узнать, так он осунулся, постарел.
- Товарищ доктор, всего два слова. Вы были у коменданта, вы с ним знакомы... Что это за человек?
Не знаю уж, что выразило мое лицо, но он заторопился:
- Вы понимаете, как вышло... Мирра, жена моя... у нее был инфаркт. Нетранспортабельна. Разве мы могли ее бросить? Я остался. И дочери остались. Что было делать? И вот... сначала нас не трогали. Но в пятницу... Вы, конечно, слышали, что здесь происходило? Эти эсэсманы врывались ночью в еврейские квартиры, хватали людей, куда-то увозили, не давая даже взять ничего с собою. Мы целые сутки просидели на чердаке. Но за нами не пришли. Мы было облегченно вздохнули. И что же - пожалуйте, эта регистрация. Как вам это нравится? А?.. Что теперь? А Миррочка так больна. Ей нельзя даже волноваться.
Темные, глубоко запавшие глаза смотрели на меня с надеждой. Но что я могла ему ответить?
- У меня такая же повестка, как у вас. Всех регистрируют.
- Мы - несчастная семья. Что я им? Я варю мыло. Нужно же в городе мыло? Не вам, врачу, объяснять, - может вспыхнуть эпидемия... А моя жена, мои девочки... Доктор, не могли бы вы походатайствовать перед господином комендантом?.. Одно слово. Одно маленькое слово.
Я растерянно посмотрела на него.
- Коменданту? Как коменданту?.. Но он слушать меня не станет. - И вдруг как-то само собой сказалось: - Как врач, я навещу вашу супругу. Адрес?
- Пожалуйста, пожалуйста! - обрадовался он. - Ах, не на чем написать... Но просто запомнить: «Большевичка», дом шестьдесят один. Шесть и один... Квартира восемь... Это во дворе... Найти легко - наискосок от бань...
Ланская, нетерпеливо пережидавшая разговор у двери, решительно подошла к нам.
- Извините, мы торопимся. - По-хозяйски взяла меня под руку. - Пошли, Вера Николаевна, нас ждут...
- Да, да, конечно. Я понимаю, я все понимаю, - торопливо забормотал инженер. - Но, доктор, умоляю... Если, конечно, можно... Она совсем беспомощна.
Ланская вела, вернее, просто тащила меня на буксире. Прихрамывая, она шла быстро. За ней было трудно поспеть. А у меня из ума не выходил этот инженер. Ведь явно не о медицинской помощи молили его затравленные глаза, явно не на докторский визит он надеялся.
- Ужас, ужас! - говорила актриса. - Это как у Уэллса, помните, в «Борьбе миров»? Какие-то чудовища хватают людей, бросают в корзинки себе на потребу, как мы кур или уток... Это дичайший бред о чистоте нордической расы, о заговоре мирового еврейства, о первородном грехе перед кровью. Это дикое шаманство. Оно у них возведено в ранг религии. Против этого никто из них не может не только возразить вслух, но даже и мысленно. Боже сохрани!
И вдруг остановилась, посмотрела на меня вопросительно.
- Я не знаю, кто вас здесь оставил. Я ничего у вас не спрашиваю, но... если можете, сделайте что-то для этой семьи. Их надо куда-то спрятать или вывезти за реку, я не знаю... И скорее, иначе... - Она провела ладонью по горлу и пошла быстрее.
- Если бы это было в моих силах... Но я посещу больную. Обязательно.
Близоруко щурясь, Ланская посмотрела на меня не то изучающе, не то насмешливо.
- А вот этого как раз и не следует делать. Они не простят вам общения с обреченным семейством...
- Я же врач.
- Врач? Ну и что? В вопросах расы это дикие люди. Всякий, кто общается с теми, кого они обрекли, сам обрекает себя. При слове «раса» разум у них автоматически отключается... Я говорю, конечно, не о всех, о тех, от кого зависит наша с вами судьба...
- Но я советский врач.
Ланская даже остановилась. Посмотрела на меня с любопытством.
- И что же? Ваш халат защитит вас от пуль? - Она пожала плечами. - У нас на театре говорят - гран наив... Идемте, идемте.
Кажется, регистрация окончилась для меня все-таки благополучно. Но то ли от непривычной ходьбы по свежему воздуху, то ли от волнений я почувствовала такую слабость, что дрожали коленки. Одна мысль была - поскорее домой, в наши подвалы, где воздух по нескольку раз пропущен через легкие, но все-таки легче дышится.
Ты у меня, Семен, в вопросах этики всегда был строг и, наверное, осудишь меня, - я поддалась на уговоры Ланской, потащилась к ней, и вовсе, конечно, не для того, чтобы лечить ее ногу, а чтобы поесть и поболтать с этой странной непонятной для меня женщиной, в талант которой мы в студенческие годы были все влюблены.
Она живет на бульваре Советов, в том самом доме, где когда-то жили и мы. Красивый дом, помнишь? А посмотрел бы ты на него сейчас... Крыло, где была наша квартира, обрушено. В другом живут. Но как живут? Стекол нет, из окон, забитых досками, торчат трубы. Фасады закопчены, с балконов свисают желтые, жирные сталактиты нечистот. Лестницы покрыты коричневыми наледями, так что, карабкаясь по ступенькам, приходится держаться обеими руками за перила.
В первом, втором и третьем подъездах обитают какие-то немецкие военные. Там, как рассказала Ланская, все-таки лучше. Они заставляют жильцов скалывать эти наледи, топить печи. В остальных подняться на лестницу - все равно что взойти на Казбек.
Ланская и Винокуров остались в своей квартире. Все стены комнат, коридор и даже кухня с пола и до потолка заставлены книгами. Но жизнь, как я заметила, теплится лишь в комнате для домработницы, где живет теперь Кира Владимировна, и в маленьком кабинете. Там, среди старинной мебели, обитает Вячеслав Винокуров, который, как ты, конечно, помнишь, был художественным руководителем нашего театра и который стал сейчас вице-бургомистром города по делам культуры, искусства и просвещения.
Этого самого вице-бургомистра, к счастью, дома не оказалось. Мы сунули в чугунную окопную печурку несколько старых, растрепанных книг и, когда от жара затрещало колено уходящей в окно железной трубы и печь стала отдавать тепло, уселись в креслах. Чтобы сократить визит, я сразу же попросила хозяйку показать больную ногу. Вместо этого она сняла с меня косынку, ловко надела ее, прихрамывая, подбежала к овальному зеркалу в оправе из красного дерева, и оно с большей даже четкостью, чем наяву, отразило ее полную, статную фигуру. Не спуская глаз со своего отражения, Ланская с подчеркнутой скромностью прошлась по комнате. И опять мне показалось, что я уже видела это не то в театре, не то в кино.
- Идет мне, а? - спросила она, не отрываясь от зеркала. - Очень идет. Вот если бы еще сюда строгое серое платье с высокой талией. Знаете, как в лавреневском «Разломе»... Нет, в самом деле идет?.. Но вам все-таки лучше. В вас есть что-то такое монашеское, фанатичное. И потом, вы молоды... Ах, молодость, молодость!
Она вздохнула, на этот раз, должно быть, искренне.
- Но вы выглядите не старше меня.
- Да? - Она радостно встрепенулась. - Нет. в самом деле? - Но тут же, погрустнев, вздохнула. - Выгляжу! Для того чтобы так выглядеть, я трачу, вероятно, столько же часов, сколько вы минут. Ну, признавайтесь: сегодня вы даже и не причесывались? Нет? - Она поерошила мои волосы. - Хотите, я приведу вас в порядок? Вы же меня будете лечить, и это вам аванс за работу. Идет? Ступайте к зеркалу.
Здорово, искусно работает она гребешком. Ее полные руки просто порхают. Я сидела у зеркала в какой-то сказочной дреме, и моя ординарная физиономия, на которую я не имела удовольствия смотреть в настоящие зеркала, по крайней мере, со дня оккупации, преображалась на глазах. Неужели эти волнистые, красиво спадающие на лоб, темные волосы мои? И курносое лицо имеет такой овал, такие пухлые губы и такие большие карие глаза, смотрящие из-под длинных ресниц? Новая прическа придала мне что-то мальчишеское. Я становилась похожей на Стальку. Вернее, мне помогали понять, как Сталька похожа на меня. И вдруг я поймала себя на том, что я, врач, волею судьбы оказавшаяся начальником госпиталя, я, отвечающая за здоровье многих людей, оставшихся на моем попечении, я, немолодая уже женщина, мать двух детей, любуюсь тут собой, как глупая, легкомысленная девчонка. Мое отражение в зеркале начало краснеть, стало совсем пунцовым.
Я отодвинулась, вскочила, потянулась за пальто.
- А гонорар? Ведь вы пришли посмотреть мою ногу. - Ланская отошла, подняла юбку, отстегнула подвязку и одним движением опустила тончайший шелковый чулок.
Сон кончился. Настала явь. Обследую больные участки. Был ли рентген, что он показал? Картина-то в общем и без снимков ясна. Кости целы, а вот связки? Я могу дать лишь самые примитивные рекомендации - держать ногу в тепле, делать гимнастику. Но и так заживет, время залечит. Рассеянно слушая меня, Ланская вдруг как-то по-девчоночьи хихикнула.
- Немец-хирург, - я вам о нем говорила, ну, который посещает меня, - так он так старательно и так долго ощупывает мою бедную ногу, что она и вообще-то вряд ли заживет. Он столько тут латыни наговорил, а вы - компресс, тепло... Впрочем, скорое заживание явно не в его интересах. Он мне признался, что ходит сюда отдыхать душой от своих прелестных камрадов... Ну, а наша советская передовая медицина так-таки ничего больше и не предложит?
- Ну, и еще спиртовые компрессы, пожалуй...
- А коньячные можно? Наверное, лучше даже принять коньяк вовнутрь. Ведь так? Кстати, вот видите, и кофе закипает. Мы будем пить его именно с коньяком.
В самом деле, на печке, которая уже успела раскалиться, в кастрюлечке булькало, и комнату заполнил аппетитнейший кофейный аромат...
Я ведь, Семен, знала, что именно сейчас надо встать и уйти. Хватит с меня этих компрометирующих знакомств. Но кофе пах так славно и мне так хотелось есть, что я не встала и не ушла. Мы пили кофе из маленьких чашечек, прозрачных и тонких, как раковинки. Пили с коньяком. В коньяках, как ты знаешь, я ничего не понимаю, но Ланская, подливая мне из пузатой заграничной бутылки, нахваливала его, как на базаре. И действительно, он обжигал рот. Тепло расходилось по телу, все тягостное испарялось куда-то за пределы памяти. Оставалась только эта комната, ее книжные стены, ее неудобная музейная мебель, цепляющаяся за одежду бронзовыми финтифлюшками. Это волшебное зеркало, отражавшее все отчетливее и красивее, чем на самом деле. Оставалась эта женщина, потрясавшая когда-то наши юные души в роли Анны Карениной. Оставалась жидкость в пузатой бутылочке, могущая хоть ненадолго оторвать человека от всего, что его мучает и гнетет.
- Эх, доктор Верочка, «однова живем», как говорит герой в одной топорной пьесе, где мне пришлось вымучивать из себя фальшивую роль. - И, быстро опрокинув одну за другой две маленькие рюмки, она, встряхнув разметавшимися волосами, удалым голосом крикнула: - Гуляй, бабы, бога нет, конец света!
К счастью, я не успела поднести, ко рту вторую рюмку. В прихожей заскребли ключом, пискнула входная дверь. Послышались вкрадчивые шаги, раздался осторожный стук.
- Кира Владимировна, к вам можно?
- Нельзя. У меня гости... Впрочем, пардон, это дама. Разрешаю войти.
Появился немолодой мужчина в хорошо сшитом костюме, видный, благообразный. Прямой пробор, точно бы по нитке разделивший его волосы, придавал его облику нечто старорежимное.
- Познакомьтесь, моя подруга. Мой лейбмедик Вера Тройкина. А это мой... нет, теперь не мой, теперь сам по себе мужчина... Бывший заслуженный, бывший лауреат, бывший орденоносец и депутат горсовета. Бывший... что там еще? Ах да, бывший человек, а ныне вице-бургомистр по каким-то там вшивым делам... Отставной козы барабанщик... - Ланская рассмеялась слишком длинно и слишком громко для того, чтобы это могло сойти за искренний смех.
- Милая, не пейте. Хватит, - терпеливо произнес тот, кого назвали отставной козы барабанщиком, и потянулся было убрать бутылку. Он смотрел на Ланскую с тревогой, с болью, с упреком.
- Не пить? А что же вы мне прикажете делать? - Она вырвала бутылку и, плеская коньяк на стол, налила себе полную чашку. - Что же, я вас спрашиваю, вы мне прикажете делать? Я не могу даже повеситься в туалете, ибо вы и ваши покровители нагадили там столько, что замерзший сталактит поднялся до половины комнаты. - Она с заговорщическим видом наклонилась ко мне. - Этот вице-бургомистр ленится выплескивать нечистоты с балкона. Зачем? Он исторгает их на пол в клозете. За ним убирает дед-мороз.
- Нет, когда вы в таком состоянии, с вами невозможно разговаривать. - Вице-бургомистр на цыпочках пошел к двери.
- Бежишь? Деятель! Паршивое ситро, притворяющееся шампанским!- куражась, кричит Ланская, бросая хрустальную рюмку в захлопнувшуюся дверь. Она наклонилась и вдруг обняла меня, потянулась ко мне мокрыми губами. - Вера, ведь это он, этот человек, уговорил меня остаться, - пьяно всхлипывая, говорила она. - Я действительно растянула ногу, лежала в постели, но меня предлагали унести на руках. А он спрятал. Болтал всем, что я погибла... Говорит, что остался беречь свои книги. Их, видите ли, нельзя было увезти... Книги? Он действительно любит редкие книги. Он тащит их в свою нору и прячет от людей... Но остался он не из-за книг, нет... Ух, ненавижу!
Ланская вскочила и стала с неистовством рвать какую-то пухлую книгу, валявшуюся около печки, комкать страницы, совать их в топку. Пламя сладострастно заурчало. В комнате становилось жарко. Пот выступил на ее разгоряченном лице, она вытирала его ладонью или рукавом, как крестьянка, пекущая хлебы.
- О, вы его не знаете! Его никто не знает... Я как-то купила в комиссионке туфли, заграничные, изящные, прямо загляденье. - Она вытянула ногу и пошевелила кончиками пальцев. - Они очень стройнили меня и шли к новому платью. Но однажды я возвращалась после спектакля, шел дождь. И они сразу раскисли, оказались совершенной дрянью, крашеным картоном. Так и этот орденоносец, заслуженный, черт его знает, какой!.. - Она потянулась было к бутылке, но я отставила ее подальше, и, уткнувшись мне в плечо, Ланская шумно заплакала. - Я женщина, я просто баба. Не осуждайте меня, я была к нему привязана. Я думала... И потом... - Она зашептала, будто поверяя мне страшную тайну: - Я уже не молода. В этом возрасте бросать все, что имеешь, к чему привык, - это ведь трудно. Но все-таки я, наверное, бросила бы, уехала, как этот старик Лавров. Помните Лаврова? Убежал, схватив из всего своего собрания живописи одного Врубеля... Врубеля и жену. Но я верила этому Винокурову. Я любила в нем борца за настоящее искусство. Борец! Он спокойно рассчитывал, что выгоднее, - уехать или остаться. У него выходило - наши разбиты, отступают в беспорядке, нет сил защищать Москву. Ну, а раз выгоднее, давай скорее меняй цвет, приспосабливайся к новой среде. Вице-бургомистр. Корреспондент газеты «Русское слово»... Тьфу! - И сочный плевок повис на двери. - Деятель германской администрации, поборник нового порядка, а на уме одно - как бы покрепче примоститься на запятках немецкой кареты. Тьфу!
Новый плевок. Я все время слышала, как в прихожей что-то шуршит. И вот дверь тихо открылась. Появился Винокуров с терпеливым, мученическим выражением лица.
- Кира, вы забываетесь. Госпожа Тройкина, извините ее. Вы видите, в каком она состоянии.
«Госпожа!» Он сказал «госпожа» мне, Вере Трешниковой! Я схватила пальто. Но Ланская была уже у двери.
- Вон! Не сметь ко мне ходить, старый мерин! - Она захлопнула дверь и сунула в ручку платяную щетку вместо задвижки. - Вера, вы, может быть, читали когда-то его статьи в «Верхневолжской правде». Они опирались на постулаты Сталина. Ну, а теперь он публикует их в «Русском слове», и, опираясь на догмы этой хромой мартышки доктора Геббельса, доказывает противоположное. Тут и примат белокурой расы, и нордическая кровь, и торжество германизации или непроглядная ночь мирового еврейства... Омерзительно!.. Эй, вы, я знаю, - вы там подслушиваете, за дверью. Так я повторяю для вас: омерзительно!
Теперь она не играла. Это была уже не Любовь Яровая, не Анна Каренина, а Кира Ланская со своей трагедией и своей мукой.
- Он слизняк, гад, - говорит она, жарко дыша мне в лицо коньяком. - Но, милочка, буду откровенна: я тоже хороша. Ну что бы я стала делать в эвакуации? Житье в каморке, районная эстрада, фронтовые концертики. Нет, я так не могу... Дайте мне бомбу, автомат, что-нибудь такое, я бы взорвала какой-нибудь штаб, застрелила какого-нибудь генерала. Я могла бы погибнуть, как Мария Стюарт, как Жанна д’Арк, как Шарлотта Корде, но выносить за ранеными горшки, петь песенки во время обеденных перерывов!.. Да, да, нужно, благородно, знаю, но это выше моих сил. Рожденный ползать летать не может. Ну, а рожденный летать? Этот старый мул, - она показала в сторону двери, - он с наступлением вечера трясется, как овечий хвост, и заставляет входную дверь комодом... Я больше так не могу. Я не хочу умирать от глистов или от сыпно-тифозной вши. Я должна умирать, как жила...
Она отошла к стене, прислонилась к ней, вытянула руки, гордо и гневно смотря перед собой, будто вот сейчас раздастся залп.
Что это? Крик души? Привычная игра? Нет, хватит с меня. Мне душно. Я схватила пальто и, не одеваясь, толкнула дверь, при этом сильно стукнув ею Винокурова, который, должно быть, действительно подслушивал. Каким-то чудом не поскользнувшись, сбежала с обледенелой лестницы и уже внизу немножко отдышалась...
Было еще светло. Оглянулась, нашла на фасаде окно Ланской. Оно было забито, как и другие окна, и из трубы, выходившей в форточку, валил густой, кудрявый дым: горели несчастные, ни в чем не повинные, старые книги.
Отдышавшись, я как-то машинально подняла горсть снега, бросила в рот. Потом обтерла снегом лицо, руки и только тут заметила, как хорошо вечернее небо, холодное, чистое, начинающее уже лиловеть. На нем зажигались первые зеленоватые звезды.
Домой, скорее домой!
Возвращалась почти бегом. Наши сырые, мрачные подвалы казались мне теперь не только надежным убежищем от бомб, но и от этой чужой, не вполне еще мною познанной страшной жизни, которую принесли нам гитлеровские орды.
Но по дороге меня начала мучить мысль об инженере Блитштейне. Нам тяжело, очень тяжело, но нас в наших подвалах все-таки много. А он - один, с больной женой, с детьми... Как он изменился! Из цветущего, энергичного, жизнерадостного человека разом превратился в робкое, забитое существо... Эта испуганность, приниженность, эти затравленные глаза... Кажется, он весь сжался, втянул голову в плечи, зажмурился, приготовился к ударам и уже смирился с их неизбежностью.
Нет, как бы там ни пугала Ланская, я к ним пойду, и пойду сегодня, вот сейчас. Обязана пойти - это мой врачебный, это мой... ну, просто мой человеческий долг. Я врач, я советский врач. Да и в этих ее страхах значительная доля истерики. Мало ли что в городе болтают. Нет. страшно все-таки, что там ни говори... Но хватит, хватит самоковыряний, марш к больной, которую ты обещала навестить!
Очень, очень тянуло меня в наши подвалы, но я все-таки отважно миновала развалины Больничного городка и вскоре оказалась перед так называемыми Красными воротами комбината «Большевичка». Впрочем, не было уже ни самих ворот, ни высокого забора, отделявшего территорию комбината, ни деревянных домов, некогда стоявших вдоль этого забора. Все неузнаваемо изменилось. Развалины сгоревшей ткацкой фабрики как бы выползли прямо на улицу. Но знаменитые фабричные бани, куда приезжали со всего города любители всласть попариться, с веником и с квасом, были целы. Ориентируясь на бани, я без труда отыскала большой четырехэтажный дом, где жили инженерно-технические работники. Он тоже уцелел.
Не давая себе колебаться, я вошла в подъезд и сразу же оказалась перед дверью квартиры 8, на которой была прибита медная дощечка: «И. А. Блитштейн. Инженер-колорист». Под ней почему-то был прикреплен кнопками небольшой кусок черного картона, на котором желтым была оттиснута шестиконечная звезда, похожая на елочное украшение. Здесь! Ну что же. Постучала решительным, «докторским» стуком. За дверью послышались неясные звуки, осторожные шаги, но ее не открыли.
Постучала сильнее.
- Врач по вызову...
Шаги. Шорохи. Приглушенные голоса. Стучу уже кулаком:
- Больная Блитштейн здесь живет?
И тотчас же дверь приоткрылась. В щели, ограниченной цепочкой, я увидела инженера. Он смотрел на меня, как на привидение.
- Ах, это вы, доктор... - А сам даже привстал на цыпочки, точно бы желая убедиться, не стоит ли кто у меня за спиной.
- В чем дело? Вы меня приглашали, так пропустите... Где больная?
- Это вы, доктор? - повторил он с облегчением. - Спасибо, огромное спасибо... Извините, мы подумали... Так проходите, проходите! – Дверь, наконец, открылась совсем.
Я вошла в темную кухню, где, как видно, и обитала семья. Топилась плита. На ней что-то кипело в большом баке. Было тепло, даже жарко. Воздух насыщен тяжелым, едким запахом. Перед плитой железные противни, в которых что-то похожее на студень. В углу валялись вываренные лошадиные кости...
- Покажите больную.
- Вот, вот, пожалуйста, - суетился инженер. - Миррочка! Это доктор к тебе... Видишь, а ты говорила...
Теперь, присмотревшись к полутьме, освещенной отсветами топящейся плиты, я разглядела в углу кровать и на ней женщину примерно моих лет... Мамочки! Я же сразу узнала ее, хотя она была почти не похожа на яркую, громкоголосую жену инженера, которая посещала его, когда он лежал у нас в хирургическом... «Вот перец-баба!» - восхищенно восклицал Дубинин, вообще-то неравнодушный к женским прелестям. После ее ухода в палате надолго оставался запах острых духов, а сестры до конца дежурства обсуждали ее туалеты... И вот она лежит, бледная тень той, какую я знала. Ссохшаяся, посмуглевшая, она походит, пожалуй, на богородицу со старинной иконки, которую тетя Феня хранит у себя под подушкой. От прежней у нее разве что эти черные, вразлет, брови да пышные волосы, спутанной копной лежащие на подушке.
Крупные бледные губы больной трогает робкая улыбка.
- Доктор, извините, у нас такая грязь... Не встаю вот, а он...
- Что же, деточка... Доктор понимает, кустарное мыловарение - это очень грязное производство... И к тому же дом не топлен, батареи полопались, живем все вокруг плиты...
Ну чего, чего они извиняются, будто я не вижу? Осмотрела больную. Впрочем, и без осмотра картина была ясна. Инфаркт есть инфаркт. Но я все-таки выслушала ее, щупала пульс, задавала совершенно бесполезные вопросы - лишь бы они не извинялись, лишь бы разрядить тягостную атмосферу и замаскироваться от этих тоскливых, вопрошающих взглядов...
- Чувствуете покалывания, неудобства в области сердца?
- Доктор, вы же видели этот знак на двери. Это - могендовид. Они превратили его в печать смерти. Мы обречены, - говорит больная вместо ответа. - Как вы решились к нам зайти?
- Не спрашивайте ерунды... Когда вы в последний раз ощущали боль?.. Острую? Тупую?
- Нас ведь никто-никто не навещает... Все боятся.
- Мирра, ты несправедлива. А эти женщины утром?
Черные глаза будто заливаются глицерином. Меж длинных ресниц образуется прозрачная пленка...
- Да, да, доктор, это просто поразительно... Сегодня вдруг пришли три женщины, обыкновенные, простые женщины из семидесятого общежития. Из них одна когда-то работала уборщицей в Осиной лаборатории, а две совершенно незнакомые. Предложили спрятать нас в этом огромном доме... Вы этот дом знаете, конечно, его здесь называют «Париж»... Они увели девочек, а Ося - он опять остался из-за меня... Ужасно, ужасно, этот инфаркт, он ведь так редко бывает у женщин моего возраста... Всех связала, вся семья из-за меня гибнет...
- Мирра!
- У вас неплохое состояние. Но нужен покой, абсолютный покой. Никаких резких движений. На бок вы уже можете ложиться, но очень осторожно, - произношу я привычные слова, понимая всю их нелепость, даже кощунственность при этой ситуации.
Но, к счастью, меня не слушают.
- Доктор, что же это такое?! Облавы, врываются в квартиры, хватают, бросают в машины, куда-то увозят... Ужас, ужас! Нас почему-то на этот раз миновало, но этот проклятый знак на двери... Мы, кажется, последние из могикан... Доктор, ну хоть вы скажите Осе - пусть он оставит меня и уходит...
Женщина плачет, уткнувшись в подушку. Мужчина плачет, отвернувшись к плите, на которой в баке хлюпает густая кипящая смесь. Я сама чувствую, как теплый, будто ватный ком подкатывает к горлу... Этого только им не хватало. Не сметь, Верка, не сметь! Усилием воли я проглатываю этот ком и говорю каким-то сиплым, не своим голосом:
- Я к вам постараюсь привести консультанта-терапевта...
Инженер посмотрел на часы и вдруг вскрикнул:
- Доктор, шесть тридцать! - Видя, что я не понимаю, торопливо поясняет: - В семь - комендантский час. - На лице его страх. Страх за меня. С теми, кто нарушит их «бефель», они беспощадны. - Идите, прошу вас, идите скорее.
Его страх передается мне. Я спешу к двери.
Но инженер опережает. Останавливает. Выскальзывает, именно выскальзывает в подъезд. Возвращается.
- Кажется, никого... - говорит он шепотом. - Кажется, никто вас здесь не видел... Спасибо, доктор.
- Мы к вам зайдем...
Уф! Чудесная, тихая ночь. Все залито молочным, лунным светом. Тени лежат угольно-черные. Рот жадно хватает свежий воздух. Бегу. Вегу к своим раненым, в свой госпиталь, стараясь не думать об этой двери с желтой звездой, о мрачной кухне, о неподвижной женщине и этом человеке с затравленными, тоскливыми глазами...
Четыре фигуры маячат у входа в наши подвалы - три большие и маленькая. Я уже знаю, кто это, и из последних сил прямо через сугробы бегу к ним.
- Наконец-то! - говорит Мария Григорьевна.
- Господи Исусе Христе, царица небесная, услышала наши молитвы! - причитает тетя Феня.
- Ма, я ждала, ждала, ревела, ревела... - выдыхает мне в ухо Сталька, повисшая у меня на шее.
Домка ничего не говорит. Он просто жмется ко мне и ведет вниз по обледенелым ступеням.
14
В госпитале ждала меня тяжелая новость. Ее сообщил Наседкин. Он ожидал меня в приемном покое. Вокруг продавленного, жесткого клеенчатого диванчика, на котором он сидел, было густо насыпано пепла, насорено окурками: без меня скончался Василек.
Иван Аристархович повел меня в холодный коридор-тупичок, проход в который с улицы завален. Василек лежал вытянувшийся, повзрослевший. Угловатое лицо стало совсем мужским. В ногах сидела мать. Она расчесывала гребешком его светлые, прямые, как солома, волосы. На миг она подняла на меня синие глаза, но тотчас же опустила, должно быть, не узнав. Руки продолжают осторожно чесать волосы. Глаза сухие. Мне стало жутко. Перед материнским горем померкли все впечатления дня. Оно заслонило все.
Не снимая пальто, я стояла возле матери и сына, как бы перелистывая картины: операция... история с краденым маслом, мужественное «ничего, Вера Николаевна», которое я слышала всякий раз в ответ на свое «как ты себя чувствуешь?». Нет, мне, наверное, никогда не забыть эти сухие глаза матери, которые глядят на меня, как мне кажется, укоряя за то, что мои двое живы и здоровы, а ее единственный лежит в коридорчике неподвижный, оледенелый.
Вошла Мария Григорьевна, набросила на плечи Зинаиды свою старенькую, латанную-перелатанную шаль.
- Может, все-таки в комнату пройдешь? Простынешь ведь.
Та опустила руку с гребнем, но не обернулась и взгляда от сына не отвела.
- С полудня так вот сидит, не простудилась бы... Да и вы тоже, Вера Николаевна. Вам здесь и вовсе делать нечего. Пошли!
Она решительно обняла меня, вывела в палату и, мне показалось, как-то странно, даже удивленно посмотрела на меня.
Обычные дела, вечерний обход. Жалобы. Тому неможется. Этому хуже. Кое-кому делала новые назначения... И все время казалось, что и другие смотрят на меня как-то необычно. Не то внимательно, не то недоуменно. Что такое?
В конце обхода подошла к Сухохлебову.
- Ну, так где же вы все-таки пропадали? - поинтересовался он и тоже посмотрел вопрошающе.
Присела у его койки. Сделала ему подробнейший доклад о событиях дня - о регистрации, о визите к коменданту, о неожиданной встрече с раненым Мудриком, о посещении Ланской, о Винокурове...
Вообще он в совершенстве обладает этим труднейшим искусством слушать. Слушает так. что люди невольно раскрываются перед ним. Но когда я принялась рассказывать о беде инженера Блитштейна, о желтой звезде, прибитой к двери квартиры, которую я посетила, он не сумел скрыть тревоги.
- Завтра сагитирую Наседкина - вместе сходим к ним. Он ведь терапевт, от него больше пользы.
- Вы хорошо запомнили их адрес? - перебил меня Сухохлебов.
- Конечно. «Большевичка», дом шестьдесят один, квартира восемь. Наискосок от бань.
- Вы туда не пойдете, - сказал он негромко, но решительно и, должно быть, заметив у меня на лице обиду, пояснил: - Больную принесут сюда.
- Кто? Кто принесет?
- Хорошие советские люди... Их фамилия Блитштейн? Так?.. Адрес я правильно запомнил?
Он повторил адрес, не забыв добавить «наискосок от бань». Здорово в общем-то придумал. Но интересно, как он сумеет все организовать? Через этого пройдоху Мудрика, что ли?.. Так тот сам на костыле. Ну, посмотрим, посмотрим! Тут я вспомнила этот «бефель» и уведомление, все еще красующееся на столе.
- А не подвергнем мы этим опасности весь госпиталь? Может быть, все-таки лучше лечить больную дома? По каким законам можно обвинить врача, что он пошел к больному?
- Фашисты перечеркнули все человеческие законы, - сказал Сухохлебов, с тревогой смотря на меня.
- Ну откуда у них это человеконенавистничество?
- Фашизм есть фашизм. - Сухохлебов был очень серьезен. - Человеконенавистничество - его основа. Сила Гитлера в том, что он научился будить в людях самые дремучие инстинкты, превращать людей в зверье.
- Волки, прямо волки.
- Доктор Вера, не оскорбляйте волков...
Я уже хотела было идти, но он остановил меня.
- Кстати, Вера Николаевна, думаю о том, что вам говорил доктор Краус. Помните об этих историях болезни, как он выражался, «скорбных листках»... Это не случайно. В военной администрации здесь теперь эсэсовцы. Это ведь звери из зверей. Надо, как изволит выражаться Мудрик, чтобы «все было в ажуре»... Кстати, о нем можете не беспокоиться, раны его заживут без вашей помощи. - Он вдруг спросил: - Много ли у нас военных?
Я ответила:
- Больше половины. Ну и что?
Я, признаюсь, восприняла совет Толстолобика только как проявление немецкой аккуратности. Хочет, чтобы шпитальлейтерин Вера не ударила лицом в грязь. Но учить и требовать он мог и с помощью Прусака. А тут, конечно, другое. Ой, как я еще глупа! Что бы я вообще стала делать без Сухохлебова, без мудрейшей Марии Григорьевны, даже без тети Фени с ее божбой, пословицами и длинным языком? Хорошо, что они рядом, возле меня...
- Отберите мне эти истории болезни, я тоже гляну, - попросил Сухохлебов.
А секрет тех необычных взглядов, которые я все время чувствовала на себе, объяснила Сталька.
- Домик, ты заметил, наша Вера какая-то сегодня не такая? - донесся голосишко в «зашкафник», где я было прилегла после всех переживаний.
- Отстань, не мешай, - ответил Домка. Он восседает за столом дежурной сестры и по моему поручению отбирает истории болезни наших военных.
- А Вера у нас красивая, верно?
- Уйди, сейчас заработаешь.
Раздалось неопределенное восклицание, по которому я поняла, что ему показали язык. Обиженная Сталька зашла ко мне и, по обыкновению, поставила вопрос ребром:
- Ма, почему ты сегодня такая красивая?
- Красивая? - не поняла я и невольно посмотрела в темное стекло одного из шкафов.
Смерть Василька так поразила меня, что я как-то забыла о косметических манипуляциях, произведенных Ланской. И вот теперь из импровизированного зеркала действительно смотрела на меня какая-то другая, малознакомая Я - волосы стали волнистыми, какими они были когда-то, губы будто пополнели, глаза расширились. Боже ж мой, вот что могут при желании сделать обычный гребешок, губная помада и карандашик для ресниц! Признаюсь, не удержалась, подмигнула своему отражению и тут же вспыхнула от стыда: из-за шкафов донеслись протяжные, прерывистые всхлипы. Это плакала Зинаида, которую Мария Григорьевна почти насильно привела сюда и укладывала на свою койку.
Всю ночь я слышала сквозь сон тоскливый плач, похожий даже и не на стон, а на какой-то первобытный вой.
15
Никогда время не тащилось так медленно, как сейчас. Мы уже знаем - там, на подступах к Москве, идет гигантская битва. Верхневолжск забит ранеными. Немцам не до нас. Толстолобик почти прекратил свои визиты. Наведывается иногда, но теперь уже неожиданно, в разное время. Однако же в последний визит, и опять наедине, он многозначительно спросил, приведены ли в порядок «скорбные листы».
Да, они теперь у нас «в ажуре». Этим занимались не только мы с Наседкиным - врачи, но Сухохлебов и кое-кто из выздоравливающих командиров, ибо дело было не только и не столько в медицинских, сколько в политических познаниях. Теперь все военнослужащие имеют адреса в нашем городе, места на фабриках, заводах, в учреждениях. Все ранены случайно при бомбежке или обстреле. Теперь «легенды», о которых так заботился Сухохлебов, не только заучены, но и зафиксированы в лечебных картах, и он, Сухохлебов, снова устраивает экзамены:
- Фамилия? Адрес? Где вы работали? Что делали? При каких обстоятельствах получили ранение?
Некоторые из раненых почти поправились. Ходят на костылях, бродят по палатам. Иные давно могли бы выходить, выполнять работу во дворе, но не в чем. Обмундирование их сожгли. Во что же мы их оденем? Им в случае беды не в чем бежать, спасаться.
Неоценимым человеком в решении этой задачи неожиданно оказалась Зинаида, мать Василька. Вторые сутки он лежит на старом топчане под простыней, в холодном коридорчике. Мать никого не подпускает к телу. Это, наверное, род тихого помешательства. Вырвет свободную минутку - и к нему. Сядет возле на корточках, гладит волосы. Разговаривает.
- Она ему про все рассказывает,- докладывала мне Сталька - И кто с ней поругался, и что на обед было, и про меня, как я «утку» разбила.
В самому деле, однажды незаметно подойдя к Зинаиде, я тоже расслышала ее громкий, резкий, как у всех ткачих, голос:
- Им всем легко, Василек. У каждого да кто-нибудь, у докторицы вон двое, а я что - торчу одна, как фабричная труба. И ты вот ушел, светик мой, бросил свою мамку...
Наседкин утром потребовал, чтобы тело сегодня же погребли, - опасается за ее разум. Да я и сама за это. Но как? Не отнимать же тело силой. А вот вечером, когда стали обсуждать, как быть с одеждой, это, кажется, решилось само собой.
- Один костюм я дам. Шевиотовый, новенький, летом для Василька справила. - Оказалось, незаметно подошла Зинаида. - К чему он теперь Васильку, пусть хоть кого другого погреет.
Она словно бы очнулась, вышла из этого своего окаменения, стояла бледная, грустная, но синие глаза смотрели осмысленно. Мария Григорьевна, чуткая душа, раньше меня, врача, угадала в этом избавление. Сначала я даже не поняла ее равнодушный вопрос:
- Чай, любому из наших узок будет?
- Не скажи, не скажи, я на рост брала, сорок восьмой размер, - даже вроде бы обиделась Зинаида. - Думаю, шестнадцать стукнет - и подарю. Он и не знал об этом костюме, не говорила ему, а то пристанет - дай да дай, не отвяжешься. Знаешь, какие они, мальчишки.
- Что ж, сержанту Капустину, может, и подойдет, - все так же деловито прикидывала Мария Григорьевна. - А верно, Зинка, сходи-ка ты за ним вечерком. Принеси хоть померить.
- И схожу и схожу. Погляжу заодно, целы ли мои покои. - От этой заботы глаза женщины, только что казавшиеся стеклянными, пустыми, ожили. Ну тут же опять запечалились: - А Василек-то как же без меня?.. Вы его не смейте... Волоска его не троньте.
Тут уж, поняв Марию Григорьевну, вступила в разговор я:
- Только, Богданова, вы там язык не распускайте, зачем да для кого, - об этом ни слова.
Все недоуменно посмотрели на меня.
- Так там же свои.
Когда Зинаида собралась и дверь за ней закрылась, все мы вздохнули спокойнее. Тетя Феня было заторопилась - отвезти бы без нее на кладбище. Но Мария Григорьевна отвергла: как же это можно без матери? Подумав, она сказала:
- Ничего, теперь отойдет... Заботы, Вера Николаевна, от всего лечат, а главное - от самого себя.
А через полчаса, когда я, сидя у Сухохлебова, рассказывала ему о том, как повернулось дело, она подошла к нам.
- Я вот все думаю... О чем? А вот - сколько ее, мужской одежды, у женщин по сундукам да по рундукам лежит, хозяев дожидается. Вот пойти бы нам по рабочим спальням, поклониться. Думаете, не дадут? Дадут. Лихо живут. С голоду пухнут, а за сердце тронь - каждая своего вспомнит, каждая подумает: может, кто-нибудь да где-нибудь и моему поможет... Ведь дадут, как вы думаете, Василий Харитонович?
- Думаю, Мария Григорьевна, дадут. - И, поднявшись на локте, протянул ей свою большую волосатую руку.
Он уже у нас теперь поднимается, садится. Даже ходит немного, правда, скрючившись, как кочерга... И хотя его еще мучают боли, о которых мы догадываемся по дрожанию век и уголков губ, он все-таки держится молодцом. Лицо и голова у него обросли серым волосом, но и сейчас он мало напоминает агронома, каким он значится у нас в больничной картотеке.
Домка повышен в должности. Теперь он у нас ведает канцелярией. В халате, в шапочке, он целый день сидит за сестринским столом и своим четким школьным почерком переписывает новую редакцию больничных карточек и историй болезни. Стальку он к себе не подпускает: «Брысь, пшено, видишь, занят... Вот скажу Вере, что мешаешь, выпишет тебе горчичники!»
В своем должностном величии он еще больше подражает Дубинину, выпускает на лоб из-под шапочки свой палевый чуб, к месту и не к месту сыплет дубиничевские поговорки и шутки: «Не оставим в почке камня на камне!», «Бледность не порок», «Моча - зеркало души». Смотрю на него и невольно думаю о Дубинине. Был бы он здесь, с нами, наверное, все было бы по-другому... Нет, неужели он все-таки бросил нас из трусости? В это не хочется, очень не хочется верить. Но похоже, что так. Сегодня Домка отмочил при Стальке такую пословицу из дубиничевского лексикона, что я даже всерьез на него рассердилась. Заявил: «Ректоскоп существует для чтения задних мыслей». Все гоготали, и Сталька пуще всех, хотя, конечно, ничего не поняла.
И странно - веселее других реагирует на это сомнительное медицинское остроумие знаешь кто, Семен? Да Сухохлебов же, честное слово. Как-то во время обеда услыхала его басовитое: «Хо-хо-хо!» Помчалась. Хохочет Сухохлебов, а возле Домка стоит, скромно опустив белесые ресницы. Что такое?
- Доктор Вера, знаете, что изрек сейчас сей брат милосердия? Он сказал: «Семь бед - один диабет».
Так что, видишь, Семен, мы иногда и смеемся.
Самым замечательным событием у нас, пожалуй, было появление твоего почтенного папаши, кустаря-одиночки с мотором, представителя возрождающейся частной инициативы.
Пришел он вчера утром с ящиком инструментов и сразу же, без разговоров, принялся за автоклав. Оказалось, машина эта только помята и не очень повреждена. Петр Павлович осмотрел, остукал ее и принялся за дело. Он и всегда не был речистым, твой отец, а сейчас вовсе замолчал. Со мной поздоровался, как с посторонней. Но ребята ему все-таки обрадовались и, кажется, простили ему и патент с гитлеровским гербом, и сцену с часами. Он принес им гостинец - баночку с вареньем, несколько моченых яблок и кусок отличной ветчины, которую он, оказывается, ухитрился-таки закоптить в трубе по собственному способу. Помнишь его ветчину, которая во рту просто тает?
Что меня больше всего удивило - это то, что у Петра Павловича сразу же установились отличные отношения с Марией Григорьевной. Я, конечно, рассказала ей и про вывеску, и про коммерческие операции. Она тогда философски произнесла: «С волками жить - по-волчьи выть». А Сухохлебов, с которым я тоже поделилась своей досадой, продекламировал откуда-то, из «Гамлета», что ли:
Есть многое такое, друг Горацио,
Что и не снилось нашим мудрецам.
Свое рабочее место Петр Павлович расположил у входа, возле печки, в которой он что-то там нагревает. Ему с энтузиазмом помогают двое из ходячих - сержант Кирпач, здоровенный украинец-артиллерист, работавший до войны механиком МТС. У него серьезное ранение в ногу. Но он все-таки прыгает, именно прыгает на одной ноге с костылями, за что его даже прозвали Гуляй Нога. И Капустин - маленький такой солдатик из слесарей, крикливый, задиристый, но деловой. Возились с утра до вечера в нескольких шагах от нашего «зашкафника», так что весь день стук и звон.
Совесть старика все-таки, должно быть, мучает. Стыдно ему. От меня глаза прячет. И особенно избегает Наседкина. До войны-то чуть ли не друзьями были, ходили по грибы, места знали, как никто в городе. По субботам Петр Павлович топил свою баньку, и Наседкин хаживал к нему с веничком и шайкой. Пару они нагоняли до изнеможения, хлестали друг другу спины до упаду, разгоряченные, выскакивали, бросались в сугроб - и оттуда опять на полок. А потом, разложив на коленях полотенца, истекая потом, пили чай с малиновым вареньем. Помнишь? Спорили, ссорились. Твоего старика выводили из себя ядовитые шуточки Наседкина в адрес всяческого начальства. Чуть не с кулаками лез на лекаря. Но проходило время - и снова они встречались с вениками и шайками под мышкой. А сейчас:
- Здравствуйте, Иван Аристархович!
- Мое почтение, Петр Павлович... Кхе-кхе...
- Прощай, Иван Аристархович!
- Будь здоров, Петр Павлович. Кхе...
И все. Никак, ну никак не могу этого понять. Сторонятся, будто даже опасаются друг друга.
Вообще - что только происходит с людьми! Наседкин всю жизнь подрабатывал частной практикой, хотя это дело считалось у нас, врачей, неэтичным, даже в какой-то степени позорным. А вот теперь, когда можно, наверное, практикой капитал составить, работает у нас чуть ли не сутками, ничего за это не получая. А Петр Павлович, всегда к месту и не к месту любивший хвастануть - я-де российский пролетарий, - не только домишко и барахло пожалел, но вон мастерскую открыл. Даже скупкой по дешевке занялся...
Да, должно быть, и правда:
Есть многое такое, друг Горацио,
Что и не снилось нашим мудрецам.
А может быть, и верно это: с волками жить - по-волчьи выть?
Может быть, в самом деле нельзя быть прямой, как палка, надо учиться принимать жизнь такой, какая она есть, оставив до лучших времен идеальные мерки?
Когда мне особенно тяжело, когда я в чем-то запутываюсь и не нахожу ответа, я снимаю с руки часики, которые ты мне подарил в день рождения Стальки, открываю, смотрю на твою фотографию, вделанную в крышку с внутренней стороны. Ты улыбаешься мне. И вот я спрашиваю тебя: права ли я, сделав выбор, к которому меня привели эти тяжелые недели? Или я просто тряпка, не выдерживаю испытания и начинаю приспосабливаться, по одежке протягивать ножки?
Ну что ты мне скажешь, милый? Или, как Сухохлебов, в котором я узнаю все больше и больше твоих черт, ты насмешливо процитируешь мне что-нибудь из «Гамлета»?
16
Вот уж не думала, что эта Зинаида Богданова окажется для нас бесценной помощницей. Но об этом я должна рассказать поподробнее. В тот день, когда зашел разговор об одежде, она сбегала домой и принесла костюм Василька, дешевенький, грубошерстный костюм. От него разит нюхательным табаком, этим классическим средством от моли, которое искони употребляется в наших текстильных краях. Костюм тут же примерили, и малорослому Лене Капустину он оказался как раз впору.
Примеряли, разумеется, всей палатой. Звучали комментарии:
- Гармонь в руки - и ну вдоль деревни...
- Хоть сейчас под венец.
- Ребя, он ему великоват. Вот мне в самый раз. Честное комсомольское! Дайте померить!
- Но-но, шалишь-мамонишь, он на мне как влитой!
Капустин сиял: есть в чем выйти, тем более что Зинаида захватила заодно ватный пиджак и пару рубашек. Все радовались. И только тетя Феня вдруг захлюпала носом и выбежала из палаты, но это заметила, кажется, только я.
Вместе с одеждой Зинаида принесла известие, от которого всем, и особенно мне, стало жутко. Полицаи под командою эсэсманов снова прочесывали дома и общежития «Большевички». Вместе с другими был схвачен инженер Блитштейн. Его больную жену сорвали с постели. Инженер сам отнес ее в крытую, обитую железом машину. Но трех его дочек прячут где-то в рабочих общежитиях, и полицаи, упустившие их, прочесывают сейчас комнату за комнатой.
Известие это не выходит у меня из головы. Оставшись в своем «зашкафнике», я вспоминаю глаза Блитштейна: «Не поговорите ли вы с комендантом?» Ну как и о чем могла я говорить? А может быть, все-таки могла? Да нет же, господи! Эта актриса права, при слове «раса» они теряют все человеческое. Ведь это только представить себе - больную, пораженную инфарктом, срывают с постели. Значит, правильны слухи, что многие сотни евреев и цыган расстреляны и зарыты в противотанковых рвах...
От жутких мыслей этих отвлекает меня разговор ребят, доносящийся снаружи.
- Говорят тебе - поди и скажи, - настаивает Домка. - Вера - начальник, ей все знать надо.
- Опять плакать будет. У нашей Веры теперь нервы совсем никуда, - по-взрослому, покровительственным тоном Марии Григорьевны, отвечает Сталька.
Я вышла к ним. Оба притихли, будто я застала их за чем-то предосудительным. Стоят, смотрят друг на друга: говорить или нет? Потом Сталька набирается храбрости и произносит таинственным шепотом:
- Ма, она там опять с Васильком разговаривает, говорит ему: «Тебе костюм-то все равно ни к чему, а Лешке Капустину как раз впору. Не серчай уж на мать...»
Нет, я, конечно, не расплакалась, хотя, честно говоря, слезы и подкатывались к горлу. Меня отвлекла неожиданно мелькнувшая мысль: ведь права, права Мария Григорьевна. Зинаида принесла самые дорогие ей вещи. Разве этим она не показала всем нам, как мы сможем одеть наших людей? Я сейчас же послала за ней Стальку. Та привела ее за руку, и я сразу увидела, что это уже не прежняя раздавленная своим несчастьем женщина.
Она напоминала человека, перенесшего тяжелую болезнь и делающего первые, неуверенные шаги. И глаза были не сухие, а влажные.
- Спрашивали? - тихо, но все-таки не безразлично произнесла она.
- Звала. Хочу поблагодарить. Спасибо, Зина. Одного одела. Но ведь сколько их у нас!
- Так у меня ж больше ничего нет, - с обидой произнесла женщина.
- А я и не прошу вещи, я прошу совета: как быть? Понимаешь, Зина, вот случись что - голые же люди, в халате на мороз не выбежишь.
- Это верно, это да... У меня еще от Василькова отца куртка телячьего меха, только молью сильно потрачена, а надевать можно. И валенки, Васильку берегла, а теперь... - Обильные крупные слезы побежали из глаз, она бросилась ко мне на грудь, и худенькое ее тело так и затрепетало от рыданий.
Тут я не выдержала. Обнялись, заплакали дуэтом, а потом к нам присоединилась тетя Феня. Каждая плакала о своем. И знаешь, Семен, как они нам помогают, эти бабьи слезы!.. Через полчаса, зареванные, с распухшими физиономиями, мы втроем сидели рядком у меня на кровати, а Мария Григорьевна, устроившись перед нами на табуретке, критически слушала наш план похода по рабочим общежитиям и поселкам.
- Худо, ой худо живут люди! С голоду пухнут, с простуды мрут, - рассказывала Зинаида о своей вылазке. - Что на улице, что в спальнях - один мороз.
- А душа-то, чай, не замерзнет, душе, ей ни холод, ни зной не страшен, - частила тетя Феня. - Тронь нашу сестру за душу - она и раскроется. Сказано ж в Писании: «Рука дающего да не оскудеет...» Дадут, истинный бог, дадут.
По нашему плану каждая женщина пойдет туда, где жила, где ее знают и не заподозрят в каком-нибудь корыстном побирушничестве. Я тоже вызвалась было идти, но все трое воспротивились: «Вам нельзя».
- Матка - она должна в улье сидеть. Ей из улья вылетать невозможно. Без нее вся семья пропадет, - категорически заявила тетя Феня.
На посту мы оставили Антонину: она чужая, ее в этих краях никто не знает, а. остальные чем свет вышли в этот поход за одеждой.
Теперь немножко о наших продовольственных делах - ведь тоже выкручиваемся. Запасы, отысканные под завалами, правда, отсырели, но дают возможность хоть как-нибудь кормить людей. А это главное. Наши ходили за город, туда, где под снегом лежат битые лошади. Нашли. Раскопали. Пилой отделяли от туши мясистые части. Привезенную на санях мороженую конину посолили. Кадок, конечно, не было. Куски погружали в ванны, которых в развалинах сколько угодно. Так что теперь наш знаменитый «суп рататуй» варится с мясом.
Крупа и горох сильно засорены мышиным пометом, но Мария Григорьевна заставляет всех, кто может, перебирать крупы, и вот теперь в иной час палаты представляют странное зрелище: все, и женщины и мужчины, сидят на койках над тарелками и выбирают черные катышки. Не работают лишь те, у кого повреждены руки или кому мешают глазные повязки. Особенно потешно смотреть на Сухохлебова, который делает это очень серьезно, насадив очки на длинный нос. Вид у него при этом задумчивый, сосредоточенный, какой, вероятно, бывал, когда он обдумывал над картой какую-нибудь военную операцию. Углубившись в это занятие, он что-то бормочет, о чем-то сам с собой спорит, в чем-то сам себя убеждает, и слышно: «М-да... Ну что ж... Бывает, бывает... Так правильно... А может...» Но мы к этой его манере привыкли, даже не замечаем.
Я уж тебе говорила, что Сухохлебов человек сосредоточенный, немногословный, но при всем том очень любит смеяться. Смеется сочно, громко. Например, сегодня утром его «хо-хо-хо» вдруг раскатилось по всем палатам. Что такое? Лежит и грохочет. Возле него Домка тоже весь трясется и даже визжит от смеха, а рядом Сталька, смущенная, надутая.
- В партизаны... Почему не ушел в партизаны? - басит Сухохлебов - и опять «хо-хо-хо».
Первопричиной всему тетя Феня. Она ведь у нас умница. Глядя на нее, ты нипочем не поверил бы, Семен, что эта деятельная, болтливая старуха - бывшая монашка из разбежавшегося монастыря. Когда-то, в двадцатые годы, пришла она к нам в Больничный городок проситься на работу. Профессия «монашка» не очень-то украшает анкету. Были, конечно, возражения, но Кайранский, старик с характером, настоял на своем, взял на свой страх и риск. И не ошибся. Человеком она оказалась смышленым, исполнительным, добрым. Набожность ее выражается разве лишь в том, что она к месту и не к месту тычет разные божественные пословицы и поговорки. У себя под подушкой хранит иконку богоматери и крестик с распятием Иисуса. Мы уже привыкли и знаем, что, когда все засыпают, она достает этих своих богов и потихоньку молится. И вот Сталька, оказывается, нашла этот крестик и пристала к старухе, - кто, что да почему? Что такое боженька, она, несмотря на все богословские усилия тети Фени, так, кажется, понять до конца и не смогла. Разве советскому ребенку все эти сказки объяснишь? Волшебник? Нет. Фокусник? Нет. Учитель? Нет. Не понимает - и все. Ну старуха и решила, так сказать, все осовременить. Дескать, жил-был такой хороший молодой человек, единственный сын у матери, родился без отца.
- Как Василек у тети Зины? - спросила Сталька, тут же переведя все в практический план.
Старуха смутилась.
- Ну, вроде бы так. Был у него отчим, плотник...
- Стало быть, он из рабочих? Пролетарского происхождения?
- Ну ладно, скажем, из рабочих, - опять согласилась тетя Феня и начала рассказывать, что стоял он за бедных, что агитировал людей против богачей и что богачи, договорившись с римскими оккупантами...
- С фашистами? - не унималась Сталька.
- Ну, ну, с фашистами тогдашними, ладно... Видели они, что простой народ за ним пошел, - испугались. Продал его один стрикулист. Иудой звали. Ну, полицаи тогдашние его арестовали, а комендант велел прибить его к кресту.
Эта версия Стальку удовлетворила. Но хитрый этот лисенок почувствовал: что-то тут все-таки не так. И вот сейчас подошла к Сухохлебову и спрашивает:
- А почему он не ушел в партизаны?
- Кто?
- Да этот самый дядька, Христос... Организовал бы отряд и показал бы им...
Вот, оказывается, они и потешались над этим новым богословским толкованием. Ах, Семен, ну и ребята у нас!.. Это вдруг напомнило мне, как Домка, когда он такой же крохой был, помнишь, озадачил тебя вопросом: «Па, что такое эпископ?» Ты удивился: «Эпископ»? Что это за слово такое? Где ты его взял?» А он: «По радио сказали. Вот микроскоп знаю: это когда что-нибудь маленькое смотреть. Телескоп - когда на звезды. А вот для чего же эпископ?» Мы оба думали, думали. Наконец ты спросил: «Да что же по радио-то говорили?» А Домка «эпископ Кентерберийский» и что-то там еще. Помнишь это? Ты еще потом об этом всем рассказывал. Ну так вот, тогда «эпископ», а теперь Иисусу Христу предлагается партизанить...
Да, кстати, у Сухохлебова родилась смешная и, кажется, совсем неглупая идея. Утром Иван Аристархович принес еловую ветку, подобранную где-то на дороге. Поставил ее в пузырьке на тумбочку Сухохлебова. Сталька увидела - раскудахталась: «Какая красивая веточка, как хорошо пахнет!» Стала вспоминать елки, на которых танцевала. Так вот и пришла мысль: устроить у нас елку. Ни больше, ни меньше!
Я было подумала - он шутит: в наших подвалах, в оккупированном городе... да вы что, друзья мои, с ума сошли! Но Сталька ходила за мной и скулила: «Ма, елку! Ма, елку!» Домик басит: «Ма, разреши». Сухохлебов улыбался:
- Товарищ начальник, поддерживаю их ходатайство.
- Ну, где же вы возьмете-то ее?
- Найдем.
- А чем украсить?
- Придумаем.
Ну что с ними сделаешь! Разрешила. Чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакало. Думала - пошумят, посуетятся, помечтают и бросят.
И что же ты думаешь, Семен? Начали действовать. Деревцо упросили достать вездесущего Мудрика. Я не видела его с тех пор, как встретилась с ним в комендатуре, но догадывалась, что он у нас бывает, во всяком случае, побывал, потому что Сухохлебов однажды вдруг спросил меня:
- Какое же все-таки впечатление осталось у вас от нового военного коменданта? Что за человек? Это важно знать.
Вопрос удивил. Ведь я ему давно рассказывала.
- Так, старый тюфяк. Язва желудка у него.
- Насчет язвы - не знаю, а вот что тюфяк - тут, к сожалению, ваш диагноз неправилен, доктор Вера, - задумчиво ответил Сухохлебов. - Ошибаетесь. Это умный, твердый, злой враг.
- А вы откуда знаете?
- Сорока на хвосте принесла.
И эта самая сорока возникла почти сразу же после этих слов из-за ширмы, которой мы отделили койку Сухохлебова. Мудрик, как всегда, появился неожиданно. Он, вытянувшись, словно на нем были не обноски с чужого плеча, а строгая военная форма, весело доложил:
- Старшина Мудрик явился, товарищ полковник.
- Являются ангелы на небе, а старшина Мудрик прибыл, - поправил Сухохлебов. И легкая улыбка осветила его лицо. - Вам поручается особо важное задание насчет елки.
Мудрик почему-то смутился, вопросительно взглянул на Сухохлебова и, как мне показалось, повел глазами в мою сторону.
- Виноват, не понял.
- Елку, деревце. Хотим здесь праздник для раненых организовать. - И он показал на таз, куда были уже собраны пузырьки, мензурки, какие-то пуговицы и пряжки - словом, все, что могло в наших условиях блестеть и сверкать. Сталька с Домной ко всему этому добру уже привязали ниточки. - Видите, Мудрик, какие у нас сокровища. А самой елки нет.
Мне показалось, Мудрик вздохнул с облегчением.
- Ах, вот что! Виноват, лопухнул, подумал, что вы...
Теперь уже Сухохлебов остановил его многозначительным взглядом, и он, будто споткнувшись, не кончив фразу, стал смущенно тереть свою густую бороду.
Что такое? Какие у них там особые дела? И почему они мне их не доверяют?
- Володя, а где же ваши костыли? - мстительно спросила я.
- Берегу для официальных встреч, товарищ начальник. У меня не столь роскошная фотография. Меня без очереди к фашистскому начальству не пропускают. - И он озорно сверкнул зубами.
Как же больно он меня уколол! А тут еще Антонина! Раз Мудрик здесь, и она вертится возле, как оса у блюдечка с вареньем. Отбивает даже от нетерпения чечетку. Заглядывая за ширму, она чуть ее не опрокинула.
- Ух, Антон, я, кажется, сейчас все твои веснушки перетасую! - с деланной сердитостью рявкнул на нее Мудрик.
Малое время спустя раздалось это самое «фю-фю-фю», и они ушли. А я вот, Семен, никакими делами не могу отогнать от себя чувство обиды. Я ведь и раньше замечала, что Сухохлебов что-то от меня прячет. У него какие-то особые дела и с Мудриком, и с Антоном, и с некоторыми из раненых. Сегодня это проявилось как-то особенно обидно. Ведь я как-никак начальник госпиталя, а они скрытничают. Почему? Ответ один: не доверяют. И это страшно обидно. Неужели даже здесь, где человека проверяет каждый прожитый день, где все мы как под рентгеновским лучом, то обстоятельство, что мой муж сидит, влияет на отношение людей? Или это так кажется? Может, я все это придумала? Нервная, мнительная стала, самой противно.
Нет, эту занозу надо вынуть. Вынуть сразу. Просто пойти к Сухохлебову и спросить. И сделаю я это сейчас же. Немедленно.
Встала. Оправила халат. Заглянула в стеклянную дверь шкафчика, служащую мне зеркальцем, и вдруг поймала себя на том, что прихорашиваюсь. Этого только не хватало! Рассердилась. Решительно шагнула за порог. Но Сухохлебов, как всегда, был не один - из-за ширмы торчали старые, подшитые валенки Ивана Аристарховича. Слышалось его взволнованное частое кхеканье.
- ...Отказался, наотрез отказался, Василий Харитонович. Ишь что придумал! Так я ему и сказал: «Забудь и мыслить об этом. Советскую власть исповедую, работаю, сил не жалею, но чтоб такое - нет. Нет и нет!»
Ну вот, опять. О чем они? Почему старик так встопорщился? Что ему ответил Сухохлебов, слышно не было. Но Иван Аристархович продолжал с прежним запалом:
- И вам, Василий Харитонович, отвечаю: нет, нет и нет... «Для пользы дела...» Вот мои руки - возьмите. Вот моя башка, надо будет - берите башку... А совесть - нет. Совесть - это мое, никому имени своего на старости лет марать не дам. Русский человек Иван Наседкин в гитлеровских начальничках ходить не станет. Ишь придумали... Да если это за фронт, до дочерей моих дойдет! Нет... Да жена б, Василий Харитонович, на порог меня не пустила, поганой метлой из собственного дома выгнала бы...
- Ну как знаете, Иван Аристархович, к такому делу неволить никто не может, - произнес Сухохлебов, и это я расслышала. - Что ж делать так и ответь.
- И ответил уж так, именно так и ответил... кхе... кхе... - Скрипнула койка, над ширмой показалась седая голова Наседкина. Он прошел было мимо меня, но вернулся. - Вас, Вера Николаевна, простите за вопрос, немцы не вербовали? Ну, там, у коменданта, когда вы эти штуковины, «аусвайсы», что ли, получать ходили? Вы ведь, Мудрик говорит, и у коменданта были...
У меня даже колени похолодели. Ну вот, и обвинение готово: оставалась у немцев, водила дела с штадткомендатурой, знакома с комендантом.
- Да нет же, нет! - закричала я. - Ланская свидетельница. Просто она затащила меня к нему поскорее оформить «аусвайсы».
Потом мы сидели с Иваном Аристарховичем на клеенчатом диванчике в уголке приемного покоя. Он был все такой же встопорщенный, смятенный, испуганный.
- А меня вот вербовали. Этот комендант и еще там какой-то маленький, похожий на суслика в пенсне. Сначала заговорили о наседкинских домах, мельнице. Вон куда метнули... Дескать, вас большевики обобрали, избирательных прав лишили. А потом... кхе-кхе... потом... кхе-кхе... - От волнения он прямо давился этим кхеканьем. - Потом предложили стать заместителем бургомистра по здравоохранению и санитарии... Вон как! Ваш род, мол, в городе помнят и уважают... Род! Видали! По-ихнему вышло, раз батька твой четверть века назад мукой торговал, так я родину продавать буду. Кхе-кхе-кхе...
Старик опять захлебнулся в кхекании.
- Отказались?
- Ну, а как же... Так и сказал: «Русская совесть не товар, господа хорошие. Она не продавалась, не продается и продаваться не будет...» Но немцы - черт с ними! Откуда им историю нашу знать. Ведь и наш-то один человек, вы его не знаете и знать вам его не надо, тоже говорит иди, мол, Иван Аристархович, делай вид, что им служишь. Для дела, мол, для победы нужно. Для победы? Жизнь отдать для победы - это одно. А имя, честь - другое. Это они видали? - И он показал большой волосатый кукиш, не поймешь уже и кому.
Иван Аристархович всегда воплощенное спокойствие. Никогда таким я его не видела. Яростно дергая кончики моржовых усов, он совал их в рот, покусывал и все не мог успокоиться.
- Заместитель бургомистра. Этого самого подлеца Севки Раздольского, вон чей заместитель. Ну-ну... Дожил. Всю жизнь мне перемололи папашины мельницы...
Старик кипятился до самой двери, до которой его проводила. Волнение его передалось мне, и, чтобы успокоиться, я прошлась по палатам. Тут обычная жизнь: в углу, расположившись возле гладильной доски, выздоравливающие грохотали костяшками, забивая козла: из-за ширмы Сухохлебова доносились голоса Стальки и Домки - там возились с елочными украшениями. Антонина - на дежурстве - тихонько напевала свои частушки...
Мой госпиталь, мои раненые. Свои. Мне среди них легко. Но все-таки почему на мне лежит какая-то тень недоверия? Даже вот в последнем разговоре Иван Аристархович сказал: «Вы его не знаете, да и знать вам его не надо». И не назвал имени. Тут, где-то рядом, идет какая-то скрытая от меня жизнь, действуют таинственные силы, о которых мне, оказывается, и знать не положено... Нет, хватит с меня этого комплекса неполноценности. Сегодня я ему так и скажу.
Дождалась, когда уснули ребята. Затих госпиталь. Тетя Феня сменила Антонину на санитарном посту, принялась нашептывать свои молитвы. Но по расплывчатому световому пятну на потолке я знала - картонная плошка еще светится за ширмой у Сухохлебова. Вот сейчас и поговорим. Тихо ступая, я подошла к его койке. Он лежал на спине, заложив за голову руки.
Решительно постучала пальцем о стойку ширмы.
- Как, вы? - Мне показалось, что вопрос этот прозвучал не только удивленно, но и радостно.
- Василий Харитонович. - Я изо всех сил старалась говорить решительно и твердо. - Почему вы все мне не доверяете?
- Не доверяем? - Мне показалось, что это произнесено несколько искусственно. Он, должно быть, сам почувствовал это.
- Да, да, - напирала я, не позволяя себе растаять в ласковой теплоте его серых, широко расставленных глаз. - Не доверяете, что-то скрываете, прячете... Эти ваши переглядывания, недомолвки, умолчания... Почему? Почему вы с Мудриком откровеннее, чем со мной? Почему даже Наседкин знает больше, чем я?
От обиды у меня перехватило горло. Чувствую, что еще немного - и разревусь, как дура.
- Вот так раз! Может быть, доктор Вере принять валерьяночку?
- Не отшутитесь, я не маленькая. Думаете, не вижу... Ну почему? Потому, что у меня сидит муж? Да знаете ли вы, какой человек мой муж! - Задыхаясь от обиды, я лезу за пазуху, вынимаю клеенчатый мешочек, в котором ношу на груди документы, бросаю ему на одеяло паспорт. - Вот видите, без минусов. Можете убедиться. Нужны характеристики - спросите у Марии Григорьевны, у Федосьи...
Я понимаю, что перехлестываю через край, но уже не могу остановиться. Голова Сухохлебова беспокойно ерзает по подушке.
- Только не говорите, что я это все выдумала! - прокричала я, и слезы побежали по щекам.
- Нет, доктор Вера, вы не выдумываете, - вдруг произнес он. Взял мою руку, стал тихонько поглаживать. - Вам действительно кое-чего не говорят.
Я попыталась выдернуть руку, но он удерживал ее мягко и вместе с тем крепко.
- Да почему, почему? Побегу и все расскажу немцам? Так?
- Вам уже сказано было, правильно сказано: пчелы делают все, чтобы сохранить матку от любой, слышите, от любой опасности. Чтобы не погиб весь рой. - Он опять погладил мне руку. - На ваших плечах сейчас такая тяжесть, что, если к ней что-нибудь добавить, вы не выдержите...
Это звучало в общем-то правдиво. Но мне казалось - он лжет. И мне стало так горько, что, спрятав лицо в ладони, я разревелась, как девчонка, как дура. Он гладил мне волосы, а я ревела еще пуще. Тогда он заговорил, будто беседуя не со мной, а с самим собою:
- Ну хорошо, давайте рассуждать. Вот я кадровый военный, с самой гражданской форму не снимал. Полковник. Командир дивизии. И вот в разгар войны лежу на койке, как гнилое бревно. И где? Тут вот, в городе, оккупированном гитлеровцами. Это же почти плен. А что может быть для кадрового военного позорнее плена? Что должен сделать командир Красной Армии, коммунист, оказавшись в гитлеровском плену? Уничтожить себя? Правильно. Честно вам говорю, доктор Вера, я ведь хотел застрелиться. Но это не поздно никогда. И я подумал: а может быть, большевик Сухохлебов может еще сделать что-то полезное для нашей победы. Ну хоть самую малость... И мне стало даже стыдно оттого, что тот, легкий, выход пришел в голову... Человек, милый доктор, не побежден до тех пор, пока он сам не признает своего поражения. - Сухохлебов вздохнул. - Нет, доктор Вера, пусть уж каждый из нас в меру сил делает свое дело...
Тут он приподнялся на локте и посмотрел мне в глаза.
- А вы все говорите нам... мне?.. Вот немцы дали вам приказ, под страхом страшных наказаний запрещающий скрывать военнослужащих, коммунистов, евреев. Вы ведь тоже не сказали об этом приказе нам... мне?
Этот самый «бефель» лежал в чемодане, спрятанный там, в детском белье. Я о нем помнила, он пугал и мучил меня, но я как засунула его туда, так с тех пор ни разу и не вынимала. К чему? Слова, выведенные жирным шрифтом: «За неисполнение данного приказа, равно как и любого его пункта, вы будете подвергнуты наказанию по германским законам военного времени», - эти слова я помнила наизусть.
- Откуда вы знаете об этой бумаге?
- От немцев. Из их разговора. Этот Прусак говорил об этой бумаге доктору Краусу.
- Вы знаете немецкий?
- Мы учили его во Фрунзенке. Но это было давно, в начале тридцатых годов. Половину перезабыл... Но этот-то разговор я понял... Так вот почему вы мне о нем не сказали? - Серые глаза смотрели с ласковым упреком.
- А для чего? Я нарушала этот приказ уже в тот момент, когда он был мне передан. Вы это знаете.
- Не хотели нас волновать?
- А зачем?
- Не хотели взваливать на нас новые тяготы? Вот и мы не хотим. Давайте, доктор Вера, распределим роли: ваше дело - медицина, мое - война. И не будем друг другу мешать. Лады? Согласны?
Он что же, советуется со мной? Это ново. Я смотрела на него во все глаза.
- - И еще, - снова заговорил он. - И еще - вы мать, с вами дети. Двое детей...
- Но ведь у многих дети. У вас, например... Вы говорили Домке...
- У меня нет детей, - сказал он, и мне показалось, что голос его дрогнул.
- А семья?
- Это уже детали... Впрочем, у меня нет и семьи... Так вернемся к нашему разговору. Правильно, вас не посвящают в некоторые сугубо боевые дела, но не потому, что вам не верят. «Слушайте сюда», как говорит Мудрик. На вашей ответственности госпиталь, столько жизней! Все мы здесь ходим по острию бритвы, но если оступится кто-нибудь из нас, вы лишитесь всего-навсего одного-двух больных... А оступитесь вы - госпиталь лишится сразу и начальника, и хирурга. Разница? Впрочем, для тех дел, о которых с вами не говорят, вы и не годитесь. Да, да, и не обижайтесь. Вы так же прямы и простодушны, как этот ваш расчудесный Иван Аристархович... Кстати, я за него очень беспокоюсь. Вы знаете, немцы предложили ему пост в бургомистрате, а он не только отказался, но, обидевшись, наговорил им такого... Ну, так как же, вопрос о недоверии исчерпан?
Какой же тягостный груз снимал он с меня. Будто раскрывал дверь и впускал в наши подвалы свежий морозный воздух... Но с ним-то с самим что? Почему сразу затосковали его глаза, когда я спросила о детях? Вот и сейчас - говорит, а глаза грустные, беспокойные. Не утерпела, спросила:
- А где же ваша семья?
Он приподнялся на локте, сунул руку под подушку. Из-под матраца на миг глянула рукоятка пистолета. Но достал он не пистолет, а старую, выгоревшую фотографию. Не без труда можно было рассмотреть на ней угол грубо сколоченной террасы, крупную женщину в вышитой кофте, сидевшую на ступеньках, девочку в возрасте моей Стальки. А рядом, опираясь о точеный столбик, стоял высокий военный, с резким, волевым лицом и бритой головой. Он, этот мужественный военный, к гимнастерке которого были привинчены два ордена Красного Знамени и медаль «20 лет РККА», так мало напоминал сегодняшнего Сухохлебова, что я чуть было не спросила: «Это вы?»
- Все, что осталось от моей семьи... Бомба, одна только бомба... Я видел воронку там, где был наш домик в военном городке... Вот такая обстановка, доктор Вера!
Он пожал и бережно опустил мою руку. Смолк, ни один мускул не дрогнул на его костистом, землистого цвета лице. Из глаза вытекла и сбежала на подушку крупная слеза. Оттого, что его лицо сохраняло обычное выражение, я поняла, каково ему. И мое собственное горе, мои заботы и обиды как бы уменьшились в размерах. Не знаю, как это получилось, но я вдруг наклонилась и поцеловала его в лоб.
И вот лежу я сейчас в своем «зашкафнике». Сладко посапывает мне в ухо Сталька, то и дело ворочается и брыкается Домка. Он тоже у меня иногда бормочет по ночам, а тут я вдруг ясно различаю: «Товарищ Сталин, по вашему приказанию...» Я понимаю, откуда это. Они с сестренкой отыскали сегодня где-то среди развалин маленький портрет и сначала повесили его на колонне, поддерживающей потолок. На самом виду. Мария Григорьевна велела снять: немцы сразу его увидят. Ребята уперлись. Конечно же, в дело вмешался Сухохлебов и разъяснил, что на войне хитрость - одно из действенных орудий борьбы, нужно быть хитрым с противником. И вот портретик этот перенесен в наш угол. Его прикрепили с тыльной стороны дверцы шкафа. Когда шкаф открыт, он виден, а при появлении немцев стоит закрыть шкаф, и он исчезает...
Все спят, но ко мне сон не идет. Как же это так, Семен? Что же получается?.. Иван Аристархович Наседкин, человек «с сомнительным прошлым» с риском для головы отказывается от поста в этом их вонючем бургомистрате, а твой папаша, «российский пролетарий», открывает мастерскую и скупает у голодных какие-то там часы? Ответственный товарищ Дубинин драпанул, окопался где-то в тылу и потягивает, наверное, медицинский спиртишко, а Верка Трешникова, которую выгнали из комсомола, спасает раненых, оставленных им впопыхах... Анкеты у нас как древние свитки - все там есть о бабке, о деде, о белой гвардии, о родственниках за границей, а вот нет там вопроса, что ты за человек, какая у тебя душа. И это всяких там анкетных дел мастеров, оказывается, не очень и интересует.
Дорого, очень дорого стоит эта одна-единственная слеза Сухохлебова...
17
Конец ночи выдался шумным. На город налетели наши самолеты. Гитлеровцы, должно быть, прозевали их, объявили тревогу с опозданием. Впрочем, это нас не касается. Нам некуда прятаться. Глубже в землю не уйдешь. Остается надеяться на теорию вероятности. Но хотя бомбы рвались где-то в районе станции и ни одна близко от нас не упала, все мы проснулись, женщины закатили истерику, и стоило немалых трудов успокоить их.
Тетя Феня, вылезавшая наружу, рассказывала: «Содом и гоморра». В районе станции - огромное зарево. Что-то горит и взрывается, и нас ощутительно встряхивает... Понемногу все успокоилось. Но я поняла - не заснуть - и от нечего делать решила до утреннего обхода как следует причесаться, что, признаюсь, в последнее время делаю не часто. Наше импровизированное зеркало безжалостно доложило мне, что физиономия у меня еще больше осунулась, глаза стали почти круглыми и глубоко запали в темные глазницы... Н-да, немало уже годков, ох, как немало! И каждый из них, особенно последние, очень заметно расписались на моем лице. Вот только волосы, пожалуй, и остались от прежней твоей Веры. Как раньше, темные, густые, блестящие и, как раньше, имеют тенденцию свертываться в локоны. И седины в них почти не заметно. Но сейчас их и расчесывать-то нечем. Расческу я свою потеряла еще там, на мосту, купить негде, и обхожусь пятерней, благо волосы у меня не длинные.
Но раз решила причесаться, надо причесаться. Иду на поклон к Антонине. Та делает утреннюю уборку, орудует мокрой тряпкой. Выпрямившись, отвела изгибом руки со лба свои огненно-рыжие мелкозавитые кудри, удивленно, даже, как мне показалось, насмешливо взглянула на меня.
- Руки мокрые, возьмите в тумбочке.
Начала причесываться. И вдруг захотелось опять увидеть не эту бледную, мятую со сна физиономию, а то лицо, что смотрело на меня из овального зеркала Ланской. Оглянулась. Ребята, кажется, спят. Я, по примеру Антонины, стала крепко тереть рукавом губы. По ее утверждению, от этого они становятся красными. Но, очевидно, операция эта помогает, лишь когда бурлит молодая кровь. У меня только стало саднить губы.
- Ма, надо рукав помочить. Антон всегда так, помочит и трет. - Это произносит, конечно, Сталька. Приподнялась на подушке на локотках и смотрит на меня во все глаза. - А потом, ма, послюни пальчик и поводи по бровям.
Я покраснела, будто меня застали за чем-то дурным. Сталька сейчас же переменила тему:
- Ма, а почему люди краснеют? - И совсем неожиданно: - А о чем вы ночью с дядей Толей шептались?
Вот те на...
- Спи. - Я быстро вышла, почти выбежала из своего угла и уже в палате застегивала халат. Шептались!.. Ведь придумает же, малявка. Все, все замечает и всему дает свои, весьма каверзные, толкования.
День начался с тревожного происшествия. Рано, в неположенный час, появились немцы. И не трое, а четверо. Кроме наших обычных, явился еще один, в черной шинели на меху, в сверкающих сапогах на высоких дамских каблучках. На нем было все новенькое - и сапоги, и ремни, и перчатки, которые он не снял. От него пахло кожей. Он весь скрипел. Знаки различия у него какие-то другие, и я не поняла, какого он звания, но по черепу на фуражке догадалась, что это эсэсман, а по поведению Толстолобика - что он среди них старший начальник.
Рекомендуясь, новый откозырял, но руки не подал и назвал фамилию, в которой я разобрала лишь приставку «фон». Этот «фон» был холоден и очень надменен. Мне было велено показать ему госпиталь. Он желал сам проверить и людскую наличность, как перевел мне Прусак.
Повела их по палатам, показываю. Толстолобик дает по-немецки свои комментарии, слышу - часто повторяет мое имя. Но «фон», кажется, ничего не слушает. Зато черные, быстрые и какие-то крысиные глазки его так и шныряют, так и шарят по углам, по койкам, под койками, и я почему-то наполняюсь предчувствием надвигающейся беды.
Заходим на кухню, в отсек, где Мария Григорьевна хранит продукты. Не снимая перчатки, «фон» сует руку в мешок, берет горсть крупы с черными точками мышиного помета, брезгливо нюхает и бросает обратно. У ванн с солониной остановился. Протер пенсне. Толстолобик что-то ему говорит, я понимаю только одно слово «пферд» - лошадь. На лице «фона» брезгливая гримаса. Требует истории болезни, или, как они выражаются, «скорбные листы». Прусак складывает их в аккуратную стопку: возьмут их для изучения. Я думаю: «Как здорово, что у нас все в ажуре», - и с благодарностью смотрю на Толстолобика. Тот сегодня даже не глядит в мою сторону. С худого лица не сходит выражение озабоченности. В конце обхода «фон», не повышая голоса, за что-то распекает Толстолобика. Тот молчит. Смотрит в пол. Играет скулами. И лишь в конце выдавливает сквозь зубы: «Яволь, герр хаупштурмфюрер». А во мне все нарастает чувство приближающейся беды. Я прячу руки назад, чтобы он не заметил, как дрожат пальцы.
И вдруг в конце визита обнаруживается, что «фон» хорошо знает по-русски.
- Господин комендант сообщил мне, что вы, доктор Трешникова, - он очень четко выговаривает даже мою фамилию, хотя все и всегда ее путают, - что вы не военный медик и потому ваши упущения пока объяснимы. Но мы наведем здесь порядок... Одежда больных - где она? Хорошо продезинфицированная и аккуратно сложенная, она должна лежать в специальных гигиенических пакетах под кроватью у больного. - И вдруг черные крысиные глаза его, как бы состоящие из одних зрачков, да еще увеличенные толстыми стеклами пенсне, впиваются в мои глаза. - Среди тех, кто здесь, есть комиссары? Коммунисты? Евреи? Военнослужащие?
Знакомый вопрос, но впервые он звучит для меня так зловеще. «Бефель»... «Будете подвергнуты наказанию по германским законам военного времени...» Не дрожи, не смей дрожать, Верка... И как противен его правильный русский язык. И эти глаза, - они как револьверные дула... Только бы не опустить взгляд. Напрягаю волю, заставляю себя кокетливым жестом поправить косынку, даже выдавливаю на лице улыбку.
- Здесь лечебное учреждение. Мы интересуемся историей болезни, а не историей больного. Впрочем, военнослужащих нет, это гражданский госпиталь, вернее, больница. Коммунисты? Евреи? Откуда им здесь быть?..
- Вы это точно знаете, доктор Трешникова?
- Я в этом уверена. Город почти пуст, население ушло. Зачем бы эти люди стали здесь оставаться? Они же знают, как вы с ними поступаете.
Некоторое время «фон» стоит, как бы взвешивая мои слова.
- Из госпиталя кто-нибудь ушел? Были выписки?
- Да, два или три человека.
- Два или три?
- Трое. Двое ушли, один умер.
- Куда ушли те, что выздоровели?
- Домой.
- Куда именно? Имена, адреса?
М-да, это не Толстолобик и даже не Прусак. Но спокойствие, Вера, спокойствие! Пожимаю плечами.
- Я - врач, мое дело лечить больных. Записями приема и выписки ведает сестра-хозяйка. Сестра Фельдъегерева.
Мария Григорьевна давно уже тут. Стоит поодаль и, как спасательные круги, бросает мне спокойные, будто даже сонные взгляды. Она, конечно, что-нибудь придумает.
- Сестра Фельдъегерева, скажите господину военному, кто и когда у нас выписался.
Ох, и умница же эта Мария Григорьевна! Одно из двух - или в ней погибла актриса, или у нее действительно железные нервы. Она неторопливо надевает свои очки в оправе и идет к шкафчику. Достает толстую книгу, в которой она ведет учет белья, и, хотя никаких сведений о выписавшихся там, разумеется, нету, оттуда, от шкафа, будто читая, называет по памяти имена. Говорит адреса. Риск? Конечно, риск. Но все это выходит так естественно, что даже этот «фон» верит.
В этот момент из-за ширмы Сухохлебова доносится тяжкий, подавленный стон. Бросаюсь туда. Он закрыт одеялом до самых глаз, но глаза ясные, и я читаю в них отчетливо, безошибочно читаю: «Молодец». Я понимаю - это он нарочно отвлек их, но беру его руку посчитать пульс. Он тихонько жмет мне кисть.
- Что там? - спрашивает «фон».
- Больной, - я чуть не называю его настоящую фамилию. - Больной Карлов, тяжелая контузия от взрыва мины замедленного действия, - отвечаю я теперь уже почти спокойно.
- Почему он отгорожен?
- Очень мучается, стонет. Это влияет на других.
Поскрипывая сапожками, «фон» подходит к ширмам. Заглядывает за них.
- Обстоятельства контузии?
Я пожимаю плечами.
- Шел по улице, мина замедленного действия развалила дом.
- Мина замедленного действия? Азиатское коварство коммунистов.
Теперь, когда этот «фон» стоит возле лампы, я могу рассмотреть его. Круглое лицо, яркие губы и какой-то срезанный, будто прячущийся под воротник, подбородок.
- Доктор Трешникова, ваши порядки неудовлетворительны. Всех выздоравливающих вы должны сгруппировать и перевести в особое место - вон туда, - он показывает на третий, самый отдаленный от выхода отсек подвала. - Нужны также списки инвентаря, коек, тумбочек, биксов, комплектов постельного белья, запасов продуктов... Вы их отвратительно храните. - Он брезгливо понюхал пальцы перчатки, которой он брал крупу. - Срок выполнения - сутки. Мой ученый коллега доктор Краус - он большой либерал и попустительствовал непорядкам... Через сутки мы проверим выполнение приказа.
Он козырнул, насмешливо поклонился, и они пошли к выходу. Толстолобик был хмур, он еле кивнул. Как только их машина проурчала по улице, я бросилась к Сухохлебову.
- Я где-то промахнулась? Сказала не так?
- Доктор Вера, - Сухохлебов не мог скрыть волнения, - это опасность. Страшная опасность. Это вам не Толстолобик. - И потом добавил задумчиво: - А вы знаете, доктор Краус, кажется, больше чем просто честный немецкий интеллигент, как я о нем думал. Жаль, мы этого не знали, хотя я мог кое-что подозревать.
Я удивленно смотрела на Сухохлебова.
- Откуда вам стало известно? Когда?
- Вот сейчас. Это сказал хауптштурмфюрер войск эс-эс фон Шонеберг. Здесь вот. Только что.
- Он сказал?
- Конечно, не нам с вами. Этот надутый индюк уверен, что русские недочеловеки не могут знать его языка. Он откровенно стал распекать Крауса за симпатии к русским. Он сказал: «Вы что же, хотите возобновить знакомство с СД?» Понимаете, доктор Вера, - возобновить. Стало быть, эта организация когда-то уже занималась Краусом...
- А что такое СД?
- Зихерхайтсдинст - гитлеровская служба безопасности. Перед ней трясутся даже генералы. Если она занималась когда-то Краусом, это лучшая для него рекомендация.
- Какое все-таки счастье, что мы успели переписать наши истории болезни! - воскликнула я, занятая своими мыслями,
- И всех остригли. И сожгли обмундирование, - кивнул Сухохлебов.
- Ну, это не я. Это - Мария Григорьевна.
- А сейчас надо достать для всех гражданское и обязательно выполнить все, что Шонеберг требует. От этого пощады не жди...
В самом деле, несмотря на маленький росток и приличные манеры, от этого «фона» веет жутью. Я поняла - новая опасность сошла в наши подвалы вместе с этим человечком на высоких каблуках. И хотя день выдался все-таки неплохой, хотя женщины наши вернулись из нового похода за одеждой с двумя полными санками всяческого барахла, хотя в общежитиях у них нашлись добровольные помощницы, обещавшие к завтрашнему дню насобирать еще, на душе тягостно, тревожно, все валится из рук.
Добавила волнений и Зинаида. Она привела чернявую девчурку лет семи. Бедняжка трясется не то от мороза, не то от страха, не плачет, не отвечает на вопросы. Только глядит кругом, как затравленный зверек, и жмется к Зинаидиной юбке.
- Раей зовут, - отрекомендовала та и как о чем-то решенном сообщила: - Со мной жить будет.
И не она, а другие женщины, ходившие в поход за одеждой, пояснили, что это младшая дочка того самого инженера Блитштейна, которого эсэсманы схватили несколько дней назад. Ее и ее сестер тетки с «Большевички» прятали по своим комнатам. Но какая-то сволочь, говорят, польстившись на пожитки девочек, выдала их. Полицаям, нагрянувшим ночью, удалось схватить старших. Младшая вырвалась, убежала. Кто-то успел укрыть ее в дровах в котельной.
Я вспомнила Шонеберга, вспомнила, как он вглядывался в лица, вспомнила, что испытала, попав под обстрел его крысиных глаз. Встал вопрос: оставив девочку, не подвергну ли я весь госпиталь опасности? И сразу же стало стыдно: что же я, хуже этих женщин с «Большевички» и этой нашей Зинаиды? Они ж тоже головами рисковали.
Впрочем, Зинаида, должно быть, и не допуская какого-то иного решения, уже раздела девочку и уложила ее на свою койку.
- Вот тут, Раечка, и будешь со мной жить, пока вернутся папа с мамой и сестрички...
Вечером мы начали то, что тетя Феня назвала по-библейски переселением Авраама в землю Ханаанскую. Согласно приказу, мы перетаскивали койки, тумбочки, столы. Антонина была просто бесподобна. Вот уж Антон так Антон. Тяжелых таскали на носилках Домка в паре с Капустиным, который совсем уже поправился. А почтенная Антонина, подняв больного на руки в одиночку, осторожно несла через палаты, продолжая при этом рассказывать какую-то историю. Звенел ее детский голосок: «Вы знаете, тетя Феня, я его после этого еще больше запрезирала, а он меня еще больше зауважал. Я не хочу быть голословной, спросите его самого».
Словом, Семен, день окончился вроде бы как и благополучно, а меня вот не оставляет ощущение, что петля стягивается на шее. Даже порылась в белье, отыскала эту проклятую бумагу и перечитала, хотя помню ее наизусть... Этот Шонеберг забрал истории болезни. Иван Аристархович, конечно, сильно подправил эти документы. Еще в первую мировую войну он изучил в совершенстве все способы надувательства врачебных комиссий. Знает, как нагонять температуру, вызывать сердцебиение, понос, рвоту, рези в желудке, действительные и мнимые. Великий эксперт по делам симуляции. Все это нашло отражение в больничных листах, заново переписанных Домной и подкрепленных температурными листами... И все-таки очень волнуюсь...
Верка, не смей думать об этом. Надо не терзаться всяческими предположениями, а действовать.
Вот Наседкин - тот не волнуется, а действует. Собрал мужчин военных и не военных и с пресерьезным видом прочел им лекцию, передавая им многовековой опыт симуляции. А сейчас терпеливо вдалбливает каждому, в чем состоит его мнимый недуг, как изображать его признаки, как приостановить заживление раны и как вызвать воспалительный процесс.
И Сухохлебов действует: вызывает бойцов и командиров по одному и повторяет с ними их легенды. Задает каверзные вопросы. Помогает выпутываться из затруднительного положения. Сам он, согласно своей легенде, Карлов, агроном из верхневолжских крестьян, 1882 года рождения, контуженный миной на улице. Он так оброс, что ему можно дать значительно больше его истинных сорока пяти лет. И в таком виде он действительно не представляет интереса для гитлеровской Германии.
Нет, мы время зря не теряем.
Перед тем как идти спать, зашла в сестринский угол. Зинаида спала, прижимая к себе найденыша, будто боялась, что девочку отнимут. Они тут уже вымыли ее. Лежит свеженькая, розовая. Удивительно, как эти малыши чутки на ласку. Говорят, она уже поверила, что родители ее уехали куда-то работать, н вечером голосок ее звенел, как колокольчик.
Все вроде бы хорошо. Но почему же такая тревога, такая тоска на душе? Почему я вздрагиваю при любом шуме и все чего-то жду, жду?.. Нервы, что ли?
18
Два события: заработал наконец автоклав, и похоронили нашего Василька.
Автоклав пускали с той же торжественностью, с какой когда-то вводили в строй Днепрогэс. Речей, правда, не говорили. Но когда круглая блестящая штука, приспособленная Петром Павловичем для дровяного отопления, засвистела, и манометр показал нужное давление, Мария Григорьевна даже прослезилась, а больные, хотя большинство из них, конечно, и не понимало, что это за машина, и для чего она нужна, шумели, галдели, жали руки мастеру. Он принимал эти благодарности торжественно и важно. Об оплате он даже и не заикнулся, и это как-то примирило меня с представителем возрождающейся частной инициативы. Не только меня, но и ребят. Они даже отправились провожать деда, но, не доходя до домика, он завернул их обратно: дескать, летают самолеты, можно попасть под бомбежку.
Василька похоронили тихо, но по всем правилам.
Зинаида стояла у могилы онемевшая, неподвижная и не плакала. Но возвращаться с нами отказалась. Наказала только Марии Григорьевне:
- Пригляди за девчонкой, а я с ним побуду...
И мы ушли, оставив Зинаиду на кладбище одну среди снегов, у черного продолговатого холмика.
Вечером она не вернулась. И я уже ругала себя за то, что оставила ее там... Даже поделилась своими опасениями с Марией Григорьевной. Но та сидела возле автоклава, с упоением слушала, как шумит и булькает в его сверкающем животе, и ответила только:
- Вернется. Девчонка здесь. Она от нее не уйдет.
Примерно в полночь, когда все спали, скрипнул блок входной двери. Подумав, уже не немцы ли нагрянули, я быстро стала одеваться. По потолку метался отсвет ацетиленовой лампы. Слышался тревожный голос тети Фени:
- Кто, кто там?
- Король жонглеров и эксцентриков, народный артист Приморского района Феодосии один-Мудрик-один.
Он стоял облепленный с головы до ног снегом. Небольшая пушистая елка, которую он держал, тоже белела и даже сверкала в мертвом зеленоватом свете. Не знаю уж почему, я очень обрадовалась, бросилась к нему. Стала трясти его холодные, мокрые руки.
- Ой, какое чудное деревце! Вот спасибо-то вам! Как вас благодарить?
- А вы и не благодарите, доктор Верочка. Дайте ручку поцеловать. - И рука моя ощутила шелковистое прикосновение его каракулевых усов.
От елки да и от него самого тянуло свежестью, лесом, метелью, снегом. Вдруг вспомнилось комсомольское рождество, которое мы когда-то проводили с тобой, Семен, у церкви девичьего монастыря, что был между «Большевичкой» и «Буденновкой». Ребята из клуба «Текстильщики», наряженные в какие-то белые хламиды и черные мешки, изображали святых и чертей, вспомнила даже глупейшую частушку, которую мы тогда горланили:
Если не было бы бога.
Не была бы богомать,
Не была бы богомать,
Куда б было посылать.
А потом густо повалил снег, и мы, позабыв и бога, и чертей, и религию, с которой надо бороться, и атеизм, который надо было утверждать в сознании масс, - все мы - святые и черти, попы, монахи, керзоны и Пуанкаре - с хохотом и визгом неслись на санях с горы к речке Тьме под торжественный звон могучих колоколов, под пение хора крестного хода и катались в снегу, как щенята... Как хорошо, легко и бездумно тогда жилось. Все ясно и определенно, никаких сомнений, никаких проклятых вопросов... Все это разом напомнила мне елка, на ветвях которой уже сверкали капли растаявшего снега.
- На улице хорошо?
- Погода - смерть немецким оккупантам! - Мудрик вытирал ладонью капли растаявшего снега со своей каракулевой растительности.
- Подождите, Мудрик, я сейчас оденусь.
Сама не знаю, что со мной сделалось, побежала к себе, нашла пальто, накинула платок и, даже опередив Мудрика, выбежала из подвала. Метель крутила, вертела, бросала в лицо снежные хлопья. И было при этом так тихо, что, честное слово, я слышала, как они с мягким звуком ложатся на рукава, на воротник. Кругом - ничего, кроме крутящегося снега, и ощущение - будто подхватило тебя и ты летишь, летишь куда-то вверх. Ни забот, ни хлопот, ни мысли о будущем, ни прошлых, ни грядущих бед. Только вот это кручение снега, эта свежесть морозной зимы.
- Мудрик, о какой елке вы говорили тогда с Василием Харитоновичем?
- Я говорил? - настороженно переспросил Мудрик, явно желая уйти от этого вопроса.
- Вы, - настаивала я. - Помните?
- А, это у полковника, что ли? - деланно припомнил он. - Так вот об этой самой. О той, которую принес.
- Нет, не об этой. Я знаю. Мне Василий Харитонович сказал. - Приятно было наблюдать явное смущение этого принципиального наглеца.
- Вы меня за лонжу не дергайте, - сердито произнес Мудрик. - Думаете, если вы вышли со мной на снежок постоять, так у меня шарики за ролики закатятся...
- Вы меня в комендатуре видели?
- Ну, а как же, с той самой, дамой-раскладушкой.
- Поэтому и не верите?
- В кого Вовчик Мудрик не верит, тот лежит на столе в картонных тапочках... А вы не обижайтесь. доктор Верочка, задумал Мудрик такое тройное сальто слепить, какого ни один манеж не знал.
- А что такое сальто?
- О-о-о, это видеть надо...
- Ну, так что же за тройное сальто вы задумали?
- Сказка Андерсена и братьев Гримм. Смертный номер под куполом без лонжи.
- А что такое лонжа?
- Веревка такая, которой циркач страхуется.
Мы вели этот пустой разговор, и как-то трогательно было наблюдать его смущение. В кипении метели я нащупала его руку и пожала. Пожала и испугалась. Он вцепился в нее обеими руками, прижал к губам, а губы у него были горячие, требовательные. Испуг парализовал меня.
- Тогда вы мне по фотографии, - твердил он, будто задыхаясь от быстрого бога. - Кто бы другой, я б из него его самого вышиб, а вы... Нате вот, Вера Николаевна, ударьте. Ударьте что есть силы, спасибо скажу...
Но вдруг насторожился, напрягся, как охотничий пес, делающий стойку. Сунул руку в карман куртки и прыгнул в метельную мглу. Раздалось приглушенное:
- Ложись, в куски разнесу. - Потом смущенно: - Ты, Антон? Не прячься, думаешь, не вижу? - Он свистнул по-своему: - Фю-фю-фью...
Ответного свиста не было. Мне показалось, что за шевелящейся занавесью снега я расслышала приглушенный, точно бы детский, плач.
Стало очень не по себе. Нащупала рукою дверь и сошла вниз.
19
...Теперь по утрам мы ждем Ивана Аристарховича с особым нетерпением.
Новости нам нужны даже больше, чем болеутоляющие средства. Раньше он приносил эту паршивенькую газетенку «Русское слово». Мы, по выражению Сухохлебова, читали ее наоборот, ища, так сказать, доказательств от противного. Он здорово умел это делать.
Теперь мы узнаем новости из листовок. Их по ночам сбрасывают маленькие самолеты, «крышники», как называют их у нас, потому что по ночам они часами чуть ли не ползают по крышам города. Замечательный самолет. Честное слово, после войны надо бы ему поставить памятник. С темнотой несколько «крышников» появляются над немецкими позициями, над городом и кружат, кружат. Шум слабеньких моторчиков - для нас это голос, говорящий, что мы не забыты, что там, за рекой, помнят, готовят нам выручку, ну, а у гитлеровцев они, естественно, вызывают ярость, потому что летчики с этих машин очень точно бросают свои маленькие бомбы. И они вызывают огонь немецких зениток. Поднимается страшная пальба, но это, как говорит наш Дроздов, все равно что палить из ружья по комару. А летчик, попавший к нам недавно, утверждает, что полеты эти истощают артиллерийские запасы противника, и это, может быть, и делается умышленно, в предчувствии скорого наступления.
«Наступление!» - это слово не сходит теперь у всех с языка. О нем говорит и Сухохлебов, а он слов на ветер не бросает. В листовках, которые где-то там подбирает и приносит нам по утрам Наседкин, чудесные сводки: «...враг отброшен от Москвы... По немецко-фашистской армии нанесен новый удар... В боях разгромлено... Убито... Взято в плен... Наши трофеи...» Ни одного сданного пункта, только занятые... Как это замечательно! А в «Русском слове» уже бормочут что-то о перегруппировках сил, о спрямлении линии фронта перед новым, решающим наступлением на Москву, о том, что Красная Армия бросает в бой последние резервы. Знаем уж, знаем эти «перегруппировки», «спрямления» и «последние резервы»... Опытные, нас не обманешь!
Да и по поведению немцев чувствуем, что они озабочены отнюдь не новым, решающим наступлением на Москву. Разве не видим, сколько машин, танков, пушек движется через наш город туда и сколько и что возвращается оттуда. И в каком виде. Гитлеровцы нервничают, торопятся, они уже не заботятся о том, чтобы придавать своим бесчинствам вид законности. Раньше людей мобилизовали, и они попадали в рабство через вербовочные пункты. Теперь просто устраивают облавы, хватают мужчин и женщин на улицах, бросают в вагоны. Даже, говорят, гонят колоннами куда-то вверх по реке. Нас пока не трогают. Забыли, что ли. Но я вся в напряжении. Вздрагиваю от каждого громкого звука. Руки трясутся, веко дергается. Стоит ночью открыть глаза - и уже не уснуть.
Наступление, наступление! Теперь-то уже недолго. Сводки читаем по нескольку раз. Они даже дороже еды, которая, к слову сказать, все скуднее и скуднее.
Но особенно дороги нам те листовки-афишки, которые Наседкину иной раз удается содрать с какого-нибудь забора или стены. Наши, верхневолжские, издаваемые где-то тут, в самом городе. Свои, близкие новости: там или здесь сожжен склад... отбито на этапе столько-то граждан, угоняемых в гитлеровское рабство... казнены такой-то и такой-то изменники. И надежда: близится освобождение города. И призыв: «Держитесь, теперь скоро!..» Дорого сознавать, что где-то здесь, рядом, действуют, сражаются храбрые люди, против которых бессильна вся техника фашистов, думать, что люди эти, наверное, знают и о нас, может быть, наблюдают за нами, в решительную минуту придут к нам на помощь.
Вот и сегодня Наседкин пришел торжественный, важный. Он кхекал более многозначительно, чем всегда, довольно расправлял свои моржовые, покрывающие рот усищи. И мы узнали, почему вот уже третьи сутки за городом, вниз по течению реки, густо чернеет небо: не названный в листовке народный мститель с большой дистанции угодил гранатой в немецкую автоцистерну, стоявшую на заправке, и от нее загорелись бензиновые баки. Теперь, по определению Сухохлебова, горят тяжелые смеси, которыми заправляются громадные дизельные машины немцев. Баки баками, горючее горючим, но главное - еще одно подтверждение: скоро, теперь уже скоро.
Только бы продержаться, не пасть духом, не сделать сейчас, в решающие дни, какой-нибудь неверный шаг. Теперь я поняла, что Сухохлебов затеял елку и так серьезно готовится к ней, чтобы рассеять напряжение, поддержать в людях дух.
Деревце, принесенное Мудриком, наши умельцы вправили в обод колеса сожженной машины. Его установили в первой, теперь, когда мы вывели отсюда выздоравливающих, сильно опустевшей палате. Странное дело - небольшая, чуть выше человеческого роста, елочка источает такой запах хвои, что он, побеждая все другие, отнюдь не симпатичные наши ароматы, напоминает о чем-то хорошем, о детстве, что уже, увы, не вернется.
Для украшения елки был придуман целый ритуал. Сухохлебов настоял, чтобы его на время перевели назад в первую палату. Усадили, обложили подушками. Как полководец с командного пункта, он руководит Раечкой, Стальной и Домиком. «Это повесьте сюда, это - туда. Усильте правый фланг, обеспечьте сверканием левый». К вершине они привязали большой термометр с отбитой капелькой ртути. Вместо снега - вата. Новую Мария Григорьевна им не дала. Под руководством Антонины девчонки выкипятили бывшую в употреблении. Распушили, разложили по веткам. Получился отличный снег.
В свободную минуту я наблюдаю за всеми приготовлениями и, знаешь, Семен, нашла и еще одно сходство у тебя с Сухохлебовым. Вы оба умеете увлечься делом, как бы оно ни было мало... Этот немолодой человек, командовавший дивизией, право же, увлечен украшением елки не меньше, чем сами ребята. Он заразил этим всех наших ходячих, которые набились в полупустую палату, сидят на корточках, теснятся вдоль стен, дают ребятам советы, помогают... И главное, все получают удовольствие.
Тетя Феня, которая, как я тебе уже говорила, успела когда-то побывать в монашках, блеснула своим рукоделием - с помощью акрихина и стрептоцида накрасила тряпок, компрессную бумагу, наделала какие-то невероятные цветы, яркие и нелепые. Даже Мария Григорьевна, посматривавшая на всю эту затею с усмешкой, в конце концов расщедрилась, отпустила коробочку бертолетовой соли, и снег на ветках засверкал.
Я в этой затее участия не принимала. Просто смотрела на возню и отдыхала душой. Даже веко мое угомонилось, перестало дергаться. Смотрела, - и, может быть, тебе это покажется странным, - мне вспомнились упрямые грибы. Да, да, я не обмолвилась. Ты помнишь, конечно, Сенную площадь? Раньше по четвергам и воскресеньям здесь собирались большие базары. Ее еще при тебе заасфальтировали, благоустроили, а базар был перенесен за Тьму. Так вот однажды утром, летом, бегу я по адресам к больным и вижу - мамочки! Грибы! Ну да, грибы шампиньоны! Они как-то пробились сквозь каменистую корку, приподняли асфальт. Тут и там повылазили из трещин белые шляпки... И вот сейчас смотрю, как украшается наша елочка, и думается, что вот так же сквозь страшную каменную броню, закрывшую всех нас, пробивается это пушистое радостное деревцо - привет дорогого мира, который временно покинул нас и который, как в это все мы верим, скоро к нам вернется.
Слышатся со всех концов советы.
- Эй, эй, Раенок, мензурочку побереги! Она для верхних веток, а сюда давай вон тот коричневый пузырек.
- Ну куда, куда вы? Здесь же не видно будет.
- Сталька, не слушай, вешай на прежнее место. Надо, чтобы он сверкал.
- Домка, перевесь вон ту штуковину направо... Где у тебя правая рука?.. Ну вот на правую и вешай.
Последние несколько дежурств Антонина клеила из полосок бумаги целые цепи. И вот теперь собственноручно растягивает их между ветками, от усердия высунув даже кончик языка. Милый, могучий Антон, какой же ты все еще ребенок! Ну почему у тебя сегодня такое встревоженное лицо? Почему ты не глядишь на меня? Неужели из-за этой выходки Мудрика там, наверху, во время метели? Да я бы и сама была рада, чтобы всего этого не случилось.
Честно говоря, я побаиваюсь этого Мудрика, его наглых глаз, иногда сверкающих белками, как глаза лошади. Мне хочется, чтобы кто-нибудь, употребляя твое словечко, «обелитировал» меня перед тобою, чудачка.
Часы, когда украшали елку, были, пожалуй, самыми хорошими за время нашего подземного существования. Мы просто как-то позабыли, где мы, что нам угрожает. Из этого счастливого состояния нас вывело появление немцев. Хорошо, что это были те, к которым мы уже привыкли. Черномундирного Шонеберга с ними не было.
- О-о-о! - многозначительно произнес Толстолобик, взирая на нашу елку, и усталые, глубоко запавшие глаза его повеселели. Он даже пропел на какой-то детский мотивчик:
О, танненбаум,
О, танненбаум!
Они быстро прошлись по госпиталю, одобрили наше перемещение. Но лицо Толстолобика оставалось озабоченным. И когда Прусак где-то задержался, он начал мне бурно говорить. Многого я, конечно, не поняла, но по отдельным словам, по медицинским терминам, звучащим одинаково на всех языках, а главное - по взволнованному тону я как-то инстинктивно догадалась, что Шонеберг не случайно требовал наши медицинские карты, что все должно быть приведено в соответствие с ними. Несколько раз в речи его прозвучало это, такое знакомое мне, грозное слово «бефель». Мучительно медленно плетя фразы, подобно Прусаку, из разных славянских языков, Толстолобик выжимал:
- Фрау Вера, пан хауптгруппенфюрер говорит, вы нет барзо добже выполняйт бефель штадткомендатур... Нет вельми красно?.. Ферштейн зи?.. Нет карашо... Зо, герихт... Бефель штадткомендатур... шнель, фрау Вера... экспресс... О, зо бистро, бистро...
Он что-то еще хотел сказать, но появился Прусак, и он отвернулся к елке.
- Гут, зер гут.
Прощаясь, он к своему обычному «ауфвидерзеен, фрау Вера» добавил еще что-то, что, как я догадалась, было пожеланием хорошо повеселиться у елки, но взгляд его оставался тревожным и, как, по крайней мере, мне показалось, возвращал мое внимание к фразе, которую он сконструировал с таким трудом.
Меня этот неожиданный визит взволновал. Сухохлебов, слышавший разговор, подтвердил, что комендатура, по-видимому, целиком перешла к эсэсманам, и что появилась для нас какая-то живая угроза. Какая? Может быть, этот Шонеберг догадался или догадывается о том, кто у нас лежит? Мне не понравилось также, что Прусак пристально смотрел на Раю. Но это, может быть, только показалось. Во всяком случае, мы с Сухохлебовым решили оставить наши тревоги между нами. К чему омрачать праздник, которого все так ждут.
Впрочем, праздничная суета уже перешла на кухню. Там наши женщины варганили что-то из чего-то. Я уединилась в хирургической с копиями медицинских карт, перебирала их и ломала голову: как же быть с теми, кто действительно уже поправился? Если Шонеберг предпримет обследование, им угрожает прямая опасность быть угнанными в Германию, да и нас не помилуют за сокрытие их от мобилизации.
А госпиталь весело шумел. Все, кто ходил, сновали взад и вперед. Даже костыли и палки в этот вечер стучали как-то весело. Слышался бас Сухохлебова, звенели голоса ребят. Наш брат милосердия, потеряв свою медицинскую солидность, с криками носился около елки. И особенно радовала меня наша маленькая новоселка. Каким затравленным зверьком попала она к нам, какой страх, какое недоверие светились в ее больших, черных и, как мне тогда казалось, совсем не детских глазах. Она не отвечала на вопросы и только оглядывалась в сторону спрашивающего. Сталька не отходила от нее и все время прибегала и докладывала:
- Ма, она сказала «не хочу»... Ма, она улыбнулась. Честное октябрятское, улыбнулась. Я видела.
А сейчас они вдвоем суетились возле елки, как две птички, и я снова поражалась: как эти малыши быстро ко всему привыкают. Маленький кусочек радости - и все горе забыто, и смех, и глазенки сияют...
Вечером, когда заканчивались последние приготовления, ребят выставили из первой палаты. Домка пробрался ко мне в хирургическую и солидно уселся с книгой возле лампы. Но девчонки маялись от не-терпения, то и дело открывали дверь, просовывали носы.
- Еще не готово?.. Скоро?
Где-то рядом звучал возбужденный голос Стальки:
- Пойдем к Вере, спросим, зачем Иван Аристархович шубу принес. Мы мешаться не будем - спросим и уйдем... Что ж такое...
- Но Вера не велела.
- А мы тихонько, на цыпочках. Только спросим про шубу и все.
И снова вдали звучало:
- Ну чего же вы, наверное, пора!
Домка стоически сидел у лампы. Не пристало, конечно, брату милосердия томиться в этих девчоночьих ожиданиях. Но я-то видела, что давно уже он не перевертывает страницы книги. Хотя на душе, как говорится, кошки скребли, но и на меня эта возня вокруг елки начинала действовать.
Наконец, в первой палате раздались звучные удары. Били, видимо, в наш медный таз, в котором мы кипятим инструменты. Позабыв про солидность, брат милосердия сорвался с места, так что книжка полетела на пол. Но девчонки поразили меня своей чуткостью. Они тоже понеслись на зов самодельного гонга, но где-то по пути спохватились:
- Где Вера? Захватим нашу Веру.
И тотчас же обе влетели в хирургическую, куда им вообще входить строжайше запрещалось. Сталька схватила меня за халат и во весь голос кричала:
- Ма, пойдем скорее, там кто-то рычит!
Вместе с ними вошла я в палату, где стояла елка. Собрались почти все. Даже некоторых из тяжелых принесли сюда вместе с койками. Из коек образовали как бы амфитеатр. Одна стояла у самого деревца. Я сразу узнала, чья она. На ней возвышалось что-то большое, косматое. Оно ворочалось и рычало.
- Медведь, медведь! - кричали девчонки, подпрыгивая.
Он был, конечно, очень условен, наш милый, самодельный медведь. Однако старательно рычал, а главное - выдал ребятам по кулечку с гостинцами. Потом взрослых обнесли крохотными коржиками, оставлявшими на губах мертвую сладость сахарина.
Вовсю сияли картонные стеариновые плошки, их зыбкое пламя выхватывало из полутьмы взволнованные лица. На особой скамеечке сидел Наседкин. Ради такого случая он приоделся в черную шевиотовую, вероятно, еще дореволюционного пошива, тройку. Рядом его жена, высокая, полная старуха с белыми как снег волосами. Глаза ее сохранили живость, фарфоровую голубизну и резко контрастировали с сединой. Старики снисходительно улыбались. Впрочем, в этот вечер улыбались даже те, кого мучили недуги, и я почувствовала, как теплый комок подкатывает к горлу.
Я бы, чего доброго, пожалуй, и действительно прослезилась, но тут тетя Феня, которой, должно быть, была отведена роль церемониймейстера, снова ударила в хирургический таз. Из моего «зашкафника» легко, будто летя, выпорхнула белая фигура. Ну конечно же, это наша Антонина в цирковом трико. На голове роскошный кокошник. Развевается марлевая фата, и под ней пылают огненно-рыжие, пушистые, мелко вьющиеся волосы. Красавица, просто красавица эта наша импровизированная Снегурочка. Выкинув гортанно «ап», она вдруг перевернулась через голову и очутилась снова на ногах. И снова «ап», «ап». До чего же легко, пружинисто ее тело. Перевертывалась через голову взад и вперед. Идет колесом. И все с грацией, какую нельзя и ожидать от нашего массивного Антона. Ребята застыли в восторге. Потный Сухохлебов, уже вылезший из-под тяжелой дохи, устало и довольно улыбается.
В сущности, ничего особенного: обычные цирковые коленца. Но как они действуют в этом мрачном подвале, где никогда не блеснет солнечный луч, где все живут в постоянном страхе. Нечто сказочное и в этой скромной елке, и в коржиках на сахарине, и в красивой женской фигуре, облитой белым трико.
И когда наконец Антонина, сделав какой-то сложный переворот, вдруг присела на койку и очень обыденно произнесла: «Уф, упарилась!» - стало тихо. Все молчали. Трудно было переходить из сказки к жизни, и не хотелось, чтобы волшебная Снегурочка снова превращалась в медсестру.
- Школьно сработала, да? - с детским простодушием спросила наша Снегурочка, и русалочьи глаза ее сияли вдохновением. - А знаете, как трудно-то. Думала, все забыла. Думала, будут сплошные дрова... А ведь ничего? Нет, вы правду скажите, неплохо? - И вдруг бросилась ко мне на шею. - Вы у нас, Вера Николаевна, умопомрачительная умница!
В заключение Мария Григорьевна стала раздавать «пирожное». Это были кусочки жесткого, нашей выпечки, хлеба, намазанные абрикосовым повидлом. За ней следовала тетя Феня. Из умывального кувшина она наливала в кружки, чашки, мензурки, колбы, - словом, в любую посуду, какую они только нашли, заправленную сахарином воду, вскипяченную с лавровым листом и чуть сдобренную тем же повидлом. Но, честное слово, если бы это было лучшее вино, не знаю уж, какой там марки, его не держали бы с такой осторожностью, боясь расплескать даже каплю. Настало замешательство: «вина» хватило на один-единственный тост. Сухохлебов, на которого все смотрели, вдруг предложил:
- Пусть Иван Аристархович, он среди нас самый старший, самый уважаемый...
Нет, я не преувеличиваю, я сидела рядом и видела - кружка задрожала в руке Наседкина. Он встал, одернул длиннополый пиджак, похожий на сюртук, от которого несло нафталином, разгладил усы. Сегодня он их чем-то смазал, что ли. Они перестали быть моржовыми и не загораживали рот.
- Ну что ж... Самый старый - это, пожалуй, кхм... Это верно, кхм-кхм... ну что ж. - И вдруг произнес торопливо и яростно: - Чтоб всю эту фашистскую нечисть - в пух и прах. Чтоб до Берлина их гнать. Чтоб всех этих гитлеров к стенке...
В подвале стало так тихо, что мы услышали, как на дворе воет метель, покачивая дверь, будто ломясь в нее...
- К стенке - это для них жирно, - пророкотал Дроздов. - Петля собакам будет в самый раз.
Никто не ожидал такого тоста. Все встали и тихо, точно произнося клятву, молча выпили эту отдающую железным ведром жидкость.
А потом пришло какое-то буйное веселье. Пели без складу и ладу. Просто выкрикивали какую-то чепуху. Пытались танцевать. Наша набожнейшая тетя Феня пустилась в пляс с Дроздовым, потом Антонина танцевала с Ленькой Капустиным, и тот чертом вертелся вокруг нее, выделывая такие штуки, что мне пришлось вмешаться, ибо это угрожало его только что сросшейся руке... И наш Гуляй Нога приплясывал на костылях, делая глазки женщинам. Ведь это подумать только! Где, когда, в какое время!
Но для меня конец праздника вдруг приобрел горький привкус. Сначала Антонина веселилась шумнее всех. Так и мелькала ее белая скульптурная фигура. Потом как-то незаметно исчезла. И вдруг Сталька теребит меня за халат и таинственно шепчет:
- Ма, Антон плачет. Там, возле хирургического.
Что такое? Пошла. Свету не было. Где ж она? И вдруг приглушенный, тоненький-тоненький плач. Иду на него. Во тьме еле вырисовывается фигура в белом. Присела возле.
- Тоня, что с вами?
Плач еще тоньше, еще тоскливее.
- Вы сегодня такая красивая, всех покорили. Чудесно!
И вдруг:
- Уйдите, уйдите отсюда! - Ив выкрике этом такая ненависть, что я отпрянула.
- Что с вами, Тоня? Почему?
Я положила ей руку на плечо, но она резко отодвинулась.
- А вы сами не знаете? Маленькая, да?.. Уйдите...
У елки все еще пели... И хотя все шло по-прежнему, на душе стало тревожно-тревожно...
Набросила пальто. Поднялась на свежий воздух. Ночь была морозная, синяя, и звезд столько, что почему-то вспомнилось, как на днях одна из добровольных помощниц Марии Григорьевны рассыпала по черному нашему полу пшено. Луны не было, но пышные сугробы, наваленные метелью, будто бы сами излучали синеватый свет, и заиндевевшие ветви тополя, росшего неподалеку, тополя-инвалида, у которого вершина была снесена разрывом, эти ветви сверкали во тьме, как будто и он, как наша елочка, был украшен к празднику.
Морозно, свежо, тихо, точно рядом и не бушует война. Я с жадностью вбирала в легкие свежий, продезинфицированный морозом воздух, и вдруг - что это? Где-то не очень далеко взрыв, другой. Немного спустя - третий, потише. Нет, это не из Заречья, не с передовой, что идет почти по городской окраине. Это из самого города, из фабричного, пожалуй, района. Война. Нет, война не спит. И сразу ночь лишилась всей своей прелести, я почувствовала, что озябла, и поспешила вниз, к своим, где догорало короткое наше веселье и люди с помощью Антонины, уже переоблачившейся в свой халат, разбредались по палатам.
Прежде чем пройти к себе, я остановилась у шкафа-зеркала. Волшебство елочки все-таки подействовало и на меня: лицо как-то посвежело, даже на щеки вернулось что-то от былого румянца, и глаза уже не туманит мировая скорбь.
Потягиваюсь так, что хрустят кости, и тихонько примащиваюсь возле ребят, которые после всех волнений уже спят. Но в палатах еще не спят. Ворочаются, вздыхают, скрипят сетки коек.
- Эх, после этого да закурить бы!
- Ишь чего захотел! Засыпай, может быть, табак во сне приснится.
- Слыхал, как в городе бухнуло? Три раза... Не иначе - наши их ради праздника угостили.
- Откуда это известно, что наши?
- Красноармеец я или кто? Рассуждай: не снаряд? Нет. Стало быть, граната. А кто гранаты тут кидать будет? Немцы, что ли, сами в себя?.. Я расслышал: две противотанковые и одна бутылка. Может, по машинам лупанули...
- М-да... Не спят люди. А мы вот валяемся, как чурки худые. Вера вон и вовсе запретила на волю вылезать. Лежим, а люди бьются... Тоска!
- Ну что ж, вали в Германию. Там развеселят. Они вон, Иван Аристархович говорил, опять вчера целый табун наших на Ржаву погнали... Нет, кто-то их сегодня там поздравил: гут морген, дядя фриц!
Ну, кажется, и последние уснули. Отовсюду выступили привычные ночные звуки, разноголосый надсадный храп, постанывание, судорожное скрипение кроватей. Обычно ухо их как-то и не воспринимает, но сегодня я слышу даже, как у входа поскрипывает от ветра дверь... Растяпы, позабыли опустить засов... Ну что ж, пускай. Говорит же тетя Феня - голому разбой не страшен... И вдруг среди этих ночных звуков я различаю басовито произнесенную фразу: «Ничего, ничего, брат Василий, теперь недолго... продержимся... Ничего...» Сухохлебов. Койку его не унесли. Он рядом и, по обыкновению, разговаривает сам с собой.
Тут я уснула. А проснулась от скрипа дверного блока и голоса тети Фени.
- А ты тихо, тихо, спят же наши пациенты, - урезонивает она кого-то. - Ступай с богом на цыпочках, приляг на мою койку, отдыхай... А то как раз наведешь на нас гармана: на мед - осы, а на шум - злые люди.
- Отскочи, старая. - Я сразу узнала и голос и интонацию. - Отскочи, у Мудрика сегодня, может быть, главный день жизни.
- Володенька, всех разбудишь, Вера Николаевна тебе покажет!
- Вера Николаевна... Доктор Верочка...
Он явно пьян, Мудрик. Выйти или обойдется без меня? Лучше без меня. Вон уж слышится и умиротворяющее гудение сухохлебовского баса.
- Товарищ полковник... Нет, вы послушайте, товарищ полковник, как все... Гала-представление, фейерверк, световая феерия. Разрешите доложить.
Теперь голос его слышали, наверное, в самой дальней палате. Какая-то возня. Должно быть, он толкнул тетю Феню. Слышится ее обиженное:
- Что же ты сделал, бессовестный, креста на тебе нет? Это как же ты посмел?..
Нет, без меня, видно, не обойдется. Выхожу. Мудрик без шапки. Бинт на ноге размотался, волочится по полу. Стоит у койки Сухохлебова и по-лошадиному сверкает белками глаз. На заросшем лице какое-то бешеное торжество.
- А, доктор Вера! С праздничком, доктор Вера!
Я беру его за руку.
- Тихо, Володя, люди спят.
- Тихо? А я не могу тихо. Сегодня Мудрику тишина не показана...
- Ну, я прошу вас.
Но он, сверкнув зубами, кричит:
- Отскочи, доктор...
Сунул руки в оттопыренные карманы. Я отпрянула, но из карманов появились две бутылки с конь-яком.
- Га! Испугались? Напиток!.. Сам Наполеон не брезговал.
И, как когда-то гранаты, бутылки эти, перевёртываясь, полетели к потолку... Нет, нет, Вера, спокойно, ничего особенного... Что ты знаешь о жизни этого странного парня? Мы-то видим от него только хорошее. Спокойно! Вон с какой любовью смотрит на него Сухохлебов. Бутылки летают вверх, переворачиваются, возвращаются в ловкие руки. А когда Мудрик, как истинный жонглер, подбадривает себя гортанным «ап», они, кувыркаясь, летят к самому потолку. Антонина уже тут. Сияет, как солнышко, в рыжей пене своих волос. Вместе с ним кричит это «ап» и радуется какой-то его, непонятной мне, радости.
Но вдруг Мудрик толкнулся о кровать, неверное движение - и одна из бутылок с треском разбивается об пол. Возникает аромат коньяка, каким меня угощала Ланская. Мудрик Сконфужен. Он смотрит на Антонину и виновато бормочет:
- Ломанул дров... Зато там сработал школьно, все в яблочко...
- Старшина Мудрик! - как-то по-особенному, по-военному произносит Сухохлебов. И есть в его интонации что-то такое, отчего Мудрик подтягивается и берет руки по швам.
- Слушаю, товарищ полковник.
- Ступайте отдыхать. - Он произносит это тихо, дружелюбно, но Мудрик ставит на тумбочку уцелевшую бутылку, будто выполняя команду «шагом арш», покорно шагает к выходу. Уже из-за двери мы слышим его осторожное «фю-фю-фью-у-у!» - и Антонина уже бежит мимо, накидывая пальто.
Сухохлебов останавливает ее:
- Антон, посмотрите за ним. Не давайте ему пить.
- Будет сделано, товарищ полковник, - отвечает та и посвистывает: - фю-фю-фью-у!
Ребята, конечно, не спали и даже не притворялись спящими.
- Что это с ним, отчего он такой? - спрашивает Домка.
- Не знаю, сынок. Спи... Выпил, наверное.
- Не, что-то еще.
- Ладно, ладно, не мешай мне спать.
И вдруг Сталька огорошивает меня вопросом:
- Ма, а кто лучше, Мудрик или дядя Вася?
- Молчи, не мешай спать.
- А я не мешаю, ты все равно не спишь. Я вижу.
- Скверная девчонка, вот встану и отшлепаю тебя.
- Не отшлепаешь... Дядя Вася говорит: раз ты сердишься, значит, ты не прав...
Вот ночка-то! Соскочила с кровати, босая побежала к нашей аптечке, достала таблетку веронала. Когда я вернулась, Сталька уже спала.
20
И действительно, ночка! Не успел веронал сделать свое дело, как кто-то начал трясти меня за плечо. Мария Григорьевна. Она в нижней рубашке. Седые космы свисают на лицо. Я никогда не видела нашу аккуратную сестру-хозяйку такой растрепанной и взволнованной.
- Вера Николаевна, немцы!
Я мгновенно вскочила. Стала одеваться. Из-за шкафов доносились возбужденные голоса. Ну что же, должно быть, пришел мой час. Посмотрела на ребят. Хоть бы их не коснулось. Сталька чего-то заурчала, обхватила ручонкой мою шею. Домик таращил сонные глаза.
- Кто там, ма?
- Если что, если меня... Ты мальчик большой, понимаешь... Идите к деду... Слышишь, сейчас же к деду.
- Вера Николаевна, поскорее, - злятся.
И действительно, чей-то знакомый голос, чей - я сразу не поняла, произнес:
- Доктор Трешникова.
Спокойно, Верка, спокойно! С ними ведь как с душевнобольными: как можно уверенней и спокойней, что бы они ни говорили, что бы ни делали. У выхода натолкнулась на этого фон Шонеберга.
- Доктор Трешникова, ваши соотечественники совершили гнусное преступление, - отчеканил он на своем дистиллированном и потому противном, как дистиллированная вода, русском языке. - Злоумышленник, проливший в эту праздничную ночь благородную нордическую кровь, будет отыскан и наказан со всей строгостью...
Что происходит? Полно офицеров. Носилки. Кто-то на них лежит, прикрытый чистейшей простыней. У носилок Толстолобик. Шонеберг - человек с подбородком, прячущимся в воротник мундира, сверкая толстым пенсне, отстукивает фразу за фразой:
- Из-за происков мирового еврейства пострадала прекрасная русская женщина. Германские врачи оказали ей помощь. Примите ее на дальнейшее лечение.
Инстинкт врача, должно быть, все-таки сильнее страха. Я бросаюсь к носилкам. Поднимаю простыню. Ланская! Ее красивая голова как бы погружена в тюрбан бинтов. Прическа рассыпалась. Толстая светлая коса, переброшенная из-за плеча, лежит на груди. Лицо, глаза, губы хранят явные следы грима.
- Что с ней? - спрашиваю у Толстолобика. Он не слышит или не понимает.
- Она ранена осколками гранаты. Эти звери, эти фанатики... - вмешивается Шонеберг.
- Ее осматривал опытный врач?
- О да, конечно, ей оказана квалифицированная помощь.
- Менять повязку не надо? - спрашиваю я у Толстолобика и требую у этого «фона»: - Да переведите же. это чисто медицинский вопрос.
- Мне незачем быть переводчиком. Я магистр медицины, - отвечает тот и, презрительно покривив яркие губы, снимает и тотчас же сажает на нос свое пенсне.
- Да, фрау Ланской оказана квалифицированная помощь, но дальнейшее попечение о ней, к нашему великому сожалению, мы вынуждены передать вам. Мы не имеем права держать в военном госпитале штатских лиц, да еще неарийского происхождения. Могу я узнать, почему вы задали свой вопрос о повязке?
- Отличные бинты. У нас таких нет. Мы стираем бинты и вату по нескольку раз.
- Ах, вон как!
Он приказывает что-то солдату или санитару, - словом, одному из тех, кто внес больную. Тот исчез в дверях и вернулся с толстой санитарной сумкой.
Раненая, еще находившаяся в наркотическом забытьи, тихо постанывала. Надо привести ее в себя, осмотреть. Но не сейчас, не при всех. Хоть бы убрались они поскорее. А они, как назло, позабыв о раненой и о нас, возбужденно болтают, что-то рассказывают, перебивая и не слушая друг друга. Набираюсь храбрости и довольно решительно говорю Шонебергу:
- Мне кажется, что потерпевшей нужно дать покой.
- О да, вы правы, - неожиданно соглашается он.
Что-то им говорит, и они идут к выходу. От двери он возвращается, постукивая высокими дамскими каблучками щегольских сапожек.
- Доктор Трешникова, эта женщина пострадала, служа Великой Германии. Ни один волос не должен упасть с ее головы. Вам это понятно? Если тут, если кто-нибудь, - - он сделал многозначительную паузу, во время которой снял и протер круглые стекла своего пенсне, - если кто-нибудь посмеет сказать что-то враждебное в адрес госпожи Ланской, о, тогда мы уничтожим все эти ваши крысиные норы. Мы поступим с вами, как с этими вреднейшими грызунами... Это касается прежде всего вас лично, доктор Трешникова.
- Мне незачем об этом напоминать. Я врач, мое дело - оказывать помощь людям, - довольно твердо произношу я. Страха нет, что-то убило во мне остатки страха.
Он вскидывает взгляд. Близорукие глаза, прячущиеся за толстыми стеклами, кажутся мне похожими на глаза змеи. Мгновение мы смотрим друг на друга в упор, потом, небрежно козырнув, он идет к выходу. Там, наверху, ревут моторы, ревут и стихают. Я бессильно опускаюсь на койку Сухохлебова и чувствую, как его большая рука накрывает мои руки и осторожно пожимает их.
- Кто это? Кого они принесли? Я спросил тетю Феню, она говорит: «Анна Каренина». Что сие?..
От простого этого вопроса, от самого тона, каким он задан, я как-то сразу прихожу в себя.
- Актриса. Актриса Ланская. Я вам о ней рассказывала. Она несколько сезонов играла у нас Анну Каренину. В нее кто-то бросил гранату.
- Гранату бросили не в нее. Гранату бросили в окно офицерского варьете. Ваши земляки поднесли оккупантам рождественский подарок.
- А вы откуда знаете?
- Я же вам говорил, что когда-то во Фрунзенке мы изучали немецкий... Они тут так раскудахтались, эти герои.
С носилок донесся протяжный стон. Действие наркотиков кончалось. Раненая приходила в себя. Я подошла к носилкам. Возле них, приложив ладонь к щеке и поддерживая левой правую руку, в этой извечной позе бабьего горя стояла тетя Феня.
- Будет лучше, если меня переселят назад к выздоравливающим, пока эта Анна Каренина еще не очнулась, - сказал Сухохлебов. - Лучше все-таки будет ей не знакомиться с агрономом Карловым.
- И верно, и верно, Василий Харитонович, береженого бог бережет, - согласилась тетя Феня.
Койку его унесли. Сам он заковылял за ней. Из осторожности я хотела его поддержать, но он отстранился:
- Я уж самоходом. Вы лучше займитесь Анной Карениной. - И усмехнулся. - Только какая же это Каренина, той было двадцать четыре, а эта в самом разгаре бабьего лета...
У носилок стояли Домка и Антонина, уже вернувшаяся с ночной прогулки. Она тоже смотрела на Ланскую с любопытством, но на ее пестром лице любопытство смешивалось с гадливостью: так смотрят на раздавленную змею.
- Домик, разбуди Дроздова и Капустина, надо переложить раненую на койку, - распорядилась я.
- Не буди, управлюсь. - Девушка подняла эту большую, полную женщину и опустила ее на постель, уже приготовленную тетей Феней. И я заметила, как потом она отошла и украдкой вытирала о халат руки.
- Нашатырь!
Ланская пришла в себя. Открыла глаза, увидела нас и, вскрикнув, потеряла сознание. На этот раз это был недолгий обморок. Нашатырь сразу разбудил ее. Голубые глаза приняли осмысленное выражение.
- Где я?.. Как я сюда попала?
- Вы, Кира Владимировна, в госпитале, среди своих. Не узнаете? Я - врач Трешникова. - Я старалась глядеть как можно спокойнее. - Сейчас мы с сестрой Тоней должны осмотреть ваши ранения.
- Ранения? Я ранена? - Вскрикнув, она подняла руки. Голубые глаза снова потеряли осмысленное выражение.
- Нашатырь!.. Успокойтесь, вы легко ранены. Сейчас мы вас осмотрим. Тоня, приподнимите больную.
Меня, конечно, волновало туго забинтованное предплечье. С него я решила начать. Но больная как-то сразу, без переходов, перескочив из обморока в состояние нервной активности, оттолкнула мои руки.
- Нет, нет, лицо. Прежде лицо. Что с лицом? - В этом вскрике звучал страх.
- Вероятно, ничего особенного, какие-нибудь царапины.
- Ой, какие адские боли! Невыносимо... Но прежде всего, доктор, миленькая, посмотрите, что с лицом. Ой, больно, ой, как больно!
- Тоня, шприц... Сейчас полегчает.
- Господи боже мой, что вы меня мучаете? Скажите скорее, что с лицом? Доктор, спасите мое лицо. - Ланская вновь погружается в наркотический сон.
Осмотр успокоил, ничего серьезного: Небольшое осколочное ранение в предплечье. Осколок был уже удален. Лицо тоже было цело, так, несколько рваных царапин - на левом виске, щеке и шее. Мы, осмотрев раны, вновь наложили повязки, употребив при этом втрое меньше бинтов. Тете Фене было приказано тщательно собрать оставшиеся бинты. Какие бинты! Мы о таких давно уже и мечтать перестали.
Ланскую оставили в первой, полупустой теперь палате, недалеко от моей зашкафной резиденции. Отгородили ширмами, чтобы она не могла видеть, кто входит в наши подвалы. Придя в себя, она снова забеспокоилась о лице. Сильно ли поражено? Останутся ли шрамы?
- Доктор, миленькая, сделайте все, чтобы не было рубцов. Артистку моего амплуа кормит лицо. Представьте себе Анну Каренину со шрамом, будто побывавшую в пьяной драке.
Я наконец не выдержала:
- Вы не поинтересовались раной, гораздо более серьезной... Еще сантиметр ниже - и осколок пробил бы вам аорту.
- Ну и что? - сказала она равнодушно. - Тогда бы истекла кровью и умерла. И все. Но ведь я же выживу?.. Доктор, голубушка, они не принесли мою сумочку?
Сумка, сделанная из мельчайших серебряных колец, лежала на тумбочке. Она взяла ее своими забинтованными руками, вынула зеркальце, тревожно заглянула в него прямо, в профиль, с одной и с другой стороны. И произнесла, чуть не плача:
- Фу, какая гадость! Будто Татарин из «На дне».
Оставив возле нее тетю Феню, я ушла к себе. Ребята спали. Домка так и лежал в халате и шапочке, уткнув нос в подушку. Я не стала его раздевать, только стащила башмаки и прикорнула возле, но тут же услышала шепот:
- Вера Николаевна, не спите?
- Чего тебе, тетя Феня?
- Мажется... Истинный Христос, мажется, - со страхом прошептала старуха. - Вынула зеркальце, штучку какую-то - и ну губы красить... Все ли у нее дома-то?
Тут уж я не выдержала:
- Да дадите вы мне поспать, чего вы меня мучаете?..
А вот уснуть не могу. Ну и ночка! Что-то меня, что-то всех нас ждет? Эх, Семен, был бы ты сейчас с нами, как бы нам было легко...
Часть вторая
1
Как сразу нам все осложнило появление Киры Владимировны Ланской. Будто вторжение чужеродного тела в человеческий организм. Да, да! Тебе, Семен, может быть, покажется странным этот медицинский образ. Но вот представь, рассеянный хирург оставил в теле оперируемого какой-то инструмент. Редко, но ведь бывает. Здоровый организм тотчас же блокирует, или, как мы говорим, «осумкует» это чужеродное тело. Больной может прожить с ним всю жизнь и даже не подозревать о нем. Но при неосторожном или резком движении металл пробьет сумку и повредит близлежащие органы. Тогда внутреннее кровотечение, перитонит, медленная, мучительная смерть.
Таким чужеродным телом в организме нашего госпиталя стала Кира Владимировна. Сухохлебов, как и ты, требует: думайте о человеке хорошее, пока он сам не докажет, что он плох. Но думай не думай, а Ланская-то тут, с нами. Вокруг нее разные люди. Порой они нервничают, болтают лишнее, бывают ссоры, случались даже драки. Но при всем том я знаю, что это наши, советские люди, они не донесут, не предадут, не выдадут немцам.
А Ланская? Она ведь сама говорит, что осталась у немцев обдуманно. Может быть, она сама и сочинила эту версию о героической гибели при тушении пожара. Она прекрасная актриса. У нее хорошее, чисто русское лицо. Это магнит, который притягивает к ней сердца. Но ведь она и не скрывает, что вместе со своим благоверным сотрудничает, именно сотрудничает, с гитлеровцами. Да и к нам она попала прямо с какой-то вечеринки в их офицерском клубе. И мне приходит все время мысль: а вдруг и попала-то не случайно, вдруг ее к нам подбросили, чтобы подслушать и выведать наши секреты? Что тогда? Погибнут люди, которых мы отбили у смерти. Да и меня и детей этот Шонеберг не помилует.
- Надо думать о людях хорошо, пока они не докажут, что они плохи.
Это, конечно, прекрасно, справедливо. Но ведь если, согласно этой формуле, плохой окажется Ланская, менять о ней мнение будет поздно, дорогой товарищ Сухохлебов, он же Карлов.
С этими мыслями я и начала сегодня свой рабочий день. Во время обхода приятно было убедиться, сколь благотворным оказался наш маленький праздник. Только и разговоров о елке. Даже вторжение Ланской в столь необычном сопровождении не так занимает умы.
Во время обхода было, правда, несколько неприятных сюрпризов: у одного без всякой видимой причины вдруг загноилась рана, у другого открылся свищ, третьему даже пришлось ломать гипсовый сапожок на ноге. Словом, только к полудню, уже усталая, я добралась до койки Ланской и опустилась на табуретку.
Удивительное преображение. Лицо ее, поразившее вчера меня какой-то гипсовой бледностью, показавшееся одутловатым, даже обрюзгшим, снова красиво и ярко. Из-за бинтов торжествующе щурился большой голубой глаз. Ого! Да она тут над собой потрудилась.
- Ну, доктор, как выглядит ваша больная? Недурно? - Глубокий голос звучал даже весело.
- Прекрасно! Но вы ранены, вы только что пережили тяжелый шок, вам нужен покой, а вы?
- Раз женщина заботится о своей внешности, она вне опасности... Ну, не сердитесь, доктор. Клянусь, буду строжайше выполнять все ваши предписания. Только скажите, как я сейчас, не похожа больше на Татарина из «На дне»?
- Вам вредно каждое лишнее движение.
- Я стараюсь быть красивой, значит, я существую, - снова повторила Ланская. - Я - актриса, я - баба, - голубой глаз смотрел из-под бинтов с вызовом, - неужели вы этого еще не понимаете?
- Как все это с вами случилось? - спросила я, желая перевести разговор на другое.
- Наши угостили, - просто и, как мне показалось, без злобы ответила она. И так весело и громко, что тетя Феня, склонившаяся над спицами, с помощью которых она перевязывает дырявый свитер на что-то тепленькое для Раи, с любопытством уставилась в щель между ширмами. - Наши, и, представьте себе, очень ловко. Я бы даже сказала - артистически.
- Тетя Феня, вы не спали ночью. Я посижу с больной.
Старуха потянулась, зевая, и перекрестила рот.
- Бог вас отблагодарит, Вера Николаевна, и то умаялась, петли вот путаю...
Она собрала вязанье и, шаркая, убралась к себе.
Проводив ее взглядом, Ланская оперлась на мою руку, села и начала рассказывать.
Семен! Рассказ этой «дамы-раскладушки», как именует ее Мудрик, этой бабы, водящейся с гитлеровцами, говоря газетным языком, наполнил меня чувством законной гордости за наших советских людей, честное слово.
Слушай, слушай, как все это было.
В клубе «Текстильщик» штадткомендатура организовала офицерское варьете. Они решили открыть его в рождественскую ночь. Из русских пригласили лишь Ланскую да этого ее благоверного - заслуженного, орденоносца, лауреата и так далее и тому подобное.
Ты знаешь, там большой зал, не раз выступал в нем. Так вот они в него битком набились. Наехали офицеры из ближайших частей, летчики с аэродрома. Ну конечно, елка и, конечно, немецкий дед-мороз, он у них как-то по-другому называется и ходит в красной шубе и высоком колпаке. Подарки, посылки с родины, девки какие-то из вспомогательных частей под видом женского оркестра. Ну и эти - Ланская с Винокуровым, представляющие, так сказать, высший слой туземцев.
Нет, она и не думает скрывать, что готовилась к этому вечеру. Сшила новое платье, разучила с пластинки немецкую песенку про какую-то там потаскушку Лили Марлен, - оказывается, самая любимая у них сейчас песня... Представляешь себе, увлеченная рассказом, она села на койке и вдруг каким-то сиплым, забубенным голосом, который вовсе и не был похож на ее собственный, будто с тяжелого похмелья, завела эту песню, сначала по-немецки, а потом по-русски:
Перед казармой, перед большими воротами
Стоял фонарь, стоит и до сих пор.
Так давай, красотка, встретимся у фонаря,
Как когда-то с Лили Марлен,
Как когда-то с Лили Марлен.
Противнейшая песня. Но такая уж она актриса, Ланская, такая у нее сила. Ведь только что пережила ранение, шок, перевязки. Ничего, все забыла. Движением головы растрепала прекрасные свои волосы. Взгляд тяжелый, пьяный и этот утробный, хриплый голос, почти крик:
Как когда-то с Лили Марлен,
Как когда-то с Лили Марлен...
- Доктор, вы представить себе не можете, они просто ошалели, когда я пела, стоя на столе, меж бутылок и тарелок со жратвой. Вскакивали, орали свое «зиг хайль, зиг хайль» и требовали, чтобы я повторила еще и еще, - рассказывала она. - Я пела лицом в зал, и передо мной, вдали, было одно из огромных окон. Пою и вижу - за стеклом какая-то фигура. Помнится, в первом или во втором классе гимназии - я ведь еще успела поучиться в гимназии - долбили мы стихотворение Пушкина «Утопленник». Там вроде такие строчки: «Есть в народе слух ужасный: говорят, что каждый год с той поры мужик несчастный...» И была в учебнике картинка: распухший, бородатый утопленник стучится в окно... Вот его-то я и увидела за стеклом... Страшное бородатое лицо, сверкают белки глаз... Пою, всех увлекла, все захвачены мной и, естественно, его не замечают... Наверное, какой-нибудь голодный. А тут столы ломятся. Мне даже подумалось, надо бы вынести что-нибудь ему. Но не прерывать же номер.
Как когда-то с Лили Марлен.
Как когда-то с Лили Марлен!
Я даже подмигнула ему, этому утопленнику. А он вдруг оскалился, взмахнул рукой - и тут: трах! Звон стекла, треск, огонь. Кто-то столкнул меня со стола, бросил на пол. Еще взрыв, еще. Стоны, крики. Больше ничего не помню...
Не знаю, может быть, она опять играла какую-то свою роль. Если так, здорово играла. Наклонилась ко мне, заговорщически шептала:
- Доктор, вы, конечно, не верите в бога. Я тоже мало верю, какие уж теперь боги! Но в красивые легенды верю. Этот там, за окном, он возник как ангел-мститель, как архистратиг Михаил с огненным мечом... Нет, не деревенский боженька, конечно, но кто-то еще не открытый, не познанный наукой - там, - она показала на небо, - все-таки есть? А? Какое-то справедливое начало? - Ее голубой глаз вдохновенно сиял из-под повязки. - Может быть, это от ваших наркотиков, но теперь мне все кажется, будто за стеклом увидела я нечто сверхъестественное. Галлюцинирую? Нет: один, два, три, четыре, пять, пять, четыре, три, два, один... Видите, как четко? Я неплохо себя чувствую. Только вот звенит в ушах, и будто собака вцепилась в плечо и рвет, рвет... Они говорили, противотанковые гранаты. Что ж, может быть, у нынешних архангелов Михаилов техника вооружения тоже модернизирована?
Ланская продолжала болтать, с удовольствием слушая свой голос, явно любуясь собой, а я прикидывала в уме. Гранаты... Бородатый человек... Сверкающие белки глаз... Мудрик пришел к нам примерно через час после того, как я слышала эти три взрыва. Гранаты... И потом - они как-то возбужденно перешептывались с Сухохлебовым... А мне сразу вспомнился тот день, когда он вздумал у нас жонглировать гранатами... Архангел Михаил с огненным мечом... А что, если этот архангел зовется теперь Владимиром?.. Нет, нет, надо дрессировать свое лицо, надо, госпожа Ланская, и мне научиться играть какую-то роль и не выходить из нее. Я - врач, врачам не положено волноваться в присутствии больных.
- Будьте добры, вашу руку... Нет, пульс хорошего наполнения. Все это следствие нервного возбуждения. Успокойтесь, постарайтесь уснуть. Вообще больше спите, ну хоть лежите с закрытыми глазами.
- А нет ли у вас какой-нибудь книжоночки?
- Книги? Откуда же?
- Но ведь это же советский госпиталь? - Эти слова Ланская произнесла капризным тоном, будто сейчас за ними могло последовать: «Я буду на вас жаловаться в горздрав». - Но все-таки пусть поищут и принесут какую-нибудь книгу.
Вот черт послал пациентку! Целый день злилась на эту Ланскую, но вечером настроение улучшилось. Вернулась Зинаида. Нашлась. Пришла. Да не одна. С нею две женщины с «Большевички» - какие-то ее соседки или подружки. Притащили на санках целый ворох мужской одежды. Как уж они это все насобирали, какие слова убеждения нашли? Как люди, сами находящиеся на грани голодного умирания, отдавали им эти костюмы, пальто, валенки своих мужей, этого я не знаю.
Какая-то старуха, у которой и сыновья и внуки были в армии, будто бы даже сказала им: «Раз пошла такая пьянка, режь последний огурец». И отдала все, что у нее было мужского: «И моим, может, кто-нибудь поможет».
Я все-таки не верю, что все эти вещи, - а среди них есть и хорошие, ценные, - дарились с такой фаталистической бездумностью. Нет, конечно. Но как бы там ни было, большинство наших, лишенных обмундирования, теперь кое-как одеты. Для остальных Зинаида и ее подруги обещают собрать в ближайшие дни. Сдав одежду, женщины быстро ушли. Зинаида улеглась спать, прижимая к себе Раю.
Так они сейчас и спят в обнимку...
В эту ночь и я отлично выспалась. Встала свежая, и даже неприятная новость - не вышел на работу Наседкин - не очень огорчила меня. Мы с Антониной быстро кончили обход, благо не было случаев, требовавших особого внимания. А потом вдруг узнали: Наседкина схватили гитлеровцы.
Об этом нам рассказала его жена. Прибежала в полдень, простоволосая, испуганная, с опухшим от слез лицом. Прибежала, схватилась за сердце, упала на клеенчатую кушетку и выговорить ничего не может. Несколько минут Мария Григорьевна и тетя Феня хлопотали около нее, прежде чем услышали: «Моего Аристархыча немцы взяли». Потом узнали подробности. Подъехал грузовик, вломились в дом два эсэсмана и русский полицай. Русский спросил: «Ты Наседкин?» Тот ответил: «Я». - «Пошли». Иван Аристархович как раз собирался на работу, был уже в пальто и чемоданчик держал в руках. Так, с чемоданчиком, и забрали в машину. И проститься не дали. Успел только шепнуть: «Веру предупреди».
Я так растерялась, что не сразу даже и нашла что сказать убитой горем женщине. Потом представила себе нашего Ивана Аристарховича с его моржовыми усами, с его покашливанием там у них, в гестапо, и разревелась самым глупым образом. Сидели на кушетке, обнявшись, и плакали, а тетя Феня отпаивала нас валерьянкой и все шептала:
- Ничего, люди с лихостью, а бог с милостью. Ничего, ничего... А какие они, эти гестаповцы, люди? Какой тут, к черту, бог?
Валерьянка все-таки подействовала. Я кое-как привела себя в порядок, заставила заняться делом - осматривала больных, выслушивала, выстукивала, давала назначения. Не знаю уж, как это у меня получалось, потому что думала я только об Иване Аристарховиче. Ведь не могли же его взять только за то, что он отказался работать в этом их бургомистрате? Так почему же? Не коммунист, не военный, коренной русак, никакой общественной деятельностью никогда не занимался. Так что же? В остарбайтер он не годится - ему за шестьдесят. Да тех они просто хватают на улицах. Взят как заложник? Если так, могут схватить и меня.
И тут разом вспомнился и «бефель», и то, как я его нарушала и нарушаю, и этот пенснешник на дамских каблуках, его крысиные глаза за круглыми толстыми стеклами. Вдруг показалось, что петля уже сжимает мне шею, и я рывком расстегнула ворот кофточки... Потом мне стало стыдно - нельзя же быть такой трусливой. Опять заставила себя заниматься делами, и опять Наседкин не шел из головы. А может быть, его взяли в связи со вчерашними взрывами в офицерском клубе? Ну да, ну да. Они, наверное, сейчас в панике, ну и схватили первого попавшегося. Если так, легко доказать, что он не мог иметь к этому никакого отношения. Они с женой были у нас на елке. Все мы можем это подтвердить. Весь день я избегала подходить к Сухохлебову. Он сегодня какой-то мрачный, отчужденный. Но с этой мыслью я, конечно, побежала к нему и все ему изложила. Он только усмехнулся:
- Подтвердить! Кто будет спрашивать наши подтверждения? Разве в таких случаях их интересует истина?.. Будем надеяться, что хоть госпиталя это не коснется.
Больше он ничего не сказал. Но лицо у него было очень тревожное. Заснуть я не могла. Снова пришлось принимать двойную дозу снотворного.
Каюсь, Семен, - слишком часто я прибегаю к наркотикам. Но что поделаешь: такова жизнь. Кто это сказал? А? Кто выдумал это оправдание любого малодушия?
2
Утром, проснувшись, взвесив все на свежую голову, решила - пойду в комендатуру. Добьюсь приема у коменданта. Попробую его убедить. Он нацист, но что-то человеческое в нем осталось же. У меня крепкий довод: сами же они называют меня шпитальлейтерин, черт возьми. Стало быть, все-таки признают. А одна разве я справлюсь? Не может госпиталь остаться без врача.
Видел бы ты, Семен, как наши переполошились!
- Да бог с вами, Вера Николаевна, как же это по своей воле лезть в пещь огненную! - всплеснула руками тетя Феня.
- Бесполезно это, - хмуровато произнесла Мария Григорьевна. - Ему не поможешь, а вы сами в очередь на арест встанете. И на наш след их наведете. Нельзя вам ходить.
Должно быть, она успела сообщить об этом Сухохлебову. Он поднялся и сам приковылял ко мне в «зашкафник».
- Осмотрите меня, пожалуйста, что-то очень болит спина.
Но спину смотреть не дал.
- Вам не следует этого делать, доктор Вера. Слышите! - сказал он строго.
Но я не Мудрик и не Антонина. Меня не убедишь этими командирскими интонациями. Ведь дело идет о судьбе, может быть, о жизни человека. Отличного человека.
- Нет, я так решила. Я пойду. Это мой нравственный долг. Моя обязанность.
- Обязанность? Ваша обязанность - быть здесь... Оттуда вы сейчас можете не вернуться.
Чудак! Неужели он думает, что мне самой это не приходило в голову? Но ведь если им понадобится увеличить число заложников, они великолепно приедут за мной и сюда. Нет, я пойду.
- Нелепость. Это не поможет Ивану Аристарховичу. - Широко поставленные глаза Сухохлебова пристально смотрели в упор из темных впадин. Будто гипнотизировали. - Подумайте, госпиталь может остаться без начальника. Восемьдесят больных без врача.
Почему так тревожно смотрят эти глаза? Мне кажется, в них не только беспокойство, но и ласка. Как-то потеплело на душе. Но почему-то, вопреки его настоянию и доводам, я начала верить, что затея не так плоха. Мой поход может иметь успех.
- Он пришел к нам в такую минуту, мы не можем его бросить.
- А дети?.. У вас двое детей.
- Да не мучьте меня, Василий Харитонович! - кричу я. - Неужели вы не понимаете: я иначе не могу...
- Вы Дон-Кихот в юбке, - произносит он и устало говорит: - Ну, посоветуйтесь, по крайней мере, с этой вашей... Анной Карениной, что ли... Она их лучше знает.
Тетя Феня, это наше Совинформбюро, уже раззвонила о моем намерении по палатам. Раненые ничего мне не говорят, но смотрят на меня, как на сумасшедшую. И ребята уже знают. Домка, наблюдая, как я одеваюсь, смотрит даже с иронией. Сталька, наоборот, напутствует:
- Ма, ты им приложи горчичник, чтобы помнили... - И вдруг изрекает: - А тебе идет эта косынка. Надень ее обязательно. - Ив этих словах я отчетливо слышу интонацию Ланской. Вот уж кто у нас оправдывает пословицу «с кем поведешься, от того и наберешься», так это наша дочка.
Милая ты моя лисичка! Ты больше, чем все, должно быть, понимаешь, что мамка-то твоя действительно может не вернуться, и стараешься ее вооружить единственным оружием, которое может быть ей полезным. Я говорю ребятам как можно спокойнее, стараясь не отрывать взгляда от своего отражения в темном стекле шкафа:
- Домик, вы бы навестили деда... Давно ведь его не видели, а? Сходите к нему сегодня.
Ланская, к моему удивлению, реагирует на мое намерение примерно так же, как Сталька.
- Это страшная машина. Огромная, могучая, но мертвая машина, и все они в ней маленькие колесики, вращающие друг друга. Вряд ли вам удастся затормозить хоть одно из этих колесиков. Но сходите, чем черт не шутит. Кто-то, кажется Вергилий, сказал: «Женщина сильнее закона». - Ланская критически оглядывает меня. - Сядьте. В такую вылазку женщине надо идти во всеоружии. - Она одергивает на мне косынку, достает из сумки помаду, подкрашивает губы. - Глаза трогать не надо, они у вас и так - дай бог. - И вдруг напевает: - «Тореадор, смелее в бой...»
Хмурый день. Ветер порывистый, противный. Он несет по земле сухую снежную крупу, рвет края косынки, колет лицо острыми снежинками. В этой серой шевелящейся мгле израненный город особенно жалок и страшен в своей увечной наготе. Даже тропки на тротуарах замело, да и через проезжую часть уже перекинулись кое-где сугробы. Быстрая ходьба разогревает. Я начинаю глубже вдыхать холодный воздух, и сквозь шелест снега до меня начинают доноситься не только ленивое, редкое буханье артиллерии, но - или это только кажется? - строчки пулеметных очередей... Наши! Это же наши там, за рекой. Они недалеко, где-то там, куда, помнишь, Семен, ты возил меня когда-то с маленьким Домной на ялике. Ой, и здорово же было! Зеленые луга, подступающие к самой реке, сероватая вечерняя вода, белесые клубы тумана, ворочающиеся под берегами. И глухой стук уключин. Раскатываясь по воде, он опережает нашу легкую скорлупку. И никого, мы трое. Ты на веслах, я на руле. И Домка вертится у меня на коленях, и я все боюсь, как бы не соскользнул и не шлепнулся в воду.
А теперь река подо льдом, и где-то там передовая. Та же серая колючая метель шелестит над ней. Стреляют. Почему стреляют? Может быть, началось наше наступление?..
Далекие пулеметные строчки как-то успокоили. Я уже не боюсь. Кто же это сказал, что женщина сильнее закона?.. Ведь вот знаю, штадткомендант - убийца, он похватал и угнал куда-то, может быть, даже уничтожил всех евреев и цыган, он расстреливает людей десятками и хвастает этим в своих приказах, печатающихся в газетенке «Русское слово». Знаю, но почему-то мне не страшно: так, толстяк, мучимый язвой, глотающий свои пилюли... Женщина сильнее закона!.. И уже верится, что мне удастся доказать, что Наседкин не принимал и не мог принимать участия в происшествии. Это подтвердит весь госпиталь...
А какие пустые улицы! Лишь дважды попался комендантский патруль. По три солдата с иззябшими, багровыми, исхлестанными метелью лицами, обтянутыми заиндевевшими подшлемниками. Идут по проезжей части, по рубчатым следам прошедших машин... Почему так мало людей? На главной улице в поле зрения - одна, две, три фигуры. Они напоминают тараканов, торопливо пробегающих через стол, чтобы поскорее заползти в щель и скрыться с глаз. Бедный город!
Кто-то гудит сзади. Схожу в сторонку. Штабная машина с каким-то странным четырехугольным железным кузовом, кое-как побеленным известкой, обгоняет меня. Офицеры, те, что сидят на заднем сиденье, оглядываются. И вдруг машина останавливается. Ага, хотят подвезти. Ну что ж, «данке шён» - это я знаю, как говорить. «Цу штадткомендатур», - и это могу выговорить. Едем. Слева школа, где я училась. Вот и угол правого крыла, отваленный взрывом, и на втором этаже наш класс. До сих пор стоит рядок парт, теперь занесенных снегом, и портрет Тимирязева все еще темнеет справа от классной доски. Но у подъезда толчея, машина с красными крестами. Ага, тут госпиталь. Ну так и есть, санитары выносят раненых... Ого, сюда возят раненых на машинах... Это хорошо, - значит, бои уже не так далеко... Эх, почему я в институте изучала никому сейчас не нужный французский, а не немецкий, знание которого мне так бы помогло?
Офицеры что-то мне говорят. Я отвечаю невпопад, разумеется. Шофер, рыжий, веснушчатый, в очках, косится. Очень весело едем. Но что это? Я даже невольно привстаю. Слева закопченные развалины дворца, где был облисполком, и на площади перед ним строгими шеренгами выстроились кресты, множество одинаковых крестов, сколоченных из сосновых брусков. Кресты, кладбище? Его ведь не было, когда я ходила регистрироваться. Так, так... Наши не теряли времени.
Машина выбежала на главную улицу. Увязли в сугробах искалеченные трамваи. Ветер хлопает дверями мертвых магазинов, на замерзших витринах снег - единственный продукт, которого сейчас в городе хватает. Снова странно видеть: закутанные женщины несут на коромыслах ведра. Как в прошлом веке или как в кино. Ни на кого не глядя, спешит закутанный человек, и метель в обгон ему тянет сухой снег. Метель здесь хозяйка.
Машина обегает площадь. На постаменте, оставшемся от памятника Ленину, огромная черная свастика. Позади рядок могил - свежие, метель еще не успела прикрыть их и замести венки из жестяных цветов. Скрипнув тормозами, машина останавливается перед комендатурой. Над входом на холодном ветру хлещет флаг. Флаг со свастикой. «Филь, филь данке» - это я тоже умею говорить. Мои спутники гомонят, куда-то меня приглашают или предлагают встретиться. А вот этого я, конечно, не понимаю. Развожу руками. Вбегаю по лестнице. Ого! В углу - дот, выложенный из мешков с песком. Из амбразур торчат стволы пулеметов. Они направлены на входную дверь. В зале, под портретом пучеглазого Гитлера, расставив ноги и положив руки на автомат, часовой. Ага, уже боитесь! Вооружены по самую маковку, а трясетесь, как овечий хвост...
Зал пуст. На деревянных скамьях несколько озябших фигур. В углу опять этот попишка в длинном черном пальто, похожем на рясу. Сидит, пощипывая мочальную бороденку, и вздыхает. Волосы сальными сосульками высовываются из-под шляпы. У него лицо петрушки: длинный носик, выпуклые румяные щечки, беспокойный, блуждающий взгляд. Меня он начал рассматривать с ног, двинулся дальше, и когда добрался до лица, его кукольная физиономия приняла смиреннейшее выражение.
- Осмелюсь побеспокоить вас, доктор, я видел вас на кладбище прихода Николы-на-Капусте, при погребении отрока...
- Какого такого отрока? Ах, да, Василек... Как, вы были там?
- Именно. Когда вы покинули кладбище, я, по просьбе его матери, отслужил панихиду.
Я подошла к окошку, за которым сидел дежурный, говорящий по-русски. По-моему, он меня узнал. Во всяком случае, сейчас же доложил коменданту. Оказалось, тот занят, просит обождать. «Просит» - это уже хорошо.
Не успела присесть, как попишка очутился рядом.
- Отец Клавдий, - отрекомендовался он. - Мы с вами в некотором роде коллеги.
- Мы? - Я даже отодвинулась.
- Вы врачуете раны телесные, а я - душевные, - не смущаясь, ответил он. Голос у него звучный, но какой-то слишком уж вкрадчивый. Захотелось задать ему остапобендеровский вопрос: почем, мол, нынче опиум для народа? Но сдержалась.
- И много ли у вас пациентов на врачевание душ?
- Много. Нынче очень много. В час бедствий взоры снова обращаются к религии, к единому, истинному богу, ища утешения в страданиях своих. На вечерних службах во храме нашем тесно. Пришел вот к господину штадткоменданту испросить разрешение на открытие храма святой Троицы... А вы, осмелюсь спросить, зачем направили сюда стопы свои?
Что мне было скрывать от этого «коллеги»? Я рассказала. Он выслушал и шумно вздохнул.
- Кровь рождает кровь. Много крови льется нынче от руки человеческой. В праздник рождества Христова к ним в офицерский клуб гранаты бросили - восемь человек наповал, трое после умерли. Видали свежие могилы на площади? Весьма много они за это невинных людей похватали. - Попик наклонился ко мне так, что мочальная его бородка защекотала ухо. Я отодвинулась. - Господин штурмбанфюрер приказал за каждого немца расстреливать десяток наших. Даже за город не возят. Тут вот, во дворе горкома, где у них гестапо, казнят невинных. Да разве десять? Сотни! Целую ночь у них там моторы машин ревут, чтобы выстрелов не слышно было. - И вдруг сказал с участием, которое так не шло к его петрушечьей, комической внешности: - Доктор, внемлите голосу разума, откажитесь от своего пагубного намерения, пока не поздно. Ныне от звука труб стены не разрушаются. Не вызывайте бесполезно гласом вопиющего в пустыне гнева сильных мира сего.
Так, значит, хватают и расстреливают заложников? Ну что ж, если Иван Аристархович жертва слепой мести, больше возможности его спасти, доказав его абсолютную необходимость в госпитале, существование которого они же признают.
Обстановка кабинета была та же, и комендант был тот же - толстый, болезненный человек. Опухшее лицо его так же, как тесто из опарника, выпирало из ворота. Кажется, даже свободный мундир стал ему еще более узок, а лицо показалось моему медицинскому глазу еще более отекшим. И только глазки на этом тестообразном лице оставались цепкими, зоркими. Он указал мне на то самое кресло, в котором я уже однажды сидела, и так же заглянул в какой-то список, - видимо, вспоминая мою фамилию.
- Что привело вас сюда, доктор Трешников? - спросил он и, подумав, поправился: - Трешникова.
Мне не было страшно, но почему-то, увидев снова этого тучного, расползшегося человека, я поняла: все бесполезно. Действительно машина, огромная, безжалостная машина, и тщетно взывать к одному из ее бесчисленных колесиков. Но я просила, умоляла: «Это же врач, отличный врач. Он нам позарез нужен. Ведь нас было только двое на восемьдесят человек». Я говорила быстро и опасалась, что он не понимает меня. Но когда я назвала цифру, комендант вскинул свои цепкие глазки:
- Восемьдесят пять. Или пятеро умерло?
У меня мороз прошел ко коже. Постучали в дверь. Это был фон Шонеберг. Комендант поднялся, оба, как механические куклы, вскинули руки.
- Хайль Гитлер!
Черные, расплывающиеся за стеклами глаза смотрели на меня вопросительно.
- О, какой приятный сюрприз! Рад вас видеть, фрау шпитальлейтерин. Вы сегодня просто очаровательны!
Комендант что-то говорил, видимо, передавал ему меня из рук в руки.
- Да, да, конечно. Мы с фрау доктор старые знакомые. Мы обо всем договоримся, - перебивает этот человек на высоких женских каблучках. – Прошу вас за мной.
«За мной»? У меня холодеет кровь. Не помню, как я простилась с комендантом, как вошла в другой кабинет, поменьше.
Тут опять меня усадили на стул, предложили сигареты, попросили разрешения закурить. Закурил, отвертываясь в сторону, выпустил дым.
- Так вы побеспокоили себя относительно этого старого врача? Так?
Я снова выложила все свои доказательства. Слушает и рукой отгоняет дым, чтобы не летел в мою сторону. Вежливый.
- Это же недоразумение. Когда произошли эти взрывы, он с женой был у нас в госпитале. У нас была елка, вы же потом видели. Это могут подтвердить все восемьдесят больных.
- Восемьдесят пять?
Мамочки, почему они оба так осведомлены о наших делах?
- Откуда вы узнали, что он арестован? - спросил вдруг Шонеберг, снимая пенсне. Снял, достал из кармана кожаный футлярчик, вытянул из него кусочек замши и стал протирать стекла.
- От его жены.
- Почему вы знаете, что это связано с гнусным преступлением, совершенным в рождественскую ночь?
- Это мое предположение. Весь город говорит об арестах, расстрелах...
Он насадил пенсне на нос, усмехнулся.
- Город так говорит? Это хорошо. Он должен запомнить, этот ваш паршивый город, что за каждую каплю германской крови будут пролиты реки. Город говорит! Разве вас, как врача, не возмутило это страшное преступление, при котором, кстати, пострадала и ваша соотечественница, достойная женщина... Не будете ли вы любезны сообщить, как ее здоровье?..
- Неплохо... Но при чем тут старый человек, который всю жизнь только и делал, что лечил больных? – И я бросила свой последний довод: - Его же здесь все знают. Знают, что его арестовали без всяких оснований! Это незаконно - хватать невиновного.
- Закон, право, честь - разве эти слова имеют в этой стране общепринятое значение?.. Фюрер мудро предупредил нас: правила рыцарского ведения войн - не для Востока. Пусть гибнут миллионы. Чем скорее, тем лучше. Мы быстро колонизируем очищенные пространства культурными, энергичными народами, способными понять и осуществить великие идеи нового порядка.
Он уже вскочил и говорил, жестикулируя, будто стоя на трибуне, будто перед ним была не одна испуганная женщина, а большая, битком набитая аудитория. Чувствовалось, что он кому-то подражает, на кого-то хочет походить и что он, этот «кто-то», имеет и иной рост, и иную внешность.
- Ах, это ужасное преступление! Ваши сограждане снова убедили нас, что они дикие и тупые недочеловеки... Ведь так это звучит по-русски? - Он тут же оговорился: - Я. разумеется, не говорю о моей очаровательной собеседнице. Они не понимают властного веления истории. Им доступно лишь одно средство убеждения - страх. Отныне мы будем говорить с ними языком страха. За одного убитого германца - сотни голов... Фрау доктор, наш нордический гуманизм обязывает нас быть суровыми с теми, кто не хочет понимать наших великих задач и мешает нам их осуществлять. Фюрер сказал: «Грех перед кровью и расой - первородный грех этого мира».
Машина работает. Передо мной вертится другое ее колесико. Как, чем можно его остановить? На меня не кричали. Мне никто не грозил. Но уж лучше бы кричали и грозили. Тогда легче было бы скрывать ненависть к этому человечку на высоких женских каблучках, изображающему тут, передо мной, кого-то или что-то. Он внушал ненависть и какой-то инстинктивный страх.
- Наседкин, он хотя бы жив?
- Да, он жив. Его вместе с двумя другими главарями здешних бандитов будет судить военный суд.
- Главарями? Да какой он главарь. Здесь любой его знает, любой скажет...
- Знает? Великолепно! Какой смысл судить никому не известного человека? Бешеных собак просто пристреливают.
Бешеных собак! Ух, как хотелось мне вцепиться в эти холодные глаза! Но я заставила себя неторопливо подняться со стула. Выпустят или нет? Может быть, за дверью уже ждет солдат.
- Фрау доктор, по моему поручению были изучены скорбные листы. В вашем госпитале больные залеживаются слишком долго. Вам это не кажется?
- Вы же знаете, в каких условиях мы работаем. Нет самых простейших медикаментов. Больные голодают.
- Вот к чему приводит варварская политика выжженной земли, применяемая вашим командованием. Не полагаете ли вы, что германская администрация станет кормить врагов? Это дело бургомистрата... Кстати, вам известно, что, когда господину Наседкину был предложен высокий и почетный пост, он оскорбил бургомистра господина Раздольского? Фрау доктор, завтра у вас будет комиссия. Она установит причины столь длительного заживления ран. - Он встал. - Будьте здоровы. Ведь так, кажется, у вас говорят, прощаясь?
Не помню уж, как я вышла из его кабинета. Попишка все еще околачивался в приемной. Он как-то крадучись подошел ко мне:
- Ну как?
Я махнула рукой.
- Возлюбивших насилие не приемлет душа господня.
Ух, как он меня взбесил! Я даже позабыла, где нахожусь.
- Господня душа! А как же она приемлет все, что они тут творят? Куда он смотрит, ваш господь бог, черт его дери? А вы, вы в церквах своих, что вы там людям бормочете: «Смиритесь, утешьтесь...»
Я говорила, должно быть, громко. Он просто побелел, и глаза его, - а у него красивые, печальные такие глаза, - просто круглыми стали...
- Тише, ради всего святого, тише... Мне остается молиться за души невинно убиенных...
Молись, молись, дурак бородатый! Много ты вымолишь у своего бога. Держи карман шире. И у них вон на пряжках написано: «С нами бог». С нем же он?.. Ну ладно, главное-то - я все-таки на свободе. Не схватили, не задержали...
Домой даже не шла, а бежала, не оглядываясь по сторонам. Запомнился только большой грузовик, обогнавший меня. В кузове какие-то испуганные мужчины. Теснились так, что не могли, видимо, и присесть. Их, всех вместе, покачивало на ухабах. Куда их? В Германию? В рабство? Или туда, во двор гестапо?.. «Будем говорить языком страха».
Изверги, изверги... Но скоро, теперь уже скоро придет вам конец! А пока... Что это за комиссия? Что они там еще придумали? Как быть с теми, кто поправился или поправляется?..
Распустить их сегодня ночью? Но тогда завтра языком страха будут говорить с теми, кто не смог уйти. И со мной в первую очередь. Не покину же я лежачих.
Что же делать? Теперь, когда метель улеглась, было тихо, будто по тропкам постелили пушистые ковры. И хорошо, отчетливо слышно из-за реки: та-та-та... Родные, милые, скорее выручайте!
Большой сугроб завалил все подходы к нашему подземелью. Как тряпочка обвисал в безветрии совсем растрепавшийся флаг со стрептоцидовым крестом. И креста уже не видно. Теперь это просто пятно, похожее на след крови. Только один человек прошел через девственный сугроб. Кто бы это? Иду по этому следу, стараясь ступать в него. И вдруг мелькает мысль, от которой я останавливаюсь и даже зажмуриваюсь... Они хотят проверить состояние ран? Будут сдирать повязки? Хорошо. Я сегодня пройдусь по следу старых швов. Они увидят свежий кетгут. Подняв кожу, можно вызвать неопасные кровоподтеки. Верно! Выход! Скорее за дело!
В подвал я спускаюсь, перемахивая через ступеньки. Раечка что-то стирает в тазике возле самой двери. Ее черненькие косички-хвостики туго заплетены, торчат и даже загибаются вверх. Когда из двери пахнуло холодом, она подняла глаза и радостно взвизгнула:
- Вера! - и понеслась по палатам, разбрызгивая с ручонок мыльную пену. - Наша Вера пришла!
Все двинулись ко мне.
Я без сил опустилась на табуретку.
3
Конечно же, вернувшись, я рассказала Василию Харитоновичу о замысле, возникшем у меня по дороге. Ответил не сразу, задумался. Спросил: чем все-таки это может угрожать больным? Узнав, что при соблюдении всех антисептических правил - ничем, опять задумался и потом будто резолюцию наложил:
- Умница! Делайте...
Раненых тоже не пришлось уговаривать. Военные мне безоговорочно доверяют: раз нужно, значит, нужно. Понимают: решающие дни. Точно мы ничего не знаем, но уже ясно, что Москвы гитлеровцам не видать, что Красная Армия перешла в наступление, что немцы не просто отходят, а отступают, что наше избавление близко... Словом, все благословили меня на это изуверское дело, и мы принялись за него немедленно.
Наверное, ни одному хирургу с Гиппократовых времен не приходилось делать такой кощунственной работы, какую мы с тетей Феней и Антониной проделывали весь этот вечер, до глубокой ночи. «Шьем да порем», - определила моя верная ассистентка смысл наших усилий. Точнее, мы пороли и шили. Снимали кроющую повязку, осматривали швы. Острым скальпелем я рассекала уже затянувшуюся рану. Разрушив свежие грануляции, я раздвигала края шва. Потом, как сегодня в снегу по чьим-то следам, я накладывала новый шов. И все вновь завязывалось. Варварство? Конечно. Правда, это угрожает разве тем, что у больного останется грубый шов. Но кто думает о хирургической эстетике, когда на карте будущее и даже жизнь. Двоим, чьи раны я все-таки побоялась трогать, наложили на ступню и на голень гипсовые сапожки. Мария Григорьевна смотрела на нас умоляюще. Мы тратили последний гипс. Ничего, может быть, он нам больше и не понадобится, ведь наши же наступают.
Такие операции, при которых главной заботой было не занести инфекцию, мы сделали шестнадцати раненым. Наконец, мы управились. Я едва стояла на ногах, но голова была свежая. Спать не хотелось.
К удивлению моему, Сухохлебов тоже не спал. Сидел на койке, опершись спиной о подушку, и разговаривал сам с собой. «Характер, железный характер... Да, да, да...» - расслышала я. Очень обрадовавшись, что он не спит, подошла к его койке.
- Я слышала пулеметную стрельбу за рекой, и очень отчетливо. Может быть, наши перешли в наступление?
- Что? - переспросил он, вздрогнув от неожиданности. - Наступление? Нет, нет, не это. Это еще не началось. Оно начинается по-другому... Что, струсили? А ну, не вешайте носа, обязательно начнется. - И вдруг закончил: - Какой же вы хороший парень, доктор Вера!.. Как я... как мы все тут за вас переживали!
«Я»... «Мы»... В сущности, ведь все равно. «Мы» даже лучше, чем «я». Но все-таки, признаюсь, что в данном случае «я» было мне дороже, чем «мы». И не почему-нибудь, а лишь потому, что я очень «зауважала» этого человека.
Пожелала ему спокойной ночи. Еще раз обошла всех, кого мы сегодня мучили. Ничего. Не жалуются. «Саднит», «Жжет маленько», «Здорово чешется». Других показаний нет. Пошла было к себе, а тут Ланская:
- Вера Николаевна, голубчик, дайте снотворное - заснуть не могу. На сердце тоска... Нет, нет, не вашу паршивую валерьянку с бромом. Их, немецкое... Там, на тумбочке... Отличное. Так мягко действует. И упаковочка, какая упаковочка! Немцы есть немцы, что о них ни говори...
Пилюли, однако, не приняла. Просто потрясла нарядной коробочкой и забыла о ней. Да и без того я уже понимала, что она выспалась за день, скучает и ей не терпится поболтать. Ну что ж, честно говоря, я тоже люблю это занятие. Присела у нее в ногах. Не знаю уж, кого она тут уговорила, но голову ей все-таки разбинтовали. Теперь смотрит обоими глазами, а кресты пластыря, наложенные ей на висок, на щеку и на подбородок, закрывает густыми, пшеничного цвета волосами. Вот баба-то!
- А вы, оказывается, храбрая, - начала она на самых воркующих нотах своего богатого голоса. - А ну, расскажите о своем походе. Я просто дохну от любопытства. Держу пари, доктор Вера имела успех. Я вот и не засыпала, ждала, пока вы кончите возиться с перевязками... Этот толстый идиот штадткомендант прислал мне целую посылку от имени... Как несчастной жертве красного террора.
Взяла большую шоколадную плитку, отломила половину, подала мне. Я машинально стала жевать, но вдруг вспомнила этого Шонеберга и поперхнулась.
- Принимал сам? Как он?
- Как тогда. Желтый. Мешки под глазами. У него наверняка жуткая язва.
- Он сам язва... Это, между прочим, омерзительный тип. Его прислали после того, как партизаны пристрелили его предшественника. Тот был из старых райхсверовцев и казался довольно порядочным. А этот...
- Он был довольно учтив.
- С вами. И днем у себя в кабинете... А знаете, его сателлиты ловят по улицам девчонок. Их везут к нему за город. Он держит их где-то в ванной, морит голодом, пока они не соглашаются. Говорят, даже угощает ими своих приятелей. Там у него целый гарем.
- Господи! - вырвалось у меня, и я инстинктивно отбросила остатки шоколада. - Со мною он ничего себе не позволял.
- С вами! Речь идет о молоденьких девчонках с «Большевички» и с «Буденновки». Он лакомка, он не ест кур, только цыплят. Кстати, один немец, их хирург, говорил, что когда-то давно офицерский суд чести вышиб его из райхсвера за эти штучки с малолетними. Зато в войсках эс-эс он свой среди своих. Там все такие. Каждый головорез на свой манер.
- Вот там другой, маленький, в пенсне, на высоких каблучках...
- Который под Гиммлера работает? Барон фон Шонеберг? О, это совсем другое. Нацист-фанатик. Он из прибалтийских аристократов. Тоже птица. Вы с ним говорили? Порою он мне кажется просто сумасшедшим. «Нордическая кровь, избранная богом раса...» - Как это уж она сделала, я не знаю, но лицо ее вдруг стало похоже на физиономию этого пенснешника. - «Для мира два пути - наша победа или непроглядная ночь мирового еврейства...» - произнесла она его голосом. - Суеверие, шаманство, какая-то тарабарщина. Но он во всем этом убежден. Я белобрысая, у меня светлые глаза и волосы - Брунгильда... Мне он симпатизирует и красуется передо мной, как петух. «Мы обратим это столетие в начало нового мира. В торжество новой нордической тысячелетней империи». Гитлеровский бред страницами на память шпарит.
Ланская села на кровати, засучила рукава, и ее круглое, мягкое лицо стало идиотски тупым. Она хрипло пропела:
Мы будем шагать до конца,
Пусть все летит в преисподнюю.
Сегодня наша Германия,
Завтра - весь мир.
- Когда они гавкают эту глупейшую песню, у Шонеберга в глазах слезы - вот-вот залает: «Зиг хайль!..» Эти бредни - его пунктик. Зол. Беспощаден... Но в личных делах вроде бы порядочный. Играет на рояле, и недурно играет. Строг не только к подчиненным, но и к себе. Мне кажется, он в меня немножко влюблен, вероятно, потому, что я похожа на любезную его сердцу белокурую бестию. - И она, снова преобразившись, став похожей на уличную девку, хриплым, утробным голосом запела знакомую уже мне песенку про потаскушку Лили Марлен.
Удивительно – и в этом своем новом преображении, вульгарная, хриплоголосая, она оставалась все той же Ланской. Тут у меня мелькнула мысль.
- Кира Владимировна, родная, завтра ваш барон будет здесь с комиссией. Вы говорите, он в вас влюблен. Попросите его за Ивана Аристарховича, а? Вы из-за них пострадали. Он для вас сделает, а? Ну что вам стоит!
Глаза артистки сразу погасли. Она точно бы сошла со сцены за кулисы. И даже, как мне показалось, боязливо оглянулась.
- Не знаю, не знаю, - сказала она сухо. - Вы, милочка, преувеличиваете мои возможности... И потом, скажу прямо: ходатайствовать за тех, кого они берут, - это класть тень на себя... Очень темную тень. Это вам надо знать. - И, должно быть, что-то заметив у меня на лице, прямо, без переходов, вдруг широко улыбнулась. - А знаете, милый доктор, у вас красивый разрез глаз и ресницы - чудные ресницы. Вы ведь хорошенькая. Да вы и сами знаете об этой своей женской силе, только делаете вид, что не замечаете ее, не то что я, дура баба, у которой что на уме, то и на языке. На языке даже больше, уверяю вас.
Я вскочила и украдкой оглянулась. Все спали. На посту дежурной Антонина уткнулась в книгу. Слава богу, кажется, не слышала.
- Лучше скажите, как ваши раны. Больно? Горят?
- О, отлично, на мне все заживает, как на собаке. Вот только лицо... Но я верю вам, что шрамов не останется. Что вы на меня волком смотрите? Садитесь. я вам что-то скажу. Сегодня сюда заползал мой Винокуров, приволок какие-то консервы, что-то там выпросил для меня. Я его выставила, а консервы отдала этой суровой тетке. Кстати, неужели она все-таки не может кормить людей лучше? На вашей еде воробей отощает. - Она подала знак, чтобы я наклонилась, и зашептала: - Винокуров спрашивал, скоро ли я смогу ходить. - Покосившись на Антонину, которая все так же склонялась над книгой, еще больше понизила голос: - Знаете, почему он этим интересуется? Только секрет, вы и я - больше никто. Слышите? Он говорит - скоро придется бежать.
- Бежать? Как бежать? - переспросила я, невольно опускаясь к ней на койку.
Она приблизилась ко мне так, что дыхание щекотало ухо.
- Тут, за рекой, появился какой-то генерал Конев. Говорят, летом, во время общего драпа, он дал им перцу где-то около Ярцева или Духовщины. Помните, в газетах: «Коневцы наступают». Так вот теперь он где-то здесь со своими войсками. Его появление им спать не дает. Они много о нем болтают... И еще Винокуров говорил: штадткомендант приказал упаковывать ценности музея, подготовлять их к вывозу.
Я все позабыла, слезы стояли у меня на глазах. Ланская отстранилась:
- А вы действительно рады? Вы верите, что наши вам простят?
- Что мне прощать?
- Ну как же, вы, человек с таким пятном в анкете, остались у немцев, бывали в немецкой комендатуре, общались с эсэсовскими офицерами. - Она смотрела на меня, как ученый, делающий интересный опыт, следит при этом за поведением кролика.
Ах, вот что! Ну и дешевая же у тебя душонка!
- Только бы пришли скорее. Придут - разберутся, поймут, не могут не понять.
- Вы так уверены? - Голубые глаза усмехались.
- Уверена, уверена, слышите вы, уверена! - почти кричала я.
Да, Семен, я кричала это ей в лицо, хотя это, конечно, бесполезно и опасно. А она усмехалась...
А вот сейчас лежу и раздумываю: в самом деле, поймут ли меня, поверят ли мне?.. Ах, эта усмешка! Вчера сам этот вопрос передо мной даже не стоял. А вот сегодня эта молчаливая усмешка меня смутила. Почему она усмехалась? Может быть, она, как актриса, разглядела во мне что-то, что я и от себя прячу? Нет, черт возьми, я верю, не могу не верить. Ведь если я потеряю веру, что же тогда?
4
Минувшей страшной осенью, что бы там ни сообщали сводки Советского Информбюро, как бы они ни пытались смягчить масштаб несчастья, по множеству признаков чувствовали мы приближение беды. Так же вот теперь, в разгар зимы, не имея последние дни никакой информации, кроме той откровенно лживой, что печатается в этом «Русском слове», мы тоже по множеству разных примет видим, что приближается конец оккупации. И каждый такой признак, как бы он страшен ни был, радует, помогает переносить новые и новые беды, валящиеся на нас.
И вдруг этот вопрос: «Вы верите?» С ним я проснулась утром, когда еще весь госпиталь спал и даже Антонина дремала возле потухшей плошки, положив на книгу свою большую, всю точно бы в медных курчавых стружках, голову. Я могла бы, конечно, разбудить ее, а сама поспать часок-другой. Ведь предстоит ужасный день. Но встал этот проклятый вопрос - и сна как не бывало.
Голова со сна ясная. Мефистофельская улыбка Ланской кажется сегодня испуганной и жалкой, а вчерашние мои раздумья странными. Конечно же, верю. И как мне не верить, если вот здесь, в этих ужасных условиях, где можно с ума спятить, где хозяйничают гитлеровцы, среди восьмидесяти пяти моих подопечных не нашлось ни одного отступника, ни одного, кто бы дрогнул, или предал, или соблазнился бы весьма существенным в наших условиях вознаграждением. ..
Да, госпожа Ланская, я верю и в то, что рано или поздно освободят моего мужа, что справедливо разберутся и в наших сложных, запутанных делах. Верю, верю, верю!..
Поставив после всех этих размышлений точку, я будто тяжесть с плеч сбросила. Обошла палаты. Все спали. Еда у нас в последние дни такая жиденькая, что как о чем-то роскошном и недоступном вспоминается о «супе рататуе», о кусочке конской солонины. Люди бледнеют, теряют в весе. Отсюда и сонливость. Вот и Антонина спит, положив свой рыжий костер на книгу, и по-детски причмокивает губами. Заметно, очень заметно поддался даже могучий Антон, казавшийся несокрушимым. Куда делись ее подушки-щеки, где румянец! На пестром лице обозначились скулы, а лепешки веснушек на побледневшей коже стали ярче, и кажется, будто маляр отряхнул с кисти охру ей на лицо, на шею, на руки... Сегодня комиссия. Что-то будет? Этот попик с бабьим именем сказал, что мужчин в городе немцы забирают под метлу. А эти мои военные? Пожалуй, даже наша комиссия перевела бы их уже на амбулаторное лечение. Вся надежда на эту нашу «медицину наоборот».
Не терпелось узнать результаты. Не дожидаясь обхода, разбудила одного из тех, кого вчера оперировали повторно. Так, температура явно повысилась. Ого, под бинтами краснота, вокруг стежек шва припухлость. Опытный, очень опытный глаз, ну хотя бы наседкинский, например, мог бы, понятно, заподозрить что-то неладное, но поверхностным осмотром нас не разоблачишь, тем более освещение... Да, надо, конечно, позаботиться, чтобы не горели ацетиленовые лампы и осмотр проходил при плошках.
Утренние раздумья зарядили меня оптимизмом. Вопреки всему, вопреки даже здравому смыслу, я уже верю, что и сквозь комиссию мы как-нибудь проскочим. Поговорить бы с Василием Харитоновичем, но вон он лежит на спине, разметав по одеялу свои волосатые руки, и надрывается солдатским храпом. Любопытная вещь: во сне он как-то моложе, мужественнее, крепче. В нем меньше от старого агронома Карлова и больше от кадрового военного.
А вот Ланская, черт ее побери, эта не спит. Сидит на койке и что-то торопливо и жадно жует. Увидела, что я подхожу, сделала судорожное глотательное усилие и, освободив рот, улыбнулась.
- Вот закусываю, пока все спят. Присоединяйтесь. - И, добыв прямо из коробки пальцами каких-то жирных рыбин, положила их на большую галету и протянула мне. - Настоящие сардины с острова Сардиния.
Не скрою - очень хотелось мне взять, но я вспомнила, как Сталька шептала мне, что Анна Каренина прячет разные вкусности под тюфяк и потихоньку лопает их под одеялом.
- Спасибо. Мне не хочется...
Ланская встряхнула своими пышными русыми волосами, которые теперь, освобожденные от бинтов, падают ей на плечи, снисходительно улыбнулась.
- Эта ваша Марфа Посадница морит людей голодом. А я не могу худеть, я актриса. Я должна сохранять свои пропорции. Ну, хватит терзаний.
Сардины с острова Сардиния. Они без свастики, можете спокойно есть. За них ничего ни в настоящем, ни в будущем не инкриминируют. Ешьте, ешьте, вам тоже нельзя терять пропорции. Привлекательность - это ваше действенное орудие в борьбе с проклятыми немецко-фашистскими оккупантами.
Я, признаюсь, не без труда произнесла:
- Благодарю, кушайте сами.
- Ну что же, съем. - Она погрузила ровные зубы в этот такой жирный, такой аппетитный бутерброд. - Вы - фанатичка. Впрочем, к вашему лицу идет бледность, и эта многозначительная тень в глазницах, и огромные глаза. Такие в прошлом веке ходили на подпольные сходки и бросали бомбы в министров. Я играла однажды подобную роль в какой-то пьесе о тысяча девятьсот пятом годе. Ничего, принимали. Только сама-то я знала: не то, не так. Подвижница идеи - это не мое амплуа, ни на сцене, ни в жизни... А, вы знаете, однажды из-за меня сняли спектакль «Леди Макбет»? Думаете, плохо играла? Наоборот, чудесно, по десять раз занавес открывали, но мудрецы решили, что королева-злодейка не имеет права быть такой обаятельной... Нет, дорогая, мне нельзя выходить из образа.
- Я уже говорила вам - сегодня сюда придет этот «фон» без подбородка.
- Фон Шонеберг.
- Ну да. Тетя Феня зовет его «пенснешник».
- Пенснешник? Бесподобно. Он ведь копирует своего обожаемого Гиммлера, пенсне с круглыми стеклами - это тоже под «третьего наци Германии». - И нервно спросила: - Придет, ну-с, и что же?
- Я уже говорила, может быть, вы все-таки походатайствуете за старика?.. Очень, ну очень прошу вас.
Ланская смотрела на меня, будто задумавшись, будто не слыша просьбы.
- Неужели вы не хотите спасти человека?
И опять будто кто щелкнул выключателем - самоуверенная, обаятельная актриса разом погасла, превратившись в обычную растерянную, может быть, даже испуганную женщину.
- Спасти, спасти! - истерически выкрикнула она. - А меня, меня кто спасать будет... а? Кто? Ну!
Но это лишь на мгновение. И вот она уже прежняя.
- Спасти, - - повторила она со снисходительной усмешкой. - Разве эту страшную машину остановишь голыми руками? Она заденет, скомкает, раздавит вас и будет продолжать крутиться, а от вас останется лишь кровавое пятно. Остерегайтесь, остерегайтесь этой машины, доктор Верочка... Мы что? Мы - мухи. Присев на одно из ее колес, мы можем крутиться вместе с ним по его орбите, что-то там о себе воображая. Но стоит сделать одно неосторожное движение...
Ланская, не договорив, привстала на локте, приподняла изголовье постели и принялась в чем-то рыться, шурша бумагой. Потом в ее руке очутился кусок сухого торта. Она протянула его мне.
- Ну, а это-то вы все-таки, голубушка моя, съедите. Обязательно, обязательно! Я от вас не отстану. Жуйте. Даже непримиримая Электра и неистовая Жанна д’Арк приняла бы этот скромный дар от слабовольной еретички, которая, что там греха таить, любит пожрать.
Семен, мне стыдно, но я взяла. Взяла не для себя. Для ребят. И что ты думаешь! Когда я принесла этот трофей в свой «зашкафник», они не спали. Домка сидел, опустив свои длинные, с большими ступнями ноги. Угловатое мальчишеское лицо было замкнуто. А Сталька, оказывается, стояла, посинев от холода, в одной рубашонке, прижавшись глазом к щели, и подсматривала. Прежде чем войти к ним, я услышала ее шепот: «Дала-таки, жадина-говядина». Но меня эта хитруха встретила лучезарной улыбкой.
- Ма, ой, что ты принесла!
Я поделила кусок торта. Домка непримиримо оттолкнул мою руку:
- Не надо, пусть сама жрет!
- Ну и не ешь, ну и не ешь! - запальчиво бормотала Сталька, уже запустив в свою долю зубки. - Пусть не ест. Можно мне его долю Раечке? Можно, да?
Ой, Семен, слезливая я что-то становлюсь. «Глаза на болото переехали», как говорит тетя Феня. Вот и опять чуть не разрюмилась. Помнишь, как в тот наш последний вечер ты сказал над Домкиной кроватью: «Славный малый у нас растет!» Поглядел бы ты на них сейчас. Славные, славные у нас ребята.
Ну, а эта чертова комиссия явилась на следующий день. Вчетвером - наш Толстолобик, фон Шонеберг и тот третий, которого прозвали Прусаком. Ну, и, конечно, солдат. Толстолобик замкнут и как-то странно отчужден. Он молча козырнул и даже не произнес своего обычного: «Гутен таг, фрау Вера». Я почувствовала: что-то произошло, и наша судьба в руках Шонеберга.
Тот, наоборот, поздоровался, и даже преувеличенно вежливо. Потом щелкнул каблучками возле койки Ланской. Она утром выпросила у Марии Григорьевны кусок марли, набросила его на голову наподобие фаты, так что не видно пластырных заплаток.
- А, барон! - проворковала она, протягивая ему полную, обнаженную до плеча руку тем жестом, каким она делала это в сцене на балу, изображая Каренину.
Он поцеловал руку.
- Как ваше драгоценное здоровье? Как вы себя чувствуете?
- Как можно себя чувствовать в этой помойной яме!.. Но лечат превосходно. Доктор Трешина просто волшебница, - видите, голова уже разбинтована. Барон! Я слов не нахожу, чтобы поблагодарить вас и ваше командование за заботы...
«Ну, сейчас скажет о Наседкине», - ждала я и смотрела ей в глаза. Ну скажи, скажи, что же ты? Нет, не сказала. Так и прококетничала с этим прохвостом. А Толстолобик и Прусак между тем надевали халаты.
Меня колотило, будто в приступе малярии, но я старалась сохранять равнодушный вид, и когда Прусак, переоблачившись, отошел, я вдруг отчетливо услышала тихо произнесенное: «Гутен «таг, фрау Вера». Взглянула на Толстолобика: не ослышалась ли? Но он, кончив застегивать халат, сосредоточенно обдергивал его полы. Может быть, мне это послышалось, но все-таки как-то немножко полегче стало. Шонеберг халата не надел. Так, в черном своем мундире с какими-то ленточками и значками, он, поскрипывая сапожками, и отправился с нами в операционную. Я шла впереди. В палатах царила напряженная тишина. Такая, как я знала по опыту, бывает чревата взрывами коллективной истерики. Десятки глаз молча провожали нас, только Сухохлебов мирно спал или, вернее, делал вид, что спит, выбросив на одеяло волосатые руки.
Раненых, подлежащих обследованию, расположили в разных концах палаты. Тут я заметила оплошность: поразительно белели свежие бинты... Шонеберг сел на табурет, вытянув из футлярчика замшу, стал протирать свое пенсне, а мы все ждали. «Заметит или не заметит?» - со страхом гадала я. Оседлал наконец нос, осмотрел палату. С небольшого круглого личика, сбегавшего в воротник кителя, не сходило брезгливое выражение.
- Доктор Трешникова, в свинарнике самого бедного немецкого фольварка чище, чем в этом вашем госпитале. И воздух там свежее. - Он сказал это намеренно громко, так, чтобы все могли слышать.
И все услышали. Но ничего не изменилось. Лежали молча, будто он сказал это и не по-русски. Только кто-то, кажется, старик, рабочий с «Большевички», койка которого была рядом, тягуче вздохнул:
- Ох-хо-хо!
- При новом порядке в таких условиях не разрешат держать даже животных.
Что он, провоцирует нас, что ли? Я вижу во взглядах затаенный гнев. Вижу, как Кирпач, которому я вчера вскрыла совершенно зажившую рану на ноге, весь напрягся, даже покраснел. Вот-вот с его заросших волосом губ сорвется ругательство. Я взглядом стараюсь передать: «Молчите, ради всего святого, молчите!»
Молчат. С койки Василия Харитоновича доносится храп. Это тоже как бы знак - сохранять спокойствие.
Прусак подает этому чертову «фону» отобранные им карточки историй болезни.
- «Лапшев Петр Прокофьевич», - брезгливо читает Шонеберг, вынув из пачки первую попавшуюся.
- Лапшев, поднимитесь, - говорю я, и Лапшев приподнимается.
Это огромный парень. Артиллерист, у него полостное ранение. Еще недавно он весил больше центнера. Теперь - мешок с крупными костями. Но раны у него так зарубцевались, что пришлось потрудиться, чтобы привести их, по выражению тети Фени, «в божеский вид». Молодец, он не встал, он только сел на койке.
- Снимите рубашку.
Ах, эти чересчур свежие, чересчур белые бинты, да к тому же еще и немецкие, из той сумки, которую нам передали вместе с Ланской... Но то, что бросилось бы в глаза любому медику, Шонеберг не замечает. А Толстолобика я, ей-богу, не боюсь. Я помогаю ему разматывать повязку. Обнажаем рану. Милый Лаптев, да у тебя, верно, все, как настоящее. Мне становится легче. Толстолобик что-то говорит Шонебергу, тот на мгновение наклоняется, но сейчас же отстраняется, машет рукой. На лице у него разочарование... и брезгливость, и скука. Потом разрушаем один из гипсовых сапожков. Это у маленького красноармейца-связиста, которого все зовут Костик. Балагур, ёрник, бездонное хранилище соленых анекдотов и, несомненно, артистическая натура. Ломаем гипс, а он стонет, ойкает, закатывает глаза. Я вижу - Толстолобику стыдно. Не знаю, верит ли он или делает вид, что верит, но даже пот выступает на его обширном глянцевитом, уходящем к самому темени лбу. И снова, подойдя на минуту к кровати, взглянув на распаренную под повязкой и будто бы губчатую ногу, Шонеберг отходит. Толстолобик осматривает внимательно, что-то объясняет, но тот и не слушает.
- У вас, у русских, пещерная медицина. Удивляюсь, доктор, как они у вас не перемерли... И эти люди уверены, что создали социализм!
Я не возражаю. Только с беспокойством смотрю на своих больных. Их глаза ненавидят. Но пока молчаливо. Только бы кто-нибудь не сорвался, не выругался, не вступил в ссору. Шонеберг снова тасует карточки. Не знаю уж почему, из брезгливости или из боязни заразы, он не снял серых замшевых перчаток. Серые лапки тасуют карты. Каждая карта - человеческая жизнь. Я жду. Кто же следующий. Вдруг попадется карточка Анатолия Карлова... Но Шонеберг брезгливым жестом отбрасывает карточки на ближайшую койку, поворачивается и идет вон. Поскрипывает подошва, постукивают длинные каблучки. Толстолобик идет за ним, сохраняя непроницаемое выражение. Прусак жмурится и морщится больше, чем всегда, подвижной, как у кролика, носик его так и ходит. Этот не то разочарован, не то испуган.
А я, я просто лечу вслед за ними. Пронесло! Товарищи, пронесло же! Во всяком случае, мне в эту минуту так кажется.
- ...Теперь я не удивляюсь, почему у вас так затягивается лечение, - говорит Шонеберг. - Можно удивляться лишь тому, что эти люди вообще еще живы. Первобытные организмы... Я пока не виню вас, доктор Трешникова, я знаю, это ваша расовая беда - грязь у славян в крови. Но когда вы попадете в орбиту нового порядка, мы быстро научим вас гигиене. О, вы скоро узнаете, что такое нордическая цивилизация!
Слушаю. Молчу. Ладно, болтай, болтай. От собачьего брёха пока еще никто не умирал. Выговаривайся и убирайся.
- Но оборудование ваше меня удивило. Не все германские раненые лежат на таких койках. Над этим стоит подумать.
Он опять целует руку Ланской, небрежно козыряет мне. Проходя мимо меня, Толстолобик произносит свое: «Ауфвидерзеен, фрау Вера». Прусак уходит, не прощаясь. Он мрачен и озабочен. Уж не он ли подбил эту тварь проверять нас?
5
Но беда, как говорится, не приходит одна.
Вечером прибежала тетя Феня: Зинаиде плохо, с утра вроде бы все ничего, достирывала белье, договаривались вместе в церковь, к вечерне сбегать да на могилку к Васильку - и вдруг тут же, возле бачка с теплой водой, бухнулась и лежит в неподвижности, краше в гроб кладут. На месте происшествия уже была Антонина. Держа на коленях маленькую головку с растрепанной тощей косицей, она подносила к носу пузырек с нашатырем.
- Обморок, - говорит она мне.
И действительно, обморок. Больная пришла в себя, удивленно осмотрелась, поднялась на ноги.
- Белье там, в котле... перепарится, - сказала она, но так тихо, что я еле разобрала.
- Ладно ты о белье. Не дури, позаботимся. Ты скажи, что с тобой-то? - суетилась тетя Феня.
- А ничего, - так же тихо ответила Зинаида, будто прислушиваясь к самой себе. - Ничего не больно. Только в ногах слабость да все плывет, плывет, кружит.
Я поняла: это - голод. Все мы, конечно, кроме Ланской, в последнее время недоедаем. Но все как-то держатся... А тут... Мария Григорьевна отвела Зинаиду к себе, напоила чаем, нашим условным чаем, который она изготовляет из сухой моркови. Та приободрилась, пошла достирывать. Весь госпиталь обсуждал это происшествие, никто не удивлялся, - с голоду чего не бывает. Только Сталька, этот всеведущий лисенок, открыла истинную причину, почему это случилось именно с Зинаидой.
- Сама не ест, все Раечке. Супчику похлебает, а хлебчик ей.
Я поразилась: ну как мне такое в голову не пришло? Зинаида действительно как-то истерически привязалась к сиротке. По утрам заплетает косички. Сшила ей из какой-то ветоши по Сталькиной выкройке белый халатик, отдала свой последний свитер тете Фене, чтобы та ей из него связала что-то для девочки. Ради тепла спят вместе. Порой мне кажется, что одинокая эта женщина ревнует Раю к моим ребятам, и вот эта история. Я не решилась взяться за такое тонкое дело. Попросила Марию Григорьевну поговорить с ней. Волнует не само это событие. В конце концов с Зинаидой ничего страшного и не произошло. Страшен симптом. Первый симптом. Снизив нормы до предельного минимума, все мы явно «доходим». То, что произошло с Зинаидой, может случиться с любым из нас.
- Ничего нельзя сделать? - спросила я нашу суровую Марфу Посадницу.
Мария Григорьевна только вздохнула.
- Откуда ж! И по такой норме хватит от силы на неделю. - И добавила: - Если наши не подоспеют, локти свои грызть будем. Мудрика просила в лесу разведать, где лошади битые... Куда там! Всех не то люди, не то волки пообгладывали и требуху не оставили, одни кости, да и то объеденные дочиста. И на семь-то дней еле натяну.
Только на семь дней! И тут же другая жуткая весть. Вечером через второй наш ход, ведущий через обвалившуюся котельную и тот коридорчик, где лежало тело Василька, явился Мудрик. За мной прислали кого-то из больных. Мудрик сидел у сухохлебовской койки, оба необычайно взволнованные. Я подошла. Мудрик поклонился без обычного своего шутовства.
- Вера Николаевна, - произнес Василий Харитонович вместо «доктор Вера», к которому я привыкла. - Вера Николаевна, вчера гестаповцы взяли вашего свекра.
- Петра Павловича? Но он же...
- Не надо так громко.
- Не может быть... Он же...
Василий Харитонович грустно покачал головой:
- Товарищ Никитин совсем не то, что о нем думают.
- Рация накрылась... Две кассы шрифта, - шепотом продолжал рассказывать Мудрик, теперь уже не стесняясь моего присутствия.
Рация... Какие-то шрифты... И вдруг я как бы разом прозрела, Семен. Будто какие-то разрозненные, ничего мне не говорившие слова, которые я иногда слышала, слились в целую фразу. И этот патент с гитлеровским орлом, и почему старик не пригласил к себе жить ни меня, ни внуков, почему вообще держался подальше от нас. Все, все стало ясно, кроме разве одного, почему я была так недогадлива...
- Снаряды ложатся близко, - задумчиво произнес Сухохлебов.
- Уж куда ближе, можно сказать, в нашем квадрате, товарищ полковник, - ответил Мудрик. - Я ведь едва через огороды утек. Весь арсенал оставил, - ух, и гранатки у меня были. И костылик мой - трофей немецко-фашистской армии.
Костылик! Ну да, я вспомнила, в прихожей у вешалки стоял костыль. Так, стало быть, и тогда... Дура ты, дура, Верка! Где ж это были твои глаза?
- Вы все были связаны? Да?
Василий Харитонович ласково похлопал меня по спине.
- Идите-ка вы спать, доктор Вера! Нам тут с Мудриком потолковать нужно по сугубо мужским делам.
Ну что ж, я ушла. Ушла даже без обиды. Да и до обиды ли мне сегодня!.. Мне стыдно перед твоим отцом, Семен. Стыдно и страшно за него. А Иван Аристархович? Неужели они были связаны? Нет, нет, этого не может быть. С чего бы это им тогда чураться друг друга? И вдруг мне отчетливо вспомнился их давний спор на порожке баньки. Мы с Татьяной ждали, когда вынесет жар после их банных неистовств, а они сидели возле бидончика с квасом и спорили:
- Ты, Аристархович, из тех людей, что всегда ищут истину, но более всего боятся ее найти, - сердито бросал твой отец.
- А ты, Петр Павлович, когда-то свою истину нашел, вцепился в нее обеими руками, глаза зажмурил и на белый свет глянуть боишься. А вдруг она, твоя истина, полиняла? Вдруг чем другим обернулась? - кхекая, парировал Наседкин, попыхивая махорочным дымком.
- Все умствуешь, Аристархыч, все в словечки играешь.
- А ты без своего ума жить хочешь, за тебя уж все вперед на сто лет обдумали.
А потом побранились, и Наседкин ушел, даже не простившись. Но через неделю уже вместе отправились по грибы. А у нас тут «здравствуй» да «прощай» - и весь разговор. Нет, не только я, но и Иван Аристархович ошибался, это ясно.
И вот теперь оба они в этом здании, где во дворе по ночам рычат на холостом ходу моторы, заглушая выстрелы. В здании, откуда по утрам, еще затемно, уходят за город машины со страшным грузом. Не знаю уж, говорить ребятам, что с их дедом произошло, или помолчать? Нет. лучше, пожалуй, помолчу. Зачем горчить их и без того уж не сладкую жизнь...
Вдруг кто-то в шкаф - тук-тук.
- Да. войдите.
Ланская! Удивительно, как это на ней все заживает. Ходит. Правда, ранения пустяковые, царапины. С такими бойцы и в медсанбат не ложатся, но ведь она не красноармеец, актриса и не девочка годами. Зашла. Присела. Положила на стол какой-то сверток.
- Еда. Вам и ребятам.
- Нет, вам самой поправляться нужно.
- Мне хватает. Поклонники не забывают. Сегодня еще натащили.
- Возьмите назад... Вы, может, слышали, у Богдановой был голодный обморок.
- Милый доктор, ну научитесь же вы реально мыслить! Я не Иисус Христос и не могу накормить всех пятью хлебами, тем более что у меня всего три булки, но с вами я охотно делюсь... Кстати, ваши ребята такие же фанатики, как вы. Я предложила вашему сыну отличный бутерброд с ветчиной, и, представьте, сделал вид, что не заметил, прошел мимо. Даже спасибо не сказал. А эта ваша девчурка схватила конфету, мерсикнула и убежала, будто боялась чем-то от меня заразиться. Ешьте, это они называют «аппелькухен» - яблочный пирог. – Она развернула бумагу, и от запаха сдобного теста у меня закружилась голова. Невольно, как маленькая, с шумом подобрала слюну. Она, понятно, заметила это. - Да ешьте же, чудачка! Ну ладно, вы не хотите, чтобы я с вами делилась моими трофеями, так возьмите это как гонорар за лечение. Вы лечите меня? Так вот, я вам плачу, за неимением денег, натурой. Ну давайте есть вместе.
Она разломила пирог, проворно стала уплетать свою долю. Стыдно вспомнить, но я не выдержала.
Тоже начала есть, ела, испытывая наслаждение и даже, честно говоря, жалея, что другая половина пирога досталась ей. Потом, когда пирога не стало, не удержалась, стряхнула с промасленной бумаги лохматые крошки и отправила их в рот.
- Ну вот и молодец, учитесь жить не по канонам, - покровительственно произнесла Ланская. - А теперь, когда доктор получил гонорар и подобрел, пусть он скажет, скоро ли он меня выпустит. Здесь я просто чахну. Не могу, нет сил. - Пригнулась, приблизила ко мне свою увенчанную золотой короной волос голову, зашептала: - Нет, я с вами начистоту. Мне оставаться нельзя... Мой благоверный опять побывал. Не видели? Он сюда шмыгает тихо, как хорек. Выглядит прескверно, совсем облысел, небритый... Под страшным секретом сообщил: наши их, видимо, под Москвой расколошматили и жмут по всему фронту. Эти сверхчеловеки готовятся к драпу. А тут опять этот таинственный Конев с какими-то новыми, не то уральскими, не то сибирскими, частями... Словом, немцы обещали Винокурову большую машину... - И вдруг спросила: - Хотите с нами? Места для вас и для детей, видимо, хватит.
Я даже отпрянула. Она как-то нервно, истерически хохотнула:
- Что, струсили?
И вдруг спросила небрежным тоном:
- Знаете, что я ему ответила? Сказать? Нипочем не угадаете. Я сказала: «Никуда не поеду...» Куда ехать? От судьбы разве убежишь? А может быть, все-таки попытаться убежать? Зашла вот посоветоваться: две красивые бабы - это ведь стоит целого наркомата... Бежать или не бежать, вот в чем вопрос.
- Не понимаю, как можно об этом даже думать...
- Ну, милая, это уже безвкусица. Это ответ героини из плохой пьесы. Давайте порассуждаем реально. Мы с вами, две интеллигентки, по разным причинам остались у немцев. Желали мы того или не желали, вольно или невольно, мы вели с гитлеровцами дела. Сограждане это знают. Так? Что нас ждет? Арест? Вероятно. Тюрьма? Вряд ли, - ведь многие миллионы живут на оккупированной территории, всех не пересажаешь. Но презрение, всеобщее презрение, - это гарантировано... Обсуждаю другой вариант. Мы уезжаем с ними. Ну, вы врач и, вероятно, найдете себе работу. А я? Стоять где-нибудь у станка с остарбайтер? Благодарю покорно! Или петь в каком-нибудь офицерском кабаке? - И тотчас же, дивно преобразившись в уличную девку, хриплым, вызывающим голосом она запела:
Перед казармой, перед большими воротами
Стоял фонарь, стоит и до сих пор.
Нет, карьера Лили Марлен не для меня. Так что же делать? А? Какие рекомендации даст доктор Вера заслуженной истеричке республики?
Подбородок Ланской съежился, она закусила губу, опустила голову, сжала ее руками. Мне стало даже жаль ее. Вдруг она вскочила, вышла, вернулась с початой бутылкой коньяку. Выплеснула из двух мензурок заготовленные тетей Феней для кого-то лекарства.
- Без бутылки не разберешься. Знаете, какой-то поэт написал: «Гаснут звезды Зодиака, спит собака Водолей, выпьем рюмку кониака, сердцу будет веселей». - Лихо выпив, налила себе еще. - Ну чего же вы, Верочка Николаевна?
Я выпила.
- Кстати, учтите: за нами в щель между шкафами следят глаза двух девчонок, и в ваше досье где-то запишут: «Распивала французский коньяк с немецкой овчаркой».
Она заметно хмелела, мысли мрачнели, становились несвязными.
- Совсем недавно он говорил: «Разве не видишь - Советская власть рушится...» Апокрифическая картина: летают железные птицы, терзают человеческие тела. Грядет архангел с огненным мечом... Красная Армия бежит, и неизвестно, где остановится. За Окой? За Волгой? За Уральским хребтом? Зачем нам, будто осенним листьям, сорванным с ветки, нестись по ветру неизвестно куда... Ах, как он просчитался, этот лауреат, орденоносец, депутат... Думаете, не вижу, как смотрят на меня ваши огромные глаза? Презираете? Да? Ну и презирайте, черт с вами... Разрешаю. Знаете, кого вы мне напоминаете? Катерину из «Грозы». Только вы даже мужу не решитесь изменить и делаете вид, что не замечаете, как этот ваш агроном Карлов ест вас глазами... Впрочем, он такой же агроном и такой же Карлов, как я непорочная дева Мария, и вы, голубушка, это знаете не хуже меня. Но... ваша любимая реплика: «...я другому отдана и буду век ему верна». Что, не так? Я вас насквозь вижу. Ну ладно, выпьем, Вера, выпьем тут, на том свете не дадут. Ну, а если и дадут, выпьем там и выпьем тут.
Что она болтает? С двух рюмок совсем пьяная. А если услышат там, в палате?
- Ага, испугались! Не бойтесь, не выдам, доносчица - это не мое амплуа.
- Вы лучше скажите подробнее, что слышали о наших. Вы говорили что-то о Коневе? Ведь на фронте под городом тихо.
- Тихо? Верно. Красная Армия наступает от Москвы и лупит их в хвост и в гриву. А части этого Конева где-то тут недалеко. Они висят как дамоклов меч, и когда он на них обрушится, не знают. Из-за этого нервничают. За русских «языков» кресты дают. Оплата сдельная: за «языка» - железный крест. Тысячелетняя империя до Урала, а сами трясутся, как овечий хвост... Ха-ха-ха! Скорее бы их уже по...
Она смачно, со вкусом произнесла солдатское ругательство. Простыня в это мгновение взметнулась. За ней стоял Домка, очень внушительный в своем больничном одеянии. Из-за его спины торчали Сталькины лохмы.
- Мама, нам пора спать, - твердо произнес он и даже не попросил, а просто приказал Ланской: - Забирайте вашу бутылку и уходите.
Гостья убралась. Мы легли. Ой, не надо мне было все-таки пить этот коньяк! Такая тоска, такой страх вдруг овладели мной. Страх - это понятно. Это чувство физиологическое... Как мысли путаются... О чем я?. Да, о страхе... Когда какой-нибудь там автор, желая возвысить своего героя, пишет: «Он не знал, что такое страх», - он же безбожно врет, этот автор. Это мы, медики, знаем. Страх, так же как и боль, естественная защитная функция человека. Это сигнал о грозящей опасности. Человек без страха - калека, урод...
...Как стучит в висках, и комната будто хочет из-под меня выскользнуть. Нет, нет, не выскользнешь, хотя пить, конечно, не надо. Ну ничего, выпила и выпила. Хирург должен быть немножко пьяница. Кто это сказал. Да, конечно, Кайранский. Вот был хирург... Так о чем же я?.. Ах да, о страхе Вот Василий сказал сегодня: «Снаряды ложатся близко». Сказал спокойно, но я-то знаю: у него воля, и он виду не подает. А я? Чего мне скрывать, мне сегодня страшно. Я трусиха, я даже мышей боюсь... Ой как мне сейчас страшно и за себя, и за ребят, и за весь наш госпиталь! За всех я отвечаю... И почему именно на меня, на слабую, неопытную женщину, все это навалилось? Всю жизнь терпеть не могла и не умела чем-нибудь руководить. Даже детьми... Эта Кира что-то там болтала о Василии. Неужели она что-нибудь заметила? А что можно было заметить? Фу, какая мура лезет в голову... Так о чем же я? Ах да, о страхе. Так вот мне сегодня очень страшно, дорогие товарищи.
6
Утром, еще до обхода, Мария Григорьевна решительно взяла меня за руку и отвела в свои «каменные пещеры». Так называют у нас бетонную каморку с железной дверью, построенную для хранения противопожарных инструментов и приспособленную теперь под кладовую. На металлической этой двери с некоторых пор висит у нее огромный замок, но «алмазов» за этой дверью в пещере оказалось так мало, что не было смысла их пересчитывать: четыре ящика слежавшихся комьями макарон, куль крупы, полкуля траченного мышами гороху да еще мешок горелого зерна, который наши женщины приволокли на санках с уничтоженной немцами мельницы.
Все это у Марии Григорьевны взвешено, проверено, разложено по дням из расчета на наличный состав едоков.
- Хватит на неделю. Как будем, Вера Николаевна?
Как она постарела! Сухое лицо совсем осунулось. Великомученица со старой иконы. Мелкие, незаметные морщинки углубились. Теперь они как трещины. Только глаза те же - строгие, блестящие. Ну что ты на меня смотришь, умница? Ты же во много раз расчетливее, опытнее меня.
- С Василием Харитоновичем советовались?
- А как же! Он и сказал, что надо на неделю растянуть.
- На неделю?
- Он сказал - на семь дней.
- А дальше?
- Говорит, наши придут - выручат.
- Ну, ему лучше знать.
- «А если не придут?» - спросила я его, а он улыбнулся и говорит: «Тогда раскиньте карты, погадайте, что вам карты скажут...»
- Зачем же вы меня сюда привели, Мария Григорьевна?
- Тяжко ж, Вера Николаевна. Люди на глазах тают, ропщут. Чирьи-то пошли! Вон Васька Власов как гриб мухомор красный был, а сейчас ни сесть, ни лечь не может, сами знаете...
- Может быть, пойти все-таки попросить у немцев? - неуверенно сказала я. - Мы ж у них на учете в комендатуре. Сама на карте у коменданта наш госпиталь видела. Может, все-таки что-то дадут, а?
- С ума ты сошла, Вера Николаевна! - вскрикнула собеседница, в первый раз употребив в разговоре со мной «ты». - Не пустим мы тебя. К ним идти... Сейчас, когда наши их бьют... Они ж каждый день теперь расстрелянных машинами, как дрова, за город гонят, - Встала и даже руки раскинула. - Не пустим, думать не смей...
- А наши-то подоспеют? Как вы полагаете, Мария Григорьевна?
- Василий Харитонович говорит, - выручат. Он военный, ему лучше знать.
- Ну, а если не выручат?
- Ох, об этом, Вера Николаевна, лучше и не думать. Не придут - что ж, кликнем клич: «Спасайтесь, кто может». Ходячие расползутся, лежачих на закорках понесем. Ну, а которые тяжелые, те что ж, те останутся.
- Одни?
Мария Григорьевна даже отпрянула от меня.
- Как одни? А мы? Нас с ними. Вера Николаевна, одна веревочка связала. Считаю я, эту веревку никому не разорвать. - И добавила: - Детишков ваших да Раиску добрые люди по общежитиям разберут, спрячут.
И как все это у нее, у старой отбельщицы с «Большевички», просто, естественно. «Одна веревочка связала». Да, да, наверное, и я бы пришла к такому выводу. Но сколько бы у меня было при этом сомнений, колебаний, опасений, терзаний. А тут все ясно. «Детишков добрые люди разберут» - и устранена сама возможность малодушия или подлости.
- Так что ж, на семь дней поделю? Ведь и так в супе горошина горошине кукиш кажет. - Очевидно, только этот вопрос и оставался у нее нерешенным.
- Хорошо, делите на неделю, - подтвердила я и стала убеждать себя: придут, придут, не могут не прийти.
Вышла из кладовой в палаты, и сразу шибанул в нос густой и холодный воздух, в котором кислороду так мало, что крохотное пламя коптит в плошках. Увидела всех - и сжалось сердце. На семь дней... Выдержат ли они, больные и истощенные? Они вон и сейчас движутся вяло, медленно, как сонные мухи. Только светятся в полутьме огромные округлившиеся глаза.
Бреду к Василию Харитоновичу. Присаживаюсь на его койку.
- Ну что, доктор Вера, нос повесила?
- Вы откуда взяли, что нас освободят через семь дней?
- Как откуда? Мария Григорьевна вчера гадала. Говорит, скорые хлопоты, исполнение желаний. Говорит, пиковому королю приходится плохо, а мне вышла дальняя дорога и трефовый интерес. - Он говорил серьезно, а глаза его, тоже ставшие из узких круглыми, смеются. Смеются и очень напоминают в это мгновение твои, Семен, всегда насмешливые глаза. Впрочем, какие у тебя сейчас глаза, сохранил ли ты свой юмор - не знаю. Вряд ли. Иногда вот так задумываюсь о тебе, и родится страшное сомнение: жив ли ты? Может быть, тебя уже и нет, а я вот по привычке разговариваю с тобой, как с живым, советуюсь, лезу к тебе со своей болтовней... Эта мысль последнее время приходит все чаще. Но я ее гоню, я не даю себе об этом думать, - нервы-то, они у меня и так в лохмотья истрепаны. А они, нервы мои, нужны, и не только мне...
Так вот, Семен, я, кажется, тебе еще не рассказывала, гадание на картах - маленькая слабость нашей суровой Марии Григорьевны. Мне она старается с картами не попадаться, но от клиентуры у нее отбою нет. Я смотрела на это сквозь пальцы, - чем бы дитя не тешилось, - и карты эти незаметно вошли в наш лечебный обиход. Стоит мне скрыться в свой «зашкафник», только и слышишь: «Мария Григорьевна, раскинь колоду...», «Начальник, гадани на счастье...», «Товарищ Фельдъегерева, какое у него счастье, гадай на меня!»
- А как же тебя определить, - серьезно спрашивает Мария Григорьевна, надевая очки и смотря на просителя.
- Что ж, не видишь, - бубновый король. Я ведь человек казенный.
- Какой он король, червонная шестерка! - слышится откуда-то.
- Но-но, вот дам по уху - сразу все четыре туза из глаз выскочат!
А Мария Григорьевна уже оседлала нос своими темными очками и раскладывает на бубнового короля. Карты у нее добрые, сообразительные. Они ведут себя так, что бубновый король остается доволен: тут краля на сердце, там длинная дорога. И всяческие козни от других королей, которые, однако, все в конце концов преодолеваются. Словом, бубновый король приободряется и, получив в свой адрес порцию соленых шуток, спокойно спит в эту ночь.
- Вы что же, уж и картам верить стали? - спросила я Василия Харитоновича.
- Ну, а как же не верить? - серьезным тоном ответил он. - Вон они мне что предсказали: и удачный марьяж, и долгую жизнь, и детей кучу. Не хочешь, да поверишь. Человек - он хитрое существо, он, доктор Вера, тянется к счастью, как бы ему лихо ни приходилось, как былинка к солнцу. Сколько ее ни топчи, все тянется.
Ну чего, чего он на меня так смотрит? По-моему, это нечестно, - так вот смотреть в глаза.
- Но семь дней. Вы верите в эти семь дней? Не восемь, не десять, не пятнадцать.
- Карты. - Он покорно разводит руками. - Ну что мы, материалисты, можем противопоставить предсказаниям волшебных карт Марии Григорьевны? С легкой руки Ланской мы зовем ее Марфа Посадница. А ведь неплохо. Эту историческую старуху легко представить себе в образе нашей Марии Григорьевны и с картами в руках.
- Довольно шутить, - начинаю сердиться я, видя, что опять от меня что-то скрывают, прячут. - Мария Григорьевна разложила еду на семь дней. Понимаете, что это значит?
- Еды хватит, - произносит он, вдруг став серьезным. - Еды хватит... Если, конечно, будет кому ее есть.
- Думаете, они могут нас при отступлении..
- Думаю о том, как этого избежать, понимаете?.. И - ни слова об этом никому.
Я было уже совсем пошла, но вдруг вспомнила:
- Ланская говорила о каком-то генерале Коневе. Они разведали, что он будто бы пришел сюда со своими войсками, хотя еще и не действует.
Сухохлебов сразу заинтересовался. Даже сел на койке.
- У них разведка неплохо поставлена... Стало быть, здесь появился Конев? Иван Конев? Интересно. Я его знаю - наш дальневосточник. Боевой генерал... Так, по их сведениям, он здесь?.. Так, так, так. Интересно, сугубо интересно...
Вечером появился Прусак. Зашел с солдатом. Солдата не оставил у двери, как это он делал всегда, а велел сопровождать. Вдвоем они прошлись по палатам, сунулись в предоперационную, в хирургическую. Они двигались медленно. Прусак что-то подсчитывал. Сегодня он был главным среди немцев и всячески давал это понять. Нос его дергался больше обыкновенного, и рыжие усики торчали вверх. Он, снисходительно глядя на меня, начал стряпать свой винегрет из славянских слов:
- Пани докторка мает... имеет... да, так, имеет инвентарь... опись, список?
Я поняла. Описи инвентаря мы не имеем. Зачем? Перед кем отчитываться? Так и сказала ему. Они опять потащились по палатам, подсчитывая койки, тумбочки, биксы. Наш реконструированный автоклав привлек их внимание. Он ведь стал передвижным. Его можно нагревать дровами. Это, кажется, особенно им понравилось.
Потом Прусак усадил за стол солдата и, величественно расхаживая, диктовал ему опись инвентаря. Под описью он заставил меня расписаться...
- Пани докторка... то сие... это... ценный трофей германской армии... Вы хранитель. Отвечайте наличие... целость...
Так вот оно как обернулась фраза этого фон барона: «Не все германские раненые лежат на таких койках». Уж не хотят ли они все это у нас забрать? А ведь, кажется, так.
Прусак наконец удалился, еще раз предупредив на своем винегрете, что «пани докторка» отвечает головой за каждый ценный трофей. Ну, милые мои, если я в первый же день нарушила ваш «бефель» и ничего со мной не случилось, то и инвентаря нашего вам не видать. Надо что-то придумать...
Едва немцы убрались, бросилась к Василию Харитоновичу за советом. Удивительный человек: он как бы делит себя на множество частей, раздает всем и очень мало оставляет для себя.
Его койку уже окружали, и в центре этого круга он с Домной играл в шахматы. Оба сидели нахохленные, задумчивые. Домка от напряжения сопел. Его противник тер заросший подбородок. Зрители молчаливо переглядывались, перешептывались, должно быть, не решаясь оглашать так и лезущие на язык советы.
- Наша Вера пришла, - предупредила Сталина. Они с Райкой были, разумеется, тут. Их головенки нависали над самой доской.
Василий Харитонович поднял голову.
- Что-нибудь срочное? Нет? Тогда попросим подождать. Борьба гигантов в самом разгаре: орел против льва. - И, сделав какой-то ход, торжествующе произнес: - А что вы на это скажете, Дамир Семенович?
Домка засопел еще громче. Я повернулась и ушла. Всем, всем раздает себя, а вот мне ничего не остается... Семь дней, всего семь дней. Но откуда он все-таки знает, что именно семь дней? Может быть, утешает, как маленьких: потерпите, мол, потерпите немножко, сейчас мама придет.
Задержалась возле одного из тех, кому мы вчера вскрыли шов. Что такое? Мечется в жару. Почему? Ведь мы лишь осторожно нарушили верхнюю грануляцию. И вот жар. Попробовала рукой - наверняка под сорок. Подбородок, грудь будто клюквой осыпаны. В общем-то картина, очень похожая на тиф. Но почему так быстро? Разве тиф может вспыхнуть вот так?.. Но что-то, во всяком случае, серьезное... Тиф! А что мудреного, когда люди голодают. Организмы ослаблены, все в состоянии крайнего истощения. Вспышка может мгновенно распространиться... Тиф? Гм-м... Только без паники, Верка, только спокойно.
- Тетя Феня,- обратилась я к старухе, довязывавшей у столика маленький свитерок, - вот там, у Кокорева, температура. Грипп, должно быть. Давайте-ка перенесем койку в угол, там меньше дует.
- Побудить Антона?
- Нет, мы сами.
Перенесли койку. Кажется, наше Совинформбюро не получило при этом материалов для сообщений. Оно снова засело за вязание, замелькали спицы.
Потом прорвалась все-таки к Василию Харитоновичу. Рассказала об этой инвентаризации. Вот подлость-то - ни с чем не расстаются. Черта с два мы им что-нибудь отдадим. Не будут же они выдергивать койки из-под больных. К моему удивлению, он встревожился. Даже сел на кровати.
- Вы так ему и сказали?
- Нет, но так и скажу.
Мне показалось, что он вздохнул с облегчением.
- Вы так не скажете, доктор Вера. Им дай только формальный повод - и они мгновенно освободят койки испытанным нацистским способом. Лучше уж несколько дней мы поспим на тюфяках...
- Несколько дней? Вы в этом уверены?
- Да, уверен...
К этому он ничего не добавил, но я как-то сразу успокоилась. Впрочем, ночь все равно была испорчена. Тиф! А что, если и в самом деле тиф? И еще голод. Честно говоря, я представляла себе голод как-то по-другому. А в сущности, что это такое? Просто постоянное ощущение пустоты в желудке. Это то, что ты все время - и утром, и днем, и вечером - думаешь о еде. Даже ночью, даже во сне.
Когда девчонки и Феня, под командованием Марии Григорьевны, разносят еду в алюминиевых мисках, все взгляды жадно поворачиваются им вслед. А ведь сегодняшняя пища наша в лучшем случае ничем не пахнет, а если пахнет, то затхлостью, мышами. И все-таки ноздри у всех начинают раздуваться, и трудно преодолеть кружение головы.
Ну, ничего, на семь дней нас хватит. Но откуда он все-таки взял это - семь дней? И так обидно, что не удалось с ним по-настоящему поговорить.
Впрочем, дней-то осталось уже не семь, а шесть.
7
Сегодня публично казнили твоего отца, Семен, Ивана Аристарховича Наседкина, и еще какого-то рослого, дюжего человека, который так и не назвал себя. Их казнили на Восьмиугольной площади, перед зданием горкома, в двенадцать часов дня, и я видела, как это произошло. Эта страшная сцена еще живет во мне, и трудно собраться с мыслями.
Началось с того, что утром Прусак, эта усатая дрянь, заехал на мотоцикле предупредить, что весь наш инвентарь действительно изымается для немецкого госпиталя, и мы должны к вечеру подготовиться и сдать по списку все койки, тумбочки, биксы и, конечно, наш знаменитый автоклав. Потом он подал бумажку - это была повестка штадткомендатуры. Мне «шпитальлейтерин и шеф-артц цивильного госпиталя номер один» города Верхневолжска, предписывалось «оказать честь явиться к одиннадцати часам сорока минутам для присутствия при публичной казни главарей местных бандитов, осуществляемой по приговору военно-полевого суда...»
- Кто? Кого хотят казнить? - спросила я, ошеломленная приглашением.
- Пани докторка зрит своими очами, - ответил Прусак со скверной улыбочкой.
- Я не хочу. Не пойду... Мне некогда.
- То не есть приглашение, то есть приказ. - И, задвигав носом, он подкрутил усики.
Как только он убрался, я бросилась к Василию Харитоновичу. Тот стал очень серьезен. С инвентарем придется расстаться. Жизнь людей дороже, чем койки и тумбочки. Но об этом они тут побеспокоятся... А по этой повестке придется идти. Приказ коменданта - военный приказ. Может быть, фон Шонеберг как раз и хочет создать повод, чтобы расправиться со всеми нами. Нельзя давать ему такую возможность.
Как раз в это время кто-то из комендантских приехал за Ланской. Ее перевозили домой. Она предложила доехать с ней до центра города, но я, разумеется, отказалась. Жутко ехать на такое дело на их машине. Ланская не настаивала. Я уже знаю - эгоистка очень боится подорвать свою репутацию у немцев.
Словом, я двинулась пешком и не помню, как добрела до площади, кажется, не встретив по пути ни одного прохожего. Мертвый, совсем мертвый был город. Только военно-санитарные машины, забросанные сзади грязноватым снегом, вереницами и в одиночку тянулись по улицам и, не останавливаясь, не задерживаясь, бежали куда-то. На перекрестках, подняв воротники шинелей, надвинув пилотки на уши, зябли солдаты, совсем непохожие на тех подтянутых, сытых, крепких немцев, что недавно, самоуверенные и наглые, топали по городу.
Шесть дней, всего шесть дней! Продержаться меньше недели - вот об этом-то я и старалась думать, чтобы не думать о том, что предстояло увидеть. Я было решила - закрою глаза и не буду смотреть на это зверство, но потом передумала. Нет, нужно видеть, нужно запомнить. Такие вещи забывать нельзя...
Ну вот и здание горкома, где у них помещается гестапо. Перед подъездом вкопано два столба с перекладиной, как для качелей. Сверху на равном расстоянии три веревки, а под ними стоит обыкновенный военный грузовик. На нем три стула, обычные канцелярские стулья. Каждая веревка свисает к стулу. На площади толпятся люди, должно быть, согнанные сюда или вызванные, как я: стоят, дышат в ладони, подпрыгивают, греясь. И все это молча, не глядя на грузовик, не смотря друг на друга.
Влившись в толпу, я разглядела у подъезда кучку военных, и среди них толстого штадткоменданта с отечным лицом землистого цвета. В черной шинели, в высокой фуражке домиком, перехваченный поясом, он выглядел выше, крепче. Тут же, конечно, красовался фон Шонеберг, подтянутый, держащий в руках свои неизменные перчатки и поигрывающий ими. Среди военных виднелась высокая фигура Винокурова. Он стоял, втянув голову в плечи, точно бы старался умерить свой рост, стать менее заметным, а рядом с ним был какой-то тип в смушковой шапке и бекеше, обшитой серым барашком. Сытая морда. Полубачки. От этого типа несло чем-то дореволюционным, а вернее - дореволюционным, воспроизведенным в какой-нибудь пьесе. Я догадалась: бургомистр Всеволод Раздольский. И поразилась, как этот тип мог двадцать пять лет проработать преподавателем фехтования в спортивных клубах и незаметно просачиваться сквозь сети наших бесконечных анкет. И Ланская была уже тут, а в сторонке жался этот попик с бабьим именем, тоскливо оглядывался кругом и ожесточенно терзал мочалку своей бороденки."
Я так подробно восстанавливаю эту картину потому, что мне страшно подойти к главному. Но до того, как это страшное началось, случилось то, за что мне, наверное, придется держать ответ через шесть дней. Этот Шонеберг заметил, должно быть, мою белую косынку. Он навел на меня свое пенсне, заулыбался, прошел сквозь цепь солдат, разомкнувшуюся перед ним, направился прямо ко мне. Я даже присела, чтобы стать незаметной. Но люди молча расступились, и он оказался передо мной.
Он подошел и театрально раскланялся.
- О, доктор Трешникова! Прошу вас к нам... Эй, расступитесь!
Вообще-то у него тихий голос, но сейчас он говорил, как актер на сцене, и глаза его, цепкие, состоящие будто из одних зрачков, издевались надо мной из-за толстых круглых стекол пенсне.
- Нет, я не пойду, - вскрикнула я в страхе.
- Почему же? Ваше место среди достойнейших горожан.
Он переложил перчатки из правой руки в левую и взял меня под руку.
Сотни глаз смотрели на эту сцену. Мне было противно и страшно. Попыталась освободиться, но он крепко держал руку. Сладчайшая улыбка не сходила с лица. О, он отлично видел эти взгляды и понимал, что происходит у меня в душе! Явно издеваясь. он демонстрировал свое почтение.
- Такая прелестная женщина должна украсить наше общество.
С каким бы удовольствием я треснула по этой улыбающейся физиономии! Но госпиталь, но раненые, но дети... Я ведь не принадлежу себе.
- Вы что же. пренебрегаете нашей компанией? - Вежливая улыбка не прикрывала угрозу.
И я... я пошла с ним. Сквозь молчаливую толпу, сквозь цепь солдат, снова разомкнувшуюся перед нами. А офицеры скалились мне навстречу, черт их побери, штадткомендант козырял, а эта гадина Раздольский ощерил свои гнилые зубы, потянулся к моей руке.
- Наконец-то... Столько слышал о вас, но видеть не доводилось... Ручку, позвольте ручку... Несказанно рад.
В это мгновение я как бы видела себя глазами иззябших людей, что смотрели оттуда, с площади, и я презирала и ненавидела себя. Но что, что я могла сделать? У меня началась какая-то мелкая, отвратительная дрожь.
Но в этот момент все стихло. Взоры обратились к крытому грузовику, осторожно пробиравшемуся сквозь толпу.
Он остановился у подъезда. Выпрыгнувшие из него солдаты опустили подножку и встали по обе ее стороны. На площади стало так тихо, что я услышала, как шуршит поземка, неся под ногами сухой снег.
Первым спрыгнул на землю твой отец, Семен. Руки у него были заломлены назад и связаны, очутившись на тротуаре, он, сбычившись, щурясь от солнца, деловито оглядел виселицу, машину-эшафот, толпу. Взгляд его задержался на тех, кого отделяла от толпы цепь солдат, на военных, на «достойных горожанах», на бургомистре, Винокурове и на мгновение, только на мгновение, остановился на мне. И, честное слово, Семен, мне показалось, что твой отец усмехнулся. Усмехнулся одними глазами, а вернее - всем лицом, кроме губ, как это умеешь делать и ты...
Иван Аристархович был тих, сосредоточен. Он осторожно, боком сошел по ступенькам лесенки, глядя куда-то внутрь себя и будто обдумывая каждый шаг. Из бодрого, крепкого еще мужчины он превратился в старика. Третьего, незнакомого, в коричневой вельветовой толстовке, похожей на пижаму, и в таких же штанах, покрывавших военные сапоги, двое солдат тащили под руки. Еще один солдат шел сзади, наведя на него автомат. Этот третий был широкоплеч, прям. Шапки на нем не было, и ветер трепал его волосы, сбрасывая их на избитое, пестрое от синяков лицо.
Так, между шеренгами солдат, по очереди они и поднялись на эшафот. Потом Шонеберг читал что-то сначала по-немецки, потом по-русски. Наверное, приговор. Он стоял спиной к нам. Шуршала поземка. Из русского текста донеслись лишь отдельные слова: «... шайка бандитов...», «главари», «карающая рука правосудия» и, наконец: «...казнь через повешение». При этих последних словах отец твой усмехнулся всем лицом. Иван Аристархович, видимо, их и не слышал, углубленный в себя. Неизвестный, весь вид которого говорил, что он военный, презрительно улыбнулся, улыбнулся криво, одной щекой. Другая представляла сплошной синяк. И он сказал не очень громко, но так. что я хорошо разобрала:
- Мы еще вас вешать будем... В Берлине фонарей не хватит... - И вдруг захохотал, отчетливо выделяя в своем смехе каждое «ха» от последующего... Ну конечно же, он военный. В голосе, даже в смехе у него что-то такое командирское, сухохлебовское.
Офицеры и «достойнейшие горожане» сразу засуетились. Здоровенный солдат в безрукавке на меху, откормленный, очень сильный, которому, по-видимому, предстояло выполнять роль палача, размахнувшись, равнодушно ударил незнакомца по лицу. Фон Шонеберг тотчас же его одернул. Публичное избиение приговоренных, по-видимому, не входило в программу страшного спектакля. Наоборот, было очевидно, что ему стремились придать видимость законности. Кто-то подсадил на машину попика. Он не то чтобы упирался, но был какой-то весь неживой, вялый, отсутствующий. Шонеберг подтолкнул его в спину. Тот вынул откуда-то из-за пазухи, что ли, крест и двинулся к тому, к военному, которого поставили перед дальним стулом. Тот только усмехнулся. Твой отец, стоящий посредине, мотнул головой, будто отмахиваясь от назойливого комара. Тогда попик, ступая осторожно, словно боясь, что доски машины могут под ним провалиться, подошел к Ивану Аристарховичу. Поднял крест. Что-то забормотал.
Наседкин слушал точно во сне. Потом будто бы разом вырвался из каких-то своих душевных глубин, куда был с головою погружен, с удивлением осмотрел попика. И вдруг плюнул ему в физиономию. И снова сник, уйдя в себя. В толпе ахнули, зашумели. Инсценировка срывалась.
Шонеберг что-то закричал. Он торопил палача. Военный сам легким движением поднялся на стул. Иван Аристархович сделал это аккуратно, осторожно. боясь оскользнуться и упасть. И тут случилось неожиданное. Как - я не знаю, но Петр Павлович освободил руки от веревок. Сделал резкое движение и оттолкнул солдата. Потом схватил стул за спинку, отскочил с ним в угол кузова и, подняв стул, закричал:
- Подойди, подойди только, гитлеровская падаль, - череп размозжу!
Это было так неожиданно, что дюжий солдат отпрянул, а Петр Павлович, пользуясь замешательством, закричал в толпу:
- Товарищи, граждане! Последние дни изверги здесь лютуют. Все! Кончилось их время!
Солдат бросился к нему с автоматом, но стрелять в приговоренного к повешению, должно быть, не полагалось. Занесенный стул не давал ему приблизиться к старику. Петр Павлович действительно был страшен в этом неистовом своем гневе: лицо покраснело, вены на висках вздулись, глаза бешено горели. Пользуясь общим замешательством, он злорадно прокричал:
- А, что, слабо? В штаны кладете?.. Нет такой силы на свете, которая бы нас сломила, слышите, гады? Нате вам...
И вместе с крепким ругательством вниз, в нашу группу, полетел стул, угодивший в Раздольского. Штадткомендант что-то прокричал бабьим голосом. Раздалась очередь из автомата. Человек в толстовке рухнул, как сраженный молнией дуб. Покачавшись, как бы стараясь устоять, осел Иван Аристархович. Но Петр Павлович был еще жив.
- Эй, скажите внукам, что их дед...
Он не договорил, следующая очередь прошила его. И тут что-то темное мелькнуло в воздухе. По ту сторону машин раздался взрыв. Потом другой. Не понимая, что произошло, я бросилась бежать и, когда на углу оглянулась, увидела, как неярким пламенем полыхает машина. На снегу чернели чьи-то тела. Чьи - я не разглядела. Страх понес меня дальше по главной улице, и я остановилась лишь у городского сада, когда перехватило дыхание...
Тут мне почудилось, будто за рекой бьют пушки: выстрел - разрыв, выстрел - разрыв. Нет, конечно, это кровь стучала в висках. Только уже приближаясь к Больничному городку, я несколько успокоилась и поняла, что произошло в конце этого страшного спектакля. Кто-то бросил через толпу гранаты... Гранаты... Опять гранаты. И еще я поняла сегодня, Семен, с запозданием на столько лет поняла, каким человеком был твой отец, старый слесарь с Первомайки, любивший к месту и не к месту сказать, что он «рабочая кость»...
Дети выслушали мой рассказ о гибели деда без единой слезинки. Вот они и сейчас сидят за шкафами, тихие, взволнованные, но глаза сухи.
Вернувшись, конечно же, бросилась сразу к Сухохлебову. Он откуда-то все уже знал.
Резким движением он сел на койке, положил мне на плечи руки.
- Мужайтесь, Вера.
Вера! Впервые он не прибавил к имени слово «доктор». Я покраснела, как девчонка, и, не умея этого даже скрыть, пробормотала:
- Я мужаюсь, Василий Харитонович!
- А меня, между прочим, друзья зовут просто Василием, - сказал он.- Ведь вы мне друг, Вера?
- Друг, Василий.
И когда к койке подошел кто-то из наших, мы оба смутились.
Семен, не вини меня. Я только женщина, еще не старая, одинокая женщина. Да и что особенного в том, что мы назвали друг друга по именам? Мы ведь действительно друзья... Ну и... сердце - что ж, оно ведь не только орган для перекачки крови...
8
Ну, а закончился этот ужасный день происшествием пока что курьезным. Однако неизвестно, как оно еще для нас повернется. Вечером Прусак с командой прибыл отбирать наш инвентарь. Василий Харитонович с Марией Григорьевной тут без меня уже покомандовали. Все наши койки были сложены, и весь инвентарь уже лежал в первой палате, возле дверей. Мне осталось лишь вместе с Домной сложить нашу полуторную кровать и расстаться со столиком. Сделали мы это без особых сожалений. Постелила себе на полу на тюфяке и прилегла отдохнуть.
К Прусаку прикомандировала Марию Григорьевну. Они там стучали койками, и вдруг влетает за наши шкафы тетя Феня, рассыпая словесный горошек:
- Вера Николаевна, матушка, бежит Прусак-то! И койки, басурман, не взял.
Смотрю на нее, ничего не понимаю. И выясняется: дошли они до того больного, у которого с утра сыпь.
- То есть тиф? - спрашивает Прусак, со страхом глядя на его воспаленное, точно бы клюквой осыпанное лицо, шею, грудь.
Тетя Феня проста-проста, а тут сообразила, что он тифа боится.
- Да, батюшка, тиф, он и есть. Послал нам господь новое наказание. Тут и еще имеются...
- А Прусак-то как от койки отскочит, кричит солдатам: «Вег, вег», - что-то им там еще. Теперь они у двери топчутся, вы уж им про тиф подтвердите. Уйдут, истинный бог, уйдут!
Едва я успела подняться и надеть халат, как отлетела простыня и появился Прусак. Ох, этот его нос! Ну до чего же он выразителен. От страха он просто дергается.
- Докторка Трешников, - застрекотал он на своей сборной славянской тарабарщине, - тифус!
- Это еще не известно, - сказала я осторожно.- Это мы выясним через три дня, когда болезнь определится.
Прусак зачастил по-немецки. Я поняла только: «руссише швайн» и потом «карантин». С криком «карантин» он устремился к выходу, спасаясь будто от огня и гоня перед собою своих солдат, которым слово «тифус» было, как видно, тоже известно.
Словом, койки остались у нас. Сейчас больные их разбирают и возвращают на прежние места. Все ликуют: хорошо, прекрасно, здорово надули немцев! А у меня на душе беспокойно. Ну как тут не пойти к Сухохлебову! Он уже все, конечно, знал и к происшествию, как мне сначала показалось, отнесся философски.
- Хуже, думаю, от этого не будет. Доспим, по крайней мере, свой госпитальный срок на койках. И барон, вероятно, лишит нас своего общества. Он очень брезгливый господин. Но мы с вами, Вера, ничего от этого не потеряем... Это действительно крапивница, а не сыпной тиф? Они так похожи?
- В этой стадии похожи. Я и сама сначала подумала - тиф. Но более опытный врач, конечно, имея показания, легко определит...
- Будем надеяться, что опытному немецкому врачу не до нас...
Как хорошо рядом с этим человеком! Вот уткнуть бы сейчас лицо ему в плечо и хоть несколько минут ни о чем не думать, зная, что этот человек подумает и решит за тебя.
И вдруг:
- Товарищ полковник, старшина Мудрик прибыл для доклада.
Володя! Ну конечно же, он. Но какой-то совершенно преображенный. Исчезла каракулевая растительность. Только по голосу, пожалуй, и можно узнать в этом совсем молодом парне Мудрика, к которому мы привыкли. Ну, да еще, пожалуй, потому, что белки глаз у него белеют, как у лошади.
- Доктор, масса извинений, но мне с полковником тет на тет.
- Василий, мне уйти?
Черные глаза Мудрика удивленно сощурились.
- Докладывайте, Мудрик, - твердо произносит Сухохлебов.
- Я о сегодняшнем фейерверке.
- Я знаю, докладывайте. Вера тоже все знает.
- Еще бы... Эх, доктор Вера, этот штадткомендант должен за вас своему немецкому богу молиться. Кабы вы рядом с ним не стояли, залепил бы я ему такой флик-фляк, что его лопатой бы потом собирали. Видели? Как, неплохой аттракцион? Школьно сработано? - И вдруг, сразу посерьезнев и став от этого старше, как-то очень хорошо сказал: - Умер наш комиссар Синицын. Избитого, связанного, они его привели, орлом стоял. Орлом и умер...
Так вот кто был этот человек в толстовке... А ведь и верно, что-то в нем орлиное... Вот кто бросил гранаты. Постойте, постойте, а эта ночь под рождество? Слова Ланской о бородаче, которого она видела в окне... «Есть в народе слух ужасный: говорят, что каждый год...»
- Так тогда в их клуб тоже вы?
- Говорить? - спрашивает Мудрик Василия.
- Говорите.
- Каюсь, я. Было такое дело. Товарищ полковник, разрешите общнуться с народом? Фю-фю-фью-у!
Но Антонина уже стояла в дверях. Она даже была в пальто. Косилась на меня ревнивым взглядом. Мудрик потоптался, помедлил, потом резко повернулся.
- Пошли, Антон. Наша с тобой арена тринадцать метров в диаметре... Такая уж у меня судьба - всю жизнь заполнять паузы.
Они ушли, и мне почему-то стало жаль Мудрика.
- Что с ним, Василий?
Сухохлебов улыбнулся, улыбнулся глазами, лицом, морщинками, а рот остался неподвижным. Эта странная улыбка как-то очень его молодит. Густо обросший платиновой щетиной, он старик и старик.
Но вот улыбнется - и сквозь эту его запущенную внешность, как сквозь грим, вдруг проглянет какой-то другой, неизвестный мне, крепкий и сильный человек. Последние дни он чувствует себя лучше, боли в позвоночнике прекратились, ходит прямо.
А вот сейчас улыбнулся - и хоть из госпиталя выписывай.
- Что с Мудриком?
- А вы, Вера, не догадываетесь? - Глаза смотрели хитро. - Вот и видно, что вы не психиатр, а хирург. А ведь хирурги - народ грубый, им бы только скальпелем раз-раз - и сердце на ладони.
- Нет, серьезно!.. Он сказал, заполняет какие-то там паузы...
- Они ведь с Антониной циркачи. Это их жаргон. А насчет пауз - есть такие артисты-неудачники. Их выпускают на арену, чтобы публика не скучала. Пока меняют реквизит. Если повезет, они заменяют не вышедшего на работу артиста... Я вот тоже сейчас в некотором роде заполняю паузы.
- Вы - неудачник?
- В известном смысле... И по своей вине. Только по своей вине.
Он заполняет паузы! Какая чепуха! Даже когда его принесли, неподвижного, сломленного страшной контузией, когда у него живы были одни глаза, он все равно сразу же стал душой всего нашего госпиталя... Паузы... О каких паузах речь? В такой жизни вообще не бывает пауз.
Но высказать всего этого я ему не успела. В соседней палате возбужденно заговорили. Какая-то женщина вскрикнула рыдающим голосом. Что там еще? Но уже бежала взволнованная Антонина.
- Не выпускают.
- Кто? Кого?
- Там наверху. Они повесили какой-то желтый флаг. Часовой ходит, уставил автомат: «цурюк» - и все.
Мудрик стоял у нее за спиной.
- Точно, - подтвердил он.
Василий подтянулся, сосредоточился.
- Значит, заперли, - задумчиво, будто взвешивая происшедшее, произнес он.- Желтый флаг - это строгий карантин. Мы под карантином. Это, конечно, по поводу сыпного тифа.- Он задумался. - Тифа нет, это ясно. Это ведь легко доказывается? Так, Вера?
Я кивнула. Любой настоящий медицинский эксперт подтвердит. Ах, черт, угораздило меня дать Прусаку такой повод. И все тетя Феня - «боятся», «страшатся», «бегут». Вот, пожалуйста, сбежали.
- Допустим, нам удастся пригласить того, ну, которого вы зовете Толстолобиком, если он, конечно, еще уцелел... Докажем, что ложная тревога, - продолжал все тем же взвешивающим тоном Василий.- Но надо ли? Немецкая армия нас сейчас охраняет. Может быть, это нам выгодно?
- Выгодно, пока он к нам газ не пустил, - ворвался в разговор Мудрик. - Помните тот госпиталь, который мы под Великими Луками отбили? Ни одного живого, одни жмурики. Помнишь, Антон?
Что это? Огромная наша Антонина плачет?
- Это них запросто. Тиф, а раз так, они, вон как тетка Федосья говорит, «рассердился на блох - и всю шубу в печь». - Мудрик усмехнулся, искоса, по-лошадиному сверкнув белками. - Товарищ полковник, прикажите часового снять. Это раз плюнуть, про мой ход они не знают... Антон, прекрати, не разводи сырость.
В палате такая тишина, что слышно, как из рукомойника каплет вода. Все затихли, слушают. Понимают: сейчас решается наша судьба. И как хорошо, что решает ее этот умный, спокойный, опытный человек, а не я, ничего не понимающая в этих делах.
- Разрешите? Момент, бац - и нет старушки.
- Не разрешаю, - произносит Василий и продолжает вслух обсуждать. - Разбегаться? Нет, не получится. Лежачих не унести. Много женщин. Дети... Нет, это не годится. - Он думает, и сухое лицо его становится все спокойнее. - Тут этот второй выход через завал, ну, по которому вы лазите, Мудрик.
- Я-то пролезаю, а Антон вон и кулака не просунет.
- А если завал разобрать? Расчистить, сколько можно... на всякий случай. Мудрик, разведайте и доложите...
- Есть разведать, товарищ полковник, а только бы...
- Исполняйте.
Ну, ясно уж, все, кто может ходить, собрались. Известие о новой неожиданной опасности само согнало их к койке Василия. Как-то говорили, что я здесь вроде пчелиной матки в улье. Нет, матка - это он. К нему все тянутся в трудную минуту. В его спокойствии ищут собственного успокоения. Ему известны все опасности, а он вон само спокойствие. Нет, я не хочу быть хуже, чем он, я тоже чего-то стою.
- А зачем они будут травить нас газом? - говорю я громко, явно адресуясь не к Василию, а к «ним». Я вообще в последнее время научилась искусству говорить для «них». Слова, подслушанные в разговоре,- самые убедительные. Я это по себе знаю и потому продолжаю так же громко: - Зачем им травить нас газом? Мой отец охотник, он говорит: если волк сыт, он и на барана не бросится.
- То волк, Вера Николаевна, а вот хорь - тот из курятника не выйдет, пока всех кур не передушит,- говорит Дроздов, хмуря свои черные кустистые брови. - Тот горло курице перекусит и бросит, перекусит и бросит. Фашисты - хори.
- Они-то хори, а мы-то не куры, - говорит Василий. - Давайте всех мужчин, всех, кто на ногах стоит, сюда. Совет держать будем...
Теперь они держат совет там, в дальней палате. А я вдруг очутилась без дела. Сижу у себя в «зашкафнике», слушаю доносящиеся издали голоса, звучит бас Василия: бу-бу-бу... Василий, он - как ты, Семен: кажется, все-то он знает, на все у него ответ. Хорошо, когда рядом такой человек...
9
Там, вдали, вокруг Сухохлебова, еще шумели, а я, к стыду своему, задремала и потом незаметно уснула, да так, как давно уже не спала. И снилось - - ты, Семен, здесь, с нами, веселый, насмешливый, обычный. Ходишь тут между коек, люди вокруг тебя. Ты обо всех думаешь, все тебя слушаются, улыбаются в ответ. Только это уже не тут, в наших подвалах, а где-то там, наверху, в хирургическом корпусе, который сейчас лежит в развалинах. Бело, голубые стены, кафель, никель. И дети почему-то с нами. И мне хорошо, хорошо.
Проснулась оттого, что кто-то негромко позвал:
- Вера.
Открыла глаза – темно, тихо. Обычные наши ночные звуки. И вода из рукомойника - кап-кап. Померещилось, что ли? И снова вдруг:
- Вера.
Это голос Сухохлебова. Он где-то тут, около наших шкафов. Вскочила, - оказывается, спала прямо в халате и даже шапочке, только ботинки кто-то с меня снял, и они стояли у стола.
- Вера, вы слышите?
И тут я действительно услышала негромкий, глухой рокот, - как будто где-то, очень еще далеко, грохотала гроза, будто гром ходил, перекатываясь по горизонту, раскат за раскатом, как это бывает в грозовые июльские ночи. Гроза зимой?
Я выбежала из «зашкафника». Василий стоял у самой двери в больничном халате из синей вытертой байки и, вытянув шею, прислушивался. Я остолбенела: слезы бежали по его лицу, путались в серой растительности. Заметив, вернее, услышав меня, он, не отрывая от двери уха, протянул ко мне руки, потом обнял меня за плечи, встряхнул.
- Вера! Это же наши... Артиллерийская подготовка. Начали точно в пять ноль-ноль.
Руки его так и оставались у меня на плечах. Мы стояли, слушали. Где-то далеко, но густо и дружно били пушки. Теперь, когда я прислушалась, в сплошном гуле можно уже различить голоса разных калибров.
- Началось, Вера. Началось! Понимаешь ты это? Началось! - говорил Сухохлебов, не замечая, что называл меня на «ты». - Дождались... Идут! Идут, родные!
Он так был полон этими долетавшими издали звуками, что, должно быть, не замечал, что руки его обнимают меня и как у него текут слезы. Он вообще ничего не замечал в это мгновение... Нет, нельзя, чтобы таким его видели. Я взяла его под руку, привела к себе. Не тревожа ребят, мы осторожно присели на краю кровати.
- Карту этого района я знаю по памяти. Начали где-то за элеватором, километрах в десяти... Обрабатывают позиции противника на реке... Густо бьют. Должно быть, с боеприпасами у нас неплохо... Но он еще не отвечает... Слышишь? Слушай, слушай...
Что слушать? Этот раскатистый гул? Что можно в нем различить? С меня довольно и того, что я знаю - бьют наши пушки, рвутся наши снаряды, говорит наша Красная Армия. Мы слышим ее голос. Родной голос... Мамочки, неужели кончается этот кошмар?.. Ну чего ты плачешь, чего плачешь, дура? Смеяться надо, а у тебя слезы... Но Василий не видит этих моих слез. Он весь слух, весь захвачен звуками канонады.
- Стихает... Пошли? Ага, вот немцы! Но у них жиденько, жиденько,- бормочет он как завороженный, и его глаза покрыты прозрачной глицериновой пленкой. - Ага, ага, авиация! Слышишь, Вера, редкие разрывы? Лупят по их тылам. Отсекают резервы... Вера, ты знаешь, что значит, когда бьют по тылам?
Я ничего не знаю. Какое мне дело, как сейчас там бьют! Я слышу голос Красной Армии. Он звучит могуче. Этого с меня достаточно. Лишь бы не смолк этот голос. Лишь бы там, на реке, у наших все было хорошо.
- Бьют по тылам, - это значит: мы двинулись вперед. Это значит: передовые батальоны уже форсировали реку. - Сухохлебов деловито посмотрел на свои большие ручные часы, которые он почему-то носит так, что циферблат всегда находится с тыльной стороны руки. - Ух, Верка, это же здорово! - И он хлопает меня ладонью по плечу.
Нет, Васькой я его, конечно, назвать не решилась бы. Но во всем этом было что-то такое задорное, комсомольское, молодое, что ни за «Верку», ни за этот хлопок я не обиделась.
- И сколько же может продолжаться это? Когда же они нас освободят?
Он с трудом оторвался от звуков далекого боя.
- О чем ты?.. Ах да, когда?.. Не знаю. Я еще никогда не брал городов. Я их только сдавал. Сдавал по-разному. За ваш город, например, мы бились пять суток.
- Пять суток? А у нас продуктов осталось на четыре.
Он посмотрел на меня, как учитель на первоклассницу, задавшую глупый вопрос.
- Если бы это было самым страшным!
Эта фраза сразу опустила меня на землю. Продукты. Там, у входа, карантинный флаг. Часовой. Мы как в капкане.
- Думаешь, они с нами, как с теми в Великих Луках?.
- Ну вот, мы уже и на «ты», - улыбнулся он. - Ну что ж, преотличное местоимение. Так что ты спросила?
- Антонина ревмя ревела, когда рассказывала, что вы увидели, отбив тот госпиталь.
- Фашизм есть фашизм... Но тут все зависит от наших, как пойдут. И от нас, - нас ведь голыми руками не возьмешь. Не дадимся. Бетон-то вон какой. Вес всего здания выдержал. Двери стальные, болтами задраиваются - крепость. И еще... - Что еще - он не успел сказать. Снова весь подобрался, превратился в слух. - Ага, это уже севернее, ближе. Должно быть, сосед включился. Правильно, научились воевать. Немцы охвата пуще всего боятся... Мы. Вера, не куры, мы тут кудахтать не будем и хорьку шею не подставим... А второй-то, почти без подготовки пошел... Неужели уж немцы дрогнули?
Мы так были увлечены этими звуками, что не заметили, что ребята уже проснулись и слушают вместе с нами.
- Кто, кто это, Василий Харитонович?- спрашивал Домка.
- Дядя Вася, какой сосед?.. Кто идет?
- Мы, - ответил Сухохлебов, - мы, Дамир Семенович и Сталина Семеновна, мы... Ну, пора к людям.
Василий вышел. И вот уже из глубины палат доносится до нас его рокочущий голос.
- Товарищи, наши войска начали наступление восточнее Верхневолжска. Волга форсирована. Сопротивление противника сломлено. Передовые части прорвались по шоссе к восточной окраине города.
Что тут поднялось! Даже когда женщины разнесли мисочки с жиденьким нашим супом, от одного вида которых обычно у всех жадно загорались глаза, - эти миски остались стоять на тумбочках, хотя аппетитный парок курился над ними. Ели машинально, не чувствуя запаха прелого пшена, даже забывая просить добавку. Звуки артиллерии точно всех околдовали. Теперь уж ясно, что артиллерия грохочет и севернее города. Звуки ее громче. Должно быть, это доносилось уже из Заречья.
Наши тут, рядом. Не снится ли это? Может ли это быть?
М-да, поспала-то я, оказывается, изрядно, многое прозевала. А наши в госпитале не теряли времени. Тяжелые стальные двери бомбоубежища были задраены болтами. Все, кто мог ходить, уже разобрали кирки, ломики, металлические щипцы для тушения зажигалок, словом, весь пожарный инструмент, какого вдоволь было припасено еще до оккупации в чуланах газоубежища. Топоры стояли возле коек наших красноармейцев. Жизнь кипела у входа. Должно быть, они составили какой-то план обороны. Меж людьми мелькал Мудрик. Именно мелькал, потому что, казалось, его можно видеть одновременно в нескольких местах. Крепко перепоясав свой старенький, с чужого плеча пиджак, под-тянутый, возбужденный, он появлялся тут и там, отдавая распоряжения. Из карманов пиджака торчали ручки гранат. Пожалуй, он единственный чувствовал себя в своей стихии, острил, насвистывал, напевал и даже пытался от нетерпения дробить чечетку.
Этот близкий грохот боя оказал на людей просто биологическое воздействие. От вчерашней апатии, от тяжелой неподвижности, одолевавших всех в последние дни, не осталось и следа. Женщины собирались в средней палате стайками. Рвали старые простыни на бинты. Скатывали их. Словом, действовали. Просто не узнавала людей, все стали покладистыми, добрыми.
- Вера Николаевна, наши-то, наши-то - вон как голос подают!
- Милая, выходила ты нас, сохранила! Господь тебя за это не оставит!
- Доктор, а к обеду-то нас освободят?.. Молотят-то вроде совсем близко. Точно цепами стучат.
- Вот теперь верно - Гитлер капут.
Мне такая реакция кажется чересчур уж оптимистической. Нахожу Василия, Он в предоперационной что-то обсуждает с Мудриком и одним из командиров.
- Вера, ты отдыхала, и мы не хотели тебя беспокоить. Сделали, что смогли. - И не то шутя, не то всерьез меняет тон: - Товарищ начальник госпиталя! Позвольте ввести в обстановку. Если немцы полезут по проходу, отобьем. Ночью нам удалось расширить завал второго прохода. Теперь там может свободно пробраться человек. Ну, а остальное... - Он развел руками. - Остальное зависит не от нас.
- Ежели знаете, как богу молиться, молитесь. - Мудрик соскользнул было на обычное свое балагурство, но Василий тут же его оборвал.
- Как говорите с начальником госпиталя, старшина!
А между тем гул и гром явно приблизились. Мы под землей. Мы прикрыты огромной руиной. Но мне уже чудится, что я различаю сухой треск пулеметных очередей. Что это? Обман слуха? Разве он может дойти сквозь потолки литого бетона? Или уже так близко? И странное ощущение: сегодня я никому не нужна. Никто ни на что не жалуется. Даже тот, с крапивницей, которого приняли за сыпнотифозного и из-за которого тут весь сыр-бор загорелся, и его не различишь среди остальных. Кажется, и сыпь сошла. Вот и не верь после этого в психотерапию...
Мы собираемся вместе - Мария Григорьевна, тетя Феня и я. В который раз проверили готовность операционного стола. Разложили запасы бинтов, лекарства. Делать опять нечего. Даже как-то грустно вне этой нервной, напряженной суеты. Тетя Феня успокоительно изрекает: «Всякому овощу свое время», - и берется за спицы. Мария Григорьевна рассеянно раскладывает карты. Я хожу по маленькой комнатке, предоперационной, меряя ее шагами. Прислушиваюсь к грохоту пушек и представляю себе: где это стреляют? Помнишь, Семен, когда-то, когда мы еще не были мужем и женой, ты возил меня на ялике вниз по Волге. Там была чудная березовая рощица. Мы бегали по ней, собирали грибы и немножко целовались. А потом напротив, через шоссе, построили элеватор. Должно быть, там наши и перешли Волгу. Это уже совсем недалеко от круга трамвайной линии. Семен, милый, они ж идут! Совсем немного ждать. Хоть бы заняться чем и не болтаться зря. Пожалуй, приведу-ка я в порядок истории болезни, или, как выражался этот «фон», «скорбные листы». Все-таки занятие. Когда наши придут, все будет в ажуре. А что? Идея... «Когда придут...» Останемся ли мы к этому времени живы?
10
Чтобы ребята не вертелись где не надо, усадила девчонок в предоперационной, поручив им под руководством Домки сортировать истории болезней. Разъяснила: «Нашим надо будет как следует отрапортовать. Помогите матери». Кажется, преисполнились ответственности и взялись за дело. Ну, а сама прошла в наш «зашкафник» и заставила себя сесть за отчет.
Выстрелы и разрывы совсем близко. Да что там близко, может быть, уже в нашем районе. Нет, нет, не отвлекаться... Несколько снарядов шлепнулось рядом, так что подвалы встряхнуло и вода задрожала в кувшине... Ну что ж, у нас неплохие итоги. Всего в день оккупации у меня на руках осталось шестьдесят пять человек. Двадцать три поступило - восемьдесят восемь... Умерло трое, восемьдесят пять. Выписался один - восемьдесят четыре... Сделано восемнадцать операций, из них семь очень сложных... Право же, неплохо для таких чудовищных условий... До оккупации, когда Дубинин развернул наш госпиталь, работали не лучше... Ай да мы! Мне не придется краснеть перед нашими... А Дубинин... Серега Дубинин, Сергей Сергеевич... Военный врач второго ранга... Ведь, наверное, скоро явится. Интересно, какими глазами, товарищ Дубинин, вы будете смотреть на нас, которых вы впопыхах позабыли или бросили?.. И все-таки мне не хочется в это верить. Может, что-то серьезное не позволило ему прислать машины... Но как приятно, черт возьми, будет сказать:
- Товарищ военврач второго ранга, неаттестованная Трешникова докладывает вам... - и привести эти цифры...
Кажется, стучат.
- Кто там?
Василий. Очень смешно одет. Все на нем с чужого плеча, все разное, и все безумно ему мало. Руки чуть не по локоть торчат из рукавов, а ноги из брюк. Лицо заросшее. Но сейчас это почему-то не замечается. Передо мной военный, энергичный, подтянутый, сосредоточенный. Только чего он там мнется, это совсем не идет к его сегодняшнему облику.
- Можно? Не помешал?
- Убиваю время и нервы: готовлю отчет. Садись, Василий. - Я подвигаюсь на койке.
Он не садится. Он стоит, смотрит на меня, и я почему-то начинаю краснеть.
- Вера, - бас его звучит как тенор, - Вера, наши в городе. Немцы, Видимо, отступают. Наверное, уже рыщут эти их команды поджигателей... Понимаешь?.. Понимаешь?.. Сейчас все решится. Мы будем обороняться до последнего, но... Словом, перед этим я считаю долгом сказать тебе - я тебя люблю...
Я почему-то не удивилась. Даже форма объяснения, похожая не то на рапорт, не то на приказ, не покоробила.
- Садись, ну чего же ты?
Он сел на самый край кровати.
- Ну?
- Вот и все.
И встал было уйти, но я удержала.
- Сиди, Василий. - Достала из-за пазухи клеенчатую сумочку с документами, которую все эти месяцы ношу на шее на шнурке. Вынула оттуда твое, Семен, письмо, то, единственное. - Прочитай.
Он осторожно взял письмо, написанное на обратной стороне махорочного пакета, и, далеко отставив его на ладони, стал разбирать твои невнятные каракули, как бы ступеньками сбегающие сверху вниз. Я знаю письмо наизусть, от надписи наверху «Товарищ, нашедший это...» и до остренького кренделька, в котором лишь я могу разобрать твою подпись. Во все глаза следила я за лицом Василия. Когда он читал эти твои слова: «Не верь ничему, что будут обо мне говорить или писать: я - большевик-ленинец и останусь до смерти большевиком-ленинцем», - он нахмурился, закусил губу. Дальше ты пишешь: «Я вынужден был написать чудовищное признание, но если сложить заглавные буквы моих показаний, выйдут слова: «Все это вынужденная ложь». Прочтя письмо, Василий отложил листок.
- Это ответ мне?.. Понял, Вера, - сказал он, вставая. - Я это предвидел. - Он улыбнулся. Улыбка получилась болезненная, кривая. - Предвидел, но, как говорится, не мог не доложить.
Сама не знаю, как это получилось, но я вскочила, взяла в ладони его голову, наклонила к себе, поцеловала сухие, растрескавшиеся губы. Сильные мужские руки обняли меня.
- Вера, ты...
Но там, за шкафами, вдруг поднялась суетня. Мудрик кричал: «Где полковник?» Голос Стальки, которая все-таки ухитрилась удрать из операционной отчетливо ответил: «Он у нашей Веры». Мы отодвинулись, почти отскочили друг от друга. Василий отбросил занавеску, вышел в палату:
- В чем дело?
- Подъехали... У дверей топчутся. Стучат, - доложил Мудрик.
- Оружие разобрали?
- Порядок полный, товарищ полковник.
Когда я вышла, действительно был полный порядок. Женщины были отведены в глубь подвалов, мужчины с топорами, ломиками и еще каким-то противопожарным инструментом стояли по обе стороны железной двери. Снаружи доносились глухие удары.
Первую дверь ломают.
- Ну эта подастся, она деревянная.
Удары становились слышнее. Они даже заглушали близкую канонаду. Что-то затрещало, заскрежетало.
- Вроде бы подалась.
- Нет. еще держится.
Теперь бухали чем-то тяжелым.
- Должно быть, бревно приволокли...
- Эх, братцы, сейчас бы закурить!
- Перед смертью не накуришься.
- Но, но, перед смертью... Возьми-ка еще нас!
- Ой, господи, хоть бы наши скорее...
Сквозь удары и скрежет взламываемого железа прогремело несколько близких разрывов. Среди моих солдат, что с топорами караулили у двери, я заметила Домку. Он был в халате и шапочке, но в руках сжимал ломик. Этого только не хватало!
- Домка! Сейчас же прочь отсюда!
Он даже не посмотрел в мою сторону.
- Дамир, убирайся немедленно.
- Нет, Василий Харитонович, скажите ей...
- Мать права, Дамир. - Василий на миг оторвался от того, что происходило за дверью. - Ты не солдат, ты - брат милосердия. Есть такая Женевская конвенция, она запрещает медицинскому персоналу участвовать в боях. Вот и матери твоей тоже. Уйди, Вера... Все прочь от двери!
Послышалась длинная автоматная очередь. Первая дверь, видимо, была уже выломана. Били в нашу, во вторую. Она вся загудела, но ни одна пуля не прошла сквозь массивную металлическую створку. Бомбоубежище строилось добротно. Новые и новые очереди вызывали только оглушительный гром, от которого заныли барабанные перепонки.
- А, не по зубам пирог! - торжествующе хохотнул кто-то.
- Дамир, Вера, прочь отсюда! - скомандовал Василий. - Готовьте медицину... Дамир!
- Вас понял, - вытянулся Домка. Он все еще жался к стене, тут, у двери. Ну что он, дурачок, может сделать со своим ломиком. А я? Действительно, мы нужнее там, в хирургической.
По пути задержалась среди женщин. Они теснились в дальней палате. Кто-то плакал, кто-то причитал, кто-то молился. Но большинство стояли с каменными, твердыми лицами. Стояли и слушали. Ведь и отсюда уже были слышны наши пушки.
- Успокойтесь, теперь недолго, - сказала им, а сама подумала: мне бы эту холодную окаменелость.
А вот девчонки - им хоть бы что. Зыркают по сторонам любопытными глазенками, очень все им интересно. Отослала их с тетей Феней готовить запасной операционный стол. Ушли и через минуту опять появились. Чем бы это их отвлечь?
- Девочки, будете адъютантами при мне. Для поручений.
- Ой, здорово! Адъютантами. А это что? - спросила Рая.
- Ма, что там? Вон Вова бежит.
Действительно, бежал Мудрик.
- Палить нас хотят, за бензином послали.
- Володя, что будет?
- Товарищеский ужин. Сейчас я их угощу эскимо. - Он сорвал с себя куртку, остался в одной нательной рубахе, для чего-то закатал рукава, обнажив волосатые, густо нататуированные руки. Даже в такую минуту не мог не рисоваться, потряс двумя гранатами. - Две порции шоколадного эскимо господам фрицам...
- Как же вы?..
- Парадное на ремонте, придется через черный ход.
Он посерьезнел, осмотрел гранаты, пощупал чеки.
- Граждане зрители, сейчас вы увидите выдающийся аттракцион. Под куполом без сетки. Имею просьбу - дайте руку на счастье.
Будто чувствовало сердце, что что-то с ним случится. Подошла к нему, поцеловала, и в этот момент появилась Антонина... Закричала истошно:
- Ты куда? Вовчик... Я с тобой!
- Нет.
- Да, да, да!..
Мудрик махнул рукой, и оба они бегом скрылись за дверью. На дворе и в палатах почему-то стало тихо. Почти одновременно где-то рядом негромко прострекотало несколько автоматных очередей и два взрыва встряхнули наши подвалы. Что-то произошло. Нет, ничего. Просто было ужасно тихо, и именно от этой тишины мне стало страшно. Я бросилась в палаты.
11
В палатах тоже ничего не произошло. Все стояли и слушали. Слушали эту тишину. И вдруг я увидела такую картину - Домка в окровавленном халате. Он первый бросился мне в глаза. Потом я разглядела - он вместе с Антониной, они несут Мудрика. Домка волочит за ноги, Антонина держит туловище. Потом я заметила, что Антонина идет как-то странно, будто ноги ее приклеиваются к полу и она с трудом отрывает их. И, конечно, бросилось в глаза: она так бледна, что веснушки лежат на ее лице как пятна глины, а по халату на груди расплывается темное пятно. Все поплыло у меня перед глазами.
- Сынка, что с тобой? - рванулась я к Домке.
- Мудрик... Его из автомата, - хрипло ответил он.
Они стали поднимать Мудрика на каталку, но тут Антонина качнулась и, будто тая, стала сползать на пол.
- Тетя Феня! - не своим голосом закричала я, подхватывая Мудрика.
Втроем мы уложили его на каталку. Только после этого, распорядившись, чтобы его перенесли на стол и готовили к операции, я подошла к лежавшей на полу Антонине. Эти глиняные пятна на лице, на руках, на шее стали еще больше заметными. Взяла руку - пульса нет. Стала расстегивать пропитанный кровью халат - голова мотается, как у куклы. И тут меня пронзила страшная догадка. Я подняла веко - зрачок не реагирует на свет. Зеленый, русалочий глаз уже стекленел.
- С ней потом, сама отдышится... Вы - к столу, к Мудрику, - частила сквозь марлевую повязку тетя Феня.
И, показав на тело Антонины, я ответила ей почему-то по-латыни:
- Экзитус леталис.
Мудрик был в сознании. Я увидела, что озорные, бесстрашные глаза его могут быть испуганными, тоскливыми. Но и тут он старался балагурить. Вместе с булькающим, хриплым дыханием я услышала:
- Факир был пьян, фокус не удался... Дрова, доктор Вера, дрова...
- Камфору. Морфий.
Две раны. Обе в области груди. Навылет. Стараюсь представить картину катастрофы. Пульс неплохой. Температура? И температура ничего. Что же там разрушено? Можно думать о самом худшем. Но пульс не падает. Ах какой мускулистый! По нему можно анатомию изучать. Ну и везуч: ни один магистральный сосуд не поврежден. Ага, вот где кровь. И сколько. Всё в крови. Нам приходится повозиться, пока удается перехватить поврежденные сосуды и очистить операционное поле. Теперь картина ясна. В общем-то, Мудрик, ты родился под счастливой звездой.
Эфир экономили, он был на дне пузырька. Больного не удалось усыпить. Операция идет под местным наркозом, который при таких сложных ранениях, конечно, не все обезболивает. Но Мудрик молодец.
- Как вы себя чувствуете?
- Превосходно, как в бане на третьей полке.
- Не очень больно?
- В самый раз...
Только по тому, как в иные моменты зеленеет и покрывается испариной его лицо, а руки судорожно вцепляются в край стола, я и понимаю, каково ему,
- Потерпите, я скоро кончу.
- Есть потерпеть. Тетя Феня, дай валерьяночки доктору Вере.
Молодец, молодец! Так и держись. Сегодня мне нужна и твоя поддержка...
- Больно? Ну, ничего, теперь уже скоро.
- Пожалуйста, мне не к спеху. До выхода на манеж уйма времени.
Милый Мудрик! Как он поддерживал меня этим своим балагурством! Только когда боль лишает сознания, он начинает скрипеть зубами и скрипит так, что я боюсь, как бы его белые зубы не раскрошились. Наверное, у меня не было еще такой операции. Я обо всем забыла, вся ушла в нее. Весь мир сосредоточился на маленьком пространстве, на этой разверстой груди, где, как налитой кровью маятник, отстукивало время сердце, где все пульсировало и жило своей жизнью. Тетя Феня никуда не годилась сегодня. Роняла инструмент, шмыгала носом, слезы текли на марлю маски...
И все-таки все шло хорошо. Но вдруг:
- Доктор, а что же Антон? Где она?
Этот вопрос застал меня врасплох. Во время операции я как-то совсем и забыла об Антонине. Теперь я представила себе ее там, неподвижную, в окровавленном халате, и у меня сразу затряслись руки. Но тут мне пришла на помощь тетя Феня:
- Там она, там. Перевязки делает... Один ты, что ли...
- Наркоз... Не жалейте... Все, все лейте. Больше не понадобится.
- Сейчас, сейчас... Его тут на донышке...
Больше мы не разговаривали.
Наконец-то я смогла разогнуть спину и будто из какой-то шахты поднялась на поверхность... Что там такое? Почему шум? Что там кричат? Откуда незнакомые голоса? Что же все-таки происходит? Завязываю последние узлы. Вот теперь, когда опасность для оперируемого миновала, по-настоящему задрожали руки. И тут я соображаю – незнакомые люди там, в палатах, говорят по-русски. Неужели наши? Впрочем, об этом можно догадаться по глазам тети Фени, которые сияют над марлевой маской.
- Наши? - спрашиваю я.
- Давно уж, - подтверждает она и начинает истово креститься на сверкающий в углу автоклав.
- Наши? - спрашивает Мудрик, снова придя в сознание. По зеленоватому лицу пятнами румянец. - Разрешите «ура», доктор Вера? - спрашивает он, и тут же сознание покидает его.
- Нашатырь...
Только тут я по-настоящему осмысливаю, что произошло за те два часа, пока я возилась у операционного стола. Раз там наши, гитлеровцы до нас не добрались. Мы спасены. Привычный мир вернулся к нам, отыскал нас. Туда, к своим. Но нет, нет! Долг - прежде всего, как говорил нам Кайранский, превыше всего ставивший врачебный долг. Все надо доделать. Укрываем забинтованного марлевым пологом, поднимаем и перекладываем его на каталку. Ну, теперь можно снять маску. И в это мгновение:
- Верка!
В дверях Дубинин собственной персоной. Он ввалился в предоперационную в полушубке, в валенках. Меховая рукавица, как у маленького, болтается у него на веревочке. Белый чуб выбился из-под меховой шапки. Я замечаю - рукавица болтается одна. Правый рукав полушубка почему-то заправлен за пояс. Но Дубинин полон энергии.
- Верка! - кричит он. - Молодец, Верка!
Я ему очень обрадовалась, но сдержалась. Сдирая резиновые перчатки, холодно сказала:
- Здравствуйте, Сергей Сергеевич!
На миг он оторопел, даже как-то отпрянул, но тут же нашелся.
- Здравствуйте, доктор Трешникова! Позвольте поприветствовать вас от лица Красной Армии - освободительницы.
Наступило неловкое молчание. Я смотрела на его пустой рукав.
- Когда?
- В ту ночь... Из-за этого опоздал к тебе на свидание. Головную машину разбомбили в пути. Я легко отделался, а шестерых... в клочья. Ну, теперь-то ты позволишь мне пожать твою мужественную лапу моей единственной, левой рукой?
12
Этот день кажется просто бесконечным.
У выхода из нашего подземелья еще валялись три немца, которых Мудрик, оказывается, все-таки угостил своим «эскимо». Один из них, совершенно обгорелый, так и лежал возле красной, распертой взрывом канистры с бензином, с помощью которого он пытался нас выкурить. Двое других лежали рядом, припорошенные снежком.
У входа дымит на машине полевая кухня. Около толпятся горожане - им выдают остатки еды. Мои уже получили армейский обед и, по уверению повара, «в охотку» уничтожили столько, что хватило бы накормить «до упиру» целый батальон... Сколько в батальоне людей, я не знаю, но и сама съела полную миску жирного горохового супа да еще макарон с мясом. Столько я никогда в жизни не ела. Сейчас все сыты и, сонные, расползлись по палатам. Мужчины раздобыли где-то бритвы. Женщины на кухне по очереди моют головы. Некоторые могли бы, конечно, идти и по домам: мы уже не лодка в чужом враждебном море, кругом свои. Но что-то, и, думаю, не только возможность получать армейскую еду - еще удерживает их в наших мрачных подвалах.
Дубинин только что осмотрел Мудрика и поздравил меня с удачной операцией.
- Верка, ты же тут чертовски выросла, - заявил он.
Мы сидим с ним на койке в моем «зашкафнике» и делимся новостями.
- Только три смертных исхода? Здорово, просто здорово. Так и доложу армейскому хирургу. И ведь не поверит старик, я попытаюсь его к тебе притащить. Вы тут герои. А это верно, что Наседкин у тебя работал?.. Слышали, обо всем слышали. Кто бы мог от него ждать?
Несмотря на бравый начальственный вид, в поведении Дубинина чувствуется виноватинка. Осматривая наше хозяйство, он уцепился глазами за портрет Сталина, который мы прятали за дверцей шкафа. Сейчас шкаф открыт, Сталин смотрит на нас.
- И при немцах висел?
- И при немцах. Ребята мои повесили.
- И как? Ничего?
- Они не могли видеть. При них шкаф закрывался. Немцы, между прочим, тоже не одинаковые.
Дубинин становится серьезным.
- Вот что, Вера, нигде, никому, никогда этого не говори.
- Везде, всем и всегда буду говорить. Это правда. Нам надо знать правду о противнике. Пять миллионов голосовало за Тельмана. Ты что же думаешь, они испарились? Или это не так?
- Не время об этом вспоминать. - И, подвинувшись, вполголоса, будто боясь, что нас подслушивают, он продолжал: - Особенно тебе. Ведь о тебе столько там болтали: «осталась у гитлеровцев», «продалась врагу». Тебе, Вера, надо это знать. И лучше, если об этом предупрежу тебя я, твой старый однокашник, чем кто-нибудь еще.
Неужели мои опасения оправдываются? Худшие опасения? Даже обидеться я на него не могу: он явно хочет мне доброго.
- Но ты-то ведь знаешь, как я осталась? Ведь ты же бросил все это на меня.
Мгновение мы смотрим друг на друга. Нам трудно друг друга понять.
- А это? - горько говорит он, хлопая себя по пустому рукаву. - Кончился хирург Сергей Дубинин, конец мечтам, надеждам... Я не верил тому, что о тебе болтали.
- Но ты хоть объяснил кому-нибудь, почему я осталась?
- Почему - это я объяснил. А остальное... что я сам знал? Что мог я противопоставить этим скверным слухам? - И, опасливо покосившись на портрет, перешел на шепот: - Будь осторожна. У тех, кто уходил, гнезда разорены, все разворовано, растащено, испакощено. Злость к тем, кто оставался, страшная. Их ведь тоже надо понять. Ну как тут вели себя наши?
- По-разному, Сергей, по-разному. - И я сообщила ему самую большую мудрость из всех, которые я обрела в эти страшные месяцы: одинаковых людей нет ни у них, ни у нас...
Вот так мы и разговаривали, два коллеги, два однокашника. И я чувствовала, как все больше и больше тускнеет для меня этот так радостно занявшийся день. И самое тяжелое было, что сама сознавала - в этом есть какая-то своя неумолимая логика. Если бы он, Дубинин, остался, а я оказалась в эвакуации, среди этих людей, лишившихся всего, проедавших последнее из того, что второпях удалось унести, живших смутными и жестокими слухами, доносившимися к ним из города, который был и рядом, и бесконечно далеко, то, возможно, и я могла бы поверить самой дикой болтовне, рожденной смутным эхом происходивших там событий.
- Вера, я составлю рапорт о твоем госпитале. Доложу все как следует. У тебя просто потрясающие результаты, но все-таки, знаешь, понимаешь... Верка... - продолжал он, виновато посматривая на портрет и с трудом выжимая слова. - По-моему, лучше все-таки...
- Все-таки? Ну что «все-таки»? - закричала я.
- Все-таки лучше тебе самой идти в обком... Этот Боев - он мужик правильный, человечный. Расскажи ему все, ну как мне. Он, наверное, поймет. Я его знаю. Настоящий большевик.
Я только покачала головой.
- Скажи-ка ты мне, Сергей, умный, добрый Серега Дубинин. Вот я приду к этому «правильному мужику», настоящему большевику, приду и скажу: «Здравствуйте, товарищ Боев. Я такая-то, жена осужденного. Я оставалась у немцев, вела дела с эсэсовскими офицерами, стояла с ними рядом, когда казнили наших героев, стояла у всего города на виду...»
- Перестань!
- Ну вот, видишь. Спасибо за совет... И у меня просьба. Что бы потом ни болтали и ни писали о Верке Трешниковой, не думай о ней плохо - она была и осталась комсомолкой, комсомолкой-переростком... которую, наверное, никогда не примут в партию...
Я почти процитировала эти слова из твоего письма, Семен. И сразу мне стало легче. Я вдруг поверила, вот так, без особой причины, поверила, что правда, несмотря ни на что, восторжествует, что во всем разберутся и тучи, может быть, разойдутся над моей несчастной головой.
А вот поверил ли Дубинин - не знаю... Во всяком случае, он ничего не ответил, но лицо у него было тревожное и грустное. Ах, Семен, если бы ты был рядом. Или хотя бы Василий. Но вас обоих нет, ты вон где, а Василий вместе с моими офицерами уже исчез куда-то, еще когда я оперировала Мудрика. И Марии Григорьевны нет, умчалась по каким-то делам. И опять я одна: ни посоветоваться, ни поговорить не с кем... Ну ничего, ничего, Верка. Разберутся во всем, разберутся...
Но все-таки надо подумать о будущем детей, обеспечить их хотя бы жильем на тот случай, если... На тот случай, про который мне страшно думать. Ту половину дома, где была наша комната, разбомбили. Остается одно - домик Петра Павловича. Кто-то там сейчас хозяйничает и вообще цел ли он - не знаю. Но если цел, где же и жить внукам, как не в доме деда? Ведь я правильно, Семен, рассудила? Ведь так?
Хотела идти туда вместе с ребятами, но их никакими силами не оторвать от Мудрика. По-моему, прямая опасность для него миновала. Его организм, удивительно жизнеустойчивый, отлично борется с последствиями очень серьезного ранения. Но что-то с ним произошло. Мы просто не узнаем его. Это какой-то другой Мудрик. Мне говорили, что когда уносили тело Антонины, он рыдал, никого не стесняясь. Уснув, повторяет: «Антон, Антон...» А когда ему, заставляя его спать, дают снотворное, ведет с Антониной беседы... Ребята, даже Домка, вряд ли все это по-настоящему понимают. Но от койки Мудрика их не отогнать. Сидят и смотрят на него шестью влюбленными глазами. Даже эта Рая, самая младшая из них, которой «дядя Вовчик», в сущности, даже мало знаком.
Словом, в ваш домик я пошла одна. Повязала голову все той же косынкой и вышла из подземелья с радостной, непривычной легкостью, без всяких опасений.
У входа в наш бункер стояла машина. Четверо пожилых бойцов, опустив задний борт, поднимали в машину обгорелое тело факельщика. Двое других убитых лежали уже в кузове. Один боец вытер о полы шинели руки, поднял пузатую, разорванную взрывом канистру из-под бензина, осмотрел ее, покачал головой:
- Ишь ты!.. Вовремя его кто-то остановил...
Машина, взвыв мотором, стала выбираться из снега. Из кабины мне уже кричали:
- Эй, посторонись, сестричка, фрицы едут.
В сущности, грустная сцена. У каждого из этих трех, наверное, есть и жена и дети. Но окровавленный след еще виден на снегу. Он ведет в развалины, ко второму нашему выходу. Кровь Мудрика и Антонины как бы прожгла снег. И ничего, кроме удовлетворенного злорадства, я не испытала. Я даже хладнокровно подумала: встретить похороны - что это, к счастью или к беде?
Бой еще грохотал где-то за «Большевичкой»: Тут и там догорали пожары. Ясный день замутнен грязными, жирными дымами. В воздухе порхал какой-то серый пепел. И все же, боже ж мой, как хорош был этот ядреный, морозный день! Как весело хрупал под ногами снег, как он сверкал, падая! И люди. По тротуару спешили люди. Неужто уж столько вернулось? Когда успели? А может быть, повылезли те, кто оставался?.. Впрочем, и те, и другие. Это легко различить по цвету лица. Белые лица - это у вернувшихся, а коричневые, со следами копоти, - это те, кто жил тут, в холоде, без света и воды.
Двое солдат, шарящие чем-то похожим на ухват в углу уцелевшего магазина, кричат трем девчонкам, гуськом семенящим по тропке:
- Вы что, девчата, из негров, что ли? Нешто это Африка, черные какие?
Те в ответ визгливо смеются:
- Победуй-ка с фрицами - на всех чертей похож станешь.
И опять хохочут на всю улицу, должно быть, радуясь не солдатской шутке, а самому процессу смеха, удовольствию издавать на этой своей улице, своего города визгливые, заливистые «ха-ха-ха». И мне вдруг тоже стало весело, - какого черта, я ни перед кем не виновата, не сделала ничего дурного, я такая же, как они. Попробовала засмеяться. Так, без причины. И, представь, вышло, и даже неплохо вышло. Значит, и смеяться не разучилась.
У вашего домика я остановилась. Он цел. Вывески еще сообщают о слесаре высокой квалификации. Но окна уже слепы, мороз покрыл их густыми бельмами. Все же из трубы поднимается и уходит в небо тощенький дымок, а к калитке и дальше, к крыльцу, ведет один-единственный след. Мелькает шальная мысль: может, это ты, Семен, вернулся? Мгновенная радость захватывает меня. Нет, след маленький. Но он означает, что в доме кто-то есть. Становится страшновато. И тут же вспоминаю: да чего бояться, кто бы там ни был, свои, а не немцы. Решительно повернула кольцо калитки. Пока звенел колокольчик, миновала холодные сени, прошла мимо железной рухляди, открыла обитую клеенкой дверь. Темная женская фигура сгибается у печки, едва освещенная отблесками топки.
Женщина вздрагивает, поворачивается. Вскакивает. Испуганно уставилась на меня, будто я какая-то нежить.
- Как, ты?
Это Татьяна, твоя сестра, Семен. Она осунулась, похудела, и это как-то очень улучшило ее несколько полноватую фигуру, и такая она стала хорошенькая, Татьяна, чернавочка, смугляночка.
- Ты здесь? Ты не убежала? - спрашивает она, стоя в той же настороженной позе и даже несколько отступая от меня в глубь комнаты.
- Куда? Зачем мне бежать? С кем?
- Ну с ними, с немцами, с твоими дружками, с кем же?
Черные глаза смотрят зло, непримиримо, даже какая-то брезгливая морщинка легла возле ее хорошенького тупого носика, и опять у меня тоскливо заныло сердце. Опустилась на первый попавшийся стул. Нет, даже не обиженно, а устало выговорила:
- Ты что, одурела? Зачем мне бежать с немцами?
- А сюда зачем пришла? - Татьяна отодвинулась еще дальше, будто боясь заразиться или запачкаться. Это меня уже разозлило.
- Как зачем? Пришла, чтобы устроить здесь Домика и Стальку. Они внуки Петра Павловича. Это ведь и их дом.
- Ну вот пусть они и приходят.
- А мне убираться?
- А ты убирайся.
«Убирайся» - так она, Семен, и сказала. И я бы ушла, конечно, и духу бы моего там больше не было. Но надо же было устроить ребят. Теперь-то я уж и не сомневалась, что меня ждет.
- Ну чего же ты, уходи, - зло торопила Татьяна. Видимо, ей было противно даже находиться со мной в одной комнате.
- Но ведь Петр Павлович тоже оставался у немцев... - начала было я, но она не дала мне говорить:
- Не смей поминать батю! Он не оставался. Его оставили. Его твои приятели фрицы повесили.
- Его не повесили. Он не дал себя повесить...
И тут на смуглом лице Татьяны маска непримиримости дала трещину. На нем проглянуло удивление и даже надежда.
- Как не дал? Ты чего городишь? - Произнеся это, она опустилась на стул.
- Я сама видела.
- Ты? Ты видела?
Я рассказала все, что видела на площади, рассказала о госпитале, о себе. Лицо Татьяны мягчало, на сердитых глазах навертывались слезы, начинал ежиться подбородок. И вот она зарыдала, уткнувшись мне в плечо.
Я не выдержала и тоже расплакалась. Сколько мы так сидели, не знаю, но привел нас в себя бой ваших больших часов. Они отсчитали шесть. Только тут мы заметили, что в комнате совсем темно и лишь отсветы печки искристо играют на морозных пальмах и папоротниках, затянувших замерзшие окна.
- Вхожу, - пусто, все разгромлено, растащено, разбросано. Только часы ходят. Они ведь с двухнедельным заводом. Их еще батя сам заводил, - сказала Татьяна. И снова заплакала. - А про тебя в эвакуации такое говорили, с Семеном вязали: немецкие шпионы... Я там в школе преподавала и все боялась - вдруг кто спросит: эта, мол, немецкая овчарка вам не сродни? Хорошо хоть фамилия у тебя другая.
Мы быстро прибрали комнатку твоего отца, ту, что окнами выходит в садик. Помнишь, Семен? Там еще старая груша перед окном. Кровати кто-то украл. Мы перетащили из чулана старые железные, с завитушками. Собрали по дому кое-какую уцелевшую мебелишку, а пока возились, печка стала отдавать тепло, с окошек закапало, они заплакали, стали прозревать.
Уже завершая уборку, мы стали передвигать слесарный верстак и обнаружили ходок в подпол. А там - мамочки дорогие! - картошку, свеклу, морковь, а в уголке банки с маринованными грибами. Те, кто разграбил дом, не видели этого люка. Все уцелело. У меня с плеч свалилась еще одна тяжесть. Что бы со мной ни было, Татьяна с ребятами продержится. Продержится, пока все выяснится.
Когда прощались, Татьяна вовсе помягчела - спросила даже, не надо ли мне чего из одежды, хотя все ее богатство заключалось в небольшом узелке, который она принесла с собой.
Прощаясь, предупредила:
- Вера, потерпи. Нелегко тебе будет - потерпи. Дай людям в своих домах оглядеться. Прийти в себя... Разберутся.
Что ж, неплохой совет. Хотя это легко сказать - «потерпи». Ну, ничего, ничего, самое страшное позади. Потерплю. Тем более что и нет иного выхода.
Ночь была темная. Ни луны, ни звезд. И всюду кругом небо обложено заревами. Снег в их отсветах казался багровым. Далеко, может быть, уже за аэродромом, ухали пушки. Свои, свои. Кругом - свои. И где-то вдали что-то незатейливое играла гармошка. Это ее пиликанье было удивительно приятно: своя, тоже своя, давно не слышанная.
А спускаясь по мерзлым, еще воняющим бензином ступеням в наше подземелье, я и вовсе пришла в расчудесное настроение. Даже самодовольно произнесла: «Ну вот, Верочка, мы с тобой и дома». Именно здесь был мой дом. Здесь был свой угол, своя кровать, здесь были мои дети. Здесь были люди, которые верили мне и ни в чем не могли меня заподозрить. Даже этот сырой, спертый воздух был родным.
Но тут я увидела уже и новое. Незнакомые санитары в военных куртках курили, выдувая дым в приоткрытую дверь. У входа были навалены какие-то кули и ящики. И не Мария Григорьевна, а какой-то шустрый краснорожий толстячок очень штатского вида, но в военном сидел на этих ящиках и что-то записывал.
Как раз когда я сошла вниз, из второй палаты появилась высокая худая женщина в военном. Три шпалы. Военврач первого ранга. Да это же правая рука покойного Кайранского - Валерия Леопольдовна Громова: с трудом узнала я ее. Ну да, та самая Громова, которая после твоего ареста, Семен, когда мне пришлось нелегко, относилась ко мне с подчеркнутым вниманием. Она шла прямая, стремительная, смотря на меня с высоты своего мужского роста.
- Валерия Леопольдовна! - бросилась я к ней.
Бросилась и остановилась. Ни один мускул не шевельнулся на ее сухом, некрасивом лице. Она продолжала идти по прямой, и глаза ее будто бы смотрели сквозь меня. Мне показалось - не посторонись я, она бы... И я посторонилась. Нет. даже не посторонилась, а отшатнулась... Она прошла мимо, даже не ответив на поклон.
Хорошо, что этого никто не видел. Никто, кроме Марии Григорьевны. Уже не в сестринской, а в обычной своей одежде, исхудавшая и казавшаяся даже более бледной, чем всегда, она смотрела на меня из «зашкафника».
Я бросилась к ней.
- Не говори, не говори!.. Ничего не говори, - сказала она, втягивая меня под защиту шкафов. - Понять их надо, натерпелся народ, глаза от горя за-туманило. - Она прижала меня к себе и стала покачивать, будто баюкая. - Понимать надо,- повторяла она. - Погоди, будет время, муть осядет, туман развеется. Всех разглядят, кто и что, всем по заслугам воздадут.
Нет, нет, ничего. Я уже собралась с мыслями. Малодушие это от безделья. Надо скорее договориться о работе, что-то делать, о ком-то, о чем-то заботиться, иначе с ума сойти можно. После каждого такого потрясения снова и снова будто вижу себя со стороны в толпе «достойных горожан», рядом с этим Шонебергом в день казни. Вижу совсем четко, точно мне показывают фотографию. И всякий раз это надолго выбивает меня из колеи. Надо вот как-то научить себя отделываться от этого навязчивого видения. Как? Как?
- Вы чего же, Мария Григорьевна, покидать меня собрались? - отвечаю я беззаботный голосом, собрав все свое мужество.
- А пора. Тут теперь вон мужчинам тесно. Что мне, старухе, при них топтаться? Хоть квартирку свою в порядок привесть. Ужи там поди развелись. Вернутся мои из эвакуации, а там, как покойница Антонина говорила, «Авдеевы конюшни».
- Уж все и сдали?
- А чего сдавать-то? Показала вон тому брюнету. что на ящиках сидит, свои каменные пещеры: на два дня по голодной норме... мышиного помета. Вот и вся, сдача. Акт подписывать не хотел, - мол, бумага дороже стоит, - да я заставила. Не беспокойтесь. Вера Николаевна, у меня все в ажуре.
И вещички ее были уже сложены, увязаны в аккуратный старушечий узелок, стоявший возле моего стола. Но она все-таки не ушла, быть может, чувствуя, как мне сейчас нужно иметь рядом близкого человека.
- Записку он вам оставил, - сказала она как-то многозначительно, выделив местоимение «он».
Почерк был незнакомый, округлый, ученический. Но я, конечно, сразу поняла, кто это «он». В записке было: «Заезжал. Не застал. Заеду завтра в двенадцать ноль-ноль. Будь обязательно - это важно. Василий». «Обязательно» и «важно» были подчеркнуты.
- Форму надел, кругом побрился, еле узнала. Честное благородное... Уж этого своего Володьку обнимал, обнимал... А что вас не застал, очень огорчался. - Подумала и добавила еще одно «очень». Посмотрела на меня. Помолчала. - Хороший человек, ребята ваши в нем души не чают. - Опять помолчала - и вдруг: - Хотите, Вера Николаевна, картишки раскину?
Ну конечно же, конечно! Как бы мне хоть глазком заглянуть в свое будущее. Не смейся. Семен. Стала я какая-то чудная, суеверная. Сегодня думала: встретить похороны - к добру или к худу? На небе звезду ищу, ту, нашу, помнишь? По которой ты меня из болота когда-то выводил. Только той звезды я найти не могу. Потерялась. Забыла, где она. А карты? Ну что ж...
- Раскиньте, милая Мария Григорьевна!
Старуха достает откуда-то из недр узла свои пухлые карты, тяжелые и жирные, как стопка блинов. Надела очки, послюнила большой палец, стала раскладывать. И делала она это так серьезно, будто проводила какой-то важный опыт, от которого зависит судьба человечества. Эх, Мария Григорьевна, как я вас знаю и карты ваши знаю! Они такие же неказистые с виду и такие же добрые и проницательные, как и их владелица.
Ну конечно же, все тут как тут - и большие хлопоты, и испытания, и горькие слезы, и разлука, и опять слезы, и некий пиковый коварный король, и неприятный разговор в казенном доме... И слева от меня оказался король крестей и хлопоты и почему-то дальняя дорога.
Терпеть не могла карт. Никогда их в руки не брала, и твое, Семен, пристрастие к преферансным бдениям, как ты помнишь, выводило меня из себя. Но я люблю Марию Григорьевну Фельдъегереву, верю ей, ее житейской мудрости...
- Ну вот, - говорит она удовлетворенно, окидывая взглядом полководца свои замасленные картонные войска, выстроившиеся на столе, - а теперь видите сами: четыре десятки - исполнение желаний...
Она собирает и задумчиво тасует пухлую свою колоду.
- Хотите, на короля крестей погадаю? - Она не смотрит на меня, она смотрит на карты, но мне кажется, что на суровом ее лице в эту минуту непременно должна быть улыбка. Лицо это при мне ни разу не улыбалось. Нет, я не оглянусь, не буду разочаровываться.
Я не хочу, чтобы гадали на трефового короля. Я не хочу думать об этом трефовом короле. А сама думаю, думаю. Чем больше заставляю себя не думать, тем больше думаю... Зачем я понадобилась ему завтра в двенадцать ноль-ноль? О чем он хочет со мной говорить? И почему мне так тревожно?
13
Эх, ничего-то вы не знаете, добрые старушечьи карты! Не будет ни червонной масти, ни интересного разговора с трефовым королем. Будет только казенный дом.
В восемь утра за мной приехали двое в форме. Предъявили ордер, подписанный прокурором. Приказали собираться, не привлекая ничьего внимания. Что мне было собирать? Умывальные принадлежности? Мне не дали даже выйти в палату, проститься с Мудриком и другими моими больными. Успела только расцеловать ничего со сна не понимающих ребят да наказать тете Фене отвести их сейчас же под крыло Татьяны. Она все-таки сердечная девка. Простились мы по-хорошему. Знаю, их не бросит. А с Раей, которая спала у Зинаиды, так и увидеться не пришлось... Ну что ж, о ней тоже можно не беспокоиться. Наши же пришли, не пропадет девочка, да и Зинаида вон не дает на нее пылинке упасть.
Вот так, Семен, все и повернулось. Скверно, обидно, страшно повернулось.
Везли нас не в «черном вороне», а на обычном стареньком грузовике. И вместе с нами, арестованными, сидели на скамейке два бойца с винтовками. Нас набралось больше десяти: три полицая, явно из уголовников, с толстыми кирпичными мордами. И среди них наш околоточный. Тот самый, что наклеивал у нас извещение. Увидев меня, этот отвратительный тип ощерился и пробормотал: «А, докторица? Вместе нас повязали...» Еще были какая-то смазливая, густо накрашенная бабенка в беличьей шубке и старушечьих валенках, тот самый попик с мочальной бородкой, которому Наседкин плюнул в физиономию, и трое немцев. Их женщины вытащили из угольного мусора в котельной «Большевички». Ну и еще какие-то менее примечательные типы. Впрочем, я видела их точно во сне. Все силы мои уходили на то, чтобы подавить рыдания. Сидела и заклинала себя: не реви, не смей реветь при них, при этих... От напряжения я точно одеревенела. Конвоиры зорко следили за нами.
Они оказались правы. Дамба, ведущая к мосту через Тьму, вся исклевана снарядами. Машина мед-ленно пробиралась, маневрируя меж свежих, еще не занесенных снегом воронок. И вот когда колеса ее уже готовы были подняться на доски моста и она почти остановилась, один из полицаев, дюжий парень с красной рожей и длинными, обезьяньими руками, вдруг метнулся и перемахнул через борт. Но неудачно, подвернул ногу. Вскрикнув от боли, он все-таки пополз под откос. Оба конвойных тут же навалились на него. Должно быть, он был очень силен. С рычанием и стонами он отбивался, и они катались живым клубком, а вокруг них бегал, потрясая пистолетом, выскочивший из кабины лейтенант.
- Стой, стрелять буду... Стой, стреляю!
Два других полицая равнодушно следили за борьбой. Накрашенная бабенка взвизгивала, а попик отвернулся и закрыл лицо тощенькими руками.
- Господи, помяни царя Давида и всю кротость его!
Наконец беглеца одолели, заломили ему руки назад, завязали ремнем, подняли в машину. Он лежал на днище, тяжело дыша и вращая глазами. Казалось, вот-вот оборвет ремень и с рычаньем бросится на всех. Потом он замер, и вдруг мы услышали вой, бессловесный, нечеловеческий вой, от которого становилось жутко. Наш околоточный ударил его сапогом в бок.
- Заткни дыхало.
- Боже, боже, как же ожесточился человек! - бормотал поп, забивший в дальний угол машины.
- Оно конечно, пуля добрее петли, - заметил тот, что бил сапогом, и спокойно попросил: - Закурить никто не угостит?
Самым страшным было не то, что меня арестовали, не то даже, что везут куда-то, наверное, в тюрьму, а то, что сунули в машину с этой мразью, с этими подонками. Почему? По какому праву? Что я сделала?
- Позвольте осведомиться: за что вас? - с видом старого знакомого спросил у меня попик.
Я отвернулась. Стараясь не смотреть на спутников, я глядела на город и мало-помалу отвлеклась от омерзительного соседства. Город действительно поражал. Ведь и суток не прошло с тех пор, как его освободили, а он уже жил, именно жил. а не лежал холодным трупом, как это было при немцах, совсем недавно. Он походил на больного, который только что прошел через опасный кризис и, еще бессильный, еле живой, жадно оглядывается кругом. И я удивлялась: откуда столько народу, куда все торопятся, спешат? У магазинов, смотревших на улицу пустыми глазницами разбитых стекол, очереди. Там уже что-то «давали». А одна очередь, длинная-длинная, растянулась по Советской почти на квартал. За чем же это? Ее голова скрывалась в дверях Дома Красной Армии. Ага, вот что: «Сегодня весь день здесь демонстрируют историко-революционный фильм «Ленин в Октябре». Написано от руки на куске пестрых обоев. И стоит вчерашняя дата. Ты понимаешь, Семен, вчерашняя! Матушки мои, как это здорово: только-только освободили город, а тут уж крутят фильм.
Казалось, все бы отдала, чтобы сейчас очутиться в этой очереди или вот с этими девчонками орудовать лопатами, сгоняя с тротуаров снег... Увы, меня везут вместе с немцами и немецкими прихвостнями, и люди в очереди, и эти девушки, и наши конвойные смотрят на меня, как на что-то уродливое и опасное. Не исключено - кто-то из них знает или слышал обо мне. Становится мучительно стыдно. Мне вдруг хочется, чтобы наша машина натолкнулась на какую-то другую - и разом конец. Ничего не чувствовать, ничего не думать. Когда-то была казнь: гоняли сквозь строй, и каждый солдат, мимо которого проводили приговоренного, опускал ему на спину шомпол. Это здорово описано у Толстого. А для меня шомпола - эти взгляды. Я под ними даже физически вздрагиваю, сжимаюсь, как тот солдатик в рассказе, только, наверное, мне больнее.
Но, Семен, я верю несмотря ни на что. Верю, что правда победит, что меня и тебя освободят. Мы увидимся. Ведь верили же мы вопреки всему, что скоро освободят наш Верхневолжск. Верили, даже когда факельщики поливали нашу дверь бензином. И, видишь, не зря. Только вот... Ничего, ничего... Лес рубят - щепки летят... И кто только сочинил эту проклятую пословицу?
И очень я поразилась, увидев тюрьму. В городе столько домов сгорело, разрушено, а вот тюрьма за Московской заставой целехонька. Смотрит на все четыре стороны слепыми окнами, закрытыми косыми фанерными щитами. Машина погудела у ворот. Они открылись. Въехали во двор. Велено было вылезать. Я спрыгнула на снег, и мы пошли, сопровождаемые конвойными.
Должно быть, в силу военного времени процедура приемки оказалась довольно простой. Нас, двух женщин, эту намазанную бабенку и меня, отделили от мужчин. Старшая надзирательница, здоровенная, красивая бабища с румяным лицом и таким бюстом, что китель просто трещит на ней, как-то очень небрежно обыскала нас, осмотрела вещи. Подивилась, что со мною ничего нет, и даже вступила в разговор.
- За что? - спросила она мою спутницу, как я теперь уже знала, Валентину Валентиновну Кочеткову, двадцати пяти лет, жену военнослужащего, по профессии домохозяйку.
- С голоду подыхать не хотела, - ответила та, улыбаясь слишком уж ярко накрашенным, но каким-то вялым, растрепанным ртом.
- Значит, немецкая подстилка, - жестоко уточнила надзирательница, закрывая чемодан Кочетковой, откуда изъяты были лишь маникюрные принадлежности да пояса от платьев. И подтолкнула его ногой. - Можете забирать.
В моем узелке были лишь вафельное полотенце, зубная щетка, ночная рубашка с рейтузами да драгоценный, последний у нас, кусочек мыла. Я хотела оставить его детям и оставила, но, как видно, тетя Феня сунула-таки мне его напоследок.
- Что же мало шмутков?
- У меня больше ничего нет.
- Не нажили, стало быть, при немцах?.. За что?
- Не знаю.
- Все подследственные не знают. Знакомая песня... Ладно, недозволенного нет. Часы, между прочим, придется оставить, - сказала надзирательница и крикнула коридорному, молодому туповатому парню, появляющемуся по ее зову из-за двери: - Этих в седьмую! Там у нас только двое.
Ага, значит, не одиночка! Это неплохой признак. Значит, мы, по мнению прокурора, подписавшего ордер, не такие уж великие государственные преступники. Но когда нас повели по полутемным коридорам, когда мы стали подниматься по лестнице, чугунные ступени которой были заметно вытерты за долгие годы подошвами заключенных, меня охватила тоска. Я почувствовала, как ноги слабеют, начинают дрожать. Споткнулась. «Нет, нет, Верка, не смей себя растравлять». Успокаиваю себя: наверное, кто-нибудь ложное донес или показал... Но выяснится же, все выяснится... Не смей психовать... Ах, как скрежещет и лязгает замок! Почему их тут не смазывают?
Надзиратель раскрывает дверь. Что это? Кира Владимировна Ланская! Она стоит у столика и смотрит на нас, входящих. У нее величественная, гневная поза царевны Софьи с известной картины. Но при виде меня театральная поза как-то сразу исчезает, и в голубых глазах я вижу одновременно и удивление, и насмешку, и, может быть, радость. Но только в глазах, она остается на месте и в ответ на мое приветствие делает лишь холодный кивок.
- Что? Почему?.. - не понимаю я, но она показывает глазами в сторону двери. Надзиратель еще не отошел, гремит замок.
- Узнают, что знакомые, - разведут, - говорит Ланская чуть слышно.
Осмотревшись, замечаю еще одну обитательницу камеры. Это маленькая, сухонькая женщина неопределенных лет, с худым, благообразным личиком. Сидя в углу у своей поднятой койки, она сочувственно смотрит на меня. Я уже разглядела: лицо ее обезображено синяками, царапинами. Правый глаз совсем запух.
- Здравствуйте! - говорю я.
Ланская молча кивает. Женщина с синяками радушно произносит певучим голосом:
- Добро пожаловать.
В это мгновение мне почему-то приходит на ум, что сейчас, наверное, полдень. Двенадцать ноль-ноль. Быстро поднимаю рукав и вижу только след от ремешка.
- Часики-то отбирают, - сочувственно напоминает женщина с синяками. - Ничего не поделаешь, такой тут порядок.
В коридоре уже стихло. Надзиратель, должно быть, отошел.
- «Откуда ты, прелестное дитя?» - иронически декламирует Ланская.
Но все это как-то тускло доходит до сознания. Зато я хорошо представляю: сейчас вот Василий спустился к нам в госпиталь. Идет к моему «зашкафнику», откидывает занавеску. «Нету, взяли ее утром», - говорят ему...
14
Итак, нас в камере четверо: я, Ланская, эта самая Валентина Кочеткова, обвиняемая в том, что у нее в квартире собирались и гуляли гитлеровские офицеры, и эта четвертая, маленькая, молчаливая, настороженная, тихо сидящая в своем углу, почти не открывающая рта и только все время внимательно смотрящая на нас. Ее фамилия Кислякова. Она с «Большевички» - табельщица или что-то в этом роде. О себе ничего не рассказывает, твердит только, что взяли ее «по злобе соседей». Однако все-таки проговорилась, что разукрасили ее женщины, таща в милицию. Не знаю уж, чем она их так прогневила, но теперь, когда я к ней пригляделась, вижу, вернее, чувствую: есть что-то в этой тихоне затаенное, недоброе, и это «что-то» позволяет думать, что соседки поколотили ее не зря.
В разговорах наших она участия не принимает. Слушает и вздыхает. Но, по-моему, она уже в нас достаточно разобралась, знает наши слабые места и точно, с самым сочувственным видом, тычет в них булавки.
- Ох, что-то вы со сна уж больно плохо выглядите! - говорит она во время оправок Ланской. - Морщин-то, морщин-то... ай-ай-яй! Напрасно вы себя худыми мыслями терзаете...
То ли из-за переживаний, то ли из-за отсутствия косметики Кира Владимировна действительно здорово постарела. Перестала следить за собой. Роскошная коса ее, которую она не расчесывала, космами спадает на плечи. Во время оправок мы все жадно умываемся, наслаждаясь свежестью холодной воды, а она еле-еле оботрет лицо мокрыми ладонями.
- Нельзя, милая, так убиваться, а то ведь и вовсе старушкой станете, - сочувственно скрипит Кислякова.
Окно наше загорожено косым фанерным щитом, так что мы видим наверху лишь продолговатый кусок неба. Но в щите этом внизу небольшая дырочка, от гвоздя, что ли. Если, встав на цыпочки, как следует приладиться, можно сквозь эту дырочку видеть будку с часовым, стену и дальше шоссе. Это трудно. Дырка высоко, на цыпочках долго не выстоишь, но когда шаги коридорного удаляются, мы все по очереди, кроме Кисляковой, становимся на табуретку и наблюдаем за танками, автомашинами, за солдатами на шоссе. Все это движется на запад. Только на запад! В этом наше утешение. Значит, наступление продолжается, значит, гонят фашистов. Сидим и гадаем, когда же очистится от них наша земля: к лету... к годовщине войны... к будущему году?
И вот однажды мы слышим шум авиационных моторов. Вскинули головы и увидели, как в голубом прямоугольнике над щитом промелькнул самолет. Наш самолет. Мы едва успели рассмотреть эту стремительную стрекозу, и тут послышались рыдания. Валентина стояла у стены, закрывая лицо руками.
- Ох, как я вас, Валенька, понимаю! - послышался сочувственный шепот Кисляковой. - Верно, верно, - муженек, сталинский сокол-то ваш, прилетит: «Где моя дорогая женушка?» А ему всякие там и ну нашептывать: сидит, мол, сидит ваша красавица... На людской роток не накинешь платок. И за что сидит - обязательно скажут. Непременно скажут, а то еще чего и от себя придумают. Злые ведь у людей языки...
Ну, а меня эта тихая, благообразная язва травит детьми. И все с сочувствием, все с заботой. Дескать, кто-то там за ними приглядит... Такое уж время, всем только до себя, кому они нужны, круглые-то сиротинки... «Круглые» она подчеркивает, вкладывая в это слово дальний смысл. А на лице забота, сострадание... Ужасно скверная баба. Все мы ее тихо ненавидим. Она отравляет нам и без того несладкую жизнь.
Теперь уже ясно: то, что со мной произошло, не случайность, не ошибка. Я уже не надеюсь, что кто-то там спохватится, меня вызовут, извинятся. Следствие начато, его ведут быстро. Меня и Ланскую берут на допросы чуть ли не каждый день, и обвиняется твоя жена, Семен, в том, что она была завербована немцами и оставлена в городе как резидент гестапо. Ре-зи-дент! Ни больше - ни меньше!
У меня два следователя. Один из них коренной верхневолжец. Его фамилия Кожемякин. Ты его, может быть, и помнишь, - такой высокий, с черными лохматыми бровями. Когда-то в доме отдыха мы играли с ним в волейбол, и он еще славился тем, что умел подавать «резаные мячи». Он очень постарел, полысел. Лицо - сплошной комок дергающихся мускулов. Оно какое-то восковое, а глаза красные, как у кролика. У него, должно быть, ночная смена. Во всяком случае, меня к нему приводят затемно. Он курит, зажигая одну папиросу от другой. Часто вскакивает, бегает по комнате. Начинает допрос обычно вполголоса.
- Не передумали? Не хотите облегчить свою участь чистосердечным признанием?.. Архив комендатуры, как вы знаете, захвачен. В ее списках вы фигурируете как агент. Другой, выявленный нами и уже разоружившийся, раскаявшийся агент подтверждает это.
- Ничего не знаю. Это ошибка или клевета. Мне никто из немцев даже и не делал подобных предложений.
Семен! Ведь я теперь не та глупая, взбалмошная, везучая девчонка, какой ты меня помнишь. Я понимаю, что ни слезы, ни возмущение, ни мольбы здесь не помогут. Спокойствие, только спокойствие. И логика. Не путаться и не врать даже в мелочах. И не бояться... Да, и не бояться.
И вот, начав вполголоса, Кожемякин постепенно заводит сам себя. Мне даже кажется иногда, что он нарочно доводит себя до истерики, кричит, грозит, и глаза его при этом становятся совсем красными. Я еле сижу, слипаются веки, хочется спать. Но я говорю себе: «Спокойно, Верка. Спокойствие - это твоя броня».
- Я же вам как человеку советую: разоблачитесь, разоружитесь, помогите нам раскрыть всю оставленную ими сеть. Мы поймем. Мы знаем - у них были средства заставить вас дать это необдуманное обязательство. Что же, вам хочется умереть, так и не увидев ваших детей? Помогите нам, и это во много раз смягчит вашу участь.
Я улавливаю только суть вопроса и почти машинально твержу:
- Была бы рада помочь, да нечем. Не могу же я выдумывать то, чего не было.
- И вы хотите, чтобы я вам поверил? Хорошо, повторим показания. Вы не отрицаете, что бывали в штадткомендатуре? Нет... Что заходили в кабинет к коменданту и говорили с ним с глазу на глаз? Нет?.. Нет... Не отрицаете, что встречались с этой гестаповской лисой хауптштурмфюрером эс-эс Рихардом фон Шонебергом? Нет? Не отрицаете?.. Что в день казни наших патриотов Раздольский в присутствии сотен граждан, согнанных на казнь, целовал вам руку и вы стояли на «почетных местах» с их офицерьем. Не отрицаете? Нет?.. Неужели вы хотите, чтобы я после этого поверил, что все эти симпатии оккупанты проявляли к вам за красивые глаза, тем более этот фон Шонеберг, как нам известно, вообще не интересовался женщинами...
В сущности, мы часами топчемся вокруг этой темы, и когда оба выматываемся в этом бесконечном поединке, он вдруг смолкает. Сидит молча и курит. Я закрываю глаза, отдыхаю. Даже дремлю. Он не мешает. Мне кажется, он и сам начинает дремать с открытыми глазами и с папиросой в зубах. Но стоит хлопнуть двери и послышаться шагам в коридоре, он встряхивается и сейчас же начинает с высокой ноты:
- Нет, к черту, к дьяволу, хватит с меня всей этой туфты!
Таков, Семен, следователь Кожемякин. А вот другой, совсем молоденький, белокурый, курчавый, с простецкой физиономией и с простецкой фамилией - Петров. Этому подстегивать себя не приходится. Ему все ясно. Он искренне верит в мое предательство, убежден, что я умышленно осталась с немцами, сотрудничала с гестапо. Он ненавидит меня всем своим простецким существом, и он, конечно, глубоко уязвлен, что эта скверная баба из гестапо никак не раскалывается. Мое спокойствие мнится ему лишь доказательством моей заскорузлости в преступлениях...
Но сегодня, Семен, именно он вывел меня из себя, и я совершила страшную, непоправимую глупость. Тот, наш земляк Кожемякин, ни разу не вспомнил о тебе, а Петров, запасшись какими-то бумажками и выписками из судебных дел, сегодня навалился именно на это обстоятельство. Дескать, муж еще до войны был расшифрован как немецкий шпион, а мне, как жене, только и оставалось продолжать его дело. Сказал это, многозначительно постучал ладонью по бумагам и победно уставился мне в лицо своими светлыми мальчишескими глазами. Не знаю уж почему, но я страшно разволновалась, закричала, что не верю в твою вину, что ты жертва ежовщины, что он мальчишка и не смеет так говорить о тебе, большевике.
- Так вы, Трешникова, не верите в справедливость советской юстиции? Берете под сомнение решение тройки? - В его мальчишеских глазах засвети-лось торжество: «Ага, попалась!»
- Я этого не сказала, - ответила я, стараясь взять себя в руки. - Я лишь сказала: «Мой муж жертва клеветы или судебной ошибки, он и там остался большевиком-ленинцем».
- Семен Никитин признался и осужден. Вот выписка из его дела... Прочесть? - Он торжественно похлопал по своим бумагам. - А вы вдвойне обманываете следствие, пытаясь выгородить разоблаченного и осужденного врага и спрятать свой собственный след. Вы даже осмеливаетесь называть врага святым именем «большевик».
Как он торжествовал и как я его ненавидела! И тут я не стерпела. Твое письмо было, как всегда, со мной. Я выхватила его и бросила на стол.
- Вот, вот кто мой муж, читайте!
Он лениво взял бумажку, неторопливо склонился над ней, и вдруг на скуластом лице его появилось удивление. Я поняла, что сделала глупость, даже наклонилась, чтобы вырвать письмо, но он, по-видимому, это уже предусмотрел. Откинулся на спинку стула, разбирая твой почерк.
- Так... «Товарищ, нашедший это...» Тюрпочта? - Эти слова он выговорил прямо со сладострастием. Должно быть, он действительно способный малый, так быстро разбирал он твои каракули. - «Если сложите заглавные буквы моих показаний...» - вроде как акростих? Шифр? Отлично. Ну что же, Трешникова, следствие вам благодарно за то, что вы подтвердили нашу рабочую гипотезу о преемственности преступных связей в вашей семье.
- Но читайте, читайте, там же написано: «Был и остаюсь большевиком-ленинцем».
- Конечно, не «Хайль Гитлер»... Маскировочка, примитивная маскировочка. - Петров бережно разглаживал ладонью твое письмо, и я совершила вторую глупость - я заплакала, заплакала по-бабьи, как говорится, «в голос».
Он молча поставил передо мной графин и стакан. Налил воды и уселся, смотря на меня, как на какую-нибудь раздавленную гусеницу. Ну нет, шалишь! Я заставила себя успокоиться. Вытерла глаза, поправила волосы. Знаешь, эти наши бабьи жесты очень успокаивают.
- Отдайте письмо.
Он удивленно посмотрел на меня, должно быть, искренне прикидывая, не сошла ли я с ума.
- Отдайте, это все, что у меня осталось от мужа.
Не отвечая, он достал из стола папку, положил в нее письмо и так же молча вложил в дело.
- Наконец-то такая опытная женщина, как вы, дали трещину! Первая трещина - это уже кое-что.
Он торжествовал, а я едва подавила в себе желание схватить со стола чернильницу и проломить эту белокурую курчавую мальчишескую голову...
Когда меня вернули в камеру, я еле стояла на ногах. Валентина подошла, прижала меня к себе, стала гладить волосы.
- Плохо? Раскололась? Подписала признание? - Эта баба с кукольным лицом, пышной фигурой и куриными мозгами, должно быть, тоже допускает, что я действительно имела шашни с гестапо, и при всем том, несомненно, искренне жалеет меня.
- Мне не в чем признаваться, - устало ответила я и только тут заметила, что Ланская сидит на табурете перед столиком, бросив голову на руки. Неподвижная, застывшая. Волосы свисают космами. Поза, несомненно, эффектная. Вероятно, подошла бы и Жанне д’Арк и Марии Стюарт для последних актов трагедий... Но почему она будто каменная, почему даже глаза на меня не подняла, точно бы и не заметила, что я вернулась? И почему эта Кислякова посматривает на нее из своего утла, плохо скрывая затаенную радость? С тем же любопытством остренькие ее глазки поднялись и на меня.
Верка, подтянись! Не дай ей позлорадствовать. Может быть, эта противная баба, которую совсем не вызывают на допросы, и сидит здесь, чтобы слушать, о чем мы тут болтаем?
- Кира, что с вами?
Ланская подняла голову. Посмотрела на меня отсутствующим взглядом и безнадежно отмахнулась. Нет, она уже никого не играла. Она была сама собою.
- Беда, - раздалось из угла, - подвел ее, бедную, ейный хахаль. Под петельку подвел.
Слово «петля» ожгло Ланскую, будто удар хлыста. Она вскочила и заметалась по камере. Она легко носит свое крупное тело, походка у нее еще царственная, а вот внешность... Из цветущей женщины превратилась в пожилую. Даже голубые глаза, излучавшие и в жизни, как со сцены, такое обаяние, потускнели, погасли.
Пометавшись по камере, как пантера по тесной клетке, она тяжело опустилась на табуретку.
- Разве я могу теперь жить, доктор Вера?
- Кира, что произошло?
Она снова принимается ходить. На воле - закат. Когда солнце заходит и почти ложится на землю, острый его луч проникает в дырочку в щите, загораживающем окно, пронзает полутьму камеры и веселым светлым пятнышком медленно движется по унылой коричневой стене. Она подошла к этому пятнышку, провела по нему рукой, усмехнулась:
Я за стенного,
За маленького зайца
Отдал бы тотчас же
Все на свете...
Голос, как и поступь, у Ланской прежний, глубокий, грудной, и стихи она прочла так, что Валентина разревелась. Вдруг она остановилась, повернулась ко мне, схватила за плечи, сильно затрясла.
- Вера, эта гадина, этот червяк, эта мразь Винокуров... Он ведь действительно был завербован гестапо. Он тайком от меня дал письменное обязательство остаться их агентом.
- Меня тоже обвиняют в этом. Может быть...
- Ничего не «может быть». Вера... Ничего... Все ясно. Мне показали это его обязательство. Рука, несомненно, Винокурова, а бланк, несомненно, немецкий... Ой. какая гнусь! - почти простонала она.
Стук в дверь. Голос:
- Кончайте шум!
- А, иди ты! - отмахнулась Ланская от кусочка физиономии нашего коридорного, появившегося в оконце. С ним у нее особые отношения. Он видел ее в каких-то спектаклях, помнит об этом, она пользуется у него некоторыми привилегиями.
- Ну и что же? Он - это он. вы - это вы.
У вас свои грехи, но их будут мерить иной меркой. - В этой камере я чувствую себя как Сухохлебов в наших подвалах. Я даже говорю спокойным сухохлебовским тоном.
На миг ее взгляд оживляется, загорается надеждой.
- В самом деле? - Но только на миг. Взгляд тут же гаснет. - Но дело не в том, он сам показал, что я тоже завербована. Он на многих показал. Очевидно, и на вас. Он ведь вас ненавидит. Вы были для меня живым укором, я мучилась, и это его бесило...
Мне вспомнились слова, за которые столько раз я хваталась, как за спасательный круг.
- Сын за отца не отвечает, - сказала я. - А жена за мужа тем более...
- Ну не скажи, миленькая... Муж и жена - одна сатана. - Эта пословица доносится, конечно, с угловой койки.
- Молчи, гнида! - грозит Валентина, вскакивая.
- Но-но, не больно, фрицевская подстилка...
«Хоть бы ссора загорелась, что ли, все бы атмосфера разрядилась», - думаю я, ибо мне все-таки жаль эту женщину, которая мечется по камере, не то играя, не то действительно переживая смертельную тоску.
- Вас же не вербовали, вы ж не давали таких расписок?
- Ну чего вы спрашиваете, доктор Верочка?..
Вы правильно сказали: у меня свои грехи, и я за них готова ответить. Ну, смалодушествовала в трудную минуту, ну, даже, если хотите, поверила, что Красная Армия разбита, что этой стальной лавины не остановишь, что старая жизнь кончается и надо приспосабливаться к ним, к этим... И что? Кому от этого вред, кроме меня самой? Ну, пела для них в кабаре, на столе вон плясала, черт возьми... Ну, принимала подарки - жрала их сласти и коньяк: надо же было жить. Но завербоваться в гестапо... Да меня никто и не вербовал, на что я там нужна? - И вновь застонала: - О, как скверно, как подло, как низко... И этого слизняка я когда-то считала яркой, мыслящей индивидуальностью, смотрела ему в рот, любила его...
Потом, оборвав поток слов, подозрительно уставилась на меня.
- Я вижу, вы тоже мне не верите? Да? - И истерически выкрикнула: - Не верите, ведь не верите!..
Верю ли я ей? Она все время играет какие-то роли, и когда она настоящая, невозможно отличить, Валька - та совершенно ясна, глупая, безвольная и какая-то слишком уж телесная - в общем-то малодушная баба. Офицерские кутежи, блиц-романчики с нашими врагами - все это, конечно, омерзительно, но вот на серьезное предательство вряд ли она способна... А Ланская... Нет, за нее я бы не поручилась: самовлюбленная, эгоистичная до мозга костей, шкурница и, конечно, авантюристка, хотя бы в душе. Нас она не выдала, и это говорит в ее пользу... Но вот проболталась же как-то, что они с Винокуровым собрались бежать, уложились и остались лишь потому, что Шонеберг не прислал за ними обещанной машины. Говорила: «Забыл впопыхах драпа», - а я думаю, просто бросил их, выплюнул, как шелуху от семечек. Обмолвилась она об этом в припадке истерии, а потом, полчаса спустя, хладнокровнейше уверяла, что сама решила остаться... Нет, ей верить нельзя. В сущности, я тут, в камере, очень одинока. .
Я стыжусь своей беспринципности, но все-таки мне ее жалко: такая красивая, такая талантливая, такая обаятельная...
- Нет, и вы мне не верите, доктор Верочка! - повторяет она, и голубые глаза ее заплывают слезами. - Одна, совсем одна...
Тут уж она явно играет.
- Вам предъявили протокол допроса Винокурова? Он им подписан?
- Нет. Не предъявляли. Я потребовала очную ставку, - отвечала она, без переходов переключаясь на деловой тон.
- Обещали?
- Не знаю, не знаю... Но раз он был действительно завербован, он может показать что угодно на кого угодно... О, я его узнала! Мразь, гнида, слизняк... И еще этот наш герой-любовник, про которого вы рассказывали, ну тот, что на мосту убеждал вас уходить... Он показал, что я нарочно пустила слух о падении с крыши, чтобы обмануть общественность и остаться у немцев.
- Но это же было!
- Было, не отрицаю. Об этом я сама им сказала. Малодушие - не предательство. Глупая бабья хитрость - не преступление. Но теперь, когда Винокуров...
- Зачем же он так сделал? Какая ему-то от этого польза?
Ланская подняла на меня глаза. В них была уже неподдельная тоска, такая тоска, что мне стало жутко.
- Вот именно, зачем? Того героя-любовника я понимаю. По его мнению, я осрамила труппу, опорочила нашу профессию, положила тень на весь коллектив. Он имеет право меня ненавидеть, думать обо мне самое скверное... Но этот? Он же любит, любит меня. Я это чувствую, знаю... Вы меня не слушаете, Вера.
В самом деле, я уже не слушала. Я вспоминала сцену на мосту. Страшный исход, умирание города. Поток людей с узлами, чемоданами, баулами, детьми на руках. Эту телегу, как бы плывущую в живом потоке, и старого актера Лаврова, поверх театральных пожитков, одной рукой обнимавшего жену, другой прижимавшего к себе картину... И тот, другой актер, их герой-любовник, встал передо мной. С какой болью сказал он мне тогда о гибели Ланской! Да, сейчас он имеет право так о ней думать. Но Винокуров! Я же видела их вместе. Только слепая любовь могла заставить его переносить ее капризы, ее издевательское презрение. И почему он-то не уехал с немцами, почему остался? Ну, обманули, не дали машины. Мог уйти пешком. Он неглуп и, конечно, знал, что ожидает фашистского «вице-бургомистра» в освобожденном городе... Что-то во всем этом было неясно, о чем-то Ланская и теперь не договаривает.
- Подождите очной ставки. Может быть, вам ее все-таки дадут.
- Вы еще расскажите мне про презумпцию невиновности! - отмахнулась Ланская.
Потом она как бы снова окаменела и просидела до отбоя в полной неподвижности. Даже когда коридор наполнился железным грохотом опускаемых коек, она не шевельнулась. Валентина опустила ее койку, поправила постель, подняла Ланскую под руки, и та, не сопротивляясь, улеглась. Улеглась на спине, уставив глаза в потолок.
А я, признаюсь, с удовольствием вытянулась под колючим одеялом. Теперь уже ясно, на допрос меня сегодня не возьмут. Хоть высплюсь как следует... А сна нет. Лежу вот с открытыми глазами, слышу, как шуршит солома тюфяка Ланской, как похрапывает Валентина. В углу Кисляковой полнейшая тишина. А мне вот не спится. Этот молокосос отнял у меня твое письмо, Семен. Допустим, оно действительно пришло недозволенным путем. Ну что он из этого извлечет? Нарушение правил переписки? За это даже в тюрьме наказывают всего лишением права писать на неделю или на полмесяца... Спокойно, спокойно, Вера! Учись мыслить логически. Думаю о тебе, Семен. Вот и сравнялись наши судьбы... Ничего, ничего, вот увидишь, правда кривду переборет, оба мы выйдем. О ребятах стараюсь думать меньше: им, наверное, не так плохо у Татьяны... И еще думаю о Василии, об этом несостоявшемся свидании, назначенном на двенадцать ноль-ноль. О чем он хотел тогда со мной говорить? Впрочем, может быть, ни о чем, просто хотел проститься, и нечего о нем думать. Мало ли разных пациентов у врача! И, может быть, это лучше, что так вот все само собой и оборвалось?
- Петелька, верная петелька, - слышится вдруг из угла, где лежит Кислякова.
Ух, с каким бы удовольствием я вцепилась в глаза этой гадины!
Две ужасные новости. Ланскую брали на допрос. Вернулась необыкновенно быстро и в таком состоянии, что мы не сразу решились с ней заговорить. Ей дали очную ставку с Винокуровым, и он при ней снова показал, что они вместе обязались стать резидентами гестапо в Верхневолжске.
- Но это же ложь! Ложь! - закричала Ланская следователю. - Он лжет.
- Нет, так было, Кира Владимировна, - ответил Винокуров и даже, как сказала Ланская, спокойно, назидательно добавил: - Только чистосердечное признание и полное разоружение могут облегчить нашу вину и нашу участь...
- ...Я смотрела на него во все глаза, - рассказывала нам Ланская. - В своем ли он уме? Не знаю... Самое страшное, доктор Верочка, это то, что он почти не изменился - был, как всегда, суховат, корректен, деловит... Чудовищно, чудовищно!..
Ланская сморщилась и закачалась, будто преодолевая нестерпимую зубную боль.
- Но и не это самое страшное. Вы знаете, что сказал мне этот человек? Такое и Достоевскому бы в голову не пришло. - Она стремительно вскочила с табурета и тут же со стоном бессильно упала на него. - Следователь, ну тот, который постарше, этот комок нервов, он зачем-то вышел, оставив нас наедине. Может быть, у них это прием, не знаю, только он вышел. И вдруг этот человек зашептал: «Я люблю вас, Кира Владимировна. Я не могу без вас. Вы отказались бежать. Ради вас остался и я, хотя знал, что мне угрожает... Я слишком люблю вас, пусть мы уйдем из жизни вместе». Я так была ошарашена, что не успела даже плюнуть ему в морду. А тут открылась дверь, вернулся следователь. Он, этот человек, смолк, а я сижу, будто на меня потолок обрушился. Сижу и не могу говорить... «Уйдем вместе», а! Потом, когда я обрела дар речи, его уже увели... Он чудовищно оклеветал меня, видите ли, во имя любви... Он хочет, чтобы я легла вместе с ним в его поганую могилу...
- А что ж, любишь кататься, люби и саночки возить! - раздалось из тихого уголка нашей камеры. Но я как-то на эти слова не обратила даже внимания, так поразил меня рассказ.
- Этот старый мул, он сквозь пальцы смотрел на все мои увлечения, потчевал коньяком моих поклонников, питая отвращение к напиткам, спаивал меня, и не только спаивал - хуже: «Вы - королева театра», «Вы - новая Ермолова», «Новая Савина», «Лишь мне видны все сверкающие грани вашего таланта...» И все это он делал, чтобы я от него не уходила... А тут, видите ли, не может оставить меня одну на земле.
- Так вы бы и сказали об этом следователю.
- Сказала, - устало произнесла Ланская. - Он даже, кажется, записал. Но какой же психически нормальный человек в это поверит?.. Вы-то хоть верите?
- Я не психиатр, я хирург. Но сейчас я вам верю.
- А мне кажется, что не верите и сейчас. Вы ведь недоверчивое существо.
У меня просто кружится голова! Ужас какой-то. Этого гнусного психопата на куски разорвать мало. А у меня ощущение, будто Ланская даже довольна, что именно так он объяснил свою гнусную клевету. И еще меня поразило, что она как-то сразу после этого рассказа об очной ставке и будто даже с не меньшей горечью поведала и другое. Оказывается, ее где-то там проводили мимо зеркала. Она заглянула в него и теперь поражена переменами в своей внешности.
Действительно, вянет на глазах. Вянет просто катастрофически. Но об этом ли ей сейчас думать? А она думает, мучается.
- Ну, какая же я теперь героиня? Мне комических старух играть. В грузовике все время закрывалась. Вдруг кто-нибудь увидит, какой стала Ланская. - И опять стонала, будто от зубной боли. - О-о-о! Для актрисы моего плана внешность - это все. Обаяние даже больше, чем талант. Ведь написал же один рецензент, что я во всех ролях играю самое себя, разные стороны моего характера... Помните, это ведь у Флобера - «Эмма Бовари - это тоже я...».
Мы с Валентиной взапуски стали разубеждать ее. Она, кажется, поверила, немного успокоилась: там, где висело это зеркало, было действительно темновато.
Между тем острый солнечный лучик, пробивающийся через дырку в фанерном щите, снова расцвел на голой коричневой стене ярким бликом. Она подняла руку, как бы желая поймать этот лучик.
- Вот он опять пришел ко мне, стенной маленький заяц. Хочет проститься, - вздохнула. - Спокойной ночи, заяц... Иди... я тебя догоню.
А потом вдруг стала расспрашивать меня, что переживает человек, умирая:
- Вы доктор, вы должны знать.
- Не приходилось. Опыта нет.
- Петля, конечно, противно... Помните, как тот старый человек, он, кажется, ваш родственник, тогда великолепно дрался на машине, чтобы умереть не в петле... Вот это мужчина! Как он тогда в этого Севку Раздольского стулом залепил... От пули, наверное, ничего: мгновенная боль, и все. Страшна не боль, мучительно ожидание. А лучше всего, наверное, уснуть и не проснуться. Погодите, кто это сказал: «Спать лучше, чем не спать, умереть лучше, чем спать, а еще лучше не родиться...»
Вечером меня взяли на допрос к следователю Кожемякину. Он был не то болен, не то устал, держал меня недолго. Уточнил только, сколько раз была у коменданта и по каким делам, встречалась ли я один на один с Шонебергом и как я объясняю, почему этот барон раскланялся со мной в день казни на площади, почему, за какие заслуги, отвел меня на «почетные места»... Нового в этих вопросах не было. Я сама в первый же день обо всем этом написала. Не понимаю, зачем ему опять это понадобилось. Когда он листал дело, я заметила - письма в нем нет, и вообще о письме не было сказано ни слова. Когда меня уводили, он наклонил голову и сказал: «Будьте здоровы...» Что бы это могло значить?
А с допроса меня везли на грузовике вместе с этим попиком с мочальной бородкой. Он совсем скис, запаршивел и не очень даже распространялся насчет бога. Зато от него я узнала, за что сидит эта крыса Кислякова, и даже поняла, почему она внушает всем такую неприязнь.
Знаешь, Семен, кто выдал гестаповцам детей инженера Блитштейна. Раиных сестер? Представь, эта гадюка. Оказывается, женщины в семидесятом общежитии, в том огромном, что на «Большевичке» зовут «Парижем», пряча их, перетаскивали с этажа на этаж, от одной к другой. У Кисляковой хранились вещи девочек, которые какая-то добрая душа перенесла с квартиры Блитштейнов. Ну вот, из-за этих вещей, должно быть, эта мразь и навела полицаев на след детей. Двух схватили, а Раю не нашли. Но она была в списке. Ее снова и снова принимались искать, и спасло ее лишь то, что Зинаида привела ее к нам. Вот так Кислякова! Как жаль, что тетки с «Большевички» только поколотили, а не удушили ее. А ведь нас с ней держат в одной камере...
- Слух есть, что начали выпускать невинно забранных, - шепнул он мне на прощание.
Ободряющее известие.
Вернувшись, я, разумеется, рассказала в камере все это. Вслух рассказывала, так, чтобы Кислякова слышала. К моему великому изумлению, это не произвело особого эффекта. Сама Кислякова оборонялась как-то вяло:
- Врет он все, этот долгогривый, жеребячья порода.
- Гадина, гадина и есть! - вяло произнесла Валентина.
Ланская ничего не сказала. Она была в состоянии полнейшего онемения. Ее сосредоточенное молчание подавляло всех, даже, кажется, и Кислякову.
Как хотелось прилечь! Но койки до отбоя опускать не разрешено. Попыталась подремать стоя, притулившись в углу. Валентина вздыхает шумно, как лошадь. Даже шум моторов проносившихся самолетов, всегда производивший на нее такое впечатление, сегодня она будто бы и не слышит.
- Плохо, - шепнула она мне, показав глазами на Ланскую.
Но перед отбоем та как-то приободрилась. Заходила по камере. Потом мы услышали, как она лихо, по-мужски выбранилась и в полный голос продекламировала чей-то стих:
Как кони медленно ступают.
Как мало в фонарях огня...
Чужие люди, верно, знают,
Куда они везут меня.
Уже совсем перед отбоем подошла ко мне, назвала немецкое снотворное, которое она принимала в госпитале.
- Ах, как хорошо я от него засыпала... Вот если бы тогда вы по ошибке дали бы мне дозу побольше... А что, от него можно умереть?
- Нашли о чем говорить.
- Отвечайте коротко - да или нет, - тоном следователя потребовала Ланская.
Я ответила. Этого редкого лекарства достать здесь нельзя, но у меня все-таки зародилось беспокойство, зачем я ей это сказала. Однако все обошлось. Сейчас вот тихо. Валентина, по обыкновению своему, сладко похрапывает. Кислякова затаилась, - не поймешь, спит или нет. Ланская лежит на спине, заведя под голову руки. Глаза у нее открыты, глядит в потолок.
Ну, а я, как всегда, стараюсь в мыслях уйти отсюда, отклеить от себя липкие тягостные воспоминания, заботы, тревоги, свою ни на минуту не угасающую во мне обиду и думаю о тебе, Семен, о ребятах, о Василии. Да, и о Василии. Тут ничего не поделаешь.
Думая о вас, я немного успокаиваюсь, и это страшное: «За что? За что меня так?» - которое, как кислота, все время жжет душу, как бы притупляется. Начинаю засыпать. И тут, где-то на грани сна, вдруг слышу ненавидящий шепот:
- Нет, господин Винокуров, не быть по-вашему... Не выйдет... Этому не бывать...
И опять сна как не бывало. Стараюсь отвлечься: дети... Поп говорил - начали работать школы. Определила ли Татьяна?.. Интересно, как мои раненые восприняли известие о моем аресте... И вдруг, я не знаю даже почему, я поверила, что меня отпустят... Поверила - и все. Поверила и сразу уснула.
Ну, кажется, рассеялась эта вчерашняя морока, навеянная разговором о смерти. Что там ни говори, Ланская актриса и в жизни, и эти ее разговоры тоже из какой-нибудь пьесы. Честное слово. Только играла она так ловко, что я не на шутку за нее встревожилась.
Сегодня в первый раз взяли на допрос эту гадину Кислякову. Все мы свободно дышим, будто вынесли из камеры зловонную парашу и пустили свежий воздух.
Ланская оживилась, она позволила Валентине расчесать и уложить богатую свою косу. Снова декламировала стихи о стенном солнечном зайце. Даже сказала:
- А все-таки, товарищи дамы, жить еще можно, - И принялась рассказывать какой-то старый соленый анекдот.
Анекдот немудрящий, но мы все трое хохотали. Хохотали так, что наш коридорный долго смотрел в окошечко, не понимая, очевидно, что это творится с тремя сумасшедшими бабами, прежде чем постучал: «Прекратите шум».
Нет, в самом деле, убралась, хотя и ненадолго, эта гадина - и все мы почувствовали себя лучше. Как мало, в сущности, надо человеку для того, чтобы получить кусочек радости.
Надзиратель был где-то поблизости. Мы иногда слышали шорох или стук каблуков. Но он не стучал. Может быть, тоже слушал. Эх, хоть бы подольше не появлялась эта скверная баба!
Почему-то они стали рыться в своих вещах. У них есть в чем рыться. Изголовье коек, под которыми они держат свое имущество, высоки, как у хирургических кроватей. Примеряли какие-то тряпки, даже, кажется, чем-то менялись. Я сидела и тихонько посвистывала. У меня нет даже сменного лифчика. Я стираю свой во время оправок, а потом штопаю иглой, которую как-то удалось пронести Валентине.
В этот день хорошо думалось, и я очень ясно видела и ребят, и свой госпиталь, и раненых, и Василия, и тебя, Семен, хотя я не знаю, жив ли ты, и, честно говоря, облик твой как-то уже расплывается в памяти. Потом я воспроизводила ход следствия, вспоминала вопросы, ответы и сегодня пришла к заключению, что дела мои не так уж плохи. Обвинение, видимо, построено на каких-то ошибочных или злонамеренных доносах, и никаких иных статей мне, кажется, пришивать не собираются. Серега Дубинин! Неужели он отступится от меня? Неужели он не найдет в себе мужества пойти к этому Боеву или к кому-нибудь еще и сказать, как и почему я осталась?
Случайно и просто
Мы встретились с вами.
В груди зажила уже старая рана, -
тихонько ведет низким голосом с цыганским придыханием Ланская, и вот они уже обе поют:
Но пропасть разрыва
Легла между нами.
Мы только знакомы,
Как странно...
...Василий, ведь он авторитетный человек. Все эти страшные дни оккупации прошли у него на глазах. Его я тоже назвала как свидетеля. Пусть они вызовут его. Старый большевик, полковник Сухохлебов душой кривить не станет... «Случайно и просто мы встретились с вами...» Неужели расстанемся, даже не простившись? Неужели «пропасть разрыва»? Фу, какая чушь! И слова-то глупые... О чем ты думаешь, Верка, мужняя жена, мать двоих детей? Да и о каком разрыве может быть речь, когда ничего и не было...
Вот ведь на какие мысли может навести это мещанское вытье...
«Как странно. Как странно все это...» Что, что? Кажется, я им подпеваю?.. Верка, что с тобой происходит? Но ведь я же, черт возьми, не старуха и не монахиня! Семен, поверь, сама эта мысль мне и в голову бы не пришла, будь ты рядом. Но мы уже столько времени не виделись, и даже твое письмо, эту последнюю ниточку, связывающую нас, оборвали. Нет и ее...
Кислякову что-то задерживают. Хоть бы она провалилась совсем, эта тишайшая ведьма! А мои бабочки даже навели красоту. У кого-то из них нашлась косметика, подмазали губы, глаза, натерли щеки шерстяным одеялом. Чем-то благоухают. Жизнь есть жизнь! Что я, хуже их, что ли?
- А ну, у кого есть помада?
Ланская сама наводит мне красоту. Подводит губы, как-то по-особому взлохмачивает волосы. Третьего дня во время оправки мне удалось промыть их, правда, холодной водой. Но вода здесь мягкая, они у меня легко ложатся. Эх, жаль, нет зеркала!..
Гремит, скрежещет замок, дверь открывается. Кислякова. Какая-то обалдевшая. Тихо бредет в свой угол. Села. Сидит, и черные глаза не зыркают по нашим лицам, не выспрашивают, не соглядатайствуют. В них - страх. Я знаю: нужно подойти к ней, потолковать, выслушать ее, что ли... Так ведь всегда мы делаем, когда кто-нибудь из нас возвращается с допроса. Но я не могу себя заставить сделать это. Змее, вероятно, тоже когда-нибудь приходится худо, но кому придет в голову жалеть змею. Но и злорадства нет. Какое-то холодное равнодушие.
Посидев несколько минут молча, она начинает плакать. Острые плечи вздрагивают, топорщатся. И вот Валентина не выдержала, подходит, садится рядом.
- Ну чего ты, чего?
Кислякова начинает плакать шумнее. Я вспоминаю Раю, ее черные тугие косички, загибающиеся вверх, как хвостики, ее большие глаза, то детски озорные, то вдруг печальные, совсем взрослые. Нет, нельзя жалеть эту женщину. А вот Валентина жалеет. На выпуклых, телячьих глазах ее, наверное, красивых, но глупых, настоящие слезы.
- Да что с тобой?
- В суд... в суд хотят передать.
- В суд? Так это же хорошо. Защитника возьмешь.
- Хорошо? - Кислякова вдруг вся подбирается, как кошка, выпустившая когти. - Хорошо? А чего хорошего? Они ж там, эти стервы с «Большевички», такое на меня наклепают... Это, что ли, хорошо? Тебя бы туда, к ним. Они бы тебе показали трули-люли, как с гитлеровскими офицерами спать...
После вечерней оправки и отбоя я что-то много думаю о маленькой Рае, о моих ребятишках и с мыслью о них засыпаю быстро и крепко.
15
Будит меня нечеловеческий вопль. Вскакиваю в одной сорочке и ничего не могу понять. Горит свет, - стало быть, еще ночь. У койки Ланской - Валентина. Стоит и истошно кричит.
Что такое?
Ланская лежит на спине. Глаза закрыты. Лицо спокойное, спит. Бросаются в глаза тщательно уложенные волосы и не сорочка, а светлая шелковая кофточка, кружевная бахрома на рукавах этой кофточки. Только потом я уже вижу полную руку, свисающую с койки. Хватаю эту руку - холодная. Пульса нет. На всякий случай приникаю ухом к сердцу. Мертво. Эх, зеркальце бы... Хотя и без того все ясно. А лицо, хотя и осунулось, - как живое. Легкий румянец, яркие губы так и лезут в глаза.
Может быть, это один из тех редчайших случаев, о которых нам говорили на лекциях, - летаргический сон? Но тут же догадываюсь: румяна, помада. А Валентина все вопит. И уже топот шагов в коридоре. Гремит, скрежещет замок.
- Что, что тут такое? - кричит старшая надзирательница, прибежавшая без гимнастерки, босиком, в одной форменной юбке. - Что за крики?
- Она умерла, - говорю я.
Толстуха поражена. То, что произошло, не сразу даже доходит до ее сознания.
- Как умерла? Почему умерла? Какое право... Врача, буди врача!- кричит она коридорному, а сама могучими своими руками трясет тело Ланской. Прическа у Ланской разрушилась, коса развалилась, обильные волосы ее, как рассыпавшийся сноп, спадают к полу. В этом их движении столько жизни, что и я, врач, только что установившая смерть, начинаю на что-то надеяться.
- Что же ты стоишь? Делай что-нибудь! Ты же, кажется, доктор! - кричит толстуха, прижимая голову Ланской к обширной своей груди. Холод тела убеждает ее. - Ай-яй-яй как же это ты? Не болела, не жаловалась, в санчасть не просилась...
- Отравилась она, - произносит Кислякова.
- Отравилась? Чего ты там каркаешь? - грозно наступает надзирательница. - Молчи! У меня таких ЧП сроду не было. - Но в фарфоровых глазах испуг. Она уже не требует, а просит: - Молчи ты, молчи, пожалуйста!
- Я - что ж, вот пусть прочтет. - Кислякова, усмехаясь, тянет мне записку, которая, оказывается, лежала на столе. Она набросана на полоске, оторванной от какой-то газеты. Без труда разбираю четкий, красивый почерк: «Я никогда, никого, ничего и никому не предавала. Меня предал и продал один мерзавец. Вы в этом убедитесь. Прощайте. К. Ланская».
Надзирательница вырвала записку.
- Так что же ты со мной сделала?- с укором обращается она к покойной. - А кому отвечать? Мне? Ну и подвела меня седьмая камера под монастырь. - И к нам: - А вы куда глядели? В сговоре были? ,
Ланская лежит спокойная, безучастная к этим страстишкам, кипящим возле нее. Прибежавший наконец тюремный врач, пожилой, по-видимому, опытный, сразу же констатирует смерть. Смерть от отравления. А потом, когда тщательно осматривают койку покойной, находят и вощеную бумажку, в которой, по-видимому, она хранила снотворные таблетки.
Сделали грандиозный обыск, перевернули все вверх тормашками. Перебрали все наши вещи. Надзирательница вызывала нас по одной к себе, делала личный обыск, и я чувствовала, как мелко дрожат ее большие, толстые руки, а губы шепчут:
- Вот уж не думала, не гадала... Подвели вы меня, подвели!..
Явился начальник тюрьмы и с ним какие-то из НКВД. Тут же с нас сняли показания. Но что мы могли сказать? Я попыталась только объяснить смысл записки, рассказала о подлейшем замысле Винокурова. Человека, записавшего мои слова, это, видимо, не удивило. Он только криво улыбнулся и произнес фразу, которую я не сразу поняла:
- Скоро встретятся. Там и сведут счеты.
- Этот негодяй должен ответить. Он же ее довел...
- У него только одна жизнь. Второй нету, нечем ему будет за нее отвечать.
Тут же последовал приказ разбросать нас по разным камерам. С Валентиной я на прощанье все-таки обнялась, обнялась искренне, а вот заставить себя хоть для виду попрощаться с Кисляковой не смогла. Не смогла - и все. Когда я пошла к выходу, та как-то проворно опередила меня, встала у двери, протянула свою сухонькую ручку.
- А со мной неужто и не проститесь? - Стараясь не смотреть на нее, я продолжала идти. - И руку не возьмешь? Брезгуешь?
Она стояла, загораживая проход. Надзирательница нетерпеливо перебирала ключи. Они позвякивали.
- А ведь я про ваш разговор-то насчет снотворного слышала. Слышала и никому пока не сказала. А за это ведь тоже не похвалят.
Не знаю уж, откуда у меня взялись эти слова, но я крикнула ей:
- Заткнись, зануда!
16
В новой камере я не успела даже как следует осмотреться и познакомиться с ее обитательницами, встретившими меня не очень радушно, ибо и без меня им было тесно. Неожиданно раздался грохот и скрежет замка.
Как всегда здесь, все взоры при этом звуке сразу обратились к двери. Раздавшись в неурочное время, он не предвещал ничего хорошего. Появился коридорный.
- Трешникова Вера, на выход! - Его голос был для меня как звук разорвавшегося снаряда. Я даже отпрянула. Он сделал паузу и добавил: - С вещами...
На выход с вещами! Семен, ты ведь знаешь, что это может означать? Перевод в одиночку, перевод «в трюм», то есть в карцер, или даже в другую тюрьму. Я сразу решила: эта мокрица Кислякова уже насучила про мою беседу с Ланской.
Смерть Ланской, ее лицо с нарумяненными щеками и накрашенными губами, эта ее игра, продолжавшаяся уже за пределами жизни, так меня поразили, что я не испытывала страха. Пусть даже карцер. Карцер все-таки не гроб. Это ненадолго. Одиночка, конечно, хуже. Но тоже можно пережить.
Надзиратель торопил:
- Укладывайтесь быстрее, Трешникова.
Почему-то на невыразительном его лице чудилось мне что-то необычное. Радуется? Но почему? Ведь я не сделала ему ничего плохого, даже в споры с ним, подобно Ланской, никогда не вступала.
- Все вещи забрали?
Он критически смотрел на узелок, который я держала в руке.
- Нет у меня больше вещей.
- Ну, нет - так пошли, чего время терять.
Что-то сегодня он уж очень разговорчив. До этого только и слышали: «Тихо!», «Прекратите шум!» Ну чему, чему ты радуешься, чудак! Ну, посадят меня в одиночку, а тебе-то от этого какая корысть?
Старшая надзирательница тоже выглядела как-то необычно. Сразу приметила темные круги вокруг ее светлых, фаянсовых глаз, вид у нее растерянный. Ну конечно, ей нагорело от начальства!
И тут вдруг увидела у нее на столе мои золотые часики, подаренные тобою, Семен, в день рождения Стальки. И ключи от нашей давно разбомбленной комнаты. А у стола холщовый мешок с номером, куда прячут верхнюю одежду заключенного. Только тут мелькнула догадка: свобода! Неужели свобода?.. Нет, я не верю этому. Не позволяю себе верить. Разочарование было бы слишком страшно.
- Забирай и распишись вот здесь! - говорит надзирательница.
Должно быть, вид у меня обалдевший. На расстроенной ее физиономии появляется что-то вроде улыбки.
- Ай не догадалась?.. Выпускают же тебя!
Вот теперь я догадалась. И то, что она обращается ко мне на «ты», заставляет в это окончательно поверить. Я как-то сразу слабею, мякну, плюхаюсь на стул. Она придвигает ко мне свою табуретку:
- Дыши, дыши глыбче, помогает.
Дышу глубже. Действительно, почему-то помогает. Вскакиваю, целую ее. Она несердито отстраняется.
- Ну, ну, не положено это! - И вздыхает. - Эх, дамы, дамы, подвели вы меня! Теперь меня затюкают: откуда таблетки, кто пропустил? - И переходит на дружеский тон: - А ведь хорошая актерка была, два раза ее смотреть ходила. Как она там, в театре, под гитару купцам каким-то пела: «Бедное сердце так трепетно бьется...» А вот оно и не бьется уж вовсе... А с меня за это спросят.
На прощание она жмет мне руку так, что слипаются пальцы.
- Ну, гуляй!
Это очень смешно звучит: «Ну, гуляй». Какой-то пожилой офицер с тремя шпалами, сидящий в кабинете начальника тюрьмы, предлагает мне папиросу: «Курите?» Я почему-то беру. Он щелкнул зажигалкой, долго держал ее передо мной, прежде чем я сумела прикурить. Первым же глотком дыма я поперхнулась, закашлялась. Папироска упала на пол. Он поднял ее, положил в пепельницу.
- Не стоит начинать, товарищ Трешникова... Следствие по вашему делу прекращено. Вы свободны.
Он что-то еще говорит, но я не слушаю, не могу слушать. Во мне на все лады звенит и поет: «Товарищ Трешникова, товарищ Трешникова...» Я как бы держу в руках это драгоценное слово «товарищ», любуюсь им, и мне нет дела до того, какие тяжелые выдвигались против меня обвинения и какие были улики, как они были постепенно опровергнуты. «Товарищ Трешникова!»- вот это важно и еще то, что сегодня я увижу ребят и солнце... и дохну свежего воздуха, и могу идти, куда захочу.
Все еще продолжая говорить, он лезет в стол, достает мой паспорт, старый, обтрепанный паспорт, на котором еще синеет штамп немецкой комендатуры. Тебе еще предстоит, Семен, пережить такую минуту, и тогда ты поймешь, почему твоя Верка сразу поглупела. Ведь черт знает что подумал этот пожилой человек с тремя шпалами, когда товарищ Трешникова, взяв в руки паспорт, вдруг разревелась у него на глазах как белуга. Я реву и не замечаю даже стакана с водой, который он мне подает. Потом все-таки заметила, выпила.
- У вас, товарищ Трешникова, красивый головной убор. Жаль, что такие не носят в наших госпиталях. Это, наверное, потому, что в них что-то монашеское. Впрочем, «сестра милосердия», «сестра» - это ведь тоже, наверное, от монастырей.
О чем это он вам говорит, товарищ Трешникова? Ах да, о косынке с красным крестиком.
- Но у меня нет ничего другого, - почему-то оправдываюсь я.
- Это действительно красиво. Но на дворе зима... Может быть, достать вам шапку? А? - И вдруг спрашивает: - Вы были в одной камере с Ланской?
Я смотрю на него во все глаза. Что это, снова допрос? Ведь я уже товарищ Трешникова. В чем же дело?
- Вас оклеветал один и тот же человек.
- Винокуров? - вскрикнула я.
- Один и тот же, - повторяет он. - Это хитрый, злой негодяй. Злой, но неопытный, неумный. Следователь провел небольшой эксперимент, и все стало ясным. Основное обвинение, выдвинутое против Ланской, тоже отпало...
Некоторое время он молчит, катая пальцем по столу карандаш. Мне кажется, он сам подавлен случившимся. Потом подбирается, выпрямляется.
- Итак, возвращайтесь в свою семью, приступайте к работе,- бодрым голосом говорит он. - Желаю всего доброго.
И вот я на улице. Мамочки! Как хорошо! Вовсе не холодно. Даже сыровато. Должно быть, недавно шел снег, такой же мягкий и пушистый, как в ночь, когда мы устраивали елку. Он обложил все, все. Будто раны ватой, затянул воронки, пожарища и развалины. Подушками лежит на проводах, на ветвях деревьев. Все так бело, что с отвычки режет глаза. А воздух! Какой воздух. А главное, нет стен, нет дверей - иди куда хочешь.
А куда я хочу? Да конечно же, поскорее на тихую улочку, в домик Петра Павловича, к детям. Воздух такой вкусный, что от него кружит голову, как от того французского коньяка, которым угощала покойная Ланская. Покойная?.. Как не подходит ей это прилагательное! Не вышло из вас, Кира Владимировна, ни Жанны д’Арк, ни Марии Стюарт, ни даже товарища Ланской. И доиграли вы свою жизнь, как Бесприданница, та самая, за которую когда-то вы так хорошо пели под гитару: «Бедное сердце, куда ты стремишься...» В сущности, все логично: вы пожали, что посеяли. Основное обвинение отпало, а остальные? И все-таки ничего с собой не могу поделать: жалко, очень жалко мне эту непутевую, буйную голову, этот большой и яркий талант.
А голову кружит, кружит. Срываю сосульку с трубы и жадно сую ее в рот. Великолепная, красивая сосулька... Знакомая длинная улица - бывшая ямская слобода на большом тракте из Петербурга в Москву. Она не меняла своего облика сто лет, но за спиной деревянных домиков с резными наличниками тут и там встали кирпичные громады нового, незаконченного проспекта. Все они здорово покалечены артиллерией и, видимо, необитаемы. А вот деревянные домики почему-то уцелели и стоят себе, смотря на улицу двумя-тремя промерзшими окошечками. За стеклами - фикусы, герань и, конечно же, местный любимец, этот самый круглый год цветущий ванька-мокрый. Цветы моего детства. Еще, помнишь, Семен, ты смеялся надо мной: «Зачем тебе эта мещанская чепуха?» А вот сейчас вижу за одним из окон скромные розовые точечки и радуюсь, как другу.
Остановилась, заметила в стекле свое отражение. Впервые за много дней. Знаешь, что меня поразило? Я даже, кажется, немножечко поправилась. Честное слово. Пища, конечно, была дрянная, но куда калорийнее, чем та, которой последние недели потчевала нас добрейшая Мария Григорьевна... Да, все познается в сравнении... И выгляжу я не так уж плохо. Только эта бледность, да очень уж велики глаза. Они совсем круглые, как у совы.
Словом, я осталась довольна, даже подмигнула себе. Подмигнула и вдруг вижу - за окном, из-за этого самого почтеннейшего ваньки-мокрого, смотрит на меня старуха. Удивленно, вопросительно смотрит. Не знаю уж, за кого приняла она меня, только на лице ее изобразился испуг. Наверное, подумала - сумасшедшая. Я помахала ей рукой и побежала дальше. На тротуаре был ледок, раскатанная ногами школьников дорожка. Разбежалась, прокатилась, споткнулась и попала в объятия какого-то пожилого красноармейца. Он не дал мне упасть.
- Этак и нос расшибить нетрудно, дорогой товарищ, - сказал он, как-то особенно вкусно упирая в последних словах на «о».
Мамочки, какая же я дура! Но что это звенит? Трамвай? Пустили трамвай? Ну да. Вот он, визжа колесами, со скрежетом разворачивается на кольце. Моторный вагон, два прицепа, и на всех них не больше десятка стекол. Остальное забито фанерой, толем. Но ведь трамвай! Пустили. А говорили, что немцы украли все медные провода. Наверное, не успели, или, может быть, их уже заново натянули. И электричество откуда-то берется. Трамвай, трамвай! Молодцы земляки! Не зевали, пока Верка Трешникова томилась в «темнице сырой».
Я бегу к трамваю и успеваю уже на ходу вскочить на последнюю подножку. Еду, еду, черт возьми! Поворот, еще поворот. Миновали татарскую мечеть, возле которой стоят почему-то в очередь военные грузовики. Живут, живут люди... Спешат по улицам, торопятся... Кто-то теребит меня за рукав. Ага, кондуктор, пожилая тетка, лицо которой, озябшее, красное, еле выглядывает из-под шали... Ах да, билет! Я как-то совсем забыла, что на свете существует такая вещь, как трамвайные билеты.
Роюсь по карманам - ни копья.
- У меня нет денег.
- Тогда ходите пешком. На следующей слезете.
- Ты что, сестру медицинскую выставляешь? Сдурела? - слышатся голоса, и несколько рук тянут пятачки.
Платит за меня какой-то пожилой человек. Вручил мне билет и пристально смотрит. Лицо его мне почему-то знакомо. Наверное, просто коренной верхневолжец. Заплатил, потом встал, показывает рукой на освобожденное место:
- Садитесь, товарищ Никитина.
Семен, он знает и меня и тебя. Он назвал твою фамилию. Я, разумеется, благодарю, но не сажусь. Хватит. Насиделась. Я иду на переднюю площадку и оттуда через единственное сохранившееся стекло смотрю на город. Милый наш Верхневолжск, да ты совсем молодец! Ты живешь уже своей обычной трудовой жизнью. Спешишь, хлопочешь, печалишься, смеешься. Радиорепродукторы орут во все горло. На перекрестках милиционеры. Ты будто даже и забыл, каким был совсем недавно, когда по твоим улицам ходили немецкие патрули.
Но вот и площадь. Точный восьмиугольник красивых двухэтажных зданий, построенных, как говорят, знаменитым Казаковым на миллион, ассигнованный Екатериной Второй. Когда через эту площадь меня провозили на допрос, я невольно закрывала глаза. Это был род психоза, стоило на нее посмотреть – и я как бы со стороны видела себя рядом с Винокуровым, Раздольским в толпе гитлеровских офицеров и потом долго не могла избавиться от этого видения. А сейчас вот расчистила рукавом стекло, запотевшее от моего дыхания. И не боюсь. Вижу памятник Ленину. Нет, не памятник, конечно, а его гранитный постамент, а за ним могилы, венки из пожухшей хвои с красными лентами. Наверное, тут похоронен и твой отец, и Иван Аристархович, и тот третий, кого Мудрик назвал комиссаром, а может быть, и наша Антонина. Эх, Антон, Антон!..
А тот день! Разве его забудешь? Видел бы ты, Семен, лицо своего отца, вдохновенное, яростное, совсем не старческое. Видел бы, как он метнул стул в коменданта, слышал бы его клич, обращенный ко всем нам. Видел бы ты, как, будто сороки, летели гранаты и как этот Шонеберг, пластаясь по земле, трусливо жался к колесам машины-эшафота... Тут мысли мои перекинулись на Мудрика. Как-то он? Если я правильно его оперировала, он должен быть уже на ногах. Милый Мудрик, самый лучший из всех жонглеров, жонглер гранатами... Мудрик... Дети... Почему так медленно все-таки тащится трамвай?
- Следующая - Больничный городок, - объявляет кондуктор.
Я встряхиваюсь и начинаю отчаянно толкаться, протискиваясь к выходу.
- Проспала, - слышу сзади иронический голос.
- А что мудреного? - защищает меня женщина. - И проспишь. Раненых, чай, валят и валят. Уперся фашист, голыми-то руками не возьмешь. Сколько им, бедным сестричкам, сейчас работы...
Выскакиваю. Но куда же? В мой госпиталь, конечно. Но бегу я в противоположную сторону, к домику Петра Павловича, по той дорожке, где мы везли когда-то на санках мертвого Василька. Но теперь это уже улица: проезд, тротуары. Окна в домах прозрели, из труб дымы. С отвычки я все-таки задохнулась и остановилась у калитки, не в силах повернуть кольцо. Под ногами свежеоттиснутый след машины. Разглядеть его не успела. Раздалось пронзительное:
- Вера, наша Верочка! - Это кричала Сталина, несясь босиком по обледенелым ступенькам крыльца.
Но Домик обогнал ее. Оба повисли у меня на шее так, что, не выдержав тяжести, я вынуждена присесть.
- Мамочка! Мама, мамунчик!
Нет, должно быть, со мною что-то случилось, так я стала слезлива. Слышала только учащенное дыхание, ощущала мокрые поцелуи... Ребятки, кровиночки мои, ну вот ваша мамка и опять с вами... Держись, держись, Верка, не пугай ребят слезами! Да они же еще и не одеты. Выскочили в чем были. Я схватила Стальку, прикрыла пальто босые ножонки. Так втроем и втиснулись в дверь, а там Татьяна. Новые объятия и новые поцелуи.
- Всё? Отпустили?..
- А Семен? От Семена есть вести?
Татьяна, кажется, не расслышала вопроса.
- И суда у тебя не будет?.. Чистый паспорт?-
Вот здорово!
- Ну, а как вы тут без меня жили?
- Сталька, сейчас же обуйся, вон валенки на печке. Придумала - на снег босиком... А ну, и ты, Вера, к печке. Вот, в батино кресло. Сейчас тебе обо всем расскажем. Я теперь, между прочим, директор школы, той самой, где ты училась, шестой. Мужчин-то нет, всех в армию позабрали, ну, сунули меня: молодой кадр...
У них тепло и - или это мне кажется с отвычки?- очень уютно. Сижу в кресле Петра Павловича, ребята - возле на полу. Сталька обхватила мне ноги, прижалась к ним, Домка держит руку. В глазах Татьяны бесчисленные вопросы. А что я им расскажу?
- От Семена так ничего и не было?
Татьяна как-то вся выпрямилась. Становится напряженной, отрицательно поводит головой, должно быть, не желая вести этот разговор при детях.
Но эта педагогическая предосторожность напрасна. Сталька, разумеется, все поняла и уже деловито щебечет:
- Дядя Вася рассказывал - многих сейчас выпустили, реабилитировали, призвали в армию. Дядя Вася говорит - у него в штабе...
Чувствую, что краснею. Глупо, стыдно, мучительно краснею. И даже перебиваю ее:
- Какой дядя Вася?
- Дядя Вася Сухохлебов, какой же еще?
- Полковник Сухохлебов, - уточняет Домка.
На нем теперь синий костюмчик. Я купила этот костюмчик в прошлом году. Он совсем новенький, но рукава чуть не по локоть, штаны узки. И вот сейчас мне почему-то бросается в глаза, что штаны эти заправлены в хромовые офицерские сапоги большого размера...
- Василий Харитонович нас не забывает, - подхватывает разговор Татьяна. И я вижу, как остывают, холодеют ее глаза.
- Он нам свой аттестат оставил, - мрачно говорит Домка.
- Какой аттестат? - спрашиваю я, чувствуя, что щеки мои не только полыхают, но и повлажнели от жара.
- Денежный, - уточняет Сталька.
- И вы взяли?.. Ты, Татьяна, взяла?
- Что поделаешь, на учительские-то разве их прокормишь.
- Дядя Вася сказал - у него никого нет, а мы для него вроде родные. Сказал, что деньги все равно пропадут... И пропадут, очень просто. Картошка-то вон на рынке тридцать рублей кило, - хозяйственно говорит Сталька, по обыкновению, повторяя чьи-то слова.
Аттестат... Вроде родные... У меня теплеет на душе. И в то же время мне здорово не по себе. Ну чего, чего вы все смотрите на меня?
- Что все это значит? - спрашиваю я, стараясь говорить тверже и строже.
- Тебе лучше знать, - отвечает Татьяна. - Ну, это потом, а сейчас ты, наверное, голодна?
Голодна? Да это мое привычное состояние, я его почти не замечаю.
- Нет, не очень. А у вас... есть что-нибудь?
- У нас суп «ура Суворову» из чечевичных концентратов и еще картошка вареная, - извещает Сталька.
От одной мысли о чечевичном супе у меня начинается обильное слюновыделение.
- Крепко живете, милые мои.
- Дядя Вася свой доппаек нам возит.
Кастрюлька с супом булькает на плите. Мой обостренный нюх, необыкновенно чуткий ко всем кулинарным запахам, жадно ловит пресный аромат вареной картошки. Нет, в самом деле, они, кажется, ничего устроились. С лиц ребят сошел тот зеленоватый оттенок, какой имеют ростки овощей, появившиеся в подвале. Домка даже порумянел, и на лице можно пересчитать все веснушки.
Суп «ура Суворову» - объедение. Опустошаю миску и прошу добавки. Как бы это у них половчее спросить о Василии - где он? Когда заезжает? Простой, естественный вопрос, но вот почему-то никак не наберусь духу его задать. Начинаю расспрашивать о раненых. Военные? Они уже почти все в армии. Последние приходили из запасного полка прощаться в госпиталь неделю назад. Мудрик? Он уже в форме. Тоже пока еще где-то недалеко... Говорят, представлен к большому ордену, даже будто в Герои Советского Союза.
Мария Григорьевна? Эта дома. Муж из эвакуации воротился, сын после ранения на побывку долечиваться прибыл. Да еще внуки...
- Ну, а полковник Сухохлебов - он сначала где-то был, а теперь по приказу командования, доукомплектовывает свою Верхневолжскую ордена Красной Звезды гвардейскую дивизию, - наконец-то произносит Домка.
- У него машина настоящий «козел» - четыре колеса, и все ведущие. Вот,- заявляет Сталька. - он сегодня меня до угла довез.
- Как? Он был здесь сегодня? - невольно вскрикиваю я.
Сразу вспоминается несостоявшаяся встреча в двенадцать ноль-ноль. Опять не повезло, опять разминулись.
- Он отсюда к нам в госпиталь поехал, - говорит Домка.
- В госпиталь? Зачем?
- По старой памяти. Скучает, - поясняет Сталька тоном Василия. - И еще с ним военврач второго ранга какой-то... Они у нас только что пьянствовали.
- Не говори глупостей, - сердито, даже, пожалуй, слишком сердито одергивает ее Татьяна. - Какое это пьянство - сели двое мужчин и распили поллитровку.
- Спирту, - уточняет Сталька.
- А разве он пьет? - как-то машинально спрашиваю я.
- Ну, а как же? Им в армии по приказу наркомовская полагается.
И вдруг меня потянуло в госпиталь, в наше подземелье. Расцепив Сталькины ручонки, обнимавшие меня, я встала. Три пары глаз вопросительно уста-вились мне в лицо. Только Сталька спросила:
- Ма, ты туда?
Я торопливо одевалась.
- Ну конечно же, в госпиталь... Я ведь туда и не заехала, прямо к вам... Надо же мне там объявиться... Посмотреть моих раненых...
- Твои все уже ушли. Там теперь другие, - авторитетно поясняет Домка, грустно следя за тем, как я надеваю пальто. - Там военврач первого ранга Громова начальник. Из наших только тетя Феня да на вешалке эта Зинаида, новая Райкина мама. Они сейчас за нашими шкафами обе и живут.
- А ты откуда все знаешь? - спрашиваю я, одергивая косынку.
- Как откуда? - удивился Домка. - - Я ж там работаю. Брат милосердия...
- Он там работает, а меня вот демобилизовали, - жалуется Сталька. - Дядя Вася говорит - не насовсем, временно. А ты меня призовешь? Да? Домка у нас рабочий паек получает.
- Что ж сделаешь, - точно оправдываясь, говорит Татьяна. - На фабриках и помельче сейчас работают.
Я вижу, с какой обидой все трое следят за моим одеванием. Родные, с какой бы радостью я с вами осталась, но я ж не могу, мне ж нужно...
- Вера, ты хоть картошки поешь! Успеешь.
- Там сейчас никого из врачей и нет. Только к вечернему обходу подойдут, - говорит Домка.
А эта невыносимая Сталька бухает:
- Ты, ма, зря, он, наверное, уже уехал.
Татьяна хмурит черные брови. Домка отвешивает сестре звонкий шлепок.
- Я скоро.
- Ну хоть теплое на ноги надень, нельзя же в туфлях по морозу, - Татьяна, сняв с лежанки, бросает мне свои фетровые боты. Они велики, но как тепло ногам! В прихожей останавливаюсь поправить у зеркала косынку и слышу в комнате разговор.
- И часа с нами не посидела... - ворчливо произносит Сталька.
- Не сметь так о нашей Вере! - обрывает Домка, но голос у него печальный. - Картошка... Так ни одной и не съела.
Милые, милые вы мои! Знали бы вы, как трудно от вас уходить, но... я же ненадолго.
17
А на дворе совсем прояснилось. Небо лежит над городом голубое, свежее. Кругом белым-бело, и сейчас, когда солнце клонится к западу, все отливает перламутром, а тени совсем фиолетовые. Мне даже чудится, что пахнет весной. Хотя откуда же? Рано. На миг я останавливаюсь, рассматривая у калитки рубчатые оттиски шин. Они совсем свежие.
- Ма, старый ход в подвал теперь заперли. Раскопали тот, другой, Мудриков, через который мы его тащили! - кричит с крыльца Домка.
- Ладно, ладно, найду. Ступай в комнаты, не простудись!
Почти бегу, наслаждаясь мягкостью свежего снега, бесшумно подающегося под подошвами ладных бот, и фиолетовыми тенями у сугробов, и начинающим багроветь закатом, и воздухом, необыкновенно вкусным, чистым, и самой возможностью бежать, двигаться. Двигаться куда угодно... Громова - начальница госпиталя. А Дубинин? Куда делся Дубинин? Бедняга, что же он теперь делает без руки? Безрукий хирург - это певец, лишившийся голоса... Бегу - и вдруг на углу дорогу мне пересекает большая, растянувшаяся колонна военнопленных. Неторопливо вытекает она из полуразрушенных ворот Больничного городка и разворачивается по улице. Пленные возникают неожиданно, как видение страшного и такого недавнего прошлого. Все во мне инстинктивно настораживается. Я даже отворачиваюсь: ведь все из-за вас, из-за вас, проклятых!
Немолодой боец в шинели третьего срока, как видно, конвоир, стоя на выходе с винтовкой под мышкой, негромко торопит:
- А ну, давай, шнель, шнель! Ты! Очки! Не отставай!
Заметил меня, приосанился.
- Вот, сестричка, нация, - разрушать мастаки, но и робют чисто. Погонять не приходится... Это я так, для порядка, им: «Шнель, шнель...» Чтобы не зазнавались...
- Они с нами не церемонились.
- А кто ж церемонится? Мы тоже не церемонимся. Попробуй какой из них зафилонить! Так ведь не филонят, работают... Плохо вот, одежонка у них дрянь, шинелишки ветром подбиты, зябнут, черти... Эй, очки, держи ряд!
Боец присоединяется к другому, что замыкает в хвосте колонну, и оба они, о чем-то негромко переговариваясь, идут позади, мягко ступая по снегу подшитыми валенками... Ага, уже почти восстановили терапевтический корпус, коробка которого не была разрушена. Вот их куда приспособили...
Колонна, удаляясь, завертывала за угол. «Шинелишки плохие, зябнут...» Да тебе бы, дядя, посмотреть, как они вешали Петра Павловича, как хотели всех нас заживо сжечь... «Шинелишки, подбитые ветром», а они вон Райку сиротой сделали... Райку? Мне очень захотелось повидать эту шуструю девчурку. «Новая Райкина мама»,- стало быть, она где-то здесь, при Зинаиде, может быть, и увижу...
Все это я додумывала на ходу, вернее - на бегу. Домка мог бы мне и не говорить, что в госпиталь другой вход. Прежний, возле которого последняя граната Мудрика уложила факельщиков, даже снегом занесло, а к новому ведет проторенная дорога. Возле даже стрелка с красным крестиком и надписью: «Хозяйство Громовой». Возле входа, в тени лип, санитарный автомобиль. Кухонную трубу удлинили. Она теперь, как телеграфный столб, на проволочных распорках, но дым, выкатывающийся из нее, стелется по земле... Чувствую запах подгорелого сала и лука и сглатываю слюну. Не худо бы было все-таки съесть еще тарелочку этого супа «ура Суворову» и горячей картошки, особенно картошки...
Все, все тут уже переделано. Даже дощечки висят - «Гардероб», «Приемный покой». У вешалки в белом халате - Зинаида. Увидев меня, она оторопела, распахнув свои синие глазищи. Потом худенькое, угловатое личико с опущенными уголками губ просияло.
- Вера Николаевна, вы? Вас... - Выбежав из-за деревянной загородки, бросилась ко мне. Повторяет мое имя и больше ничего не говорит.
А я все оглядываюсь. Во всем - в большом и мелочах - чувствуется твердая, опытная рука Громовой. Госпиталь, настоящий военный госпиталь. Не то что в мои времена.
Кудахтанье Зинаиды привлекло любопытных. В дощатый коридор - а теперь есть у них и коридор - повысыпали дяди в синих халатах. В дверях - а у них теперь и двери появились - замаячили заинтересованные физиономии. Пялят глаза, и никто, никто меня здесь уже не знает.
- Зинаида, а как Рая? - спрашиваю я.
- А в садике она, Раечка, тут, рядом, - как-то сразу приходя в себя, отвечает гардеробщица, и уголки губ ее снова опускаются. - Где ей быть? В садике... Только уж больно у них плохо, так плохо, что и сказать не могу. И помещение никуда не годится, сквозняки, простуду уж раз девочка схватила.
Но я не слушаю. На вешалке, среди верхней одежды, я заметила длинную шинель. Шинель с четырьмя шпалами в петлицах и каракулевую папаху.
- Что, начальство какое нагрянуло? Инспекция?- спрашиваю я как можно равнодушнее, хотя сердце у меня колотится так, что я боюсь, как бы Зинаида не услышала его стук.
- Шинель, что ли?.. Так это ж наш Василий Харитонович. Тут он. Навещает... С ним еще какой-то подполковник, что ли...
- Тут, тут! - Тарахтя это на ходу, тетя Феня бежит по коридору, будто катится круглый белый шарик. - Господи, спаси и помилуй. Вера Николаевна, живая, здоровая! - точно соля, она осыпает меня маленькими торопливыми крестами. - Стало быть, помог господь, услышал наши молитвы. Отбили тебя наши раненые.
Она говорит что-то еще, всхлипывая, поминутно поднося марлечку к пухлому лицу. Но из этого потока восклицаний в сознание мое входит только одно: меня отбили раненые. Как так отбили? Что это значит?
- А вы не знаете? Тут такое было... Погремели костылики: «Не дадим в обиду нашу Веру!» Куда-то там всем гамузом ходили! Начальство большое приезжало, успокаивало: дескать, идет следствие, не торопите, по совести все разберут... - И вдруг, прервав поток слов, уставилась на меня. - Вернулась, вернулась наша Вера Николаевна, вышла, как пророк Иона из чрева китова...
Наконец я собралась с духом и спросила:
- А Василий... Василий Харитонович, он здесь? Мне его повидать надо.
- Да говорю вам - тут. - Она наклонилась и шепотом сообщила. - Здесь с другим каким-то и вроде малость выпивши. Я его в ваш «зашкафник» завела. Теперь эта наша с Зинаидой резиденция... Полковнику нельзя на людях выпивши, спрятала я его. Может, не надо вам сейчас к нему-то, а? Пусть поразветрится.
- Хорошо, хорошо, я сама знаю, что надо и что не надо.
Что это с ним? И как на него не похоже. Я было направилась по знакомому пути, но Зинаида окликнула:
- А халатик? У нас тут сейчас строго. Товарищ Громова так нас греет. Наденьте-ка вот, я вам по росту свеженький выбрала, глаженый.
Вот это порядок. Мне бы такой. Я набросила халат и, сопровождаемая взглядами незнакомых больных, пошла по таким знакомым мне палатам. Тот, последний отсек, где мой «зашкафник», был, как видно, в забросе - громоздились доски, кирпич. Тусклая лампочка освещала картину полнейшего разгрома. Но все-таки этот мрачный угол, где мы столько пережили, был мне очень дорог. Шкафы стояли на прежнем месте, и в щелях между ними виднелся свет.
Тетя Феня кругленьким колобком катилась за мной. Преодолев томительную неловкость, я все-таки сказала ей:
- Мне надо поговорить с ним один на один.
- Понимаю, понимаю, Вера Николаевна. Понимаю, голубка моя, - заторопилась старуха, и мне показалось, что она действительно все понимает. Даже больше, чем нужно. Ну, бог с ней, не беда, - главное, что она исчезла. И даже с преувеличенной тщательностью прикрыла скрипучую дощатую дверь.
Набравшись духу, я направилась к шкафам. И остановилась. Оттуда слышался рокочущий бас Василия. Он был не один. С кем-то разговаривал. Остановилась... Опять! Вот досада: никогда не бывает один... Собеседник его говорил тихо, издали его голоса не было слышно, но у Василия я различала каждое слово:
- Зачем, ну зачем вам это надо?! - упрекал он кого-то с гневом и болью. - За вас люди на смерть идут... Зачем?
С кем это он? Скверно, что приходится подслушивать разговор. Но и уйти нельзя. Услышат шаги - подумают, что подкралась нарочно.
- ...Я вам о ней дважды писал. Писал старый большевик Сухохлебов. Красногвардеец. Командир бронепоезда. Делегат Десятого съезда партии. Кронштадт штурмовал... Вы даже и не ответили. Почему?
Собеседник молчал.
- Она прекраснейший человек, коммунист с большой буквы, хотя у нее всего только давно просроченный комсомольский билет... Разве так можно с людьми...
Неужели обо мне? И кто там с ним? Секретарь обкома?.. И почему он так тихо отвечает? Ничего не слыхать.
- ...спасла восемьдесят воинов, рисковала жизнью, детьми. Кстати, знали бы вы, как они назвали своих ребят. Сын - Дамир. Это значит: даешь мировую революцию. И Сталина... Ну почему, почему вы не верите людям, нашим, советским людям? Им нельзя не верить... Вы не смеете им не верить... Слышите... Молчите? Нечего говорить?.. Стыдно?
Я замерла. Нет, уйти тихо, поскорее уйти. О, черт, шаги! Твердые мужские шаги... Поздно. Раскрывается дверь: Громова! В халате, в шапочке, как всегда прямая, как палка от щетки. Я помню, как она посмотрела сквозь меня тогда, в день освобождения города, и вся сжалась. Но Громова шла прямо ко мне, протянув обе руки.
- Вера Николаевна, вы здесь?.. Справедливость восторжествовала! Поздравляю, голубчик, поздравляю!
Сжала руки так, что мне больно. Разговор за шкафами оборвался. Оттуда вышел военный. Нет, если бы не эти широко посаженные глаза, в которых всегда живет улыбка, я, может быть, не сразу бы и узнала Василия. Новая форма сделала его еще выше, еще прямее. Лицо и голова выбриты, и от этого как-то выделились густые клочковатые брови. Движения точные, ступает пружинисто. Поскрипывают ремни портупеи. Словом, военная косточка.
Громова, конечно, не могла не заметить, как при виде меня просияло сухое, мужественное лицо, как весело сложились у глаз и разбежались от уголков рта морщинки-трещинки. Но она разве что-нибудь понимает, кроме хирургии, эта Громова? А я, пораженная его преображением, молчала, не зная, что сказать. Он первый оправился от неожиданности.
- Ты что же, не узнаешь меня, Вера? - Он целует мне руку и кланяется Громовой, кланяется так, как умеют это делать кадровые военные: не сгибая спины, наклонил голову и стукнул каблуком о каблук.
А его собеседник? Тот, с кем он спорил? Должно быть, при посторонних он не хочет выходить? Нашла о ком думать, главное, что мне радостно, хорошо и... немножко неловко. Василию, по-моему, тоже, но он человек выдержанный, искусно это маскирует. Вот не повезло... Там, за шкафами, кто-то, а тут еще Громову принесло.
- Полковник нас не забывает, - говорит она резким голосом. - Можно сказать, шефствует над нами. И очень хорошо, что вы зашли, полковник. В вашем присутствии я должна глубоко извиниться перед Верой Николаевной.
Мамочки! Ну почему, почему ты ничегошеньки в жизни не смыслишь? Помолчала бы уж, что ли...
- Я не оправдываюсь, но о вас, Вера Николаевна, столько болтали там, в эвакуации... Простите великодушно, простите меня, голубушка. Кстати, главный хирург Верхневолжского фронта профессор Кривоногов сам осматривал ваших пациентов и констатировал исключительно хорошее заживление ран. И это в таких ужасных условиях. Конечно, все крайне истощены, но только три смертных случая... Еще раз извините.
Как бы порадовал меня этот разговор несколько минут назад. А сейчас... Провалилась бы ты со своими извинениями! Ну как ты не видишь!
- А во-вторых, - ничегошеньки не замечая, продолжает Громова, - а во-вторых, мы открываем в здании школы номер один большой клинический госпиталь. Не знаю уж, что там было у немцев, они все страшно загадили, но ремонт заканчивается. Будет огромный стационар. Я приглашаю вас туда на должность хирурга-ординатора. Подумайте и завтра утром сообщите решение.
Ну, теперь-то хоть все? Оказывается, нет. Теперь она взялась за Василия:
- А вы, полковник, полюбуйтесь, какие у нас здесь условия. Невозможные. За такие нас надо судить. Мне для чего-то присвоили звание военврача первого ранга. Я во всех этих ваших шпалах и звездах плохо разбираюсь. Но вы командир дивизии, начальство, и я заявляю вам, а вы уж там сами скажите или доложите, что ли, кому нужно: так нельзя... Пора налаживать нормальную медицину. Вот извольте, полюбуйтесь. Я вам сейчас покажу. - Она берет Василия под руку и уводит так решительно, что он едва успевает бросить мне жалобный взгляд.
Хлопает дверь. Шаги удаляются. Фу, как глупо, даже словом не перемолвились! Я - одна. Нет, не одна. Я вспоминаю о собеседнике Василия. Почему так тихо за шкафами? Прячется? А почему ему прятаться?.. Нет, я ничего не понимаю... Кашлянула. Кашлянула громче - никакого ответа. Не может человек так тихо сидеть.
Стараясь ступать как можно шумнее, подхожу к шкафам. Ни звука. По-прежнему простыня закрывает вход. Моя простыня. Я ее из дому принесла. Вон и метка: «В. Т.». Но как ее захватали! Даже черная стала, хотя бы постирали, что ли. Увидит Громова - быть грому. Открываю простыню - никого. В «зашкафнике» все по-старому. Только из-за одной подушки высовывает свой длинный восковой нос богородица.
Дверцы большого шкафа открыты. Ага, и тут по-прежнему. И портрет товарища Сталина там, где его повесил хитроумный Домка.
Никого. Да с кем же разговаривал Василий? Неужели с самим собой?.. Ну что ж, ведь есть же у него такая привычка.
Я дома, лежу на настоящей постели, на чистой простыне, покрытая стеганым домашним одеялом. Ни еды, ни дров в этот день Татьяна с ребятами не пожалели. Накормили до отвала жареной картошкой, кислой капустой, духовитыми огурцами из запасов покойного Петра Павловича, чудесными, умопомрачительными огурцами, которые до сих пор сохранили свой чесночно-смородиновый аромат и хрустят, как малосольные.
Тихо. Рукомойник роняет в таз тяжелые капли. Сверчок, настоящий довоенный сверчок, неторопливо поскрипывает где-то в углу, на печке, источающей благотворное тепло. И будто нету рядом большой, страшной войны, будто еще не стонут под немцем огромные пространства советской земли... Но на один-то день можно об этом забыть?
Дома! Дома же! Дети рядом. Сыта, в тепле, в тишине. И этот сверчок. Как же это хорошо быть дома и так вот лежать на чистой простыне, под стеганым одеялом... и думать, думать... и, по старой моей привычке, как бы мысленно писать тебе, Семен, письмо, рассказывая о нашем житье-бытье.
Что же произошло со мной после того, как я оказалась одна в этом нашем «зашкафнике»? Ничего особенного. Действительно, ничего особенного. Но ведь мы с тобою были всегда откровенны, и я должна к этому добавить - ничего и многое.
Да, да, вот так бывает с нами, женщинами. Ничего и многое. И вот сейчас я радостно перебираю кусочки этих воспоминаний. ...Так вот, я сидела в своем «зашкафнике», и тут вкатилась тетя Феня. Она, видите ли, сегодня в «отгуле». Дела у нее нет, и наше Совинформбюро стало выдавать мне длиннейшую сводку о том, что происходило тут без меня. Дорогие новости о близких мне людях. Но, честно говоря, слушала я ее вполслуха, все время была настороже - не хлопнет ли дверь, не раздадутся ли твердые шаги? И они раздались.
Ты извини меня, тетя Феня, верный мой Санчо Панса! Прервав твои рассказы, я вскочила.
- У тебя тут много дел? - спросил Василий с несвойственной ему и потому даже немного смешной робостью. - Я бы довез тебя до дому. У меня тут машина.
Подвезти! Два квартала? Гм-гм... Ну чего он, чудак, темнит? Но, должно быть, уж так устроен человек, что иногда и самые серьезные, мужественные люди могут вдруг превращаться в ребятишек, прячущих что-то всем-всем очевидное.
- И верно, и правда, и подвезите ее, - посыпала свой горошек тетя Феня. - И подбросьте. - И я была ей за это очень благодарна.
Молча прошли мы с Василием через палаты. Должно быть, все-таки новым раненым известна история нашего госпиталя. Может быть, они даже догадались, кто мы? На нас смотрели из всех палат... А, все равно! Пусть думают, что хотят.
Так дошли до раздевалки.
На стуле против вешалки сидел военный с тремя шпалами и медицинскими эмблемами на зеленых петлицах. При нашем появлении он встал.
- Вот, познакомься, Вера. Это военврач второго ранга Светличный, начальник медсанбата нашей дивизии. Пока еще медсанбата, правда, у него нет... - Василий усмехнулся.
- Но будет, товарищ полковник, будет, - ответил военный.
Мы пожали друг другу руки.
В дверях появилась Мария Григорьевна, и я сразу забыла об этом начальнике будущего медсанбата.
Мгновение мы стояли друг перед другом. Лицо Мафии Григорьевны, как всегда, было неподвижно, замкнуто на все замки. И вдруг я увидела то, чего ни разу не видела на нем, - улыбку. Такую удивительную, что она как-то сразу преобразила не только суровое, некрасивое лицо, но и всю эту женщину. Будто от этой улыбки в холодной, сырой раздевалке, где под потолком еле теплилась слабенькая электролампочка, разом стало и суше, и теплее, и светлее.
Из-за спины Марии Григорьевны выглядывали лихо загнутые вверх косички Раи.
- Здравствуйте, Вера Николаевна! - только и сказала Мария Григорьевна. - Эта коза-стрекоза, - она вытолкнула вперед девочку, - вот эта прибегла ко мне и кричит: «Нашу Веру выпустили! Вера вернулась!..» Корыто бросила - и сюда.
Больше она ничего не сказала. Поддернула концы темного платка, покрывавшего ее голову. Улыбка погасла.
- Здравствуйте, Василий Харитонович!
И Василий, став строгим, даже торжественным, отвесил ей такой же почтительный военный поклон, как только что Громовой.
- Здравствуйте, Мария Григорьевна!
Наша сестра-хозяйка посмотрела на меня, на него, на Зинаиду, застывшую с моим пальто в руках. Мне почему-то вспомнилось: большие хлопоты и печали, казенный дом, трефовый король на сердце... или что-то в этом роде. Нет, не карты твои, а сама ты, отбельщица с «Большевички», великий сердцевед. Все-то ты видишь, все-то ты знаешь. И вот сейчас вместо всяческих восклицаний, приличествующих случаю, вместо охов, ахов сочувствия и слез ты коротко произносишь самое для меня нужное.
- Ну, поздоровались и попрощаемся. Меня белье ждет, мой-то, может, и не сообразит бак с плиты составить. Перекипит.
Она повернулась и ушла так торопливо, что девочка даже огорчилась.
- Мама Зина, чего это она? Я бегла-бегла, а она взяла да и ушла.
- Так, видишь, боится, белье перекипит, - ответила ей Зинаида и принялась энергично напяливать на меня пальто.
Василий уже оделся. В шинели, в папахе, он стал еще выше. Его начальник медсанбата в своей ушанке кажется рядом с ним малорослым, а ведь тоже дядя - дай бог... Еще и он тут! Неужели так мы и не сможем поговорить?
- Товарищ Светличный, вы сами передайте доктору Трешниковой свои предложения. Я в ваши ученые дела вмешиваться не могу, - говорит Василий и, присев на корточки, заводит разговор с девочкой. С детьми он всегда говорит серьезно, должно быть, этим и привлекает их к себе.
Светличный сразу, как говорится, берет быка за рога:
- Вера Николаевна, что вы скажете, если я предложу вам место хирурга в нашем медсанбате? Полевая военная хирургия - самая лучшая школа, это еще Пирогов говорил...
Ну вот, здравствуйте пожалуйста, всем сразу понадобился зауряд-врач Верка Трешникова! Василий еще болтает с девочкой, но я ловлю его вопросительные взгляды. Ну да, я понимаю, это и его предложение... Как же быть?
- Спасибо, подумаю, - отвечаю Светличному. - Я подумаю, - повторяю громко. - Мне надо посоветоваться... с домашними.
Светличный вопросительно смотрит на Василия.
- Мы завтра будем в городе и заедем к вам. - отвечает тот и добавляет: - За ответом.
Потом втроем мы покидаем госпиталь. Я все еще никак не привыкну к свежему воздуху, он кажется каким-то необыкновенно вкусным. Жадно вдыхаю его, и, вероятно, поэтому снова кружится голова и стучит сердце...
Небо черное, как бумага, в которую завертывают рентгеновские снимки. И все, все в мелких дырочках, и дырочки эти колюче сверкают. Снег мерцает, будто флюоресцирует. И тишина. Такая пронзительная тишина, что слышно, как где-то далеко, за «Большевичкой», скрежеща колесами, развертывается на кругу трамвай.
У входа стоит костлявая машина, похожая на голенастого кузнечика. От нее отделяется тень - красноармеец в полушубке, в валенках. Вытягивается и, вырвав руку из меховой варежки, берет под козырек.
- Отвезите военврача второго ранга Светличного в его хозяйство, - приказывает Василий. Но другим, не столь повелительным тоном добавляет: - Вернитесь сюда и ждите. Если к одиннадцати тридцати не буду, езжайте до хаты и распрягайте коня.
Василий решительно берет меня под руку. Машина с воем вырывается из сугроба, выруливает на улицу, и скоро красный ее огонек тонет во тьме.
- Ну, а куда мы? - спрашиваю я.
- Куда-нибудь, - отвечает Василий.
Мы идем под руку по улице. По пустынной улице. Снег проседает под ногами - идем будто по ковру. Сугробы светятся, а над ними остро сверкают звезды. И, должно быть, от избытка кислорода, которого долго так не хватало моим легким, кровь шумно пульсирует в висках.
- Куда же мы все-таки, Василий?
- Прямо.
- А потом?
- Потом повернем.
- Куда?
- Куда-нибудь... Тебе не холодно?
- Нет, мне хорошо.
- Мне тоже.
И верно, хорошо идти, когда тебя вот так крепко ведут под руку. К этому «хорошо» еще нужно привыкнуть. Оно очень неустойчиво. Я боюсь его спугнуть и потому ни о чем не говорю. Что думает Василий - не знаю. Но он тоже ни о чем не расспрашивает, ничего не произносит.
- Василий, с кем ты разговаривал сегодня?
- Я разговаривал? Где?
- Там, у меня в «зашкафнике».
- В «зашкафнике»? - Он, кажется, искренне удивлен.
- Ну как же, вспомни... Ты, кажется, говорил... обо мне.
Молчание. Он, конечно, вспомнил. Но не хочет отвечать.
- Я все равно все слышала. Только не подумай, что я подслушивала. Просто вошла, а ты ведь почти кричал. Так с кем же?
Молчит. Резко хрупает снег под его подошвами. И вдруг я начинаю понимать. Я угадываю его собеседника и настаиваю с новой энергией:
- Ну, с кем же, с кем?
- С совестью, - глухо отвечает он.
С совестью? Гм. Ну, пусть так. Молчание прервано.
Мы идем так согласно - шаг в шаг. Но молчать уже не можем и разговариваем о каких-то пустяках.
Так миновали мы еще несколько кварталов. Приблизились к центру города. Стали попадаться прохожие. Идут навстречу и обгоняют нас слепые трамваи. Репродуктор вызванивает где-то «Широка страна моя родная». Голос Юрия Левитана начинает передавать очередную сводку Совинформбюро. На миг мы останавливаемся, стараясь что-то расслышать. Нет, далеко, не разберешь. Но мы почему-то догадываемся: сообщается о новом наступлении.
Город еще не спит. Он только притаился за маскировочными шторами. Редко-редко увидишь - мелькнет на фасаде незамаскированная полоска. Идем дальше. Движется колонна машин. Они идут как привидения, будто ощупывая перед собой дорогу синими приглушенными огнями. Трамвайная дуга высекает искру о провод. Улица возникает на мгновение даже как-то излишне четко, будто при вспышке молнии. Возникает и исчезает. И ночь становится еще темнее.
Разговариваем. О чем? Не помню. Кажется, он рассказывает, что он тоже где-то проходил проверку, а потом о том, что дивизия его почти уже готова. Скоро им выступать. Это стыдно, это скверно, но я в эту ночь не хочу думать ни о войне, которая бушует еще совсем недалеко, ни о том, откуда я сегодня вышла. И даже постоянная моя мысль, которая всегда живет во мне, мысль о тебе, Семен, мысль о том, каково-то там тебе, даже она покинула меня.
Мне даже не важно, что он мне говорил, и совсем уже ничего не значит, что я ему отвечаю. Важно, что мы идем рядом, что он держит меня под руку, что звучит его голос. Иногда я вспоминаю, что ушла из дома, что ребята меня ждут, и меня тянет к ребятам. Но я продолжаю идти. Куда? Не знаю. Зачем? Не знаю.
Мы миновали мост через Тьму. Его уже починили, яму, в которую тогда сиганул через борт полицай, засыпали. От этого воспоминания на миг становится жутко. Ведь еще утром сегодня фанерный щит загораживал окно, грохотали при подъеме койки... Нет, нет, не ковыряться в этих ранах, не наслаждаться болью воспоминаний! Пусть это скорее забудется, как скверный сон. Ковыряться в таких вещах - занятие малодушных...
И вдруг мне вспомнился сон, который мучил меня перед страшным днем исхода: бескрылые, похожие на гусениц, летающие машины, эти серые существа - воплощенный ужас. И жуткое сознание собственного бессилия. Вспоминается все, что я пережила на мосту, поток людей и машин, зарево, отчаяние одиночества в этой грустной, но единой толпе.
- Вера, что с тобой?
Ночь безлунна. Выходная она сегодня, эта луна, что ли?
Но в фосфорическом сиянии мягких, молодых снегов я вижу просторную площадь, уже освобожденную от немецких крестов, развалины дворца-музея и свою школу.
- Что с тобой, Вера? Замерзла?
Мы остановились как раз перед зданием школы. Той самой, где я училась, где учился Домка, где директорствует сейчас наша Татьяна. Верхнее крыло раскрыто взрывом, и виден похожий на кусок сцены наш класс. Почему-то мучительно интересно узнать: висит ли еще на месте портрет Тимирязева?
- Пойдем посмотрим.
Да, портрет висит. Его даже довольно хорошо видно. Сколько времени прошло с того окаянного утра, когда после взрыва моста я одна стояла на этой площади? Год? Десять? Сто лет?.. Да что там. Сколько времени прошло с сегодняшнего утра, когда слепой трамвай нес меня через эту площадь, а я стояла с узелком под мышкой. Смотрела в единственное стекло и не без страха думала: что же будет, что меня ждет?
- Вера, ты опять ушла куда-то? - Василий взял мои руки, греет их дыханием. - Сегодня ты все время куда-то убегаешь.
- Нет, нет, я здесь... Но куда мы все-таки идем?
- Мы? Идем, как говорится, куда глаза глядят.
- А где ты живешь? - неожиданно для себя вдруг спрашиваю я.
- Где живу?
- Ну да... Не может же гвардии полковник жить под открытым небом.
Минуту мы молчим. От этого молчания нам обоим становится как-то по-хорошему неловко.
- Ну, отвечай... В гости, между прочим, к тебе не напрашиваюсь. Так просто, забота врача. В каких условиях долечиваются его больные.
- Живу в сорока километрах от города. Там мой штаб, - говорит он наконец.
- Так пошли обратно. Шофер ждет. Если мы опоздаем к одиннадцати тридцати...
Он, этот человек, у которого на все готов ответ, в явном замешательстве. Больше всего его, кажется, удивило, что я запомнила это его распоряжение. Мне даже немножко смешно оттого, что он так смутился. Во всех нас, должно быть, еще сохраняется детское. И это очень здорово.
- Я остановилась у золовки и, увы, теперь не могу предложить гвардии полковнику даже койку, - назидательно говорю я.
Улыбаемся. Начинаем хохотать. Он хватает меня и кружит, как девчонку. Я смеюсь, болтая ногами, будто действительно девчонка. Когда он опустил меня и поставил на землю, мы поцеловались. Ну и что? Что в том худого, если двум немолодым людям с нелегкой судьбой вдруг померещился на мгновение призрак счастья и они потянулись друг к другу?..
Будто студенты какие, держась за руки, шли мы обратно. И опять разговаривали. Эти-то разговоры я запомнила. Говорили о его денежном аттестате. Он просил не возвращать, получать по нему хотя бы... пока мы не встанем на ноги, не оперимся. К чему ему, одинокому, на войне деньги?
Говорили о моем будущем. Предложение Громовой заманчиво. Быть ученицей такого человека, как она, хирургом огромного госпиталя - это же здорово. А с другой стороны - медсанбат... Гитлеровцы не разбиты. Война в разгаре, фон шонеберги еще ползают по нашей земле, и скольким Петрам Павловичам и Иванам Аристарховичам грозит виселица, сколько Раечек могут стать сиротами. Что там сиротами! Просто ничем, прахом. Миллионы наших маются, как маялись мы в Верхневолжске. И разве там, на фронте, будет лишней пара опытных рук?.. Полевая хирургия... Доктор Пирогов... С первого курса знаю. У Толстого описано... Верка Трешникова - военный хирург! А что? Сколько раз там, в камере, я мечтала именно о том, чтобы идти на войну и работать, где всего нужнее. Там будет некогда ковыряться в прошлом, малодушно подсчитывать свои обиды.
Война... Я уже знаю: на войне судят о людях не по анкетам, там по делам о человеке судят. А дела? Будущее покажет...
Все это так. Но дети? Как они без матери? Я так стосковалась по ним. Татьяна, конечно, умная, добрая. Они без меня проживут. А я без них?.. К ним, к ним... Ведь я их почти и не видела.
Теперь я тянула Василия за руку, и мы шли не так уж согласно. А тут, на грех, остановил комендантский патруль. Пожилой лейтенант откозырял по всем правилам Василию и... потребовал пропуск. Василий пропуска не знал. К счастью, документы были при нем, и нас отпустили. При этом во время проверки двое бойцов посматривали на нас так многозначительно и насмешливо, что мне стало не по себе.
Так мы дошли до нашего домика и на прощанье, каюсь, расцеловались. У меня даже закружилась голова, моя бедная взбалмошная голова, в которой уж есть и седые волосы.
- Так завтра мы с начсанбатом заедем за ответом?
- Завтра я дам ответ.
Василий повернулся и, будто от чего-то убегая, быстро зашагал к Больничному городку. А я стояла у калитки, слушала его твердую поступь, потом бросилась в калитку, как трусы бросаются в холодную воду. Я же трусиха, и ничто меня от этого, должно быть, не излечит...
...И вот я лежу на свежей простыне, покрытая уютным одеялом. Часы давно уже прохрипели двенадцать. Сонное дыхание ребят слышится с раскладушек. Да еще флегматичный стук маятника. И этот симпатичный сверчок, умница, понимающий, должно быть, как мне дорог домашний уют во всех его проявлениях, работает сегодня уже вторую смену...
Василий рассказывал: когда-то, еще на Халхин-Голе, в короткий перерыв страшной канонады он вдруг услышал пение птиц. А у меня сверчок. Ну-ну, что же ты смолк, баюкай! Мне завтра столько решать, что нужна свежая голова, а для этого как минимум надо выспаться. Ведь так?
Завтра утром Громова потребует ответа. Завтра утром заедет военный врач и спросит, как я решила. Пойду ли я к нему в медсанбат?... Нет, как это здорово, что не кто-то и не что-то, а я сама буду решать свою судьбу.
Что мне им ответить? Что бы, Семен, ты мне посоветовал? Ты далеко, совета твоего я не услышу... Вот что, Верка, засыпай-ка ты сейчас, а ты пили, пили, товарищ сверчок. Утро вечера мудренее.
Ох, отныне всегда и все надо будет решать самой.
Несколько слов после...
Итак, вы, читатель, расстались с доктором Верой, и если она вам понравилась, эта русская женщина с нелегкой судьбой, предвижу вопросы. Уехала она на фронт или осталась в родном городе? Если попала на фронт, вернулась ли живой? Что с ее детьми? Как они живут?.. Сколько таких вопросов слышишь обычно на встречах с читателями.
Ну что ж, признаюсь, я, автор, расстаюсь с доктором Верой вместе с вами и не знаю, как дальше пойдет ее жизнь. Пусть уж каждый из вас додумает ее судьбу.
А вот о том, как живет моя землячка, чей тихий, мало известный подвиг дал мне толчок для написания этой книги, могу сказать, почерпнув эти сведения из того же очерка «Родина помнит», написанного ее коллегой в газете «Медицинский работник». Она добровольно пошла на войну, стала главным хирургом медсанбата одной из самых боевых дивизий Отечественной войны. Меньше чем через год, после боев под Тихвином, получила свой первый боевой орден. Там же, на фронте, в разгар боев подала заявление и была принята в КПСС. Ранена. Поправилась. Вновь встала к операционному столу. Получила еще несколько боевых наград и демобилизовалась уже после окончания войны. Вернулась в родной город. Ныне заведует травматологическим отделением городской больницы.
Уже давно реабилитирован, вернулся домой, восстановлен в партии ее муж - мой старый добрый друг, настоящий большевик-ленинец, который когда-то рекомендовал меня в комсомол. Когда мне случается приезжать в родной город, я всегда захожу в их маленькую квартиру в новом доме на новой улице нового района моего старого города. И радостно видеть, как достойные эти люди растят внуков. О прошлом, хорошем и плохом, они вспоминать не любят. Оба они - в настоящем. В сегодняшнем дне у них дел, забот, радостей и печалей столько, что думать о прошлом им просто нет времени.
Но это уже другая книга, которую пусть пишет кто-нибудь другой.
Москва, 1964- 1965
Борис Николаевич Полевой



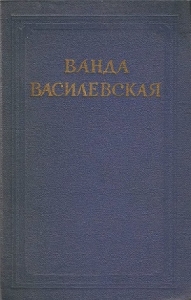









Комментарии к книге «Доктор Вера», Борис Николаевич Полевой
Всего 0 комментариев