ГЕННАДИЙ ГОНЧАРЕНКО ГОДЫ ИСПЫТАНИЙ РОМАН В 2-Х КНИГАХ Книга первая ЧЕСТЬ Художник К. Кащеев Издательство «Молодая гвардия» 1961
«Больше крови в ученье, меньше крови в бою».
А. СУВОРОВЧасть первая Армейские будни
Глава первая
1
Лейтенант Миронов отстал от поезда и опоздал в часть. Начальник штаба майор Чепрак запальчиво отчитал его и направил к командиру полка.
— У него так просто не отделаетесь! Он разгильдяев не терпит!..
Миронов стоял навытяжку, потупив взгляд. Он дважды робко порывался оправдываться, но майор резко обрывал его. Мелькнула мысль: «Он даже не желает выслушать, почему со мной случилось такое. Ведь не умышленно же я!» А потом вдруг, кончив распекать, к удивлению Миронова, Чепрак приветливо проводил его до двери кабинета командира полка и, глядя как-то встревоженно и жалостливо, посоветовал:
— Вы, лейтенант, не вздумайте перед ним оправдываться. Ух, как он не любит этого!..
Это напутствие еще больше расстроило Миронова, и он переступил порог кабинета с таким чувством, будто впервые прыгнул с парашютом.
Миронов попал в просторную светлую комнату. За письменным столом сидел подполковник — коренастый, крепко сбитый, широкоскулый, с суровым лицом. Его пронизывающие глаза остановились на вошедшем.
— Товарищ подполковник, лейтенант Миронов прибыл в ваше распоряжение для прохождения дальнейшей службы, — голос лейтенанта дрогнул.
Зазвенел телефон. Подполковник взял трубку:
— Канашов.
Пока в трубке раздавался чей-то гудящий голос, лейтенант осматривал кабинет. К письменному столу приставлен второй — продолговатый; на нем разостлана свисавшая до полу топографическая карта, разбросаны цветные карандаши. Около стола несколько стульев. На окнах тяжелые коричневые портьеры. Справа, на стене, — карта Советского Союза. Слева — портрет Владимира Ильича в рабочем кабинете в Кремле. От двери к столу — ковровая дорожка.
У большого книжного шкафа стояла девушка. «Мне вот попало сейчас, и тебе попадет», — сказала она глазами. В простеньком полотняном платьице, в белых спортивных тапочках на стройных ногах, она, была совсем неожиданна в этом служебном кабинете. Миронов смущенно взглянул на нее. Грудь ее вздымалась, глаза были красными. Высокий лоб и пытливый взгляд, как у Канашова. «Плакала недавно», — догадался Миронов. На правой щеке девушки черная точка — родинка. Она еще резче подчеркивала свежесть лица. Недовольно взглянув на лейтенанта — видно, он помешал разговору, — девушка стройной походкой вышла из кабинета.
Твердый голос подполковника привлек внимание Миронова.
— Категорически запрещаю, капитан Горобец, заниматься другими делами. Понимаете, за-пре-щаю! Надо уметь дорожить честью, оказанной нашему полку командующим…
Резко положив трубку, подполковник встал.
— Вы недавно из училища, лейтенант? — пробегая глазами предписание, спросил командир полка и оглядел кареглазого лейтенанта, подтянутого, в новеньком, ладно подогнанном обмундировании, затянутого в хрустящее, пахнущее новой кожей снаряжение.
— Так точно, товарищ подполковник.
— У вас, товарищ Миронов, свежие знания. Мы вправе ожидать от вас многого. Полку поручено готовить ответственные показные учения для командиров батальонов округа… — И, помолчав, сказал: — Значит, вы пулеметчик…
— Так точно, товарищ подполковник.
— Завтра примете подразделение.
Телефонный звонок опять прервал разговор.
— Здравствуйте, товарищ полковник. Да, да. У Горобца только что был. Что? — Темные широкие брови подполковника поползли кверху. — Опять холостые выстрелы и сплошное ура?… Это, конечно, безопасно, но, товарищ полковник, я не согласен… Одно из двух: или мы готовим учение, приближенное к боевой обстановке, или собираемся устраивать традиционный тактический парад! Командующий, как я понял, ждет от нас учения в сложных условиях, отвечающих требованиям современной войны. Вот я и использовал одну треть боеприпасов, отпущенных на генеральную репетицию. Обстрелянные солдаты уверенней действовать будут. — И неохотно добавил: — К вам? Зайду. — И, положив трубку, остро глянул на Миронова.
У лейтенанта перехватило дыхание. «Вот сейчас спросит, почему опоздал… И чего он тянет?»
— Вы женаты?
Вопрос застал Миронова врасплох.
— Нет, товарищ подполковник.
— Хорошо… Зайдите к начальнику КЭЧ[1], получите комнату на двоих. Вы, кажется, с Жигуленко из одного училища? — И, закурив, как бы между прочим спросил: — Как стреляете из пистолета?
Миронов дважды стрелял в училище. Результаты были средние. Об этом он доложил подполковнику, и тот приказал:
— Получите сегодня же пистолет, отстреляете в полковом тире и доложите о результатах.
Потом посмотрел пытливо:
— Вы прибыли в полк с опозданием, товарищ лейтенант. Молодой командир не должен так начинать службу. Для вас, для молодежи, должна быть девизом русская народная пословица: «Береги честь смолоду».
Спокойные слова подполковника ударили обухом, заставили насторожиться: «Сейчас посадит под арест».
— Вы свободны, лейтенант. Идите.
Миронов не помнил, как вышел от командира полка. И пришел в себя, только встретив по дороге Жигуленко.
— Ты куда запропал? — спросил растерянно Миронов.
— А я встретил по пути начальника штаба. Он о тебе беспокоится. Говорит: командир полка второй день не в духе. Как бы ты не попал под горячую руку. И зачем ты связался, Саша, с этим делом? Опоздал… Милиция должна была разыскивать мать потерявшихся детей… Ты был у командира полка?
— Только от него.
Жигуленко, прищурившись, поглядел вдаль.
— Арестом или строгачом отделался?
— Ни того, ни другого.
— Брось ты!.. Скрываешь?… Дело твое. К начальнику штаба зайди. Волнуется за тебя человек.
— Зайду. Пистолет получу и зайду.
Жигуленко, прищурившись, поглядел на товарища.
— Зачем?
— Командир полка приказал отстрелять в полковом тире и доложить результаты… И, знаешь, комнату нам выделил. Будем жить вместе.
2
Жигуленко вернулся к вечеру расстроенный и усталый.
— Представился?
— Да… Тебе, Саша, повезло, быстро отделался. Что творилось у Канашова! Полно командиров. И все со срочными бумагами. Я насилу протиснулся в кабинет. Выслушал он меня без всякого удовольствия. Нам повезло с комнатой: накануне нашего приезда один младший лейтенант уволился в запас по болезни. У меня, знаешь, такое впечатление: Канашов хитрый мужик. Себе на уме.
Миронов не согласился и постарался изменить разговор.
— Знаешь, Женя, у него в кабинете, когда я представлялся, наверное, дочь была.
— Красивая?
— Да-а, интересная…
Жигуленко вынул из нагрудного кармана фотографию красивой девушки с пышной короной светлых волос.
— Хороша?… Балерина… Миронов взглянул мельком.
— Хороша, но дочь подполковника лучше.
— Брось выдумывать!
Саша молча подошел к окну. Мягко-оранжевая полоса заката бледнела, переходя в зеленоватый свет. Сгущались сумерки.
— Пойдем отстреляемся, — предложил Миронов.
— Пошли, снайпер, коль хочешь отличиться…
Когда Жигуленко первым, а Миронов следом вошли в кабинет командира полка, у него на столе горела настольная лампа с зеленым абажуром, а сам он неторопливо листал какой-то журнал. Подполковник заглядывал и в книгу, и оба лейтенанта с удивлением увидели немецко-русский словарь. А Канашов спросил:
— Вы какой язык изучали в училище?
— Немецкий, — разом ответили лейтенанты.
— Ну и как оценили ваши знания?
Жигуленко доложил не без гордости, что имел отличную оценку, а Миронов — хорошую.
— Что ж, похвально. Подойдите ко мне. — И когда оба приблизились, протянул журнал. — Это немецкий информационный бюллетень. — Он полистал и сделал закладку. — Переведите это небольшое военное сообщение. Можете делать вместе. На той неделе на совещании командного состава полка мы вас заслушаем. Как стреляли?
Лейтенанты доложили. Миронов выбил шестнадцать очков, Жигуленко — восемнадцать. Канашов выслушал доклад спокойно, будто иных результатов и не ожидал.
— Плохо, — сказал он им. — Ведь вы командиры… Даю вам месяц сроку. Тренируйтесь ежедневно.
3
Домой вернулись молча.
Жигуленко лег на койку, задумчиво глядя а потолок.
— Открой-ка, друг, окно. Как думаешь, зачем это Канашов нам статью дал? Проверяет?
— Может быть, — согласился Миронов.
— Сам, видать, в академии на заочном зубрит, вот и хочет всем показать: «Смотрите, какой я умный, передовой».
Наступило молчание. Оба лежа курили.
— А переводить все же придется. Нашел-таки работенку.
Неожиданно за окном послышалась грустно-задумчивая мелодия.
Евгений вскочил.
— Пошли? Слышишь… Мой любимый вальс «На сопках Маньчжурии».
— Куда?
— В полковой клуб. Сегодня суббота, там вечер.
В чистой комнате, пахнущей свежей побелкой, было по-домашнему уютно, и Миронову не хотелось уходить, но звуки вальса, настойчиво врываясь в окно, звали туда, где танцы и веселье.
— Нехорошо как-то, — слабо сопротивлялся Миронов, — только приехали — и на танцы.
— А что тут особенного? Идем, идем. Ты только свой хохолок пригладь, девчата засмеют.
На макушке у Саши росли непослушные волосы. Как он их ни приглаживал, ни смачивал водой, одеколоном и даже хинной помадой, они, как стальная проволока, упрямо торчали дыбом. Этот хохолок придавал Саше вид озорного нескладного подростка-мальчугана, и было почти до слез обидно, потому что его никто из старших не называл по имени-отчеству, а ребята в училище дразнили «мальчишкой».
В клубе было много народу: бойцы, сержанты, командиры, преимущественно молодежь. Саша и Евгений вошли в зал, когда начался концерт красноармейской самодеятельности. После первого отделения вышли в коридор, закурили.
— Может быть, пойдем домой? — предложил Саша и вдруг придержал Евгения за локоть. — Вот она, смотри…
Дочь командира полка стояла у зеркала и поправляла прическу. Лейтенанты остановились, поглядывая в ее сторону. У девушки были белокурые волосы, заплетенные в толстые косы, голубое платье из тяжелого шелка. Ее открытые руки и шея отливали густым золотистым загаром. Даже мельком не взглянув на молодых лейтенантов, она с гордо поднятой головой прошла в зал. Миронов и Жигуленко молча проследовали за ней, но в темном зале девушка куда-то исчезла.
Шло последнее отделение концерта самодеятельности. Два бойца: один — высокий, широкоплечий, богатырского сложения — боец Новохатько, другой — маленький, щупленький, совсем перед ним мальчишка — боец Еж — лихо отплясывали шуточную «Барыню». Боец-богатырь тяжело и валко ходил, медленно разводил руками, грузно приседал, разбрасывая с грохотом ноги в сапожищах, а маленький быстро и ловко семенил, крутясь волчком возле товарища.
— Хороши хлопцы! — восторгался Саша. — Гляди-ка, как разделывают. Артисты!..
— Тебе бы парочку таких артистов во взвод. Они бы танцевали, а ты бы за них пулеметы таскал, — сказал Евгений. — Но где же дочь подполковника?
Концерт окончился. В зале зажглись огни. Красноармейцы сносили стулья на сцену, подготовляя зал для танцев. Евгений беспокойно шарил глазами по залу. Наконец он увидел ее. Она стояла среди подруг, оживленно разговаривая. Как только мягко вздохнули трубы духового оркестра и первые звуки вальса понеслись по залу, Евгений подошел к девушке. Она вскинула на него удивленные глаза, и они закружились. Сияющий Евгений вернулся к Саше.
— Ты знаешь, ее зовут Наташа!.. Правда, хорошее имя?
— Хорошее.
— Ты что, обиделся? Брось, — хлопнул по плечу Жигуленко. — Смотри, здесь девушки одна другой лучше… Приглашай любую и танцуй.
Саша, ничего не ответив, пошел курить. Когда он вернулся в зал и стал искать Евгения, он увидел у входа какую-то девушку с лейтенантом. Она рассеянно смотрела по сторонам. Ее черные вьющиеся волосы были уложены высокой короной вокруг головы, а на белый лоб, разрумянившиеся щеки и гибкую шею спадали упругие завитки. Черные глаза ее блестели, в них было столько огня и молодого задора, что даже длинные ресницы не могли скрыть этого. По низу ее черного платья проходила широкая кайма из крупных ярко-красных маков, а по всему платью были разбросаны бутоны и мелкие цветы.
Сашу охватило желание пригласить ее на танец и тут же одолела робость — вдруг откажет. Подошел Евгений.
— А у тебя меткий глаз, — сказал он, усмехаясь. — Красавица! Я видел, как ты смотрел на эту «испанку». Вот только спутник, зоркий страж этого сокровища, как тень ходит по пятам.
Миронов вздохнул. Евгений еще несколько раз танцевал с Наташей. Заканчивая последний танец, он, широко улыбаясь и слегка пожимая ее тонкие пальцы, сказал:
— Разрешите мне сегодня конвоировать вас домой?
Она вдруг холодно смерила его с головы до ног, сердито выдернула руку и затерялась в толпе.
Евгений растерянно огляделся. «Почему она обиделась?» Расстроенный, он вышел на улицу и сразу увидел ее. Наташа стояла вместе с «испанкой» и ее спутником-лейтенантом. Взглянув на Жигуленко, Наташа отвернулась. Евгений дождался Сашу, и они направились домой. Отойдя несколько шагов, они услышали, как «испанка» спросила:
— Сережа, ты не знаешь этих лейтенантов? Ответа лейтенанта они не расслышали, но до них донесся веселый смех.
— Ах, черт! — сказал Жигуленко. — Как же это я промахнулся?
Перед глазами Жигуленко неотвязно стояли двое: Наташа и Рита (так звали эту темноволосую красавицу), он никак не мог решить, кто из них красивее, его влекло к обеим.
Лейтенанты возвращались домой взволнованные.
— Знаешь, Евгений, а ведь они похожи.
— Кто они?
— Наташа со своим отцом.
— Да ты, Саша, никак влюбился?… Все на небо смотришь.
В темных просторах чистого неба рассыпались золотисто-голубые искры звезд.
— Ищу свою звезду, — пошутил Миронов.
— Эх ты, поэт, не туда смотришь. Твоя звезда по земле ходит. Ты видел, какую Наташа тебе улыбку подарила? Не улыбка, а волшебная мечта! Погляди она так на меня, уж я не растерялся бы!
Глава вторая
Канашов проводил молодых лейтенантов оценивающим взглядом. Вот и опять в полку появились два новых командира. В Миронове ему бросилась в глаза застенчивость, нерешительность. Трудно будет ему завоевать авторитет во взводе, многие из бойцов и сержантов старше его по возрасту. Но у него есть задор: он первым вызвался перевести немецкую статью, трудностей не боится. А вот Жигуленко — тот знает себе цену. Вид такой, что его, мол, ничем не удивишь, и выглядит молодцом: высокий, стройный, подтянутый, безупречная строевая выправка. Этот сразу понравился бы командиру дивизии. На днях должны прибыть в полк еще молодые лейтенанты — выпускники училищ.
Канашов подошел к окну. Робкая весна — только март, но на снегу уже голубеют лужицы. В открытую форточку врывается влажный ветер, пахнущий лежалым сеном и мокрой вишневой корой.
Через двор, к клубу, заботливо поддерживая жену, прошагал Аржанцев. Прошло еще несколько человек из полка. Большинство с женами. Канашов вспомнил: сегодня суббота, все торопятся в полковой клуб, на вечер самодеятельности. Можно и ему уйти пораньше домой. Но домой не тянуло: жена — чужой человек. У него вконец испортились с ней отношения. Собственно, это ощущение одиночества пришло к Канашову вскоре после того, как они расписались. Сейчас, правда, это тягостное чувство скрашивала дочь. Она приехала к нему на Новый год. Очень скоро и у нее начались ссоры с мачехой. А с тех пор как вселилась в их квартиру семья Аржанцева, жизнь стала совсем невозможной.
Накануне Нового года в полк прибыл командир роты старший лейтенант Аржанцев с тремя детьми и беременной женой. Хозяйственники не торопились с его квартирным устройством. Семью Аржанцева приютил старший лейтенант Верть. У него была одна комната, а детей двое и жена ждала еще ребенка, но они решили — надо помочь товарищу. Аржанцев спал в ротной канцелярии. Но вскоре, когда жена родила, Аржанцев с виноватым видом явился к Канашову.
— Семья моя не может больше жить у Вертя… — И рассказал о своем тяжелом квартирном положении.
Командир полка вызвал помощника по снабжению и, с трудом сдерживая гнев, выслушал его сбивчивое объяснение. Помощнику он дал выговор, но надо было срочно решить вопрос. И Канашов приказал Аржанцеву занять одну из трех комнат собственной квартиры. Жена Канашова, Валерия Кузьминична, пришла в негодование и обрушила на голову супруга весь запас крепких слов. Она обвиняла его в издевательском отношении к семье, грозила уйти навсегда и после бурного объяснения перестала с ним разговаривать Тягостное молчание воцарилось надолго.
А через несколько дней семейная буря разразилась уже по новому поводу. Жена узнала, что муж отдал «непрошеным квартирантам» лучшую комнату с окном на юг, ибо считает, что новорожденному ребенку необходимо сухое, светлое помещение.
Встретив в коридоре улыбающегося Аржанцева, Канашов, нарочито насупив брови, бросил шутливо:
— Выжил, значит, начальство из кабинета и рад-радешенек? Ну, как живет молодое поколение? Голосок у него папашин, звонкий. Не иначе как командиром будет.
Аржанцев застенчиво улыбнулся. Из-за двери высунулось встревоженное лицо жены Аржанцева.
— Вы уж извините, Михаил Алексеевич: разбудил вас наш крикун…
— Хороший будильник!.. С ним веселее!..
Канашов вспомнил, как сегодня на кухне его жена раздраженно выговаривала жене Аржанцева. Она жаловалась, что ее, хозяйку (она подчеркнула это высокомерным тоном), вытеснили из кухни чужие кастрюли и пеленки. И бросила грубо через плечо:
— Пора бы вам унять ваших детей! Они мне скоро на голову сядут.
Жена Аржанцева ответила спокойно, что она согласна пользоваться плитой позже, и ушла.
Канашову было неприятно, что Валерия Кузьминична на каждом шагу подчеркивает перед этой простой женщиной свое «культурное превосходство», унижая ее. Он жалел жену Аржанцева: она так покорно и молчаливо сносила эти незаслуженные обиды. Канашов с горечью подумал, как он ошибся, когда слепо тянулся к этой женщине «из мира искусства», считая, что только она может дать настоящее семейное счастье. А счастье-то не у него, а у Аржанцева, несмотря на то, что там живут трудно, семья большая, денег не хватает, но как ладно живут! С какими сияющими глазами, будто только вчера поженились, встречает жена возвращающегося со службы мужа!
Руки ее, кажется, никогда не отдыхают. Она нянчит новорожденного, кормит ребят, моет пол, варит, жарит, шьет, штопает. Но, пожалуй, больше всего поразило Канашова, что этот занятой человек, когда речь зашла о новой, нашумевшей книге П. Павленко «На Востоке», сказала, что ей кое-что не нравится в этом романе. «Мы пять лет жили на Дальнем Востоке и знаем, как там трудно жить и служить. А у него там, в романе, чуть ли не рай».
Канашов невольно с неприязнью подумал о Валерии Кузьминичне. Вот она постоянно кичится своей «высокой культурой», а сама уже давно не читает ни книг, ни газет. Сегодня она подала ему теплый, противный на вкус чай в немытом стакане и, как бы объясняя свой недосмотр, раздраженно бросила:
— Стоит людям сделать добро, как они сядут на шею. Не дают мне ничего приготовить. Целый день плита занята. Вот побудешь голодный, тогда, может, поймешь, чего стоит твоя благотворительность…
Канашова это возмутило еще потому, что и раньше она не заботилась о нем. Он ушел, не позавтракав, с тяжелым сердцем.
…Канашов сел за стол и с раздражением начал листать новые немецкие журналы «Милитер Вохенблатт» и «Дейче Вер». Вот опять: «Противотанковая артиллерия и истребители танков», «Наши бомбардировщики в польском походе». Да, эти статьи надо бы разобрать с командным составом перед проведением тактических учений. А то у нас часто недооценивают противника. Его внимание привлек заголовок: «Подвижные войска» — статья генерала танковых войск Гудериана. «Немцы что-то в последнее время уделяют много внимания танкам. Нет ни одного журнала, где бы они не писали о танках». Пожалуй, на это надо обратить внимание на командирских занятиях.
Дверь с шумом отворилась, в дверях появился грузный мужчина — врач полка. Не спрашивая разрешения, наклонив голову вперед, он кинулся к столу Канашова.
— Что за безобразие, Михаил Алексеевич?! До каких же пор будут твориться самочинство и издевательства над медициной? Опять у меня забрали плотников. Гардероб не докончили, дверь в больничной палате не сменили. У меня же там больные люди!
Врач поднял пухлые руки и потряс ими над головой.
Канашов встал, налил стакан воды и молча поставил перед бушевавшим врачом, приглашая жестом сесть.
А врач снял фуражку, вытер платком вспотевший лоб, шею и рухнул в деревянное кресло — оно жалобно заскрипело. Небрежным жестом он отодвинул от себя стакан и сказал уже более спокойно:
— Так вот, уехал я проверять санитарное состояние третьего батальона. Весь день там пропадал. Возвращаюсь и мечтаю, как наведу завтра порядок в стационаре. Там и осталось-то сменить несколько гнилых досок на полу да поставить новые двери. А плотников, оказывается, замполит Шаронов срочно послал клуб ремонтировать. От этих бесконечных танцев пол провалился. Ну что ж это получается? Ведь здесь речь идет о здоровье людей.
Врач снова вскочил, замахал руками, затопал ногами, будто показывал «бег на месте».
— Шаронов на прошлой неделе на совещании с моим медперсоналом говорил: «Настоящую заботу о человеке проявлять нужно, товарищи медики». Обещаниями бросался: «Не стесняйтесь. Если нужно, мы вам поможем». Помог, называется!
Чем больше кипятился врач, тем добрее Канашов улыбался, Он любил этого беспокойного человека.
— Ты, Яков Федотович, точно бодливый козел. Вырвешься из своей санчасти, как из-за загородки, и готов всех перебодать…
Доктор, как всегда, обиделся, виновато поглядывая на командира полка.
— По служебным делам пришел говорить, официально!
— Ты бы еще в полночь ко мне в квартиру ворвался, официальный!
Заморенков встал, поправил фуражку, собираясь уходить.
— Прошу извинить, товарищ подполковник. Не мог. Нервы сдали…
— Да ты садись, раз пришел. Давай решать. А то полчаса кипятишься без толку… А мы за это время, глядишь, успели бы партию в шахматы сгонять. Ведь сегодня наш шахматный день.
Канашов снял телефонную трубку и приказал помощнику по снабжению выделить в распоряжение полкового врача двух бойцов-плотников.
— Когда ты, Яков Федотович, переломишь свой шумный характер? И как только тебя жена терпит, ума не приложу.
— Привыкла, — тяжело вздохнул Заморенков, расставляя фигуры на шахматной доске.
У него был постоянный девичий румянец на пухлых щеках, и сам он имел плотное сложение, поэтому Канашов переделал в шутку его фамилию на Здоровенкова. И командиры в полку, прослышав об этом, стали называть врача двойной фамилией: Заморенков-Здоровенков. Канашов говорил, а сам внимательно следил за ходом игры. И когда он вдруг снял слона у врача, тот проводил его растерянным взглядом.
— Может, вернуть?
— Ни в коем случае, — запротестовал Заморенков. — Мы сейчас поправим дело. Скушаем вашу пешечку, а там, глядишь, и слона вернем.
Он взял в углу пешку офицером, угрожая туре Канашова. И не заметил, как поставил под удар ферзя.
Канашов взял ферзя.
— Сдаешься, Яков Федотович? Без ферзя какая игра?
— Сдаюсь… У меня, Михаил Алексеевич, мой легаш вот уж неделю места себе не находит. Чует его сердце — скоро на тягу. Ну как, возьмешь кобелька? Длинноухий и шерсть палевая, красивый.
Канашов вспомнил, как жена, морщась, сказала, что квартира превратится в псарню, все вещи пропахнут псиной. Но не это сдерживало Канашова. В его квартире теперь жили дети…
Заморенков испытующе долго глядел на красные, переутомленные веки Канашова, на глубокую печаль его беспокойных глаз и, наконец, не выдержал:
— Гляжу я на твой зверски-нечеловеческий режим и вижу: долго не протянешь, Михаил Алексеевич. Мало тебе хлопот по службе, так вот еще на чтение этих статеек время тратишь.
— Знаю, знаю твои оздоровительные теории, — перебил его Канашов, — почаще отдыхать, вовремя принимать пишу, не волноваться и не переутомлять себя. Меня… еще бы на одну войну хватило. Больше не нужно…
— На какую это еще войну?
— Да вот, — Канашов указал на журналы. — Польша — репетиция войны с нами… Только ошибется он…
— Неужели немец на нас нацелился?… А Русачев говорит, чепуха. Паникерство журналистов.
Канашов встал, положил руку на плечо врача.
— Нет, дорогой, дыма без огня… К войне они готовятся… Ну что, по домам?… Пора на покой!.. А почему опять перенесли партбюро полка?
— Да вот уж вторую неделю не можем собраться. Все Шаронов занят.
— Ох, и достанется вам всем, членам бюро, за нарушение партийной дисциплины! И вообще мне не нравится ваша работа. Раскрепились по разным участкам. К кому ни обратишься — это не его дело. Какой же это принцип коллективного руководства, если каждый делает сам по себе, не зная, что делают другие? Это как у Крылова — лебедь, рак и щука.
— Слух идет: скоро новый парторг полка прибудет, — сказал Заморенков.
— Новый-то новый, да как бы вы его по старой дорожке не повели…
Глава третья
1
Тянулись долгие дни «медвежьей спячки», так в шутку называл свое положение Мильдер, после того как его новую теорию танковой войны жестоко отвергли, а сам он попал в опалу. Кстати, и место, где жил опальный немецкий генерал, чем-то напоминало медвежью берлогу. Маленькая вилла в Богемских горах среди лесов. Казалось, о существовании генерала забыли все. Первое время он был весьма доволен, что его, наконец, оставили в покое. Сколько было неприятностей! Даже его арийское происхождение проверили, когда усомнились в его знатной юнкерской фамилии. И его военные способности поставили под сомнение. После этого Мильдер стал еще более сух и молчалив. Его широкие кустистые брови были постоянно насуплены и полузакрывали серые холодные глаза.
Каждое утро ровно в шесть генерал отправлялся на прогулку. Он доходил до одинокой кирхи и направлялся к развесистому мощному дубу. По преданию, этот дуб посадил Фридрих Великий. Проезжая здесь через двадцать лет и любуясь красивым дубком, Фридрих сказал: «Нам бы таких крепких солдат — Германия была бы владычицей мира».
Совершив утренний моцион, Мильдер прямо в кабинете выпивал стакан черного кофе и забирался в «берлогу», как называла жена массивное кресло, обитое черной кожей.
Так он сидел и отрывался только на завтрак и на обед. А в остальные часы дня над спинкой кресла постоянно маячила его округлая макушка со взъерошенными волосами. Полусклонясь над столом, Мильдер быстро покрывал бумагу своим мелким убористым почерком. Страницы одна за другой наслаивались, образуя на столе белоснежную копну.
Нет, он, Мильдер, не будет спорить с этими военными недоучками и выскочками. Он знает, у него много врагов и завистников. И единственный путь доказать свою правоту — это оформить все споры и разногласия в один капитальный труд. А об остальном сейчас не стоит думать. Еще не было на свете такого счастливца, чтобы новое, созданное кем бы то ни было сразу было принято и достойно оценено человечеством. Потомки его оценят.
Уже сейчас вторая мировая война показывает, что он прав. Успех войны решают внезапность, мощный огонь и быстрота. А таким единственным из наземных войск являются крупные соединения танков в боевом единстве с авиацией. Пусть его противники добились победы: Мильдер отстранен от армии (что было чувствительным ударом) и, покинув Берлин, забрался в глушь. Они сделали все, чтобы от него отшатнулась военная общественность, но они не смогли отнять право мыслить и выражать эти мысли на бумаге. И он гордился этим… «Странно, почему Гудериан, этот решительный человек, так безучастен к моей роковой судьбе? Ведь он весьма одобрительно относился к моей новой теории».
В вилле, где жили Мильдеры, наступила тишина, похожая на дни траура. Жена Марта ходила на цыпочках. Дочь Герта была срочно отправлена к дальним родственникам под предлогом подготовки к поступлению в институт.
А сам Мильдер, еще более подозрительный ко всему, запирал свой кабинет на ключ и не разрешал входить даже жене.
Только прожив здесь три месяца, Мильдер постепенно стал приходить в себя. Теперь он даже изредка разрешал жене производить уборку в кабинете. Но в конце февраля наступившее семейное спокойствие было нарушено приездом племянника со стороны жены. Это был веселый, жизнерадостный юноша по имени Курт. Он любил лыжный спорт и с утра, забрав лыжи, отправлялся в горы. Мильдер с ним почти не встречался. Он умышленно избегал встреч. Современная молодежь чрезмерно переоценивает свои возможности и, на его взгляд, не слишком надежна. И Мильдер предупредил жену, чтобы та не вела с племянником никаких разговоров о нем и его работе.
Как-то после обеда он отдыхал, и вдруг в душу закралась тревога. Он поспешил в кабинет и обнаружил, что несколько листов его труда валялось на ковре. Генерал судорожно перелистал листы, но все оказалось в порядке. Мильдер позвал жену и учинил ей допрос. Марта клятвенно уверяла, что в кабинет никто не заходил. Это еще больше его встревожило. Кто же мог трогать ого рукопись? Неужели племянник? «Конечно, он за мной шпионит… Если целью его приезда, как он говорит, было желание повидать сестру, так она уехала. Однако он живет уже вторую неделю и не собирается уезжать. Бесспорно, гестапо завербовало его». И Мильдер снова потерял покой. Каждую ночь его посещают кошмары. То его ведут на допрос, то бросают в тюрьму, то приговаривают к расстрелу.
Однажды он проснулся далеко за полночь и прошел в кабинет. Там все лежало на прежнем месте. Успокоенный генерал вернулся в спальню.
И все же у генерала не пропадала болезненная настороженность. Каждый стук двери, каждый звонок заставлял его вскакивать. «Кто это к нам? Что им надо?» — обращался он к супруге.
Но это были женщины, они приходили к его жене по разным хозяйственным вопросам.
Однажды днем тишину их уединенной «берлоги» нарушило чихание мотоцикла.
Жена, бледная, с испуганными глазами, появилась на пороге кабинета:
— К тебе, Густав… Разреши…
Он отмахнулся с досадой. Сердце тревожно забилось, но стараясь ничем не выдать своего волнения, он плотнее сжал губы.
— Скажи, что я занят и не принимаю никого.
Когда дверь за женой захлопнулась, он быстро-быстро собрал со стола исписанные листки и спрятал их в папку из крокодиловой кожи. Ощущая, как что-то тяжелое давит на сердце, генерал сел, утонув в кресле, прикрыв рукою глаза. До слуха донеслись мягкие, вкрадчивые шаги жены.
— Офицер особых поручений из канцелярии Гитлера. Привез тебе пакет… — Ее слова прозвучали набатом.
Мильдер откинул голову, удивленно посмотрел на жену, пошел надел мундир и сказал приглушенно:
— Пусть войдет…
Молодой франтоватый офицер с черными маленькими усиками, которые были сейчас в моде, приветствовал генерала возгласом: «Хайль Гитлер!»
— Обер-лейтенант фон Зиринг, — представился он и, достав из портфеля пакет с сургучной печатью и имперским черным орлом посредине конверта, протянул генералу.
О, Мильдер хорошо знал, что бумаги с таким знаком именовались особо важными.
Офицер снисходительно улыбался.
Строго и недоверчиво оглядев его, Мильдер легким кивком головы дал понять, что он свободен. Офицер вышел. Генералу вдруг сразу вспомнился странный визит племянника. «Да, это, видно, звенья одной цепи». Вскоре до его слуха донеслись чихающие звуки мотоцикла. «Уехал», — отметил Мильдер, в волнении расхаживая по кабинету. Таинственный пакет по-прежнему лежал на столе. Марта робко заглянула в дверь. Он встретил ее суровым, осуждающим взглядом. Голова жены исчезла за дверью. Мильдер подошел к двери и, повернув дважды ключ, быстро распечатал пакет. В нем было коротенькое приказание:
«Вам надлежит явиться на беседу к генералу фон Шталькэ». Далее адрес, число, время прибытия… Вот и все.
«Кто же этот Шталькэ? И зачем я ему потребовался?» Он снова беспокойно зашагал по кабинету. «Ах, Марта, Марта, какая она неосторожная! Конечно, этот молодой шпион решил на мне сделать карьеру. Он снял фотокопию с рукописи… Теперь каждый немецкий юноша — прекрасный фотограф. И как это я не мог догадаться раньше?»
Мильдер провел беспокойную ночь, разбирая свои старые семейные архивы и документы.
На другое утро он надел парадную генеральскую форму со всеми боевыми орденами и медалями.
Жена, молчаливо сжимая руки, ходила за ним по пятам как тень, Печальные и испуганные глаза ее были полны слез.
— Ради бога, Густав, не испытывай вторично судьбы. Не гневи их! Помни, если что случится, я не переживу…
В глазах Мильдера, каменно-суровых, блеснули огоньки.
— Нет, Марта, пусть они не ждут от меня раскаяния. — И громкие шаги его смешались с перезвоном орденов и медалей.
2
Неделю тому назад произошел разговор между начальником управления комплектования Шталькэ и генерал-полковником фон Браухичем.
— Генерал танковых войск Гудериан просил меня прислать в группу командиром дивизии Мильдера. Он дает ему весьма высокую оценку. По его мнению, командир он блестящий, хотя со странностями.
Шталькэ просил дать ему несколько дней, чтобы он подготовил материал и доложил о Мильдере обстоятельно.
После ухода главнокомандующего сухопутными войсками Шталькэ вызвал к себе работников управления и отдал распоряжение подготовить все, что касается прохождения службы Мильдером. Он решил сам разобраться в теоретических «грехах» генерала.
Теперь он день за днем читал различные документы личного дела генерала Мильдера.
Вначале генерал Мильдер был сторонником «теории малой армии», которую создали Сект и Зольдан. Затем он присоединился к новой в то время стратегии «кинжального удара». Ее авторами были Ротбах и Гитлер. Окончив академию, он познакомился с самым передовым и сильным современным военным теоретиком «танковой войны» Гейнцем Гудерианом. Тот считал, что самое активное ядро многочисленной немецкой армии должны составить танковые войска.
Долгое время эта теория владела умом Мильдера и была, по его мнению, самой передовой. Но война Германии с Англией вызвала некоторое разочарование в теории Гудериана и натолкнула на мысль о создании новой военной теории. Она-то и принесла генералу Мильдеру, в то время преподавателю в Берлинской военной академии, много неприятностей и чуть было не привела его к гибели не только моральной, но и физической.
Мильдер, отыскивая причины неудачи в войне с Англией, перечитал Клаузевица, и случайно одно из его положений дало толчок для создания Мильдером новой теории «стадийной войны». А вообще он считал, что Германия для завоевания мирового господства должна иметь две военные доктрины. Для войны с государствами меньшими и равными самой Германии — доктрину «блицкрига» — «молниеносной войны», а для войны с великими государствами — такими, как Англия, США и СССР, — доктрину «стадийности» (войны по этапам). Вся война с этими государствами делится на ряд последовательных стадий. Так, по мнению Мильдера, прежде чем начинать войну с Англией на Британских островах, необходимо было завоевать Индию, Канаду и все другие колонии и доминионы.
«Новая» теория причинила генералу Мильдеру много неприятностей. Его выгнали из академии, объявили его лекции вредными, статьи, напечатанные в журнале «Милитер Вохенблатт», запретили, а его личное дело передали в канцелярию Гиммлера для расследования его опасных мыслей, ибо они ставили под сомнение успехи, достигнутые германской армией под верховным командованием фюрера. Потребовалось много усилий знаменитого родственника со стороны жены — Альфреда Розенберга, который лично просил Гитлера оставить «крамольного генерала» в рядах армии. И Мильдеру пришлось искупать свои «теоретические промахи» участием в войне с Польшей — там он отличился как один из лучших, смелых командиров. Но пошатнувшаяся репутация восстанавливалась очень медленно. Очередное воинское звание ему задерживали. Единственно, в чем не могли его обойти, — это в боевых наградах. Он получил два «железных креста» первого класса.
Обо всем этом и доложил Шталькэ Браухичу. Тот слушал его весьма внимательно. В заключение Шталькэ сказал, что, пожалуй, можно обойтись без этого чудаковатого генерала.
— Не разделяю вашего мнения, господин генерал. Ведь мы готовимся к войне с Россией… Нам надо много боевых, решительных генералов.
— Но ведь он больше теоретик, чем боевой командир. Мы бы могли его в крайнем случае использовать на преподавательской работе…
— Ни в коем случае. Там он опять свихнется на своих глупых теориях. А на войне ему некогда будет ими заниматься, господин Шталькэ.
И вскоре после нескольких бесед в генеральном штабе генерал Мильдер вернулся в Берлин из своей богемской «берлоги».
В Европе неумолимо сгущались тучи большой войны. Они ближе и ближе придвигались к востоку. И, забыв все личные обиды, Мильдер вместе с десятками тысяч ему подобных генералов и офицеров не за страх, а за совесть включился в самую активную подготовку. Удачная война с Россией решила бы много вопросов не только государственных, но и личных. Как военный теоретик, он смог бы на практике проверить созданную им теорию; как человек, потерявший материальные блага, в свое время достигнутые высоким положением, он, бесспорно, мог поправить их; как обиженный и незаслуженно отвергнутый обществом, он вернул бы себе былое уважение и фамильный престиж, — словом, то, чем так дорожит каждый истинный немец старинного прусского происхождения. Игра стоила свеч! И Мильдер весь, без остатка, отдался этим манящим, как свет далекой звезды, целям.
Глава четвертая
1
— Ну, какое впечатление о взводе? — спросил Жигуленко у вошедшего в комнату Миронова.
— Какие-то настороженные все, глядят недоверчиво. А в общем народ хороший. Все по второму году служат в армии. Один в финской войне участвовал. Вот это детина — богатырь Илья Муромец. Роста двухметрового, в плечах косая сажень, а глаза голубые, застенчивый, как девушка. Фамилия у него крепкая — Подопрыгора. Ко мне во взвод мощный народ попал, будто кто специально подбирал. Полагута, Новохатько, Ягоденко — все богатыри. Командир отделения сержант Правдюк, среднего роста, но крепыш. А вот помкомвзвода старший сержант Рыкалов — худощавый, словно высушенный, и лицо лимонного цвета.
— А что с ним?
— До армии на химическом заводе работал, в аварию попал и отравился. А теперь — есть заключение врачей — он здоров… Ну, а как дела у тебя?
Жигуленко призадумался.
— Откровенно, я разочарован… Взвод так себе. Дисциплина слабая. У них до меня был командир тряпка: за два года командования ни одному взыскания не дал. Все уговаривал.
— А ты, Евгений, — перебил Миронов, — как в веду глядел: ко мне во взвод эти плясуны попали… Помнишь, мы их на вечере красноармейской самодеятельности видели?
— Хлебнешь ты с ними горя. Ар-ти-сты!.. — И спросил:
— Ну, а Аржанцев, наше ротное начальство, как тебе понравился?
— Он, по-моему, хороший командир. Придирчив. И повторяет на каждом шагу: «Люблю порядок». Но он оправдывает, по-моему, свой девиз. Действительно, у нас в роте, в казарме чистота госпитальная…
— Да, он нам теперь жизни не даст со своим порядком, — бросил Жигуленко. — Каждый на чем-нибудь выслуживается. Попал он в любимчики к Канашову.
Миронов понял: Жигуленко недоволен своим назначением.
Евгений окончил училище отлично — по первому разряду и имел право выбирать округ для службы. Но в округе, где жили его родные, свободной должности командира роты не оказалось. Жигуленко предложили ехать в особый округ, где его могли назначить на эту должность
У Канашова освободились две должности ротных, но он не согласился сразу предоставит их молодым командирам. И это задело самолюбие Жигуленко. О разговоре между ним и Канашовым он не сказал ничего Миронову. Но сейчас вспомнил слова командира полка: «Этак, лейтенант, вы через год потребуете должность комбата. Покомандуйте взводом. Не торопитесь… Будете хорошо командовать, не задержим — выдвинем».
Жигуленко затаил обиду. И с первого дня решил, что наведет должный порядок во взводе (о слабой дисциплине его предупредил комбат). Теперь он сделает его одним из первых по боевой подготовке в полку.
Миронов вдруг спохватился:
— Совсем было забыл… Мне пора на стрелковый тренаж. Ты уже был там, Евгений?
— Был, — неохотно ответил Жигуленко. — И зачем только время тратить…
Миронов собрался уходить, но увидев проходящего по двору командира полка, сказал:
— А у меня сегодня Канашов был на технических занятиях.
— Ну и что ж, похвалил? Ведь ты мальчик-паинька. Вчера до двух ночи сидел. Конспект у тебя аккуратненький. Начальству это нравится. Кстати, дай мне свой конспект на вечер, я погляжу.
Миронов, слегка смущенный подкусыванием товарища, положил свой конспект на тумбочку.
— Ничего, представь, он мне не сказал. Побыл час. В занятия не вмешивался. И вдруг уехал…
— Значит, будет на совещании хвалить… Вот увидишь. Если что не так, начальство не смолчит. Ты построже с ними. Исправней солдаты будут.
Миронов растерянно взглянул в зеркало: волосы на макушке стояли торчком. Он плеснул воды в руку, быстро пригладил вихор и надел фуражку.
Евгений сердито сказал:
— А ко мне сегодня на строевую комбат Горобец завернул. Побыл минут пятнадцать и ушел. И, как на грех, один в нечищеных сапогах, другой без пуговицы на вороте гимнастерки. Пришлось дать одному три наряда, другому — два. Вне очереди.
— И это при комбате?
— А что ж тут такого?… Зачем мне скрывать их недостатки?
— Не много ли? Ведь так через неделю у тебя все будут иметь взыскания.
— Пусть… Зато увидишь, какая дисциплина будет.
— Взысканиями не сделаешь из них хороших бойцов.
— Воспитывать надо?… Знаю. Это пусть им политруки лекции читают. Я командир. У меня на это есть права.
— А какое у них мнение о тебе будет?
— А мне что до этого? Я выполняю приказ наркома. В своем подразделении командир — хозяин. На то и единоначалие ему дано. А ты что, думаешь воспитать у них любовь к себе? Чепуха это. Командир не девушка, чтобы его любили. Командира должны бояться, и это создает уважение к нему, авторитет.
— А за что же им уважать тебя?
— Как за что? Хотя бы за то, что мне командовать ими доверили. В военном деле я на несколько голов выше любого из них.
Жигуленко встал, прошелся по комнате.
В дверь осторожно постучались.
— Войдите! — крикнул Жигуленко.
Вошел связной и доложил:
— Товарищ лейтенант, вас командир роты вызывает к себе.
— Что там случилось? — поморщился Жигуленко и направился к койке, где на спинке висело его снаряжение.
— Дежурный по полку задержал в проходной бойца вашего взвода Чемодурова. Он чуть было не ушел самовольно…
— Это что же такое? Распустились, разгильдяи! — крикнул Евгений, ловко и быстро надевая снаряжение. Встретившись взглядом с Мироновым, отвел глаза в сторону. — Ничего. Я ему покажу! Он и десятому закажет.
2
Когда Миронов уже собрался спать, по коридору раздались торопливые шаги Жигуленко.
Евгений вернулся радостный, возбужденный.
— Такая погода, Саша, что и не уходил бы со двора. Воздух сто тысяч стоит.
Он стремительно распахнул окно.
— Не возражаешь? А то у нас душно. Слышишь, девчата поют. Ночные жаворонки…
Жигуленко быстро заходил по комнате, скрипя половицами. Потом присел на койку Миронова.
— Сашок, скажи по-дружески: нравится тебе Наташа?
Миронов удивленно взглянул на Жигуленко:
— Задавака она…
— Нет, Сашок, ты напрасно. Девчонка она неплохая. Только что в кино с ней и подругой ее Ритой был. А с ними неотлучно и тот лейтенант, помнишь, что от нее тогда не отходил. Видать, влюблен в Риту: и не дышит, когда сидит возле нее. А ведь не пара она ему. Нежная, красивая, говорят, хорошо на пианино играет. А он мужик грубый, неотесанный… Двух слов связать не может. И во всем ее до смешного копирует: она вздохнет тяжело — и он, она улыбнется — и он. Что она ни скажет, тотчас же услужливо поддакивает… Вот ты говоришь о Наташе — задавака. А какая, скажи, девушка не набивает себе цену? Кстати, она о тебе спрашивала.
— Неправда.
— Нет, правда. Где, говорит, ваш товарищ?… Ну, я отвечаю ей в шутку: «Он серьезными делами занят». А она мне: «А почему он девушек боится? В клуб на танцы не ходит?» Не помню, говорил я тебе или нет, как-то иду мимо клуба: «Дай, — думаю, — зайду». Ну, зашел, и потанцевали с Наташей…
3
В полковом клубе окончились танцы, и толпа людей, хлынувшая шумным потоком, быстро растворилась в ночной тьме. То там, то здесь раздавался звонкий девичий смех, но Жигуленко с Наташей долго шли молча.
— Мне кажется, что вы добрая, Наташа, — прервал молчание Евгений.
— Я? — в ее голосе прозвучали и удивление и насмешка. — Для кого как… Но бываю и злой…
— Пожалуй, что и так. Вы помните нашу первую встречу на танцах? За что вы тогда на меня обиделись?
Наташа промолчала. Они подошли к ее дому. Евгений, держа под руку девушку, замедлил шаги: ему хотелось еще побыть с ней. Этого хотела и Наташа. Но какой-то беспокойный бесенок часто толкал ее на необдуманные поступки.
— Мне пора… Уже поздно…
— Что вы, Наташа! Так скоро? — голос Евгения зазвучал обиженно.
— Мачеха будет ругать… Который час?
— Половина двенадцатого.
— А мачеха у вас сердитая?
— Всякое бывает… — Наташа раздумывает: «Идти домой не хочется».
Евгений угадывает ее колебания.
— Давайте присядем.
Они садятся на скамейку у калитки.
— Наташа, вы хорошо танцуете.
— У меня стаж.
— Большой?
— Около года.
— Танцы — буржуазные пережитки. Я за то, чтобы их запретили. — Евгений улыбается.
Она видит это по ровным рядам белых зубов.
— А я против.
— Почему?
— Это бы затруднило знакомство.
Жигуленко пододвигается ближе, берет руку Наташи. Она осторожно освобождает ее.
— А где пропадает ваш друг Миронов?
— Читает, наверно. Он книголюб. Чудак. Увлекся Гомером. Стоит тратить время на такие ветхозаветные древности!
— Ветхозаветные? А представьте, я тоже читала Гомера, мне нравятся и «Илиада» и «Одиссея». Герои этих книг прямо-таки живые люди.
Евгений удивленно посмотрел на девушку. Он почувствовал, что сделал промах, и поспешил оправдаться.
— Я тоже люблю читать, но не старину, которая попахивает нафталином.
— Значит, вам не нравятся «Овод», «Спартак»?
— Ну, бывают исключения, иногда и о старине пишут неплохо, — неопределенно отозвался Жигуленко. — Вот хотя бы Байрон. Его «Корсара» я раз десять перечитывал.
— Байрона я тоже люблю. У него звучный, красивый стих… Но мне не нравятся его одинокие люди, занятые только собой и своими переживаниями… А музыку вы любите?
— Да, но только не классическую… Уж слишком усиленно пичкала ею меня мать, таская по филармониям и театрам. Она у меня артистка. Голос у нее был потрясающий. В одно прекрасное время она вообразила, что я недюжинный талант, и беспощадно приковала меня к роялю. Но Чайковский из меня не получился. И я вспоминаю эти годы с отвращением.
— Играть на пианино было и моей мечтой. Да все как-то не удавалось. Осенью этого года у нас в полковом клубе собираются организовать музыкальный кружок. Обязательно буду учиться играть на пианино.
— Вы верите: я буквально был мучеником искусства. Кого только не собирались делать из меня мои предки!
— Какие предки?
— Да мои родители… Моя маман на этом не успокоилась. Вопреки желанию отца — он у меня известный инженер-энергетик и мечтал, что я изберу его профессию, — она упорно хотела открыть во мне какой-нибудь талант. Я заучивал и декламировал на память монологи всяких гамлетов, обучался искусству балетного танца, рисованию масляными красками и даже писал стихи.
— Как же получилось, что вы стали военным? Не раскаиваетесь в этом?
— Что вы! Ведь я же добровольно пошел в военное училище. После десятилетки я долго мытарился, решал вопрос: кем быть, куда пойти учиться? Спасибо, дальний родственник — троюродный брат (он старше меня на три года) — помог дельным советом. Встречаю я его разочарованный всем и всеми. Он в блестящей форме — лейтенант — и говорит: «А что, если тебе, Женька, пойти в военное училище? Ведь ты прямо рожден быть военным. Парень ты отчаянный. Да и какая же профессия в наше время может быть почетней, когда нашу страну окружает столько врагов?»
— Значит, вы довольны выбором беспокойной профессии?
— Как видите. Но в жизни делается не всегда так, как бы хотелось. Многое в службе зависит не от наших желаний. Посылали меня сюда — обещали роту, а пришлось взводом командовать.
Наташа посмотрела на него долгим, оценивающим взглядом.
— Когда у папы спрашивают, любит ли он свою профессию, он отвечает шуточными стихами… Хотите, прочту?
— Прочтите. Я люблю стихи слушать.
— Как твои, солдат, дела? Трудна служба? — Тяжела… Только ляжешь — подымайсь, Станешь в строй, кричат: «Равняйсь!» Каждый час зовет дорога, Сел за стол, трубят: «Тревога!» И творится вот такое: Нет ни день, ни ночь покоя. — Потерпи, солдатик, малость, Чепуху служить осталось. Вот он службу отслужил. Все на свете пережил, Холод, зной, броски, тревоги, Перемерял все дороги. Говорят: — Домой идите. Что? Домой вы не хотите? Удивительный мужик! Отвечает: — Я привык. — Значит, вытерпел, прижился? — Не прижился, а сроднился… Сдвинул брови очень строго: — Да, профессий в жизни много… Мне же по душе, ребята, Быть родной страны солдатом. — Там ведь служба тяжела? — Как кому, а мне — мила.— Кто это написал?
— У папы в полку служил сержант-сверхсрочник Березкин. Сейчас он в военном училище учится. Его стихи в дивизионной газете печатали.
В квартире, где жила Наташа, распахнулось окно и показалась коренастая фигура Канашова. Он будто всматривался во тьму. Наташа встала.
— Который час?
— Половина первого.
— Мне пора. Папа ложится спать. Он всегда перед сном открывает окно в своем кабинете.
Евгений задержал руку девушки.
— Пойдемте завтра в клуб, на картину «Если завтра война».
— Хорошо.
— До свидания, Наташа.
— Спокойной ночи.
Возвращаясь домой, Жигуленко думал: «Для начала хорошо. А дальше — будем действовать по обстановке».
Наташа хотя и устала после танцев, но сразу уснуть не могла. Пестрой чередой проносились мысли: «Красив… Неглуп. Но что-то в нем вызывает недоверие. Избалованный маменькин сынок? Но военная служба, видно, ему по душе… Чем-то он напоминает мне Виктора, мою первую, неудачную любовь… Он тоже был красив, кружил девушкам голову, а любил только самого себя… А впрочем… может, он и не такой…»
Глава пятая
1
В одно из воскресений командир дивизии Василий Александрович Русачев сидел в мягком кресле и перечитывал любимую книгу «Конармия». На столе сердито, как горный поток, клокотал самовар, и от крышки его вихрились седые завитушки пара.
Увидев, что муж доедает варенье, Марина Саввишна щедро наполнила вазу.
— Давай, Васенька, налью еще стаканчик.
— Нет, хватит.
— Ну тогда поешь варенья, — и она пододвинула вазу. Белый кружевной передник Марины Саввишны резко оттенял ее смугловатую кожу, а блестящие черные глаза и приветливая улыбка располагали к ней, и каждому хотелось сказать ей что-нибудь приятное. Но когда она хмурила брови, две глубокие поперечные морщины, расходясь от переносицы, делали ее лицо решительным.
На этот раз муж, углубленный в чтение, даже не отрывая глаз от страницы, положил себе в рот несколько ложек варенья — он по-детски любил сладкое. Густая янтарная капелька упала на страницу книги, раскрытую у него на коленях. Марина Саввишна аккуратно сняла капельку полотенцем и решительно закрыла книгу, отложив ее в сторону.
— Отдохни, Васенька… В выходной день отдыхать надо, а не читать в который раз одно и то же.
Русачев недовольно поднялся и потянулся было за книгой, но Марина Саввишна сунула ее в широкий карман передника. Ей уже давно не терпелось поговорить с мужем. В последнее время Василий Александрович был очень занят служебными делами и возвращался домой поздно. Она тоже была загружена общественной работой и нередко вечерами, а то и воскресные дни не бывала дома.
— Товарищ полковник, разрешите обратиться? — задорно спросила жена.
Русачев взглянул на нее с восхищением. Встал, притянул к груди ее голову, погладил черные как смоль волосы с нитками седины. «Нет, я не могу жаловаться на судьбу».
И сразу в памяти всплыла немного грубоватая, смуглая Маришка, с которой столкнула его жизнь на дорогах гражданской войны. Не знал он, что эта девушка недавно вернулась из Москвы, где работала киоскером в Кремле. Его эскадрон ворвался в село. В короткой схватке порубили беляков, и командир эскадрона, преследуя белогвардейца, поскакал по огородам. Перескочив через забор, Русачев увидел пригожую дивчину. Она, присев на одно колено, поила из кувшина тяжело раненного беляка. Девушка бросила на комэска виноватый взгляд и вскочила на ноги.
Закипела яростная злоба в груди лихого кавалериста. Он с силой сжал эфес шашки и со свистом занес ее над обоими. «Порублю!» Девушка, жарко блеснув глазами, ухватила за ногу в стремени. «Не тронь его, — жалостливо попросила она. — Ведь он все равно не выживет…» И отлегла злоба от сердца Русачева, но он грубо оттолкнул девушку ногой и выругался: «У-у, тварь!.. В женихи приглядела недобитую сволочь». Пришпорив коня, он обдал Маришу холодной талой водой и грязью и ускакал.
Может, на этом и расстались бы они навсегда, но прожгли сердце комэска черные цыганские глаза этой чудаковатой девушки с жалостливым сердцем. А тут еще кашевара в бою убили. И мелькнула у Русачева мысль забрать Марину в эскадрон.
Коротко счастье военных встреч. Подчас оно измеряется минутами. Но жадно и быстро впитывает молодое сердце все окружающее. Молодой грубоватый парень с лихим чубом и широкой смелой улыбкой да малиновый звон шпор покорили сердце Мариши. Она тайком покинула родной дом, и вот уже немало трудных и счастливых лет идут они рука об руку вместе.
…Они стояли молча. Василий Александрович первым нарушил молчание.
— Знаешь, Мариша (он называл ее так в минуты, когда она ему была особенно дорога), люблю я читать книги про удалых конников. Гремела их слава и будет еще греметь, коль воевать нам еще придется. Сколько героев, а книги лишь о десятках. Лучшие страницы еще не написаны, и вот уйдет их слава бесследно, навечно, вместе с их смертью.
Марина Саввишна улыбнулась.
— Постой, Василий Александрович, ты что-то рано на тот свет собрался… Ведь у нас с тобой еще столько дел.
Она повела его к дивану, усадила рядом, положила на его руку свою.
— У тебя что, опять какие-нибудь неприятности на службе?
Марина Саввишна знала: если муж, возвратившись со службы, сразу хватается за уставы или за книгу, значит опять поспорил с Канашовым, который, как говорил он, застрял у него «в печенках». А если ходит по комнате, заложив руки за спину, и шарит глазами по полу, стало быть, в дивизии произошло что-то неприятное. И у Марины Саввишны в этих случаях выработалась особая тактика. Первые десять-пятнадцать минут она словно ничего не замечала — пусть перекипит. А потом, ни слова не говоря, подходила, обнимала мужа и вела его к столу, приговаривая:
— Чувствую, ты что-то от меня скрываешь…
— Нет, нет… На службе пока все гладко. Просто прочел книгу, и грустно стало: прошла наша молодость. Эх, Саввишна, без колебаний сменил бы я свою высокую должность на комэска…
Заботливо накормив мужа и уговаривая его отдохнуть, Марина Саввишна начинала критиковать его.
— Не нравится мне что-то твое настроение. Дивизию хотел бы сменить на эскадрон? — Она нахмурила брови, две острые поперечные морщинки разрезали высокий лоб. — За тысячи людей отвечаешь, а ведешь себя, как мальчишка капризный: поиграл с одной игрушкой, надоело, мол, дайте другую — коняшку.
Русачев смутился.
— Что ты, Саввишна!.. Ведь это я просто так… с тобой…
— Брось лукавить! Раз не лежит душа к делу, это не просто так… А еще генералом мечтал быть… Учти, генеральское звание не за прежние заслуги дают. Покажи сейчас, на что ты способен. Сколько я тебя уговаривала, надо учиться, Вася. Ох, как надо! Сам видишь, что с каждым днем тебе все трудней.
Русачев похлопал ее шутливо по округлому плечу.
— Товарищ красноармеец первого эскадрона, не забывайтесь, с кем говорите… — И потом уже виновато: — Ладно, ладно, Саввишна, ты меня не агитируй. Меня не такие уговаривали. У меня свои соображения есть на этот счет… Давай-ка лучше пообедаем хоть один выходной вместе. Соскучился я по дружной семейной обстановке.
— С обедом погодим, Вася. Скоро Риточка придет. Хочешь, я тебе перекусить дам. Котлетку и любимых грибочков маринованных?
— По случаю выходного не мешало бы, Саввишна, и вишневой настойки…
— Можно и настойки.
Она быстро собрала на стол.
— Тогда выпей и ты со мной, мать, маленькую рюмочку.
— Лучше вечером, Васенька. Я сегодня после пяти должна возглавлять комиссию по обследованию квартир сверхсрочников.
— Делать вам нечего, бабоньки. Чепухой занимаетесь.
Лоб Марины Саввишны прорезали морщинки, в глазах вспыхнул недобрый огонек.
— Это как же понимать, товарищ полковник?
Русачев, только что отправивший в рот стопку сладковатой настойки, глянув на рассерженную жену, поперхнулся. Но уступать не захотел.
— Да ведь ты только подумай, Саввишна. Разве от ваших хлопот квартиры появятся? У меня вон какая сила в руках — и то ничего не могу сделать.
В гарнизоне, где размещалась дивизия Русачева, полгода тому назад построили два кирпичных трехэтажных дома. Один дом назначался под квартиры семей командного состава и сверхсрочников, второй — под клуб. Но между строителями и приемной комиссией из округа возникли разногласия, и началась тяжба. В отстроенных домах были мелкие недоделки, из-за них комиссия не принимала дома, а у строителей не было средств устранить эти погрешности. И, наконец, передали дело на рассмотрение высшей инстанции. Но там, видно, не торопились.
Марина Саввишна уселась напротив мужа.
— Мне кажется, ты мог бы многое сделать, но не хочешь.
— Хорошо тебе рассуждать… А у меня, помимо квартир, на руках дивизия. Ты же знаешь, штаб мой писал им.
— Писал… — презрительно проговорила Марина Саввишна. — А перед командующим ты хоть раз ставил этот вопрос?
Русачев удивленно пожал плечами.
— Марина Саввишна, голубка моя, да есть ли время у командующего заниматься этим? У него боевая подготовка и куча других дел… Как же я могу отвлекать его внимание по таким пустякам?
Марину Саввишну обуял гнев.
— Пустяки! Вот в том-то и беда, что ты по-барски относишься к своим подчиненным!
Русачев резко отодвинул тарелку.
— Что это творится на белом свете? Точно одурели все. Твердят, как попугаи: «Забота, забота, забота о людях», — будто мне и без вас это непонятно? Я каждый день о командирах забочусь. А, главная моя забота, чтобы они воевать умели…
И, немного сбавляя запальчивый тон, усмехнулся:
— Ну, ты вспомни, Саввишна, в каких мы с тобой условиях жили? Землянка, барак, а то и просто под открытым небом. Первый раз ты родила на пулеметной тачанке.
— Вот потому-то и умер наш ребенок, — отрезала жена. — Какой бы сейчас парень был…
— Да, но живем же мы с тобой два десятка лет, и семья у нас прочная… Как, бишь, в русской пословице: «С милым рай и в шалаше». Правильно это. Крепость семьи не в квартире, а в людях.
Марина Саввишна печально взглянула на мужа.
— Так ведь мы свое тяжелое переносили для того, чтобы всем, в том числе и нам, лучше жилось. Ты вспомни, как у нас Рита болела, когда мы с тобой жили в сырой комнатке… Тогда нельзя было большего ждать и требовать. Мы понимали и терпеливо жертвовали всем, даже здоровьем детей.
— Ну, полно, полно, Саввишна! Может, ты отчасти и права, — уклончиво ответил Русачев и, чтобы переменить неприятный разговор, сказал: — Хотелось мне с тобой, Марина Саввишна, о Рите потолковать. Ведь она у нас уже невеста.
И муж жестом пригласил жену пересесть на диван.
— Ты за ней ничего последнее время не замечаешь?
— Нет, а что?…
— Гуляет она… Вот что…
— Молодая, что ж ей не гулять? Не чулки же в ее годы вязать. Мы ведь тоже с тобой в это время гуляли.
— Да нет, Саввишна… Другое дело. — Он заговорщически понизил голос и оглянулся на двери. — Тут недавно собралась компания: молодые лейтенанты, месяц назад прибывшие, адъютант мой — и в лес подались. К чему эти прогулки могут привести, сама должна понимать.
— Не надо во всем видеть только плохое.
— Этот Дубров по пятам за ней ходит. И как это быстро люди портятся. Он мне казался таким серьезным, исполнительным командиром. Я души в нем не чаял. «Вот, — думаю, — то, что мне надо». Так нет же, свела его Рита с ума.
— Любовью, Вася, нельзя командовать: приказал, прикрикнул — и все.
— Ничего, я ее поставлю на место. Только ты, пожалуйста, не вмешивайся.
Марина Саввишна, стоя у окна, засмотрелась на кого-то, и чайная ложка выпала из руки.
Василий Александрович удивленно взглянул на жену.
— Ты на кого это там загляделась?
— Вон примадонна Канашова расфуфыренная пошла. Погляди.
— Что, завидки берут? Шляпа в перьях не дает тебе покоя?
— Не в шляпе дело, а в том, что она совесть потеряла, в мещанку превратилась… Из политкружка демонстративно ушла: ведите ли, ей скучно. Общественное поручение дали, не выполнила — ей некогда. А чем она, спросить, занята? Днем, когда ни придешь, спит, а в комнату к ней стыдно зайти, такой там раскардаш. Чуть завечерело — накрасится, расфуфырится — и айда в город.
— Может быть, где-нибудь в городе выступает. Ведь юна артистка.
— Какая она артистка, это все для отвода глаз. Прошлый год хоть самодеятельностью в клубе изредка занималась, а сейчас и этого нет. Ну, да что с тобой толковать! — Марина Саввишна быстро оделась. — Я пойду… Вы не ждите меня, обедайте с Ритой.
2
Сегодня Аржанцев отчитал Миронова за плохую заправку коек во взводе.
На строевой подготовке бойцы заметили, как Миронов с неохотой подал команду «становись». Чем-то огорчен. Когда команда была выполнена, лейтенант недовольно сдвинул брови и скомандовал отрывисто, резко:
— Отставить! Разойдись!
Теперь Миронов стоял, внимательно присматриваясь к бойцам. Он подал новую команду: взять оружие на плечо, а затем к ноге. Некоторые бойцы запаздывали при выполнении ружейных приемов. Он подавал новые и новые команды, все более убеждаясь, что взвод их выполнять по-настоящему не умеет. Бойцы видели, как командир недовольно морщился, если кто-то отставал при выполнении приема или чрезмерно спешил, исправляя ошибку.
Наконец Миронов, не выдержав, подошел к бойцу на правом фланге. Это был Андрей Полагута. Молча взял у него винтовку. Все с укоризной покосились на Полагуту, словно говоря ему: «Это ты нас подвел».
— Многие из вас, — сказал Миронов, обращаясь к взводу, — отработали ружейные приемы плохо и потому делают их неверно. — Взгляд его говорил: «Не думайте, что это относится только к Полагуте». Напротив. Полагута с первого дня чем-то понравился Миронову. То ли своим богатырским видом и удивительным спокойствием, таившимся в его тихих зеленоватых глазах, то ли еще чем-то, неуловимым с первого взгляда.
«Начал придираться, — подумали бойцы. — А к чему нам ружейные приемы, когда мы пулеметчики? До него все было так, а ему, видишь ли, не угодили. Теперь держись, начнет гонять».
— Может, некоторые из вас считают, что пулеметчикам не нужны ружейные приемы и я просто придираюсь к вам, — точно угадал их мысли Миронов. — Но Нарком обороны в приказе на этот год требует резко поднять строевую и физическую подготовку каждого бойца и подразделений в целом. К тому же винтовка — боевое оружие вторых номеров.
Миронов встал перед строем и начал показывать ружейные приемы.
Бойцы придирчиво наблюдали за движениями командира, стараясь ничего не упустить. Может быть, лейтенант торопился, а может быть, слишком быстро выполнял приемы, чувствуя на себе критические взгляды нескольких десятков глаз, но винтовка, с силой ударившись в плечо, вдруг отскочила и чуть было не выпала у него из руки. Губы бойцов тронула улыбка. Но чем больше следили бойцы за четкими, уверенными движениями лейтенанта, тем больше проникались к нему уважением. В руках командира винтовка казалась невесомой. С едва уловимой быстротой взлетала она в воздух, ловко переворачивалась и от сильных и резких ударов звенела, стонала, плотно прилегая к бедру, плечу, будто приклеивалась.
В самый разгар занятий прибежал связной от Аржанцева:
— Товарищ лейтенант, вас срочно вызывает командир роты.
«Опять, наверное, складку на подушке нашел», — решил Миронов, направляясь в ротную канцелярию.
Здесь его ждала еще одна неприятность: Аржанцев обнаружил ржавчину на замке учебного пулемета, закрепленного за рядовым Мухтаром. И как нарочно, в роту пришел полковник Русачев. Он дал Аржанцеву выговор за плохое сбережение оружия, а Миронов получил трое суток домашнего ареста.
3
На другой день после завтрака, перед построением на занятия, Мухтар рассказывал взводу, как ему попало от нового командира взвода.
— И-и-и-и-и как попал, здорово попал, красота, как попал!
— Да ты не дури, говори толком, как было дело, — приставали бойцы, не спуская насмешливых глаз с Мухтара.
— У меня кожа гусиный бил, как холодный вода обдавал, а потом горячий баня парил… Ругает меня лейтенант, а я слушаю, и так хорошо, будто девушка ручкой ласкает. Честный слова, хотел обидеться на лейтенанта, а, веришь, не мог. Хотел сердиться, тоже не мог. Все правильно говорит… Ах, как говорит, еще бы день слушал. — И на лице Мухтара разлилась добродушная улыбка.
— Пускай ругает, — рассудил Еж. — Раз поделом, обижаться нечего… У меня тоже такой характер. — Он подошел к Мухтару, дружески похлопал по плечу. — Лейтенант дельный. С умным браниться — ума набираться; с дураком мириться — свой разделять.
— Взвод, становись!.. — раздалась команда, и как из-под земли появился перед взводом лейтенант Миронов.
Бойцы быстро заняли свои места в строю. Каждому хотелось показать командиру свое усердие.
Взвод выстроился, забрал учебные и боевые пулеметы и отправился на стрельбище.
4
В выходной Жигуленко и Миронов спали дольше обычного: накануне они поздно возвратились из клуба. Жгучие лучи солнца проникли в прорванную дыру плащ-палатки, что занавешивала окно.
Саша проснулся первым. Быстро сбросив одеяло, он поглядел на часы и, подбежав к окну, откинул плащ-палатку. День был ясный, по-летнему теплый. С улицы доносилось торопливое радостное щебетание птиц. Саша подошел к спящему Евгению и стянул одеяло.
— Подъем! — протяжно закричал он. — Уже восемь часов.
В дверь постучали. Миронов испуганно взглянул на Жигуленко.
Дверь открылась, и, сутулясь, появился Дубров.
— Ба, да тут еще сонное царство… Тогда я пойду предупрежу девушек… Приходите на опушку леса, у дороги.
Вскоре Жигуленко и Миронов пришли к лесной опушке. Первой на них обрушилась Наташа:
— Стыдно спать так долго! Я не военная и то позже семи не встаю.
— Сегодня выходной день, можно себе позволить такое удовольствие, — снизошла Рита. — Ведь они, бедненькие, каждый день поднимаются ни свет ни заря.
— Солдат не следует жалеть, они от этого портятся, — сделав нарочито строгое лицо, повторила Наташа слова отца.
— Наташа у нас беспощадный критик… Она никому не прощает ошибок, — поддела Рита.
— Это, видно, потому, что сама их никогда не делает, — усмехнулся Евгений. — У нее командирский характер, требовательный.
Взгляд Миронова вдруг привлекла молчаливая девушка. Она застенчиво посматривала на бойких подруг и на молодых лейтенантов. И если ее взгляд встречался с другим взглядом, щеки разгорались ярче. Ее большие мечтательные глаза с мохнатыми ресницами глядели застенчиво. Это была дочь полкового врача Заморенкова — Тоня.
— Евгений, а почему ваш товарищ такой грустный? — неожиданно спросила Наташа.
— А у него врожденная задумчивость: поэт он, потому везде и всегда мыслит образами, отвлекаясь от всего земного.
Девушки, кроме Тони, рассмеялись, а Миронов смущенно улыбнулся.
Саше всегда не нравилась манера Евгения чувствовать себя среди товарищей «хозяином» и желание унизить всех своим превосходством. «Ничего, я его когда-нибудь осажу!» — раздраженно подумал он.
Компания подошла к опушке леса. Снег уже давно сошел, но было еще мокро, в ложбинах голубела вода, и всюду, куда ни взглянешь, пробивались навстречу солнцу зеленые побеги травы.
— Как сказал Багрицкий — «пошла в наступление суровая зелень», — процитировал Жигуленко.
Вошли в лес и разбились на пары: Рита — Дубров, Евгений — Наташа, Миронов остался с Тоней. Он украдкой поглядывал на девушку, любуясь ее детски нежным лицом. Вся она была тоненькая и какая-то хрупкая. Припоминались строки поэта Александра Прокофьева:
Выходила тоненькая, тоненькая, Тоней называлась потому…— Хорошо здесь, — сказал Миронов, наклонился, сорвал бледно-розовый подснежник и протянул девушке. Она улыбнулась краем губ, потупила взгляд.
Поговорить бы с Мироновым, спросить, какие он пишет стихи, но Тоня не могла преодолеть робость. Она только молча слушала то, что говорил Саша. Вскоре из лесу показались Дубров с Ритой и Наташа с Евгением. Миронов перехватил печальный взгляд Тони. Видно, ей не хотелось уходить из леса.
На обратном пути Наташа была чем-то расстроена. Она всю дорогу молчала. А Жигуленко, напротив, шутил, сыпал остротами.
Как только они свернули к военному городку, услышали сигнал тревоги. Наскоро попрощавшись с девушками, Миронов и Жигуленко побежали в свои подразделения.
— Ну, как тебе понравилась прогулка? — на бегу спросил Жигуленко.
— Ничего… А что это Наташа такая грустная?
— Пустяки… Понимаешь, я хотел обнять ее, а она оттолкнула меня и убежала… Ничего, я ее обломаю. Не было еще на свете девушки, которая устояла бы передо мной… И что это Канашов еще придумал: не дает даже в воскресенье отдохнуть по-человечески?… Тревоги устраивает…
5
Хотя и рассказал Жигуленко о ссоре с Наташей, как о каком-то пустяке, но сам долгое время был весьма озадачен своим промахом. «Преждевременно пошел на штурм, — думал он. — Она не похожа на многих других: умна, горда… Что ж, придется извиниться».
…Вот и дом, где живут Канашовы, бревенчатый, старый, с одиноким деревом у крыльца. Жигуленко глянул на два крайних светящихся окна второго этажа, вспоминая карие с удлиненным разрезом глаза и тяжелые светлые косы. «Нельзя же из-за какого-то пустяка портить отношения. Отец ее, наверное, еще не возвратился. А вдруг дома? Что тогда скажу? Нет, нет. Идти нельзя. Ты что, трусишь? Испугался? Как это не похоже на тебя!»
На цыпочках Евгений стал осторожно подниматься на второй этаж. Темно. Зажег спичку, осмотрелся. Направо и налево двери с эмалированными белыми дощечками: «Кв. 3» и «Кв. 4».
Евгений долго стоял на затемненной площадке, раздумывая, и решил постучать в квартиру, в окнах которой горел свет. Постучался тихонько, чувствуя, как с каждым ударом сердце колотится все сильней и сильней. За дверью молчали. Он постучал настойчивее. И не успел отвести руку, как дверь распахнулась: на пороге, сдвинув к переносице широкие брови, стоял Канашов. Евгений от неожиданности не мог произнести ни слова.
— Товарищ подполковник, у вас нет лейтенанта Дуброва? — спросил он первое, что пришло в голову.
— Нет, — недоуменно пожал плечами Канашов. — А что, разве он собирался ко мне?
— Да, собственно, не к вам, — заливаясь румянцем, соврал Евгений. — Мне сказали, он с Ритой пошел к Наташе…
— Ах, к Наташе? Она, кажется, ушла в кино. Да чего это мы стоим у порога? — как бы спохватился он. — Пройдемте в комнату.
— Спасибо, я тороплюсь, — замялся Жигуленко.
— Ну как хотите, не смею задерживать.
— Разрешите идти? — лихо козырнул Жигуленко.
— Идите.
Казалось, Евгений только и ждал этих спасительных слов. Он повернулся и быстро застучал по лестнице каблуками. «Вот влип! Наверно, он обо всем догадался, Ну, теперь держись: покажет, как ухаживать за его дочерью. Говорят, он очень любит ее».
В конце лестницы Евгений внезапно столкнулся с какой-то старушкой и вышиб у нее из рук кошелку.
— Летают как сумасшедшие, дьяволы! Как с неба свалился, пресвятая богородица, — бранилась она, собирая рассыпавшиеся продукты.
Евгений попытался помочь ей, но она так яростно замахала на него руками, что он отступил.
— Да что мне, товарищ военный, с вашего извинения, — заворчала старуха. — Напугалась я до смерти, думала — потолок на меня валится…
Жигуленко выскочил во двор и чуть не бегом направился домой.
Глава шестая
1
Сегодня с раннего утра в штабе полка начался переполох. Ни свет ни заря пришел майор Чепрак, хотя из штаба ушел только в два часа ночи. Заспанный, злой, он отругал дежурного за то, что тот не проверил наряд на конюшне. На рассвете дневальный заснул, а жеребец командира полка Ураган отвязался и до крови искусал мерина Тихого, и, в довершение беды, неожиданно появился на конюшне Русачев. Скорый на расправу, он тут же дал дневальному десять суток строгого ареста и отправил с адъютантом на гауптвахту, а Чепраку наговорил по телефону таких «приятных» вещей, что у того мигом пропал сон, и в пять утра Чепрак направился в штаб.
Недовольный всем на свете, он поднял «по тревоге» машинистку и сел диктовать ей план боевой подготовки на лагерный период обучения. Позвонили из штаба дивизии, надо было снарядить команду на станцию для выгрузки трех вагонов дров.
Чепрак распорядился послать взвод из батальона Белоненко. Следом позвонил Канашов и приказал подготовить расчет инженерного имущества и рабочей силы для оборудования района показных занятий, так как Русачев не утвердил представленный расчет и назвал его «филькиной грамотой».
«Опять полковой инженер что-то напутал, — подумал Чепрак. — Беда с ним! А ведь мне не разорваться, работая за всех».
Чепрак заперся в кабинете и опять начал работу над планом. Но не прошло и пяти минут, как его вызвал к телефону начальник штаба дивизии Зарницкий.
— Почему до сих пор никто не прислан для разгрузки дров? Каждый час простоя транспорта обходится полку в тысячу рублей. Вы что хотите, чтобы их высчитали из вашей зарплаты?
За план боевой подготовки Чепраку так и не удалось сесть. В кабинет один за другим с приказаниями, нарядами шли штабные работники, хозяйственники.
А через час он окончательно потонул в ворохе бумаг, которые навалом и в папках лежали на столе и все требовали безотлагательного рассмотрения, решения, распоряжений.
Когда Канашов прибыл в штаб, Чепрак сидел, взявшись за голову обеими руками, и не говорил, а рычал на всех. Увидев командира полка, майор вскочил, поздоровался и снова зашелестел бумагами.
— Что нового, товарищ майор? — спросил Канашов.
— Да вот команду надо сформировать и отправить срочно в УР[2]… Опять там какая-то горячка… Только что получил приказание из штаба дивизии. А где я людей возьму? Все в разгоне. Хоть сам бери лопату и поезжай. С пяти часов на квартиру звонки.
Чепрак принял такой жалостный вид, что Канашов не удержался от улыбки.
— Ну, пройдем ко мне в кабинет, — а когда они уселись, спросил: — Шаронова не видел?
— Он уехал в батальон к Белоненко.
— Приедет, скажи, чтобы зашел.
— Товарищ подполковник, нам из штаба дивизии аттестации вернули. Заодно требуют и штат пересмотреть.
Чепрак принес толстую книгу — штаты полка — и начал доклад.
— Вот, к примеру, капитан Солодов, начальник связи — мозг и нервы штаба, его боевой пульт управления. А он ленив как боров. Вечно ходит заспанный и постоянно чем-то недоволен. Что ни поручи — бурчит. За имуществом связи следит плохо. Решил я как-то проверить работу радиостанций, так они у него оказались наполовину без питания. Аккумуляторы сели. И он ничего не делает, чтобы привести их в порядок. Или вот старший лейтенант Андреев. Разболтался до невозможности. На службу ему наплевать. Увлечен любовными похождениями. Строит из себя Дон-Жуана. Как вечер, так за гитару и под окно к врачу Алевтине Васильевне. Романсы ей разные поет. Иностранный язык не учит, забросил. «Мне с врагом, — говорит, — не беседовать, а драться придется. Для беседы переводчики есть».
Канашов пристально посмотрел в глаза Чепраку.
— А не разогнать ли нам, товарищ майор, весь этот громоздкий штаб? Оставить тебе машинистку да писаря?
— Это зачем? — удивился начальник штаба.
— Как зачем? На них ты, Гаврила Андреевич, не жалуешься… А вот остальные мешают тебе работать…
Канашов достал папиросы, протянул Чепраку, и они закурили.
— Так вот, Гаврила Андреевич, самая страшная болезнь штаба сидит в самом тебе. Ты переоценил свои силы… А возможности твои обычные — человеческие. И если ты немного опытнее других и тебе доверили штабом командовать, то это еще не значит, что все подчиненные никудышные. Они меньше тебя служат в армии. Но разве поэтому нельзя им доверять?
Чепрак обидчиво поджал губы.
— Если, товарищ подполковник, не верите, я могу принести их карточки учета дисциплинарных взысканий.
— Не надо карточек. Принеси личные дела.
Скоро Чепрак возвратился со связкой личных дел.
— Давай разберемся, что у тебя за горе-помощники подобрались. Ну вот капитан Солодов — бери его личное дело, а я доложу все, что помню.
— Солодов — кадровый связист. В армии служит столько, сколько и ты… Участник боев у озера Хасан. Имеет боевой опыт, тяжело ранен, награжден орденом Красной Звезды. Но самое главное ты не знаешь о нем… Давно мечтает офицер поступить в Академию связи. И такого командира ты считаешь безнадежным? Возьмем старшего лейтенанта Андреева. Да ведь это не командир, а самородок… Коренной сибиряк, родился и вырос в тайге, в семье охотника. Ты пойми: он разведчик с природным и редким талантом. В семнадцать лет добровольцем пошел воевать с белофиннами. На его личном боевом счету десять «языков». Ранен в левую руку. К тому же отличный снайпер. Девятнадцать «кукушек» снял. Имеет три медали «За отвагу» и орден Красного Знамени. На фронте заметили, что он талантливый паренек, послали на курсы младших лейтенантов, а когда окончилась война, ему досрочно присвоили звание лейтенанта. В двадцать лет он уже старший лейтенант. Да ты вспомни: мы с тобой в такие годы даже младшими командирами не были. На штабных тренировках он у тебя, кроме разведдонесений, никаких документов не отрабатывает. Конечно, все это ему приелось. С его энергией ему надо большие дела поручать. Ну как, продолжим дальше?
Чепрак молчал, виновато повесив голову. Канашов встал, прошелся по комнате.
— Так вот, товарищ майор, даю вам сутки на сборы… Завтра получите путевку у Заморенкова — и поезжайте отдыхать.
Чепрак раскрыл рот от удивления.
— Товарищ подполковник, да у меня план боевой подготовки не закончен… То есть он сделан, но надо уточнить, проверить.
— Передайте дела Савельеву и поезжайте. Не думайте, что без вас полк перестанет жить…
— Да нет, товарищ подполковник, вы меня неправильно поняли. Мне бы не хотелось оставлять дела в беспорядке.
— Ваши помощники всегда должны быть в курсе всех дел полка, — сказал Канашов строго. И затем, поглядев на расстроенного Чепрака, добавил мягко, улыбаясь при этом:
— Вернетесь, может, все-таки свадьбу сыграем? Не век же вам ходить бобылем. Пора семьей обзаводиться.
…Чепрака постигла трагическая неудача в семейной жизни. Жена, которую он очень любил, умерла во время родов от заражения крови. А вскоре умерла и родившаяся дочь. Он женился вторично, но и вторая жена умерла, и тоже во время родов. С того времени он сделался замкнутым, избегал компаний, сторонился женщин. И все свободное время отдавал рыбной ловле, как правило уединяясь от всех.
Канашов знал все это. Чепрак не понял: то ли шутит командир пока, то ли говорит серьезно, но грустные глаза его вдруг потеплели.
— А куда торопиться-то, товарищ подполковник, успеется еще.
— Гляди, тебе видней… Только жить всегда торопиться надо. И не заметишь, как она пройдет.
2
Вскоре пришел Шаронов.
— А вот и Федор Федорович, хорошо. Заходи. — И, взяв его под руку, прошел в кабинет. — Был я сегодня на политзанятиях в роте старшего лейтенанта Вертя. Более несуразные политзанятия трудно придумать.
Шаронов хотел возразить, но Канашов перебил:
— По форме они правильные, тема как в программе: «Высокая воинская дисциплина — основа боеспособности армии». Но ты бы послушал эту мертвечину… Как только бойцы высидели эти часы! Взбирается на трибуну политрук роты и сыплет сплошными цитатами. Цитаты из первоисточников… Но нельзя же два часа говорить о дисциплине вообще…
— Позволь, позволь, Михаил Алексеевич! Ведь теория всегда до некоторой степени абстрактна.
Канашов повысил голос:
— Да, но как можно так отвлеченно проводить политзанятия, ежели в роте много нарушений дисциплины? Что дает бойцу повторение таких истин вроде: «Дисциплина — это основа армии», «Без дисциплины нет армии»… Бойцы скучают, зевают.
— Я, конечно, не был на занятиях… Но что ж он, так ни одного примера и не привел?
— Привел пример и даже не один. Да только из газеты «Красная звезда», а не из жизни самой роты.
«Больно торопится с выводами, — подумал Шаронов о Канашове. — Нельзя же по одному неудачному политзанятию судить о качестве всей политподготовки».
— Вот что, товарищ Шаронов. Политрука я взгрею за эту беседу. Нам попов не надо. Нужны идейные люди, болеющие за дело, а не патефонные пластинки.
Шаронов ушел от Канашова разобиженный.
3
В субботу, перед тем как отпустить бойцов в городской отпуск, Миронов сам проверил каждого. Командиры отделений Правдюк и Тузловцев сбились с ног. Они тоже, прежде чем направлять к командиру взвода бойцов, по нескольку раз осматривали каждого. Правдюк был особенно придирчив. Он поворачивал отпускников несколько раз кругом, требовал вывернуть карманы. У Ежа, который подвергался проверке первым, он обнаружил хлеб, рассыпанную пачку махорки, несколько писем и отчитал его за неряшливость. Вдобавок оказалось, что у Ежа плохо держатся две верхние пуговички на гимнастерке и подворотничок несвежий.
Продолжая осмотр бойцов, Правдюк три раза отсылал Мухтара чистить сапоги. Но красноватая кожа на голенищах никак не чернилась, и Мухтар чуть не плакал, не зная, что еще предпринять. Выручил Еж.
— А ты сбегай обменяйся с Ягоденко. Его из наряда к лейтенанту не вызовут.
Мухтар побежал. Но оказалось, Ягоденко носил сапоги сорок второго размера, а у Мухтара была маленькая, тонкая нога — тридцать девятый номер.
Ягоденко спал. И Мухтар не стал будить его, он просто взял сапоги, навернул двое портянок и, одобренный Правдюком, не заметившим «подлога», ушел к командиру взвода.
В это время Мурадьян, отправленный Тузловцевым, мучительно раздумывал, где бы ему найти чистую гимнастерку — его была в масляных пятнах. Находчивый Еж выручил и Мурадьяна.
— Беги возьми у Ягоденко… Все равно ему спать… Глаза Мурадьяна сияли, когда он вернулся на повторный осмотр к Тузловцеву в гимнастерке Ягоденко, — правда, большой не по росту, но свежевыстиранной.
— Поглядите на Мурадьяна, прямо жених, — пошутил Еж. — Вот только ворот ему маловат… Жмет. Шея болтается, как у гусака в кадушке…
— Ты сам гусак в кадушке! — выпалил Мурадьян. Он был единственный, кто обижался на шутки Ежа.
Скоро Миронов, ничего не подозревая, начал осмотр бойцов. Первый же, Мухтар, вызвал невольную улыбку. Сапоги были явно не его размера. Но когда к нему явилось почти все отделение Тузловцева в чужом обмундировании и обуви, он вызвал сержанта. Тузловцев попытался было обмануть лейтенанта. И Миронов, не колеблясь, дал ему выговор за очковтирательство.
Осмотр окончился, и тут пришедший в роту Аржанцев объявил, что командир полка запретил увольнение в городской отпуск, что это запрещение связано с самовольной отлучкой бойца из батальона Белоненко. В армии всегда так: за одного отвечают все.
Миронов расстроился: ему хотелось отметить отпуском старательного Ежа и других бойцов, а тут запрет, и он решил пойти поговорить по душам с бойцами. С этой мыслью он открыл дверь, ожидая, что его встретят унылые, расстроенные бойцы. Его взвод собрался в курительной комнате вокруг Ежа, и до него донесся звонкий и дружный смех: «Интересно, о чем это они?» Миронов остановился. И тут же подумал: «Нехорошо подслушивать…» Но услышал немного скрипучий голос Ежа, и любопытство вновь овладело им.
— А вот мне, к примеру, очень на женщин везло. Скажу без хвастовства, липли ко мне бабы, словно жадные мухи к меду. Красавицы какие были, — приподнял реденькие брови Еж.
— Неужто красавицы? — усомнился Андрей Полагута: он знал, стоит только подзадорить Ежа, как тот наговорит такого, что со смеху умрешь.
— А вот из-за Матрены Тимофеевны, женушки моей, так прямо бой держал.
— В сам деле бой?
— А то как же! Понравилась мне в соседней МТС трактористка одна. Глаза — что фары автомобильные, светом бьют. Сама дородная. Дело у меня с ней завязалось, как будто с ничего вроде. А все же сильно я сомневался: пойдет ли за меня? Опять-таки она видная баба, а я что?
Ефим оглядел бойцов и, прервав рассказ, полез за кисетом.
— Бери, бери, — протянул ему папиросу ближний боец. Еж неторопливо закурил, затянулся и, хитровато улыбаясь, продолжал рассказ.
— Ну, а потом любовь была как в романе каком… Такое завернулось, вспомню, самому не верится: а не сон ли то был? За моей Матреной сильно увивался бригадир тракторной бригады Федор. Парень вроде тебя, — показал он на Полагуту. — Видный. И сошлась бы она с ним непременно, да только грех он имел один: водку хлестал, как воду. А напьется — всю деревню разгонит. Бычьей силы был. Боялись его все. С пьяного, что с дурного, — один спрос. Каким таким путем дознался он тогда, что у меня любовь с Матреной, не знаю, не иначе, какой-то завистник шепнул. Встретился он однажды пьяный и накинулся на меня, будто бугай, глазищи кровью налились: «Ты чего же это — баб чужих завлекать?» Замахнулся кулачищем, а кулак что кувалда. Односельчане так и ахнули: конец, мол, Ежу. Я увернулся, а он опять замахивается: «Как стукну тебе, — говорит, — уйдешь в землю, что гвоздь в дерево, по самую макушку!» Вижу, ребята, дело плохое, и впрямь может прикончить. «Эх, — думаю, — была не была!» Выхватываю из забора кол да как перетянул его. Он так и рухнул на землю, аж землица-матушка под ним ахнула. «Убил до смерти, — думаю, — тюрьма… Пропадай и жизнь и любовь». Народ сбежался, воды принесли, льют на него из ведра, а он не шелохнется. Женщина какая-то заголосила, должно мать. Долго ли, коротко Федора водой отливали — не помню. Слышу только шорох по народу пошел, как ветер в листья зашуршал: «Оживает, оживает…» Подбежал я к Федору и сам не знаю зачем. «Жив!» — кричу благим матом, не мог радости своей сдержать. А он подымает мокрую голову с мутными глазами и как заревет на меня по-бугаиному: «Расшибу в лепешку! Где он, дайте мне его сюда!» Смотрит на меня, бельма вытаращил и вроде ничего не видит. А в народе опять шепот идет: «Так, — говорят, — ему и надо, буяну». Тут я, словно заяц, через поле, в лес — и был таков.
— Ну а дальше как?
— Что дальше? Ну, принудиловку дали мне за хулиганство… А Матрену свою я все-таки отвоевал!..
Миронов облегченно вздохнул: не переживают его бойцы отмену отпуска в город.
4
Тем же вечером Канашов был срочно вызван к начальнику политотдела дивизии.
Поздоровавшись с Канашовым за руку, заместитель командира дивизии по политчасти полковой комиссар Коврыгин вдруг стал подчеркнуто официальным. Это был седоватый человек с бледным лицом.
— До меня дошли слухи, товарищ подполковник, что вы слишком увлекаетесь иностранными военными журналами… И, в частности, немецкими. Это верно? — Его голубоватые глаза отливали стальным цветом.
— Иностранные журналы читаю.
— Ну и о чем там пишут? — в интонации прозвучала легкая насмешка.
Канашову захотелось ответить резко: «Почитайте, если вас интересует». Он не терпел эту манеру допроса.
— О многом, — ответил он уклончиво.
— Ну, а можно поконкретней?…
— О взглядах на современную войну, о тактике, стратегии, военной технике…
В холодноватых глазах комиссара вспыхнули недобрые огоньки. Но он погасил их. Широким жестом он пододвинул Канашову пачку «Казбека».
— Прошу вас.
Канашов отодвинул коробку и, вынув, закурил свои.
— Насколько мне известно, к нам в дивизию не поступают такие материалы… Где же вы их достаете?
— Мне присылает товарищ, бывший преподаватель академии, ныне полковник в отставке. К слову сказать, они не секретные.
— Любопытно… Но что же все-таки привлекает вас в этих журналах? Говорят, вы хорошо владеете немецким языком?
— Товарищ полковой комиссар, я читаю их, выполняя приказ Наркома обороны. Он требует знать языки наших вероятных противников. Немецким языком владею.
Полковой комиссар взглянул недоверчиво.
— Приказ наркома… — произнес он, как бы вспоминая. — Да, но я не припомню, чтобы Нарком обороны приказывал усиленно пропагандировать среди наших командиров взгляды иностранных военных специалистов. Вы уж чрезмерно старательно, подполковник, выполняете этот приказ. Только прибыли к вам в часть молодые-лейтенанты, вы тут же заставили их переводить статьи из немецкого военного журнала.
Канашов вскочил со стула. Глаза его заблестели.
— Вы забываете, с кем говорите!..
— Сядьте немедленно, подполковник. Слушайте старших. Вам дают полезные советы, а вы ведете себя, как нервная барышня. На языке политики ваши действия можно расценивать как преклонение перед иностранщиной. Вы потеряли ориентацию. Вы, коммунист, всегда должны помнить об этом.
— Да, коммунист, — упрямо кивнул головой Канашов, продолжая стоять.
— У вас потеряно партийное чутье, вы не осмысливаете критически окружающие явления. И это произошло потому, что все напечатанное в буржуазных журнальчиках вы глотаете без раздумья… Мы били зарубежных врагов с их военными теорийками и доктринами. И в дальнейшем будем бить. Пусть только сунутся. Это вам ясно?
— Давно ясно.
— Видно, не совсем ясно, если у подполковника проскальзывают нотки сомнения в нашей мощи.
— Это ложь! — сжал кулаки Канашов, сурово взглянул на комиссара.
— Нет, правда. Вы уже договорились до этого. И если потребуются свидетели и доказательства — представим.
У Канашова мелькнула мысль: «Неужели это Шаронов?» Канашов как-то в разговоре сказал ему, что надо поменьше шуметь о, непобедимости нашей армии и побольше работать, чтобы армия была действительно непобедимой. Тогда Шаронов робко возразил: «Нет, ты не прав, пропагандой о своей непобедимости мы удерживаем врагов от нападения на нас». — «Пугаем их, выходит?» — насмешливо спросил Канашов. «Не пугаем, а предотвращаем прямые акты агрессии». — «Вот в этом-то и беда, — не согласился Канашов, — что некоторые оценивают врага примитивно: раз враг, то дурачок, простачок. Гнилая это теория — шапкозакидательство. Она нам стоила большой крови в Финляндии…»
— Советую зам, товарищ подполковник, хорошенько подумать над этим. — И Коврыгин вдруг неожиданно спросил:
— А что произошло у вас с женой?
Канашов поднял удивленный взгляд.
— Да вот нелады из-за дочери. Требует отправить ее и платить алименты. А отправлять мне некуда… Чего же это я родную дочь по белу свету скитаться пущу?
— Не знаю, как там у вас обстоят дела, но не забывайте, что мы с вас спросим в партийном порядке. Нельзя так себя вести. До меня дошли слухи, что вы рукоприкладством занимаетесь… Подтвердятся факты — вам несдобровать. И потом, дочь надо воспитывать, Вы за нее в ответе. Ведь это безобразный случай — ссора с собственной матерью из-за каких-то денег…
— Не мать она ей, а мачеха. И потом все это враки, — отрезал Канашов.
— Разберемся, товарищ подполковник… Но уже сам случай больно постыдный… Жена приходит ко мне и просит выделить ей комнатку. Бедной женщине невозможно жить с вами в одной квартире. Относиться так дико коммунисту к такой образованной и культурной женщине!..
— Не всем образование и культура на пользу. Послушали бы ее культурную речь на кухне. Любого извозчика словом перешибет. Соседям в глаза стыдно глядеть…
— Не знаю, не знаю. Но вот вы не пришли к нам в политотдел, а она пришла вся в слезах, лица на ней нет, платье изорвано…
— Артистка — это уже всем известно. Артистка не столько по профессии, сколько в жизни… А мне, кроме как на самого себя, не на кого жаловаться. Действовать надо…
— Действуйте, — прищурился Коврыгин, — да только глядите не наломайте дров.
Глава седьмая
1
Казалось, с нового, тысяча девятьсот сорок первого года счастье отвернулось от Канашова. Началось с бесконечных ссор жены и дочери, а вскоре перекинулось и на его служебные дела. То на посту, охраняя стог, закурил часовой и сжег несколько тонн сена, то боец попал в прорубь и пошел ко дну, то в складе боеприпасов оторвало пальцы ружейному технику, неправильно обращавшемуся с запалом гранаты.
Жена жаловалась всем, что из-за семьи и домашних забот гибнет ее талант, и Канашову все ясней становилось, что его жена — мещанка, неумный, чужой ему человек.
Резко ухудшились отношения и с начальством.
Русачев любил поучать подчиненных, и командиры полков, зная его слабость, по любому поводу бежали к нему за «советом». И у комдива сложилось твердое мнение: все, что делается разумного и полезного в дивизии, это благодаря, его умелому руководству. А Канашов был прямым человеком. Он не умел льстить самолюбию начальника и бывал у Русачева лишь в тех случаях, когда дело, которое надо было решить, выходило за границы власти, предоставленной ему положением и уставами. И командир дивизии стал проявлять к нему явную неприязнь, считая Канашова гордецом и зазнайкой.
Вскоре они столкнулись и по военным вопросам. Русачев недоверчиво относился к военной теории и считал, что для командира основой является практика и прежде всего личный боевой опыт.
— Тот еще не командир, кто пороха не нюхал, — часто говаривал он. — Пусть теории разводят профессора там, в академиях, а командиру, чтобы умело командовать, надо все испытать на своей шкуре.
Прослужив всю гражданскую войну в коннице и приняв стрелковую дивизию, он первое время больше занимался лошадьми, чем людьми. На это ему указали на одном из партийных активов. И он «перестроился», стал больше уделять, внимания людям, но продолжал ездить не на легковой машине, а верхом на вороном редкой красоты жеребце.
В дивизии ходили слухи, будто Канашов, подсмеиваясь над «лошадиной любовью» комдива, сказал, что он, Русачев, если можно было, то и в кабинете охотнее сидел бы на седле, чем в кресле.
Возвращаясь домой, Канашов мучительно думал обо всех своих делах. Еще у подъезда дома он услыхал крики дочери и жены. Как только он переступил порог, обе они, заплаканные, бросились к нему и наперебой стали жаловаться друг на друга. Они сказали ему, что не могут больше и часа жить под одной крышей. Валерия Кузьминична заявила решительно, что если муж не накажет эту гадкую девчонку, оскорбившую ее, она покончит с собой. И снова весь субботний вечер, воскресный день и всю ночь до рассвета шли бесконечные споры: кто виноват?
2
Помощник начальника штаба полка майор Савельев, который заменял начальника штаба, уехавшего в отпуск, закрутился в вихре дел. Но вот он взглянул на расписание командирской учебы — и сердце замерло. Сегодня штабная тренировка! В графе «Кто проводит» стояла фамилия Чепрака, — он отсутствовал, значит надлежало проводить занятия ему, Савельеву. А он, конечно, не готов выступать в роли руководителя, и времени до начала занятий чуть побольше часа. «Ладно, перенесем на другой день, — махнул рукой Савельев, — Канашов пришел не в духе, говорят, опять весь выходной жена закатывала сцены, и сейчас он уехал в батальон Горобца. Ему сейчас не до штабных тренировок».
Но в одиннадцать часов раздался телефонный звонок: Канашов поинтересовался, все ли командиры и штабные работники знают о предстоящих занятиях. И тут Савельеву ничего не оставалось, как признаться в своей забывчивости. За свою «профессорскую рассеянность» он получил замечание от командира полка, а занятия решил провести сам Канашов.
В двенадцать часов дня без одной минуты подполковник Канашов вошел в кабинет начальника штаба полка, где обычно проводились штабные тренировки.
Выяснилось, что у большинства командиров отсутствовали уставы, наставления и справочные материалы, даже цветные карандаши были не у всех.
Канашов недовольно оглядел всех и отметил, что подготовка к занятиям проведена плохо. И дал час на подготовку.
К началу тренировки притащили и упирающегося полкового ветеринарного врача Ковылкина. Свое нежелание присутствовать на тренировке он пытался объяснить большой занятостью — он готовил конский состав к весенней инспекторской проверке — и, главное, тем, что ему здесь нечего делать.
Когда собрались все, Канашов объявил новую тему: «Работа штаба стрелкового полка по управлению оборонительным боем и выходом из окружения».
Отработка документов и справочных данных по теме обороны прошла сравнительно сносно. Но как только Канашов сообщил, что полк попал в окружение, и роздал каждому новое задание, тут и пошла «писать губерния». Савельев не смог составить приказания о переходе к круговой обороне, начальник связи Солодов не сумел организовать связи с подразделениями, а начальник штаба батальона капитан Стецко не построил на схеме систему огня.
И как раз в этот момент вошел полковник Русачев. Выслушав доклад Канашова и поздоровавшись со всеми, он распорядился продолжать занятия, и сам пошел от одного командира к другому и стал разглядывать их работы.
Русачев поднял и показал всем карту ветврача Ковылкина. Она была грязная, прочерчена грубыми жирными линиями, пестрела многочисленными подчистками.
— Это не карта штабного работника, а какая-то детская мазня. А ведь карта — боевой документ, помощник и советник в бою! Позор для начальника службы вести так небрежно карту. Такая же неразбериха и грязь у вас и в полковой конюшне. Дневальные спят, — повернулся Русачев к Канашову. — Безобразие! Почему до сих пор не отправили мерина Тихого на дивизионный ветеринарный пункт?
Канашов молчал.
— Товарищ полковник, — сказал врач, — я сегодня хотел сделать это с утра, да вот на занятия вызвали.
— У нерадивых всегда найдутся отговорки… Если и на инспекторском смотре конского состава провалитесь, не ждите пощады, — комдив погрозил пальцем Ковылкину. — А вам, товарищ Стецко, — строго обратился он к начальнику 5 штаба первого батальона, — стыдно так штабному работнику небрежно вести карту. Мало вас Чепрак гоняет.
Русачев сел и сказал:
— Продолжайте занятие, подполковник Канашов.
После русачевского разноса все окончательно растерялись. Документы, составленные «штабниками», изобиловали грубыми ошибками.
Русачев встал и, взяв приказ «Выход из окружения и отход», удивленно пожал плечами:
— Что это за новости, товарищ подполковник? Мне не помнится, чтобы эта тема была в программе командирской учебы.
— Этой темы нет, товарищ полковник. Вот потому я и решил включить ее сам.
Русачев еще более изумился. «Опять что-то придумал. Ну, пусть закончит занятия, я с ним поговорю».
Канашов сделал разбор занятий, подчеркнул недостаточную подготовленность командиров и предупредил, что впредь он будет взыскивать за это, как за самое грубое нарушение своих служебных обязанностей и дисциплины. Закончил он разбор тем, что дал каждому задание и приказал Савельеву ежедневно поверять и докладывать о ходе выполнения.
Русачев и Канашов остались вдвоем.
— Кто разрешил тебе самовольно менять тему? — строго начал Русачев.
— Товарищ полковник, я вам уже докладывал свои соображения…
— Да какие там соображения? Есть программа, есть план командирской подготовки, утвержденные Наркомом обороны, а для подполковника Канашова, видите ли, это не закон… Да ты пойми, наконец, что получится, если каждый начнет мудрить и отсебятину пороть?
— Зачем же дорогое время тратить, товарищ полковник? Несколько месяцев тому назад уже отрабатывались эти темы. То оборона, то наступление — это какой-то заколдованный круг…
— Но было же указание от отдела боевой подготовки округа отрабатывать главным образом наступление.
— Это неправильно! Я написал об этом в округ…
— Ишь ты, разошелся! Это ему неверно, это неправильно. Что же получится, если каждый командир полка будет критикой заниматься? У нас, товарищ подполковник, и программы и уставы для всей, армии едины.
— И программы и уставы люди пишут. А люди, как известно, могут ошибаться.
— Они ошибаются, они и ответ держать будут. Ты что хочешь сказать, что ты один умник, а все остальные дураки? Устав не одна седая голова писала: лучшие наши военные теоретики.
— А я и не считаю их глупыми. Но самые лучшие теории оправдывают себя, если подтверждаются жизнью. Возьмем, например, такой вопрос: в основе советской военной тактики лежит наступательный принцип действия. Об этом хорошо в свое время писал Михаил Васильевич Фрунзе. Но и наступление у нас разрабатывалось, я бы сказал, односторонне. В уставе имеются разделы: бои в особых условиях, в частности зимой, и наступление на укрепленный район. Но кто, скажите, серьезно занимался разработкой этих тем?
— Ну, это ты брось! В академиях занимались и сейчас занимаются.
— Может, и занимались отдельные товарищи для диссертаций, а в войсках изучали преимущественно наступление в полевых условиях и летом. А вот столкнулись мы с этими иными условиями в Финляндии, и пришлось кровью расплачиваться за теоретическую отсталость.
— Значит, ты предлагаешь изменить нашу доктрину и начать заниматься только обороной? — сердито, с издевкой спросил Русачев.
— Нет. Я также считаю основным видом боевых действий наступление. Но не следует забывать и об обороне, о бое в окружении, отходе, встречном бое…
— Да тебе, подполковник, управлением боевой подготовки надо руководить. Широкий у тебя размах. А где, батенька мой, для такой программы время взять? Ты об этом подумал?
— Время найти можно. Надо проявить больше смекалки и настойчивости. Беда наша в том, что никто не хочет с большим начальством ссориться.
— Послушай, подполковник, да если хочешь знать, это просто аполитично. Нашему социалистическому государству, пойми — социалистическому, и уделять время на изучение какого-то отхода, боя в окружении, когда основным видом действий нашей армии всегда было и будет только наступление. Ты того и гляди еще предложишь тему: «Отступление»… — Русачев засмеялся.
— Не знаю, что вы нашли в этом смешного? — нахмурился Канашов. — Ленин в своих трудах писал, что отступление в некоторых случаях является такой же правомерной формой борьбы, как наступление и оборона.
— Ну, ты брось путать грешное с праведным. Ленин говорил не о военном отступлении, а о политическом. Это совсем другое дело. Мое тебе последнее слово: брось мудрить! В нашем деле вся эта философия ни к чему. Ты солдат, и твое дело выполнять, что тебе прикажут… Ладно, хватит, заговорился я с тобой, а меня, наверное, жена там ругает, ужинать ждет.
Русачев задумался, потер рукой лоб и вдруг спросил:
— Канашов, а что это твоя жена поперек течения плывет и ни с кем считаться не хочет? Из женсовета самовольно ушла. Общественное поручение ей дали — отмахнулась. Пожалуйста, призови ее к порядку. Ведь так недолго и свихнуться.
На лицо Канашова легла тень.
Комдив вскоре ушел. А Канашов горько задумался: «Что же делать дальше?»
В дверь робко постучали, вошла жена Аржанцева.
— Михаил Алексеевич, простите меня, — проговорила она дрожащим голосом. — Дочь ваша взяла чемодан и ушла из дому…
— Куда? — встревожился Канашов.
— Не знаю… Сначала она долго плакала, а потом вижу: идет через двор с чемоданчиком.
— Спасибо вам, дорогая!
И, выскочив из кабинета, крикнул, дежурному:
— Немедленно лошадей!
3
Канашов, зная своенравный и гордый характер дочери, сразу решил искать ее на вокзале. От военного городка до вокзала было более семи километров. «Успеть бы», — тоскливо думал Канашов, поторапливая ездового и уставясь глазами в одну точку — жирное пятнышко на его спине.
Перед дочерью он действительно виноват. Виноват и перед умершей женой, которой дал слово больше не жениться.
С первых же дней мачеха невзлюбила его дочь. Их частые ссоры заставили Канашова увезти дочь к своей матери. Но вот в канун сорок первого года мать умерла, а с дочерью случилось несчастье: учась в техникуме, она полюбила однокурсника-студента, а он предпочел ей другую. В отчаянии Наташа чуть было не покончила с собой, и пришлось отцу срочно привезти дочку в часть. Перед ее приездом он долго говорил с женой и заручился ее согласием. Правда, Наташа не хотела возвращаться к отцу, упорствовала, заявляла, что она не уживется с мачехой. С большим трудом отец убедил ее.
Внешне Валерия Кузьминична благоволила к Наташе, а та глядела на нее недоверчиво и холодно. Но видимое благополучие длилось недолго. Уже через несколько дней, накануне Нового года, вспыхнула первая ссора, из-за пустяка. Валерия Кузьминична увидела у Наташи подарок отца — отрез на платье очень красивой расцветки — и разобиделась, почему муж подарил не ей, а дочери.
И когда в споре она вздумала подчеркнуть свое превосходство, самолюбивая падчерица ответила ей резко. Тогда-то и разгорелись страсти.
…Канашов прибыл на вокзал вовремя. Он буквально снял заплаканную Наташу с подножки вагона.
— Нога моя больше не переступит порога, где живет она, — заговорила горячо дочь. — Ты подумай, папа, что она мне сказала: будто я шпионю за ней. Бесстыдная! — и она залилась слезами. — Она обо мне распространяет сплетни, будто я уже не девушка.
Ей так хотелось рассказать отцу, что мачеха сообщила это лейтенанту Жигуленко, и, возможно, поэтому он так резко изменился к ней в последние дни. Вчера в клубе он даже не подошел к ней и все время танцевал с Ритой. Зато с мачехой, пришедшей в клуб, он любезно раскланялся…
Канашов ехал обратно в тяжелом раздумье. Придется хотя бы временно поселиться с Наташей в пустовавшей холостяцкой квартире Чепрака.
На обратном пути Канашов решил заглянуть в штаб полка.
Савельев доложил ему, что роту старшего лейтенанта Вертя пришлось поднять по тревоге и отправить на разгрузку эшелона прибывшего инженерного имущества для дивизии.
— Почему все из нашего полка? Вот Муцынова никогда не беспокоят, — возмущался Савельев.
Пришел Заморенков с шахматной доской под мышкой, но увидел чем-то омраченного командира полка, виновато присел на край стула.
— Слыхал я про горе твое, Михаил Алексеевич… Где теперь жить будешь? Может, ко мне? Жена к родным гостить на все лето собралась. Одна комната твоя…
Канашов сидел, подперев голову руками, уставясь в одну точку.
— Спасибо, Яков Федотович, но ведь это не выход из положения. С такой семью не построишь…
Зазвонил телефон. Канашов взглянул на часы: было без четверти двенадцать. В трубке послышался хриповатый, взволнованный голос Русачева. Дважды он посылал к Канашову домой с приказом явиться к нему: произошла большая неприятность.
Заморенков видел, как, разговаривая, Канашов крутил в пальцах потухшую папиросу. «Нервничает. Наверно, ругает его комдив», — догадался он.
— Есть, товарищ полковник. Будет все сделано. — Положив трубку, Канашов глухо сказал: — Ты извини меня, Яков Федотович. Я в первый батальон…
— Что случилось? — всполошился Заморенков.
— Белоненко смалодушничал. Во взводе Миронова несколько дней тому назад дезертировал боец, а он скрывал. Русачев рвет и мечет. Действительно, безобразие. В мирное время — дезертир. Надо ехать, разбираться…
4
Виновник стольких неприятностей для полка боец Еж недоуменно и лукаво глядел по сторонам. В кабинете Канашова собралось много начальства, и Еж растерялся. Тут были Шаронов, Савельев, комбат Белоненко, комроты Аржанцев, командир отделения роты старшего лейтенанта Вертя сержант Гусев и часовой с винтовкой, который конвоировал Ежа как дезертира.
Канашов отправил часового в караул и, сдвинув сурово брови, сказал:
— Рядовой Еж, мы вынуждены будем отдать вас под суд трибунала за дезертирство. Где вы пропадали целую неделю?
Позади Ежа стоял, то краснея, то бледнея, комбат Белоненко.
«Ни за что теперь не представит Канашов меня к очередному званию. Аржанцев распустил людей, а я отвечай…»
— Охранял сено, товарищ подполковник.
Канашов даже привстал от неожиданности.
— Какое сено? Кто вас туда поставил?
— Самое обыкновенное… — Еж кивнул головой в сторону сержанта Гусева. — Сержант поставил. Два дня я ждал, товарищ подполковник, а потом вижу — никого нет, решил: пойду харчи добывать. Пришел к председателю колхоза, объяснил все как есть. Выдал он мне два котелка картошки и ржаной муки. Бабы соли дали. Вернулся я на пост, устроил там шалаш, ну и охранял, пока вот сержант за мной не приехал…
— А где сержант был? Почему с поста не сменил?
— Телеграмму он получил — мать при смерти (у него родные из ближнего района). Вот он и уехал… Думал, без него сменят, — доложил старший лейтенант Верть.
Канашов тут же отправил всех из кабинета, даже не захотел Белоненко выслушать.
— Все ясно, товарищ майор. Мне не нужны ваши оправдания, идите. — Он позвонил Русачеву и доложил о случившемся недоразумении.
Глава восьмая
1
— Товарищ Миронов, — сказал заместитель командир батальона по политчасти Бурунов, — комсомольская организация рекомендует вас в авторский коллектив для написания истории полка. Сегодня в ленинской комнате проводится совещание. Вам необходимо побывать на нем.
На совещание Миронов прибыл с опозданием. По дороге его перехватил командир роты Аржанцев и долго разъяснял как лейтенант должен завтра поверять оружие. Миронов осторожно, на цыпочках, прошел через зал и, сев в последнем ряду, вынул блокнот. Он видел, что Шаронов недовольно поморщился, заметив его, осторожно пробирающегося по залу. Он даже сделал большую, чем обычно, паузу.
Он говорил:
— В каждом полку есть своя святыня — боевое знамя. Оно символ воинской чести, спаянного боевого коллектива. Это знамя развевалось на полях сражений, когда мы сражались с врагами нашей Родины. Пробитое пулями, опаленное пороховым дымом, оно вело героев вперед. В крепких, надежных руках советских воинов оно приходило из края в край нашей великой Родины и было алой зарей для освобожденных народов. Если бы оно обладало даром слова, какую бы волнующую повесть поведало оно людям! Знамя полка, товарищи, — это великий, но молчаливый свидетель его боевого пути, зримый, но безгласный символ его боевых традиций, и за него полным голосом должна говорить написанная история полка. Эта славная история призвана вдохновлять советского воина на битву с врагами нашей Родины. Я предлагаю, товарищи, поручить лейтенанту Миронову открыть страницу истории нашего полка стихотворением о боевом знамени полка.
Когда Миронов услыхал свою фамилию, он встал, и все взгляды устремились на него. «Откуда он знает, что я пишу стихи?»
— Мы не торопим вас, товарищ Миронов. Дело, понятно, творческое, но желательно, чтобы к осени вы написали такое стихотворение. К тому времени уже будет, я надеюсь, собран весь материал по истории полка. Сможете вы выполнить это задание к осени?
— Постараюсь, товарищ батальонный комиссар.
Когда окончилось совещание, Шаронов подозвал Миронова к себе.
— По рекомендации Бурунова мы утвердили Рыкалова комсоргом батальона. Как он, по-вашему, достоин?
Миронов пожал плечами. Сообщение задело его самолюбие.
«Хозяйничают во взводе, делают все без меня, а теперь спрашивают для проформы».
— Человек-то он вроде ничего, да слабохарактерный…
2
Миронов застал Жигуленко не в духе. Евгений достал папиросу и, прежде чем удалось прикурить, поломал все спички, разбросав их по полу.
— Учишься, переносишь столько трудностей, гробишь лучшие, молодые годы. А результаты?… Сунули тебе взвод — и только всего.
— Потерпи немного. Роту ты скоро получишь.
Евгений с усмешкой взглянул на Миронова, как бы говоря: «Ну что ты понимаешь в этом?»
Но Миронову хотелось отвлечь Евгения. И он, шутя, сказал:
— Помнишь, еще Суворов говорил: «Тот не солдат, кто не думает быть генералом…»
— Я не желал бы быть генералом, когда из меня посыплется песок… Десять лет командуй взводом, десять — ротой, десять — батальоном, десять — полком, десять — дивизией, пятью десять — пятьдесят… Да плюс мои двадцать прожитых — это будет семьдесят… В семьдесят лет — первый генеральский чин! — Евгений усмехнулся. — На что он мне тогда? Я хочу быть генералом в тридцать лет…
— Будешь, будешь! Кто хочет, тот добьется, — сказал Миронов.
— Тьфу, черт возьми, совсем забыл… У меня сегодня взвод заступает в наряд, — спохватился Жигуленко. — Надо проверить, как подготовились.
По коридору прогрохотали и стихли его быстрые шаги.
Миронов остался один. Весь день он раздумывал, как ему поступить с бойцом Полагутой, который вступил в пререкания с командиром отделения Правдюком и этим нарушил дисциплину. Сначала Миронов хотел было наложить на Полагуту самое строгое взыскание. Но Полагута несколько дней ходил молчаливый, печальный. «Может, у него неприятности дома?… А я, не поговорив с бойцом, хочу рубить сплеча… Нет, тут надо разобраться, приглядеться к человеку».
3
Есть на свете люди, которые с первой встречи кажутся давно знакомыми, хотя ты их раньше никогда не видел и ничего о них не знал. Такому человеку хочется откровенно рассказать о себе, расспросить о его жизни. Подобным человеком был и Андрей Полагута.
Когда его спрашивали, откуда он родом, он отвечал немного горделиво:
— Донской казак я. Земляк мой Михаил Шолохов о казаках книгу написал. Читали?
У Полагуты крупные черты лица, глаза зеленоватые, цвета донской воды. Высокий ростом, чубатый, косая сажень в плечах. Во всей богатырской фигуре было что-то медвежье, даже диковатое, и вместе с тем он был редкой доброты.
С детства Андрей рос крепышом и был защитником всех слабых. Особую жалость он проявлял к животным.
— Не трожь… тоже жить хочет, — говорил он обычно в таких случаях и брал животное под свое надежное покровительство.
Андрей Полагута был призван осенью тысяча девятьсот тридцать девятого года и попал в полк, стоявший в Западной Белоруссии. Год службы промелькнул незаметно. Полагута и его товарищи быстро усвоили солдатскую науку и к весне сорокового года уже считали себя «старичками».
День за днем текла размеренная солдатская жизнь. Тактические учения, стрельбы и другие занятия заполняли время от подъема до отбоя. Каждый день жизни в армии приносил что-нибудь новое. В конце весны начались ротные тактические учения, участились учебно-боевые тревоги, — ночью или на рассвете подымался весь полк, совершал марш-бросок на несколько десятков километров, вел «встречные бои» с «противником», «оборонялся»…
Первое время, ох, как было трудно Андрею! Не мирилась его вольная казачья натура со строгими армейскими порядками. Тесны были рамки ему, привыкшему обдумывать все, не торопясь взвесить, прикинуть. Оттого, что не поняли его необычной натуры командиры отделений, слыл он у них ленивым и нерадивым бойцом и первое время довольно часто получал взыскания.
Замкнутый и неразговорчивый Андрей в свободное время уходил в лес и, лежа на спине, долго всматривался в бездонную синь неба; чутко слушая таинственный разговор шепчущихся деревьев, он вспоминал родной Дон, широкую ковыльную степь, лесорубную бригаду, с которой он рубил могучие, столетние сосны, тосковал об Аленке, приворожившей его, вольного донского казака. И воспоминания эти текли легко, прозрачно, как тихий лесной ручей.
…Весной Андрей вместе с бригадой от колхоза отправился на лесозаготовки в Белоруссию.
С утра до вечера, как дятлы, стучали в лесу звонкие топоры лесорубов, и, качаясь, как подстреленные, падали наземь спиленные могучие разлапистые сосны, пахнущие скипидаром.
Жадно глядел Андрей-степняк на лес, на лесорубов, приглядываясь к их жизни. И запала ему в голову мысль пожить здесь, поработать лесорубом. Запала и вскоре корнями вцепилась крепко-накрепко, как могучее дерево.
Встретилась на пути девушка — Лена, Сразу как-то приглянулась она ему. Лесорубы звали ее ласково — Аленка. Отца ее, лесника, убили кулаки в тысяча девятьсот тридцать первом году, а мать умерла в тот же год от простуды. Жила и росла Аленка в лесу у своего деда Мозолькова, тоже лесника. Стройная, с длинными, до пояса, косами, сероглазая, тихая, ласковая девушка. Против ее серых глаз не мог устоять ни один парень. Столько в них светилось какой-то особой, притягательной силы, и тот, кто хоть раз заглянул в ее глаза, навек терял покой. Потерял его и Андрей.
Встретив Аленку, он задержался в леспромхозе на два дня, затем на неделю, потом на месяц и, поколебавшись, остался навсегда. Так из коренного землепашца и виноградаря превратился Андрей в лесоруба. Новая работа полюбилась ему, он быстро овладел ею и стал одним из лучших лесорубов. Вскоре его назначили десятником лесорубного участка.
При первых встречах с Аленкой очень смущался Андрей, боялся сказать ей о своей любви. А закончив работу, уходил в лесную глушь, бродил, мечтая о любимой.
Как-то набрел Андрей на полянку с веселой, одиноко стоявшей на отшибе березкой. Она чем-то напоминала ему Аленку: он с тоской глядел на нее, иногда подходил к ней, гладил широкой грубой ладонью нежную, атласную, бледно-розовую кору. И березка, казалось, привыкла к нему, встречая его, радостно трепетала светло-зелеными листами, доверчиво протягивая гибкие ветви.
Случилось как-то, что Аленка, повязав цветастый нарядный платок, отправилась в лес. Любила она лес больше всего на свете и нередко подолгу пропадала в его зарослях, собирая ягоды, цветы. Набрав большой букет, она вдруг увидела на поляне человека, прислонившегося к березке, он стоял к ней спиной. Русые кудри его шевелил ветер, а он, склонив голову, стоял неподвижно, будто окаменел.
Что-то знакомое почудилось Аленке в могучей фигуре парня. Осторожно подкралась она к березке и узнала нового лесоруба — Андрея Полагуту. Что с ним?
Она решила напугать парня и резко окликнула:
— Что тут делаете?
Плечи Андрея вздрогнули. Он поднял голову и, увидев Аленку, смутился.
И вдруг Андрей быстро подошел к ней, схватил ее на руки, как ребенка, и стал осыпать горячими поцелуями. А ей не хотелось даже сопротивляться и почему-то казалось, что все это должно быть именно так.
…А через неделю на той же поляне играли свадьбу. Вскоре Андрей с Аленкой приехали на Дон в родную станицу. «Знать, судьба…» — говорили в станице старые люди. «Похуже Нюрки председательской, за которой раньше ухаживал Андрей, — судачили женщины промеж собой, — щуплая какая-то, не баба, а хворостинка».
Погостив две недели у родных, они уехали в Белоруссию. Через год Алена родила Андрею двух сыновей.
Долгое время Андрей ни с кем не дружил, никому не доверял своих сокровенных дум и поэтому получил кличку «Молчун».
Но чем больше присматривался Андрей к товарищам, тем больше нравился ему неказистый на вид весельчак-балагур Ефим Еж: Он и минуты не мог прожить без шутки, прибаутки, веселой истории.
Еще с шестого класса старичок учитель привил ему любовь к фольклору. Еж завел общую тетрадь и записывал бесценные крупицы народного юмора. И сейчас, в армии, он не расставался с пухлым, самодельным блокнотом, куда записывал поговорки, пословицы. Знал он их несметное число, а иногда и сам придумывал. Колюч был на язык Еж. Многие бойцы побаивались его. Лучше не связываться, а то высмеет перед всеми. Завязалась дружба между этими разными людьми, Ежом и Полагутой, неожиданно.
Взвод собирался идти в караул. Бойцы осматривали винтовки, прочищали стволы, набивали патронами ленты к пулемету, укладывали противогазы. Те, кто уже закончил подготовку, сидели курили. Андрей получил письмо от Аленки и затосковал. Перед ним лежал устав караульной службы. Но он так и не прочел еще своих обязанностей часового. Сковала человека тоска по родной Аленке. А Еж уж давно прицелился острым взглядом, жалко ему парня. Видел он, как Андрей беспокойно читал письмо и глаза его туманила грусть. И крикнул Еж озорно:
— Зй вы, бойцы зеленые, давай ближе ко мне!.. Вспомнился мне случай один занятный.
Все загомонили:
— Давай, Ефим!
А вот Андрей не подошел, остался сидеть в сторонке. «Ничего, расскажу погромче, услышит», — думал Еж.
Попыхивая огромной козьей ножкой и хмурясь, как кот, дремлющий на печи, он, не торопясь, повел рассказ:
— Стоял на посту у складов Павлуша Ризин из взвода Дуброва… Ну, разводящий наш, Правдюк, командует мне приготовиться. «Сменишь, — приказывает, — Ризина на полчаса раньше. Не надеюсь я на него, сукиного сына. Опять, наверное, заснул». Болезнь, понимаете, у него такая — сам на ногах, а спит, как конь…
— Что это здесь за сборище? — сердито спросил вошедший сержант Правдюк. Он не переносил, когда кто-нибудь из его подчиненных не был занят по службе.
Еж, подскочив резиновым мячиком, будто кто об пол его ударил, скосил хитроватые, с прищуром, глаза и, вытянувшись перед начальством, доложил:
— Товарищ сержант, подготовка к караулу закончена. Винтовка к бою готова. Патроны получены сполна. — Для большей убедительности он похлопал рукой по подсумку. — Обязанности часового три раза подряд прочитал, — соврал он, не сморгнув. — Разбудите ночью, как стихи, перескажу слово в слово.
— А зараз про кого це байки рассказываете? — нахмурился Правдюк.
— Это мы перекур устроили, товарищ сержант, а мне припомнился поучительный случай про то, как боец Ризин на посту отличился.
А увидев, что Правдюк удовлетворен докладом, добавил с лукавой усмешкой:
— Каков солдат, таков о нем и лад…
Прищуренный, всевидящий глаз Правдюка оглядел бойцов. У всех замерло дыхание. Сейчас он подстрелит кого-нибудь вопросом. Уж больно любил он эти коварные вопросы задавать. Попробуй не ответь, житья не даст.
Андрей поймал на себе взгляд и смекнул: спросит сейчас. Он торопливо сел на устав, но Правдюка не проведешь. Не зря их отделенный к каждому празднику благодарности получает и на всех совещаниях младших командиров его в пример ставят.
— Товарищ Полагута, — слегка улыбнулся Правдюк. Андрей, вскочив, замер. — На уставах не сидят… Помять можно. Книга ценная…
Андрей, красный, вертел в руках устав.
— Скажите мне, товарищ Полагута, а после скольких предупреждений часовой стрелять может?
Полагута переминался с ноги на ногу. Вопрос застал его врасплох. И тут из-за спины Правдюка Еж показал два пальца.
— После двух, товарищ сержант, — тяжело выдохнул Полагута.
— Так, так… А через сколько часов часового с поста меняют летом?
Опять Еж поднял кверху палец.
— Через час, — ответил Полагута.
— Ну, а зимой?
И тут произошла заминка. Сколько Еж ни перекрещивал один палец другим, Андрей никак не мог догадаться, что означал крест из пальцев.
— Зимой в караул пойдет, тогда и узнает, — вставил Еж.
Правдюк сердито взглянул на него.
— В уставе ж записано… Почитайте еще раз, Полагута. Пропустили вы то важное место.
И тут Правдюка вызвал к себе Миронов.
Андрей подошел к Ежу и крепко пожал руку.
Вот так, кажется, ни с того ни с сего, и завязалась дружба между Андреем и Ежом.
Особенно трудно было Андрею, когда появился в их взводе новый командир — лейтенант Миронов. Такой «служака», никому не дает покоя. За последнее время Андрей заметно похудел. Глаза запали глубже и оттого смотрели строже. Острее обозначились скулы.
— Не в пользу мне эта наука лейтенантова пошла, — говорил он своему другу Ежу, рассматривая себя в зеркало. — Поглядела бы моя марушка[3], не признала бы. Первое время думал: не выдержу этой жизни. Загонит она меня в домовину[4]. В армию уходил, во мне шесть с половиной пудов было, а теперь от силы пять.
Он смотрел с грустью на свои широкие ладони с янтарными бугорками мозолей, будто видел их впервые в жизни.
— Мне все наши лесорубы гутарили, выхолишь руки в армии, не захочешь опять за топор браться. А тут, гляди, какие мозоли нагнало, — показал он Ефиму, — Больше чем в гражданке были. Эх, — вздохнул он, — сколько эти руки земли перекидали, пока солдатской наукой овладел!
— Да, землищи перевернули дай бог каждому, — щурясь и затягиваясь, поддакивал Еж.
…В одном конце казармы тускло светит одинокая дежурная лампочка. Слышны глухие шаги дневального. После напряженного дня полевых тактических занятий бойцы спят как убитые.
— Как думаешь, Андрей, будет завтра тревога? — приглушенно спрашивает Еж. — Что-то лейтенант наш шибко носился по казарме перед отбоем, все отделенных накручивал.
— На той неделе пойдем в лагерь к Серебряному ручью, к показным тактическим учениям готовиться. Сегодня Правдюк рассказывал, как гонял их там наш лейтенант.
— А давай поспорим — завтра тревоги не будет, — предложил Еж.
Спорить было его страстью. Еж приметил: когда ожидается тревога, роту перед отбоем навещает кто-нибудь из командования батальона, а вот сегодня никого не было.
— Кто проиграет, один всю неделю пулемет чистит и к городскому отпуску пачку «Казбека» покупает для шика. По рукам?
Они протянули руки, молча разняли их о тумбочку и вскоре заснули.
4
Едва забрезжил рассвет, роту подняли по учебно-боевой тревоге. Командир роты подозвал командиров взводов.
Пока ставилась «боевая задача», бойцы вполголоса переговаривались. Еж ворчал и сердито косился на всех. У него все валилось из рук, лопата не лезла в чехол, в спешке он схватил чужой противогаз.
Взвод Миронова был назначен направляющим в роте. Когда вышли за город, лейтенант подал команду: «Бегом марш!»
— Поправь котелок, — жалобно молил Андрея Ефим (он был вторым номером пулеметного расчета), — а то всю спину станком перерезало.
— Надо на месте укладываться хорошо, — поучал Андрей, поправляя у Ежа вещмешок с котелком под скаткой. — Гузырь[5] от вещмешка у тебя болтается, как поросячий хвост. У-у-у, баглай[6]. И лопата у тебя, смотри, бьет держаком по ногам… Да сдвинь ты ее на бок, легче бежать будет.
Еж недовольно покосился на Андрея, стирая рукавом крупные капли пота.
— Долго ли еще будут эти скачки? — жалобно спросил он вполголоса, будто Андрей мог знать. — Километров пять, наверное, уже отмахали, а ему хоть бы что, планшеточку только поправляет, — кивнул Еж в сторону Миронова. — Куда там, и на вожжах не удержишь.
— Ему бы нашу солдатскую обузу, — угрюмо отозвался Андрей, — тогда не больно шибко бегал бы.
У подножья безыменной высоты при подъеме перешли на шаг, а как только добрались до вершины, опять побежали. И тут вдруг боец Ягоденко оступился и упал со станком пулемета. Тяжело дыша, он вскочил на ноги и, прихрамывая, хотел было опять бежать, но подскочивший Миронов приказал ему снять станок, ловко взял его на свои плечи и показал рукой:
— Идите вон на ту высотку с кустарником.
Подбежал Правдюк:
— Разрешите мне станок…
— Нет.
Бойцы в недоумении переглянулись. Лейтенант и со станком бежал так же легко. Полагута подумал: «Зря я о нем нехорошо сказал, надо взять станок».
— Мухтар! — крикнул он своему подносчику, и, не говоря ни слова, Полагута вырвал у него из рук коробки с пулеметными лентами. — Возьми станок у лейтенанта…
Мухтар подбежал к Миронову.
— Товарищ лейтенант, разрешите взять станок?
Миронов отдал станок и, как только приблизились к подножью высоты с кустарником, подал команду перейти на ускоренный, а затем на нормальный шаг.
Ехавший на машине Канашов видел все это и. хотел остановиться, отругать лейтенанта, но потом улыбнулся и кивнул шоферу: «Поехали!»
«Ладно, — с затаенной надеждой думали бойцы, — прибежим на место, передохнем. Скоро взойдет солнце, осушит росу на травах. Хорошо после утомительного марш-броска полежать на прохладной траве. А еще лучше уснуть часок-другой. Глядишь, а там и походная кухня подъедет, можно подзаправиться».
Но не тут-то было! Едва достигли небольшой безыменной высоты, поросшей редким кустарником и молодым ельником, получили приказ: после десятиминутного отдыха готовить огневые позиции для пулеметов.
Готовили позиции весь день, с небольшими перерывами на завтрак и обед.
Андрей закончил вкусный обед, протер котелок пучком травы и, приглядев местечко в тени под разлапистой елью, с наслаждением растянулся на земле, расправляя затекшие руки и ноги. Поодаль от него долго примащивался Еж. Проспорив Андрею, он теперь старался держаться подальше от него. Во время обеда не проронил ни слова, боясь, как бы Андрей не вспомнил об их вчерашнем споре. «Авось пройдет несколько дней, гляди — и забудет».
Бойцы расположились на отдых. Одни усталыми голосами неторопливую беседу, другие дремали, третьи курили молча.
Командир отделения сержант Правдюк проверил, как собраны пулеметы, как составлены винтовки в козлах, где сложено снаряжение, нашел все, к своему удивлению, в порядке и даже слегка расстроился, что никому не пришлось делать замечаний.
Когда, как показалось Ежу, Андрей уснул, он расстелил шинель рядом. Здесь хорошая тень, да и трава погуще. Но только Еж закрыл глаза, как Андрей толкнул его в бок.
— Ефим, а Ефим, руки у тебя болят?
Еж сделал вид, что спит, и только после третьего сильного толчка ответил:
— Болят, ох, как болят, Андрюшка! И не только руки, всю спину разломило. А ты думаешь, это все? На этом лейтенант успокоится? Плохо ты его знаешь…
— Типун тебе на язык, вечно каркаешь, как ворона, на свою же голову! — прикрикнул на него Андрей. Он не раз замечал: о чем бы ни заговорил Еж — обязательно сбудется. А у Андрея сейчас было только одно желание — поспать бы хоть часок.
— А ты как думаешь, — не унимался Еж, лукаво прищурившись, — выстроит нас Правдюк и скажет: «Товарищи, получена боевая задача — спать до утра».
— Да ну тебя! — Андрей лениво отмахнулся, как от надоедливой мухи, и перевернулся на другой бок. — Спи лучше, чем язык чесать…
Но как только Еж устроился поудобнее и набросил на себя шинель, взвод подняли. Догадка Ежа оправдалась. Правдюк приказал бойцам отрыть запасные позиции и соединить их с ходами сообщения.
— Работу вмисти с маскировкой, — приказал Правдюк, — закончить до рассвета.
Поплевав остервенело на руки, Еж начал отрывать ход сообщения в сторону Андрея, ворча:
— Отдохнуть толком не дадут. Помнишь, политрук на политзанятиях читал нам статью из «Правды»?
Андрей перестал копать и уставился на Ежа, а тот продолжал:
— Умно сказано было в той статье, что по-новому надо проводить боевую подготовку. Не только рыть окопы полного профиля.
— А слыхал, что Миронов говорил? «На войне лопата солдату жизнь бережет», — вставил Полагута.
— Это нескладно. Лучше так: «За лопату держись — сохранишь жизнь».
— Нет, ты скажи мне все-таки, за что наш взвод землекопами окрестили, — спросил Андрей Ежа.
— Землекопами? — переспросил Еж удивленно. — Не землекопами, а кротами. В конце декабря это было. Морозище стоял лютый. Бывший наш взводный, младший лейтенант, с чудной такой фамилией — Ерза, занятие должен был проводить с нами по тактике в поле. Сам ли он мороза спужался или сжалился над нами — не знаю, а в поле не повел. С утра, значит, два часа в полковом клубе политзанятие было. Политрук нам лекцию читал, а после пришел наш Ерза. росточка он махонького, поменьше меня, головища большая, уши лопушистые. Смешной такой с виду и все бесконечно вынает расческу и причесывается. Оттого, наверно, у него и волосы редкие, все сыплются. Достал он из сумки какое-то наставление и давай нам читать. Долго читал, нудно, как дьячок на клиросе. В сон так и клонит всех. Кто поближе сидел — вздремнули, а подальше — всхрапнули. Видит он, что к концу занятия замертво все уснем, поднял нас, положил на пол и давай объяснять, чтобы мы правильно на боку лежали, голову чтобы пригибали пониже к полу от пуль, значит лопату как надо быстро доставать из чехла. А тут в самый что ни на есть разгар занятий комбат Горобец входит…
Сержант Правдюк подошел к ним и долго смотрел, как они работают. Морщил лоб. Видно, ему что-то было не по душе…
— Товарищ Полагута, вы шо робите? — спросил он озабоченно.
Андрей спокойно взглянул.
— Ход сообщения к Подопрыгоре, товарищ сержант.
Правдюк присел на корточки.
— Скилько вам треба время на отрывку хода в полный профиль?
— До рассвета управлюсь, — потупил взгляд Андрей.
— Ну, а шо, як противник будэ туточки раньше? Як вы будите с суседом сообщаться, як змините цю огневую позицию и перейдете на нову?
…Сержант Правдюк был одним из тех ревностно-исполнительных и требовательных командиров, о которых в армии говорят — «служака»: всегда аккуратный, подтянутый, строгий к подчиненным, хорошо знал уставы. К ленивым и нерадивым был беспощаден. С приходом лейтенанта Миронова он стал во всем подражать ему и даже ходил теперь такой же пружинистой походкой.
Правдюк терпеть не мог, если кто-нибудь из его подчиненных действовал на занятиях не так, как этого требовал устав.
Но за справедливость бойцы его любили.
Через два часа ход сообщения для движения ползком был готов. Опять неожиданно появился Правдюк.
— Товарищ Подопрыгора, — приказал он, — возьмите пулемет и ползите к Полагуте.
Подопрыгора, неуклюже передвигая широкое грузное тело и тяжело сопя, пополз.
— Докладывайте, товарищ Подопрыгора, де вам трудно, а вы, товарищ Полагута, запоминайте, шоб подправить можно було.
Проверка отрытого Полагутой хода сообщения прошла благополучно. Правдюк приказал проверить работу Ежа. Андрей старался проползти как можно лучше, но в одном месте застрял и, как ни пытался ползти дальше, не смог.
— Шо там такэ, товарищ Полагута? — будто недоумевал Правдюк.
— Противогаз зацепился, — пробормотал Андрей.
Но Правдюка трудно провести.
— Не противогаз виноватый, а Еж, шо поленился и узкий ход отрыл.
— Для такого борова, товарищ сержант, не человеку надо копать, а землечерпалке, — пытался оправдаться Еж.
— За плоху работу объявляю вам замечание и приказываю ше одну запасну позицию отрыть… Понятно?
Отдав приказание, он ушел. Еж проводил его сердитым взглядом.
— Вот ты и отдохнул, Ефим… Проковыряешься тут до полночи. Сама себя раба бьет, что не чисто жнет…
Он с завистью поглядел на Андрея, тот, аппетитно зевая, расстилал шинель.
И вдруг тяжелая рука Полагуты легла на плечо Ежа.
— Давай-ка вместе, Ефим, отроем.
Глаза у Ежа просияли.
— Я и так тебе проспорил вчера, — дрогнул его голос.
— То само собой, — бросил Андрей, поплевав на руки. Он с силой ударил лопатой в сухую землю, комья ее полетели в разные стороны.
Никогда еще Еж не чувствовал себя таким виноватым…
5
Обходя позиции, которые готовились для тактических учений, Канашов подозвал Миронова. Сделав несколько замечаний, он сказал:
— Надо, лейтенант, проявлять больше выдумки на тактических занятиях. Бойцы должны чувствовать, что их обучают полезному делу. У вас на занятиях много рассуждений… «Откуда это он знает?» — подумал Миронов.
— Вот ваш товарищ по училищу — Жигуленко — провощит их куда лучше…
Миронов стоял, смущенно теребя гимнастерку. «Тоже мне нашел, с кого пример брать!»
— Прочтите вчерашнюю передовую в «Красной звезде» — «За отличную подготовку станковых пулеметчиков». Она вас касается. Вы, молодые командиры, должны быть особенно беспокойными. Мало хорошо знать то, что в военном деле уже сделано до вашего прихода в армию. Служить надо так, чтобы постоянно искать… А вот со станком у вас хорошо получилось, — слегка улыбнулся Канашов. — Это верный путь к завоеванию авторитета командира.
Канашов простился и уехал. «Пойти проверить, как идут работы?» — подумал смущенный Миронов. Нет, сейчас хотелось остаться одному и хорошенько обдумать сказанное Канашовым.
Солнце щедро пекло, хотелось пить. Разговаривая с Канашовым, Миронов видел, как принесли ведро воды — норма на взвод, как бойцы с шутками делили ее, и даже слышал, как смеялись над лежащим на траве Ежом, выливая ему в котелок остатки воды. «Неужели Правдюк обо мне забыл? — подумал Миронов, направляясь на позицию, где ему приготовили наблюдательный пункт. — Ничего, расстегну ворот гимнастерки, полежу на прохладной земле и забуду про жажду».
По пути он остановился у запасной позиции, где работали Еж и Полагута. Потный, перепачканный землей Полагута бросил рыть и протянул котелок с водой.
— Пейте, товарищ лейтенант.
— Спасибо, товарищ Полагута. Я не хочу, — отказался тот.
На наблюдательном пункте кто-то уже позаботился принести соломенные подстилки.
Миронов прилег на солому, расстегнул ворот гимнастерки, вытер платком пот. От близости сырой земли было легче дышать. И вдруг он увидел в нише, вырытой в боковой стенке, чей-то котелок. Он взял его. В нем была вода. Отхлебнул глоток, пополоскал рот и выплюнул. На боку котелка были выцарапаны четыре буквы: «Ягод». «Так это Ягоденко проявил обо мне заботу?» — догадался Миронов. И тут зашуршала, посыпалась земля, сверху показалось лицо сержанта Правдюка, тот протягивал котелок.
— Товарищ лейтенант, это ваша порция осталась…
Миронов встал, застегнул ворот гимнастерки и взял у него котелок. Затем протянул ему чужой.
— А этот отдайте Ягоденко. Он тут наблюдательный пункт оборудовал и, наверное, забыл его.
Глава девятая
1
Вскоре после майских праздников в дивизию пришла телеграмма, подписанная командующим войсками военного округа. В ней приказывалось отложить до конца мая проведение генеральной «репетиции» тактических учений с боевой стрельбой. На учения прибудет сам командующий с группой работников штаба округа. Русачев срочно собрал командиров полков и начальников штабов, начальников родов войск и служб. Пришел никем не приглашенный и новый парторг полка Канашова — старший политрук Ларионов. Высокий, стройный мужчина с усталым лицом и красивыми черными цыганскими глазами и бровями. Русачев недовольно покосился в его сторону. Комдив начал с того, что отругал хозяйственников.
— Черепашьи у вас темпы… До сих пор даже трибуны нет для выступления командующего!
— И дорога к месту учения такая, что сам черт ногу сломит… — добавил полковой комиссар Коврыгин.
— Если мне хоть на какой-нибудь недостаток укажет командующий, — погрозил Русачев, — я вас всех разгоню. Попомните мое слово!!!
И, несмотря на то, что начальники продфуражного снабжения или технической службы не имели никакого отношения к этим вопросам, они сидели красные, потные, боялись встретиться взглядом с комдивом.
К удивлению всех, Русачев не сделал никаких замечании Канашову. За последнее время комдив часто бывал на занятиях в полку Канашова и не раз спорил с командиром полка, иногда дело доходило до резких разговоров, но сейчас, на совещании, он даже не обмолвился о своем недовольстве. А ведь только позавчера они снова столкнулись. Канашов предложил ознакомить расчеты полковых минометов с устройством мин и дать им отстрелять упражнения до того, как они примут участие в учениях, а Русачев решительно воспротивился, ссылаясь на приказ, запрещающий знакомить с этими минами и тем более отстреливать.
— Что ж это выходит, Василий Александрович, будто мы своим людям не доверяем? Ведь воевать-то будут они. Какой же прок, если они толком не знают своего оружия?
— Не торопитесь, товарищ Канашов. Будут воевать, тогда и узнают, а нарушать приказ я не разрешаю.
— Но ведь командующий дал согласие. И, по-моему, незачем засекречивать каждый пустяк… В иностранной печати публикуются все сведения о таких тяжелых минометах, и даже «Красная звезда» о них писала, а мы засекречиваем.
— Сказать, товарищ Канашов, все можно: разрешаю, мол, делайте. А где документ? Меня, а никого другого, тряхнут за это. Ты уж лучше черкни официальную бумажку. Подпишет командующий — тогда и обучай. Я не возражаю.
Но, и об этой стычке не упомянул Русачев на совещании. И вдруг, к еще большему изумлению, впервые за много месяцев сказал:
— Вчера на занятиях у Канашова был, беседовал с некоторыми бойцами. Умеет он с людей требовать. И все они ему, как богу, верят. — Русачев тяжело вздохнул и добавил неохотно: — Неплохой бы из тебя, Канашов, политработник вышел.
Заместитель комдива по политчасти Коврыгин недовольно покосился на Русачева.
К Канашову он все больше и больше питал неприязнь за его резкое выступление на партийной конференции в адрес политотдела.
— Я это без шуток говорю… Умеет он находить путь к людям.
Эта внезапная похвала настолько смутила Канашова, что он слегка растерялся. А через неделю после этого совещания прибыло письмо от командующего военным округом. В письме указывалось, что генеральная «репетиция» назначается на двадцатое мая, а сами учения — на конец июня, после окончательного выхода войск в лагеря. Сам командующий обещал быть на «репетиции».
Канашов был доволен. А Русачев считал все это ненужной затеей, которая сулила только лишние хлопоты.
2
Как-то, возвращаясь из кино, Наташа сказала Евгению, что она и ее отец — друзья и она доверяет ему все свои секреты. А вскоре после этого Канашов пробрал Жигуленко за опоздание на стрелковый тренаж. Евгений задумался: «Не откровенность ли Наташи с отцом — причина придирок Канашова? Ведь недаром же говорят командиры; „Если хочешь вывести из себя Канашова, ухаживай за его дочерью“. Я это принимал за шутку, а это не шутка. Мне она вообще-то нравится: у нее красивые глаза, она умная, много читает, но и только».
Поразмыслив, Жигуленко решил: «Дружбу с Наташей прекратить и как можно скорее. Гляди, еще влюбится… И я не устою. А к чему это приведет? Да и Рита куда интересней Наташи. И зятем комдива быть неплохо».
Хотя за Ритой всегда неотлучно следовал лейтенант Дубров и выглядел, как старый кряжистый грубокожий дуб рядом с молоденькой бело-розовой березкой, все же Рита украдкой от Дуброва бросала на Евгения загадочные взгляды и ласково улыбалась ему.
И, наконец, Евгению повезло: он по пути в клуб встретил Риту одну. Из разговора с ней он понял, что к Дуброву она равнодушна и просто терпит его, ценя слепую, беззаветную преданность ей. Евгений не без радости отметил, что с Ритой легче и проще. «Она не насмешлива, как Наташа, и всегда во всем соглашается».
И скоро Евгений и Рита начали назначать друг другу свидания то на опушке леса, то изредка в кино. Об этих свиданиях ничего не знали ни Наташа, ни Миронов.
«Тайную любовь» первым обнаружил Дубров. Это произошло случайно. Жигуленко и Рита в условном месте, под большим поросшим мхом камнем, клали записки. Ребятишки, игравшие там, однажды подглядели, как Рита положила что-то под камень.
…Записка попала к Дуброву.
Сгоряча он хотел было отправиться к Рите и потребовать объяснений, но не решился: «Ну, что это даст, насильно мил не будешь». Потом появилось желание круто поговорить с Жигуленко, но и этого он не сделал, боялся унизить Риту.
Тем временем Жигуленко представился вполне благоприятный предлог порвать дружбу с Наташей.
Он узнал, что Наташа и Миронов были вместе на вечере, посвященном памяти Маяковского. На другой день он увидел их в библиотеке. Они горячо спорили о романе Достоевского «Униженные и оскорбленные». Евгений сухо поздоровался и хотел пройти мимо, но они задержали его.
— Садись, — указал на диван Саша. — Будешь нашим арбитром.
Евгений сел и ответил с подчеркнутым равнодушием:
— Достоевского не люблю… Копается в душах. Романа этого не читал и не собираюсь.
Наташа поглядела на него удивленно: как это он может судить так категорически о том, чего не знает? Она заметила, что Евгению не нравятся ее встречи с Сашей. А ведь, назначив эту встречу, она прежде всего хотела отомстить самовлюбленному Евгению за то, что тот в последнее время стал заметно избегать ее. До Наташи дошли слухи, что он встречается с Ритой. Сначала она не поверила, но после того, как Евгений не пришел на свидание, сославшись на служебные дела, убедилась сама. Ей стало обидно: ведь она не набивалась ему в друзья. Не хочешь дружить, скажи об этом честно и прямо.
А Миронов чувствовал себя неловко. Ему казалось, что он неосторожно вклинился в их дружбу и виноват в начавшейся между ними отчужденности. И, желая их помирить, он сказал:
— Может, сходим сегодня на новую постановку драмкружка? Ну, а после — танцы… Говорят, начальник клуба новые пластинки привез.
Наташа подняла вопрошающие глаза на Жигуленко. Тот, глядя в сторону, неторопливо разминал папиросу.
— Кстати, поглядим на дебют наших друзей — Сергея и Риты. Я на репетицию как-то заглянул. Дубров — Кудряш прямо привел меня в восторг. С большой душой играет роль, — уговаривал Миронов.
— А Катерину играет Рита. Здорово получается. Можно просто влюбиться в нее, — сказала Наташа.
Миронов спросил:
— А почему бы вам не сыграть эту роль? Ведь вы любите театр и состоите в драмкружке?
— Где мне, — засмеялась Наташа, — Ведь я же не красавица, чтобы играть такие сильные роли. К тому же у нас в кружке роли распределяются по служебной лестнице.
Жигуленко не выдержал.
— Это ваша фантазия.
— Вы шутите? — вырвалось и у Миронова.
Наташа, слегка нахмурив брови, улыбалась.
— Представьте, не фантазия, Евгений Всеволодович. И не шутка, — повернулась она к Миронову. — Я и Рита намечались на эту роль. Предпочтение отдали ей. Некоторые кружковцы высказывали недовольство, предлагали тянуть жребий. Я добровольно уступила, потому что начальник клуба, не стесняясь, заявил: «Не забывайте, чья дочь Рита…» И тут же поправился: «Ведь в искусстве основное — красота!» Он у нас тонкий ценитель искусства и умеет выходить из самых затруднительных положений. Чтобы не обидеть меня, он пообещал, что я буду играть эту роль в случае болезни Риты…
— Ну, хорошо, сходим поглядим, — снизошел Жигуленко. — А сейчас я спешу… — И он оставил растерянных Наташу и Миронова.
Хоть Жигуленко и дал слово прийти на постановку, но не пришел.
Наташа ждала его, глядела по сторонам, ей хотелось поговорить с Евгением, разрешить все разом. На вопросы Миронова она отвечала односложно, нехотя.
Вот уже и постановка окончилась, зрители дружными аплодисментами проводили любителей-артистов, начались танцы, а Жигуленко не появлялся.
Наташа танцевала с Мироновым, досадуя на каждую мелочь. Саша, по ее мнению, танцевал тяжело и скованно. Несколько раз она наступала ему на носки, смущалась и от этого танцевала еще хуже.
В перерыве, гуляя по кругу, они встретились с Ритой и Дубровым. Наташа похвалила обоих за удачный дебют. Дубров застенчиво улыбнулся и никак не знал, куда ему спрятать большие грубые руки, а Рита приняла похвалу с легкой рассеянной улыбкой. Она, как подметила Наташа, изредка поглядывала на дверь, словно ждала кого-то, должно быть Евгения. А когда подруга перехватила ее взгляд, Рита сильно смутилась. Значит, действительно ждет Евгения, горько отметила Наташа.
Потом опять танцевали. Наташа устала и, наконец, сказала Миронову, что хочет идти домой. Когда они уже направились к выходу, неожиданно появился Евгений, — лицо озабоченное, хмурое. Остановившись у входа, он оглядел всех, будто искал кого-то. Одним он кивал головой, другим слегка улыбался. Встретившись взглядом с Ритой, он широко заулыбался. Наташа нетерпеливо подошла к Евгению, Здороваясь, он спросил раздраженно:
— Уже уходишь? Не могла подождать?
— Мы же договорились ровно в семь.
— Но у меня служба, а не танцы в голове.
В Наташе все закипело, и горький комок застрял в горле. Это уж слишком!
Подошел Миронов. Они стояли втроем чужие, притихшие, растерянные. Из неловкого положения выручила музыка. Радиолу выключили «отдохнуть», и сейчас вступил оркестр. Он заиграл, как и в тот первый вечер знакомства, «Осенние грезы». Теперь это был любимый вальс Наташи.
— Пошли! — еле слышно прошептала она Евгению, глядя на него ласковыми, прощающими глазами.
Полупрезрительная гримаса передернула его пухлые красивые губы.
— Нет… Не пойду. Танцуйте, я собираюсь курить.
Миронов проговорил примирительно:
— Успеешь, надымишься. Потанцуй, развей мрачные думы…
Но Наташа не дала ему договорить. Она решительно протянула Миронову руку, метнув на Жигуленко гневный взгляд.
— Пошли…
И они закружились.
Жигуленко безразлично улыбнулся и, облегченно вздохнув, пошел курить. Вскоре он вернулся из курилки и пригласил танцевать Риту. Танцуя, он что-то нашептывал ей на ухо, она краснела, смущенно улыбалась.
Потом Евгений танцевал с другими девушками и, наконец, победоносно подошел к Миронову и Наташе.
— Теперь мы с тобой в расчете… Идем… — и он протянул Наташе руку:
Все смотрели в их сторону. Наташа колебалась. «Конечно, он ведет себя ужасно глупо. Ревнует беспричинно…» тогда Наташа вдруг резко отстранила руку Евгения и, попрощавшись кивком головы с Мироновым, направилась к выходу. Саша попытался ее остановить, но Жигуленко удержал его.
Весело и снисходительно улыбаясь, он злобно шепнул:
— Не валяй дурака! На нас все смотрят… Не позорь командирской чести из-за какой-то взбалмошной девчонки.
Миронову было жалко Наташу.
— За что ты ее обидел?
— Больно нужно мне каждой девчонке кланяться. Иди утешь, пожалей!..
Миронов, не ответив, вышел из клуба. Ему было неприятно, что он стал причиной их ссоры. Выходя, Саша слышал, как кто-то насмешливо сказал: «Как бы дело не кончилось дуэлью!»
…Он быстро шел в сторону дома, где жила Наташа. Во тьме он увидел ее в белом платье, ускорил шаги, догнал. Она пугливо оглянулась, пошла быстрее. Оставшуюся часть пути шли рядом, не проронив ни слова. Миронов напряженно думал: «Чем помочь ей, обиженной?» И когда подошли к калитке сказал:
— Наташа, я не думал, что так получится… Я виноват перед вами.
Глаза девушки наполнились слезами.
— Я виню только себя… Прощайте!
Послышались чьи-то торопливые шаги. Наташа, хлопнув калиткой, ушла. Мимо прошел Жигуленко, Миронов еще долго стоял обескураженный.
3
Вот уже в течение нескольких дней батальон Горобца работал по оборудованию окопов и огневых позиций, где по замыслу тактических учений должен был обороняться противник.
Андрей Полагута восхищенно глядел на могучие ели с серой шероховатой корой, на золотоствольные сосны и белые, с глянцевитой кожей березы и чувствовал себя в родной стихии.
Тут можно развернуться! Он гордо ходил, поплевывая на большие мозолистые ладони и похлопывая сильной рукой стволы деревьев, словно друзей по плечу.
Взводам Миронова и Жигуленко выделили участки рядом. Миронов разбил свой взвод на команды: одну из них, во главе с Полагутой, назначил пилить и рубить деревья, другую — очищать ветки, третью — уносить готовые бревна, а четвертую — на подсобные работы: носить хворост, очищать местность от кустарника.
У Жигуленко весь взвод занимался всем одновременно, причем из-за плохой организации многие сидели без дела. Евгений ходил чем-то расстроенный и безразличный к окружающему.
— Тоже мне нашли подходящую работенку! — ворчал он. — Есть же в дивизии саперы. Не наше это дело!
Настроение Жигуленко быстро передалось и подчиненным. Работа шла вяло, чуть ли не через каждые полчаса объявлялись перекуры, курили подолгу. Сержанты, видя, что лейтенант не обращает никакого внимания на темпы работы, перестали требовать с бойцов.
Возвращаясь с обеда, Жигуленко услышал, как кто-то кричит, называя его фамилию. Он прибавил шагу и вышел к месту, где находился его взвод. На этом участке работала сейчас примерно одна треть бойцов во главе с сержантом Горшковым. Жигуленко встретили подполковник Канашов, капитан Горобец и старший лейтенант Аржанцев. «Сплошное начальство! — подумал он. — Жди неприятностей!»
Он отрапортовал Канашову, боясь встретить его суровый взгляд.
— Где ваши люди, лейтенант?
Жигуленко растерянно оглянулся.
— Наверно, там, в лесу, — и он показал рукой на лес.
— Что они там делают?
— Не знаю, — признался он.
— Спят они у вас там, — сердито сказал Канашов. — А вы где пропадали?
Жигуленко не знал, что и сказать в свое оправдание.
— Поднять спящих, дать всем задание, разбить взвод на группы, как сделал ваш сосед, — и он указал на участок Миронова. — Почему вы, лейтенант, опять на стрелковые тренажи опаздываете? — спросил он жестким голосом. — Смотрите, чтобы это было в последний раз. Вот на танцы в клуб вы не опаздываете…
Жигуленко появился во взводе взволнованный и сразу стал кричать на сержантов:
— Распустили бойцов! Безобразие!
Мысль о том, что Миронов получил благодарность за сегодняшнюю работу, а он — выговор, не давала ему покоя. «Канашов из-за дочери придирается… Стоит ли в самом деле из-за этого портить себе службу и жизнь?»
Мысли Жигуленко прервал гудок машины Русачева. Комдив побывал на других участках инженерных работ, остался недоволен и приехал в батальон Горобца. Канашову попало от комдива за медленные темпы работы, но он, терпеливо выслушав упреки, показал ему график работ, утвержденный им же. По этому графику они точно выполнили дневное задание.
Вместе с Русачевым приехала и Рита. Ей хотелось увидеть Жигуленко. Он ей сильно вскружил голову. А тут уже несколько дней подразделения полка Канашова застряли в этом противном лесу и, по словам отца, возвратятся не раньше как к концу месяца.
Беспечно выпрыгнув из машины, Рита направилась к лесу. Теперь Жигуленко неотрывно следил за каждым ее движением, но делал вид, что не замечает ее. Прогуливаясь, Рита попала на участок, где пилили сосны. Она остановилась, любуясь работой бойцов. Богатырь Полагута допилил мощную сосну и оставил немного для подсечки. Еж, как всегда, балагурил, и Полагута, наконец, возмутился:
— Ну и помощник у меня: один раз топором ударит, а час языком треплет.
Еж рассерженно подбежал к сосне и, схватив топор, подрубил ее под запил. Сосна, загребая воздух раскидистыми ветвями, устремилась к земле. И только тут бойцы увидели, что именно там, куда падала сосна, появилась девушка. Она загляделась на лейтенанта и не видела сосны.
Мгновение — и Жигуленко бросился к Рите, схватил ее в охапку и только успел сделать два прыжка, как сосна с грохотом и треском свалилась, верхушкой сбив обоих на землю. Все бросились к ним. Только Еж застыл на месте, оцепенев от ужаса.
Полагута первым подбежал и поднял их. Веткой Рите ободрало щеку, а Жигуленко сучок довольно глубоко разрезал левую руку, кровь обильно сочилась из раны. Очень быстро весь рукав гимнастерки стал мокрым.
Русачев с восторгом глядел на рослого, мужественного лейтенанта, который так самоотверженно спас его дочь. Комдив подошел к нему и молча крепко пожал руку.
Смелый поступок Жигуленко мигом стал достоянием всего полка, а вскоре и дивизии.
4
День генеральной «репетиции» показных тактических учений выдался на редкость погожим. На травах и листьях играли всеми цветами радуги прозрачные капли росы. Солнце поднималось как-то особенно медленно, будто сдерживало свое движение, не желая мешать работе людей и томить их обжигающим зноем. Кругом стояла такая тишина, что издалека можно было услышать, как стрекочет в бескрайном море трав одинокий кузнечик.
Еще перед восходом солнца батальон Горобца занял исходное положение для наступления. Подполковник Канашов приказал выставить оцепление района учения. Все было готово к началу. Командир полка еще раз осмотрел каждое орудие и отдал распоряжение начальнику артиллерии майору Дунаеву проверить подготовку огневых расчетов.
Эта казавшаяся некоторым командирам, особенно артиллеристам, излишняя придирчивость объяснялась тем, что артиллерия должна была вести огонь боевыми снарядами — прямой наводкой по дотам и впервые применять еще не получивший тогда распространения метод артиллерийской поддержки пехоты и танков — огневой вал.
Несколько орудий или даже батарей должны были вести огонь по рубежу обороны противника. Обычно первым рубежом был передний край — первые окопы, а затем по мере подхода к нему нашей пехоты и танков артиллерия переносила огонь дальше, в глубину, к следующему рубежу, отстоящему в нескольких сотнях метров от первого, и как бы вела за движущимся огневым щитом атакующие войска, пробивая пехоте и танкам дорогу к обороне противника.
Обычно спокойный Канашов на этот раз заметно волновался: он то и дело поглядывал на часы, несколько раз поднимался на вышку и спускался вниз. На вышке был устроен его наблюдательный пункт, оттуда он должен был руководить учениями.
Ожидали прибытия командующего и комдива, но они почему-то задерживались.
Весь месяц батальон Горобца готовился к учениям. За последнее время Миронову пришлось не раз встречаться с Канашовым. Саша восхищался всеми новшествами, которые с неутомимой энергией вводил командир полка в методы обучения подразделений и бойцов. Жадно присматриваясь к Канашову, Миронов видел, что подполковник обладал очень уж заразительными качествами командира. Глядя на него, невольно хотелось ему подражать во всем. И не было, пожалуй, в полку людей, которые могли бы устоять перед стремительным натиском канашовских замыслов. Полюбилась Миронову и поговорка Канашова: «Дельному учиться — всегда пригодится».
И Саше было непонятно, почему Жигуленко смотрел на все это скептически. Может быть, во всем этом он видел только дополнительные трудности для себя?
И когда Жигуленко услышал, что, по мнению Канашова, хорошо было бы для полноты современной боевой обстановки иметь на учениях хотя бы одну эскадрилью «У-2», он решил, что у этого подполковника с головой не все в порядке. Ведь батальону и без того придали танки, и дивизион артиллерии его поддерживал.
Жигуленко был просто рад, когда Русачев сказал насмешливо:
— Ну, Михаил Алексеевич, вижу, тебе не хватает еще конницы и парочки линкоров…
Глядя на Канашова, Миронов и сам, незаметно для себя, стал проявлять инициативу.
В одном из номеров газеты «Красная звезда» он прочитал передовую о том, что наши станковые пулеметчики до сих пор применяют громоздкий способ подготовки данных для стрельбы через голову своих войск. Такой способ отнимает очень много времени, и в результате поддержка наступающей пехоты огнем пулеметов становится неэффективной. Эта статья натолкнула Миронова на мысль, что надо добиться сокращения времени на подготовку. После долгих поисков он придумал новый, ускоренный метод расчета для открытия огня. Он рассказал об этом командиру роты. Аржанцев одобрил, но подчеркнул, что надо тщательно все проверить, прежде чем применить новый метод. Он обещал поддержать Миронова и посоветовал ему переговорить с командиром полка.
Но Миронов решил не обращаться к Канашову, пока сам все не проверит. Жигуленко, выслушав товарища, стал отговаривать его от этой, как он назвал, «пустой затеи»:
— Зачем тебе это? Ошибешься — и все, кто сейчас тебя поддерживает, будут в стороне, а ты в бороне. Все шишки на твою голову посыплются.
— Так что же, по-твоему, забросить это дело? — спросил Миронов, глядя в упор на товарища.
— Пойми, Саша, будь ты уверен, что все твои расчеты правильны, ты сам не колебался бы.
— А в чем, по-твоему, я не уверен?
— Ну, хотя бы в отношении той новой шкалы прицела, которую ты предлагаешь. Ведь это же надо проверить — и не раз. А может быть, твои «теоретические выкладки» окажутся построенными на песке?
Так и закончился этот разговор. Он оставил у Миронова горький осадок и огромное желание убедиться самому и убедить других в своей правоте.
Русачев прибыл на генеральную «репетицию» рассерженный, с опозданием на час. По пути он распушил танкистов за то, что они, опаздывая на учение, проехали прямо по полю гороха. Председатель колхоза обрушил на Русачева целый поток справедливых упреков. Задержался Русачев еще и потому, что ждал приезда командующего, но тот прислал генерала — начальника боевой подготовки округа — с несколькими работниками штаба.
Тем временем Канашов, объезжая еще раз батальон, подготовленный для наступления, остановился в роте Аржанцева. Командира полка беспокоила мысль, что минометчики теряют много времени на подготовку данных и будут отставать от пехоты, действующей с танкистами, а пулеметчики еще не имеют достаточно навыков в ведении огня через голову своих войск. Миронова так и подмывало доложить Канашову о своем новом методе подготовки, но он надеялся, что Аржанцев доложит сам. Однако командир роты промолчал, а Миронов не решился: «Скажут еще — выскочка».
Но когда подполковник ушел, Миронов выругал себя: «Трус я и пустой фантазер».
Выезжая на учение, Русачев намеревался сам проверить всю подготовку, но он и без того задержался в пути, а проверка заняла бы еще не меньше двух часов. И он с неохотой разрешил начать генеральную «репетицию» учений.
Канашов дал серию красных ракет со своего наблюдательного пункта, и тотчас, свистя и шипя, как сало на сковородке, полетели над головами снаряды и мины. Через несколько секунд черные фонтаны земли взлетели в воздух, наполняя его тяжелыми взрывами и резкими посвистами осколков. Земля загудела от сильных и гулких ударов.
Саперы под прикрытием артиллерийского огня подползли к проволочному забору «противника» и, лежа на спине, стали резать колючую проволоку. Они проделали несколько проходов, и тотчас в них устремились штурмовые группы. Преодолев проволочные заграждения броском, они ползли по-пластунски, таща за собой вещмешки с землей и взрывчаткой. Танки, действующие со штурмовыми группами — по одному на каждую группу, быстро подошли к амбразурам дзотов и закрыли их, а пехота и саперы начали обходить справа и слева.
У правой и средней штурмовых групп все это получилось хорошо и быстро. А у левой, которая двигалась через небольшой заболоченный ручей, застряло, сопровождавшее их сорокапятимиллиметровое орудие, и танк, подойдя к дзоту, долго стоял в бездействии, пока пехота и саперы не вытащили орудие. Правая и средняя штурмовые группы сравнительно быстро закрыли амбразуры дзотов, а затем заложили толовые шашки, и когда танк развернулся, и отошел метров на пятьдесят, подорвали блокированные дзоты, Левая группа заметно отставала.
Русачев, внимательно наблюдавший за действиями штурмовых групп, остался недоволен. Когда Канашов отозвал левую группу как не выполнившую в срок задание, комдив обратился к нему:
— Напрасно ты эти игрушки затеял…
— Какие?
— Со штурмовыми группами. Ты у нас новатор, а вот здесь, я тебе скажу, оскандалился.
— Это почему же? — удивился Канашов.
— Да потому. Какие тебе к черту доты или дзоты будут в полевой обороне? Когда и кому их там строить? Ведь теперь война будет исключительно маневренная. Кто быстрей прижмет врага танками, конницей и проберется к нему в тыл и фланг, тот и победил. Ты, подполковник, свой опыт в Финляндии тянешь сюда искусственно. Думаю, что на показных занятиях нам надо будет от этого отказаться. Я вот посоветуюсь с генералом и доложу командующему свое мнение.
— Действие штурмовых групп надо оставить, — возразил Канашов. — Я с вами, товарищ полковник, не согласен.
— Да ты что споришь попусту? Что ж, по-твоему, во время войны укрепленные районы будут? Это тебе не первая мировая война. Ну будут, конечно, кое-где, например, на границе. А в полевых условиях окоп, огневая позиция — и все тебе инженерные сооружения. Вот увидишь, начальник боевой подготовки тебя не поддержит, а командующий и подавно отменит твою выдумку со штурмовыми группами. Другое дело, если бы у нас была тема, скажем, «Прорыв укрепленного района». Вот тогда бы все это было к месту.
Канашов промолчал. Столько времени он потратил на подготовку штурмовых групп. А главное — он глубоко убежден, что в полевой обороне в условиях современной войны будут применяться долговременные сооружения типа дзота. Театр театру военных действий рознь, и местность не везде ровное футбольное поле с асфальтированными дорогами. Да и вообще всюду сильными, как учит военное искусство, быть нельзя. На одних направлениях будут наступать, на других — обороняться.
«Как бы начальник боевой подготовки не согласился с Русачевым, — подумал Канашов, — Вместе они и командующего, чего доброго, убедят… Правда, командующий не из слабохарактерных, но бывает, и толкового человека собьют…»
Канашов взглянул на часы. Оставалось пять минут до конца артиллерийской подготовки. Он дал две ракеты: одну зеленую, другую белую — условный сигнал для выхода танков и исходного положения для атаки. Через некоторое время прочертили небо две черные ракеты — они означали начало артиллерийской поддержки методом огневого вала. На рубеже переднего края, где виднелись едва заметные бугорки окопов «противника», сразу поднялась, стена земли и огня, будто вздыбились кони с огненными гривами.
Танки вошли в боевые порядки пехоты и, лязгая гусеницами, подымая серое дымное облако пыли, ринулись в атаку. За ними, как множество зеленых кузнечиков, выскочила из окопов на брустверы пехота и, пригибаясь, пошла вслед за танками.
— Красиво!.. Как в настоящем бою, — не удержался от похвалы Русачев, увидев довольное лицо начальника боевой подготовки округа.
Скупой на разговор генерал одобрительно улыбнулся.
— Учить тому, как будет на войне, требует от нас Нарком обороны.
Канашову хотелось вмешаться в разговор и сказать, что этот принцип уходит корнями в русскую военную историю и что его провозгласил еще Суворов, когда говорил: «Тяжело в ученье — легко в походе, легко в ученье — тяжело в походе». Но он промолчал.
Взводы Миронова на левом фланге и Жигуленко — на правом поддерживали наступление первой стрелковой роты, которая действовала на главном направлении батальона. Управлял огнем роты Аржанцев.
Вначале Миронов управлял огнем пулеметов по-старому. Но как только огневой вал ушел вперед и пехота оторвалась от танков, он увидел, что пулеметчики, находящиеся уже далеко, тоже не могут поддерживать наступающую пехоту. Тогда Миронов, не спрашивая разрешения Аржанцева, решил испытать свой новый, ускоренный способ подготовки данных. Он сменил огневые позиции, сблизился с боевыми порядками пехоты и, подготовив данные, быстро открыл огонь. Все это вышло неожиданно и хорошо.
Аржанцев заметил это. Вот Миронов еще раз сменил позицию и вновь так же быстро открыл огонь. Теперь комроты было хорошо видно, что взвод Жигуленко заметно опаздывал со сменой позиции и открытием огня. Аржанцев забеспокоился. Управлять огнем роты было трудно, когда один взвод отставал, а другой ушел далеко вперед. Он хотел позвонить, чтобы задержать взвод Миронова, пока Жигуленко не сменит позицию, но в трубке послышался голос капитана Горобца:
— Молодцы твои пулеметчики… Добро действуют! Ты только поторопи взвод на правом фланге.
Аржанцев тут же позвонил Жигуленко и приказал выровняться по взводу Миронова. Тот стал жаловаться на плохую работу подносчиков патронов. Но Аржанцев знал, подносчики тут ни при чем, и сказал резко:
— Больше головой надо работать.
Жигуленко с обидой бросил трубку и взглянул вперед. Миронов уже снова сменил позицию, и его пулеметы дружно открыли огонь. Тогда он погрозил кулаком в сторону Миронова. Саша видел, что Евгений не одобряет его действий, но азарт уже захватил его. И он махнул рукой, давая сигнал своим пулеметчикам к новой смене огневых позиций. Почему-то огневой вал дальше не двигался. Остановить бойцов, которые вырвались впереди пехоты на левом фланге и приблизились к месту, где полыхали артиллерийские разрывы, было уже невозможно. Еще мгновение — и Миронов увидел, как пулеметчики — наводчик и помощник, которые бежали, держась за катки пулемета, и подносчик патронов, помогающий им сзади, вдруг разом упали, а станковый пулемет ткнулся кожухом в землю и задрал хобот кверху.
Миронов сразу понял: случилось что-то страшное, непоправимое, И вместе с тем он недоумевал: что могло произойти с пулеметным расчетом, который находился не меньше чем в ста пятидесяти метрах от огневого вала? Ведь там же было безопасно.
Аржанцев, только что восхищавшийся быстрыми и точными действиями пулеметных расчетов Миронова, сразу не понял, что же стряслось. Дежурный сигналист заиграл отбой, и белый флаг взвился над вышкой. И сразу все спешившие вперед люди, танки, орудия остановились, застыли на месте, как останавливается движение в кино, когда выключается аппарат.
В ушах звенело от внезапно наступившей тишины. По полю, где несколько минут назад кипел «бой», бежали бойцы к тому месту, где упали пулеметчики. Туда же торопились командиры, медицинская сестра в белом халате и санитары с носилками, и медленно, обходя окопы, шла грузовая машина.
Не помня себя, бежал к этому месту и Миронов. Он дважды падал, зацепившись за коряги, вскакивал и вновь бежал. Аржанцев несколько опередил его. Запыхавшись, они устремились к толпящимся бойцам. Бойцы расступились, давая дорогу. Капитан Горобец был уже здесь, бледный, глаза злые. Аржанцев увидел, как кладут на носилки маленького щупленького бойца. Миронов узнал в нем Ежа. У Ежа была забинтована левая рука, на голове белая повязка. На вторых носилках — крупная фигура подносчика патронов Ягоденко — у него забинтована левая нога. А наводчик пулемета Полагута, который бежал слева и был ближе всех к разрыву, стоял как ни в чем не бывало. Только лицо и гимнастерка запачканы землей. Полагута быстро нарвал травы и заботливо подложил под голову Ежа.
— Разойдись по своим подразделениям! — закричал срывающимся голосом Горобец. — Лейтенант Миронов, ко мне!
Миронов подошел. Язык точно одеревенел и с трудом повиновался ему.
— Вот до чего ваша бездумность довела. Людей погубили. Под суд пойдете…
Перед глазами лейтенанта расплылись туманные круги. Он с трудом удержался на ногах. Командир батальона долго кричал, сыпал обидными словами. Миронов не шелохнулся. Во рту сухо, горько, и, кажется, проведи он языком по губам — они зашуршат, как бумага.
— Всю генеральную «репетицию» испортили, — услышал он последние слова и потом еще долго смотрел в спины удаляющимся Горобцу и Аржанцеву. Их срочно вызвали к командиру полка.
Русачев в присутствии начальника боевой подготовки округа назвал Канашова неизвестно за что «упрямым быком» и тут же, ни с кем не простившись, уехал вместе с генералом, пригласив Канашова в штаб.
Жигуленко подошел к Миронову, спросил насмешливо:
— Ну как, новатор, отличился? Думал, ты один умница, а остальные лопухи?
Миронов вскипел, подступил к нему вплотную, сжимая кулаки:
— Тоже друг называется!
…В штабе дивизии Русачева ожидала новая неприятная новость. Начальник штаба дивизии сообщил ему, что в отстроенный дом, предназначенный для семей командного состава, но не принятый еще комиссией, «самостийно» переселились жены с детьми.
5
Вечером срочно созвали совещание командного состава батальона. Миронов шел на совещание с тревожным предчувствием. Канашов почему-то так и не прибыл. И это еще больше усилило беспокойство Миронова. Открывший совещание капитан Горобец сказал:
— Армия издавна живет по строгому военному закону: один за всех, и все за одного. Чувство коллективизма придает армии особую сплоченность и силу. Но это еще плохо понимает молодой командир лейтенант Миронов.
Саша, не подымая головы, почувствовал, как на него устремились взгляды командиров всего батальона.
— Народный комиссар обороны требует улучшить качество огневой подготовки…
Горобец развернул тонкую книжку в красном переплете и медленно, раздельно прочитал:
— «Успех в бою возможен только при наличии хорошей огневой выучки (меткого, дисциплинированного огня)». Вот что говорит приказ. А у нас некоторые еще не уяснили этого требования. — И как бы между прочим добавил: — Из полка поступило распоряжение расследовать чрезвычайное происшествие во взводе Миронова. Дело может кончиться судом трибунала.
«Неужели Канашов мог отдать такой приказ? — подумал Миронов. — Значит, весь его новаторский дух — это только стремление поднять свой авторитет в глазах начальства? Правильно говорил мне Евгений: „Случится что с тобой, никто тебя не поддержит, все шишки посыплются на твою голову“». Жигуленко сидел в первом ряду. Бросив взгляд в сторону Миронова, он увидел, как тот низко склонил голову. Евгению стало жаль товарища.
Горобец, закончив свою речь, выжидательно обвел глазами присутствующих и остановился на Жигуленко, как бы спрашивая: «А что вы скажете, товарищ лейтенант?» Аржанцев легонько подтолкнул Евгения в бок: давай, мол, выступай.
Евгений нехотя поднялся.
— Правильно сказал товарищ капитан. Все мы, не жалея сил, старались выполнить приказ Наркома обороны. И теперь вдруг из-за отдельных товарищей…
Его прервал чей-то зычный голос:
— Конкретней! Каких товарищей?
— Я имею в виду лейтенанта Миронова. Он, конечно, старательный… Это даже командир нашей роты отмечал. Но Миронов забыл о чувстве ответственности перед коллективом, и это привело к чрезвычайному происшествию. Он делился со мной интересной мыслью: готовить данные стрельбы в более сокращенные сроки. Но наряду с этим хорошим в Миронове живет, я бы сказал, мелкобуржуазный пережиток собственника — желание отличиться, показать свое превосходство перед другими. А это чувство должно быть чуждо нам, советским командирам. Миронов отнесся к товарищескому совету наплевательски, хотя ему советовали и я и Аржанцев проверить… Мелкое себялюбие взяло верх!
— Регламент! — крикнул кто-то из командиров.
— Мне кажется, — продолжал Жигуленко, — что этот случай должен научить не только лейтенанта Миронова. Надо нам всем повысить требовательность к себе и добросовестней выполнять свои обязанности, не забывая, что честь подразделения, в котором ты служишь, должна быть для нас превыше собственного «я»…
Вслед за Жигуленко попросил слова старший лейтенант Аржанцев. Он сказал:
— Плохо, что Миронов не доверяет нам, как товарищам, это его и подвело.
Командир осуждал Миронова и в заключение сказал, что ошибся в нем, перехвалив его старательность.
Затем на трибуну поднялся командир стрелковой роты старший лейтенант Хренов, не пропускавший случая выступить на любом собрании. С пучком рыжеватых волос на макушке, походивших на петушиный гребень, он, как всегда, выступал излишне резко и непродуманно.
— Нет, не выйдет Цицерона из нашего Хренова, — усмехнулся лейтенант, сидевший рядом с Мироновым.
— Лейтенант Миронов, — говорил Хренов, кривя лицо и размахивая руками, как ветряная мельница крыльями, — это опасный индивид. Ему начхать на всех, в том числе и на нас. Он натворил безобразий — и сидит себе спокойно. Я предлагаю судить его. И, кроме того, он заслуживает, чтобы его изгнать из комсомола!
Закончив так, он направился к своему месту, провожаемый насмешливыми взглядами.
Но вот на трибуну поднялся заместитель командира батальона по политчасти старший политрук Бурунов. Он был взволнован, и, как всегда в таких случаях, его синеватый шрам на правой щеке — отметка гражданской войны — побагровел, а в глубоко запавших серых глазах появился стальной блеск. Но говорил он, как обычно, тихо, спокойно, как бы рассуждая сам с собой:
— Я слышал, товарищи командиры, выступления некоторых товарищей и, как коммунист, не могу молчать и соглашаться с ними. Они договорились до того, что якобы во всех бедах в нашем батальоне виноват лейтенант Миронов… Не слишком ли тяжелое обвинение предъявляем мы молодому лейтенанту?
Горобец заерзал на стуле и косо взглянул на Бурунова.
— Если говорить прямо — это нечестно. Да, лейтенант Миронов совершил большую ошибку… Но где же были все мы? Нельзя забывать, кто такой лейтенант Миронов. Вот уже скоро три месяца, как он находится в нашем батальоне. А кто хоть раз по-настоящему помог ему в его хорошем и ценном для армии начинании? Варится человек в собственном соку. А когда он споткнулся, все видят только его ошибки. Вот мы в основном правильно ругаем его за промах, но опять впадаем в крайность. Некоторые товарищи поставили даже под сомнение: дорожит ли он честью батальона?
Бурунов посмотрел на всех и вновь заговорил просто, душевно:
— Людей больше любить надо, а если уж наказывать, то не сгоряча, а тщательно разобравшись, что к чему. Загубить человека легко, а понять его не так просто. К каждому проступку, товарищи, надо подходить всесторонне, самокритично и, главное, справедливо.
В это время широко распахнулась дверь, и появился запыхавшийся Канашов. Он шел между рядами, кивал головой направо и налево, здороваясь. Горобец слегка растерялся при виде командира полка, подал команду «Встать!» — и хотел было идти докладывать, но Канашов остановил его рукой. Подполковник быстро прошел за стол, где сидело командование батальона, поздоровался со всеми за руку.
Миронов испуганно посмотрел на него и подумал: «Ну, теперь пропал».
Канашов с минуту стоял, глядя сердитым взглядом, как бы припоминая все неурядицы, случившиеся с молодым лейтенантом. Некоторые командиры с тревогой и жалостью смотрели на Миронова.
— Товарищи командиры, — сказал Канашов, — каждого из нас не может не волновать случай, который произошел у нас в полку. Но я скажу вам о еще большей неприятности, заставившей меня призадуматься.
Все с затаенным дыханием поглядели на взволнованное лицо Канашова.
— Принес мне майор Савельев подписывать аттестации на присвоение званий, а у меня не поднялась рука подписать их. «Почему?» — спросите вы. А не подписал я аттестации потому, что нет у этих командиров основного командирского качества — чувства инициативы… Не глядите на меня с недоумением. Савельев тоже попытался возражать мне. Он сказал: «Товарищ подполковник, правда, вот эти командиры по характеру несколько нерасторопны, но ведь они выполняют все приказы». — «Да, выполняют, — ответил я. — И подчас точно выполняют. Но ведь это их служебный долг». Командир без огонька, без инициативы не имеет права считать себя командиром в ответственном значении этого слова. А военное искусство, как и каждое, требует талантливых исполнителей. Талант — это труд. Вот я и решил дать этим командирам время показать, на что они способны. А осенью подведем итоги.
И, помолчав немного, Канашов спокойно добавил:
— Теперь о Миронове… Всякие следствия по этому делу — прекратить. За проявленную им на занятиях инициативу объявляю ему благодарность.
Все ошеломленно переглянулись. И тогда, когда Миронов срывающимся от волнения голосом поднялся и сказал: «Служу Советскому Союзу!», шум возбужденных голосов ударил прибоем. Жигуленко первым подбежал к Миронову, протиснулся через толпившихся вокруг командиров, схватил руку товарища:
— А все-таки молодец ты, Сашка! Отличился… Теперь о тебе будет говорить весь полк.
Два молодых лейтенанта, видно недавно прибывшие из военного училища, удивленно переглянулись и заулыбались. Один из них сказал:
— А нас-то начальник штаба пугал. И я представлял себе Канашова этаким солдафоном…
— Нет. Видно, он добряк, а главное — справедлив… Сидевший с ними рядом командир роты Верть слышал этот разговор и беспокойно ерзал на стуле. Сердце его не выдержало.
— Он добрый, добрый… Послужите — увидите его доброту. Попробуйте нарушить дисциплину… В батальоне Белоненко командир взвода на две минуты на стрелковый тренаж опоздал, так он ему сразу выговор влепил. У меня командир взвода наскочил на него без пуговицы. Он спокойно его предупредил: надо, мол, смотреть, лейтенант, за своим внешним видом. А лейтенант и забыл пришить. Встречает его Канашов там же, заметьте, на другой день. И раз — трое суток ареста за пуговицу. Вот оно как!..
6
Нет, Саша Миронов не был военным по призванию. В детстве он, тихий, болезненный мальчик, не увлекался военными играми, не мечтал о героических подвигах, хотя любил читать книги о смелых и сильных людях. В семье ему постоянно внушали мысль о его физической слабости и не старались привить стремление победить ее, закалить себя. Даже в пионерские лагеря он никогда не ездил. В школе Саша сторонился бойких товарищей, был замкнут. А в семье рос каким-то незаметным ребенком, был тише воды, ниже травы. Заберется, бывало, с книгой в какой-нибудь укромный уголок и сидит там полдня, пока не позовут.
Отец заметил, что Александр жаден до книг.
— Читай, сынок, читай… Книги для человека — что солнце и вода для растения, — говорил ему он.
Саша учился средне. Зато рано появилась у него склонность к рисованию. И в это же время он начал писать стихи. Старший брат, Николай, нередко смеялся над ним:
— Ну, ты, Пушкин, пойдешь сегодня в кино?
Но когда Саша принес домой пионерскую газету со своими напечатанными стихами и получил первый гонорар — сорок два рубля, отношение к нему резко изменилось. Даже девушки-одноклассницы, которые подсмеивались раньше над его нелюдимостью, стали как-то многозначительно улыбаться при встрече. А он смущался, старался пройти мимо. Очень гордая девушка Инна, отличница их класса, на экзамене выручила его по алгебре, рискуя своей школьной репутацией. Тогда же разнесся по классу слух, что она влюблена в Сашку «по уши».
На выпускном вечере десятиклассников, разгоряченная танцами, едва переводя дыхание, она вытащила растерявшегося Миронова на улицу. «Мне нужно тебе сказать, Саша, очень важное…» У него в кармане лежала страничка со стихами, посвященными Инне; он, волнуясь, нащупывал ее рукой, но не решался отдать! «А вдруг Инна высмеет мое увлечение поэзией? Она остра на язык… Нет, лучше как-нибудь в другой раз».
В этот раз Саша провожал Инну домой. Они долго шли. Саше хотелось многое сказать девушке, но он не отыскал подходящих слов. С каким-то незнакомым до этого чувством слушал он торопливую скороговорку Инны, часто прерывавшуюся веселым смехом. Ей, видно, тоже было хорошо с ним. Шагая рядом с ней, он чувствовал себя счастливым впервые в жизни. Они долго стояли около ее калитки. Казалось, Инна чего-то ждала. И тогда, наконец, Саша решился: он протянул ей страничку со своими стихами. Она, как ему показалось, приняла их с некоторым недоумением. И вдруг неожиданно поцеловала его в щеку, звонко рассмеялась и, хлопнув перед растерявшимся Сашей калиткой, исчезла среди деревьев.
Может, это и была первая любовь. Но он не испытывал никаких мук любви, о которых пишут в романах, когда, приехав через год студентом института журналистики, узнал, что Инна вышла замуж и куда-то уехала.
А зимой того же года в жизни Саши произошел крутой поворот: его старший брат, в то время уже лейтенант, командир стрелкового взвода, был убит в Финляндии. Получив от матери письмо, закапанное слезами, — некоторые слова так расплылись, что их не удалось прочесть, Саша бросил учебу и пошел добровольцем на финскую войну. Вместе с письмом матери пришла записка от младшего брата Евгения. Он с раннего детства был настроен воинственно и спал и видел себя полководцем. В тот год он учился в седьмом классе. Рвался добровольцем, но «военкоматчики» были непреклонны. Тогда он вместе с товарищами решил пробраться на фронт самостоятельно. Купили военное обмундирование и ехали на товарных поездах до Ленинграда, где их задержали и вернули домой.
Евгений писал: «Я ехал с твердым намерением отомстить за Николая, но мне не доверяют еще оружия, а напрасно. Я бы доказал, что могу воевать не хуже взрослых».
Но воевать и Саше не пришлось. Пока прошел подготовку, война окончилась. Он хотел было опять вернуться в институт, но с середины года этого сделать было нельзя. Год пропадал. Командование предложило ему поехать учиться в училище. Саша вначале колебался, потом согласился. Окончив военное училище, он не верил, что может быть полноценным командиром, считал: это не в его характере.
А сегодня, получив благодарность Канашова, почувствовал, что его признали командиром, приняли в дружную армейскую семью.
Глава десятая
1
Канашов курил папиросу за папиросой, и в штабе стоял сизый полумрак.
Заместитель командира полка по политчасти Шаронов шагнул в дверь и, не различая, кто сидит за столом, крикнул грубоватым баском с порога:
— Товарищи, да ведь это безобразие! Дымовая завеса… (Шаронов был единственным некурящим командиром в полку.) Разве можно в таких условиях работать?
— Это я, Федор Федорович, надымил.
Шаронов узнал голос командира полка.
Гремя стулом, Канашов поднялся и распахнул окно. Дым столбом, как в трубу, потянуло наружу; голос Шаронова стал снисходительным, с шутливыми нотками:
— А я уж испугался! Не пожар ли, думаю? Дыму, хоть топор вешай…
— Хорошо, что зашел, присаживайся.
Шаронов положил кожаную папку, с которой почти никогда не расставался. На столе Канашова замполит увидел стопку военных журналов, а рядом подшивку «Красной звезды». «Сейчас опять что-нибудь придумает наш „новатор“», — подумал он.
— Это ты отдал распоряжение начать расследование по делу Миронова?
— Я. А что? — спросил Шаронов.
— Зря. Надо было, Федор Федорович, хотя бы мне доложить…
Вон оно что, самолюбие задето…
Шаронов был уверен, что поступил правильно. И в таких случаях он был непримиримым.
— Вчера из политотдела дивизии позвонили…
— Ну и пусть звонят! — раздраженно перебил Канашов. — Пока я командую полком. Нам надо самим разобраться, прежде чем поднимать шум.
— Михаил Алексеевич, я тебя не понимаю. Ведь ты же знаешь, что я сам присутствовал и после лично беседовал с Горобцом. Вчера у них в батальоне прошло совещание командного состава. Некоторые требовали отдать Миронова под суд и исключить из комсомола. Таково мнение большинства. Это было ответственное совещание… Миронов халатно отнесся к такому важному вопросу, зазнался. Говорят, что он хотел ввести какие-то новые методы подготовки данных. Разве допустимо так глупо рисковать людьми?
— Постой, Федор Федорович! Ты же не участвовал в «репетиции» учений…
— Как это не участвовал? — возмутился Шаронов, привстав в изумлении.
— Ты же сам сказал, что присутствовал. А присутствуют только наблюдатели. Ты на Горобца не ссылайся. Он напуган, вот и перестраховывается. Не верю я твоему большинству, которое само ни черта не разобралось в этом.
— Я чувствую давно, что ты не доверяешь мне, но как можно не верить командирам-коммунистам?
— А как можно верить тем, кто, не поняв сути дела, прикидывается демагогическими лозунгами заботы о судьбе батальона и полка? Да, я не соглашаюсь с теми, кто хочет отбить инициативу не только у Миронова, но и у остальных командиров.
— Ну, знаешь, Михаил Алексеевич, это уже слишком… Я старший командир и…
— Вот я и говорю с тобой как со старшим командиром и своим заместителем по политчасти. Всякие расследования по случаю во взводе Миронова прекратить. Надо больше вникать политработникам в суть боевой подготовки, чтобы повышать ее качество…
— Не моя забота военным обучением бойцов заниматься.
— Вот ты мне скажи, слыхал ли ты, что в батальоне Белоненко сержант Толокин уже второй год работает над усовершенствованием прицельного станка? Или, к примеру, что тот же самый Миронов придумал новый способ подготовки данных для ведения огня в ночных условиях?
— Что-то слышал… Но ведь это дело командиров — подхватывать новинки, внедрять их и прочее.
— Не только командиры, но и партийная организация должна оказывать им помощь, товарищ Шаронов. У нас еще нет подчас взаимопонимания между командиром-единоначальником и его заместителем по политчасти. То же происходит и в подразделениях… Горобец не понимает Бурунова. А, по-моему, он сильный политработник. Ведь он-то с делом Миронова разобрался… Случай произошел из-за плохой подготовки расчета минометной батареи полка. Они вели огонь минами, не свинчивая колпачков. И мины рвались на поверхности земли, не делая воронок. С Русачевым спорили чуть ли не до драки. Он запрещал знакомить с минами минометчиков, пока бумажку не получим. Все у него секретно… Вот и досекретничались.
Шаронов недолюбливал Бурунова за самостоятельность в работе и считал его зазнайкой.
— Есть у нас, если хочешь знать, промахи и в твоей работе… О них уже говорят в печати, — добавил Канашов и, достав из планшета свежий номер окружной газеты, молча протянул Шаронову.
Тот удивленно пробежал глазами начало заметки, подчеркнутой красным карандашом.
«В полку, где заместителем командира полка по политчасти тов. Шаронов, инспекторская поверка показала, что бойцы неплохо разбираются в политических вопросах, в том числе и в вопросах хранения государственной и военной тайны…»
Шаронов прервал чтение и поискал подпись. Автором ее был один из его старых знакомых. Когда-то они вместе служили в одном полку заместителями командиров батальона, по политчасти. В прошлом году этот автор окончил курсы военных журналистов и работал теперь корреспондентом окружной газеты. В этом году он вместе с представителями Политуправления округа приезжал на инспекторскую поверку политических занятий. «Ну, Аркаша Крилецкий всегда меня поддержит», — улыбнулся Шаронов. Но тут же улыбка сбежала с лица, как только он прочитал второй абзац.
«Однако бдительность в полку слаба. Есть случаи разглашения военной тайны. В полк свободно, без пропусков, проходят посторонние люди. Расхождение между словами и делом — очень серьезный порок. Политучеба не самоцель, а средство укрепления боевой мощи части. Пустая болтовня здесь крайне нетерпима…»
Шаронов гневно бросил газету на стол. Его пухлое краснощекое лицо побледнело, в обычно спокойных глазах появился блеск негодования.
— Откуда у него такие сведения? Инспекция дала высокую оценку политподготовке части. У меня есть документы. Так я этого не оставлю!
— Погоди, погоди, Федор Федорович, не кипятись. Ты же нас, коммунистов, учишь сознательно относиться к критике, а сам, оказывается, ее не терпишь.
— Да какая же это критика? Это ложь! — нетерпеливо перебил Шаронов.
— Но ведь был же случай, когда наш красноармеец отправил домой письмо и указал, чем он занимается, где стоит наша часть и куда мы выходим в лагеря. Разве это не разглашение военной тайны?
— Был, но ведь это был единственный случай. Мы проверили и выяснили, что написал он по незнанию.
— Конечно, по незнанию, но факт остается фактом.
— Да, но откуда у Крилецкого сведения, что у нас через проходную ходят, как через постоялый двор? А впрочем… — вспомнил вдруг Шаронов. По приезде инспекторов он дал указание пропускать их через КПП[7] без пропуска, чтобы избавить от бюрократической волокиты… «Вот он и отблагодарил меня. Журналистская братия для красного словца не пожалеет ни матери, ни отца».
— И все-таки, Федор Федорович, этот корреспондент прав. Вовремя он ударил нас, хотя и больно. Плохо мы еще выполняем приказ наркома. Клуб у нас захирел. Он только и знаменит танцами. Бойцам и командирам нечем там больше заняться. Ты вспомни, когда у нас в полку был доклад о международном положении? Вчера я присутствовал на занятиях у лейтенанта Миронова, так они меня забросали вопросами: «Сможет ли Англия устоять против Гитлера? Почему Германия прибирает Балканы к рукам?»
— Значит, плохо проводит политзанятия Миронов.
— Плохо, — согласился Канашов. — Но откуда он может все это знать?
— Пусть регулярно читает газеты, слушает радио…
— Для командира этого мало… И вообще нам надо собрать в ближайшее время партбюро и обсудить положение дел в полку. Дальше так работать нельзя…
«Так вот он каков, этот Канашов, — возмущался в душе Шаронов. — Вместе ведь славу полку добывали, ночей не спали, ни с чем не считались в личном. Но вот посыпались в полку неприятности, и он пытается свалить все беды на чужую голову. Придирается… Ничего, поглядим, кто из нас прав, кого поддержат на бюро коммунисты».
Обиженный резким тоном Канашова, он вдруг вспомнил о всех известных ему пороках командира полка. И эта мысль как-то ободрила его. «Может, и действительно, прав начальник штаба дивизии. Многие неполадки у нас происходят из-за семейных неурядиц Канашова. Говорят, он еще намерен развестись с женой. От многих слышал я, что нередко бывает он грубым с подчиненными, к политработникам он придирается: будто бы они командиры… Не понимает, что их роль вести партийно-политическую работу, а не военному делу учить. Да и на партактиве дивизии говорили, что переоценивает он себя, за славой гоняется».
Раздался телефонный звонок. Канашов взял трубку, говорил комдив.
— Есть, товарищ полковник, — сказал Канашов. — Выезжаю немедленно.
2
Дождь только что кончился. В клочковатых тучах уже кое-где проглядывали голубые просветы неба. В открытую форточку доносился шлепающий звон больших прозрачных капель, медленно, одна за другой, стекавших по желобу.
На столе Русачева лежали личное дело Канашова и несколько рапортов о чрезвычайных происшествиях в его полку за последние полгода.
Русачев задумчиво теребил подстриженные усы, еще темные, но уже посеребренные сединой. Прошлый, год на осенних смотровых учениях и инспекторской поверке дивизия могла завоевать переходящее Красное знамя, если бы полк Муцынова не подкачал со стрельбой. Тогда половина отличных оценок по всем видам боевой подготовки в дивизии приходилась на полк Канашова. «А получи дивизия переходящее Красное знамя, мне непременно дали бы генерала…»
Русачева не менее сильно беспокоил и другой вопрос: сможет ли он сдержать слово, данное командующему о том, что его дивизия на осенних смотровых учениях 1941 года завоюет переходящее Красное знамя. Не было ли это хвастовством? Набрать десять недостающих процентов отличных оценок по всем видам боевой подготовки — уж не такая трудная задача. А вот теперь он с каждым днем все больше убеждается, что надежда эта несбыточна. И с дисциплиной и с боевой подготовкой дело обстоит куда хуже, чем в прошлом году. Вчера у Канашова в полку опять чрезвычайное происшествие: два бойца ранены на тактических учениях. Русачев долго колебался, какое же ему принять решение…
Он встал и, заложив руки в карманы, прошелся по кабинету, потом сел за стол и начал писать рапорт командующему с просьбой ходатайствовать перед Наркомом обороны о снятии Канашова с полка. Мысли Русачева прервал звонок начальника штаба. Вскоре он сам вошел в кабинет комдива.
— Прочти, Зарницкий… — Русачев протянул ему рапорт и, закурив, стал молча наблюдать за выражением лица подполковника.
Тот, беззвучно шевеля губами, то и дело кивал головой.
— Тут надо бы, по-моему, выделить одну мысль, — сказал, дочитав, Зарницкий. — Что эти неполадки объясняются в основном тем, что Канашов, бесспорно, зазнался. Для него не существует авторитетов. Вспомните, не было почти на одного вашего приказа, чтобы его не высмеивал или не осудил Канашов. По его мнению, все ничего не смыслят, ничего не понимают…
В кабинет, резко хлопнув дверью, вошел подполковник Канашов и доложил о своем прибытии. Зарницкий, окинув его пристальным взглядом, попросил разрешения идти и, забрав какие-то бумаги, вышел.
Русачев выжидающе помедлил и, наконец, прищурившись, сказал:
— Зазнались вы, товарищ Канашов, вот что я вам скажу. «Мой полк — первый, сам я — первый, мне все нипочем…» — Комдив вышел из-за стола и заходил по ковровой дорожке, скрипя хромовыми аккуратными сапожками и рассыпая серебряный звон шпорами. Заложив руки в карманы широких, с напуском, галифе, он несколько раз прошел перед Канашовым и остановился у карты Советского Союза. Пристально поглядел на нее, словно что-то отыскивая, и, повернувшись к Канашову, громко проговорил: — Был первым… А был — это прошедшее время, товарищ подполковник. — Он измерил его насмешливо прищуренным взглядом и продолжал: — Мирное время, подумать только, а мы потери несем в людях. Что же будет на войне? Два человека в медсанбате… Да нас с тобой за это в три шеи гнать надо. Не умеешь командовать, уступи место тому, кто умеет… Людьми вы не дорожите.
— Откуда это видно?
— Из вашей практики командования полком. Вспомните: в зимних лагерях из-за вашего метода закалки в полку заболело более двадцати человек, из них пятеро — воспалением легких. Во время марш-броска в буран восемь бойцов обморозились. Осенью прошлого года вы, вопреки приказу наркома, совершили марш не в тридцать километров, а в сорок, и один боец умер, а пятнадцать легли в госпиталь из-за перенапряжения. Это же факты. Куда вы от них денетесь?
— Смотря как обобщать эти факты, — возразил Канашов.
— Как ни рассматривай, а они бьют тебя.
— Товарищ полковник, вы же знаете, что эта закалка принесла пользу полку. За два месяца в зимнем лагере не было ни одного случая обмораживания. И не я виноват в смерти бойца, а врачи, они не знали, что у него порок сердца. А если хотите, то приказ наркома требует готовить бойцов к действиям в любых, самых суровых условиях… Я так понимаю.
— Но он не требует, чтобы разные там Канашовы, занимаясь подобными экспериментами, губили и теряли понапрасну бойцов в условиях мирной учебы. Какая бы ни была война, как бы ни изменилась техника, а все решает человек.
— Человека надо готовить к преодолению всех трудностей походно-боевой жизни… А эти трудности будут иными, чем были в гражданскую войну или в боях у реки Халхин-Гол и даже в сражениях в Финляндии. Современная война не только война моторов и техники, но и мускулов и нервов…
Русачева больно задело упоминание Канашова о гражданской войне, к боевому опыту которой командир полка, по его мнению, относился пренебрежительно.
— Гражданская война тоже немалой крови нам стоила, но, прямо скажу тебе, терял я в атаке меньше людей, Чем ты со своими экспериментами за один год учебы в мирных условиях.
Раздался звонок. Русачев взял трубку. Начальник штаба сообщил: Канашова срочно вызывают в округ.
— Давай неси быстрей, — приказал комдив.
«Что бы это значило? Зачем вызывают?» — забеспокоился Русачев.
Зарницкий вошел мелкими бесшумными шагами, будто был не в сапогах, а в войлочных, домашних, тапочках, и молча положил приказ округа.
— Можешь идти, — разрешил комдив.
Русачев сел за письменный стол и, словно не обращая никакого внимания на Канашова, стал читать.
Канашов удивленно глядел на Русачева и думал:
«Никак не пойму его! Боевой командир, любит армию. И вместе с тем все ставит под сомнение, противится всему новому. Неужели он не понимает, что эти новшества вводят не Канашовы или Ивановы, а сама жизнь. Конечно, эти новшества — хлопотное дело».
Русачев оторвался от бумаги, рассерженно глядя на спокойное, сосредоточенное лицо Канашова.
— И последний случай, товарищ подполковник, на тактических учениях… Опять кровь в мирное время… — Комдив вертел в руках листки бумаги. — Зарницкий доложил мне результаты проведенного расследования. А в этом безобразном, самочинном захвате квартир тоже ваш полк отличился. Снова чрезвычайное происшествие. Меня интересует, знаете ли вы, наконец, к чему это приведет?…
— Пусть лучше в мирное время учатся с малой кровью, чем платятся большой кровью в войну. Прошлый год, когда в первый раз обучали пехоту идти за огневым валом, вы же помните, как они робко шли. А теперь вы сами видели, они уже уверенно атаковали, прижимаясь к огневому валу.
Канашов прервал речь. Глаза его горели, будто атаковал сейчас сам.
— Ну, а Зарницкий большой мастер составлять бумаги. Это я знаю.
— Как это составлять? Вы что, не верите?…
Русачев поднял трубку:
— Зарницкий, зайди-ка ко мне.
Вскоре в кабинет вошел Зарницкий.
— Вот тут Канашов берет под сомнение твое расследование… Изложи факты, пусть убедится.
— Товарищ полковник, да тут и без всяких докладов ясно. Минометный расчет не был подготовлен для такого ответственного занятия. Кроме того, в действиях отдельных командиров проявилась анархия. Шаронов рассказал мне, что лейтенанту Миронову стихийно пришла в голову мысль испробовать новый, ускоренный способ подготовки данных для стрельбы. Этот способ не проверялся никем. Надеюсь, и сам Канашов не будет отрицать этого…
— Разрешите доложить! — нетерпеливо перебил Канашов.
— Подождите, товарищ подполковник. Вам ясно, что изложил здесь начальник штаба?
— Ясно, товарищ полковник, но непонятно…
— Что же?
— Какой же он начальник штаба?
— Что? Молчать! Я запрещаю вам обсуждать действия Зарницкого. Вы забываетесь, подполковник. Кто из нас здесь старший? Пока что я командую дивизией…
— Чернильная душа вы, Зарницкий, а не начальник штаба!.. За весь год ни разу не были в полку… И о боевой подготовке частей судите только по бумагам да телефонным звонкам.
— Молчать! Прекратите немедленно…
Покрасневший, взбешенный Русачев выскочил из-за стола и почти вплотную подошел к Канашову. Зарницкий, до этого насмешливо улыбавшийся, испуганно взглянул на комдива.
Но лицо Канашова было спокойным. Он только расправил широкие плечи и подался вперед всем своим крепко сбитым туловищем.
Русачев резко отступил назад, губы его подрагивали.
— Вы, подполковник, не дорожите честью полка, которым вам доверили командовать, вы не выполняете мои приказы, вы оскорбляете моего начальника штаба… Я объявляю вам о неполном служебном соответствии. И буду ходатайствовать перед Наркомом обороны об отстранении вас от занимаемой должности. Да и с семейными вашими делами надо разобраться как следует. Не к лицу так вести себя коммунисту в быту… Идите. Вы свободны.
3
После прошедшего вчера партийного бюро полка Шаронов ходил весь день подавленный и расстроенный. «Везешь на себе, как вол, всю партийную работу и тебя же ругают. И Канашов еще напирает… Не ладятся у него семейные дела, вот и ищет во всех неполадках полка козла отпущения».
Несколько раз он намеревался зайти к командиру полка для разговора и каждый раз отговаривал себя. Но затем подавил чувство обиды и зашел.
— Здравствуй, Михаил Алексеевич. Хочу с тобой посоветоваться…
— Присаживайся, — сказал ему Канашов.
— Вот вчера на бюро ты упрекал меня — Чепрака копирую, единоличник в партийной работе…
— Конечно, единоличник.
— А на кого, разреши спросить тебя, мне сейчас в бюро нашем опираться? Парторг без году неделя как прибыл, большинство членов бюро в командировках, на заданиях и учениях… Один я, как перст.
— Помнишь, на отчетно-выборном собрании за что коммунисты критиковали прежнего парторга?
— Собрание без критики — что борщ без соли, — усмехнулся замполит. — Мало указать, что плохо, а вот как сделать, чтобы хорошо было…
— Вот тебе соль: больше людям доверять надо, не нарушать принципа коллективности в работе бюро. А ты единоначальствовать в партийных делах начал. Сейчас для тебя главное — надо Ларионову помочь быстрее в дела наши полковые вникнуть.
— Да, это-то так… Но и Ларионов какой-то, я тебе скажу, странный… Журналист… Вот его и тянет на острую тему. Ему бы с партийным хозяйством начать знакомиться, а он в дело с Мироновым встрял. Весь день потерял в батальоне, когда и без него разобрались. Чудак. Думает, все так просто… Поехал, поговорил и сразу скоропалительный вывод: Аржанцева обвинил, как коммуниста, ротную комсомольскую организацию тоже и Миронова заодно. А сегодня на практические занятия собрался к Горобцу. Пришлось подсказать, чтобы занялся своими партийными делами.
— Зря, Федор Федорович, зря удержал ты его.
— Это почему же?
— Да потому. Даже хорошо, что так. Пусть с коммунистами знакомится не по карточкам учета, а по их службе. Там виднее, кто из себя что представляет. Скорее узнает людей, ясней поймет полковые наши болезни.
Канашов закурил и задумался.
— Скажи ему, пусть семью привозит, — посоветовал он.
— А с квартирой как же?
— Две комнаты у Русачева только что добился…
Шаронов решил, что сейчас наступил самый подходящий момент поговорить о семейных делах и самого Канашова.
— Я давно хочу спросить, Михаил Алексеевич, что у тебя с семьей?
Канашов поднял голову и, глядя в упор на Шаронова, поморщился. Вопрос этот застал его врасплох, тем более что он сам еще не решил, как разрубить ему этот сложный семейный узел, а потому ответил неопределенно:
— А все так же, Федор Федорович…
Тогда Шаронов, не любивший говорить с людьми обиняками, спросил прямо:
— Скажи, это правда, что ты собираешься разводиться?
Канашов рассердился.
— К чему эти допросы? Что у тебя, нет материала для очередного политдонесения? Тогда пиши. Правда… собираюсь.
Вскочив со стула, он швырнул папку с бумагами на стол, лицо его побагровело.
— Ты, милок, сначала в своих делах разберись! Одно ЧП за другим валится на нашу голову. А ты в мои дела вмешиваешься. Здесь-то я как-нибудь сам разберусь.
И потом, вдруг вспомнив о чем-то, стал быстро рыться в бумагах.
— На! — он подал Шаронову предписание, где говорилось, что он направляется учиться на курсы усовершенствования политработников.
— Я рад, что ты едешь учиться, — мягко сказал Канашов, и глаза его засветились добрым светом, — я верю, из тебя выйдет хороший политработник, Федор Федорович… Ты трудолюбив, честен, хотя и бываешь излишне обидчив. А теперь давай поговорим по душам о моих семейных делах…
Глава одиннадцатая
1
Русачев сидел мрачный в своем кабинете и барабанил по столу пальцами. Невольно всплывал неприятный разговор с Канашовым. В голове теснились противоречивые мысли после прочтения показаний и докладных командиров и политработников, привлеченных по семейному делу Канашова. Большинство фактов были сомнительными, а то и просто голословными. Бесспорно, что за Канашовым водились грехи в отношениях между ним и женой. Но все же это были мелкие семейные пустячки.
Командир дивизии еще раз перечитал терпеливо все докладные и велел вызвать к нему на беседу Валерию Кузьминичну.
Вскоре она явилась, разодетая, накрашенная, с кокетливой улыбкой и протянула ему руку в перчатке.
Русачеву стало известно, что Канашов, оставив квартиру, ушел с дочерью от нее окончательно и на другой же день после этого Валерия Кузьминична справляла новоселье в кругу близких ей знакомых. Но он еще сомневался. Неужели эта женщина, обивавшая пороги командования и политотдела, молящая вернуть ей мужа, так просто приняла уход от нее дорогого ей человека? Неужели все это не более как красивая игра ради каких-то своих личных целей?
Валерия Кузьминична враз уловила на лице полковника все эти вопросы и тут же полезла в карман за носовым платком. Лицо ее из ясного, открытого тут же потускнело, и по нему пробежали мрачные тени.
— Вы думаете, товарищ полковник, мне легко пережить этот неизбежный разрыв? Вы ошибаетесь… Мне большим усилием воли приходится быть спокойной, а на душе кошки скребут. Мне еще до сих пор не верится, как я могла жить с таким ужасным человеком. Вы смотрите на мое платье и думаете: «Все же шикарно одевал тебя муж». И тут вы ошибаетесь… Все это нажито без него и до него. Он мне не купил ни одного платья.
— Ни одного? — усомнился Русачев.
— Больше того: уходя от меня, они с дочерью прихватили и моих несколько отрезов. Пусть берут, я проживу без них. И у меня еще будут. Голодранцы несчастные!
— Меня интересует один вопрос.
— Пожалуйста, я слушаю вас.
— Зачем вы выходили замуж?…
Валерия Кузьминична кокетливо улыбнулась.
— По-вашему выходит, я не имела на это право? А что остается делать женщине, если ее соблазнили? Конечно, я могла бы иметь от него детей и получать алименты. Но я заблуждалась… Мне казалось, что Канашов должен быть счастлив со мной. Ведь ради него я принесла в жертву все… А я бы, поверьте мне, могла иметь более видного мужа. Подумаешь, шишка — командир полка. Да за меня министры сватались. Один видный поэт проходу не давал. Он и сейчас еще нет-нет да и напишет мне. У него сборник стихов вышел недавно. Что ни стих: «Посвящаю В. К.». Это мне.
Чем дальше слушал ее Русачев, тем он все более ощущал, как ворот гимнастерки будто сдавливал ему горло. Лицо его краснело, а голос становился глухим, сиплым.
— Скажите, а вам приходилось когда-либо спать под открытым небом в походах, под одной шинелью, мерзнуть, голодать вместе с мужем.
Валерия Кузьминична игриво вскинула брови.
— Это вы к чему, собственно говоря? Боевая романтика — не моя стихия. Я человек искусства… И, кстати, когда он воевал где-то в Финляндии, мы, к счастью, не были знакомы…
— А вот я со своей женой всю гражданскую войну исколесил по полям, и на коне, и на тачанке. — И тут же, увидев, что его собеседница обидчиво поджала губы, оборвал начатый рассказ и тяжело вздохнул. Помолчав, продолжал более резко:
— Не любили вы человека, с которым жили, вот что я скажу вам. Просто так, временно исполняли обязанности жены, как бы не на утвержденной должности состояли при этом.
Валерия Кузьминична сняла перчатки, игриво похлопала ими по круглой коленке.
— Какая там любовь!.. Что же вы хотели, чтобы я любила этого алкоголика?
— Алкоголика?
— Вы сомневаетесь или просто меня разыгрываете? Да если хотите знать — мне теперь нечего скрывать, — он пил каждый день утром и вечером по стакану водки и, не закусывая, уходил на службу учинять разгон своим подчиненным.
— И это в служебные дни! — привстал и насмешливо покачал головой Русачев. — Ну, а что же тогда он делал в праздники?
— В праздники он напивался, как сапожник, в стельку… Канашов один способен выпить четверть водки. И тогда, боже мой, он невменяем… Сквернословит, все бьет, говорит, что во всей, дивизии нет ни одного умного командира, что все бездарные и подхалимы. Да он несколько раз направлял на меня револьвер и грозил застрелить…
Русачев в начале разговора с Валерией Кузьминичной склонен был поверить ей, но постепенно, слушая о новых и новых семейных «преступлениях» Канашова, весь сжимался в пружину. Иногда ему хотелось остановить эту женщину, ошалевшую от ненависти к мужу, опровергнуть ее, он понимал, что она ему говорит ложь и что она сама не верит во все это. Что пришла она на беседу с ним не из чувства искреннего желания вернуть потерянного дорогого для нее человека, а привела ее сюда злоба на него, чувство лютой не знающей удержу мести. И чем больше нагромождала она одну клевету на другую, тем яснее было для Русачева, что за человек сидит перед ним. И когда она, наконец, дошла до подлости, Русачев не вытерпел. Он поднялся с кресла и, побагровев, крикнул:
— Вон отсюда! Чтобы и духу вашего здесь не было!
Она испуганно взглянула на него, шарахнулась в сторону.
Но у самых дверей, обернувшись, зло взглянула на него колючим, уничтожающим взглядом.
— А, так вы покрываете все его темные дела? Хорошо, я найду на всех вас управу! И на вас и на ваш политотдел, который бездействует.
— Вон отсюда! — снова рявкнул Русачев, уже теряя всякую волю над собой, и ударил кулаком по столу так, что чернильница, подпрыгнув, упала на пол, разбрызгивая фиолетовые капли на навощенном до блеска паркетном полу.
2
Придя домой после беседы с женой Канашова, взволнованный Русачев долго не мог найти себе места.
Марина Саввишна сразу отправилась в погребок, достала маринованных грибков, сделала салат и, налив стаканчик вишневой наливки, подошла к нему.
— Покушай, голубчик, — предложила она ласково, обнимая мужа и гладя его черные, подернутые нитями седины волосы.
Но Василий Александрович, даже не взглянув на нее, резко поднялся и заперся в своей комнате. В нем еще были слишком свежи воспоминания о стихийном переселении в новый дом, и он считал жену главной виновницей и заводилой.
Долго он сидел, закрыв глаза. Потом достал два пожелтевших от времени номера журнала, где была напечатана его статья о коннице, в наступлении. И, наконец, вытащил из ящика стола отпечатанную на машинке статью. Ее вернула эта же редакция накануне Нового года. В ней он излагал свои мысли о коннице как одном из основных подвижных средств в современной операции. Редакция со многими положениями, выдвинутыми им, не согласилась, отрицая ведущую роль конницы в будущей войне, требовала от него кое-что обосновать, а отдельные места переделать. Он обиделся и не стал ничего переделывать. С каждым днем он все больше и больше относился с недоверием и даже боязнью ко всему, что могло поколебать его авторитет, заслуженно добытый умелым и смелым командованием в годы гражданской войны.
А вскоре прибыл к нему в дивизию служить «баламут» Канашов. Русачев скрепя сердце терпел его начинания, он боялся, что этот «новатор» подведет его. И в то же время понимал: зажимать новое, что вводил Канашов в боевую подготовку и обучение войск, нельзя. Не раз он пытался разобраться, кто же такой Канашов: карьерист, ищущий только служебных успехов, или действительно деловой командир с творческими наклонностями? Он не мог отказать Канашову в его неиссякаемой энергии, умении видеть важное, но в то же время он считал себя обязанным сдерживать его «необузданные желания и порывы».
Первое время он был убежден, что Канашову с ним тягаться трудно. Ведь у него, Русачева, за плечами многолетняя армейская служба, боевой опыт гражданской войны и у командования он на хорошем счету, его ценили, ему доверяли, считали одним из опытнейших командиров. А что перед ним Канашов? Командир хотя и не из молодых, но все же у него нет всех тех качеств, которыми обладал он.
Время шло, и Русачев начинал понимать, что весь его авторитет и особенно его опыт гражданской войны теряют свое былое значение, а сам он, не желая учиться, отстает от жизни. Впервые остро он почувствовал это с приходом в дивизию Канашова.
Прошлой осенью после тактических учений начальник боевой подготовки округа вызвал к себе Канашова и советовался с ним о причинах недостатков в проведенных учениях. Да и сейчас, несмотря на этот печальный случай во время учений, генерал признал подготовку полка хорошей. Это больно задело самолюбие Русачева. А на разборе учений генерал говорил о том, что некоторые большие начальники не готовятся серьезно к учениям и собираются руководить ими, как проезжий дирижер чужим, хорошо сыгранным оркестром. Русачев принял этот упрек в свой адрес.
«А в последнее время Канашов совсем обнаглел. Он, как ретивая лошадь, закусив удила, делал все, что считал необходимым в боевой подготовке, даже не советуясь. И когда я его одернул, он мне такое выпалил, что хоть стой, хоть падай. Хорошо, что мы были вдвоем, и этого никто не слышал. „Я, — говорит, — на ваше начальственное положение, Василий Александрович, не посягаю. Любите вы это самое положение, что ж…“. И это звучало так: „Разве можно винить тебя, если ты на большее не способен? Только не мешай и мне дело делать…“»
И Русачеву неприятно было, что Канашов разгадал его слабости и дерзко их обнажил. Может быть, это и породило у Русачева в последнее время чувство подсознательной боязни откровенного разговора с глазу на глаз. При посторонних Канашов не мог ему сказать этого, ибо хорошо знал жестокие законы дисциплины и не хотел их испытывать на себе. К тому же он был достаточно умен, чтобы нарочито обострять отношения.
Русачев порывисто поднялся и опять торопливо зашагал. Ходил он долго, пока не устал. Тогда снова сел, закурил и опять встал, вспомнив, что сегодня получена еще одна срочная шифровка из штаба округа — приказывали направить в их распоряжение подполковника Канашова. Его расстроило это приказание. А вдруг действительно Канашова отстранят? В течение нескольких дней после того, как Канашов был предупрежден им о неполном служебном соответствии, Русачев не решался отправлять рапорт на имя командующего с просьбой снять Канашова с командования полком. Надвигалась ответственная полоса боевой подготовки войск — летняя учеба. Надо было строить новый лагерь. Зарницкий по нескольку раз в день напоминал комдиву о рапорте. И, наконец, рапорт был отослан. Но теперь Русачев почему-то вдруг подумал о том, что этого не надо было делать…
«Надо до отъезда Канашова в округ поговорить с ним по душам о его семейных делах. Может быть, еще удастся их примирить. Канашов грубый по натуре человек. Мог погорячиться из-за дочери и оскорбить жену. Ведь до приезда дочери они жили в согласии. Нет ничего запутанней, чем отношения между мужем и женой… И тут, пожалуй, Коврыгин односторонне подошел к решению вопроса, обвиняя во всем Канашова. Мне ведь тоже поначалу так показалось. А теперь нет сомнения, что виновны и он и она. И даже она больше». Сам себе Русачев признался, что он не жил бы с такой скандальной женщиной.
Поразмыслив обо всем, Русачев позвонил домой к Коврыгину:
— Вечер добрый, Петр Петрович. Не разбудил? Читаешь? Полезное занятие… У меня сегодня был разговор с женой Канашова. К тебе приходила? Грозилась? Ну пусть пишет… По-моему, разбирать Канашова на дивизионной парткомиссии не следует… Ограничимся вызовом и предупреждением. Пусть сам решает этот вопрос по-серьезному — будет ли он с нею жить или нет?… Ты ведь знаешь: силой мил не будешь. Вот так. Ну, будь здоров…
3
Новое место для лагеря выбрали в густом сосновом лесу. Неподалеку бежала речушка, чистая, прозрачная. На ней было решено устроить плотину, поднять уровень воды, чтобы использовать ее в хозяйственных целях. За рекой начинались поля, они перемежались оврагами, высотками и рощицами, что было особенно выгодно для учебного поля и тактических занятий. Район понравился всем, и только один командир полка, подполковник Муцынов, оставался ко всему безразличен.
С лица Канашова не сходила довольная улыбка. Он вмешивался буквально во все, осматривал, прикидывал на глаз, ходил стремительно и, несмотря на свою плотную фигуру, легко ложился и вставал с земли.
Когда командир дивизии предложил каждому из присутствующих доложить свое мнение о месте для лагеря, Муцынов, который до этого со всем молча соглашался, вдруг запротестовал.
— Зачем в этом лесу? Да вы поглядите, какая здесь густота, даже днем темно.
Канашов предложил вынести район лагеря поближе к опушке леса и кое-где проредить.
Комдив согласился и уточнил, что лагерь должен выходить к юго-восточной опушке, где меньше кустарника и почва значительно суше.
А дальше начался долгий спор, сколько потребуется времени на подготовку лагеря.
Муцынов назвал такие сроки, что, согласившись с ним, дивизию можно было вывести в лагерь не раньше середины лета.
Русачев озадаченно оглядел Муцынова. Он уже не раз перехватывал укоризненный взгляд Канашова, который тот бросал в сторону Муцынова.
— Значит, для оборудования лагеря дивизии тебе надо месяц, да на стрельбище — месяц, на спортгородок — полмесяца. Ну и в резерв, как ни говори, тоже полмесяца надо. Вот и выходит, что просишь у меня три месяца…
Канашов, не спуская глаз с комдива, наблюдал, как тот спокойно подсчитывал, как бы соглашаясь с Муцыновым. «Конечно, Муцынову все можно. Любимчик! А вот попробуй я, Канашов, запроси столько, комдив изругал бы, осмеял в присутствии всех. Три месяца много, но меньше, чем за два, тоже нельзя, — прикидывал и Канашов. — Работа большая. Но почему комдив так спокойно согласился отдать Муцынову весь автобат? На чем же он думает подвозить все что надобно в дивизию? Наверно, опять заберет у нас лошадей. Ни одной не дам!»
А Русачев тем временем продолжал:
— В том-то и дело, товарищи, что мы не строительное соединение, а боевая единица. Для нас основное — боевая подготовка…
— Да, но ведь лагеря тоже для этого, — сказал командир второго полка подполковник Буинцев.
— Нам предстоит подготовить сложное тактическое учение с боевой стрельбой, — продолжал комдив. — И учения эти должны провести не позже конца июня… Значит, в конце мая надо выйти в лагеря.
— Не получится! — махнул рукой Муцынов. — Не могу же я разорваться. За два месяца и лагерь построить, и стрельбище оборудовать да еще и спортгородок…
Но комдив решительно прервал его:
— Хватит! Мне все ясно…
Русачев хорошо понимал, что только Канашов может выполнить эту трудную ответственную задачу, и поэтому сказал:
— Подполковник Канашов, даю вам полтора месяца на все оборудование лагеря. В ваше распоряжение прибудет авторота. Приказываю закончить все работы к середине июня. Понятно?
Все это произвело впечатление грома, грянувшего среди ясного неба. Все растерялись. Один Канашов оставался невозмутимым, будто это его не касалось. Он знал: Русачев упрям в своих решениях и всякие возражения бесполезны.
— Завтра же представить мне на утверждение план боевой подготовки полка на этот период, — добавил он.
Муцынова сначала ошеломило неожиданное решение, но постепенно он пришел в себя. «Что ни делается, все к лучшему». Он торжествовал победу и с насмешкой поглядывал на Канашова. «Поглядим, как у тебя выйдет… А то вечно суешься со своими предложениями…»
— Готовьте полки к строевому смотру, — приказал комдив. — Перед выходом в лагеря проверю.
4
Возвращаясь домой, Канашов думал, что не бывает худа без добра. Благодаря этому решению комдива его полк раньше других начнет полевые занятия. Это хорошо… Надо еще сегодня до обеда закончить рекогносцировку лагеря, а завтра с утра направить всех на работу. Он отдал приказ дежурному по полку сыграть сбор тревоги для командного состава полка. Через полчаса все направились в район лагеря. Канашов сразу распределил работы среди комбатов: Белоненко поручил оборудовать лагерь, Урзаеву — стрельбище, батальону капитана Горобца — спортгородок.
Командиры переговаривались:
— Всегда все на нас валят. Учение проводить — наш полк, на границе укрепленный район строить — мы, лагерь выбрали новый — опять нас впрягли.
— Канашов думает отличиться… Честолюбие не дает покоя.
— Верите, товарищи, — говорил командир роты Верть, — я забыл, когда ходил в кино. Вот и набирайся культуры. Какая там культура? Жены от нас скоро откажутся, дети отвыкнут.
До Канашова доходили эти разговоры, но он никому не давал нахлобучки. «Ладно, пусть выговорятся. За мной еще будет слово, — думал он. — Прежние успехи кружат некоторым голову. Готовы век жить воспоминаниями о былых заслугах. С таким настроением лагеря не построишь… Будут все делать без огонька, без инициативы, по-казенному. Вот где нужно страстное, зажигательное слово политработников».
Солнце уже зашло: в лесу стоял сумрак и резко пахло сырой землей, гнилой листвой. Командиры собрались возле головной машины, расселись на поваленные деревья, слушали. Резкий, звонкий голос Канашова разносился далеко по лесу.
— Товарищи командиры, нам предстоит выполнить две сложные задачи: построить лагерь и провести показные тактические учения. Времени мало, но раз задача поставлена — ее надо выполнить. Занимаясь оборудованием лагеря, мы должны не забывать, что главное для нас — боевая подготовка. Вот в батальоне Горобца…
Горобец вскочил, вытянулся.
— Садитесь, товарищ капитан. В этом батальоне рота Аржанцева отстреляла упражнение на «отлично», а рота Петухова? Еле-еле натянула на «удочку». У Белоненко еще хуже. В роте старшего лейтенанта Вертя неудовлетворительная оценка. Возьмите физическую подготовку. На первом же километре марш-броска появились отстающие. По боевой тревоге батальон подымается восемь минут. Так дальше не пойдет… На совещаниях и собраниях говорим умные речи и даже с претензией на открытия! А штыковому бою обучаем на легких макетах чучел. Тронь у солдата лоб — сухой, а надо, чтобы спина была мокрая. Поменьше похвал, побольше честного усердия. Надо обучать и воспитывать людей так, чтобы они умели бы воевать…
За три недели работы полка Канашова оборудование лагеря заметно подвинулось. Среди леса, на расчищенной площадке, обозначилась ровные квадраты дощатых гнезд для палаток. Между ними, с боков и впереди их, опоясывали лагерные линейки, посыпанные золотистым песком. На концах передней линейки стояли грибки для часовых.
В спортгородке работа шла также полным ходом. На опушке высились три снаряда с лестницами и свисающими канатами, несколько волейбольных площадок, баскетбольные щиты, пока еще без сеток; будто хрустальные ворота, сверкали под солнцем никелированные турники, параллельно им стояли брусья, а поодаль «безголовые и бесхвостые кони», которых так особенно не любят новобранцы за трудности, доставляемые им при преодолении.
На вновь оборудованном стрельбище зазвучали первые перекатистые выстрелы.
При возвращении со строительных работ в часть среди командиров стихийно вспыхнул разговор об опровержении ТАСС в «Правде» от 9 мая:
«Японские газеты сообщали, будто бы Советский Союз концентрирует крупные военные силы на своих западных границах». ТАСС опровергало эти нелепые измышления.
— По-моему, — сказал Канашов, — это имеет прямую связь с опровержением, опубликованным в начале этого года. Тогда ТАСС опровергало, что немецкие войска перебрасываются в Болгарию с ведома правительства СССР.
— Я что-то не улавливаю связи между этими двумя опровержениями, — признался Савельев. — При чем тут немцы, Болгария и эти японские измышления?
Канашов улыбнулся.
— Германия подтягивает свои войска ближе к нашим границам. Война назревает…
— Не думаю, — проговорил Бурунов, — чтобы Гитлер вздумал, затеяв войну с Англией, напасть на нас. Ведь это грозит Германии войной на два фронта. А Гитлер в своих речах осуждает военных руководителей кайзеровской Германии за их стратегическую слепоту в первой мировой войне — сражение на два фронта. А во-вторых, навряд ли Гитлер рискнет напасть на нас, имея с нами договор.
— То, что они не рискнут воевать сразу на два фронта, с этим я согласен, — сказал Канашов. — Но не забывайте, что капиталистам всегда легче сговориться друг с другом, чем с нами.
— А я так твердо убежден, что от войны мы обеспечены лет на пять, — уверенно возразил Бурунов.
— Да, для нас это было бы неплохо, — согласился Канашов, — учитывая, что мы недавно перешли на новую систему боевой подготовки и в армию поступает новая техника.
— Конечно, если бы на границе назревало что-нибудь серьезное, наши батальоны не сняли бы со строительства укрепленного района, — предположил майор Белоненко.
— Правильно, — поддержал его Аржанцев.
И только всегда критически настроенный капитан Горобец усомнился:
— Но зачем же тогда прибыли туда саперные части? Загорать?
— Продолжать строительство, — сказал Белоненко. — Не можем же мы вечно надеяться на миролюбие наших новых беспокойных соседей.
— К вашему сведению, они ведут строительные работы только в ночное время, — сказал полковой инженер.
— Вот это и плохо, — не унимался Горобец. — Немцы открыто день и ночь возводят укрепления, а мы играем в маскировку и теряем драгоценное время.
— Не думайте, капитан Горобец, что наше командование не учло всех плюсов и минусов этого дела. Раз так делают, значит для нас это более выгодно, — заметил полковой инженер.
Но Горобец не согласился с ним, и тот, желая убедить упрямого капитана, сказал:
— Вы, капитан Горобец, я вижу, воинственно настроены. А политика — вещь чрезвычайно тонкая. Приказать открыть огонь, начать войну не очень трудно, а вот предотвратить ее куда сложнее…
— Да, совсем забыл, товарищи, — сказал пропагандист полка, — на той неделе к нам приедет лектор из округа и прочтет лекцию о международном положении.
— Вот это хорошо, — одобрил Канашов, — а то нам, доморощенным политикам, трудно во всем этом разобраться…
Глава двенадцатая
1
Генерал Мильдер снял пенсне, откинул на спинку кресла голову, тронутую сединой, и, помассировав двумя пальцами покрасневшую переносицу, долгим недоверчивым взглядом посмотрел на большой портрет генерала Клаузевица в массивной бронзовой раме. Затем перевел взгляд на портрет Фридриха Великого и слегка поморщился. Давно он хотел распорядиться, чтобы вставили в раму стекло, но за делами все забывал. Эта прекрасная литография была подарена ему знаменитым кузеном Альфредом Розенбергом.
Особую ценность представляла, конечно, массивная, почти пудовая рама редкой работы. На ней были выгравированы немецкие рыцари в боевых доспехах и представлена богатая коллекция холодного и огнестрельного оружия, начиная с древнейших времен до наших дней. Дважды эта редкая рама из-за своей тяжести с грохотом и звоном срывалась со стены. И теперь портрет остался без стекла.
Фрау Мильдер, заходя в кабинет мужа, со страхом поглядывала на прусского короля. Она была суеверной женщиной, а тут еще подруга, которой она рассказала об этих случаях, напугала ее, упомянув, что в жизни все происходит непременно до трех раз. Фрау Мильдер и не пыталась разобраться толком, что обозначает это пророчество, и, приняв его на веру, тотчас же предприняла все от нее зависящее. Она убедила супруга отодвинуть письменный стол подальше от стены, где висел портрет; освободила старенькую кушетку и, покрыв ее бархатным покрывалом, расшитым цветами, подставила ее под портрет, предварительно взяв слово с мужа и дочери, что они никогда не будут сидеть на этой кушетке.
Вызвав жену и попросив ее, чтобы она напомнила ему о стекле для портрета, Мильдер снова погрузился в сочинения Клаузевица «1812 год» — исторический очерк и общий обзор событий, связанных с походом Наполеона в Россию. Изредка Мильдер отрывался от книги, и его взгляд скользил по двум схемам, лежащим на столе: «План похода Наполеона I в Россию в 1812 г.» и «План отступления из Москвы» в том же году.
Все, что Мильдер считал значительным и полезным, он аккуратно подчеркивал и делал выписки в блокнот. Клаузевиц писал: «В России Наполеон встретил противодействие огромного пространства страны и возможность народной войны». Мильдер подчеркнул эту мысль, вписал ее в блокнот и стал размышлять. «Пожалуй, и сейчас нельзя забывать об этих факторах. Правда, у нас теперь есть такое могучее наступательное средство, как танки, которые могут преодолеть это пространство»…
Идейный учитель Мильдера — Клаузевиц, которого генерал чтил больше всех военных теоретиков Германии, поставил перед ним ряд проблем, в них надо было тщательно разобраться.
Клаузевиц, например, утверждал, что до 1812 года Наполеон принимал правильные решения и что риск при выполнении этих решений был неизбежным и служил именно тем ключом побед, которые он одерживал над своими противниками. Мильдеру было непонятно, почему Клаузевиц, оценивая исход войны 1812 года как поражение Наполеона, в то же время утверждал, что решения, принятые «великим корсиканцем», были все же правильными. Клаузевиц делал вывод, что это поражение — чистая случайность. Когда Мильдер прочел повторно исторические очерки Клаузевица «1812 год», он, наконец, уловил главную мысль автора: «Напав на Россию, Наполеон ошибся не в целях и выборе объекта для выполнения далеко идущей стратегии, а в методах ведения кампании».
Окончив выписки, Мильдер взял две книги из стопки, громоздившейся на большом письменном столе. На них были сделаны его пометки: «Прочесть обязательно». Одна толстая книга в кожаном переплете с бронзовым тиснением и металлическими застежками: «Походы Карла XII в Россию», вторая, которой он очень дорожил: «Внимание, танки», подаренная Мильдеру с надписью от автора: «Дорогому другу и единомышленнику — Гейнц Гудериан».
В то время как генерал был занят чтением, фрау Мильдер ходила легко и бесшумно по соседней комнате. Изредка она подходила к двери и бросала изучающие взгляды на мужа: его усидчивые занятия вызывали у нее недоброе предчувствие. Не меньшее беспокойство доставляли ей мысли о дочери, которая очень уж долго гостит у родственников. Фрау Мильдер не терпелось обо всем посоветоваться с Густавом, но она не решалась отвлекать его, когда он работает. Вот уже месяц как он углубился в военную историю, копается в старых книгах, и с каждым днем количество их растет и растет на письменном столе.
Не нравилось фрау Мильдер и то, что пришлось отложить поездку на курорт в Баден, куда они собирались выехать в конце апреля. Густав сказал ей, что его отпуск перенесен на неопределенное время. В начале мая он собирался ехать в важную служебную командировку, как будто бы в Варшаву. «И с чем это может быть связано? — ломала голову фрау Мильдер. — Может быть, повышение по службе, даст бог…»
Мильдер пододвинул к себе ящик с картотекой выписок, которые он делал на небольших карточках, и, вынув одну из них, стал быстро писать.
Марта Мильдер решила устроить небольшой отдых мужу. Зная его слабость к скачкам, она с большим трудом, достала три билета, надеясь, что к воскресенью приедет дочь. Конноспортивные состязания нескольких стран обещали быть интересными. Муж получит, бесспорно, большое удовольствие и будет благодарен ей. Фрау Мильдер уже не один раз заглядывала в дверную щель на седеющую голову мужа и колебалась, можно ли ей войти в кабинет. Хорошо, что он дал согласие снова принять дивизию, служить под командованием генерала Гудериана, хотя этого генерала некоторые называли выскочкой.
Тихонько войдя в кабинет, она долго не решалась приблизиться к мужу. Он сам почувствовал ее присутствие и резко обернулся.
— Марта, ты? — Он поглядел на нее недоумевающе: как могла она решиться оторвать его от занятий. — Что-нибудь случилось с Гертой?
Фрау Мильдер смущенно улыбнулась.
— Густав, я купила три билета на скачки. В воскресенье, я думаю, и Герта вернется, и мы вместе отправимся, не правда ли?
Он нервно потер руки.
— Послушай, Марта, оставь меня в покое. Никуда я не пойду, — и он снова уткнулся в книгу.
— Не пойдешь на скачки? — растерянно спросила жена.
— Нет! — бросил он сухо. — Не мешай, пожалуйста, работать.
Она бесшумно вышла из кабинета. «Нет, положительно с ним творится что-то неладное».
А Мильдер вновь и вновь перечитывал то место воспоминаний Наполеона, где он признавал сделанные им военные промахи. «Вторжение в Испанию, — писал он, — было первой моей ошибкой, а русский поход — самой роковой ошибкой… Эта роковая война с Россией, в которую я был вовлечен по недоразумению, эта ужасная суровость стихии, поглотившей целую армию…»
Мильдер оборвал чтение и попытался представить себе бесконечные русские просторы, снежные бураны и себя вместе со своей дивизией, но все это выглядело смутно и неубедительно. Да и зачем затягивать войну до зимы? Это может поставить перед германской армией ряд сложных проблем. Можно, конечно, признать за истину высказывания и Клаузевица, и самого Наполеона, и Карла XII о сложности русского театра военных действий, но ведь времена-то теперь не те. Другая техника, другие люди…
«И все же насколько гениален Клаузевиц, — размышлял генерал. — Его „закон одновременности применения сил“, теория „генерального сражения“, определение роли внезапности в войне, определение значения полководца и морального фактора на войне — это камни фундамента современного военного искусства Германии, на котором впоследствии выросло гигантское здание всех военных теорий Мольтке, Шлиффена, Людендорфа…»
Вдруг кто-то мягкими теплыми руками закрыл Мильдеру глаза.
— Герта, ты? — спросил он.
Но ответа не было, а ласковые руки продолжали закрывать глаза.
«Кто же это мог быть? Неужели Марта? Что с ней случилось?» И он начинал слегка досадовать, но в этот момент пальцы разжались и перед ним предстала его дочь Герта… в летном комбинезоне и лихо сдвинутой на правый бок пилотке. В этом новом костюме ее трудно было узнать. Из восемнадцатилетней девушки она превратилась вдруг в возмужавшего, загорелого солдата-воина. «Почему она в этом комбинезоне?» — недоумевал Мильдер. А Герта бросилась к отцу на шею и стала его целовать, разглаживая ласково мягкой рукой седеющие волосы/
— Признайся, ты, правда, меня не узнал? — затараторила она. — Вижу, вижу, по твоим глазам, папочка… Я так и думала, что не узнаешь. Папочка, я больше не Герта фон Мильдер, — продолжала весело щебетать дочь, — а будущий, ас великой Германии…
На лице Мильдера появилось недоумение.
— Я с Эльзой уже дважды летала на спортивном самолете. И, представь себе, мне было вовсе не страшно. Ничуть, ничуть! Дядюшка Гарфнер (это был двоюродный брат Мильдера по отцу) обещал похлопотать за меня. — Она понизила голос до шепота: — Меня примут в летную школу. Он все устроит.
— Герта, а как же быть с мамой? Она не согласится, чтобы ее дочь была летчиком.
Да, разговор с мамой не сулил ничего хорошего. Она, бесспорно, не может разделить романтической восторженности, неизвестно откуда появившейся у дочери, а самое главное — будет опасаться за ее жизнь. Герта это хорошо знала, потому она и пришла раньше к отцу, которому всегда доверяла все свои «тайны».
Мильдер и сейчас не верил, что его дочь может стать летчиком, но ему было приятно, что она ищет опасную для себя профессию. По-видимому, сказалось влияние двоюродной сестры Эльзы, которая рано осталась без матери и выросла в строгой военной среде. Отец ее был известным асом, а потом стал летчиком-инструктором. Уже второй год дочь его, Эльза, самостоятельно летала и даже несколько раз выполняла самостоятельные боевые задания по бомбардировке крупных городов. Да, Эльза пошла в отца. Ее летное мастерство вскоре принесло ей известность. Она была отмечена в приказах Геринга и имела награду «железный крест» второго класса. Слава Эльзы вскружила голову и впечатлительной самолюбивой Герте. Это хорошо понимал Мильдер.
— Давай, папочка, заключим союз молчания, — предложила дочь. — Ни слова об этом маме!
— Но как же мы сможем все это долго скрывать? — удивился отец. — Ведь ты должна будешь там жить… и вообще…
— Я об этом думала, — перебила нетерпеливо Герта. — Весной организуется закрытый пансион. Он будет готовить переводчиц для министерства иностранных дел. Я как будто поеду туда, а сама буду учиться в летной школе…
Мильдер был поражен. Он соглашался с ее девичьими причудами, но пойти на такой коварный обман он был не в состоянии. А вдруг с ней что-нибудь случится? Да и потом это просто невозможно: мать со временем захочет ее увидеть, и все откроется. Но, не желая огорчать дочь, он сказал примирительно:
— Хорошо, Герта, я подумаю. Это очень серьезное дело.
Она радостно обхватила шею отца руками и стала снова целовать его.
— Да, но почему ты сейчас в этом комбинезоне?
— Мне подарила его Эльза. Ты посмотри, как он мне идет.
Она отошла в сторону и несколько раз повернулась, довольная собой.
— Но мама увидит тебя в нем, и весь твой план рухнет тотчас же.
— Не беспокойся. Мама меня еще не видела. С вокзала я пробралась в сад, оставила свой чемоданчик в саду и, как парашютист-десантник, проникла через окно в твой кабинет… — Ведь, правда, я это ловко сделала? Ты совсем меня не заметил?
Мильдер действительно ничего не видел. Он восторгался ее хитростью и ловкостью.
— Вот ты какая!..
Герта села на подлокотник кресла, заглянула в усталые, покрасневшие глаза отца.
— Ты слишком переутомляешься, папочка. Береги себя. Ведь ты у меня один…
Она окинула взглядом письменный стол, заваленный книгами и пачками карточек-выписок. Слегка удивилась тому, что отец читал Наполеона. Его любимым полководцем, она знала, был Фридрих Великий. На стене висела большая топографическая карта Европейской части России, испещренная условными значками.
Герта собралась было спросить у отца, почему он стал увлекаться топографией России, как дверь кабинета раскрылась и на пороге в белом переднике, отороченном тонкими кружевами, показалась фрау Мильдер. На лице ее отразились одновременно в радость и удивление.
— Так вот вы где секретничаете!..
— Мамочка! — бросилась Герта к матери и стала ее целовать.
Мать спросила;
— А это что на тебе?
Герта растерялась. Выручил отец:
— Это комбинезон Эльзы Гафнер. Он понравился Герте. Девичья причуда…
2
Когда разыгрались в Германии в конце июня 1934 года кровавые события, Мильдер, тогда еще полковник, командир полка, помнил, как немцы, встречая друг друга, спрашивали: «Ты еще жив?»
Тридцатого июня Рем был посажен в тюрьму, а генерал фон Шлейхер — большой авторитет в немецкой армии — был убит вместе с женой по-бандитски, выстрелами в спину. Мильдер встречался не раз со Шлейхером в академии и на офицерском совещании в Берлине. Это был армеец старой школы. Некоторое время он занимал пост премьер-министра, но потом был уволен; как говорили, его предал бывший друг — фон Папен. Шлейхера знали как одного из умнейших политиков старой школы. Он пользовался огромным влиянием в рейхсвере.
В тот же вечер Геббельс самым нелепым образом пытался объяснить приступ неистового гнева своего хозяина. Он выдумал, что Рем в сообществе со Шлейхером и другими подготовлял восстание против Гитлера при поддержке одной иностранной державы.
Мильдер, слушая Геббельса, не верил этой нелепой басне. Но, как солдат, он старался об этом не думать, ибо он служил не тем, кто в данный момент стоит у власти, а целям мирового господства Германии. Кроме того, Мильдер понимал, что всякая смена власти дает более широкие, возможности для проявления индивидуальных способностей и быстрейшего продвижения по службе.
Генерал тщательно, до фанатизма, охранял и берег все, что было связано с честью и достоинством, его военной родовитой фамилии — баронов Мильдеров.
В отличие от своих именитых предков Густав Мильдер обладал разносторонним дарованием: он был не только смелым и решительным генералом, но и имел писательский дар и большую склонность к научной работе.
Он мечтал со временем стать знаменитым военным историком и теоретиком, чем-то вроде Клаузевица двадцатого века. Мильдер с увлечением вел свои личные и военные дневники, занося в них все, что, по его мнению, должно было явиться фундаментом для глубоких научных трудов и мемуаров.
Глава тринадцатая
1
В середине июня, когда, некоторые полки уже полностью вышли в лагерь, а на зимних казармах, где стояла дивизия, еще царили беспорядок и суматоха, из округа прибыла комиссия из нескольких командиров и политработников: она должна была разобраться со стихийным заселением дома семьями командного состава и жалобой жены Канашова на командира дивизии и политотдел.
День был пасмурный, необычно холодный для этой поры года. По небу бесконечной чередой ползли тучи, морося холодным дождем. Дороги раскисли и превратились в месиво, добраться по таким дорогам из города до военного городка было трудно. Ответственная комиссия застряла на машине, и Русачев выслал на выручку лошадей. Прибыла комиссия только к обеду, все измученные, недовольные. Полный лысеющий полковой комиссар с лихими, закрученными штопором усами вел себя так, будто он был наделен правами не меньшими, чем у командующего военным округом. Он с ходу обрушился на Русачева. Ему буквально не нравилось все: и неотремонтированиая дорога, и убогая арка ворот, через которую они въезжали в военный городок. Командиры, прибывшие с ним, глядели на Русачева исподлобья, осуждающе и многозначительно пожимали плечами.
«Теперь только держись! Они накрутят командующему про меня такого, что и во сне не приснится»!
Русачев вызвал к себе помощника по тылу и приказал встретить гостей тепло и радушно. И это возымело свое последствие. Уже вечером, с раскрасневшимся довольным лицом и добродушной улыбкой, полковой комиссар, возглавляющий комиссию, явился к Русачеву в кабинет и поставил его в известность о планах их работы. Развалясь в кресле и покручивая ус, он, улыбаясь, сыпал комплименты.
— Должен сказать вам, полковник, у вас в дивизии находчивый народ. Вы бы только видели, как они ловко придумали с артиллерийской упряжью. Они тянули нашу таратайку цугом — три пары лошадей, как тяжелое орудие, при этом у них еще имелись две лошади в резерве, на всякий случай. Ха-ха-ха! — рассмеялся он. — Не хватало лишь какой-либо кареты екатерининских времен.
Русачев поддакивал важному гостю, но надеждой не обольщался. «Все они так, — думал он. — Пока сидят у тебя в гостях, любезны, а приедут в округ и понапишут, такого, что иной слабонервный прочтет и готов стреляться».
— Думаю, товарищ полковник, мы проведем эти мероприятия организованно. Конечно, прежде всего надо попытаться убедить людей, что они не правы и их действия граничат с преступлением. Мы, конечно, с начальником вашего политотдела побеседуем, с некоторыми командирами из семей, переселившихся стихийно. А чтобы у них не было предвзятого мнения, будто мы прокуроры и следователи, вначале устроим для всех лекцию. Ведь мы политработники и наше дело убеждать людей вескими, аргументированными фактами. Наиболее сознательные вернутся в прежние квартиры, а кто будет упорствовать, можно привлечь к ответственности… А тем временем выделенные мною товарищи изучат и доложат мне суть дела с жалобой жены Канашова. Она буквально забросала командующего и члена Военного совета письмами и в последних грозится писать в Москву Наркому обороны. Вот полюбуйтесь, — и полковой комиссар извлек из портфеля подшивку писем.
— Эдак листов около сотни… Квартиру у нее отбираете, а пришла к вам за помощью — отругали матом и выставили за дверь.
Русачев промолчал.
— Ну, это ладно, разберемся…
…На другой день с утра по всему военному городку были расклеены красочные афиши. Они извещали, что вечером во вновь отстроенном клубе (который также еще не был принят) состоится лекция для жен командного состава на тему «Жена — боевая подруга командира и ее роль в семье». Приглашались и командиры, не уехавшие в лагерь.
В тот же день Марина Саввишна, встречаясь со многими женщинами, говорила:
— Ну, бабы, готовьтесь ответ держать перед большим начальством.
Некоторые жены, у кого мужья были вызваны на беседу с представителем округа, оробели.
— Боязно как-то, Саввишна. А что, как и впрямь будут судить за самоуправство? Ведь у нас дети?
— За правду нелегко стоять, — отвечала Марина Саввишна. — Мне, думаете, легче, чем вам? Мой-то со мной вторую неделю не говорит, ходит туча тучей…
Еще задолго до начала лекции клуб наполнился народом. На лицах многих женщин угадывалось смущение. В самых задних рядах разместились командиры — соучастники этого стихийного переселения. В назначенный час зал был набит до отказа. Сидели на стульях, табуретках, принесенных из дому.
Лекция была интересная. Полковой комиссар с закрученными штопором усами быстро овладел вниманием аудитории. Да и не могли эти люди быть безразличными, коли речь шла о жизни, быте, поведении, о их любви к мужьям, о воспитании детей, — словом, о новой семье социалистического общества. Докладчик говорил вдохновенно, приводил немало примеров о подлинной боевой дружбе женщин — жен революционеров-демократов, о глубокой, настоящей любви Маркса и Женни фон Вестфален, Ленина и Крупской.
Полковой комиссар, закончив свою лекцию под бурные аплодисменты, радостно про себя отметил: «Первая поставленная цель достигнута. Теперь надо заставить кого-нибудь выступить и публично покаяться».
Представитель из округа предварительно побеседовал с заместителем комдива по политчасти Коврыгиным и попросил подготовить два-три выступления жен командиров. Коврыгин долго уговаривал Аржанцеву и еще одну жену. Он и их квартирный вопрос обещал решить в первую очередь, лишь бы они выступили. Даже текст выступления им составил. Председательствующий Русачев объявил, что сейчас лектор ответит на вопросы, а потом будет предоставлено слово собравшимся.
Градом посыпались вопросы:
— Будут ли улучшены квартирные условия для малодетных и бездетных?
Лектор ответил полушутливо:
— Бесспорно, товарищи, но семьи командиров должны уметь жить по-походному, в любых условиях.
Ответ вызвал всеобщее разочарование. Женщины тревожно зашумели.
— Как быть с малыми детьми? Не могут же они ходить в школу за десять километров. Почему не поддерживают наше предложение открыть начальную школу в военном городке? Ведь у нас с осени должны пойти в первый класс тридцать детей.
— Вопрос этот, товарищи женщины, сложный. Сразу на него не ответить положительно. Надо обдумать… Потерпите…
Шум в зале усилился. Представитель уловил недовольство слушателей.
— Почему так долго затянулась приемка нового здания?
— Видите ли, к таким вопросам надо подходить по-государственному. Вы знаете, что у нас везде ведется огромное строительство. Требуется много средств.
Тогда одна женщина не вытерпела и вскочила с места.
— Это мы хорошо знаем! Газеты получаем регулярно. Радио тоже слушаем. Но что мешает комиссии принять готовый дом?
И тут представитель не сдержался.
— Собственно, вы и мешаете. Заселили самочинно…
Но голос его потонул в шуме протестующих женских голосов. Тогда представитель наклонился к Коврыгину и зашептал на ухо:
— Давай выпускай своих ораторов…
— Сейчас, сейчас! — Тот услужливо закивал головой, передал листок Русачеву, и комдив объявил:
— Товарищи, начнем выступления… Вопросы задавайте письменно, представитель округа ответит в конце собрания. Слово для выступления предоставляю жене командира пулеметной роты товарищу Аржанцевой…
Но Аржанцевой не было. Русачев стоял, тревожно всматриваясь в затемненный зал. Вдруг он увидел, как по проходу пробирается жена Канашова. «Неужели выступит? Эта разделает меня под орех!» Но она подошла и положила записку на стол президиума. Аржанцева писала: «Прошу извинить, но выступить не могу… У меня заболел ребенок», Коврыгин. дважды прочитал записку и изменился в лице. «Вот черт, как обвела ловко!» Он тут же поднялся и попросил слова у Русачева.
— Я думаю, товарищи женщины, надо не доводить дела до неприятностей. Возвращайтесь в свои прежние комнаты, а комиссия примет новый дом — и тогда устроим новоселье… — Коврыгин попытался улыбнуться, но улыбка не получилась. — Верно я говорю?
Шум негодующих голосов пронесся по залу:
— Нет!
— Не можем мы туда-сюда ездить!
— Да что это за издевательство? Детей бы пожалели!
И тут начались стихийные выступления. Из зала вышла пожилая, седая женщина и уверенно прошла на трибуну.
— Может быть, вам еще неизвестно, товарищ представитель округа, где мы жили. Пойдите поглядите, раз в гости приехали. Там, в городе, вам плохо видно наше житье-бытье.
Внимание всех было приковано к этой женщине.
— Мы тут в сыром бараке жили, — говорила она. — Но так больше жить не можем!
Из зала донесся возбужденный голос:
— Они бы еще для нас, как для солдат, койки поставили в три яруса.
Представитель округа поднялся и бросил в темный зал:
— Трудно, знаем, что трудно… Вы правы, товарищи женщины, но общежитие прививает людям чувство коллективизма, сплоченности, взаимной выручки. А она вам нужна не меньше, чем вашим мужьям, которые руководят войсками.
Седая женщина, стоявшая на трибуне, прервала его:
— Попробуйте сами так пожить, товарищ полковой комиссар, хоть один денек… На двадцать живущих семей в бараке три крана в общем умывальнике и одно отхожее место.
Дружный смех потряс зал. И даже в президиуме не удержались от улыбки.
— Да, но как вы, сознательные женщины, могли решиться на такое преступление? Вы же подводите своих мужей!
Женщина медленно сошла с трибуны и кивнула головой в зал.
— А вы их спросите, товарищ полковой комиссар. Каждая, я думаю, даст вам ответ.
Сказав так, она ушла и словно растаяла в полутемном зале.
— Разрешите мне слово, — поднялся из рядов высокий и пожилой старший политрук.
— Пожалуйста, — сказал председатель собрания.
— Кто это? — спросил представитель у Коврыгина.
— Парторг полка Ларионов.
— То, что мы здесь встретились, товарищи, по волнующему нас вопросу, — это хорошо. Хорошо, что некоторые женщины рассказали, как обстоит дело у нас с жильем, но, мне кажется, к решению этого дела мы подошли не с того конца…
В президиуме недоуменно переглянулись, зашептались, в зале началось оживление. А он продолжал:
— Восточная мудрость гласит: «Сколько бы ты раз ни повторял слово „рахат-лукум“, от этого во рту слаще не станет». Больше двух домов, что имеется, пока не будет…
Из зала донеслись голоса:
— Хорошо тебе агитировать, на троих выделили две комнаты…
— Да он от них отказался!..
— Чего человека зря корить?
Председатель призвал шумевших к порядку.
— Предлагаю выделить смешанную комиссию из представителей округа, жен командиров и политработников по назначению командования, — продолжал Ларионов. — Поручить от имени нашего собрания проверить на местах правильность заселения квартир.
— Правильно! Правильно!.. — донеслись голоса женщин.
— Ларионова председателем! Ларионова!..
— Но главное, что необходимо решить, на мой взгляд, — это вопрос о детских яслях и детском саде. Иначе мы наших боевых подруг превратим в кухарок и некогда им будет заниматься ни самообразованием, ни общественно полезной и культурной работой…
— Товарищи! — встал Русачев. — Мы отклоняемся, насколько я понимаю, от вопросов.
Но голос его потонул в шуме из зала:
— Пусть говорит! Чего вы мешаете? Дайте сказать человеку!
— Я предлагаю весь нижний этаж одного из домов, куда намечают переселить продовольственный и промтоварный магазины с пошивочной мастерской, отдать под ясли и детсад.
В зале захлопали одобрительно в ладоши.
— И поддерживаю женщин: надо строить обязательно школу. Она не только для наших детей, но и для самообразования жен, вечерней школы бойцов и сержантов необходима.
Под шумные голоса и аплодисменты Ларионов сошел с трибуны.
Председатель долго успокаивал взбудораженную аудиторию, прибегал к такому испытанному средству, как звонок, но люди долго не успокаивались. Видно, что парторг высказал их сокровенные думы и чаяния.
— Товарищи! — сказал Русачев. — Предложения, о которых говорил Ларионов, я поддерживаю. Да и командующий, надеюсь, нас поддержит в этом, но ведь нам надо решить сейчас вопрос со стихийным заселением. Ведь людей к нам для этого прислали. Вам же докладчик разъяснил, что такое самовольство граничит с преступлением…
И в это время к трибуне направилась Марина Саввишна.
Русачев, увидев жену, побледнел от негодования, шепнув что-то на ухо расстроенному Коврыгину, и демонстративно вышел из-за стола президиума. Марина Саввишна стояла, всматриваясь в зал, будто не замечая всего этого.
— Вот вы, товарищ полковой комиссар, спрашиваете у нас, как мы решились на такой преступный шаг. А выспросили бы, есть ли среди нас обиженные при распределении?
Зал единодушно ответил:
— Нет, нет!..
— И все же это противозаконно, — не уступал полковой комиссар.
— А вы покажите нам закон, где говорилось бы, что нам с детьми полагается ютиться в сырых комнатах…
Из зала донеслись голоса:
— Судить за такое надо…
Представитель округа с тревогой глядел на разбушевавшихся женщин. Он чувствовал теперь — их не переубедить. Хотелось одного: поскорее остаться одному и разобраться во всем как следует. Он встал, поднял руку. Голоса немного стихли.
— Я доложу командованию в округе ваше мнение, товарищи женщины. Там разберутся… Может быть, у вас еще имеются какие-нибудь пожелания? Говорите, а мы доложим командующему.
Марина Саввишна, продолжавшая стоять на трибуне, строго глянула ему в глаза, удивленно повела плечами:
— Какие же могут быть пожелания? Желание у всех одно: чтобы более чутко, по-партийному относились к людям. И в этой связи, товарищи, разрешите мне рассказать вам об одном случае. Он произошел еще в моей молодости, но запомнился на всю жизнь.
…Была я еще тогда совсем девчушкой. Отца у меня не было… Жила в деревне с матерью. Голодали очень. Вот и взяла меня к себе в Москву двоюродная сестра матери, бездетная учительница. Она тогда киоскером в Кремле работала и меня пристроила, ну, вроде как помощницей. Киоск наш располагался в вестибюле центрального входа Большого Кремлевского дворца. В то время там заседал, кажется, одиннадцатый съезд партии. Тетка моя пошла получать книги, а меня вместо себя оставила. Гляжу я и своим глазам не верю: Владимир Ильич вошел в центральный вход, оглядел всех лучистым, прищуренным взглядом, раскланялся с делегатами и стал торопливо подниматься по лестнице наверх.
Потом, видно, вспомнил о чем-то, вернулся к киоску. У меня душа в пятки. Была я тогда нерасторопная, робкая, не то что сейчас. Подошел Ленин и так приветливо кивнул головой: «Здравствуйте, товарищ. Разрешите мне одну книжицу у вас взять?» У меня язык как кто пришил, едва выдавила: «Берите». В киоск наш тогда только что привезли собрание сочинений Ленина, и мы его делегатам съезда выдавали бесплатно. Взял Владимир Ильич из комплекта книгу, наклонил набок голову, быстро перелистал и говорит: «Я с вашего разрешения, товарищ, возьму этот том». И, поглядев улыбающимися глазами, добавил: «Не беспокойтесь, пожалуйста, я верну…» И ушел. А я стою и никак не могу в себя прийти. От тети я не раз слышала об Ильиче. Она говорила мне, что он очень общительный, добрый человек, любит говорить с простыми людьми… Но я его представляла почему-то суровым и окруженным охраной. А он совсем другой… Закончили мы торговлю, закрываем киоск. Я помогаю тете складывать книги, слышу — из Георгиевского зала донесся шум. Заседание окончилось. Владимир Ильич спускается по лестнице. Рядом с ним Надежда Константиновна Крупская. Он бережно держит ее под руку. И вдруг, гляжу, оставил жену и идет к киоску. В руке у него книга, что у меня давеча взял. «Вот, пожалуйста, спасибо, товарищ». И кладет книгу на прилавок. Тут тетя моя говорит: «Да что вы, Владимир Ильич! Зачем вернули? Ведь это же для вас, делегатов, книги». А он взглянул на нее и ответил:
«Зачем же из-за одной книги весь комплект нарушать?… Спасибо, у меня есть…» Ушел он, а мы стоим, друг на друга смотрим: и удивительно нам, и какое-то хорошее чувство охватывает от одной мысли, что он говорил с нами.
И, помолчав немного, Марина Саввишна добавила:
— Ведь какими огромными государственными и партийными делами занимался человек. До мелочей ли ему таких: книжку взял, обещал вернуть. Да еще книжка-то собственного сочинения. А он глубоко уважал каждого простого человека, не бросал своих обещаний на ветер… — На лбу Марины Саввишны залегли две глубокие поперечные морщинки, лицо стало требовательным. — Думаю, что все, кто имеет честь находиться в партии и знает истинное назначение коммуниста, должны так же, по-ленински, быть чуткими к простым людям.
Она еще что-то продолжала говорить, но голос ее потонул в громе аплодисментов. Они, будто горный обвал, гремели, нарастая из глубины полутемного зала.
И представитель округа пришел к выводу, что женщины были правы, хотя сам факт стихийного расквартирования является чрезвычайным происшествием. Но проверка подтвердила, что обиженных при расселении не было.
Одна Канашова оставалась в претензии, что ей, как творческому работнику, выделили одну лишь комнату. И она настаивала, чтобы ей разрешили сменить ее в крайнем случае на московскую или ленинградскую, равноценную. Разбирая ее обвинение командования дивизии и политотдела в «нечуткости», комиссия посоветовала Русачеву признать, что он вспылил и выгнал ее, на что ему указали как на проявление грубости.
2
Валерия Кузьминична не унималась. Ее решение было твердым и непреклонным — ехать в Москву и добиваться приема у Наркома обороны. Ущемленное ее самолюбие не могло смириться с тем, что она не добилась поставленной цели. Она припомнила, как за ней в бытность ее в ансамбле ухаживал пожилой генерал, близкий товарищ наркома еще по гражданской войне. Теперь можно было воспользоваться его расположением.
Ради того, чтобы наказать своих врагов, можно разрешить и поволочиться за собой этому престарелому кавалеру, сознавая, что в действительности он уже не способен на какое-либо проявление чувств. «Итак, решено: надо ехать побыстрее в Москву. А там все устроится само собой».
И Валерия Кузьминична стала поспешно собираться к отъезду. Были срочно заказаны два модных платья лучшей портнихе. В деньгах она не стесняла себя. Будучи женщиной практичной, она имела про «черный день» кое-какие личные сбережения на сберкнижке, пользуясь бесконтрольностью и доверием мужа. Правда, она втайне пожалела, что могла бы иметь больше, если бы предвидела, что их дороги так скоро разойдутся. Но и то, что ей удалось скопить, вполне обеспечивало ей жизнь без хлопот и волнений в течение по крайней мере года.
Пользуясь тем, что Канашов ушел из квартиры и не взял ничего, кроме одежды, в которую был одет, она решила, что ему не надо отдавать ничего из того, что осталось из его личных вещей. «Наживет еще и без меня, — рассуждала она. — Да и зачем ему какие-то вещи, если он сугубо служебный человек и совершенно не уделяет внимания личной жизни?»
Несколько отрезов на военное обмундирование мужа, а заодно и отрезы, купленные им для дочери, она отправила посылками на имя матери, проживающей в Москве. А все остальные вещи принялась укладывать и упаковывать, чтобы забрать с собой при отъезде.
Всю неделю Валерия Кузьминична была занята этим делом и, когда упаковалась, была весьма удивлена, что потребовалась не легковая, а грузовая машина. Но и тут она легко вышла из создавшегося положения. Она не стала просить машину официальным порядком, а, зная слабину командира взвода снабжения к спиртному, договорилась, что он за пол-литра организует ей переброску всего домашнего скарба вечером, между служебными делами.
Командир взвода снабжения к тому же был одним из поклонников ее сольного пения и поэтому не только прислал обещанную машину, но вместе с ней и бойцов, которые дружно погрузили все предназначенное к перевозке на вокзал.
И тут, когда, казалось, уже весь замысел Валерии Кузьминичны был выполнен и она уже мысленно видела себя в поезде дальнего следования, случилось непредвиденное обстоятельство.
Дежурный на контрольно-пропускном пункте отказался категорически выпустить из расположения военного городка машину. Пришлось вызывать дежурного по части. Им оказался лейтенант Миронов. Сержант Правдюк, дежуривший на контрольно-пропускном, доложил ему:
— Товарищ лейтенант, не могу выпустить машину по причине отсутствия пропуска.
Может быть, Правдюк и поддался бы на уговоры шофера, пообещавшего предъявить пропуск попозже, поскольку он торопился на вокзал, но когда в разговор вмешалась Валерия Кузьминична и стала на него кричать, называя «бестолковым человеком», сержант категорически отказался пропускать машину.
— Вы знаете, что я жена Канашова. Чего же вам еще надо? — настаивала она, пытаясь убедить сержанта.
— Я, товарищ Канашова, на боевом посту. Понятно вам? И тут меня поставили не по семейным отношениям людей пропускать, а как требует устав.
— Вот я позвоню мужу, он посадит вас на гауптвахту, — грозилась она. — И надо же, таких вот ставят на пост, — жаловалась она Миронову, пытаясь у него найти поддержку.
Но и на Миронова не подействовали ни ее уговоры, ни доводы.
— Куда везете вы все эти вещи? — спросил, он.
Валерия Кузьминична пыталась обхитрить лейтенанта и сказала, что ее направил вперед сам Канашов и что обещал догнать ее в пути следования. Тогда Миронов тут же позвонил Канашову, который вскоре прибыл на контрольно-пропускной пункт.
Такого рассерженного Канашова никто еще не видел. Он тут же обрушился на жену, увидев, что из кузова машины выглядывала мебель, принадлежавшая КЭЧ полка. Ему было стыдно, что его жена упала так низко в своей жадности и захватила с собой ржавую солдатскую койку, тумбочку и рассохшийся книжный шкаф. Теперь он не сомневался, что она забрала и все его личные вещи, но не это беспокоило его. Канашов приказал бойцам тут же снять казенное имущество и вернуть на склад КЭЧ. Но пока он ходил звонить, вызывая сюда начальника КЭЧ, переусердствовавшие бойцы разгрузили полностью машину, чем снова вызвали ругань и угрозы плачущей Валерии Кузьминичны.
И взору Канашова представилась потрясающая картина. На земле, кроме мебели, лежали буквально все веши их квартиры, не только носильные, связанные в узлы, но из дырявого мешка, будто клубок змей, вились его старые и новые ремни, а рядом лежали куски угля-антрацита и несколько поленьев дров, и, что его особенно поразило, здесь был короб, вынутый из печи. «Не хватало бы еще прихватить иконные рамы со стеклами и снять доски с потолка и пола, — подумал он с отвращением. — До какой мелочности надо дойти, чтобы в своей алчности пасть так низко!»
— Ну вот, — сказал он, — пока в квартире не будет восстановлено все, как было, так и знай — тебя из городка не выпустят.
Глава четырнадцатая
1
В конце мая, когда развернулись строительные работы в лагере, Канашову приказали срочно выехать в штаб округа. Это его встревожило. «Зачем? — рассуждал он. — Понизят в должности… Ну и пусть дадут вместо полка батальон… Обидно, конечно, но ведь и там такие же командиры и те же бойцы».
В это время в кабинет ввалился, как всегда, шумный, улыбающийся Заморенков. Глаза его горели. Он был увешан всевозможными охотничьими принадлежностями, на боку — ягдташ, за спиной — зачехленное ружье, у пояса — богатые охотничьи трофеи — убитые утки. И сразу комнату наполнили приятные Канашову запахи — болотной сырости, порохового нагара, охотничьих сапог, смазанных дегтем.
— Зря, зря не поехал, Михаил Алексеевич. Отбою не было от дичи. И от твоих любимых бекасов. Шарахнет в небо, как ракета. Порадовалась бы твоя охотничья душа…
Говоря это, Заморенков отцепил двух крупных селезней и положил перед Канашовым.
— Помнишь, при открытии сезона ты меня выручил, теперь возвращаю долг. А чем ты огорчен?
Канашов сказал, что его вызывают в округ.
— А может, тебе не ехать? — сказал Заморенков. — Взять да и написать Наркому обороны обо всем, что у нас творится.
— Нельзя. Надо узнать, в чем дело. Зачем же сразу ломать копья, там в округе люди с головой сидят, разберутся…
— Ну, я пойду, Алексеевич. Желаю тебе удачи… А на тягу ты все же зря не съездил. Теперь до осени терпеть придется. Весенний охотничий сезон закрыли.
В тот же день Канашов уехал в округ.
…Год назад он, получая назначение в отделе кадров округа, столкнулся с Быстровым. Они вместе учились в академии имени Фрунзе.
У Канашова было тогда хорошее настроение: он получил повышение и майором ехал командовать полком, с которого сняли полковника, — было чем гордиться. Он радостно обнял Быстрова:
— Лешка, ты ли, дьявол тебя побери!
Перед ним стоял сильно располневший, с двойным подбородком подполковник и, сдержанно улыбаясь, жал ему руку.
Как всегда, у знакомых военнослужащих начались воспоминания: кто, где, на какой должности преуспевает или кому в чем не везет.
— А Борис Шальнов, знаешь, где теперь? — спросил Быстров. — Он все такой же шалопутный, на танцульках часто бывает. Но начальству угодить умеет. Уже подполковник. Ну, а сам ты куда сейчас?
— Еду принимать полк, в дивизию Русачева…
— Русачева? — переспросил Быстров, что-то вспоминая. — Крут он, кажется… Полком будешь командовать? Тебе повезло…
— Но ты ведь знаешь: у меня характер тоже неуживчивый, вдруг не сойдемся?… А ты, Леша, вижу, пухнешь, как тесто на дрожжах, аж пуговицы от натуги хрустят. Футбол, видно, забросил.
— Ты угадал, — вздохнул Быстров. — Какой там футбол? С утра до ночи срочные дела…
Быстров рассказал, что он теперь работает офицером в отделе боевой подготовки округа.
— Это замечательно, — заметил Канашов. — Все, гляди, когда-нибудь и поддержишь меня.
«Да, это было совсем недавно… Как будто вчера, а прошло более года…»
2
Докладная записка Канашова поступила в отдел боевой подготовки округа вскоре после Нового года. Она вызвала невольную зависть и вместе с тем причинила много хлопот Быстрову. В ней было много ценных предложений, и начальство поручило ему разобраться и доложить свои соображения. Самолюбие Быстрова было задето. Почему не он написал эту записку? Ведь подобные мысли и ему не раз приходили. Но не хватило смелости поднять эти вопросы и отстоять свое мнение перед большим начальством.
Товарищ по академии, ныне командир полка, Канашов оказался решительней и настойчивее его, Быстрова. Он не побоялся написать обо всем, что его волновало, командующему и вступить в спор с «авторитетами» по ряду важных проблем боевой подготовки войск.
Быстров знал: Канашов не остановится на полпути и доведет задуманное до конца, чего бы это ему ни стоило. И у него вначале возникла мысль: сделать все, чтобы помочь товарищу в этом важном деле. Он добросовестно изучил предложение Канашова, посоветовался на работе, и вскоре идеи Канашова стали настолько близкими ему, будто свои собственные. Быстров перечитал за это время много книг, которые могли бы усилить мысли Канашова, подтвердить их правоту.
И вот однажды жена Быстрова поинтересовалась, чем он так увлечен. И он в общих чертах рассказал ей, что его волновало и чему отдавал он столько сил и энергии. Жену удивил такой «необдуманный энтузиазм» мужа. Она назвала его «сверхнаивным чудаком» и в упор задала вопрос: «Ну, а что тебе это даст, если ты создашь славу какому-то Канашову?» И тогда он впервые задумался над этим.
Но как только появилось у него это новое мнение, возникли другие трудности: как отвести Канашова от этих планов, доказать ему несостоятельность их, чтобы избавить его, Быстрова, от лишних забот? Ведь Канашов не простачок и не поверит его легким доводам. Значит, надо попытаться перетянуть его работать я округ или доказать несостоятельность его идей.
По приезде в штаб округа Канашов узнал, что его вызвали не в отдел кадров (как он предполагал), а в отдел боевой подготовки, и сразу успокоился: «Значит, меня еще не отстраняют от командования полком». Впрочем, вопрос о снятии командира полка сложный, и в один день и даже в неделю его не решить. В конечном счете он мог быть вызван даже самим Наркомом обороны.
В отделе боевой подготовки Канашова охватило сильное желание повидать подполковника Быстрова, который уже почти полгода рассматривал его предложения, о чем ему сказали в секретном отделе штаба.
Канашов так быстро зашагал по длинным коридорам штаба, что даже старшие командиры давали ему дорогу — видно, подполковник этот очень торопился, может даже на прием к самому командующему.
И вот Канашов ворвался в комнату, где за столом важно восседал Быстров. «Откуда у него такая самоуверенность? — подумал Канашов. — Год тому назад он был совсем не такой».
— А, это ты, Михаил Алексеевич! Садись, потолкуем, — кивнул он головой на стул. — Ты чем-то взволнован?
— Чем-то, что-то! — перебил нетерпеливо Канашов. — Ты что же это полгода письмо мое маринуешь, казенная твоя душа!
Быстров пугливо оглянулся. Направо за столом сидел новый работник их отдела, недавно прибывший в округ, молчаливый и замкнутый человек. Быстров его остерегался: еще, гляди, подсидит. Он указал глазами на дверь, приглашая выйти и поговорить без посторонних.
Они вышли за дверь, сопровождаемые любопытным взглядом.
Громко разговаривая на ходу, они зашагали по длинному полутемному коридору, по которому сновали озабоченные командиры — работники округа с начальственным угрюмым видом, с бумагами в руках.
— Потише, Михаил, ты совсем забываешь, ведь перед тобой не полк… Мне и так хорошо слышно… Давай присядем, — показал он на диван, стоящий в полутемном углу, на отшибе. — Ну, чего ты кипятишься? Каждый день гора дел.
Он сделал задумчивое лицо и протянул портсигар Канашову. Тот, не скрывая презрения, оглядел Быстрова с ног до головы.
— Бюрократом заделался?… Не понимаешь, что в этом письме говорится не о личных делах Канашова… Ты что, не согласен со мной, что настало время децентрализовать программу боевой подготовки и разрешить каждому из округов разрабатывать свои окружные программы с учетом местных условий? Неужели тебе, работнику отдела боевой подготовки, это непонятно?
Быстров снисходительно улыбнулся.
— Я вижу, Михаил, ты остался фантазером. Ну кто же будет, скажи, отменять единую программу боевой подготовки? Ведь это получается: кто в лес, кто по дрова. И к чему? Из-за того, что, видите ли, Канашову показалось, что мы односторонне, или, как ты пишешь, шаблонно, подходим к решению задач боевой подготовки, без учета значения округов и специфики местных условий.
— Нет, позволь, я обосновал свою точку зрения. Мы говорим везде, что нельзя всегда быть сильными и всегда наступать. А между тем восемьдесят процентов всего учебного времени тратим на наступление в полевых условиях и лишь двадцать процентов — на другие виды боевых действий в различных условиях. А нам бы надо учить действовать войска в лесистой и лесисто-болотистой местности. Да и истинной роли танков и авиации в боевых действиях мы по-настоящему не изучаем. И в большинстве случаев противник у нас условный, слабый…
— Ты командуешь полком, Михаил Алексеевич, вот и учи… Но нельзя забывать, что твои предложения, если сказать откровенно, противоречат нашей военной доктрине. Мы стоим за решительное наступление… Ты вот предъявляешь ко мне претензии: почему, мол, волокитишь, бюрократ ты, и так далее. Хочешь знать правду? Я докладывал твои предложения. Но ведь мало одной смелости предлагать проекты. А кто должен этим заниматься? Пойми, опыт полка Канашова не может быть законом для всей нашей армии. Значит, надо составить проекты, проверять это на многих частях, разработать новую методику для внедрения всего этого в войска. Нас по штату в отделении только два человека. Разве мы в силах все это сделать, скажи?
— Но ведь можно доложить начальству о том, как это сделать. Оно и решит, на кого возложить.
— Знаешь, Михаил, ты не искушен в этих вопросах, а я, слава богу, имею опыт. Никогда ничего не предлагай начальству, все равно придется все делать самому. К тому же отдел боевой подготовки не научно-исследовательский институт, ты пойми меня правильно.
— Понимаю, — сказал Канашов. — Вижу, глубоко закопал ты мои предложения. Лишнее беспокойство они тебе приносят, товарищ Быстров… Зачем эти хлопоты, которые, кроме неприятностей, вам ничего не принесут? Вот если бы за это Золотую Звезду Героя дали, дело другое. Ну, а так… Вдруг начальство разгневается!.. Глядишь, с насиженного места и вышибут…
— Ну ты, Михаил, несправедлив ко мне. Кто, скажи, отстоял твое предложение о проведении показных тактических учений с боевой стрельбой?
Канашов с недоверием глянул на Быстрова, а тот продолжал:
— И зачем, не пойму я, ты на свою голову приключений ищешь? Разве и без этого мало у тебя неприятностей по службе? Пора бы тебе остепениться, Михаил. Испортишь взаимоотношения с начальством. Ведь, знаешь, начальство всегда право. Кто тебя поддержит?
— А ты?
Быстров даже вздрогнул.
— Я что? Я маленький человек.
— Ничего, что маленький, лишь бы не подленький. А впрочем, ты прав: на тебя плохая надежда.
— Да, отчасти ты прав. Но ты учти, иногда и маленькие, вроде меня, могут погоду сделать.
В это время работник их отделения вызвал Быстрова к генералу, и спор прервался.
— Мы еще увидимся, — сказал на прощанье Быстров. — Да, чуть не забыл: тебе надо зайти к начальнику отдела кадров.
У начальника Канашов узнал, что ему предлагают работать в отделе боевой подготовки округа. Канашов наотрез отказался и отправился к Быстрову. Тот, услышав об отказе, рассердился.
— Я тебя, как друга, выручаю. Ведь Русачев тебе не даст ходу, а у нас такое обширное поле деятельности: дерзай, твори, фантазируй…
— Нет уж, увольте от такой милости. Спасибо за заботу. Командование войсками ни за что не поменяю на стол, стул и бумаги.
— Чудак, — усмехнулся Быстров, — Гляди, чтобы после не пожалеть.
…Как только Канашов освободился в округе, он заторопился в часть. Его уже беспокоило, выдерживают ли командиры намеченные сроки работ по оборудованию лагеря; не слишком ли они увлеклись лагерем и не забросили ли подготовку к показным тактическим занятиям? На днях вернется из отпуска Чепрак. Вскоре полк должен перебираться с зимних квартир в лагерь. «Конечно, уехал я, к никто не занимается строевой, подготовкой. Воскресенье, намеченное для строевого смотра, прошло… Да и стоит ли его проводить наспех?»
…И сквозь это множество разных мыслей нет-нет и всплывет одна: «Надо доводить спор, поднятый в округе, до конца, не отступать…»
И он твердо решил: «Напишу обо всем Наркому обороны».
3
Воскресный день выдался чудесный. Небо необычайной голубизны без единого облачка. У самой земли цепко держалась утренняя прохлада, и трава и листья на деревьях, омытые росой, были новыми, будто кто-то их выкрасил свежей краской.
На плацу, посыпанном золотистым песком, выстроился полк, хотя командиры были уверены, что строевой смотр не состоится, так как Канашов еще не приехал из округа. Но, к удивлению всех, из штаба дивизии прибыл приказ комдива строевой смотр не отменять. Было приказано полком командовать капитану Горобцу.
На правом фланге стоял батальон капитана Горобца, в середине — батальон майора Белоненко, а на левом — батальон капитана Урзаева.
В девять часов утра прибыл полковник Русачев в сопровождении штабных командиров. Капитан Горобец громко подал команду: «Смирно! Равнение на средину!» — и, гордо запрокинув голову, направился навстречу Русачеву. Он так усердно «печатал» строевой шаг и с такой силой бил ногами о землю, что фуражка чуть было не свалилась с его головы. Затем о готовности к смотру доложили остальные комбаты: Белоненко и Урзаев. Русачев кивнул головой, и на середину плаца, ослепительно блестя начищенными трубами, вышел духовой оркестр полка.
И вскоре началось то самое важное, чего с таким нетерпением ждали все. Тысячи глаз с напряженным вниманием смотрели в сторону штаба. Оттуда должны были вынести знамя полка. Кто сегодня будет этим счастливчиком? Гордой торжественно со знаменем в руках пойдет он в голове колонны. Все ожидали с таким напряжением, что в глазах начинало рябить и взгляд туманили набегающие слезы.
И вот, наконец, из помещения штаба вышли три рослых человека. Два из них были младшие командиры и один лейтенант.
«Кто же это такой?» — нетерпеливо всматривались все в незнакомую высокую фигуру лейтенанта. Он стоял к ним спиной и, по-видимому, развязывал чехол на знамени. Наконец темно-зеленый чехол упал, его подхватил на лету один из ассистентов, и ярко-красное, с золотой окантовкой бахромы знамя полка выплеснулось огненной волной на солнце и, подхваченное ветром, затрепетало упругим шелком. Лейтенант уверенно поднял древко знамени, положил его на левое плечо и понес навстречу замершему в строю полку. Двое ассистентов, таких же высоких и стройных, как и знаменосец, шли по обеим сторонам знамени. Правого плеча их касались обнаженные клинки, сверкающие голубыми молниями. Оркестр дружно грянул торжественный марш. Все застыли в немой и торжественной позе по команде «смирно».
Когда лейтенант-знаменосец с ассистентами подходил к середине плаца, где стояло командование, Миронов узнал в нем Жигуленко. Он, как показалось Саше, стал еще выше ростом, и стройная фигура, затянутая в новые ремни портупеи, была настолько привлекательна, что все невольно залюбовались его молодцеватым видом.
Оркестр грянул походный марш, и батальон тронулся первым. Миронов, казалось, не шел, а летел, не чувствуя земли, и хотя усердия его никто не заметил, так как его взвод шел последним после взвода Дуброва, он все же вытягивал носки и «рубил» землю ногами с таким старанием, что звенело в ушах и вздрагивала нижняя челюсть. Чтобы затормозить ее дрожание, он сильнее сжимал губы, и от этого лицо его принимало неестественно сердитое выражение.
Сейчас Саша гордился тем, что Жигуленко был его другом. Он видел, что все командиры в батальоне, и угрюмый комбат Горобец и даже лейтенант Дубров глядели на Жигуленко с одобрением и не могли этого скрыть.
Строевой смотр, как показалось Миронову, окончился быстро, и это его слегка разочаровало. В ушах еще звучал зовущий марш, и перед глазами языком пламени горело знамя полка.
«Вот теперь-то я напишу стихи о знамени», — думал Миронов. В груди сладко заныло от этой мысли.
И даже неприятный разговор его не задел. А разговор вели командиры из их батальонов. Они удивлялись, почему Русачев назначил знаменосцем Жигуленко.
Командиры — старожилы части считали, что этим приказом нарушена святая традиция полка, которую поддерживал и Канашов. Накануне строевых смотров он обычно собирал командиров батальонов и рот на совещание и только после этого назначал знаменосцем командира, добившегося лучших показателей в обучении и воспитании взвода.
На предстоящем строевом смотре все были уверены, что назначат лейтенанта Рощина. Но Русачев категорически отверг его кандидатуру.
Лейтенант был маленького роста, худощав, слегка кривоногий, а лицо усыпано темно-коричневыми веснушками.
— Нет, так не пойдет, — заявил Русачев. — Да вы просто не понимаете, что строевой смотр части — это парад армейской красоты и мощи. И, не дай бог, увидит кто-либо со стороны такого строевика, как Рощин… Нас засмеют.
Глава пятнадцатая
Начиная с мая у генерала Мильдера не было свободного часа.
Получив приказ выйти с дивизией в пограничную зону, он понял: задача, которую предстояло ей выполнить, будет сложной. Но не только противник, даже и подчиненные Мильдера не должны были догадываться об истинных целях марша. Его надо было совершить скрытно. Солдатам сообщили, что дивизия следует на очень важные маневры. Лишь небольшой круг офицеров — командиры полков и штаб дивизии — был предупрежден, что могут возникнуть боевые действия против русских войск, якобы подтягивающих силы к германо-советской границе. И только один человек в танковой дивизии — генерал Мильдер — на совещании у командующего был посвящен в действительные цели сосредоточения немецких войск в приграничной зоне и намерения Гитлера начать внезапным нападением войну с Советским Союзом.
Накануне марша Мильдера уведомили, что танковую дивизию перебросят по железной дороге и только небольшую часть маршрута — километров пятьдесят — ей придется совершить своим ходом. Но железные дороги были до отказа перегружены перевозкой войсковых частей, и дивизия пошла своим ходом.
Главное, что беспокоило Мильдера, — это «подводные танки» «Морской лев». Они были испытаны для готовящейся операции против Англии в 1940 году, но неожиданно по приказу фюрера их направили на Восток. Эти танки были новинкой для личного состава дивизии, и это обстоятельство доставляло командиру больше всего беспокойства. Непредвиденный марш этих, возможно капризных, машин по плохим дорогам мог принести много неприятностей. Но все обошлось благополучно, если не считать, что несколько танков потребовали небольшого ремонта. И это подняло настроение Мильдера.
Двое суток затратили на то, чтобы развернуть дивизию и занять исходные позиции. Из сорока восьми часов, отведенных для этой подготовки, Мильдер лишь с трудом смог выделить восемь часов (по четыре часа на каждые сутки) на ночной отдых. Завтракал, обедал и ужинал «на ходу», не вылезая из машины. И все же он с досадой отметил, что, несмотря на все старания, ему не удалось побывать там, где он намеревался.
Большая часть времени ушла на осмотр частей первого эшелона, занимавшего исходные позиции. А во втором эшелоне произошел в это время досадный случай: на необозначенном участке минных полей подорвались два танка. Эти внезапные взрывы привлекли внимание русских пограничников, и Мильдеру поэтому не удалось в тот же день провести рекогносцировки с подчиненными командирами. Вечером этого неудачного дня он написал жене очень короткое письмо, в котором намекал на то, что он переживает сейчас дни небывалого душевного подъема и что всех ожидают великие события. Однако из предосторожности он не отправил это письмо.
Весь день тринадцатого июня Мильдер вместе с другими командирами дивизий участвовал в рекогносцировке, проводимой командующим танковой группы. На рассвете они, пригибаясь и маскируясь в кустарнике, прошли вдоль берега Западного Буга, где находился передний край их частей, берег противника мирно дремал, и ни одному самому опытному русскому наблюдателю не могла прийти в голову мысль, что они, немецкие генералы, в такой ранний час внимательно изучают каждый клочок земли, выбирая скрытые подступы, удобные пути для танков, осматривая и прикидывая все, чем выгодно воспользоваться для нанесения сильного удара.
Не доходя полукилометра до моста, командующий жестом руки остановил гуськом идущих за ним генералов.
— Вот здесь, — показал он рукой на овражек, поросший кустарником, — начинается участок прорыва вашей дивизии, генерал Мильдер.
Мильдер почувствовал, как от быстрой ходьбы и охватившего волнения у него покалывает сердце.
— На участке вашего прорыва имеются два моста… — Командующий понизил голос. В предрассветных сумерках был виден темный силуэт русского часового, охранявшего мост. — Надеюсь, вы понимаете, насколько важен для нас захват этих мостов в целости и исправности?
Мильдеру приятно было, что командующий уделяет ему особо благосклонное внимание. Правда, для такого доверия были все основания. Мильдер и прежде блестяще оправдывал все надежды командующего. В Польше его дивизия первая захватила мост через Вислу, обеспечила успешную переправу танкового корпуса и тем ускорила захват Варшавы. Мильдер хорошо знал, как надо готовить такие быстрые и смелые группы захвата. Он уже думал о том, как завтра проинструктирует командиров этих групп.
Приближался восход солнца. Восток, накаляясь, алел, и над свинцовой гладью реки подымались седоватые клочья утреннего тумана. Они быстро сгустились и образовали плотную завесу, скрывая таинственно молчавший берег противника.
— Учтите, генерал Мильдер, мосты у русских подготовлены к взрыву. Успех решают се-кун-ды, — подчеркнул командующий. И по тому, как он беспокойно посмотрел на мосты, Мильдер понял, что успех готовящейся операции зависит от него лично, и это льстило его самолюбию.
В пятницу пятнадцатого июня Мильдер провел две рекогносцировки: одну — с командирами полков и вторую — с командирами, возглавляющими группы захвата мостов противника. В одном из полков Мильдер обнаружил недостаточно продуманную маскировку и за беспечность наложил взыскание на командира полка. К вечеру выяснилась еще одна неприятность: база горючего дивизии вторые сутки не могла выйти из местечка Постно, так как все дороги были забиты подходящими к границе частями пехоты и артиллерии.
Тем же вечером разведчики дивизии подтвердили отрадные данные, установленные неделю тому назад: свои береговые укрепления русские не заняли. «Значит, русским ничего не известно о наших намерениях», — с удовольствием отметил Мильдер.
В субботу двадцать первого июня Мильдера вызвали на наблюдательный пункт командующего танковой группой — южнее местечка Богукалы, в пятнадцати километрах северо-западнее Бреста. Там он доложил командующему о степени готовности его дивизии и еще раз сообщил, что русские все еще не заняли своих береговых укреплений по Бугу.
Командующий был в прекрасном настроении. Он долго просматривал в мощную трубу наблюдения левый берег Западного Буга и, оторвавшись, с улыбкой сказал:
— Какая приятная беспечность царит в стане врага! Взгляните, пожалуйста, генерал. Они слепы, как кроты.
Мильдер подошел к наблюдательному прибору и увидел, как во дворе Брестской крепости производился обычный развод караула под оркестр.
Командующий добавил:
— Мне кажется что в свое время мы допустили ошибку, отдав русским крепость, захваченную нашими войсками в боях. Эти русские свиньи навряд ли правильно оценили великодушие фюрера.
— Да, крепость может надолго сковать маневр наших войск, — согласился Мильдер.
— А я, генерал, и не собираюсь брать ее в лоб… Мы обойдем Брест… Устроим им маленькие Канны. — Он изобразил обеими руками нечто похожее на клещи. — Пусть берут эту крепость пехотные дивизии, — усмехнулся он. — Это трудный орешек, Мильдер… Поверьте моему опыту, его не так-то легко разгрызть.
Командующий танковой группой был весьма доволен тем, как его дивизии быстро и скрытно сосредоточились и заняли исходное положение. Все эти дни до начала наступления он провел в частях, проверяя их готовность. Разведывательные данные говорили о том, что русским ничего не известно о намерениях немецкой армии, сжавшейся в сильнейшую пружину и готовой вот-вот разжаться и нанести смертельный удар по приграничным армиям. У командующего даже появилось сомнение: стоит ли проводить артподготовку? Он сказал Мильдеру:
— Как вы полагаете, может быть, начать боевые действия без артиллерийской подготовки?
Мильдер задумался.
— Видите ли, это, конечно, вполне возможно и даже усилит элемент внезапности, но… — он замялся. — Думаю, что русские после первого удара все же могут прийти в себя, и это вызовет в них бешеную силу сопротивления. Поэтому лучше действовать наверняка и обрушить на врага сокрушительный огонь. Помните, как говорил о неприятеле Фридрих Великий: «Русского солдата мало застрелить, — его надо свалить и приколоть штыком…»
— Да, вы, пожалуй, правы, генерал Мильдер… Во избежание излишних потерь я прикажу провести артиллерийскую подготовку в течение установленного времени.
Глава шестнадцатая
1
Рита долго гляделась в большое овальное зеркало, поворачивая то вправо, то влево голову с толстым жгутом темных, с вороным отливом кос, уложенных венком. И чем больше она гляделась, тем больше нравилась себе.
Подойдя к шифоньеру, она достала платье из легкого бледно-розового, будто яблоневый цвет, крепдешина и надела его. В этом новом платье она выглядела совсем девочкой, нежной и беззаботной.
Пришла Наташа. Они обнялись и весело закружились по комнате под звуки вальса, едва доносившиеся с улицы.
— Ну, ты, Рита, просто очаровательна! Дай-ка я на тебя погляжу хорошенько. Это платье очень тебе идет!
Рита села рядом с Наташей, положила руку на ее плечо:
— Наташа, я хочу тебя спросить: из-за чего ты поссорилась с Евгением?
Наташе не хотелось рассказывать. Мешала гордость. Испытав горечь неудачи в первой любви, она теперь была недоверчива. И когда Евгений попытался поцеловать ее в лесу, это насторожило ее. А дальше, бывая с ним на танцах, в кино, она все больше и больше разочаровывалась в нем. И вскоре это привело к разрыву.
Как-то раз Наташа заболела, слегла в постель, и Жигуленко сказал Миронову:
— Ты бы зашел, болеет девушка. Если я приду, пожалуй, меня выгонит. Знаешь, у нее характерец, как и у ее бати. Крутенький…
Но Миронов не пошел к Наташе, хотя и очень хотелось проведать ее. В библиотеке полка он случайно узнал, что Наташа просила прислать ей роман Жорж Санд «Консуэло», Роман этот имелся только в одном экземпляре, и, чтобы его прочесть, надо было записаться на очередь. Наташу записали восемнадцатой. И тогда Миронов поехал в город и в букинистическом магазине купил роман. Вечером он был передан Наташе связным бойцом Полагутой.
Наташу растрогало это неожиданное проявление внимания к ней замкнутого Миронова. Она с увлечением читала роман, даже плакала над ним и, последнее время чаще раздумывая о Миронове, убедилась, что Саша почему-то более ей по сердцу, чем Евгений.
После ее выздоровления они встретились в библиотеке, и Миронов смущенно пригласил ее в кино. Ему казалось, Наташа не придет. Но она пришла. И теперь, вспоминая все это, она сказала:
— Видишь ли, я не люблю, когда люди стараются своими мнимыми трудностями вызвать чувство сострадания к ним. Короче, я не умею жалеть. Евгений — неплохой и даже умный парень, но мне не нравится его постоянное стремление подчеркивать свое тяжелое положение, будто ему больше всех достается, и он больше всех загружен на службе, и что в полку недостаточно ценят его командирские качества. Можно подумать, на его долю пришлись самые тяжелые служебные задания, а остальные только разгуливают. И потом он, по-моему, чересчур самоуверен и поэтому позволяет себе разные вольности… — Она замялась и покраснела.
— Но, по-моему, и с его товарищем Сашей тебе дружить неинтересно, — пыталась выведать Рита. До нее дошли слухи, что их несколько раз видели в кино. — По-моему, Миронов скучен, все время молчит и о чем-то думает. Стихи, наверное, сочиняет, — засмеялась Рита.
— Ну, Миронов, куда более серьезный человек, чем Жигуленко. А главное, душевный…
— Наташа, а ты не жалеешь, что поссорилась с Евгением?
— Нисколько. Что это ты так выпытываешь?
Темные глаза Риты стали печальными. Она нежно обняла подругу.
— Видишь ли, Наташенька, я люблю Евгения и решила выйти за него замуж… Он настаивает на этом… Но мне почему-то немного боязно… Ведь мы знаем друг друга так мало.
В повлажневших глазах Риты появилась тревога.
— Видишь ли, все это случилось неожиданно… — Она замялась. — Я не должна была поступать так опрометчиво…
Рита не договорила, на глазах блеснули слезы. Она уткнулась головой в плечо подруги и всхлипнула.
— Что ты, Рита, успокойся! Разве это позор, что ты решила выйти замуж? Ведь ты любишь его, а он тебя… Или ты боишься своего отца? — Она гладила рукой волосы Риты. — Но ведь он не враг тебе, коли ты встретила человека по сердцу.
Рита перестала плакать, поспешно вытерла глаза.
— Скоро придет отец… Наташа, ты не осуждай меня за мою ветреность. Ведь я собиралась учиться, подала документы а медицинский институт.
— Ну, что ж тут такого, разве нельзя учиться замужем?
— Какая ты странная, Наташа! — смутилась Рита. — Могут же быть дети…
— А разве, имея детей, нельзя учиться?
— Видишь ли, Наташенька, Евгений считает так: «Жена должна быть украшением семьи». Неужели для того, чтобы быть домохозяйкой, я должна была учиться десять лет?
Подруги обнялись, склонив друг к другу головы, и долго сидели задумавшись. Трудно решать эту задачу девушкам, вступающим в жизнь.
2
У Жигуленко произошли неожиданно перемены. Перед отъездом в лагеря пришел приказ о назначении его адъютантом комдива, а Дуброва тем же приказом переводили в роту Аржанцева.
Жигуленко ходил сияющий и всем своим видом давал понять, что иначе не могло быть. Встретив Жигуленко, Саша протянул руку:
— Поздравляю с повышением!
Но тот решил замять этот разговор.
— Хитрый ты, Сашка, тихой сапой действуешь. Отбил у меня Наташу и в ус не дуешь.
Разговор этот происходил при командирах, на стрелковом тренаже и был встречен шутками. Миронов обиделся, и целую неделю они не разговаривали. И, уже собирая вещи, Жигуленко заговорил первым.
— Ну хватит дуться, индюк, — похлопал он Миронова по плечу. — Кончилась, браток, моя холостяцкая вольница, скоро женюсь на Рите! Такую свадьбу закачу, Сашка, аж чертям тошно станет. Уже папашу родного потряс. Он обещал тысчонки три подбросить.
— Нет, ты это серьезно? — удивился Миронов.
— А ты думаешь — шучу? Жигуленко не только на службе командир, он и в жизни таков. Решил — и все!.. Давай по рукам, Саша, все обиды — а сторону. Что мы с тобой, ребятишки? Приходи на свадьбу.
В субботу Миронов заступал в наряд и поэтому с середины дня ушел готовиться, поручив своему помкомвзвода Рыкалову изучить обязанности должностных лиц караула.
Миронову было весьма обидно: «У друга свадьба, я ты иди дежурить». А тут еще вчера при проведении стрельб из личного оружия он опять получил только удовлетворительную оценку.
«Плохо тренируетесь», — сказал Канашов. Аржанцев выругал его.
Саша подшил чистый подворотничок, довел до золотого сияния пуговицы, начистил сапоги и прилег на койку; он решил еще раз просмотреть в уставе свои обязанности, но почувствовал, что не мог заставить себя читать. «А что, если все же попросить Дуброва подменить меня на дежурстве?»
Миронов отправился в роту. Но никто не знал, где Дубров. До развода оставалось не более часа.
Раздосадованный Миронов направился в штаб. Он закурил и присел на скамейку у штаба. Его размышления нарушили чьи-то торопливые шаги.
— И где тебя носит, чертушка? — услышал он хриповатый басок Дуброва. «Чертушка» было его любимое слово. — Я побежал к тебе на квартиру — нет. В роте — нет.
Дубров был в полном военном блеске, с противогазом через плечо.
— Пароль я уже получил у Чепрака, боялся, как бы ты к нему не сунулся. Иди, вольный казак, на все четыре стороны!.. Завтра я подежурю, а ты сменишь меня в воскресенье — шестого июля. Это день моего рождения. Да, знаешь, к нам в роту, прибыл новый командир взвода — лейтенант Сорока. Только что из училища.
Миронов был поражен: «Кто же это уговорил его дежурить за меня?»
Постояв немного молча и покурив, они разошлись.
«Интересно, как воспримет Наташа новость о том, что я свободен завтра от дежурства? Обрадуется или не покажет виду? Она ведь гордая, вся в отца… А Канашов последнее время смотрит на меня как-то подозрительно. Знает ли он о моих встречах с Наташей? Наверно, знает». Миронов решил идти в свою палатку. Хотелось поскорее закончить стихотворение о знамени, которое никак ему не удавалось. А тут еще завтра предстояло столько дел. Надо пораньше встать, все обдумать на свежую голову… Что же подарить Евгению и Рите? Завтра же надо ехать в город искать подарки.
Придя в палатку, зажег свечу, достал из планшета тетрадь со стихами и несколько листков деловых бумаг. Прочел и удивился: «Жалоба от дежурного по кухне. Вчера старший сержант Рыкалов обругал повара за малые порции, оставленные для нашего взвода». Миронов, недолюбливая Рыкалова за его «неуклюжесть», при разборе вспылил и отругал помкомвзвода. «Вот помощничка бог послал, всегда после его помощи надо самому делать», — с досадой думал он.
Есть еще неотложное дело: доложить начальству о рапорте Ежа. Он просит дать ему краткосрочный отпуск по случаю смерти матери.
С досадой положил Саша в планшет жалобу и задумался. Да, но почему же стихи о знамени, которые, казалось, после строевого смотра написать так легко, не получались? Сколько он уже извел бумаги! Миронов знал, что поэтам не всегда удается сразу выложить на бумагу то, что хотелось бы. «Двадцать первый вариант, — сказал он себе, — и все не то. Какие-то рифмованные строки, правильные, но холодные и бездушные, похожие на те, что некоторые поэты пишут в газету к праздникам. Ну, а что, если прочитать их вслух?»
Мы рады Параду, Шагаем все рядом. И, все заглушая окрест, Звенит и грохочет, Поет и хохочет Полка златотрубный оркестр.— Фу ты, какая чепуха! Хохочет оркестр… — Он невольно поморщился. — Фальшиво. Да и какому параду? Ведь это был строевой смотр? Может, лучше строчки о знамени?
Пусть ярко, как пламя, Горит наше знамя, И свет его вечно живет. Всегда оно с нами, Армейское знамя, Как птица, стремится вперед!— Плохо, — признался он себе. — И потом эта внутренняя рифма в конце строки… — И, взяв новый чистый листок, он написал сверху: «Последний вариант» — и подчеркнул. — Завтра на свежую голову. — Так нестерпимо хотелось спать! Ветерок, легкий и шаловливый, ворвался в палатку, чуть не потушив огня. В ноздри ударил запах цветущей сирени и лесной сырости. Разноголосая команда: «Отбой!», нарастая, приближалась. Повсюду стихали голоса бойцов, ложившихся спать. Миронов прилег на койку, закурил. «Полежу немного и сбегаю к Дуброву. Погляжу, как ему дежурится. И заодно взгляну на взвод. Как они там…» В глазах расплывался дрожащий свет свечи. Пламя колыхалось от дуновений ветра. И, наконец, ветер осилил его и погасил. И тут же сон закрыл отяжелевшие веки лейтенанта. Голова приятно закружилась, словно от бокала хорошего вина. И через минуту он крепко спал.
…Тихо в лагере, крепок предутренний сон бойцов. Безмолвны стройные ряды пирамидальных сахарно-белых палаток, вымытых дождями, выхлестанных ветрами, выгоревших под знойными лучами солнца. Одинокими тенями маячат дневальные на линейках. Через ровные промежутки времени пройдет смена часовых, и снова все тихо, спокойно. Кругом все погрузилось в безмолвие. На дереве не шелохнется листик, на земле — травинка, — все объято глубоким сном.
На востоке едва обозначалась теплящаяся полоска утренней зари, когда к штабу полка на бешеном карьере проскакал конный — посыльный.
И скоро посредине лагеря полка, там, где под навесом стоит полковое знамя, раздались резкие звуки трубы дежурного сигналиста: «Тревога!» Труба торопливо будила всех. Ее звуки, знакомые по прошлым тревогам, в это раннее утро были какими-то особенно тревожными, словно сигналист выражал ту страшную опасность, которая зловещей черной тучей нависла над границами нашей Родины на рассвете двадцать второго июня.
— Тревога! В ружье! — кричали, дублируя команду, дневальные и дежурные в ротах.
Посыльные, застегиваясь на ходу, бежали как оглашенные к палаткам, где размещались командиры. Караул в полном составе выстраивался на передней линейке.
— Тревога, боевая тревога! — Андрей Полагута склонился над койкой и тряс Миронова. — Товарищ лейтенант, боевая тревога!..
Миронов вскочил, сел на койку и несколько секунд сидел неподвижно, бессмысленно уставясь на Полагуту.
— Ну и крепко же вы спите, товарищ лейтенант, — сказал извиняющимся голосом Полагута, — Я вас давно подымаю и вот решил потрясти…
— Что случилось? — спросил Миронов.
— Боевая тревога, товарищ лейтенант! Боевая тревога! — повторил Андрей. — Разрешите идти? Мне еще Аржанцева надо поднять, у него связной заболел…
Через две минуты в полном снаряжении Миронов выскочил за связным.
Солдатские сборы недолги. Прошло не более трех минут, и из палаток уже выскакивали бойцы, надевая на себя снаряжение и направляясь к оружейным пирамидам.
Вмиг острый забор винтовок в пирамиде растащили сотни протянутых рук.
В лагере еще было сумрачно от утренних теней деревьев, когда весь полк, батальон к батальону, выстроился и застыл в безмолвном ожидании приказа. Изредка звякнет штык, глухо ударит ручка лопаты о приклад винтовки или протарахтят катки запоздавшего «максима». И опять все замрет в напряжении, как туго натянутая, потерявшая звук струна. Бойцы полушепотом переговаривались. Командиры подзывали к себе старшин, сержантов и вполголоса отдавали какие-то распоряжения.
«Вот, черт возьми, не дали вдоволь поспать в воскресенье. Наверно, опять какой-либо проверяющий приехал мутить людей», — так думал не только Еж, но и многие бойцы.
Повернув голову к Андрею, Еж спросил недовольным шепотом:
— Как думаешь, чья это затея, людей по выходным будить? Опять марш-бросок в противогазах или еще какая-нибудь чепуха?
— Не знаю, — резко ответил Андрей. — Может, и бросок… Спать хочется, аж кости ломит. — И он сладко зевнул, так что в скулах что-то хрястнуло.
— Гляди, вон комбат подъехал, — кивнул Ефим влево. — Сейчас все будет ясно.
Командир батальона с заспанными глазами, как всегда угрюмый, ловко спрыгнул со взмыленного, в яблоках, красивого жеребца с упругой лебединой шеей и торопливо направился к батальону.
Нетерпеливо выслушав доклад начальника штаба о готовности батальона к действию, он вышел на середину строя, внимательно и придирчиво осмотрел застывшие шеренги красноармейцев. Затем, понизив голос, будто враг мог подслушать его, сказал:
— Товарищи бойцы и командиры, нам поставлена боевая задача совершить марш в укрепленный район и занять позиции. Есть сведения, что немецкая армия нарушила нашу государственную границу…
Он внезапно прервал речь. Все стояли в каком-то оцепенении, взвешивая каждое слово комбата. У всех запечатлелись в памяти слова: «Немецкая армия нарушила границу…» Как-то не верилось, но вместе с тем никто и не сомневался, — командир батальона говорит горькую правду.
Комбат с начальником штаба и с командирами рот отошел в сторону и развернул карту. Его окружили командиры. Они достали из планшетов блокноты, бумагу и стали делать какие-то заметки.
— Не может этого быть… Война? — продолжал сомневаться Андрей Полагута. — Ну, выдадут боевые патроны, совершим марш в укрепленный район, займем его, а к вечеру дадут отбой. Комбат поблагодарит батальон за отличные действия, и вернемся обратно в лагерь. Сколько таких тревог было, не перечесть! А наш Канашов мастер их разыгрывать и днем и ночью.
Мысли Андрея прервала команда, поданная лейтенантом Мироновым.
— Равняйсь!.. Смирно! — громыхнул его резкий окрик и прокатился по лагерю — и куда-то сразу исчезло пугливое эхо.
Взвод в полной боевой выкладке зашагал по пыльной дороге на запад навстречу неизвестности, а может, и войне…
Часть вторая Так началась война
«Да разве найдутся на свете такие огни, мука и такая сила, которая бы пересилила русскую силу…»
Н. В. ГОГОЛЬГлава первая
В два часа ночи двадцать второго июня генерала Мильдера разбудил адъютант. Из штаба танковой группы пришел срочный приказ в плотном конверте с тяжелыми сургучными печатями. «Вскрыть и ознакомить офицеров не позже три ноль-ноль», — гласила строгая надпись. Через десять минут к Мильдеру собрали всех офицеров. Они выслушали боевой приказ Гитлера.
«Доблестные солдаты, офицеры и генералы великой германской армии!
Русское правительство, не желая установить дружеские отношения, к которым я стремился, хочет решить вопрос силой оружия.
Несколько случаев нарушения границ со стороны большевиков не могут быть терпимы дальше нашей великой державой.
Надо положить конец этим безумным действиям. Я не вижу другого пути, как ответить силой на силу. Германские вооруженные силы с твердой решимостью будут бороться за честь и жизненные права германской нации.
Я надеюсь, что каждый солдат будет помнить высокие традиции германской армии и выполнять свой долг до последнего. Всегда и при всех обстоятельствах помнить, что вы — представители национал-социалистической великой Германии.
Да здравствует наша нация и империя!
Адольф Гитлер».
Мильдер обратился к ним с речью:
— Офицеры! Мы находимся с вами накануне великих исторических событий. Долгое время готовились мы к этой решительной схватке. Вы должны не только вселить в своих солдат веру в успех войны с русскими, но и предотвратить легкомысленное отношение к новой, очень сложной задаче, которую нам предстоит решить. Уверен, что вы самоотверженно будете выполнять каждый мой приказ. Германия гордится своими танковыми дивизиями. Я призываю вас высоко нести их громкую боевую славу и честь через все сражения с врагом. Желаю успеха. С богом, вперед! Хайль Гитлер!
Ответные ликующие крики еще долго звучали в ушах Мильдера, когда он в ночных сумерках торопился на свой наблюдательный пункт. Он прибыл туда в три часа десять минут двадцать второго июня.
Стоя на наблюдательном пункте — колокольне польского костела, Мильдер вдыхал свежий ночной воздух и с тревогой осматривался вокруг. Нигде ни единого огонька, ни шороха. Широко раскинулось небо в мерцающем блеске золотых звезд. Генерал глядел на сливающийся с небом высокий берег противника. Русские, очевидно, не подозревали, что через несколько минут на их головы с воем и грохотом обрушатся сотни тонн металла, беспощадно уничтожая все на пути.
Мильдер взглянул на часы: три часа четырнадцать минут. Секундная стрелка начала свой последний круг. Сейчас, как только она подымется в зенит и сделает первый скачок, в этот тихий мир ворвется ураганом война.
Неожиданно на колокольне протяжно, со скрипом, напоминающим скрежет ржавого железа, застонал сыч. Холодные мурашки побежали по спине Мильдера. И тут же, заглушая крик птицы, свистя зловещим посвистом, полетели над головой снаряды и мины. Началась артиллерийская подготовка.
Мильдер увидел, как частые разрывы, вспыхивая, освещали черные силуэты крепостных стен, выхватывая из предутренних сумерек черные проломы амбразур дотов в береговых укреплениях. В течение сорока минут бушевала огненная стихия. Но русские не отвечали, будто это их не касалось или там вовсе никого не было.
— Вот что значит отсутствие у врага разведки, — наклонясь, сказал Мильдер на ухо начальнику штаба подполковнику Кранцбюллеру. Тот восторженно закивал головой. — Мы застали их врасплох… Хорошо работают наши артиллеристы…
Мильдер посмотрел на часы и приказал командирам групп начать захват мостов.
В три часа сорок минут над головой Мильдера проплыли пикирующие бомбардировщики. Еще бушевал артиллерийский огонь, а они, наращивая силу артиллерийского удара, обрушили смертоносный груз бомб на противника. Черными клубами дыма окутались русские позиции. Мильдер пристально всматривался в предутренние сумерки, туда, где находились мосты и куда он направил группы захвата. Вот уже первая и вторая волна бомбардировщиков, разбросав бомбы, возвращается за новыми, а он все еще ничего не знает о действиях своих групп захвата.
Подполковник Кранцбюллер подозвал его к телефону: Мильдера вызывал командующий танковой группы. «Сейчас спросит, захвачены ли мосты», — подумал он. Мильдер сделал знак рукой начальнику разведки, спросил его:
— Есть сведения о группах захвата? Нет? Почему? Немедленно выяснить и доложить…
Мильдер быстро взял трубку и тотчас же увидел, как там, на реке, где едва различимо вырисовывались очертания мостов, взвились и распустились белыми лилиями две ракеты. Это означало — мосты захвачены.
— Доброе утро, генерал Мильдер, — приветствовал его командующий. — Как обстоит дело с мостами?
— Мосты захвачены, — едва сдержал радость Мильдер.
— В четыре часа начать форсирование дивизией. Вслед за вами пойдет дивизия Зимерса, за ней дивизия Штейнбауэра. Переправу будут прикрывать два зенитно-артиллерийских полка.
Мильдер тут же отдал распоряжение своему начальнику штаба, и через пятнадцать минут первые «подводные» танки уже успешно преодолевали этот водный рубеж. Правда, головной танк, как только выкарабкался на берег и устремился по дороге к крепости, был остановлен русской пушкой.
В четыре тридцать генерал Мильдер переправился через Буг на штурмовой лодке. Мильдер, ожидая бронеавтомобиль, подошел к первому немецкому танку, сраженному на русской земле. Это был танк «Т-3». Русская пушка неизвестного калибра нанесла ему смертельный удар в лобовую часть и с такой силой, что он опрокинулся на башню, задрав погнутое орудие и подняв кверху ступенчатые гусеницы, чем-то напоминавшие руки. Весь его жалкий вид молил о пощаде. Генерал снял фуражку, отдавая дань погибшим танкистам.
Подкатила бронемашина, и маленький, полный, белобрысый Фриц Кепкэ — личный шофер генерала Мильдера — отрапортовал о прибытии. Справа и слева от дороги уже горели немецкие танки. Экипаж одного из них, пользуясь маскировкой черного плотного дыма, валившего из подожженного танка, бежал, пригибаясь, назад к мосту, Мильдер сел в бронемашину и молчаливо махнул рукой на дорогу. «Надо их остановить. Они своим паническим видом могут испортить удачное начало», — подумал он, пересекая путь бегущему экипажу.
Глава вторая
Пулеметный взвод Миронова был придан головной походной заставе. Ему было приказано двигаться по дороге через деревню Весняки на урочище Черный Гай и далее к безыменной высоте с двумя березами, где начинался наш укрепленный район. Командир роты отдал распоряжение выделить двух бойцов в головной дозор, и Миронов выслал Полагуту и Ежа. Еж был назначен старшим.
Зарядив винтовки, они быстро направились через редкий кустарник к одиноко маячившей светло-желтой высотке. За головным дозором шел в колонне первый стрелковый взвод, а за ним на уставную дистанцию — остальной состав роты — ядро, затем тыльный дозор. Так, по-учебному, началась война для Андрея и Ежа, а также для их товарищей.
С каждым шагом приближаясь к врагу, Полагута все еще не верил в войну, как не верили и другие бойцы. «Сколько раз вот так же точно было и на учениях, нас тоже поднимали по тревоге…»
Когда первые лучи солнца позолотили верхушки деревьев, Полагута и Еж подошли к урочищу Черный Гай. Придирчиво осмотревшись кругом, они не обнаружили ничего подозрительного. Вот перед ними вьется, теряясь в редком кустарнике, знакомая, исхоженная сотни раз дорога. Каждую пядь земли справа и слева от дороги облазили они на животе, каждую канавку, каждый бугорок осмотрели и изучили на полевых тактических занятиях. Все вокруг казалось прежним, каким они видели это два года или даже неделю тому назад, когда были здесь на занятии. «А может, все-таки это не война?» — задавали они себе вопрос.
Но дивизии Русачева не удалось выйти к укрепленному району, и она вынуждена была принять бой там, где встретилась с наступающим противником.
Вдали задымилась дорога.
— Ложись! — крикнул Еж и упал первым, щелкнув затвором, зарядил карабин. На опушку выскочил и остановился мотоцикл. Двое солдат, одетых в землисто-серые мундиры и черные каски с тупым верхом, слезли и, озираясь, неуверенно вышли на дорогу. Они постояли, осматриваясь, а потом, уткнув в животы автоматы, дали несколько хлестких очередей и направились по тропинке на высоту, где лежали Полагута и Еж.
Понял ли ты, Андрей, кто перед тобой? Но с каждым их шагом становилось все яснее — это были враги. Целься точнее, прищурь левый глаз, затаи дыхание, плавно нажимай на спусковой крючок, как тебя учили! Ничего, если мушка колеблется от воротника до пояса фигуры в землисто-зеленом мундире.
Бойцы притаились в ожидании; земля чутко прислушивалась к тяжелой поступи врагов; ветер спрятался в чащобе.
Полагута нажал спусковой крючок. Звонкий, раскатистый выстрел расколол глухую лесную чащу. Эхо затихло. Опять наступила тишина, но уже не безобидная, робкая, а грозная и притаившаяся.
Андрей приподнялся, взглянул: один солдат лежал на дороге, а другой вприпрыжку, по-заячьи, бежал к лесу.
«Не уйдешь!» — подумал Андрей и, прицелившись с колена, выстрелил два раза подряд. После второго выстрела враг рухнул на землю и замер.
Андрей не мог сдержать восторга, вскочил на ноги. Не терпелось посмотреть, какие они, фашисты? Но короткая пулеметная очередь подняла возле него дымки пыли. Что-то острое больно корябнуло голову. Он упал в траву. Потрогал рукой. Волосы липкие, клейкие, будто кто-то намазал их медом. Отнял руку, посмотрел — кровь. Достал индивидуальный перевязочный пакет, перевязал рану. «А где Ефим? Может, убит?» — мелькнула тревожная мысль.
Противник выжидающе молчал.
Неожиданно появился Еж.
— Что с тобой, Андрей? Гляди, кровищи-то на бинтах сколько, — сказал он, морщась, будто ему самому больно.
— Зацепило малость. Вскочил сдуру, ну и… Где наши?
— Наши позади, — Еж неопределенно махнул рукой. — А нам сержант Правдюк приказал наблюдать за дорогой и опушкой вон до той молоденькой березки. Видишь? Правее нас, за дорогой, Талаев и Мурадьян.
— А рота где?
— Да близко где-то. Наверно, на опушке леса залегли. Ты ползи ко мне, перевяжу получше, а то кровь сочится и бинт съехал.
Андрей подполз к Ежу. Тот развязал пропитанную кровью повязку, деловито осмотрел рану.
— Здорово дерябнуло… — Он осторожно вытер бинтом загустевшую кровь и туго перебинтовал голову. — Берегись бед, пока их нет, не доглядишь оком — заплатишь боком. Ну, а как теперь?
— Да вроде ничего, — неохотно отозвался Андрей, стараясь скрыть боль.
— Беда вымучит, беда и выучит, — добавил Еж, — Давай расползаться. Я залягу у бугорка с ромашками.
Полагута отполз в сторону и начал опять напряженно просматривать опушку леса до одинокой березки, дорогу, но ничего подозрительного не увидел. Тихо вокруг. И казалось, что полчаса тому назад не было ни врага, ни выстрелов и будто война, навстречу которой они шли, так же внезапно исчезла, как и началась. И снова точит червячок сомнения. «А может быть, это просто пограничное столкновение, а не война?» Рассказывают, было похожее года два, когда небольшой вражеский отряд углубился на нашу территорию. Андрей выругал себя за непростительную оплошность: «Ничего еще и серьезного нет, и боя настоящего не было, а я уже ранен».
Солнце начинало припекать. Нагретые травы и цветы курились дурманящими сладковато-приторными, медовыми запахами. «Сколько еще придется так лежать?» — думал каждый, всматриваясь в лесную опушку и серую дорогу. И как бы в ответ на этот безмолвный, томивший вопрос где-то там, за лесом, загудели моторы и разом загрохотали вражеские орудия. Тишину разметали оглушительные разрывы, со свистом и шипением пронеслись совсем рядом невидимые, несущие смерть осколки.
У опушки леса, где стояла молоденькая березка, которая в полосе наблюдения отделения именовалась ориентиром номер первый, взметнулся черный фонтан земли, дыма и огня, и тотчас все увидели, как березка, словно подрубленная, обреченно взмахнула светло-зелеными ветвями и, склонившись к могучим соснам, стала медленно оседать. Сосны пытались поддержать ее, но она, отчаянно цепляясь хрупкими, бессильными ветвями, беспомощно сползала вниз, словно смертельно раненный боец.
Несколько снарядов, угрожающе прошуршав в воздухе, разорвались где-то далеко за лесом. А потом зачастили винтовочные выстрелы.
Полагута, перестав наблюдать, то и дело оглядывался. Ему хотелось увидеть, где же наши? Но их не было, и только на опушке, точно черные фонтаны, взлетали разрывы снарядов вражеской артиллерии.
В нарастающей артиллерийской канонаде никто не слышал шума приближающихся мотоциклов врага. Они, как стадо диких кабанов, неожиданно выскочили из-за поворота дороги и, поднимая облако пыли, помчались прямо на высоту, где лежали Андрей и Еж. «Один, второй, три, четыре», — считал Андрей.
С опушки леса и за высотой, где находился их взвод, затарахтели скороговоркой пулеметы.
Еж подполз к Андрею.
— Давай будем вместе… Гляди, сколько их. Только не стреляй. Подпустим маленько.
Шесть мотоциклов промчались по дороге в сторону головной походной заставы, что залегла на опушке. Когда седьмой очутился метрах в пятидесяти от Полагуты и Ежа, оба бойца одновременно выстрелили.
Мотоцикл рванулся в сторону и, подскочив, как на пружинах, свалился в кювет, поднимая тучу пыли. Андрей и Ефим видели испуганное, побагровевшее лицо солдата-водителя. Расшибся или ранен — не понять, но, сколько он ни пытался, не вылез из кювета: так и остался лежать, подмятый мотоциклом.
— Гляди-ка, наши!.. — оглянувшись назад, обрадовался Андрей.
По высокой густой траве справа и слева ползли бойцы их отделения. Командир отделения Правдюк приблизился вместе с пулеметчиками. Первый номер пулемета Подопрыгора, тяжело дыша, неуклюже передвигал свое грузное, большое тело, то и дело вытирая рукавом пот со лба.
Правдюк дал Подопрыгоре сигнал «вперед», а сам подполз к Андрею.
— Ранило? — спросил он.
Андрей кивнул головой.
— Ну, другой раз будыш умнийше. Противник огонь вэдэ, а вин, як та балерина Сэмэнова, танцуе. Я бачил, як ты всяки хвигуры выделывал, — сказал он с досадой.
— Да и я сам не знаю, зачем выскочил, — повинился Андрей. — Так, сдуру…
— А ты знай, для чого ты туточки… Тут тоби не ученье, а война. Розумиешь?
— Понял, — ответил Полагута и с досадой подумал: «Чего прицепился, как репей?… И без него тошно».
Пока Правдюк пробирал Полагуту, из леса на дорогу выехало несколько автомашин с вражеской пехотой.
— От-де-ле-ни-е… — нараспев, точно на ученьях, подал команду Правдюк. — Прямо на дороге машины противника, короткими очередями — огонь!
Головная машина резко притормозила и остановилась. Из нее выпрыгнули солдаты и, пригибаясь, побежали, развертываясь в цепь.
— Отделение, — строго и резко начал опять Правдюк, — по пехоте противника!.. — Но тут же, не докончив команды, свирепым голосом заорал: — Та що вы дывитесь на них, як очумилы? Бейте их, матери вашей черт!.. Подопрыгора, не давай же им рассыпаться, дьявол их задави!
Никогда не слыхали бойцы такой команды от своего отделенного командира. Он всегда командовал раздельно, внятно, по уставу и не позволял вольностей.
Подопрыгора не выдержал первоначального темпа стрельбы короткими очередями и дал вдруг такую продолжительную захлебывающуюся очередь, что разом прикончил ленту. Правдюк, ругаясь, подполз к нему.
— Заило, товарищ сержант, а писля прорвалось, — пробовал оправдываться пулеметчик, вытаскивая пустую ленту и вставляя новую.
— Я вот тебе прорвусь! — погрозил Правдюк. — Стреляй короткими очередями, прицеливайся, а не поливай, як из пожарной кишки. Команду слухай!
Гитлеровцы, развернувшись в цепь, открыли частый огонь из автоматов. Приполз связной командира взвода, передал приказание: отделению оставаться на прежней огневой позиции.
Вскоре к месту, где лежал Полагута, подобрался на четвереньках лейтенант Миронов. Лицо разгоряченно, глаза блестят.
— Сержант Правдюк, — приказал он, — пошлите за патронами и гранатами к старшине роты! Видите сухое дерево? Там ротный патронный пункт. Только быстрее! Через тридцать минут контратака… Высотку с двумя березками видите?
— Вижу.
— Первая рота контратакует противника на высоте безыменной, а наш взвод поддерживает. Действуйте…
— Есть действовать, товарищ лейтенант.
Миронов обернулся и поманил Полагуту.
— Передайте команду сменить позиции на скат высоты… Видите желтое пятно?
Миронов лежа пристально наблюдал за безыменной высоткой, где находился сейчас противник, которого решил уничтожить контратакой его начальник, старший лейтенант Сизов — командир головной походной заставы. Он вспомнил, как неделю тому назад комбат Горобец на совещании командного состава полка выговаривал Сизову за беспомощность и несамостоятельность в работе. «Привыкли все делать с няньками…». И вот как сейчас он, Сизов, уверенно действует. Обрушив на врага огонь, уничтожил его мотоциклистов-разведчиков и принял смелое решение перейти в контратаку, захватить высоту, господствующую над местностью. С нее открывается прекрасный обзор и обстрел местности. И к ней не так-то просто подойти противнику.
Миронов посмотрел в сторону опушки, где должна была сосредоточиться рота для контратаки. Там никого не было. «Где же они? Наверное, хорошо замаскировались, — подумал он. — Надо добраться до новых огневых позиций, поглядеть, как мои бойцы готовят их».
И вдруг Миронов увидел, что к нему бежит какой-то боец. Наверно, от Сизова. Да, это был связной, но не от Сизова, а от комбата Горобца. Связной сообщил, что роте Сизова приказано отойти, взводу Миронова тоже, и ни в коем случае огня больше не открывать.
— Это почему же? — удивился Миронов.
— Не могу знать, товарищ лейтенант. Комбат говорил, что Сизов за самовольное открытие огня пойдет под суд.
— Под суд?
«А ведь мои пулеметчики тоже вели огонь», — тревожно подумал Миронов.
— Так стреляли же в фашистов… Не в своих! — раздраженно крикнул Миронов. — За что же под суд?
— Не могу знать, — снова повторил связной. — Приказ, говорят, такой из дивизии пришел: огня не открывать…
«Почему же комбат объявил нам, что это война? — подумал Миронов. — Зачем выдали боеприпасы и НЗ[8] бойцам? Зачем поставили боевую задачу? И в нас же стреляли. У меня ранены Полагута, Ягоденко… А в роте Сизова семь человек убито, шесть тяжело ранено и три легко… Неужели все это пограничная провокация?»
Глава третья
1
Взвод Миронова отходил поспешно, в. беспорядке. Пулеметные расчеты, разобрав пулеметы по частям, бежали без оглядки, изредка падая, когда недалеко рвались мины или рядом подымались дымки от пуль противника. И надо считать просто чудом, что взвод отделался только двумя легко раненными.
Командир роты Аржанцев выходил из себя. Он и ругался и грозил, суетясь на своем наблюдательном пункте. Казалось, он изобьет Миронова, когда тот явится. Так по крайней мере думали вызванные к Аржанцеву командиры взводов лейтенанты Дубров и Сорока.
Дуброву хотелось чем-то помочь Миронову. И он сказал радостно и громко, обращаясь к Сороке, чтобы слышал Аржанцев:
— Ты только погляди, под каким сильным обстрелом Миронову удалось сохранить пулеметы…
Аржанцев недовольно перебил его:
— А вам откуда это известно? Привыкли пустое болтать.
Но, увидев, что взвод Миронова действительно вынес из боя всю материальную часть в целости, сердито добавил:
— Он лучше бы не пулеметы, а людей берег. Они под огнем противника бегут, точно ребятишки в войну играют.
Когда запыхавшийся и перепачканный землей Миронов предстал перед Аржанцевым и доложил о прибытии, тот гневно сказал:
— Прибывают, товарищ лейтенант, поезда на станцию… А по уставу надо докладывать: «явился». Это во-первых. А во-вторых, где ваши пуговицы на левом рукаве гимнастерки? — Миронов взглянул и удивился: оторвались сразу обе. — И, в-третьих, извольте вытереть лоб… Он у вас в крови и грязи. Расшибли? Неудивительно: больно усердно земле-матушке кланялись…
Миронов быстро вытер платком лоб. И только теперь почувствовал саднящую боль, какая бывает, когда обдерешь кожу и туда попадет соленый пот.
— Кто вам разрешил, товарищ Миронов, открывать огонь? — Аржанцев сурово нахмурил брови. — Самовольничаете…
Миронов стоял, потупя взгляд. Обидно было слушать все это, а главное: почему нельзя стрелять по врагу?
— А что же нам делать, товарищ старший лейтенант? — ответил он необычно громко и в то же время неуверенно. — Ведь они первыми открыли огонь…
— Ну и пусть!.. Где же ваша выдержка? А может, это провокация? Вы знаете, что Сизова вызвали в штаб дивизии и дело передали прокурору? Судить будут. За самовольство. Понятно?… Да и вам, я думаю, не сойдет это безнаказанно.
Миронов сразу потемнел лицом, стоял подавленный, уничтоженный. «За что судить? Ведь нам поставили боевую задачу…»
Дубров сочувствующе глядел на Миронова…
— Хорошо, что вовремя приостановили эту дурацкую затею с контратакой Сизова, а то положили бы народу невесть сколько. А вас, — он гневно обратился к Миронову, — за один этот отход со взводом надо под суд отдать… Учились, учились на тактических занятиях, а теперь дуете кто во что горазд… Я требую, — обратился Аржанцев к Дуброву и Сороке, — действовать по уставу, а не так как Миронов…
Неизвестно, сколько бы еще бушевал командир роты, если бы не появился новый политрук.
— Товарищи, познакомьтесь, наш политрук роты товарищ Куранда Евгений Антонович, — представил Аржанцев огненно-рыжего, невысокого мужчину лет сорока. В левом и правом нагрудном кармане его гимнастерки блестели узкие зажимы трех авторучек.
Куранда протянул лейтенантам пухлую руку, густо поросшую золотистыми волосами.
— Будем знакомы, товарищи, — проговорил он, улыбаясь и блестя золотыми клыками. — Каково настроение бойцов?
— Отличное, — ответил Дубров. И, покосившись на Аржанцева, добавил: — Рвутся в бой.
Политрук бросил недоверчивый, слегка насмешливый взгляд и обидчиво поджал губы.
— Орлы, значит, в бой рвутся… Это похвально. Вот только вид у лейтенанта Миронова не боевой…
Над головой появились вражеские самолеты. Сверкая серебристым оперением, не спеша они летели правильным тупым клином, как летят гуси. Все подняли головы кверху.
— Двадцать шесть, двадцать семь, — считал самолеты Аржанцев и, оборвав счет, с досадой махнул рукой: — Не меньше сорока…
Миронов видел, что командир роты взволнован, хотя лицо его оставалось спокойным. Никто не заметил, когда и куда исчез политрук Куранда. Он как будто провалился сквозь землю.
— Ну, чего вы удивляетесь? — сказал Аржанцев. — Товарищ только что прибыл на фронт… непривычно ему… — И, подозвав всех, стал ставить задачу командирам: подготовить огневые позиции, в случае необходимости поддержать бой батальона.
Дубров и Миронов недоуменно переглянулись, и оба, спросив разрешения, отправились в расположение своих взводов.
2
На войне нередко бывает, что от трусости до преступления — один шаг. Особенно если воин не приобрел еще самого драгоценного солдатского качества — «обстрелянности». К каждому бойцу приходит оно со временем… И нет здесь единых законов и правил. Но во всех случаях для этого необходим толчок, который заставил бы человека побороть чувство страха, подчинив его своей воле. Люди сильного характера могут добиться такого перелома сами, а люди слабовольные нуждаются в чьей-то посторонней помощи. Кто воевал, тот пережил эти минуты тяжелой борьбы с собой и никогда не поверит, что есть люди, не знающие страха.
Доложив о готовности пулеметных расчетов к поддержке атаки, Миронов торопился на позицию взвода. На опушке леса он увидел труп неизвестного бойца. Тот лежал навзничь, запрокинув голову, острый кадык его, поросший черными волосами, торчал бугром. Глаза с матово-желтыми белками были открыты, иссиня-фиолетовые губы искривились, обнажив почерневшие, прокуренные зубы. Боец обеими руками зажимал на животе смертельную рану. Труп бойца как будто предупреждал: «Не ходи туда, с тобой может быть такое же».
И сразу Миронова охватил холодящий сердце ужас. Он взглянул вперед и оторопел: на позиции с оглушительным воем и свистом падали коршунами-стервятниками пикирующие бомбардировщики. С высоты, покрытой кустами и редким лесом, спускалась, развертываясь в цепь для атаки, вражеская пехота. А там, где были позиции его взвода, уже бушевал огненный артиллерийский шквал, и все заволокло дымом и пылью.
Солнце пугливо юркнуло в лохматую черную тучку, И сразу все потемнело. Неудержимым черным потоком катились на наши позиции гитлеровцы в черных туповерхих касках. Они шли торопливо, упирая автоматы в живот, рассекая воздух угрожающим посвистом пуль.
И казалось, нет клочка земли, который остервенело не клевали бы пули, подымая пыльные дымки. Трава от пронзительного визга и свиста стелилась, как под ветром, а пули неслись пчелиным растревоженным роем, сея повсюду смерть.
За первой цепью фашистских автоматчиков катилась волной вторая, за ней — третья.
«Противник опередил нас!» — в отчаянии подумал Миронов и почувствовал, как страх сковывает его тело и он не может сделать вперед ни шагу. «Что делать? Оставаться здесь? Или бежать на позиции взвода?»
До позиции метров пятьсот. Миронов огляделся. Впереди виднелась заросшая бурьяном яма. Словно кто-то подтолкнул лейтенанта, и он опрометью кинулся к яме, скатился на дно, отдышался. А потом, высунув осторожно голову, стал наблюдать за вражеской атакой. Постепенно дым рассеивался. Миронов увидел своих бойцов. Они все чаще оглядывались, будто ждали от кого-то поддержки. Ему даже показалось, что они заметили его. «Неужели я трус?» — тоскливо подумал Миронов, и сердце его больно сжалось. И вдруг ему страстно, как никогда, захотелось жить. Неужели вся его жизнь, стремление, мечты, учеба — все только для того, чтобы какой-то безвестный вражеский солдат безжалостно оборвал ее в этой яме?…
Он никогда еще не чувствовал себя таким одиноким и беспомощным. Взглянув в ту сторону, где были позиции его взвода, он увидал, как встал Подопрыгора и преградил дорогу нескольким бойцам, отходившим в беспорядке. «Вот он, твой боец, а ты? Зачем только тебя учили?… И что стоят твои два лейтенантских кубика, если ты не можешь владеть собой… Тебе ли повелевать подчиненными?»
Миронов вцепился пальцами в клеклую землю, выскочил из ямы и бросился бежать к позиции своего взвода.
Командир роты встретил Миронова с таким удивлением, как если бы в этот июньский день вдруг выпал снег. Аржанцев почти следом за командирами взводов направился на позиции. Увидев бледного лейтенанта, он встретил его спокойным, недоверчиво-прищуренным взглядом.
Миронову показалось, что Аржанцев догадался. Чувство стыда сковало его. К счастью, командир роты заторопился на левый фланг роты, где началась особенно ожесточенная ружейно-пулеметная перестрелка.
Теперь, когда Миронов возвратился на позиции к своим солдатам и был вдвое ближе к врагу, страх вдруг сменился спокойствием и уверенностью.
3
Нет, Миронову сегодня определенно не везло. Не успел он прийти в себя после пережитого, как его постигла новая неприятность.
Только он начал писать донесение командиру роты в окопчике, приспособленном под наблюдательный пункт, как за спиной послышалось лязганье гусениц. «Неужто немцы?» — мелькнула мысль, и тело стало безвольным.
Но, оглянувшись, он увидел наши танки. «Надо приготовиться поддерживать контратаку пулеметным огнем… Сейчас за ними подымется пехота, — с досадой подумал лейтенант, пряча карандаш и недописанное донесение в планшет. — Опять Аржанцев будет ворчать: „У вас разбит пулемет. За него отвечать надо? Надо. А на основании чего я буду докладывать комбату? Донесение когда представите?“»
Только Миронов высунул голову из окопа, как рядом угрожающе заскрежетало, земля заколыхалась, поднялась стрельба. Миронов инстинктивно пригнул голову. Жаркая волна пыли, запах перегретого масла и бензина резко ударили в нос. Лейтенант разогнулся и, опираясь на руки, попытался вытащить засыпанные землей ноги. Танк остановился. Из полуоткрытого люка выглянул круглолицый курносый паренек. Его попытка сдвинуть к переносице бесцветные брови, — они должны были придать лицу сердитое выражение, — оказалась бесполезной. Брови шевелились, а лицо по-прежнему оставалось ясным и добрым.
Миронов бессильно выругался и погрозил пареньку кулаком. Танкист снял шлемофон и махнул им, приглашая к себе. Но увидев, что лейтенант не двигается, догадался, его завалило землей.
Плотно сбитый, маленького роста танкист, по-видимому командир танка, ловко спрыгнул и подбежал к Миронову.
— Вот раздавили бы, тогда знал! — крикнул он, ухватив лейтенанта под мышки и пытаясь вытащить.
— А вы что, не видите, на живых людей прете! — разозлился Миронов.
— Разглядишь тут в пыли и дыму. Прячетесь, точно мыши по норам…
— Вы полегче, младший лейтенант, — обозленно прервал Миронов.
Танкист вытер рукавом пот со лба и, почувствовав, что не вытащить ему Миронова, побежал к танку, достал лопату и начал разбрасывать землю. Отрывая, он бурчал:
— Наши в контратаку ушли, а мы вот копаемся…
И Саша уже досадовал, что погорячился. Наконец он вылез из окопа. Танкист, улыбаясь, помахал ему шлемофоном, и вскоре танк скрылся в клубах пыли, направляясь к лесу, откуда доносился шум танкового боя.
Час спустя, по пути на запасные позиции взвода, Миронов снова встретил младшего лейтенанта — он был с обгоревшими бровями и закоптелым лицом, покрытым водянистыми волдырями. Но танкист не унывал и, пристально глядя на Миронова, пошутил:
— Никак наша «жертва», — и протянул красную, обожженную руку. — Будем знакомы — Василий Кряжев. Гора с горой не сходится…
— Где это вас? — спросил Миронов, будто это имело значение.
— Там, — танкист неопределенно махнул рукой. Он снял шлемофон. На лбу, будто обруч, остался красный след, взмокшие волосы растрепал ветер.
— Ты не можешь дать мне двух бойцов, лейтенант?
— Зачем?
— Я, как видишь, ничего, а вот моих боевых братишек — башенного стрелка и механика-водителя — тяжело ранило. Надо в медсанбат снести. Они там лежат, — и он кивнул в сторону ямы, заросшей кустами.
— У нас тут недалеко батальонный медицинский пункт. Дам команду бойцам — снесут.
— Покурить есть, лейтенант? Угости.
Миронов достал портсигар и протянул танкисту.
— Бери еще.
— На всю жизнь не запасешься…
— Возьми, раненых товарищей угостишь.
— Спасибо, лейтенант. Ты только не сердись за то, что привалили тебя. Сам знаешь, когда на смерть идешь, вроде слепнешь немножко.
— Да что ты! Я уже и забыл, — проговорил Миронов вслед уходящему младшему лейтенанту.
…Миронов задумчиво глядел на огненно-дымный пылающий закат, откуда так неожиданно пришла война, когда к нему подбежал запыхавшийся боец Мурадьян.
— Товарищ лейтенант, Правдгока контузило!
— Где он? — тревожно спросил Миронов.
— Батальонные санитары забрали.
И эту новость Миронов воспринял теперь как потерю близкого человека.
4
Контратака нашей пехоты с танками, которая имела первоначально успех, захлебнулась. Вражеская пехота снова перешла в атаку и начала обходить позиции взвода лейтенанта Миронова, атакуя вдоль реки.
Соседний взвод, который занимал позиции против брода, сняли и куда-то перебросили. Из лесу выскочили несколько бойцов и побежали к взводу лейтенанта Миронова.
Низкорослый, посеревший от пыли боец, подбежав, крикнул: «Окружили!» И бойцы, только что представлявшие силу, имевшие достаточно боеприпасов и исправное оружие, сразу превратились в беспомощных людей, охваченных паникой.
Каждый думал только о себе. Куда бежать? Где спасаться? Растерянность нарастала с приближением резких винтовочных выстрелов, что смешивались с частой дробью автоматов. «Довоевались! Конец нам тут…» — мелькала мысль. Именно в эту минуту появился лейтенант Миронов. Заметив замешательство, он крикнул:
— По местам!.. Оружие к бою!
И в его строгом взгляде, полном решимости, воины почувствовали ту силу, которой им недоставало. Сила эта передалась бойцам, и они, повинуясь команде, опять обрели прежнюю собранность. Стараясь не смотреть друг другу в глаза, они торопливо заряжали винтовки, готовили гранаты к бою.
А от леса бежали все новые солдаты. Особенно бросался в глаза один: он бежал, как затравленный заяц, за которым гналась стая гончих, и кричал: «Окружили, окружили!» Оружия у него не было, на боку висела чем-то набитая сумка от противогаза, пряжка ремня съехала набок, конец ремня болтался.
Неожиданно столкнувшись с лейтенантом и встретив его суровый взгляд, боец остановился, трусливо съежился и опустил глаза.
— Где оружие и противогаз? Куда дели лопату? — крикнул лейтенант, вытаскивая пистолет и сжимая до боли в руке рукоятку.
Еще секунда — и он застрелит паникера. В это время неизвестно откуда появился комсорг — старший сержант Рыкалов.
— Товарищ лейтенант, — сказал он, — не надо его, он ведь с перепугу горланит… Опомнится!
Сразу Миронов почувствовал, будто на разбеге ему подставили подножку. «Чего суется не в свое дело? — гневно подумал он. — Защитник нашелся…»
— Сам трус и трусов защищаешь? — крикнул Миронов. — Сам знаю, что делаю! — И он осуждающе взглянул на растерянного помкомвзвода. Но пистолет вложил в кобуру и, не скрывая неприязни, добавил: — Пойдите винтовку ему отыщите. Он ее бросил… Выдать гранаты и — подносчиком патронов во второе отделение. Понятно? Под вашу ответственность.
Глядя вслед ему, он подумал о Рыкалове: «Кто только назначил такого на командную должность?… Придется просить, чтобы его забрали от меня…»
5
Ветер доносил из лесу нарастающий гул танков. Канашов то и дело подносил к глазам бинокль и пристально вглядывался в синеющую дымку леса, будто пытаясь разглядеть, что делалось у противника там, за лесом. «Если фашисты бросят на полк танки, нам не удержаться и часу, — думал он. — Ну что можно сделать против танков в окопе для ведения огня лежа?»
Единственно, что успокаивало Канашова, — у каждого бойца оставались еще по две-три противотанковые гранаты. Но не так-то просто бороться пехотинцу без поддержки артиллерии, имея при себе только гранаты, когда на тебя, лежащего в мелком окопчике, надвигается грохочущая тысячепудовая стальная громада и дрожит земля.
И еще одна мысль терзала Канашова: «Кто и почему запретил открывать огонь по фашистам? Почему сняли с роты Сизова, который первый вступил в бой, оттеснил вражескую разведку?! Не поддаваться на провокацию? Ну, да ведь на такие провокации лучше всего отвечать так, как на Хасане, на Халхин-Голе! Что же творится: глупость или предательство? Нас учили бить врага на его территории, а вот нас бьют, а мы сдачи не даем, пятимся…»
Рядом стоял Чепрак. Ему не терпелось доложить о чем-то важном, но, видя хмурое лицо командира полка, он не решался. И, наконец, улучив момент, разом выпалил:
— Товарищ подполковник, комдив требует в штаб лейтенанта Миронова. К прокурору, по делу Сизова…
Лицо Канашова исказила боль.
— Пошли ты их всех знаешь куда!.. Что ж, мне воевать без командиров? Всех заберут, одних — подсудимыми, других — свидетелями! Миронова не посылать.
Снаряд заглушил его ругательства, щедро осыпав Чепрака и Канашова горячей землей.
— Видал, какие любезности! — обтирая с лица грязь, крикнул Канашов Чепраку. — Сюда бы их, этих законников… Под огнем они бы скорей рассудили, кто прав: Сизов или вот эти!
Еще два снаряда образовали вилку.
— Нащупали, сволочи… Сообщите в штаб: меняем наблюдательный пункт. Противник засек нас.
Перебежали на запасной. Отсюда увидели, как на лесной опушке развертывается, соскакивая с грузовиков, вражеская пехота. Слаженно, ловко. Вот уже минометчики кладут серию пристрелочных мин перед нашими неокопавшимися цепями.
— Накроют, — сквозь зубы процедил Канашов, опуская бинокль.
Чепрак взглянул. Немецкие пехотинцы бежали во весь рост, прижав к животам автоматы, — вели на бегу огонь. Трассирующие и зажигательные пули создавали пугающую завесу, казалось: все летит тебе в глаза. «Эх, из „максимов“ резануть бы по ним…»
— Огня не открывать! — повторили из штаба.
— Что ж с ними — целоваться прикажете?! — заревел в трубку Канашов.
— Спокойно, спокойно, — услышал он голос Русачева, — не наломайте дров, как Сизов… Мы запросили штаб армии.
Канашов взглянул на поле боя и увидел, что он уже не в силах предотвратить развивающихся событий. Когда немецкие автоматчики приблизились к нашим позициям, пехота с криком «ура» кинулась в контратаку, Завязался не знающий пощады рукопашный бой. Сердитой скороговоркой заговорили станковые пулеметы, отрезая огнем вторую и третью волну вражеских атакующих цепей.
И тут же позвонил из штаба дивизии Русачев.
— Кто разрешил открывать огонь из пулеметов?…
Канашов молча слушал, наблюдая за полем боя. А когда комдив замолчал, ответил спокойно:
— Товарищ полковник, вы посмотрите, что тут происходит. Рукопашная схватка. Понимаете: схватка!.. Что, прикажете разнимать их?
Комдив выругался и бросил трубку.
Вскоре снова позвонил Русачев.
— Дай точные координаты, где твой НП. Я приеду к тебе…
— Вот несет нелегкая! — проговорил Канашов, кладя трубку.
Позвонил капитан Горобец.
— Товарищ подполковник, атаки противника отбиты. В батальоне много тяжелораненых. Прошу оказать помощь по эвакуации.
Командир полка тут же отдал распоряжение своему помощнику по снабжению выслать транспорт для эвакуации. И почти тотчас же его снова вызвал Горобец:
— Товарищ подполковник, у березовой рощи сосредоточиваются немецкие танки…
По его тревожному голосу Канашов догадался, что над батальоном, да и над всем полком нависла неотвратимая угроза. Немецкое командование решило начать новую атаку вместе с танками, зная, что у нас нет подготовленных для обороны позиций и молчит артиллерия. Комдив категорически запретил артиллеристам открывать огонь.
Немцы опять открыли сильный минометный огонь. Машины, прибывшие для эвакуации раненых, попали под обстрел, и одна из трех была разбита. Остальные укрылись в лощине, поросшей мелколесьем.
В это время из лесу вышли вражеские танки. Они шли медленно, настороженно, поводя тонкими длинными хоботами, будто обнюхивали воздух.
Канашов с тревогой оглядел поле боя. Оно было покрыто бугорками трупов — наших и вражеских. Но как только показались танки врага, многие из этих «трупов» зашевелились. «Это тяжелораненые», — подумал Канашов и выругал про себя помощника по снабжению за то, что тот долго не присылал машин для эвакуации.
…У поломанной молодой березки, кора которой была иссечена минометными осколками, лежал тяжелораненый. Ветки березы услужливо прикрыли его лицо от палящих лучей солнца. Изредка он открывал тяжелые веки и долго смотрел в небо. И когда он глядел в беспредельную глубину, ему становилось легче и не так жгло внутри. Раненый с трудом оторвал от земли отяжелевшую голову и сразу почувствовал резкую боль в левой руке. Осколком разбило и перерезало сустав у локтя, и рука теперь беспомощно болталась… «Руку отымут!» — с ужасом подумал он, и вдруг до него донеслось глухое урчание вражеских танков.
Сильным рывком он поднял свое израненное тело. В голове кружилось, туман застилал глаза. Он сел, прислонился к поломанному стволу березы — по коре тек сок. Потянулся губами, лизнул языком сладковатые капли. Еще и еще… А оторвавшись, увидел, как стремительно ползли вражеские танки, подминая и давя тяжелораненых, которые безуспешно пытались уйти от них. Некоторые бойцы начали отходить. Страстно захотелось остановить бегущих. Но как? Крикнуть? Разве услышат его слабый, одинокий голос? Он потеряется среди оглушающего скрежета гусениц.
Но где же лейтенант? Может, убит? А сержанты где? Он ощупал вещмешок. В нем лежали две противотанковые гранаты. Двух мало… Если бы еще две-три штуки.
В нескольких метрах от него лежал убитый боец. Чуть поодаль еще один, лицом вниз. Превозмогая боль, пополз он на правом боку. Обшарил вещмешок, нашел еще две гранаты. «Теперь есть чем встретить», — подумал он.
Бессильный, лежал он, наблюдая за двигающимися по полю танками. Внезапно они остановились, сделали несколько выстрелов по опушке леса. Там проходила вторая линия нашей обороны. «Почему же молчит наша артиллерия?» — недоумевал раненый, чувствуя, как голова кружится все сильнее, боль в руке нарастает, а силы покидают его…
Немецкие танки сделали еще несколько выстрелов с места и, видя, что наша артиллерия молчит, прибавив ходу, уверенно двинулись в атаку.
Раненый с трудом разжал сухие, горячие губы. Надо уползти, найти надежное место. Но куда? Нигде поблизости ни оврага, ни глубокой ямы… Да и поздно… А может, еще и есть время? Что же молчит наша артиллерия? Наверно, ее уже уничтожили. Он видел утром, как вражеская авиация бомбила наши позиции. «Что делать? Даже если подобью один танк, их много…» Кровь больно ударила в виски. «Умирать так по-глупому. Нет! Так просто я не сдамся!» План созрел мгновенно. Он быстро вставил запалы в три гранаты и заткнул их рукоятками за пояс брюк. Одну оставил для броска по танку. «Если не попаду и он пойдет на меня, наверняка подорвется…»
В волне развернувшихся атакующих танков один вырвался вперед. Он шел уверенно, все подминая на своем пути. Это был, по-видимому, командирский танк. Он двигался к сломанной березе. Правая рука с гранатой медленно развернулась над плечом…
Канашов поймал в поле зрения бинокля тяжелораненого. Он, свесив голову, упирался грудью в расщепленный ствол березы. «Видно, нет сил держаться на ногах, — решил подполковник. — Кто же это такой? — старался угадать он. — Ах, да это помкомвзвода Рыкалов!..» И вдруг голова старшего сержанта повисла, а все тело бессильно склонилось к земле. Убит или еще раз ранен?
На НП прибыл Ларионов. Левая его рука, забинтованная по локоть, висела на подвязке.
— Разрешите доложить, товарищ подполковник. На левом фланге немецкая атака отбита…
— Руку в рукопашной ранило?
Ларионов кивнул головой.
Канашов стал вновь наблюдать за полем боя.
— Смотрите, смотрите!.. Видите сломанную березу? — крикнул Канашов, показывая пальцем.
Ларионов и Чепрак напряженно всматривались в сторону, указанную командиром полка.
Вражеский танк приближался. Он был уже метрах в пятнадцати от Рыкалова. Старший сержант, встав на колени, уперся грудью о ствол сломанной березы и метнул гранату навстречу танку. Рыкалов промахнулся: граната разорвалась в стороне от танка. Танк с ожесточением рванулся на него, и тотчас же послышался еще более сильный взрыв. Танк закрутился на месте с перебитой гусеницей. Чепрак изумленно поглядел на Канашова и Ларионова.
— Он заманил его на себя и подорвал!.. — не веря глазам, крикнул Чепрак.
Старший политрук молча снял пилотку и склонил голову. Его примеру последовали командир полка, и начальник штаба.
— Погиб комсорг батальона, героем погиб, — сказал взволнованно Ларионов. — Надо в газету нашу об этом написать, чтобы все в дивизии знали о его подвиге…
— Да, железный был солдат!.. — тяжко вздохнул Канашов и нахмурил брови.
Как только была подбита ведущая машина, немецкие танки остановились. Они, как стая матерых волков, видя гибель своего вожака, вдруг попятились назад и гуськом начали отходить на дорогу.
— Ну, уж это вам не пройдет безнаказанно! — И Канашов твердо приказал по телефону: — Открыть огонь! Сосредоточенный огонь по мосту!.. Ни одного не упускай живым. Что? Почему? Я приказываю открыть огонь, слышишь ты, приказываю! — И, бросив трубку, крикнул ординарца. — Оставайся за меня, Чепрак. Я к начальнику артиллерии поеду, надо дать ему жизни. Отказывается выполнять приказ. Видите ли, Русачев запретил…
И только спустя минут десять в сторону отходящих немецких танков полетели с шипеньем снаряды, но время было упущено, и артиллеристам удалось подбить лишь два танка.
Вскоре Канашов возвратился на свой наблюдательный пункт. Он был возбужден, но доволен.
— Немедленно составить наградной лист на Рыкалова, — приказал он Чепраку. — Он совершил настоящий подвиг…
И тут же Канашова подозвал к телефону Русачев.
— За отмену моего приказа и самовольное открытие огня отстраняю вас от командования полком и докладываю об этом командующему. Теперь вам не избежать трибунала. Вот до чего довела вас ваша дурацкая инициатива. Полк сдайте майору Белоненко… Ясно?
Канашов в ярости сжал трубку.
— Нет, товарищ полковник. Полк не сдам, пока не будет приказа командующего.
— Ах, так! Ну, подожди, я на тебя найду управу, самовольщик!..
Глава четвертая
1
Передовые части танковой дивизии Мильдера перейдя Западный Буг, попытались с ходу овладеть Брестской крепостью. Но гарнизон крепости оборонялся стойко. И тогда они, обойдя крепость, ринулись напролом, форсируя реку Муховец. О смелости и находчивости танкистов Мильдера узнал командующий танковой группой и выразил полное удовлетворение. Об этом сообщили в штаб танковой дивизии…
Мильдер был в хорошем настроении. По этому поводу он позволил себе за завтраком выпить рюмку долголетнего французского коньяка «Букет Парижа». Не теряя ни минуты, достал пухлый блокнот, предназначенный для дневника и названный им «Записки о походе на Восток», и коротко, по-военному, занес свои первые впечатления:
«Внезапность нападения на противника была осуществлена по всему фронту прорыва, включая и мою танковую дивизию. Наш корпус благодаря смелым действиям специальных групп, подготовленных мною, захватил мосты через Буг в полной исправности. Командующий группой остался весьма доволен действиями моей дивизии и объявил благодарность. В тот же день дивизия после упорных боев с русскими танками захватила Кобрин, а вечером завязала бой в Березе Картузской. Наше наступление развивается точно по заранее намеченному плану».
Записи Мильдера прервал вошедший подполковник Кранцбюллер, он доложил о потерях в боях за Кобрин.
— Мы потеряли шестьдесят три танка? — удивился Мильдер. — Но Кауфман докладывал, что русских танков было не более полка…
Эта сводка слегка расстроила генерала. Он задумался и отложил дневник в сторону.
— Все шестьдесят три полностью уничтожены? — недоверчиво переспросил он.
— Нет, господин генерал. Тут указаны суммарно общие потери. Я включил сюда и потери при форсировании и те боевые машины, которые временно выведены из строя. При соответствующем ремонте они могут быть опять возвращены в строй.
— Ваша точная бухгалтерия, подполковник, вызовет не очень приятное впечатление у командующего. Укажите потери раздельно, в сводках — утренней и вечерней, и уточните, сколько танков может быть возвращено в строй. Их, мне кажется, не следует показывать в списке потерь, — строгий взгляд Мильдера остановился на лице подполковника, и тот понимающе кивнул.
Вошел майор Кауфман.
— Господин генерал, командиры полков только что доложили, что захвачена Береза Картузская. Полк Нельте вырвался вперед и, преследуя отходящего в беспорядке противника, находится в десяти-пятнадцати километрах от Слонима.
— Благодарю вас, Кауфман, за приятные вести, — улыбнулся Мильдер. Отыскав на карте город, он прочертил к кружочку, означавшему город, жирную стрелку. — Подполковник Кранцбюллер, распорядитесь, чтобы завтра, к утру двадцать четвертого июня, был оборудован для меня командный пункт южнее Слонима.
В одиннадцать часов утра генерал Мильдер прибыл на свой новый командный пункт, в пяти километрах юго-западнее Слонима. На подступах к городу еще шли ожесточенные бои, и в северо-восточном направлении непрерывно плыли тяжелые косяки пикирующих бомбардировщиков. Противник упорно сопротивлялся. Танковый полк, действующий на правом фланге дивизии и наступающий вдоль шоссе Слоним — Барановичи — Минск, несколько раз врывался на юго-западную окраину Слонима, но, не выдержав сильного заградительного огня противника, отходил, теряя все больше и больше людей и боевых машин. К двенадцати часам дня Мильдер решил снять его и вывести из первого эшелона во второй. Полк потерял половину машин.
Мильдер забеспокоился. С минуты на минуту он ожидал прибытия командующего группой. Как доложил Кранцбюллер, командующий был недоволен тем, что дивизия Мильдера так долго «топчется на одном месте».
Действительно, вскоре на командный пункт явился командующий в сопровождении командира соседней пехотной дивизии генерала Фридриха фон Штейнбауэра, кичливого себялюбца. Мильдер его не терпел.
— При таких бешеных темпах наступления можно надеяться, что к исходу дня наши передовые танковые части выйдут к старой русской границе, — сказал командующий.
— О да, господин генерал-лейтенант, русские уже не оказывают сопротивления… Они бегут без оглядки, — подтвердил Штейнбауэр, закуривая душистую гаванскую сигару.
Генералы стояли возле командного пункта Мильдера, когда со стороны небольшой березовой рощи, оставшейся в тылу дивизии, началась артиллерийская перестрелка и послышалась раскатистая дробь пулеметной стрельбы. Вскоре из рощи выскочил немецкий грузовик. Он быстро мчался к командному пункту и вдруг вспыхнул. Черный дым закрыл машину. Стрельба на шоссе участилась.
— Подполковник Кранцбюллер, выясните обстановку и доложите! — приказал Мильдер.
Но из черных клубов дыма неожиданно появились на шоссе три русских танка. Они шли на большой скорости, изредка делая короткие остановки и ведя огонь из пушек. До них было не более километра. Генералы бросились в блиндажи командного пункта.
— Русские проявляют свой характер, — сказал Мильдер, и все молчаливо с ним согласились.
Встревоженные командиры уже не видели, что русские танки преследовали пять немецких танков «Т-3». Но вот один русский танк круто развернулся на сто восемьдесят градусов и, свернув с шоссе, зашел в ложбинку. Он прикрывал отход двух других. Одним выстрелом он остановил ближайшую вражескую машину, а вторым поджег ее. Немецкие танки открыли сильный огонь, и вскоре один русский танк замолк.
Тогда два немецких танка, свернув с шоссе, пошли вдоль опушки леса, пытаясь обойти русский танк, тот, что, спасая товарищей, остался один в ложбинке. Видно, у него не было уже снарядов. Он молчал. Но вдруг этот русский танк ударил по командному пункту. Один снаряд перелетел, а следующий разорвался близко, где спрятались командующий группой, генералы и офицеры. Танком этим командовал младший лейтенант Кряжев, с которым несколько дней тому назад встретился в бою Миронов.
Никто не знал, что за несколько дней войны Кряжев сменил уже третий экипаж, участвуя более чем в десяти боях. Казалось, смерть сторонится этого бесстрашного танкиста. Вот и сейчас, как дикий зверь на облаве, окруженный вражескими танками, он вместе с водителем продолжал неравный бой. Башенный стрелок был убит, и ему приходилось действовать за двоих: командовать танком и вести огонь из пушки. Выбрав удобную позицию в ложбинке, он придирчиво осмотрелся. Немецкие танки остановились в выжидательной стойке, похожей на стойку охотничьей собаки, приготовившейся ринуться на дичь.
Кряжев оторвался от перископа, нырнул вниз к орудию, быстро пересчитал глазами оставшиеся снаряды: шесть.
Надо расходовать экономно и бить наверняка. Два немецких танка развернулись и начали атаку с боков.
Кряжев торопливо выпустил по правому танку два, а по левому — один снаряд, но не попал.
— Вот черт его дери! — выругался он. И снова навел орудие по правому танку — тот подошел ближе остальных.
Вражеский танк неловко закрутился на месте и вспыхнул.
Оставалось два снаряда.
«Два, два, два», — мелькала беспокойная мысль.
Но теперь немцы уже не решались идти в обход. Они открыли сильный перекрестный огонь и стали приближаться с трех сторон: с обоих боков и сзади.
«Берут на трезубец», — подумал Кряжев, разгадав хитрость врага.
В это время позади танка разорвался снаряд. Мотор кряжевской машины, работавший на малых оборотах, взвыл и, задрожав, смолк.
«Все», — подумали оба танкиста.
— Сели на мель, — сказал Кряжев, стараясь быть спокойным.
Вокруг их танка, будто огненный прибой, бушевали разрывы, обдавая машину звенящим градом осколков. Покидать танк нельзя: орудие исправное, хотя всего только два снаряда, но есть пулемет и несколько дисков патронов.
«Нет, нас не так-то легко захватить. Живыми не дадимся».
— Сергей, — просто обратился Кряжев к механику-водителю, — что будем делать?
Механик кивнул головой, что означало: «Разрешите выйти из танка?»
Кряжев отрицательно покачал головой.
— Только откроешь люк, они забросают нас снарядами… Не пожалеют…
— Стойте! — радостно крикнул Сергей. — Да ведь у нас есть дымовая шашка.
Дымовая шашка могла сейчас сослужить им верную службу. Надо было выбрать момент и поджечь ее, когда вражеский снаряд разорвется вблизи. Противник подумает, что танк подбит и загорелся. А черные клубы дыма на некоторое время создадут плотную маскировочную завесу, необходимую для осмотра машины.
Но танкисты знали, что и дымовая шашка не спасение в этом трудном положении. Она только оттянет время неизбежной развязки в этом неравном поединке.
Кряжев, обдумывая сложное положение, хотел было предложить механику этот план, но тот опередил его радостным возгласом:
— Василий Васильевич, а мотор-то в порядке!
И тут же до слуха Кряжева донеслось сначала недовольное подкашливание мотора, а затем и знакомое усиливающееся гудение.
«Тогда надо бросать эту позицию и прорываться».
Кряжев снова припал к смотровой щели.
А вражеские танки, окружавшие их, медленно сжимали кольцо. «Что делать?» И тут пришло решение: «Подбить один из них и на полном ходу прорываться в сделанную брешь».
Кряжев долго и расчетливо целил в наиболее опасную для них машину. Первым снарядом он заклинил башню вражеского танка, вторым разбил гусеницу.
— Теперь, Сергей, вперед и только вперед! — скомандовал Кряжев.
Танк рванулся и понесся с бешеной скоростью, ломал редкие деревца и кустарник.
Но немцы не собирались упускать добычу. Пользуясь дорогами, они быстро вырвались вперед и отрезали единственный путь к спасению, угрожая с флангов.
Кряжев дал команду сделать короткую остановку. Напряжение с каждой секундой росло. Командир танка торопливо осматривал местность в поисках выхода из смертельно опасного положения и вдруг увидел на курганчике, покрытом кустарником, группу немецких генералов и офицеров. Рядом мотоциклы, легковые машины.
«Командный пункт противника», — подумал он и сразу принял решение: «Уничтожить». Он подал команду механику, и танк, оставляя за собой густое облако пыли, рванулся на курганчик. Еще несколько секунд — и он раздавит, как яичную скорлупу, легкий блиндаж вместе со всеми находящимися здесь генералами и офицерами. Но немецкий танк, обходивший русский справа, успел сделать несколько выстрелов и поджег русский танк в нескольких метрах от командного пункта Мильдера.
Механик-водитель был сражен осколком насмерть, Кряжев, раненный в голову и правую руку, все же достал перевязочный пакет и с трудом сделал себе перевязку. Сильная боль иногда заставляла его закрывать глаза. Вот уже все ближе и ближе слышны резкие, отрывистые голоса немцев:
— Рус, рус, капут, капут!..
Кряжев вынул пистолет, с трудом приподнял отяжелевшее тело. И тут почувствовал, что танк горит. Едкий запах машинного масла и бензина ударил в нос. «Нет, живым не дамся!» Он открыл башню и стал стрелять, но вот пуля обожгла щеку. Кряжев опустился в башню, наполненную дымом. Задыхаясь, вынул обойму, В ней оставался один патрон. «Вот это мой». И с этой мыслью он нажал курок, приставив пистолет к виску. Раздался сухой щелчок. Кряжев нажал еще раз. Опять щелчок. «Осечка», — понял он и, задыхаясь от дыма, вылез из танка.
И тут же схватили его и через несколько минут со связанными руками повели куда-то. «Отвоевался ты, Василий Кряжев», — мелькнула тоскливая мысль.
Солдаты пинками и ударами автомата грубо подталкивали его. Они знали: русского танкиста непременно расстреляют.
А еще через несколько минут потрясенные генералы с благодарностью смотрели на своих танкистов, спасших им жизнь. Перед ними стояли закопченные, обливающиеся потом три немецких танкиста — экипаж братьев Кассэль.
Командующий подошел и каждому пожал руку. Он тут же потребовал, чтобы Мильдер представил их к награде.
К группе немецких генералов и офицеров подбежал худощавый переводчик и, вытянувшись, доложил, что захваченный танкист — русский офицер.
Кряжев стоял в стороне со связанными назад руками, окровавленные бинты съехали на глаза. Он широко расставил ноги, будто желал найти надежную опору, и все же невольно покачивался, видно от большой потери крови.
— Где остальной экипаж? — спросил командующий.
— Убиты. Остались в танке.
Командующий недоверчиво взглянул на Кряжева. Неужели один человек мог вести машину и стрелять?
— Развяжите ему руки и поправьте повязку, — приказал он солдату.
Тот быстро развязал руки и грубо поправил повязку. От боли лицо Кряжева передернулось. Командующий задумался. Взгляды всех были прикованы к нему.
— Мы умеем ценить храбрость солдата. Я сохраню вам жизнь…
Ему казалось, что это решение поднимает его авторитет в глазах подчиненных. Он как бы говорил этим: «Главное в войне — храбрость, знайте это».
— Если бы вы дали честное слово не воевать против германских войск, то… — он помедлил, как бы раздумывая, — я отправил бы вас в Германию…
Кряжев демонстративно отвернулся.
— Но я знаю, вы не дадите нам слова… Вы закончили войну, господин Кряжев…
Эти слова прозвучали зловеще и больно отозвались в сердце танкиста. Конвойный солдат подошел к Кряжеву и кивнул ему головой, что означало: «Пойдем!» И офицер-танкист, гордо подняв голову, пошел навстречу неизвестности.
А вечером Мильдер сделал такую запись в дневнике: «Сегодня мои солдаты-танкисты проявили чудеса героизма. Они спасли жизнь мне, командиру дивизии, командующему и генералу соседней дивизии».
«Русские, бесспорно, очень храбрые воины, но я уверен, что с такими солдатами, как экипаж братьев Кассэль, умеющими защитить жизнь офицеров и генералов, мы одержим победу…»
2
Ранним утром, когда солнце медленно поднималось из-за леса, генерал Мильдер сидел в штабном автобусе, склонившись над картой. Вороша волосы левой рукой, он перекладывал фотоснимки, сличая их с донесениями, и делал пометки на карте.
Разбираясь в разведывательных сводках, он отметил, что его дивизия уже встречалась с дивизией Русачева, причем, по донесениям, представленным в штаб, они уже уничтожили ее, и вдруг она опять откуда-то появилась. Опять разведчики подвели… Если в штабе группы сообразят и доложат командующему, будет неприятность. У этого болвана Кауфмана совершенно отсутствует чувство трезвого анализа, присущее настоящему разведчику. Оказывается, этой проклятой русской дивизии опять удалось ускользнуть, и, по данным авиаразведки, она вчера подходила тремя колоннами к областному городу, крупному узлу железных и шоссейных дорог.
Мильдер отложил наградной лист Кауфмана. В автобус вошел Кранцбюллер.
— Я присутствовал сейчас, господин генерал, на допросе, который вел Кауфман. Он допрашивал двух молодых русских офицеров. Неделю назад они были выпущены из училища, еще не воевали ни одного дня, даже не имели личного оружия.
Кранцбюллер мельком взглянул на наградной лист Кауфмана.
Мильдер поднял глаза и строго посмотрел на Кранцбюллера.
— Я недоволен Кауфманом, — и он протянул сводки. — Дивизия Русачева живет, а что доносил Кауфман?
Кранцбюллер смутился. Как исправить этот промах, вина за который лежала и на нем? Кранцбюллер вытянулся, лицо его приняло виноватое выражение.
— Учтите: мне нужен настоящий, опытный разведчик, а не счетовод… Кстати, что он делает с русскими офицерами после допроса?
— Расстреливает… Ведь у нас нет команд для конвоирования пленных.
Мильдер задумался.
— А ведь эти офицеры могли быть нам весьма полезны. Позовите ко мне Кауфмана.
— Простите, господин генерал, но допрошенные русские офицеры уже расстреляны…
— Нет… Кауфман положительно ничего не соображает. Вызовите его немедленно. Если он сам не способен думать, то, может быть, сумеет воспользоваться хоть своим безукоризненным русским произношением.
3
В дивизии теперь только и говорили о героическом подвиге старшего сержанта Рыкалова. Политработники замучили расспросами Миронова. Посетил взвод и беседовал с бойцами парторг полка Ларионов. Несколько раз приезжал редактор дивизионной газеты, переспрашивал, уточнял. На другой день вышла дивизионная газета. На первой полосе газеты был помещен портрет Рыкалова с очерком на всю страницу «Бессмертный подвиг», написанным Ларионовым.
И как только газета попала к Канашову, он тут же направился в политотдел.
Заместитель командира дивизии по политчасти полковой комиссар Коврыгин встретил его настороженно.
— Ну что, подполковник, опять чем-то недоволен?… На что жаловаться пришел?
Канашов достал из полевой сумки наградной лист на Рыкалова, бумагу с резолюцией Коврыгина: «Отставить».
— Я хочу знать, товарищ полковой комиссар, чем вызвано это решение? Человек не пожалел жизни…
— Это демагогия, подполковник… Никто не думает предавать забвению подвиг Рыкалова. Газету видели? Это одно. Политработники проведут беседы с бойцами о герое. Мы решили послать письмо его родным…
— Рыкалова надо представить к награде, товарищ полковой комиссар. О таких людях должна знать вся армия. А то, что вы делаете, имеет местное значение.
— Ну, подполковник, знаете, не вам меня учить…
— Я настаиваю на подписании наградного листа, — твердо сказал Канашов, кладя перед Коврыгиным новый наградной лист.
— Да вы с ума сошли! То просили ему орден Ленина, а теперь хотите, чтобы ему звание Героя присвоили?
— Да, Героя… Направьте, там разберутся.
— Этого мы не можем сделать. Ни комдив, ни я не будем подписывать этого документа. Послать реляцию на награждение, когда дивизия отступает?! Вы в своем уме?
— Я думаю, Рыкалов остановил вражеский танк, не зная, будем ли мы отступать или наступать. Вы должны сделать это как коммунист, которому партия доверила воспитание тысяч людей.
Коврыгин сердито блеснул глазами и крикнул, теряя самообладание:
— Вы демагог и невоспитанный грубиян! Я старше вас по званию, я требую…
— Тогда я вынужден действовать через вашу голову. Там, наверху, определят, кто из нас прав, — перебил его Канашов и, рассерженный, вышел.
Но не прошло и получаса, как, прихрамывая на правую ногу, в комнату вошел старший политрук Ларионов. Раненая рука его висела на подвязке. Вид у него был встревоженный.
Коврыгин, не глядя на вошедшего, быстро разгребал на столе двумя руками одновременно кипу бумаг и, подняв глаза на парторга, догадался о цели его прихода.
— Вы тоже ко мне насчет Рыкалова?
— Да, товарищ полковой комиссар.
— Поддался Канашову и пришел убеждать меня, что Рыкалову надо звание Героя присвоить?…
— Не поддался, а глубоко убежден, что Рыкалов этого заслуживает. Я сам видел, как комсорг совершил этот подвиг.
— А знаешь ли ты, что пока вы выпрашиваете ему звание Героя, в других ротах и полках многие наши воины тоже подвиги совершают?
— Если и они, жертвуя жизнью, останавливают врага, им тоже надо присваивать звание Героя…
— Эх, товарищ Ларионов, партийного подхода у вас к фактам нету, хотя мы парторгом вас назначили… Живет в вас эдакий журналистский зуд, удивить всех броским словцом, сенсацией. Да если бы мы с вашей щедрой журналистской руки звание Героя давали, то, глядишь, через месяц мы бы имели в армии целые полки и дивизии из Героев!
— Не сомневаюсь, что их будет очень много… А насчет зуда, товарищ полковой комиссар, так партией я воспитан… Это мой долг — коммуниста и журналиста — писать правду о войне и подвигах советских людей.
— Ну, вот что, — встал раздраженный Коврыгин, — хватит передо мной блистать эрудицией. Идите выполняйте свои обязанности и не мешайте мне работать. Скажите спасибо, что у меня нет времени заниматься подобными демагогами. А то бы вытащил вас с Канашовым на парткомиссию да так продраил с песочком, чтобы надолго запомнили…
Ларионов стоял, подняв гордо голову, и смотрел откровенно и осуждающе в глаза Коврыгина.
— Напрасно вы из парткомиссии делаете пугало для коммунистов… Поверьте, Канашову и мне, простреленным вражескими пулями, в жизни ничего не страшно.
…Когда дверь захлопнулась, Коврыгин задумался: «А что, вдруг напишут жалобу члену Военного совета? Ведь надо же такое совпадение: в одном полку и два таких скандалиста. Следует предпринять кое-какие контрмеры. Русачева надо убедить в несостоятельности их затеи с Героем».
Глава пятая
1
Дивизия Русачева получила приказ отойти в район Столбцы и там влиться во вновь создаваемую армию под командованием генерала Кипоренко.
С наступлением темноты полку Канашова удалось, наконец, оторваться от танков противника и выйти из боя. В течение ночи полк шел по лесным дорогам, а на рассвете сделал привал. Рота Аржанцева отдыхала в небольшой березовой роще, неподалеку от штаба полка, расположившегося в избе лесника. Несмотря на усталость, никто не спал: слишком тревожны и остры были впечатления первых боев. Бойцы лежали, курили, шли разговоры о подвиге Рыкалова. Некоторые пытались предугадать, как развернутся дальнейшие события.
Полагута и Еж лежали рядом, положив под голову вещмешки. У Андрея болела голова, нудно шумело в ушах. Подле него долго умащивался Еж. Он перекатывался с боку на бок, несколько раз вставал и снова ложился. Потом снял сапоги, развесил портянки на кусте и накрылся с головой шинелью. Не спалось. Затягиваясь, Еж блаженно вдыхал горьковато-едкий дымок махорки, чуть припахивающий запахом цвели.
— Как мы ловко, Андрей, сегодня стукнули фашистов по рылу. Я вот — гляди на меня: Еж и Еж, что с меня возьмешь?… А как лег за пулемет, сколько накосил! Что снопы валялись по полю… А хлеба, хлеба-то! Мужика с головою прячут. Вот уродило! Как думаешь, долго с немцем провозимся? Неужто убрать не успеем? — с беспокойством спросил он.
— Не знаю, — ответил Полагута.
— Подымайсь, подымайсь, подымайсь! — вспыхивали и затихали звонкие голоса команды.
Когда рота выстроилась и замерла, на поляну вышел политрук Куранда. Он откашлялся, бегло осмотрел бойцов и сорвавшимся от волнения, голосом заговорил:
— Товарищи бойцы и командиры!
Все затихли. «Сейчас он все разъяснит», — надеялся каждый.
А Куранда расправил округлые плечи, отведя их назад, будто намереваясь нырнуть в плотную людскую массу, и, блеснув на солнце золотыми клыками, заговорил скороговоркой:
— Фашистские вояки, завоевав почти всю Европу, возомнили себя непобедимой армией и ринулись очертя голову на Советский Союз. Ну что же, если они хотят отведать силу нашего оружия, мы люди не жадные, угостим, не пожалеем. Снарядов и пуль у нас хватит. Красная Армия сейчас сильна, как никогда, у нас есть все для того, чтобы достойно рассчитаться с врагом: танки, самолеты, несметное количество пушек. Вчера наш батальон отбросил фашистских вояк к границе и уничтожил свыше батальона немецких солдат и офицеров. Мы преклоняем голову перед бессмертным подвигом Петра Рыкалова и уверены, что с такими воинами быстро добьемся победы над врагом. Наши потери незначительны, большинство — раненые…
В это время из последних рядов раздался приглушенный вздох, и кто-то в сердцах сказал вполголоса:
— Ну и брешет, как по нотам поет. — И, помолчав, добавил: — Ему бы в ту свалку сунуться, где мы были…
А возбужденный Куранда продолжал:
— Наш основной закон — воевать на чужой территории. Он скоро вступит в действие… Так пусть же вспомнят фашисты, как их отцы и деды в 1918 году бежали без оглядки от молодой, только что рожденной в боях Красной Армии. Теперь Красная Армия, вооруженная первоклассной техникой, способна в короткие сроки покончить с наглым врагом, окончательно разгромить фашистов…
Еж толкнул локтем рядом стоявшего Полагуту.
— Ну и чешет!.. — подмигнул он в сторону Куранды.
Полагута шикнул на Ежа, и он смолк. Но ненадолго.
— Хорошо бы и нам на такой случай сапожки хромовые заиметь! — проговорил он язвительным шепотом.
— На какой такой случай? — спросил, хмурясь, Андрей.
— А на случай обещанной легкой победы… — лукаво кивнул Еж на политрука.
— …Да, да, не пройдет и двух недель, как мы будем праздновать с вами победу в Берлине, — уверенно продолжал Куранда.
— Эх, и прошелся бы по берлинской главной улице с таким вот кандибобером! Все немки попадали бы от восхищения, — прошелестел явственный шепоток Ежа.
Заканчивая речь, Куранда неожиданно выкрикнул: «Ура!» И этот крик, подхваченный двумя-тремя бойцами передней шеренги, вспыхнул, как огонь в сыром хворосте, и тут же погас. Всем стало неловко за политрука. Сконфуженный, он весь сжался, будто кто-то его намеревался ударить, и, потупясь, направился на правый фланг к командиру роты.
Аржанцев решил выручить его и, выйдя на середину перед строем, спросил, кто желает выступить.
Из строя вышли сержант Тузловцев, Еж и несколько бойцов из других взводов. Но выступить не пришлось: прибежал связной.
— Роту немедленно на митинг батальона.
— Пошли митинговать, — бурчали некоторые бойцы. — Отдохнуть бы лучше дали, чем языком чесать.
— Митинговать — не воевать, — бросил другой.
На опушке леса подковой выстроились роты. Аржанцев подал команду и бегом повел туда свою роту.
— Ну и потеха, там кто-то за нас воюет, а мы тут по митингам вперегонки гоняем, — сказал на бегу один из бойцов.
— Товарищи бойцы, сержанты и командиры! — звонкий и тревожный голос заместителя командира батальона по политчасти Бурунова сразу привлек к себе внимание. — Вчера в четыре часа ночи мы, выполняя приказ, выступили на защиту наших границ. Нанеся коварный удар по-бандитски, из-за угла, фашисты надеются быстро сломить нашу способность к сопротивлению, посеять среди нас панику, подавить боевой дух и заставить нас капитулировать. Над Родиной нависла грозная опасность. Враг развернул свои войска и повел яростные атаки. Он вводит все новые и новые силы пехоты и танков, а его авиация непрерывно обрушивает смертоносный груз бомб на наши города и села, убивая мирных жителей, женщин, детей и стариков. Наши братья по оружию — пограничники, истекая кровью, несколько дней сдерживали бешеный натиск вражеских полчищ. И наше место там, рядом с ними, — показал рукой Бурунов на запад. — Мы будем стоять на том рубеже, на котором нам прикажут. Родина надеется на нас, товарищи. Не посрамим ее святой чести! — призывно и клятвенно закончил он свою речь и, окинув строгим взглядом ряды бойцов, сержантов и командиров, коротко бросил: — Коммунисты — ко мне!..
— Разойдись! Становись! Равняйсь! Смирно!.. — метались эхом разноголосые команды.
Еж наклонился к уху Андрея и, обдавая его жарким дыханием, указал глазами на политрука Куранду и стоявшего рядом с ним Бурунова:
— С одной насести, да разные вести.
Андрей утвердительно кивнул головой.
2
Миронов долго разыскивал Жигуленко. «Куда он запропастился?» — думал лейтенант, возвращаясь в роту. По пути он встретился с Дубровым.
— Ты кого ищешь? Наверно, Евгения? Злой он сегодня. Пререкался с Курандой. Назвал его Микитой-приписником. Политрук грозился пожаловаться в политотдел…
По лицу Дуброва нельзя было угадать, говорит ли он это с радостью за то, что попало его недругу, или безразлично относится к этому случаю.
— А ты гранаты и патроны на взвод получил? — спросил, зевая, Дубров. — Приказ пришел перебросить наш полк на машинах. Говорят, немцы где-то прорвались, — сказал он об этом с таким равнодушием и спокойствием, будто все это не имело к нему никакого отношения.
Поговорив с Дубровым, Миронов заторопился во взвод и только вышел на опушку леса, как столкнулся с Евгением.
— А я тебя уже больше часа разыскиваю.
Оба молча сели на траву.
— Ну, как тебе речуга нашего Куранды Баланды понравилась? Ты не смотри удивленно, не я автор… Это ему бойцы уже прозвище придумали.
— Немного прихвастнул, конечно, насчет двух недель, — ответил Миронов, — а так вообще чем скорее, тем лучшее
Жигуленко лег на живот, подпер подбородок рукой.
— Вот за это хвастовство мы с ним и сцепились… Слыхал?
Саша утвердительно кивнул головой.
— Он меня мальчишкой обозвал, а я его приписником… Отрастил живот и ходит важничает: «Я журналист… Мне все известно…» — «Давайте, — говорю ему, — реально смотреть на войну. До Берлина все-таки семьсот километров. Минимум надо месяц, а вы такие сроки берете, будто нам не воевать с фашистами придется, а катить по асфальтовой мостовой с победными маршами, как они по Европе».
Миронов сорвал одуванчик, пожевал горьковатый стебелек губами, сплюнул и спросил:
— А как думаешь, почему Бурунов ни слова о Берлине? Что он, меньше Куранды знает, что где творится?
— Бурунов людей мобилизовать хочет, а наш-то оратор — патефонная пластинка.
— Как думаешь, Евгений, если скоро войну окончим, дадут отпуск домой?
В холодно-тусклых глазах Жигуленко тяжелое раздумье.
— Вчера Наташу убило, — сказал он тихим, приглушенным голосом.
— Наташу?! — вскрикнул, не удержавшись, Миронов. — Убило? — не веря словам, вцепился Саша в руку товарища, сжав ее до боли. — Да говори же, где убило, — тряс он Евгения, чувствуя, что не в силах больше владеть собой.
— В военном городке, во время бомбежки…
Миронов вскочил, намереваясь бежать, но его ухватил Жигуленко и с силой притянул к себе.
— Куда ты, чудак? Никому ни слова… Об этом еще никто не знает, кроме меня…
Миронов сел на землю.
Никогда еще за всю его жизнь не было ему так тяжело и противно глядеть на белый свет. И на это яркое солнце, и на задумчивый лес, и на Евгения, сообщившего ему эту горькую новость.
3
На лесной опушке приютилась одинокая бревенчатая изба. За столом сидит полковник. У двери с винтовкой и противогазом стоит красноармеец в форме войск НКВД. Полковник делает знак рукой, и конвоир вводит молодого лейтенанта. Голова его забинтована. Его обнаружили спящим в сене представители заградотряда. Один из них был в форме капитана, другой — лейтенанта. Обвинив лейтенанта в дезертирстве, они долго допрашивали его, грозили расстрелять. А потом отобрали документы и посадили в погреб.
— Лейтенант Нежинцев, — полковник смотрит в лежащий перед ним документ, — мы точно установили, что вы не дезертир, а командир-выпускник училища и направлялись в часть. — Полковник пронизывает взглядом лейтенанта, — Почему же вы, лейтенант, были пьяны и спали в сене? Объясните!
— Товарищ полковник!.. — виновато твердит Нежинцев. — Я… мы… я… с товарищем следовал…
— С каким товарищем?
Лейтенант мнется: видно, ему не очень хочется вспоминать об этом.
— Я и мой товарищ лейтенант Кочура позавтракали утром в ресторане и выехали в часть на попутной машине, так как поезда на Брест теперь не ходят: говорят, немцы захватили Кобрин…
— Да при чем тут немцы? — ударяет по столу рассерженно полковник. — Вы когда должны были прибыть в часть, лейтенант? Двадцатого июня, а сегодня двадцать четвертое. Вы увиливаете от службы… прячетесь…
— Товарищ полковник, — пытается возразить Нежинцев, — мы ведь не виноваты, что попали под бомбежку…
— Да, но где же ваш товарищ? Не оправдывайтесь, лейтенант.
Нежинцев, глядя в строгие глаза полковника, морщится от колючего взора.
— Моего товарища убило, — понижает он голос, — шофера убило и бойца… А меня, — развел он руками, — сами видите.
— Но почему вы оказались спящим в скирде, когда кругом немцы и мы отступаем?
Нежинцев удивленно глядит на полковника. «Разве я виноват?» — говорит его наивный, мальчишеский взгляд.
— Я… я, товарищ полковник, очень устал… Ну, прилег отдохнуть на минутку — и уснул.
— Хорош командир! Идет война, он отдыхать вздумал. — Полковнику надоел этот детский лепет лейтенанта, и он махнул рукой. — Ладно, лейтенант. Ваше счастье, что вы были ранены. Подойдите ко мне ближе.
Нежинцев удивленно посмотрел на полковника и приблизился к столу. На столе развернута карта пятидесятитысячного масштаба. Километров десять южнее областного города начерчен синим карандашом парашютик. Город опоясывает красная зубчатая шестерня. Она обозначает круговую оборону.
— Вы меня не знаете, лейтенант?
— Нет, — отрицательно качает головой Нежинцев.
— Я начальник штаба армии, в которую вы направлялись служить.
Лицо Нежинцева оживилось. Ему приятно, что с ним, лейтенантом, разговаривает такой большой начальник.
— На вас возлагается ответственное поручение.
— Я вас слушаю, товарищ полковник, — вытягиваясь, отчеканил Нежинцев.
— К вечеру вы должны быть в городе, разыскать там самого старшего командира и передать от моего имени эту карту и приказание немедленно уничтожить вот здесь, — ткнул он карандашом в нарисованный парашютик, — немецкий воздушный десант. Численность его точно не установлена, но, по данным нашей разведки, там не меньше полка. Вам все понятно, лейтенант?
— Ясно, товарищ полковник.
Полковник сказал красноармейцу:
— Дайте ему лучшую лошадь… И предупреждаю, лейтенант, если вы опять попадетесь в пьяном виде или будете отдыхать при исполнении служебных обязанностей, я расстреляю вас.
— Приказ будет выполнен, товарищ полковник.
Нежинцев торопливо сложил карту и, не помня себя от радости, — еще бы, ему удалось выпутаться из такой непредвиденной неприятности! — выскочил из избы.
«Подозрительный полковник, — подумал Нежинцев, когда вышел. — Вроде с лица русский, а говорит с каким-то странным акцентом».
Нежинцеву дали коня. Черная атласная шерсть его блестела. Он гарцевал на тонких упругих ногах и удивленно косил на лейтенанта глазом, выгибая лебединую шею.
— Лейтенант умеет ездить конь? — спросил тоже с акцентом красноармеец в мешковатом новом обмундировании. — Конь немецкий…
— Могу, могу, не сомневайся, — блестя глазами, ответил Нежинцев.
«Должно быть, недавно в армию призван из гражданки, по мобилизации. Ишь, какой несуразный! — отметил Нежинцев. — Наверно, полковник взял в ординарцы земляка».
Конь рванулся с места так, что перехватила дыхание, и, вырвавшись на дорогу, пошел галопом. Нежинцев сжался в пружину, напрягая все силы и стараясь сдержать коня, но тот, не слушаясь, рвался безудержно вперед.
К вечеру Нежинцев с трудом остановил запалившегося коня. Дальше было ехать нельзя. Он бросил коня и сел на попутную машину. В тот же вечер, часов в восемь, он стоял перед полковником Русачевым. Выслушав приказание начальника штаба армии, комдив долго изучал присланную карту и изредка тяжело вздыхал.
— Приказ есть приказ, — сказал он стоящему подле него Зарницкому. — Вызови ко мне командиров полков.
— И как все это нелепо получается! — возмущался Зарницкий. — Заняли оборону в городе, и вот на тебе: бросай все и иди уничтожай десант. Товарищ полковник, может быть, нам подождать, пока не наладим связь со штабом армии?
— Да ведь ты еще с утра послал офицера связи, и он все не возвратился. Что ж нам ждать? Пока мы с тобой налаживаем, нам головы поснимают за невыполнение приказа. Сам знаешь, какое время.
— Да, — согласился Зарницкий, — придется выполнять… Но кто же останется оборонять город?
— Вызови ко мне срочно коменданта города. В его распоряжении имеется строительный батальон и комендантская рота.
В полночь дивизия Русачева уже следовала в район предполагаемой высадки немецкого воздушного десанта. Разведчики, которых Русачев, буквально загонял, требуя сведений, доносили одно и то же: никакого десанта нет. Но Русачев настойчиво требовал «искать десант» и к утру, взбешенный до предела, пригрозил расстрелять командира роты разведки за невыполнение приказа. А к вечеру следующего дня стало известно, что немецкие танки после короткой перестрелки ворвались в город и захватили его без боя.
Русачев приказал взять под стражу лейтенанта Нежинцева. «С этим вражеским лазутчиком надо разобраться и расстрелять перед строем за измену Родине». Он поручил это дело Зарницкому и прокурору дивизии, а от политработников был выделен Бурунов.
…Мильдер торжествовал. Майор Кауфман блестяще выполнил его задание. Переодевшись в форму советского командира-полковника и владея русским языком, он сумел убедить молодого лейтенанта и при помощи его обмануть опытного военачальника, который бы наверняка со своей дивизией задержал наступление на несколько суток.
4
Как только стало известно, что немцы захватили город, Русачев понял хитрую уловку врага. Но теперь он был отрезан от армии. И тут же вскоре вернулся офицер связи. Он вручил Русачеву приказ командующего: оборонять областной центр и не оставлять его ни в коем случае. Из армии обещали прислать артиллерийский полк и танковый батальон.
Русачев был подавлен. Артполк и танковый батальон, направленные на усиление дивизии, теперь попали в окружение. Больно ранило самолюбие Русачева и то, что его, старого, опытного командира, обманули, как мальчишку. Он понимал, что это непростительный промах и что для него не может быть никакого снисхождения.
Русачев никого не принимал, поручив Зарницкому решать все вопросы. Его уединение и горькие раздумья нарушил приход подполковника Муцынова. Полк его должен был следовать в арьергарде дивизии без усиления.
— Товарищ полковник, поймите, — пытался доказать Муцынов, — если противник сядет на «хвост» дивизии, мне с такими средствами долго не удержаться. Продержусь от силы час-два. Хотя бы батарею выделили. Начштаба отказывает…
— Ты что, обсуждаешь его приказ? Это мой приказ, — Русачев гневно уставился на командира полка. — У Канашова научился обсуждать приказы? Не ожидал я от тебя…
— Я не обсуждаю, а только прошу выделить мне средства усиления.
Муцынов помолчал немного, потом сказал:
— Больно вы, Василий Александрович, близко к сердцу принимаете нашу неудачу. Даже лицо почернело. Да кто же виноват в этом? Везде идет такая кутерьма, что сам черт не разберет, где свои, а где противник.
Русачев глянул на Муцынова изучающим взглядом. «Сочувствует, а не понимает того, что его сочувствие еще больнее сердце бередит. Уж лучше бы возразил мне, сказал бы прямо: „Ты, старик, здесь большой промах дал“. Ведь сам думает так, по глазам вижу, а говорит другое. Зачем?»
Русачев, тяжело вздохнув, почесал затылок.
— Ладно, хватит успокаивать. Сам знаю — дал промашку. Ты давай выполняй приказ. Выходи на дорогу и веди полк на Столбцы…
— А Канашов?
— Не Канашов, а Белоненко. Нет больше Канашова. Понятно тебе?
— Слушаюсь, товарищ полковник, Белоненко за мной пойдет?
— За тобой… Давай только побыстрее разворачивайся.
Но полкам Муцынова, Буинцева и Канашова (он не сдал полка и продолжал командовать им) не удалось прорваться через шоссейную дорогу, хотя они дважды пытались это сделать. По шоссе сплошным потоком двигались немецкие войска, и, как только наши части подходили к шоссе, противник встречал их сильным огнем и отбрасывал от дороги.
Разгневанный Русачев, узнав о неудачах, прибыл на командный пункт Канашова. Командир полка обедал.
— Утробу набиваешь, значит… Ты думаешь мой приказ выполнять, подполковник, или нет? Почему до сих пор не передал командование полком Белоненко?
— Жду приказа командующего. Вы не имеете права снимать с полка, товарищ полковник. Меня назначал командовать Нарком обороны…
— Знаю, знаю, ты шибко грамотный. Ну, ничего, приказ получишь… А почему полк не прорвался, если еще считаешь себя командиром полка?
Канашов взглянул на лежавшую рядом карту и медленно ответил:
— Сунулся было… Сто пятнадцать человек потерял ранеными и убитыми. Что же немец, по-вашему, дурак: заманил нас в ловушку, а теперь предоставит нам дороги? Идите, мол, господа хорошие. Теперь нам, товарищ полковник, один выход: по лесным дорогам пробираться…
— Да кто тебе дал право мой приказ осуждать? — И взбешенный Русачев, выхватив пистолет, кинулся к Канашову. — Пристрелю, как собаку! — выкрикнул он, направляя пистолет на командира полка.
Но в это время к нему подскочил ординарец Канашова, грузный, медвежеватый боец. Легким ударом он выбил пистолет из рук Русачева.
— Шо ж вы робите, товарищ полковник? Та хиба же так можно? Да вин же наш полковой батька. Таке сумное уремя, а вы решили нас сыротами по билу свиту пустить.
Русачев побелел от злости.
— Негодяи! Да я вас всех под трибунал! — И он, разъяренный, ушел от Канашова.
При выходе он столкнулся с Буруновым, накричал и на него:
— Бабы вы, а не воинские начальники. На защиту мерзавца вступились. Из-за него чуть дивизию не погубили, а вы ему амнистию просите… Расстрелять его надо перед строем. — И комдив торопливой походкой направился к машине.
Бурунов подумал: «Вот попал под горячую руку! Может, и Канашов сейчас не в духе, а я иду к нему решать такой вопрос? Поддержит ли он меня?» Но он тут же поборол в себе колебания и вошел в блиндаж командира полка.
Бурунов рассказал Канашову о расследовании дела лейтенанта Нежинцева, о решении комиссии дать возможность молодому командиру в бою искупить свою вину и о том, что Русачев настаивает на расстреле.
— Мне кажется, здесь в полковнике говорит больше ущемленное самолюбие, чем здравый смысл. Нельзя так жестоко относиться к молодым командирам. Ведь война только началась, и многие, не нюхавшие пороху, будут ошибаться и спотыкаться. Нам, старшим, более опытным в жизни людям, надо терпеливо учить нашу молодежь, а не прибавлять ненужные жертвы.
Канашов сидел, подперся голову рукой и потупив взгляд, слушал комиссара. Когда он кончил говорить, посмотрел задумчиво в глаза Бурунова и спросил:
— Ну и что вы хотите от меня?
— Думаю, тебе надо вмешаться и постараться убедить комдива в том, что он не прав. Признайся, не прав и ты, Михаил Алексеевич, что вступил в пререкания с Русачевым, — сказал Бурунов. — Нельзя поддаваться минутным переживаниям и делать их линией поведения командира. В твои руки партия судьбу более тысячи людей доверила. А у Русачева их несколько тысяч. И оба вы отвечаете перед партией за них головой. Подумай, смог бы твой полк выполнять боевые задачи, если бы твои подчиненные, нарушая приказы, делали кому что вздумается?
Канашов взволнованно ходил по землянке, заложив руки за спину.
— Ладно уж, — ответил он, — хватит солить мои раны. Не из железа и я. Думаешь, если Канашов суровый на вид, так у него и души нет? Не могу глядеть, как люди, что мухи, гибнут без толку. Не выдержал… Сам знаю, погорячился…
— А зачем ты партию подводишь? Она на тебя надеется, доверяет… В том-то и суть коммуниста, что с виду он обыкновенный человек, но у него сила воли должна быть только железная. Думать надо всегда, что за дела партии мы перед всем народом ответственны. Иначе и революции не было бы, и гражданской войны мы не выиграли бы, и социализма не построили без дисциплины в партии, для всех обязательной…
5
Тем же вечером Канашова вызвал Русачев. Комдив поднял на него изучающий взгляд.
— Обижаешься? А мне, думаешь, легко?
— Нет, товарищ полковник. Не такое сейчас время…
— Чем больше я узнаю тебя, Канашов, тем ты мне все больше нравишься. Рубишь словом, что топором. Но зря ты не ценишь нашего стариковского опыта. А ведь он тоже кровью добыт. Не рано ли ты меня со счетов сбрасываешь? Мы еще повоюем! Что, ошибка моя тебя больно в глаза бьет? Исправлю! Силенки пока имеются, Будь у меня сейчас конники, немцы не раз испытали бы на себе тяжелую руку Василия Русачева.
— Ошибка ошибке рознь. Есть ошибки, которые не исправишь.
— Ты, может, сомневаешься и в том, что Русачев дивизию сможет вывести из окружения? Завел людей — и растерялся? Ну, это шалишь! В гражданскую не в таких переплетах бывать приходилось, не терялся. Под Конотопом комдива беляки срубили, а я тогда, даром что мальчишка был — комэск, а кинулся со своим эскадроном в атаку — и дрогнули белые, побежали!
Русачев ткнул большим пальцем в два серебряных с красной эмалью ордена Красного Знамени первых выпусков.
— Ты думаешь, их мне за красивые глаза дали? Как бы не так! Тогда орден крови стоил. Не то что сейчас. Вот посадил свеклу, бог дождь послал — на тебе орден…
Канашов стоял, хмуря брови. По лицу его было видно: не согласен он с Русачевым. Стоявшие рядом с ним подполковники Муцынов и Буинцев делали ему знаки: ладно, мол, пусть будет так, не спорь.
— Видите ли, Василий Александрович, — сказал Канашов, — то было когда-то… Теперь другой командир нужен.
— Постой, постой!.. Какой это другой? Ага, понимаю, чтобы военную академию прошел… А нас, если хочешь, прежде чем в партию принимать, огнем крестили. И воевали мы не хуже вас, хотя академий не оканчивали.
— Да нет, не о том я. Раньше герой-одиночка диктаторствовал, навязывал подчиненным и умное и глупое: знай выполняй, и слава ему. А теперь главное, чтобы коллектив подчиненных тебе людей чувствовал не только твою правоту и твердость, но и был глубоко убежден, что ты крепче их в военных знаниях. Вот тогда они пойдут за тобой и будут делать все, что ты им прикажешь.
— Нет, Канашов, я с тобой не соглашусь. По-твоему, выходит, главное дело не в полководцах, а в войсках. Стало быть, французские войска могли бы и без Наполеона завоевать почти всю Европу? Командир всему хозяин, без него войска — беспомощная толпа! Да что тебя убеждать! Пока жив командир, все идет, как в хорошем оркестре — по нотам… Убили его — и войска разбегаются. Сам знаешь…
— А я, если хотите знать, ценю полководцев и рядовых командиров, когда вижу в них вдохновляющую силу, которая оказывает решающее влияние на войска для достижения победы. Главная заслуга в победе не полководца — замысел его мог так и остаться на бумаге, а в войсках, которые претворяют этот замысел в жизнь.
— Философская чепуха! Ну, да ладно… А скажи, кто, по-твоему, виноват, что мы с тобой попались в ловушку? Полководец или войска?
— Оттого, что я еще раз скажу, что виноваты вы, товарищ полковник, суть дела не изменится…
— Ладно, ладно, хватит меня учить. Дай тебе волю, ты бы меня под трибунал…
— Нет, я не за это… Расстреливать надо явных врагов… За каждую ошибку стрелять в своих не годится.
Муцынов наклонился к уху Канашова и жарко зашептал:
— Зачем ты так резко, Михаил Алексеевич? Ведь он постарше нас с тобой и пока комдив…
— Воспитание у меня плохое, — нарочито громко ответил Канашов. — Из рабочей семьи я. Отец — шахтер, всю жизнь под землей провел, как крот. Мать умерла, когда мне было десять лет. Некому было воспитывать. Да и я качал работать в шахте с двенадцати лет. Самообразованием доходил до всего. Негде мне было научиться интеллигентному обхождению.
К спорящим быстро подошел озабоченный Зарницкий.
— Товарищ полковник, разведкой установлено, что противник продолжает наступление в северо-восточном направлении. Получена шифрограмма из штаба армии: приказано к утру занять оборону в Столбцах, не допуская прорыва немцев к Минску.
Русачев развернул карту, быстро прикинул на глаз.
— Километров шестьдесят надо сделать за двое суток. Выдержим? — спросил он, обращаясь к командирам полков.
— Трудновато будет, у меня много раненых, — ответил Муцынов.
— У меня все машины побиты. Одни телеги… — тяжело вздохнул Буинцев.
— Кто в авангарде пойдет? — нетерпеливо перебил Зарницкий. — Надо немедленно выступать.
— Давай полк Канашова. У него техники и машин больше. Если столкнется с крупными силами, задержит. С мелкими группами в бой не ввязываться. Понял? Отмечай себе маршрут, Канашов. Да только предупреждаю: отходить без всяких премудростей.
— Товарищ полковник, я прошу направить в мое распоряжение лейтенанта Нежинцева…
— Да вы что, сговорились все спасать его? Ну, Канашов, не ждал я от тебя, что за подлецов ты заступник!
— А я не в дом отдыха его посылать собираюсь… У меня группа подготовлена для глубокой разведки… Вот он ее и возглавит.
— Ну, а если сбежит? Что тогда? Это немецкий лазутчик. Простачка из себя разыгрывает, теленка, даже слезу пустил, а вы ему все и поверили…
— Не сбежит… Пуля предателя найдет.
Русачев поморщился и почесал затылок.
— Черт с ним, забирай! Но если подлеца упустишь — тебя тоже по головке не погладим…
6
Канашов сидел в глубоком раздумье, и взгляд его блуждал по топографической карте, лежавшей перед ним. Кругом леса и болота. Какой дорогой вести полк, чтобы скорее и безопасней выйти к Столбцам? В таких случаях неплохо иметь проводника — местного жителя. Но где сейчас найдешь такого, чтобы был и сведущ и надежен? Война разогнала людей с насиженных мест. Он взглянул с беспокойством на часы. По его расчетам, должна возвратиться разведка. Что-то она запаздывала. Вызвал Чепрака. Надо посоветоваться. Начали вместе изучать карту, прикидывать.
— Вот тут вроде меньше болот и в лесах дорог больше. Как думаешь, Гаврила Андреевич, может, поведем колонну полка сюда? На всякий случай в боковой авангард один батальон…
— Можно и неподвижный боковой отряд. Вот здесь, — ткнул пальцем Чепрак, — узел дорог и высотка командная. Если немцы и вздумают ударить нам во фланг…
— Правильно!.. А пройдут главные силы дивизии, их можно на машинах на новый рубеж перебросить. Прикинь состав отряда, и усиление, и сколько машин, и надо ставить задачу.
С беспокойством в голосе спросил:
— Что-то наших разведчиков нет? Вернутся — немедленно ко мне.
— Есть, — ответил Чепрак и ушел.
Прибыл связной от комдива. Русачев спрашивал, почему задерживаются с выступлением. Торопил и требовал представить ему донесение.
Канашов отправил связного к Чепраку, а сам стал вымерять маршрут движения, с тем чтобы рассчитать, сколько потребуется времени для совершения марша. По его расчетам, по времени никак не укладывались, если вести полк маршрутом, выбранным ими. Можно вести и более коротким, но тут местность более открытая, а следовательно, и контролируемая авиацией противника. Кроме того, близко от шоссейной дороги, где в любое время дивизия может столкнуться с немецкими танковыми частями. А такая встреча, кроме больших потерь, ничего не сулит.
Вошел взволнованный Чепрак.
— Товарищ подполковник, лейтенант Нежинцев не вернулся из разведки.
Канашов вскинул удивленный взгляд.
— Где он? Убит или сбежал? Где сержант Правдюк? Вызвать ко мне. Хватит ему отлеживаться.
— Есть.
«Что ж это такое? — думал Канашов. — Неужели ошибся?… Что докладывать Русачеву?»
Он достал полевую книжку с целью написать комдиву донесение о случившемся. Представил, как Русачев будет поносить его на чем свет стоит. Сознание промаха заставило еще быстрее мыслить. «Думай, Канашов, думай… Понадеялся? Отсылая в разведку, лично инструктировал Правдюка, чтобы был начеку… Была мысль для большей надежности назначить, кроме Нежинцева, еще одного лейтенанта… И что там смотрел Андреев? Тоже, видать, прошляпил. Увлекся, как всегда, и упустил этого предателя».
Его размышления прервал Чепрак, пришедший с сержантом Правдюком.
— Докладывайте, где Нежинцев! — строго приказал Канашов.
Немного торопливо Правдюк доложил о том, что они разведали дороги, были в селе Горишном и, уже возвращаясь назад, получили задачу от Андреева заглянуть вот в этот лесок, показывал Правдюк на карте дрожащим пальцем. Тут надо было обследовать мост через ручей. Нежинцев и Правдюк пришли к мосту, выяснили, что он кем-то разобран, и стали возвращаться по ручью, когда столкнулись с неизвестным. Спросили его, как лучше пройти к селу. Мужик, обросший рыжей бородой, указал им тропинку.
— Отойшлы мы метров пятьдесят, оглянулись, а той убегает. Окликнул его лейтенант: «Стой!» Подозрительный тип тот по нас из нагана давай палить. Рассерчал лейтенант и приказал мне: «Ты обходи, сержант, этого сукиного сына, а я отвлекать буду». Сам перебегает от дерева к дереву и огонь по тому ведет. Я по чаще подбираюсь, значит. Но только слышу: стрельба удаляется. Прибавил шагу, бегом. Потом все смолкло. «Либо патроны кончились, либо кто кого уложил», — думаю. И тишина такая кругом… Блуждал я, блуждал, кричал лейтенанта… Он и голосу не подал. Я своих найшов, Андреева. Той дал мэни духу…
— И правильно сделал, — вставил Чепрак. — Тебя же подполковник предупреждал, а ты уши развесил… — Правдюк стоял, потупив глаза, теребил края гимнастерки.
— Виноват, товарищ майор, виноват, — повторял он. — Недоглядел…
— А может, Нежинцева убил тот неизвестный? — спросил Канашов.
— Может, — неохотно согласился Правдюк.
«О чем же писать Русачеву в донесении? Разведка, мол, в целом прошла успешно, но вот исчез Нежинцев? Нет, так не годится. Надо писать всю правду и начинать с того, что пропал Нежинцев… Пусть попадет мне за промах, но иначе нельзя. Ну, а что делать с Правдюком? Наказать?»
И Канашов приказал составить донесение Чепраку именно так, не скрывая ничего.
— Вас, товарищ сержант, отправляю обратно во взвод. Думал, что хороший разведчик из вас получится. Ошибся. Идите.
Ничего обидней за всю службу Правдюк ни от кого не слышал. Пусть бы разжаловал его командир полка, только не говорил бы таких слов.
— Гаврила Андреевич, вызывай побыстрее ко мне Белоненко. Его батальон назначим в авангард. Полк должен выступить через два часа, — Канашов взглянул на часы. — Донесение комдиву отправь немедленно.
Через два часа полк тронулся в путь. Канашов вел его сам, выслав вперед Андреева с группой разведчиков. Белоненко донес ему, что батальон занял оборону на командной высотке, но противника не обнаружено. Канашов ждал с минуты на минуту приезда Русачева. И предчувствие его не обмануло.
Вскоре подъехал комдив на машине. Но, к удивлению Канашова, Русачев не стал ругать его за Нежинцева. Он сказал ему, покачав головой:
— Ну, кто прав? — И торжествующе поглядел на командира полка и погрозил ему пальцем. — Придем в Столбцы, там разберемся.
Но только уехал комдив, как Андреев появился вместе с лейтенантом Нежинцевым и каким-то дедом. Нежинцев доложил, что тот неизвестный, которого он преследовал и ранил в ногу, все же скрылся от него, но вот неподалеку им была обнаружена лесная сторожка с этим подозрительным стариком, который называет себя Кондратом. Нежинцев обнаружил в сторожке винтовки, патроны, обмундирование красноармейское и решил было расстрелять старика, так как он, по его мнению, врал, что все это не его, а того беглого кулака, которого дед назвал Лукой. Дед уверял, что тот мародер занял его сторожку с какой-то недоброй целью, и лейтенант все же решил доставить старика в штаб, что и сделал.
Выслушав доклад Нежинцева, Канашов отпустил его и вместе с Андреевым допросил старика Кондрата.
Узнав, что дед местный лесник и хочет идти к себе на родину за Днепр, Канашов ухватился за мысль использовать его в качестве проводника. По рассказам Кондрата, он знает путь, который чуть ли не наполовину сокращает их маршрут. Дед попросил только, чтобы ему разрешили взять в сторожке свои дорожные пожитки. Канашов послал с ним бойцов с целью захватить и беглого мародера, но того и след простыл.
Дед Кондрат сдержал свое слово. Он провел дивизию по лесным глухим дорогам, которые не значились на картах, и сократил путь наполовину. Канашов обнял деда на прощание и приказал выделить ему одну телегу с лошадью.
Несмотря на сокращенный путь, дивизия Русачева подошла к Столбцам с опозданием. На окраинах города уже шли оборонительные работы.
Начальник штаба армии, недовольный опозданием дивизии, пригрозил Русачеву доложить командующему. Вскоре генерал-майор Кипоренко вызвал комдива к себе.
«Покарает!..» — тяжко вздохнул Русачев.
Командарм встретил его сурово.
— Не только с вами произошла беда, товарищ полковник. Мы слишком переоценили свои силы, и это заслонило от нас недостатки. И даже когда мы видели свои промахи, не хотели омрачать наш общий торжественный тон и самообманывались. А теперь, когда враг берет нас за горло и начинает душить мертвой хваткой, надо беспощадно отмести прежние иллюзии.
«О чем это он? — недоумевал Русачев. — И какую мою беду считает он главной, за что именно покарает? За то, что оставили без приказа город и попали в окружение, или за опоздание в Столбцы?…»
— Вот вы, товарищ Русачев, врага дурачком считали, а он обвел вас вокруг пальца и почти без потерь овладел крупным областным центром. А в нем десятки промышленных предприятий, сотни тысяч наших советских людей, брошенных на произвол судьбы. Противник осуществил маневр, используя слабое звено в вашем командовании: потерю управления и отсутствие разведки.
«Вот оно что…» Русачев сидел перед генералом, смотрел по сторонам, стараясь не встречаться взглядом. Оправдываться он не хотел — виноват.
— Член Военного совета настаивал на том, чтобы судить вас. И я согласился с этим…
У Русачева заныло сердце. Лицо помертвело. Помолчав немного, командующий армией неторопливо продолжал:
— Но сегодня — отнюдь не из побуждений жалости — я изменил решение и просил командующего фронтом не снимать вас с дивизии. Сегодня я подумал о другом…
Генерал встал и осторожно выпрямился — был он высокого роста и как будто боялся, что может упереться головой в низкий потолок. Темные молодые глаза его с расходящимися к вискам морщинками были серьезны и строги.
— Мало толку, ежели мы вас осудим. Разве этим поправишь дело? Но мне хочется верить вам, товарищ полковник. Ведь вы старый, опытный командир, прошедший горнило гражданской войны. Неужели вас не мучает ваше солдатское самолюбие в такие трудные для нашей Родины минуты? Вы слабы в военном деле теоретически. Я не знаю, почему вас не посылали учиться… Но у вас более чем двадцатилетний армейский опыт, вы боевой командир. Война ведь только началась. — И тут же подумал: «Ведь многие из его современников — хорошие военачальники, а некоторые стали прославленными полководцами».
Командующий армией закурил, предложил папиросу Русачеву и сказал тихо, будто рассуждая сам с собой:
— Перед каждым честным командиром и политработником должна стоять главная задача — по возможности беречь каждого бойца и командира, чтобы они принесли наибольшую пользу в навязанной нам войне.
Зазвонил телефон. Генерал взял трубку.
— Товарищ маршал, дивизии отошли на указанный рубеж… Сейчас собираюсь проехать посмотреть, как оборудуется оборонительная полоса. Меня, признаться, больше беспокоят фланги. Правый сосед — слабый. Левый — неустойчивый, да и местность благоприятствует для действий подвижных танковых групп немцев. Сегодня нами перехвачена радиограмма. Брестская крепость продолжает сопротивление… Обещанная мне танковая бригада до сих пор не прибыла. Со снарядами гоже плохо… Прошу ускорить, товарищ маршал.
Генерал положил трубку и поднял требовательный взгляд на Русачева.
— Сейчас ваша первоочередная задача — привести дивизию в порядок, пополнить всем необходимым и быть готовым к выполнению новой боевой задачи… И вот еще что: возьмите рапорт о снятии с полка Канашова. Я возражаю, и командующий фронтом согласился со мной. Вы, по-моему, напрасно зажимаете его. Будем честно смотреть фактам в глаза… Дивизию из окружения вывел Канашов…
Командующий выжидательно посмотрел. У Русачева от напряжения сдавливало виски. «Сейчас отпустит, — думал он, — только бы поскорее уйти отсюда…»
— Почему, товарищ полковник, опоздали с выполнением моего приказа о выходе дивизии к Столбцам?
Русачев смолчал.
— Объявляю вам выговор, полковник… Можете идти…
По разговору в штабе армии и даже по тому, как генерал, прощаясь, пожал руку, Русачев ощутил всю тяжесть своей вины и понял, что к нему относятся справедливо. И комдиву так захотелось оправдать доверие, которое ему еще оказывали!
Прибыв в дивизию, Русачев загонял штаб и всех командиров, требуя к вечеру занять оборону у Столбцов, и грозился отдать всех под суд за невыполнение его приказа.
Зарницкий принес ему проект приказа об отдаче под суд нескольких командиров, не успевших подготовить позиции к обороне… Но пришел приказ из штаба армии — отойти к Минску.
Глава шестая
1
Вражеская авиация спозаранку гудела в воздухе, как встревоженный улей.
— Разрешите идти вот этими дорогами? — Канашов показал на карте две черные ниточки, пересекающие лесной массив.
— Пойдешь по лесам блуждать, не успеем вовремя выйти к Минску… И так уже сутки потеряли.
— Да ведь если идти по шоссе, вражеская авиация из моего полка форшмак сделает, товарищ полковник. Ведь они по головам ходят. Стемнеет, тогда и на шоссейную дорогу выйдем. Можно будет нажать…
— Запрещаю! Хватит, мне из-за вас выговоры получать… — приказал Русачев.
Канашов с болью в сердце вывел полк на шоссе, ибо приказ есть приказ и его нельзя не выполнять.
Немецкая авиация не давала полку совершать марш, то и дело производя налеты. Полк нес огромные потери и двигался медленно. Канашов снова обратился к Русачеву, но в штабе комдива не оказалось, его вызвал командующий. Канашов доложил Зарницкому, а тот уклонился от решения.
— Чего мудрить? — сказал он. — Делайте, как приказал комдив…
И тогда Канашов взял ответственность на себя. Он решил вести полк лесными дорогами.
К обеим сторонам узкой лесной дороги вплотную подступали заросли молодых сосен. Они цеплялись колючими ветками за борта, будто пытались остановить машины, хотя растянувшаяся колонна двигалась и без того медленно. Она шла по лесной дороге не спеша, как неторопливо ползет уж в густых зарослях травы.
Батальон капитана Горобца двигался в авангарде полка. Но вот батальон догнала легковая машина. Из нее вылез чуть сгорбленный полковник Русачев.
— Можно подумать, капитан, что вы собрались на увеселительную прогулку. — Глаза полковника горели гневом.
— Я выполняю приказ командира полка, товарищ полковник.
— Прячетесь по лесам и делаете вид, будто не понимаете, что совершаете преступление. Командир полка не выполняет моего приказа… Не оправдывайтесь…
Полковник выругался, влез в машину и приказал:
— Батальон немедленно вывести на шоссе и к вечеру занять оборону. Иначе расстреляю! — потряс он для большей убедительности кулаком. — Повторите приказ.
Растерянный Горобец четко повторил приказ.
Машина комдива, из которой продолжали сыпаться угрозы, тронулась с места и вскоре исчезла в клубах пыли.
Через полчаса головная походная застава батальона вышла на шоссейную дорогу. Гладкий как стол асфальт шоссе, казалось, сам стелился под колеса, и они скользили легко, точно коньки по льду. Перед глазами замелькали придорожные кусты, телеграфные столбы. Бойцы повеселели, выбравшись из лесных чащоб. Послышался разговор, смех. Небо чистое — ни облачка.
Горобец вел главные силы батальона, находясь в головной машине, а Бурунов замыкал колонну.
— Может, и правда, Николай Тарасович, зря осерчал я на комдива? Гляди, как быстро движемся, дух захватывает… Хорошо! — сказал Бурунов на коротком привале.
Как только головная походная застава вышла на шоссе, Миронов назначил Ежа наблюдателем за воздухом. Первые полчаса тот внимательно глядел в небо, а потом ему, видно, надоело, и он затеял разговор с Андреем.
— А что, Андрей, вот так по шоссе неделю, и до моих орловских мест докатить можно. Вот бы обрадовалась моя Матрена-то! — зажмурился он. — А вдвоем приехали бы — и не говори! Пирогами бы попотчевала с рисом и грибами. По махонькой опрокинули бы. Колхозом своим не буду хвастаться. На председателей никак нам не везет — забулдыги все какие-то попадаются. К хозяйству нерадивые. Обидно даже вспомнить. Рядом колхозы как колхозы. Рукой подать — село, из которого я жену взял, так там рысаки знаменитых кровей — орловские. На весь мир славятся. А у нас нот никак дело не ладится. — Он призадумался. — Эх, война на как снег на голову свалилась. Даже мать родную схоронить не дала. Хорошая у меня была мать, Андрей. С виду такая сухонькая, а хлопотливая. Скажешь ей, бывало: «Вам бы отдохнуть, мамаша», — так она обидится. «Что, я не человек? Все работают, а я барыней сидеть буду?» Женщина русской закваски.
Еж смотрел прищуренными глазами на Андрея и чувствовал, что тот и мыслями и сердцем в родных местах.
— Я вот прикидываю иной раз, Андрюша, что к чему, и спрашиваю себя: за что это русский народ родной угол так отчаянно любит? А?
— Чудной ты, Ефим. Какие тут загадки? У русского человека душа добрая, привязчивая.
— Нет, нет, ты погоди! — перебил Еж. — Возьмем, к примеру, у нас в Орловщине, скажу прямо, не каждому понравится. Ну какие там красоты? Одни говорят: «У нас красавица Волга». Другие хвалят Кавказ: горы, море, климат — рай божий. Ты вот все Дон свой хвалишь. Тут вот, в Белоруссии, леса, гляди, какие, как в сказке… А у нас что? Избенки под соломой, у дома одна-две березки притулились, ткнул хозяин — и растут, а кругом, глазом не окинешь, поля, лесочки махонькие, редкие, коровенка на лугу пасется. Поглядишь — даже бедновато все с виду. А я вот всю эту бедность ни на какие дворцы не променяю. Как вспомню, так сердце затрепыхается и так сладко заноет… Да, земли у нас хороши, — сказал Еж мечтательно. — Особливо весной. Еще снег по балкам лежит, а на полях уже зазеленело. Эхма, раздолье-то какое, простор! Соскучился я по родной землице. Хоть бы глазом одним взглянуть…
Взор Андрея затуманился грустью. Он, задумчиво всматриваясь в небо, вспоминал тихий Дон, бескрайный простор степной, Аленку…
Но вот Еж услышал приближающийся гул в небе и вспомнил о своих обязанностях.
— Гляди, гляди, — толкнул он локтем Андрея, — никак наши пошли. Красиво идут, как на параде, — восторгался Еж.
Пристально всматриваясь в голубовато-дымчатую даль неба, Андрей увидал маленькие серебряные, будто игрушечные, самолетики.
— А тебе откуда известно, что наши?
— Стало быть, знаю, — уверенно ответил Еж. — Не знал бы, не назначили бы меня наблюдателем. — И он гордо поглядел на Андрея.
Как-то попалась ему в полковой библиотеке книга об иностранных самолетах. Он прочитал эту книгу и под ее впечатлением долго и упорно осаждал лейтенанта расспросами. После этого он прослыл во взводе знатоком типов иностранных самолетов и на тактических занятиях был постоянным наблюдателем за воздухом.
Вдруг группа самолетов развернулась в обратном направлении и стремительно снизилась на колонну батальона. Это произошло неожиданно. Бойцы даже любовались красотой их пикирования и ожидали, что будет дальше.
Но в тот же момент пронеслась команда: «Воздух!» Автомашины и повозки остановились на шоссе. Бойцы, рассыпавшись, бежали в лес. Воздух наполнился режущим воем и свистом…
Андрей, первым спрыгнув с машины, упал, но сразу вскочил и бросился к лесу. Еж кубарем скатился на землю и кинулся вслед за Андреем. Совсем близко послышался угрожающий свист. Ефим упал лицом вниз, но что-то сильное приподняло его с земли и бросило в кучу хвороста. Ефим больно ободрал лицо о ветки.
Повсюду раздавались взрывы; воздух наполнился шмелиным жужжанием осколков, на спину посыпались обломанные ветки, комья земли.
— Только бы миновало, только бы миновало! — беззвучно шевелил сухими губами Еж.
Наконец взрывы стихли, по лесу хлестнул смертоносный свинцовый дождь. Это вражеские самолеты прочесывали его из пулеметов, пытаясь уничтожить все, что еще дышало и жило. Лес зазвенел, заохал, застонал, будто от боли.
«Ти-ди-ди-ди-ди… ти-ди-ди-ди», — запела совсем близко тяжелая пулеметная очередь. Ефим ощутил сильный удар по котелку, который лежал в вещмешке. «Ранило, что ли?» — мелькнула мысль, и он быстро ощупал себя. Но боли не ощущалось. Вскоре все стихло, и до слуха Ежа донеслась глухая, будто из-под земли, команда: «По машинам!»
Еж смачно выругался и побежал разыскивать свою машину. На дороге и в кювете горели разбитые автомашины, валялись трупы бойцов. У машин суетились санитары с носилками.
— Вот тебе и «наши»! У, сволочи фашистские! — Еж погрозил кулаком в небо.
— Ты, гляди, напугаешь, попадают, — мрачно пошутил какой-то боец, проходивший мимо.
Ефим смущенно огляделся: все перепуталось, не поймешь, кто где. К нему подошел бледный Андрей. Ефим подскочил к нему, обхватил за плечи.
— Жив, Андрюша, а я уже думал… Где наши?
— Вон, у поваленной березы. У нас во взводе машину разбило, ту, в которой третье отделение ехало. Пять человек насмерть, а двух тяжело ранило.
— А из нашего отделения?
— Никого… Вот разве только тебя. Все лицо ободрано, точно ты с котами дрался. А что это у тебя из вещмешка пшено сыплется?
Еж быстро снял вещмешок.
— Вот, сукин сын, концентрат в пшенную кашу перетолок. Как же теперь без НЗ? У-ух, да тут сплошные потери. — В котелке зияли пробоины с острыми зазубринами по краям. — Дрянь дело, попортил немец посудину. — Еж засунул котелок в вещмешок. — Для отчетности перед старшиной. Скажи ему, что фашист продырявил, не поверит, подумает — потерял…
И друзья направились к машине.
Взвод уже был в сборе. Поджидали только Андрея и Ежа. Лейтенант Миронов все эти дни был угнетен тяжелым известием о гибели Наташи. Он был замкнутым и угрюмым. Бойцы чувствовали, что он переживает, и не сердились, когда он был резок в обращении с ними. Он набросился на Ежа и стал его так ругать, что тот готов был провалиться сквозь землю.
— Опоздайте мне еще хоть раз, я вас под суд отдам как дезертира, — пригрозил он.
Еж недоумевающе пожал плечами, подумал: «Что же мне, стоять и ждать, когда бомбой накроет?»
— Ну и жизнь фронтовая: солдату и умереть некогда. Мне ведь, товарищ лейтенант, тоже не хочется так вот зазря голову терять…
И, несмотря на то, что Миронов был сердит, он не удержался и скупо улыбнулся.
Только собрались ехать, как мимо колонны пробежал запыхавшийся Дубров.
— Комбата Горобца осколком убило! — крикнул он Миронову и побежал в голову колонны.
Командование батальоном принял старший лейтенант Аржанцев.
Дивизия Русачева по приказу командующего армией должна была войти в пригород Минска — Красное Урочище, пополниться там людьми, вооружением, боеприпасами и занять оборону.
2
Как только Канашову стало известно о смерти комбата Горобца и больших потерях батальона, он вызвал к себе начальника штаба полка Чепрака. Из его доклада Канашов понял, что в гибели комбата отчасти повинен Русачев. Он отпустил начальника штаба и тяжело задумался. Это было грозным предостережением: страшна цена ошибок на войне. Она наносит урон самым большим ценностям — жизни людей, которые доверены каждому командиру.
Ведь смерть бойца или командира не кирпич, разбитый по небрежности, не растраченные деньги, которые можно списать по акту, — материальные потери восстановимы, какими бы они ни были.
Другое дело — человек. Его гибель — безвозвратная потеря. Значит, такие командиры, как Русачев, сами того не понимая, помогают врагу наносить такой урон, который не всегда может причинить нам противник. Ведь не каждая пуля, снаряд, бомба попадает в цель, а вот каждый ошибочный приказ или промах приносит гибель людям, выводит из строя боевую технику и оружие, и при этом нередко в крупных масштабах. Таков случай и с батальоном Горобца. Люди, которые погибли бесцельно, могли бы при правильной организации наступления, обороны или марша жить и активно бороться с противником, а вот убиты они, и при этом враг не поплатился ничем. Но как предотвратить эти тяжелые бедствия, напоминающие чем-то стихийные, неотвратимо-жестокие действия природы? В армии действует железный закон: получил приказ — выполняй. Не выполнишь — сурово покарают, особенно в военное время.
«Неужели нет выхода из подобного положения? — спросил себя Канашов. И сам ответил: — Есть выход. Что означает приказ, который ошибочен или вреден для войск? Это решение, принятое без учета обстановки и возможностей, А раз это так, то получивший этот приказ каждый боец, а особенно командир должен выполнять его не слепо, механически, а с учетом реальной обстановки, по-умному, больше проявлять полезной инициативы. Тем самым выполняющий приказ если не ликвидирует, то наверняка нейтрализует его некоторые нежелательные последствия.
Вот Горобец, к примеру, выполнял приказ Русачева механически. А ведь можно было, совершая марш и ожидая налета авиации, рассредоточить на большие расстояния подразделения, тогда бы потери были меньше. Я сам тоже виноват. Забыл, что служу не начальникам, как бы они ни были высоки в должностях и чинах, а народу».
3
В Красном Урочище в эти дни было особенно оживленно и людно. Сюда направлялись бойцы и командиры, отставшие от своих частей в первые дни войны, легко раненные в первых боях и призывники из военкоматов. В лесных массивах Красного Урочища собрались тысячи людей, огромное количество автомашин и различной боевой техники. День и ночь здесь шла кипучая работа по формированию новых воинских частей и подразделений, пополнению частей и соединений. Людей обмундировывали, вооружали, выдавали продовольствие и отправляли занимать новые оборонительные рубежи на ближних подступах к Минску.
К вечеру полк Канашова, получив новое пополнение с приданными ему двумя зенитными батареями, занял оборону на северо-западной окраине Минска.
Подразделения расчистили берега Свислочи от вербы и тальника. И они теперь стали удобны для наблюдения и ведения огня.
Взвод лейтенанта Миронова поддерживал роту, оборонявшуюся во втором эшелоне батальона. Огневые позиции взвода находились в молоденьком ельнике. Миронов выбрал для пулеметов запасные огневые позиции и собрался было идти разыскивать Дуброва, как неожиданно появился Канашов. Миронов доложил, и подполковник принялся осматривать огневые позиции. Канашов лег, проверил сектор обзора, маскировку и, видимо, остался доволен. У лесной дороги, проходившей среди топких болот и сворачивающей на шоссе, он приказал приготовить позицию для пулемета, который должен был вести кинжальный огонь с кургана.
— Если и прорвутся, ни один из них не уйдет живым…
Миронова одолевало нетерпение спросить о Наташе. А может быть, сведения о ее гибели неточны? А вдруг и Канашов еще не знает…
Канашов радовался удачно найденной позиции. Здесь и застал его Русачев.
— Я решил прибавить тебе участок обороны. Будешь оборонять до изгиба реки. Видишь? — Русачев развернул карту.
Канашов подошел, стал рядом.
— Товарищ полковник, но ведь у меня и без того широкий участок.
— А у остальных, по-твоему, меньший?
Канашов понял: спорить бесполезно.
Миронов стоял неподалеку, боясь встретиться взглядом с комдивом, как бы не сделать какую-нибудь оплошность. Он держался напряженно, на лбу выступили капли пота.
— Скучновато, лейтенант? — лукаво прищурил глаза Русачев. — Немец вот поддаст жару, развеселит…
Миронов смущенно улыбнулся.
— Твоего дружка, Жигуленко, ранило при бомбежке. Боевой командир. Жаль его! Да и я теперь остался без адъютанта. Может, пойдешь ко мне в адъютанты, лейтенант?
Канашов встревоженно поглядел на Миронова: «Неужели польстится?»
— Нет, товарищ полковник, прошу меня оставить во взводе… Я привык к своим людям, — как бы оправдываясь, ответил Миронов.
Канашов углом рта усмехнулся: он гордился своим командиром.
— Ну, как хочешь. Дело твое, лейтенант. Была бы честь предложена… А вот ты не своим делом занимаешься, Канашов. Не отнимай у лейтенанта хлеб. Пусть сам расставляет пулеметы.
— А я и не расставляю, товарищ полковник, а подправляю… Ведь за систему огня отвечаю все-таки я…
— Вот ты и укажи ему, где пулеметы поставить, — сказал Русачев.
Их разговор перебил прибежавший из штаба дивизии офицер связи:
— Товарищ полковник, Зарницкий прислал за вами… Какой-то большой начальник из штаба фронта вас требует.
— Генерал?
— Не знаю, товарищ полковник, не видел.
— А как же приказание выполняешь не зная?
Вдали задымилась дорога, и вскоре возле них остановилась легковая машина — «эмка».
Русачев расправил плечи, весь подтянулся, готовясь к докладу, но из машины вылез молодой полковник с нежным девичьим лицом. Русачев принял суровый, независимый вид. Канашов сразу же узнал Быстрова. Прибывший полковник с пискливым, женским голосом, не здороваясь, набросился на Русачева:
— Почему, товарищ полковник, до сих пор дивизия не заняла оборону?
— А вы кто такой? — грубо спросил Русачев.
Лицо Быстрова залил яркий румянец: резкий и по-хозяйски уверенный голос комдива застал его врасплох.
Стараясь не показать своего смущения и замешательства, ни ответил подчеркнуто важно:
— Я, товарищ полковник, представитель Западного фронта. Лично к вам от имени командующего…
Он подчеркнул это твердо и сразу же отметил про себя, что ответ обескуражил этого суховатого и грубого полковника с черными усиками, о которых ему было сообщено еще в штабе, как о примете Русачева. И Быстров, не сбавляя начальственного тона, продолжал:
— Неужели, товарищ полковник, нельзя было раньше оторваться от преследующего противника и, пользуясь ночным временем, совершить ускоренный марш, чтобы быстрее занять оборону?… Ведь немцы шли за вашей дивизией по пятам… Как же вы теперь остановите их на неподготовленном рубеже?
Русачев смешался. В душе его кипела обида на этого молодого полковника, хотелось сказать ему что-то резкое вроде: «выскочка», «молокосос», но глубоко укоренившееся чувство внутренней дисциплины и выдержки сдерживало его.
Говоря с Русачевым, Быстрое изредка бросал взгляд на стоявшего поодаль Канашова. Самолюбию Быстрова льстило, что в глазах товарища он выглядел «грозой» для его начальника. Но Канашов прервал Быстрова:
— Представьте, товарищ полковник, отрываться от противника не так-то просто… Да и марш совершать быстрее нельзя…
— Это почему же? По-вашему, командующий приказывает невыполнимое?
— Противник на танках, а мы пешком, товарищ полковник. Да и не учились мы этому в свое время…
Быстров резко махнул рукой, сморщив лицо.
— Бросьте, товарищ подполковник, эти нелепые оправдания. И к тому же я говорю с комдивом. Вы кто такой?
— Советский командир!
— Но прежде всего младший по званию…
Он оглядел Канашова с ног до головы. А Канашов гневно осмотрел его, но, повинуясь дисциплине, отошел. Быстров был старшим.
— Правильно, товарищ полковник, — подтвердил Русачев, осуждающе поглядев на командира полка. — Виноваты, что и говорить, опоздали. — И, повернувшись к Канашову, сказал резко: — Чего там оправдываться!.. К вечеру оборона будет занята, товарищ полковник.
— На сутки опоздали… Не знаю, как и докладывать командующему, — раздумывая, вслух произнес Быстров.
Поймав виноватый взгляд Русачева, сказал:
— Мы, товарищ Канашов, учили войска тому, что надо на войне. А вы чему — не знаю… Судя по репликам, вы заражены отступательным духом. — Губы Быстрова тронула насмешливая улыбка. — Это временное явление — отступление.
— Возможно… Но и отступать тоже надо уметь, — ответил Канашов.
— Отступлению не трудно учиться. Повернулся спиной к противнику и уходи.
— Вот он и лупит нас в хвост и в гриву… И беда, что не по заднице попадает, а по голове…
— Я не собираюсь с вами спорить, подполковник. Война покажет, кто из нас прав. Сейчас неподходящее время для дискуссий. Воевать надо…
Канашов собрался было отчитать этого самодовольного полковника, но Быстров, по-видимому, угадал его намерение и заторопился.
— Едемте немедленно в штаб, товарищ полковник, — тоном приказа предложил он Русачеву, и тот покорно согласился.
Канашов проводил Быстрова с неприязнью. «Был некогда дельный, умный командир, а сейчас растерял свои былые качества, превратился в чинушу».
4
Услышав о ранении Жигуленко, Миронов оставил за себя Полагуту и отправился в дивизию навестить товарища.
Жигуленко лежал в медсанбате, расположенном в лесу. Командир, находившийся вместе с ним в палатке, сегодня выписался, и Евгений скучал один. Миронов поздоровался, смущенно улыбаясь, а Жигуленко приподнялся на локтях, обрадованно взглянул на товарища.
— Проходи, проходи, присаживайся! Старый друг лучше новых двух…
Миронов положил перед ним нехитрый подарок: пачку папирос и несколько зеленых яблок, которыми угостил его Еж.
Евгений откусил яблоко и сморщился.
— И-и-и! Москву видно. Кислющее… А впрочем, мне хотелось чего-нибудь кисленького. Спасибо, угадал мое желание. Лежишь здесь без толку…
Евгений распечатал пачку «Казбека» — он любил эти папиросы.
— А я тут ка махорку перешел, — признался он.
— Как у тебя с рукой? — Саша кивнул на перевязанную руку Жигуленко.
— Уже поджила. Вот нога хуже — гноится, — Евгений отвернул одеяло и показал забинтованную ниже колена ногу.
— Где же ты попал под бомбежку?
— Да мы с комдивом к Муцынову ездили… Русачева тоже легко ранило. Ты только об этом никому… Не хочет, чтобы об этом говорили. Нелегко ему, поди, без меня, привык он ко мне… Да и я научился сразу, с первого взгляда, понимать его.
— О Рите есть известия?
— Никаких. Боюсь, как бы ока не осталась у немцев. Да, пляши, Сашка!.. Наташа жива и здорова!
Миронов подскочил, стиснул в объятиях Евгения. Глаза его светились радостью.
— Жива? Где она?
— На курсах медсестер учится.
— Ты откуда знаешь? — спросил Миронов.
— В медсанбат санинструктор новенький прибыл — Таланова. Письмо отцу от Наташи привезла. — Лицо у Евгения оживилось. — А знаешь, Саша, когда я увидел ее, я обомлел. Даю тебе честное слово, таких я еще не встречал в жизни.
— Красивая?
— Этого мало. Ты веришь, я даже растерялся… Ну, двух слов не мог связать… Боюсь, недолго она здесь задержится — гордая. В первый же день поругалась с командиром медицинского батальона. Он сейчас же к комдиву жаловаться. Сам знаешь, если наскочит коса на камень… Ну, об этом после. У вас-то какие новости?
— Командиров-новичков много прислали. Бурунов пошел на повышение.
— Куда?
— К Канашову — заместителем по политчасти. Канашов души в нем не чает. Дубров принял роту у Аржанцева. Командовать батальоном стал Аржанцев. У меня уже было две стычки с Курандой… На марше боец ноги растер, я разрешил ему на повозку сесть, так он меня обвинил в том, что я проявляю либерализм к подчиненным, балую их.
Миронов увлекся рассказом и вдруг с удивлением отметил, что Жигуленко слушает его рассеянно.
— Тебе, наверно, скучны эти новости?
— Да нет, почему же? Я с удовольствием… А как Дубров? Вы же с ним друзья. Он, должно быть, проклинает тот день, когда мы встретились. Поперек пути встал, любовь его отбил.
— Нет. Он не вспоминает о тебе.
— А о Рите?
— О ней — да. Он ее сильно любит.
Надвигались сумерки. Жигуленко тревожно поглядывал на часы — не пропустить бы приход в медсанбат Ляны…
— Мне пора, Евгений, — сказал Миронов. — Как бы не хватились. Я у комроты не отпрашивался: думал, на часок, не больше.
— Ну, поторапливайся, — с готовностью согласился Евгений, — а то и я буду за тебя беспокоиться. Когда лесом пойдешь — осторожней. Немцы пачками забрасывают к нам диверсантов. Вчера почти в пригороде Минска подожгли склад с горючим. У нас в дивизии угнали две машины. И самая плохая новость: лейтенанта Бекчентаева из нашего училища нашли сегодня утром в лесу с перерезанным горлом, без оружия и документов. Теперь в полках специальные группы создают по борьбе с диверсантами.
— Бекчентаева жаль, боевой был парень… Ну, бывай здоров! Выздоравливай поскорее, — и Миронов протянул руку.
…Никогда еще за все эти тяжелые дни войны Миронов не чувствовал себя так легко и свободно. Весь он жил мечтой о Наташе. «Неужели она даже не вспоминает обо мне?»
Глава седьмая
1
Взвод лейтенанта Миронова получил боевое задание: в тылу обороны полка очистить лес от диверсантов и сигнальщиков, — они указывали ракетами самолетам важные цели и объекты в тылу наших войск.
На рассвете, когда густой дымящийся туман еще окутывал лес, взвод отправился на выполнение задания.
— Где тут найдешь их… — недовольно бурчал Еж. — Человека в лесу искать, что иголку в сене.
— Хватит тебе плакаться, — стыдил Андрей. — Приказано — ищи. Начальство знает, что делает.
— Да, знает… Их бы заставить по буреломам лазить. Темно-то здесь, как у медведя в желудке.
Бойцы, рассыпавшись цепью, медленно пробирались среди зарослей, внимательно осматривая каждое дерево, каждый Куст. Задержали двух подозрительных мужчин и направили в штаб.
После двухчасовых поисков Миронов подал команду отдохнуть. Бойцы улеглись на мягкой траве. Ежу хотелось курить, а махорка, как назло, кончилась. «У кого бы подстрелить?» У Андрея просить неудобно. Все-таки хоть небольшой, а начальник — командир отделения.
От нестерпимого желания у Ежа сосало под ложечкой. И тут он увидел, как Подопрыгора, озираясь по сторонам, вынул полный кисет табаку, быстро отсыпал на закрутку и торопливо спрятал кисет.
Еж решил попытать счастья. Он любовно взглянул на свою порыжевшую шинель, потертую, измятую, перепачканную, и сказал:
— А умная голова солдатскую шинельку выдумала. За такое изобретение не жаль и памятник поставить. Великую службу она нашему брату служит. Бессменная семисезонная! Летом жарко — ты ее скатал да обручем через себя: виси себе, родная. И станок пулемета не так врезается в хребтину. Осенью, глядишь, дождички пошли, а она у тебя непромокаемая, потом ветер дунул, солнышко пригрело — она опять сухая. Зимой люди в шубах меховых с воротниками мерзнут, в кожуха залазят, а она, шинелька наша, подбитая ветром да теплом солдатского тела, для холода никакие достижима… Весной опять же хороша — легкая, как пальтишко. Вздумал солдат спать — она заместо матраца. И подушкой и одеялкой может служить, а на беду ранят тебя, горемычного, так она носилками станет… Ох, и хороша одежка, скажу тебе, Иван, — «философствовал» Еж, умащиваясь на шинели рядом с Подопрыгорой. Говорил, а сам только и думал, как бы ему повернуть рассказ поближе к куреву.
— Эх! — вздохнул Еж, увидав, как Иван спрятал табак в карман. Подопрыгора начал курить только с началом войны и курил редко.
А Иван зевнул, расстелил шинель на траве и стал укладываться на отдых.
— Вот жаль, что нет еще того человека на свете, который бы вместо табака что-нибудь выдумал… — не унимался Ефим, согнав морщины на переносицу.
— А на шо придумывать? — удивился Подопрыгора. — Нема табака — бросай курить.
— Так-то оно так, браток, да ведь нелегко бросать. Дело-то мужицкое. Тоска заест. У неслуживого мужика — табак да кабак, баня да баба — одна забава. А у нашего брата солдата только и утехи — покури табачок да поболтай кой о чем. Давай закурим, что ли? Мутит внутри, страсть курить хочется.
Подопрыгора смерил Ежа недоверчивым взглядом и нехотя полез в карман за кисетом.
— На, закури, да отчепись от меня с побасками своими.
Еж скрутил козью ножку толщиной в палец и щедро насыпал в горсть махорки. Подопрыгора глянул сердито, возмутился:
— На дурницю чужого не жалко. Ты гляди, яке дышло завернул!
Долго молча курили. В воздухе надсадно, по-комариному ныли вражеские самолеты. Издалека доносились глухие взрывы, похожие на вздохи какого-то неведомого чудовища. Приглушенная расстоянием, тяжкими раскатами гремела артиллерийская канонада.
— Вот это долбит! — поддерживая раненую руку и морщась от боли, сказал Новохатько.
— Да, не жалеет снарядов. Видать, что-то важное засек, — лениво потягиваясь, отозвался новый боец Ракитянский. — У нас в УРе в первый день войны так долбил, а пойдут в атаку, наши пулеметы косят их, как траву…
— Неужто так и не прорвался немец? — спросил Полагута.
— Прорвался… А кабы не танки, не прорвался бы. У Лепун смял нас. Целая танковая дивизия… По дотам нашим бил прямой наводкой, а снаряды отскакивают рикошетом. Доту хоть бы что. Бомбил ужас как! Думали, все укрепления разроет. Но ни черта! И бомбами не мог достать. У нас там такие укрепления, хлопцы, ничем их не возьмешь.
— А к Лепунам-то чего его пустили? — пододвинулся, блестя черными глазами, Мурадьян.
— Ходят слухи, будто измена вышла, — ответил Ракитянский. — Народ так говорит… Как знать? — он покачал головой, поглядывая исподлобья. — Обошли они наш УР на танках…
Пока шла эта беседа, Еж сокрушался, что при выполнении задания отличились другие, а не он. И тут пришла в голову мысль отправиться на поиски самому. Уж очень хотелось изловить вражеского диверсанта.
Первым обнаружил отсутствие Ежа Миронов.
— А где Еж? — спросил он Полагуту.
— Не могу знать, товарищ лейтенант. Может, по каким надобностям отлучился.
А Еж тем временем бродил по лесу один. Он уже начал сомневаться в удаче, как вдруг его внимание привлекло беспокойное воронье карканье. Еж ловко подполз к разлапистой ели с густой темно-зеленой кроной и принялся внимательно осматривать дерево. Но сколько ни глядел, ничего подозрительного не обнаружил и уже собрался уходить — мало ли от чего переполошилась глупая птица, но тут заметил свежесломанную ветку, висевшую на гибкой тесемке лыка. И Еж снова, с особой тщательностью, осмотрел всю ель и на этот раз увидел у самой макушки что-то темное, похожее на мешок.
Подошел ближе — чьи-то ноги. Человек сидел на ветке, поджав под себя ноги. Но как стащить его оттуда? Это вражеский диверсант. Он, конечно, вооружен… А что, если его спугнуть выстрелом? Не годится: свалится и убьется, а хорошо бы забрать живым.
Ефим решил громко окликнуть врага, предварительно наставив на него для острастки винтовку. Он зашел за толстое дерево и крикнул:
— Эй ты, кто там! Слазь, а то подстрелю. Слазь!
И угрожающе щелкнул затвором. В ответ раздалось несколько пистолетных выстрелов. Пули прожужжали мимо. Еж тоже выстрелил. Тогда незнакомец стал медленно спускаться. Когда до земли оставалось метра два, Еж увидел белокурую женщину в форме летчика. Она стояла на последних к земле сучьях, будто раздумывала, стоит ли спускаться.
— Прыгай, прыгай! — строго крикнул Еж, выходя из-за деревьев.
Эта неосторожность чуть было не стоила ему жизни. Летчица выстрелила в него и, спрыгнув, кинулась бежать в лес. Пуля резко свистнула у самого уха Ефима. Он шарахнулся за дерево, выстрелил и бросился нагонять незнакомку. Она упала, а когда поднялась, Ефим уже стоял рядом. Разозленный ее коварством, он крепко, по-солдатски, выругался и занес над ней штык.
— Сдавайся, сука, а то насажу, как котлету на вилку. Летчица бросила ему под ноги пистолет и, испуганно поглядывая исподлобья, медленно, нехотя подняла руки…
Бойцы, как только заслышали стрельбу, бросились разыскивать Ежа.
И вскоре перед лейтенантом Мироновым стояла молодая женщина с голубыми глазами, в комбинезоне немецкого летчика. Изредка она расправляла плечи и испуганно глядела в его сторону.
Еж, довольный своим успехом, похвастался перед товарищами, показывая гимнастерку, порванную пулей.
— Давеча в меня чуть не всадила обойму. Прямо на волосок пули прожужжали. Тебя бы, чертова баба, чинить гимнастерку заставить! А нам когда чиниться? И так ходить не положено: не дай бог, на старшину напорешься… — И он сурово насупил редкие брови. — Скажи, счастье твое: с бабами у нас воевать не положено. Не такой мы народ. А будь на твоем месте мужик да стрельни он в меня, я бы из него отбивную сделал. Ну чего бельма таращишь? Отвыкла небось при своем Гитлере от человеческого языка… Непонятно тебе?…
— Да брось ты с ней балакать, — посоветовал Новохатько. — На шо вона тоби сдалась, просвещать ще таку гадюку. Вона бонбы на людей кидае, а вин ей мораль читае.
— Боец Кузовлев, доставьте пленную в штаб полка! — приказал Миронов. Сам он рассматривал фото, отобранное у пленной. С него глядело суровое лицо немецкого генерала. «Надо будет фото отдать в штаб. Отец пленной, а может, муж?»
Это была летчица Эльза Гафнер. По пути в штаб полка она и конвоир попали под бомбежку. Кузовлева нашли убитым, а пленную летчицу так и не удалось разыскать.
2
Евгений пришел к санинструктору Талановой. Он боялся встретиться с ней взглядом и отводил глаза в сторону.
— На перевязку, товарищ лейтенант? — помогла ему Ляна.
Теперь Евгений смотрел на девушку, не отрывая глаз, и, все же не в силах ответить, молча кивнул головой.
— Садитесь! — строго приказала Ляна. Темные брови ее почти сходились на переносице и придавали ее смуглому лицу немного диковатый вид.
Она делала перевязку, а он смотрел на ее проворные, ловкие пальцы и восхищался. И даже когда она, заторопившись, причинила ему боль, он решил, что только так и должно быть.
В растерянном выражении лица красивого лейтенанта было что-то непонятное Ляне. И она пристально поглядела ему вслед, когда он выходил. Жигуленко словно почувствовал взгляд, возвратился, спросил, когда приходить на перевязку.
— Приходите дня через три…
Все эти три дня он ходил сам не свой. Сравнивал ее с Ритой, со всеми знакомыми девушками. Нет, она прекрасней всех!..
Евгений просто не помнил, как опять очутился в перевязочной. И опять она стояла вполоборота к нему и, задумчиво склонив голову, делала перевязку, а он, не сводя с нее глаз, не обмолвился ни единым словом. Он любовался восторженно и молча темными локонами, спускающимися у правого маленького уха с пухлой розовой мочкой.
Ляна закончила перевязку, а он все стоял и не мог уйти. Она вопросительно посмотрела на него, и он, нарушая неловкое молчание, спросил:
— Когда мне прийти на перевязку?
Она отрицательно покачала головой:
— Больше не надо. Рана затянулась хорошо и быстро заживет…
Евгений даже не сумел скрыть своего огорчения, и Ляна пожалела его:
— Конечно, если не будет подживать, пожалуйста, приходите. Приходите… — не зная зачем, повторила она мягким, грудным голосом.
Евгений бросил на нее счастливый взгляд и быстро вышел, унося с собой на перевязанной руке запах йода, еще недавно невыносимо противный, а теперь ставший для него самыми лучшими духами.
3
Письмо жены встревожило Русачева. Он почувствовал, что Марина Саввишна, что-то скрывая от него, неспроста так настойчиво расспрашивает о Жигуленко. И стало вдруг обидно. Неужто недоглядели, за Жигуленко с Ритой? Столько лет растили, любовались, надеялись видеть ее счастливой женой, матерью — и вот на тебе! Теперь она обесчещена, идет война, и неизвестно, чем все это кончится. А все Саввишна: «Пусть гуляет, дело молодое». Догулялась! И вечно эти женщины норовят себя умными перед мужчиной показать. И по службе-то неприятностей не оберешься, а тут еще семейные прибавились.
Русачев достал фотографию. Дочь и жена, обнявшись и нежно склонив головы, улыбались. Он тяжело вздохнул. Теперь не до улыбок. Придется откровенно поговорить с Жигуленко. Чего скрывать? Жаль, свадьбу не удалось сыграть. И Русачев горько признался себе, что он тормозил дело: «Не торопись, Саввишна, Успеется со свадьбами. Пусть получше приглядятся друг к другу». А может, вызвать Риту сюда? Приедет, так никуда не денется этот красавец. Привыкнут, и… и тогда все будет в порядке…
Русачев позвонил начальнику штаба:
— Вызови ко мне Жигуленко.
Через несколько минут перед комдивом стоял Жигуленко, Как всегда подтянутый, он сейчас держал себя настороженно. «Знает кошка, чье сало съела, — подумал Русачев. — Нажму по-военному — признается. А потом можно и помягче. Все же родственник теперь, негодник».
— Что там у тебя за шашни, лейтенант? — хитро прищурился он.
«Неужели про Ляну узнал?» — встревожился Жигуленко.
— Вишь, как глаза бегают… Значит, совесть нечиста. Какие у тебя с моей дочкой отношения? Только прямо говори, не крутись. Я ведь все знаю.
И вдруг Жигуленко как подменили. Взгляд острый, строгий, голова гордо откинута назад.
— Товарищ полковник, я отказываюсь вам докладывать. — Он сделал вперед шаг. — Это наше личное дело.
Русачева словно кнутом ударили. Кровь бросилась в лицо. «Этот щенок не хочет со мной говорить откровенно… Обесчестил дочь — и как с гуся вода…»
Комдив вскочил.
— Вон отсюда, мерзавец! Чтобы глаза мои больше не видели тебя! Пропадешь у меня на передовой, как собака.
Но Жигуленко вел себя спокойно, с достоинством. Русачев, захлебываясь, сыпал в его адрес отборными ругательствами, гневно тряс перед его лицом кулаками, а он стоял не шелохнувшись. А когда комдив, израсходовав запас крепких слов, стал понижать голос, он сказал:
— Прошу направить меня служить к Канашову. — И подумал: «Уж если сложить голову, так не из-за этого самодура».
Глава восьмая
1
С полудня до захода солнца взвод лейтенанта Миронова отражал атаки противника. Тревожные слухи ползли среди бойцов:
— Говорят, немецкие танки давно уже прорвались к Минску с юга. И чего мы сидим здесь?
— Видно, пропадать нам, ребята… Обойдет и подавит танками… Куда деваться-то? Топиться в реке? — говорили другие.
— Ну, чего разнылись? Пропадать, погибать! — возмутился Подопрыгора, заряжая пулемет. — Бабы вы, а не солдаты. Глядите, вон опять они зашевелились. Встречайте дорогих гостей, давненько не були, мабудь, заскучали по них.
Немцы снова поднялись в атаку. Впереди шли танки.
С тревогой поглядывал Миронов на опушку леса, куда уже давно должна была прибыть противотанковая батарея. Может, батарею перебросили в другое место? Что, если саперы не успеют подготовить к взрыву мосты через Свислочь?
У опушки леса задымилась дорога, и он увидел две артиллерийские упряжки, они тащили два орудия. «Обещали четыре! — с горечью подумал Миронов. — Только бы они успели открыть огонь». Артиллеристы не остановились на опушке, а, отцепив там орудия, выкатили их почти к берегу и сразу открыли огонь. И эти сорокапятимиллиметровые пушечки, кажущиеся игрушечными по сравнению со слоноподобными громадами — танками, подбили три из них. Но вскоре немецкие танкисты опомнились и открыли ответный огонь. Они не жалели снарядов. Одно наше орудие вместе с огневым расчетом было вскоре уничтожено, а у второго повреждено колесо.
Лейтенант-артиллерист прибежал к Миронову.
— Чего вы любуетесь? Видите, застряли, помогать надо.
— А какого черта вас несет в болото? Попробуйте теперь вытащить под огнем, — рассердился Миронов.
— Да если танки опять пойдут в атаку, вас всех подавят. — Миронов и сам хорошо знал это, но нестерпимо хотелось возразить этому самонадеянному лейтенанту.
— Тоже мне поддержка называется. Сулили батарею, дали две пушки. Одна разбита, а другую извольте вытаскивать на собственном горбу.
— Эх, ты! — оборвал его артиллерист. — Знал бы, что такого поддерживать, не гнал бы коней. Запалили двоих — подохли.
Миронову стало стыдно. Он послал бойцов помочь артиллеристам. А сам тревожно поглядывал в сторону, где копошились люди и кони. Ему кажется, что делают там все медленно, не так, как надо, и хочется пойти поглядеть, помочь словом и делом. Но уходить с наблюдательного пункта никак нельзя.
Сегодня он впервые выполнял такое сложное задание, как прикрытие отхода батальона.
К мосту снова медленно поползли вражеские танки. Бойцы со страхом следили за их уверенным продвижением. Заметив беспокойство в глазах бойцов, Миронов подал саперам команду — подорвать мост. А когда саперы замешкались, лейтенант вскочил и побежал к ним. Немцы открыли по нему беглый огонь. Он упал и быстро пополз по-пластунски, подминая траву. Приблизившись к саперам, он погрозил кулаком, крикнул:
— Почему не выполняется приказ? Подрывайте немедленно мост!
Из окопа высунулось курносое лицо бойца в залихватски надвинутой на левую бровь пилотке.
— Какого черта, рыжий, тянешь? Подрывай быстрей! — кричал вне себя Миронов.
Но боец-сапер спокойно ответил, прищуривая глаза:
— Чего занапрасно волноваетесь, товарищ лейтенант? Будет чисто сработано. Нервы — они на войне всего дороже. Беречь их надо… Вот пустим фрицовские коробочки на мост — и устроим им сабантуй. — И, улыбнувшись, снова исчез в окопе.
Как только первый немецкий танк прошел мост, воздух сотряс оглушительный взрыв. Миронов упал вниз лицом, прижавшись к земле. Наклонившись к его уху, сапер крикнул, кивнув головой туда, где несколько минут тому назад был мост.
— Чистая работенка, лейтенант! Нам не в привычку. Мы в пограничной зоне дотов этих порвали — счета нет. А этот мостик для нас — просто так, игрушка детская.
Отходили ночью, украдкой, довольные, что удалось улизнуть от прорвавшихся немецких танков.
За взводом Миронова, клонясь то и дело на правый бок, будто прихрамывая, тащилась одинокая «сорокапятка» на конной тяге.
Миронов и артиллерист-лейтенант долгое время шли молча. Но вдруг артиллерист проговорил:
— Ты не серчай, лейтенант. Теперь нам вместе врага бить, пока с земли родной его не прогоним. — И тут же протянул руку: — Малков я… Из Ростова…
Миронов молча пожал его жесткую ладонь. Ему очень хотелось спросить: «Зачем они тащат за собой это подбитое орудие?» И артиллерист будто догадался:
— На орудие, лейтенант, ты не гляди, что немножко подбито. Вот колесо сменим — и все. Зато машина, скажу тебе, страшная для немецких танков.
— Да мне-то что, тащите, — согласился Миронов.
На коротком привале они, лежа рядом, курили украдкой, в кулак, и с тревогой прислушивались, как по шоссейной дороге параллельно их отходу, лязгая гусеницами, шли вражеские танки. Они будто торопились взглянуть на заветное зрелище — подожженный немецкой авиацией город.
В чернеющей ночи, раздвигая горизонт, растекались бледно-оранжевые зарницы. И к темным пропыленным листьям деревьев ласкались, перепрыгивая с ветки на ветку, далекие, холодные блики отраженного света: горел Минск, оборонявшийся с таким упорством и мужеством.
2
Утром немецкая авиация жестоко разбомбила в Минске эшелон с женщинами, детьми, стариками. К хвосту эшелона было прицеплено три пульмановских вагона с красными крестами. В них увозили тяжело раненных бойцов и командиров. Но фашистские летчики «не увидели» рассыпающихся по платформе, как горох, женщин и детей, «не заметили» и красных крестов на вагонах, из которых ковыляли на костылях и ползли раненые.
Беспрерывной чередой тянутся по дорогам беженцы, тут же по обочинам бредут, поднимая облака пыли, стада скота — коров, овец, косяки лошадей. Трудно пробираться грузовикам с войсками. Ночью войска движутся чаще на запад, а днем — на восток. Никому не понятны эти маневры и передвижения — ни войскам, ни народу. И беженцы с надеждой провожают войска, когда они идут на запад, и с тревогой, а порой и с презрением глядят вслед машинам, что, обгоняя беженцев, уходят на восток.
В дни войны больше всех хлебнула горя женщина. Тянется нескончаемая вереница телег, их здесь, в Белоруссии, называют балагулами; борта высокие, сверху крыша из плетеного лозняка или фанеры. И правят балагулами подростки или старики.
Как только вереница повозок въезжает в село, их облепляют, как мухи, местные жители. С сочувствием и страхом глядят они на беженцев, расспрашивают, из каких мест. И каждый с замиранием сердца думает, что вскоре и ему предстоит этот скорбный путь. И женщины, тихо плача, суют почерневшим от дорожной пыли детям кусок свежеиспеченного, еще дымящегося хлеба, кружку молока, сорванный с прядки огурец. Все понимают, как тяжело покинуть насиженные веками родные гнезда…
А по сторонам дороги, в гнилых болотах с ржавой водой и густой осокой, по-детски жалобно плачут кулики. В лесах тревожно перекликаются пернатые обитатели; в предчувствии беды покинули они родные гнезда и летят теперь в одиночку на восток, подальше от раскатистого грохота артиллерийской канонады.
Пшеница, рожь, овес — все вытоптано по обочинам дорог, где следом, наступая на пятки беженцам, идет страдание и горе. Тот, кто успел собраться заранее, едет на телегах и бричках. Они запасли и еду. А вот те, кто уходил поспешно — из-под вражеского обстрела, несут в карманах и сумочках лишь куски хлеба, и этих людей за один день иссушило горе.
Матери бережно несут, прижимая к груди, спящих детей — единственное оставшееся у них сокровище. В запавших от муки глазах еще не угасла надежда: обязательно должно случиться что-то такое, что остановит немцев, и тогда все беженцы вернутся к своим мирным очагам и опять займутся своей хлопотливой, незаметной работой. От постоянно висящей пыли и беспощадно палящего солнца лица людей покрылись густым, темным, как мазут, загаром, а белизна зубов и белков глаз подчеркивает его еще резче.
Люди идут молчаливо. О чем говорить? Все понятно и так… Они идут, а в сердце каждого горит ненависть к тем, кто нарушил их мирную жизнь. Каждый оценивает положение по-своему, но всех объединяет единое большое горе — война.
3
По пыльным, будто дымящимся дорогам отступает на восток полк Канашова. А вокруг все словно затаилось, чутко прислушиваясь к гулкому топоту красноармейских сапог, к тягучему, однотонному скрипу телег и гудению моторов. Листья покрыты толстым слоем пыли. Их не в силах пошевелить даже порыв ветра — они и тогда остаются безжизненными, словно на металлических венках. Раскаленную солнцем землю прорезали глубокие трещины-морщины, и кажется, земля жадно просит пить. Тягостно на душе от усталости, неизвестности и густого, пересыщенного пылью и духотой воздуха. Все замерло в ожидании чего-то недоброго. Ничто не радует. Все постыло.
Молчание в то время было, пожалуй, самой характерной чертой всех, кто отступал в составе войск или уходил как беженцы на восток. Порой казалось: идешь среди глухонемых. И Миронов, желая проверить себя, действительно ли он способен говорить, едва слышно повторял с детства знакомые слова: «земля», «солнце», «дорога», «Родина», «товарищ», или изредка подавал команды: «подтянуться», «ускорить шаг». Никто из бойцов, идущих в строю, казалось, не воспринимал эти приказания сознательно, а выполнял механически, то ускоряя, то замедляя шаг, то грузно опускаясь во время привала на раскаленную солнцем землю, стараясь при этом не встречаться взглядом ни с командиром, ни с товарищами.
— Муторно. что-то на душе, — признался Андрей и махнул рукой, будто хотел сказать Ежу: «Не тревожь ты меня, дай мне побыть с самим собой наедине».
Необычно молчаливый в тот день Еж с готовностью отозвался:
— Никто ни черта толком не знает, а слухи ползут да ползут… Вечером, когда в Зябличках привал делали, я слышал, Смоленск немцы забрали и Гитлер пригрозил, будто разбомбит Москву дотла.
Андрей, понуро шагавший, остро глянул на Ефима:
— Не так-то просто Смоленск забрать. А про Москву немец хвастает… Думает страху на народ нагнать.
Ефим покосился на Андрея.
— Сам знаешь, худые вести не лежат на месте. Да я что, я только тебе сказал, чудак ты…
Впереди взвода шел лейтенант Миронов. И у него были сейчас невеселые мысли, хотя внешне он выглядел спокойным. Отступление угнетало не только физически, но и морально. Было совершенно непонятно, почему мы, имея такую сильную армию, отступаем. Вот уже третьи сутки, как идет полк по проселочным дорогам на восток.
И когда он проходит через села, на них неприветливо смотрят местные жители. «Опять уходите, бросаете нас», — говорят их взгляды, в которых светится укор. И объясняют отступление по-своему: значит, немец сильнее.
По мнению Миронова, лучше вести бой даже на невыгодных рубежах, чем отходить без боя: отступление разлагающе действует на солдат — дисциплину теперь нередко приходилось сохранять не столько убеждением, сколько принуждением.
Боец Бублик растер ноги и без разрешения покинул строй. В селе Гутово два новых бойца из минского пополнения — Дженалиев и Чмыхало — забыли на привале свои противогазы, а вернее всего — умышленно бросили их. Боец Чайко заболел расстройством желудка, напившись без разрешения воды из лесного озера. Бывало много и более мелких проступков. Они совершались ежедневно, ежечасно, и предотвратить их было невозможно.
А сколько разных вопросов возникало у подчиненных! Всех интересовало, как идет война, где действуют наши войска, что делается на границе. А откуда он, лейтенант Миронов, знает обо всем этом, если нет ни радио, ни газет? А тут еще после ночной бомбежки комбат Аржанцев принял решение — во избежание излишних потерь совершать марш каждой ротой самостоятельно, и они совсем оторвались от своих войск.
Несмотря на тяжелые минуты отступления и изнурительный марш, одно подбадривало Миронова — среди людей его взвода не было дезертирства. В душе он даже гордился этим. На марше Миронов всегда шел впереди взвода, а сзади следовал один из командиров отделения, как он называл, «ответственный замыкающий».
Привал сделали неподалеку от небольшой, затерявшейся в лесах деревушки. У Миронова в этом пункте кончалась карта, и дальше предстояло идти по маршруту, вехами которого служили в основном населенные пункты и высоты. Для разведки маршрута он выслал вперед Полагуту.
Андрей направился на северо-восток. Шел и смотрел на черную тучу. Она, как огромный камень-валун, провисая, давила на горизонт, и он сочился узкой полосой кровоточащего заката.
Вскоре на опушке леса показалась небольшая деревушка. Село встретило его тишиной, будто все вымерло. Понял Андрей: эвакуировались жители. Не мудрено: линия фронта приближалась неумолимо быстро.
На окраине, у одинокого пустого дома с разломанной оградой, бродил буланый теленок с белой звездой на лбу. На шее у него висела петля из бечевки.
Андрей подошел к теленку, погладил его по впалым бокам, сказал жалостливо:
— От матки отбился, поди. Голодный, бедняга, все из-за кутерьмы этой. Пропадает вот так…
Теленок доверчиво потянулся мордой к Андрею, робко лизнул руку шершавым, горячим языком, как бы попросил помочь в беде. Андрей посмотрел на него с сочувствием, вздохнул, поправил противогаз, лопату и пошел широким, размашистым шагом прочь. «Скотина вот, а жаль ее. Всем достается от этой войны, — подумал Андрей, — никому жизни нет…»
Теленок как будто понял, что от него уходит последняя надежда на помощь, жадно потянул ноздрями воздух, замычал обиженно, жалобно. Андрей обернулся на этот хватающий за душу крик, возвратился к теленку и, взяв за петлю, вывел на дорогу. Теленок шел покорно, будто понимал, что к нему пришли на выручку.
— Что я буду делать с тобой? — отойдя от деревни, вслух рассуждал Полагута. — Куда тебя девать?… Отдам колхозникам в каком-нибудь селе…
Он направился навстречу взводу, ведя за собой теленка. Еж первым заметил Андрея.
— Гляди, ребята, какую коровку наш отделенный ведет…
Бойцы и Миронов обернулись. Удивленный лейтенант спросил:
— А телка куда?
— Как куда, товарищ лейтенант? С нами пойдет… Он от коровы, видать, отбился, что ж ему погибать? Отдадим колхозникам.
Миронов ничего не ответил, поглядел недоумевающе на Полагуту, на присмиревшего телка, жующего тесемку от вещмешка Полагуты, и махнул рукой: ладно, мол, что с вами делать?…
— Отдавать-то его зачем? — возразил Еж. — Что мы, хуже других? В общий котел — и порядок…
— Раскрывай рот шире, вынимай ложку, — насмешливо прищурился Андрей. — На чужой каравай рта не разевай… Слыхал такую присказку?
— Это верно каже отделенный, — подтвердил Подопрыгора. — Та телок, видать, з породистых, так на що ж его губить? В колхозе вин не пропаде зазря. Там ему мисто найдуть.
— Кто там з ним зараз возжаться буде? — возразил Новохатько. — Тут не до скотины… Люди головы теряют, стилько добра побросали… На що вин здавсь кому?…
Мнение бойцов резко разделилось. В спор вынужден был вмешаться Миронов.
— Теленка надо отдать колхозникам, — сказал он твердо, давая понять, что разговор окончен.
— Да, зачем нам телок? — пошел на попятную Еж. — Насчет общего котла я так, пошутил только…
Поздним вечером, когда остановились на привал в деревне Дергачи, телка пристроили к стаду, которое эвакуировалось за Дон.
Тем же вечером во взводе случилось происшествие — пропал боец Мурашевич. Раздосадованный Миронов оставил взвод на ночлег в деревне Сосенка, надеясь разыскать дезертира.
В полдень в хату, где сидел угрюмый и злой Миронов, которому теперь стало ясно, что разыскать дезертира не удастся и что надо торопиться догонять роту, ворвался, тяжело дыша, Подопрыгора.
— Товарищ лейтенант, немецкие танки в соседнем селе… Пять километров отсюда…
Миронов выбежал из хаты и приказал строиться. Надо торопиться.
— Глядите, хлопцы, барин какой, на лисорном фаетоне, — услышал вдруг Миронов за спиной голос Ежа. — Да это же наш отделенный, провалиться на месте!
Миронов обернулся, когда линейка уже подъезжала к взводу. На ней сидел за кучера сержант Правдюк. С ним двое раненых бойцов. У одного рука висела на тесемке, у другого была перевязана голова.
— Здравия желаю, хлопцы! — Морщась от боли, Правдюк с трудом слез с линейки. Прихрамывая, он подошел к взводу. — Усе в порядке, товарищ лейтенант, даже ходить можу, — быстро доложил он. — А я думал, шо николы вже в жизни вас ни устречу.
Бойцы не сводили с него удивленных глаз.
Правдюк, видно, истосковался по службе. Об этом говорила его глаза — прежде беспокойные, придирчивые, а теперь смущенные и радостные.
— Трудно вам будет, — сказал Миронов.
— Товарищ лейтенант! — молящим голосом перебил Правдюк. — Разрешите мини со взводом…
Все затихли, ожидая решения лейтенанта.
— Оставайтесь!
Глава девятая
1
Во время отхода из-под Минска на новый рубеж в полк пришел приказ Русачева: «Немедленно передать в автобат дивизии все сверхштатные автомашины». Приказ комдива рушил все замыслы Канашова.
Уже после первых боев Канашов стал внимательно присматриваться к тактике немцев, стараясь понять ее сильные и слабые стороны. Он анализировал даже каждую мелкую стычку, жадно наблюдал за действиями вражеской авиации и особенно танков. Он чувствовал бесспорную силу этой тактики, тщательную разработку операций, слаженность действий различных родов войск и гибкое управление ими. Тогда же он понял некоторые слабости немцев: их привязанность к дорогам, неумение вести ближний бой вообще и рукопашный особенно, чрезмерную самоуверенность, переходящую подчас в беспечность.
Все это натолкнуло его на мысль создать подвижную группу и бросать ее на те участки, где противник не ждет нашего удара. Можно использовать эту группу и в качестве огневого заслона при отходах полка.
Для этого он стал собирать и чинить брошенные грузовые автомашины, подбирать опытных шоферов и механиков. Он мечтал раздобыть хотя бы пару танков «Т-70», которые хотя и уступали по боевым свойствам немецким, но все же делали бы такую группу более мощной в огневом отношении.
Но комдив не захотел разобраться, зачем ему машины.
— Не трофеи же я собираюсь на этих машинах возить, товарищ полковник, — ответил Канашов.
А когда рассказал о своем замысле — создать подвижную группу, Русачев рассмеялся:
— Ты, может, быть, хотел бы весь полк посадить на машины? Хороша идея! Это, брат, пустая фантазия, а ты выполняй приказ.
— Поэтому и не поспеваем, товарищ полковник, что немцы на танках, а мы пехом. Мы получаем приказ занимать оборону, а они уже обошли нас — и вперед. Это, конечно, не наша вина, а всеобщая беда. Но будь в каждом полку по такому подвижному отряду, мы легче бы отрывались от противника и потерь было бы меньше…
— Ну, ты, я вижу, сел на своего конька… И настырный же ты мужик, Канашов. Говорю тебе: запрещаю!.. Какие там отряды, когда и без того в автобате машин раз-два — и обчелся. Сам же будешь на горло наступать: дай тебе патронов, снарядов. А на чем возить?
Канашов сдал несколько машин. Русачев послал к нему командира проверить. И тот обнаружил машины. Разгневанный комдив решил поехать сам.
В тот же день в дивизию прибыл новый комиссар и начальник политотдела Поморцев вместо тяжело раненного комиссара Коврыгина. Новый комиссар был небольшого роста, плотный, быстрый, ловкий. Говорил он с внезапными перерывами, слегка заикаясь, — результат контузии на финском фронте. У него были мягкие светло-карие смеющиеся глаза, широкие кустистые брови и узкий с горбинкой нос.
Русачев настороженно отнесся к новому комиссару. «С Коврыгиным мы нашли общий язык. А каков этот будет?»
Знакомясь с Поморцевым, Русачев держался важно, чаще обычного хмурил брови и говорил густым баском. Новый комиссар представился:
— Поморцев Константин Васильевич…
Русачев назвал только фамилию. Однако сразу же после этого краткого знакомства, в котором еще чувствовалась официальная натянутость, ибо Русачев старался создать у комиссара мнение о своей неприступности и строгости, Поморцев неожиданно разрушил все искусственные перегородки их отношений.
— Прошу извинения, товарищ полковник, но мне так хочется есть, что аж кишки трещат, — заулыбался он, похлопывая себя по подтянутому животу. — Пойдемте позавтракаем вместе. В штабе фронта, пока там мотался, получая назначение, забыл взять талоны, а в дорогу собирался — не захотел возиться с пайком. Думал, тут рукой подать, час езды, а под бомбежками проехали все четыре. — И Поморцев так просто, по-товарищески взял Русачева под локоть, что с комдива моментально слетел весь остаток важности.
«Нет, это, видно, неплохой мужик», — подумал он.
После короткого завтрака Русачев, уверенный, что Поморцев сразу же направится к политотдельцам, хотел с ним проститься, но новый комиссар полушутливо сказал:
— Видно, не понравился я вам, Василий Александрович? С дивизией не хотите меня знакомить.
— Нет, я скоро вернусь из полка. Тут у меня есть одно дело неприятное, — поморщился он. — Вы пока в политотделе побудьте. А я вернусь и со штабом вас познакомлю.
— Вы меня не поняли, Василий Александрович… Разрешите с вами в полк. Лучше и не найдешь случая для знакомства. А там, глядишь, выйдет случай, и в другие полки заглянем. Ну, а с политотдельцами я быстро ознакомлюсь, да и штаб рядом.
Русачев удивился такой странности нового комиссара, но виду не подал:
— Как угодно… Со мной так со мной… — И они вместе направились к Канашову.
По пути Русачев раздумывал, как ему лучше держать себя, чтобы новый комиссар почувствовал в нем твердого хозяина дивизии. И Русачев настраивал себя на резкий разговор с командиром полка. Он решил, что сразу же хорошенько проберет Канашова и заставит выполнить приказ.
В тот день, не добившись успеха, немцы с утра прекратили атаки перед фронтом дивизии и попытались прорваться южнее, где с рассветом усилилась артиллерийская канонада. А дивизию Русачева в этот день непрерывно бомбили.
В полку комдива постигла неудача: оказалось, что Канашов и Поморцев хотя и не были знакомы, но слышали друг о друге — оба воевали в Финляндии в разных дивизиях одной армии, на одном направлении.
— Мы приехали к вам, товарищ подполковник, — сказал подчеркнуто официально Русачев, — выяснить, почему вы не выполняете приказ о сдаче автомашин?
С лица Канашова сошла улыбка.
— А я думаю, пусть этот спорный вопрос рассмотрит командующий… — начал он.
Но разговор был прерван очередным налетом пикирующих бомбардировщиков. Пережидая налет в тесном и душном блиндаже, Поморцев сказал Канашову:
— Все же в Финляндии, помните, не так люто обрушивалась на нас авиация. — И, подумав, добавил: — Зато морозы…
Где-то недалеко разорвалась бомба. Взрывной волной разбросало накатник блиндажа, наполнив его угарно-кислым дымом и запахом тухлых яиц. На головы сидящих в блиндаже обрушились земля, песок и щепки.
Кто-то вскрикнул.
— Что случилось? — встревоженно спросил Канашов и закашлялся.
— Руку придавило, — ответил Русачев.
Канашов и Поморцев поспешили ему на помощь. С трудом подняли бревно. Комдив морщился от боли, сгибая и разгибая левую руку.
— Может, кость повредило? — спросил Канашов. — Мы сейчас врача вызовем. — И тут же ловко выбрался из полуразрушенного блиндажа.
Поморцев стоял рядом, отряхивая одежду.
— Могло бы все это кончиться хуже, — сказал он. На полу блиндажа валялось снаряжение, бумаги — среди них комиссар увидал чье-то фото. Он поднял. Фотокарточка была разрезана осколком и испачкана землей.
— Твоя? — протянул он фотографию молодой красивой женщины комдиву.
Русачев взглянул с досадой и, посчитав это за насмешку, ничего не ответил.
«Ишь ты каков, простачков ищет…»
— На мою жизнь две женщины судьба отпустила — жену и дочь, — бросил он, массажируя ушибленную руку.
Поморцев с улыбкой рассматривал фото. Волосы женщины были уложены пышной короной. Большие задумчивые глаза. От пухлых губ складочки надменной полуулыбки. Красивая, гордая шея, смелое декольте обнажает высокую грудь. На обороте надпись мужским каллиграфическим почерком с наклоном: «Знай, нашу любовь твоя разбила дочь. Никто не в силах нам теперь помочь… Но если сердце ты имеешь, не раз о мне ты пожалеешь… Валерия». А поперек надпись красным карандашом: «Мадам-артистка, ко всем чертям катись-ка. Наташа».
Поморцев задумался. Случайное фото рассказало ему о семейной драме трех неизвестных людей. Где они? Эта, с холодной красотой, видно, мачеха? Где дочь, сделавшая дерзкую надпись-вызов? Кто этот третий? И кого же он все-таки любит больше? Жену или дочь?
И вдруг он невольно поймал себя на мысли и подумал о том, что все это чем-то напоминает его личную жизнь. Первая жена погибла — разбилась при прыжке с парашютом (она была инструктором аэроклуба), оставив ему сына Костю. Женился вторично, но неудачно. Она уехала от него месяц спустя. Быть нянькой чужих детей и главное — жить скучной армейской жизнью она не захотела (позднее он узнал, что она была любовницей одного московского художника и устроилась жить в столице). Третья жена год хорошо относилась к нему и сыну, но затем ее будто подменили. Костю пришлось отдать на воспитание к родной бездетной сестре. Вернулся он к отцу за месяц до войны, собирался в военное училище. И тут вспыхнул скандал. Он швырнул в мачеху подаренной ею фуражкой и исчез. Куда он уехал, осталось неизвестным. И, несмотря на то, что отец категорически осуждал поведение сына и даже поклялся, что не пустит его на порог, он постоянно страдал и хотел его видеть.
— Понравилась? — спросил, хитро улыбаясь, Русачев.
Поморцев вздрогнул от неожиданного вопроса.
— Красивое всем нравится, — ответил комиссар.
В блиндаж вошел Канашов.
— Врач будет скоро. Он операцию тяжело раненному политруку делает. — И, увидав фото в руках Поморцева, удивился.
— Ваша? — протянул ему фотографию комиссар. — Среди бумаг валялась на полу.
Канашов взял и молча сунул ее в полевую сумку.
— Так почему же вы, подполковник, — Поморцев перевел взгляд на Канашова, — не точно выполняете приказ?
Канашов доложил свои соображения о подвижном отряде.
Поморцев спросил комдива:
— Товарищ полковник, почему бы действительно не попробовать? Мне думается, подполковник Канашов предлагает дельную вещь. И в дивизионной газете, на мой взгляд, сегодня вышла дельная статья Ларионова: «О дерзких налетах на врага».
Русачев недовольно поглядел на комиссара: «Нашелся тоже защитник! Он дисциплину нарушает, а его в газете славят… Все парторг, старается угодить».
— Да если бы я со всеми его выдумками соглашался, товарищ полковой комиссар, то он давно бы из полка сделал опытный полигон, а не боевую часть. Но пока я отвечаю за дивизию, я этого не допущу. Нам воевать надо, а не опытами заниматься. Получил приказ наступать — вперед; обороняться — стой до конца.
— Но Канашов тоже несет ответственность за полк, и эти, как вы называете, опыты делает не ради собственной забавы.
Русачев нетерпеливо перебил:
— Я, товарищ полковой комиссар, нахожусь не на собрании, где говорят все и слушают всех. Я не считаю правильным, чтобы мною командовали подчиненные, а предпочитаю заставлять их делать так, как это хочу я. И вам, как свежему человеку, советую присмотреться ко всему, разобраться. А вам, подполковник Канашов, еще раз приказываю сдать все автомашины.
На обратном пути в дивизию комдив и комиссар молчали.
2
Канашов, расстроенный разговором с Русачевым, решил пойти посоветоваться с комиссаром. Но, придя к его блиндажу, не застал Бурунова. Ординарец сказал, что тот скоро вернется: у него назначено совещание агитаторов полка.
Канашов решил подождать комиссара и сел в стороне покурить. Неподалеку разговаривали бойцы. «Агитаторы, наверно, собираются», — подумал он.
— Здорово, Игнат! Да ты, оказывается, жив-здоров, чертяка, а мы уже похоронили тебя. Что у тебя с рукой? Ранило?
Канашов раздвинул кусты: друг против друга стояли два бойца, у одного рука в лубке.
— Как же это случилось?
— Да сдуру разве долго? Пригнали нас в Красное Урочище, обмундировали, винтовку, патроны выдали, и не успел я оглядеться, как мне говорят: «Здоровый детина», — и в команду смертников зачислили.
— Каких это смертников?
— Да это хлопцы наши так назвали роту, которую послали в засаду. С нами почти ни одного кадрового не было, все по мобилизации — и прямо туда, в пекло. А тут еще командир у нас попался — молоденький лейтенантик. И усов, должно, ни разу не брил. Разведка нас обнаружила, и давай артиллерия по нас садить, ну, а он поднял роту с позиции и вывел в лес, в кустарник. Померещилось ему, что там лучше будет. Не успели мы и лопат вынуть, глядим — немецкие танки.
— И что же он?
— Мы, ясное дело, открыли огонь. Палим в белый свет как в копеечку. Никто не знает, куда стреляет, — за кустами ничего не видно. Орудия, что с нами были, успели дать только по одному выстрелу. А немец как развернулся с танками, и давай нас утюжить! Вот тебе и засада вся кончилась.
— А что с лейтенантом сталось?
— Его сразу убило. А наша братва половина разбежалась, а другую половину немец передавил.
Боец поглядел на раненую руку и зло добавил:
— Его бы туда, этого дурака, кто нас в такое пекло сунул…
Канашов возмутился: «Ничего себе агитаторов подобрал Бурунов: обсуждают приказ командира полка. Ишь, нашлись умники!» Он поднялся и нарочито грубо крикнул:
— Кто там недоволен? Чего по кустам прячетесь, выходи!
Из кустов поднялся высокий, широкоплечий, уже пожилой боец с круглым лицом и вздернутым носом. Он смело шагнул навстречу Канашову. За ним вышел его товарищ — боец Еж.
— А ты что, пугать пришел? — спросил пожилой так же резко. — Тебя бы в это пекло, тогда не больно бы ерепенился. Я правду говорю: задаром люди головы потеряли.
Выйдя из-за кустов и увидев на петлицах Канашова три шпалы, он не струсил, не отступил, а только потупил взгляд.
— А ты кто таков? — спросил по-прежнему резко Канашов.
— Ну, Барабуля Игнат, ваш боец, парторг роты.
И по тому, как он твердо произнес это, Канашов почувствовал: обидели человека, за живое задели.
— Так, говоришь, какой-то дурак головы заставляет класть? Ну; вот он — этот дурак я! — бросил с вызовом Канашов, подступая вплотную к Барабуле.
Они оглядели друг друга упрямыми взглядами, не желая уступить друг другу. Тяжело дыша, Барабуля сказал:
— Вы простите меня, товарищ подполковник, но когда вы еще нос рукавом утирали, я с отцом с беляками воевал вот тут же, — ткнул он пальцем в землю, — в Белоруссии.
Барабуля не знал, что и Канашов еще совсем мальчишкой тоже воевал в конце гражданской войны.
— Но тогда ты, Аника-воин, с трехлинейкой пешком воевал, а теперь самолеты да танки…
— Знаю. А что же: как танки, так их бить нельзя? Да и самолеты. Бьет же охотник любую птицу.
— Ишь ты, каков ухарь! Голыми руками бить будешь?
— Как бить — это надо подумать. Вот вы подполковник, вас учили, и то вам это неизвестно… А мы? Откуда нам про то ведать, когда мы всю жизнь землю ковыряем? — хитро улыбнулся Барабуля.
Он в чем-то был уверен, поэтому говорил смело и чувствовал себя в этом разговоре равным.
— Не вина, кто ошибается, а беда, кто не исправляется, — желая смягчить разговор, вмешался Еж.
— Не влазь в наш разговор, — отрезал Барабуля. — О твоей же дурной башке пекусь. Там, где я побывал, мне уже сам черт не страшен.
Канашов набрался терпения и решил выслушать, его до конца.
— Мой батька исконный мужик был, а поглядели бы вы, как беляков громил. Ежели учили бы его в военной школе, непременно генералом был бы. Здорово у него башка работала, смекалкой бог не обидел. Вот, скажем, танки… Танк, что и говорить, страшный, дьявол. Не у каждого душа на месте усидит, когда он идет на тебя да подминает все на пути. Вот как-то батя-покойник удумал такую штуку: «Давайте, братцы, налетные отряды делать. Подберем отчаянных хлопцев, коней резвых, санки легонькие, на них пулеметы, „лимонок“ побольше, да и вдарим по белякам ночью нежданно-негаданно. Можно и днем… Выследим, что по хатам сидят, возле баб греются… Или, скажем, они привал в лесу сделают, а мы тут как тут».
— Ну и как, получалось? — нетерпеливо перебил Канашов.
— Справно выходило, товарищ подполковник. У беляка дивизия — у наших двадцать пар саней, и он урон тяжкий несет, а с нами сделать ничего не может. Офицера мы ихнего однажды в плен захватили, так он сказывал: окрестили нас беляки «летучими голландцами». Это, говорят, когда-то такие страшные морские разбойники были. Купцов грабили… А тактика у нас была такая. Налетим, бывалоча, с гиком, свистом, вдарим со всех сторон, а потом рассыплемся, как горох, ищи ветра в поле… Ну конечно, мы условное место имели для сборов и пополнения. Вот тебе и дивизия, офицеры собаку в военном деле съели, а мы горстка мужиков сермяжных, лапотников, а били их крепко, аж пыль с них летела.
— А сколько тебе тогда было? — заинтересовался Канашов.
— А что? Обо мне какая речь? Мальчонка двенадцати годов. Патроны им набивал в ленты, раненых обхаживал, за конями приглядывал. Правда, и в разведке бывать приходилось…
— Как это тогда дороги наши не сошлись? — вздохнул Канашов. «Годов-то он моих… Умный мужик, калач, тертый жизнью», — подумал и тут же предложил: — Иди ко мне! Пока рука подживет, коней глядеть будешь, а там найдем тебе покрупнее работу.
Барабуля нерешительно взглянул на Канашова, потом твердо сказал:
— Нет у меня охоты, товарищ подполковник.
— Ты чего забоялся? Или обиду на меня держишь?
— Обиду держу. Да не в том дело… Меня война с родной земли согнала… Воевать я пришел, товарищ подполковник. Вот только рука подживет чуток — я опять к себе во взвод. Народ у нас там больно хороший. Свыкся с ними, как родные мне стали… Ну, что ежели лишнего сказал, не обессудьте. Что на душе было, то и выложил, по-партийному — все в глаза.
Канашов подошел к нему, взглянул в его честные, широко открытые глаза и крепко пожал руку:
— Спасибо, Игнат Барабуля! За правду спасибо!
3
Немцы в эти дни ожесточенно преследовали отступающие советские войска. Вначале они приняли подвижной отряд под командованием Жигуленко за крупные силы русских. Отряду, пользуясь темнотой, удалось оторваться, и Жигуленко расположил его на широком, фронте около километра.
На рассвете, когда немцы еще отдыхали, отряд открыл беглый огонь из автоматов, пулеметов и орудий. Этот внезапный огневой налет вызвал переполох в стане врага. Гитлеровцы начали поспешный отход. Тут и надо было Жигуленко нанести им повторный огневой удар, но он упустил момент. Отступающий противник почувствовал ослабление огня и активизировал разведку.
Жигуленко понимал, что ему не под силу вести бой с танковыми подразделениями. Поэтому, как только немецкие танковые части начали разведку, он приказал отходить, применяя короткие огневые удары и маневр отряда по лесам, где трудно действовать танкам противника. Вскоре немцы все же обнаружили, что против них действует небольшой отряд, и начали его преследовать. Жигуленко вызвал командиров и приказал посадить бойцов на машины. Каждой машине он дал свой маршрут отхода, назначив место сбора. Через несколько минут двенадцать машин с двумя орудиями на прицепе разъехались по узким лесным дорогам.
Немецкие танкисты были озлоблены дерзкими действиями небольшого отряда русских и решили уничтожить его во что бы то ни стало. Они кидались за каждой отходящей автомашиной, как стая гончих.
Вражеским снарядом была повреждена машина, на которой ехал Жигуленко. Но ему вместе с сержантом и двумя легко раненными бойцами удалось уйти от немецких танкистов. К вечеру они добрались до пункта сбора. Там уже собрались основные силы отряда. Жигуленко решил с наступлением темноты идти на соединение с полком. Но тут его разведчики доложили: в овраге Черная балка, через который пролегал их путь, остановилось немецкое танковое подразделение. Жигуленко выслал разведчиков. Они возвратились, захватив «языка» — командира танка лейтенанта Курта Шрапса, и тот сообщил, что их батальон из семи танков преследовал сегодня русский подвижной отряд и что у танков кончился бензин, а боеприпасы на исходе.
И Жигуленко, пользуясь тем, что у оврага были крутые берега, решил устроить ловушку: оба выхода из Черной балки завалить деревьями и заложить хворостом, а хворост облить керосином (две бочки его досталось им при утреннем налете на немцев) и поджечь. А чтобы немцы не выбрались из этой ловушки, поставить засады с пулеметами и орудиями.
С наступлением темноты немецкие часовые были сняты быстро и бесшумно. Бойцы натаскали вороха сухого хвороста, облили керосином, командиры расставили засады.
Но вдруг близко загудели моторы. Разведка донесла, что идут немецкие бензозаправщики, разыскивая свое танковое подразделение.
Жигуленко приказал начать огневой бой одновременно с бензозаправщиками и танками.
Сигналом для начала действий послужил огонь, открытый нашими бойцами по немецким бензозаправщикам. Подожгли и кучи хвороста. Но Жигуленко не учел, что у некоторых немецких танков еще был небольшой запас бензина. И как только вспыхнул хворост, они выскочили к выходам из оврага и открыли огонь. Наши артиллеристы подбили два танка, но и у них орудие было выведено из строя.
Хотя и не удалось уничтожить колонну бензозаправщиков и все танки противника, Жигуленко был доволен: на их боевом счету — два танка и три сожженных бензозаправщика, да еще и ценные разведывательные сведения. Разведчики Жигуленко подбили немецкого мотоциклиста-связного, везшего пакет из танковой группы в дивизию. В нем предписывалось танковой дивизии Мильдера возобновить наступление и к концу июля выйти на Днепр.
Глава десятая
1
Лейтенант Жигуленко особенно долго и старательно брился, начистил до блеска сапоги. И когда весь сияющий направился к коню, им залюбовался комиссар Бурунов.
— Вы, товарищ лейтенант, смахиваете на поручика уланского полка. Только красного мундира с золотым шитьем не хватает.
Евгений ловко сел на коня.
— Случайно не в штаб дивизии? — спросил комиссар. И, получив утвердительный ответ, попросил: — Передайте, кстати, и мой пакет. В политотдел отдайте. — И, похлопывая по спине лошадь, сказал полушутливо: — Вы только в медсанбат не заглядывайте, а то девчата друг другу глаза из-за вас выцарапают.
По пути Жигуленко беспокоила мысль: «Как быть с Ритой? А вдруг Русачев узнает о моих свиданиях с Ляной?…»
В полукилометре от медсанбата Евгений спрыгнул с коня, привязал его к дереву и разбинтовал руку. Рана уже покрылась плотной коричневой коркой. «Как же я приду к ней на перевязку? Рана поджила. Может направить в санроту полка, скажет: „Вам там ближе“. А ну, Евгений Всеволодович, докажи, что у тебя настоящая любовь!» И он рывком, с силой провел подживающей рукой по коре сосны. Резанула жгучая боль, электрическим током пробежала по телу, и он невольно закрыл глаза, сжав зубы, а потом снова вскочил на коня и рванул с места галопом.
«Если бы ты знала, Ляна, что я для тебя готов сделать!» — с этой мыслью он вошел в перевязочную медсанбата. Вошел и остановился.
«А Ляна говорила, что она постоянно дежурит», — мелькнула мысль.
— На перевязку? — спросила, не оборачиваясь, санинструктор.
— Да-а, — хрипловатым голосом подтвердил Жигуленко…
— Проходите, пожалуйста, к столу. Посмотрим, что там у вас, — и она повернулась. Жигуленко замер.
— Наташа! — «Теперь я пропал… Обо всем будет знать Рита», — но он тут же справился с волнением, подошел к девушке, схватил ее руку.
— Здравствуй, здравствуй…
Наташа смущенно улыбалась.
— А тебе идет военная форма. Вот только кос, наверно, жаль?
— Что ты, нашел, о чем жалеть.
Жигуленко вдруг понял немой вопрос в глазах Наташи.
— Сашка здесь… Командует… У него теперь начальник Дубров.
Щеки Наташи зарумянились.
— А Аржанцев где? — спросила она.
— Растут люди. На повышение пошел. Батальоном командует.
— Показывай рану, — вдруг приказала Наташа.
— А ты что же, Сашку так и не видела?
— Чудак ты! Да я еще и с отцом не виделась. Только по телефону и поговорили. — И тут же в упор: — Где же это ты так ободрал руку? — Она вытащила из раны несколько чешуек сосновой коры.
Жигуленко смутился.
— Да было дело, по неосторожности. Конь у меня, понимаешь, норовистый, дьявол. Сбросил меня, ну и вот…
Наташа с сожалением оглядела его.
— Ну, а сам ты не ушибся?
— Нет, ничего.
Девушка закончила перевязку.
— У меня идея, Наташа. Давай Сашку удивим? Ты ему ни слова о себе. А я вызову его, будто в штаб. Ведь тебе на передовой не так-то просто его разыскать.
— Хорошо, давай.
Жигуленко вышел из медсанбата разочарованный. «Вот дотошная, черт, девка — вся в отца. А приезд Наташи может многому помешать. Надо сделать так, чтобы они не подружились с Ляной».
2
Ляна и всегда была аккуратна, но в последнее время стала много заниматься собой, обращая особое внимание на вечерний туалет. Наташа решила, что она влюбилась.
А в Ляне боролись противоречивые чувства. Что-то неведомое и настойчивое тянуло ее к Евгению, и вместе с тем ее гордая, самолюбивая натура противилась этому чувству. Однако Ляна согласилась прийти на свидание. «Значит, ты его полюбила», — вкрадчиво говорил ей чей-то голос. «Ой ли? Так ли это?» — не соглашалась девушка, стараясь уйти от прямого ответа.
В вечерних сумерках, среди темных стволов деревьев опушки леса она увидела Жигуленко.
— Здравствуйте, Ляна, — сказал Евгений, как ей показалось, глуховатым, не своим голосом. Он взял ее руку и ощутил в ее пальцах легкую дрожь.
— Вам холодно? — спросил он.
— Да… Нет. Так просто, — сбивчиво ответила Ляна и, освободив руку, сунула ее в карман шинели.
И сразу, нарушая эту неловкую тишину, прокатился далекий гул артиллерийской канонады. Он напомнил им о войне.
— Где-то начался бой, — проговорил Евгений, понимая, что говорит не то и зря теряет минуты. А ведь идет война, и, может, минут таких немного осталось; на войне всякое бывает. И вот оба они могут разойтись, так и не сказав друг другу главного, решающего.
— Да, — коротко ответила Ляна.
Евгений взял ее под руку, и они медленно зашагали по лесу. Бродили долго. Ляна устала. Но даже и эта усталость, расслабляющая тело, была приятна.
На востоке робко затеплился бледный рассвет. Ляна вспомнила, что сегодня ей заступать с утра на дежурство. Но уходить так не хотелось. Она посмотрела в глаза Евгению. От бессонной ночи синие тени залегли под его глазами.
— Я пойду. Мне пора…
— Можно проводить вас? — спросил Евгений.
— Только до опушки, — ответила она.
— Знаете, Ляна, мне бы хотелось вас предупредить… Вы с новеньким санинструктором поосторожней.
— С Канашовой? Наши девушки ее побаиваются, а ко мне она относится хорошо. Думаю, мы с ней подружимся.
— Папина дочка. Чуть что — бежит кляузничать. А там и во всей дивизии станет известно.
— А вы откуда ее знаете? — насмешливо улыбнулась Ляна.
— Да я же в полку Канашова до войны служил. Многим она тогда крови попортила.
— Наверно, и вам в том числе?
— Нет, что вы. Вообще я был с ней знаком. Танцевал несколько раз. Как-то даже провожал. Но ничего серьезного не было…
Ляна недоверчиво глянула в глаза. «Что-то крутит парень». Впервые она почувствовала ревность. А что, если Евгений любил кого-то до нее, а может, и сейчас еще не все кончено? (Ляне сказали, что Жигуленко был на перевязке без нее, но кто ему делал, она тогда не придала этому значения.) «Надо узнать…»
— Ляна, вы о чем задумались?
Она пристально поглядела ему в глаза, недоверчиво улыбнулась.
— Мне надо торопиться.
— Приходите завтра… Сюда же…
— Хорошо.
И она торопливо зашагала прочь. Евгений провожал ее тревожным взглядом. «Будь что будет. Если любит, не уйдет, о чем бы ей ни рассказала Наташа. Завтра вечером все будет ясно».
…В медсанбате Ляну встретила рассерженная Наташа.
— И как не стыдно? Вечером раненых привезли, все с ног сбились, а ты разгуливаешь?
— А тебе какое дело? Подумаешь мне, командирша.
— Совесть надо иметь, — бросила Наташа и выскочила из землянки.
Лицо Ляны будто кто опалил огнем. От негодования спазма перехватила горло.
«Так вот она какая штучка? Прав был Евгений. От такой надо подальше. А я-то, доверчивая дура, думала с ней по душам поговорить. Все же надо узнать у Евгения, кто ему делал перевязку».
3
Чепрак вызвал к себе Жигуленко для получения новой задачи подвижному отряду. В это время позвонил сам Русачев, чего он никогда до этого не делал, и приказал срочно направить к нему Жигуленко.
— Иди, тебя срочно вызывает комдив. Чего это ты там натворил?
Как только Жигуленко вошел, полковник Русачев встал и, слегка пошатываясь, пошел навстречу; лицо бледное, губы дрожат. Жигуленко даже струсил.
— Ты что ж, подлец, позоришь мою дочь?! — сказал комдив свистящим шепотом, сжимая кулаки и потрясая ими перед лицом Евгения.
«Это уже действия Наташи. Неужели я потеряю Ляну?» — мелькнула мысль.
Но Русачев вдруг в последнюю минуту переломил себя и подал ему письмо жены. Жигуленко прочел и узнал, что Рита беременна. Марина Саввишна удивлялась, почему зять не пишет дочери. Жигуленко запомнились ее слова: «Риточка за эти дни очень исхудала. И как посмотрит на портрет Жени — плачет».
Пока Жигуленко обдумывал письмо, Русачев сидел, подперев голову руками, суровый и хмурый.
Евгению стало жаль Риту. Настоящей любви к ней он не питал. А вот теперь скоро станет отцом ее ребенка. Можно, конечно, написать Рите и сказать Русачеву, что он не признает ее своей женой и любит другую. Но он понимал: сейчас делать такой шаг опасно. Зачем обострять отношения? Идет война, и никто не знает, что ждет всех впереди…
Жигуленко положил письмо перед Русачевым.
— У меня не было адреса… Я обязательно напишу Рите…
Русачев поднял голову, посмотрел недоверчиво. Постепенно взгляд его смягчался.
— В Уфе они… Саввишна в госпитале работает… А Рита, — он развел руками, — дома хозяйничает. Адрес возьми у адъютанта. Ты не обижайся на меня. Погорячился я тогда. Сам видишь, нелегко мне… — И вдруг перевел разговор на служебный: — Чем это ты понравился Канашову?
— Не знаю, товарищ полковник, — кокетливо, улыбнулся Евгений.
— Говорят, ты там страх на немцев наводишь своим подвижным отрядом? А ведь я мало верил в это дело. С комиссаром моим, знаешь, как спорили… Оставил Канашову несколько машин. Думаю, пусть забавляются. Ты бы хоть когда-нибудь заглядывал по старой дружбе.
— Зайду, товарищ полковник.
Жигуленко заметно торопился, поглядывая на часы.
— Разрешите идти, товарищ полковник?
— Иди, иди!
И уже когда Жигуленко выходил из землянки, сказал вслед:
— Ты, Евгений, гляди, зря в пекло голову не суй.
…Вернувшегося в полк с задания Жигуленко ожидало много новостей. По настоянию командира полка (об этом Жигуленко узнал от Чепрака) ему было присвоено очередное воинское звание — старшего лейтенанта. Приказом комдива он назначался командиром роты разведки дивизии. Жигуленко подумал: «Хочет, чтобы был у него на глазах».
Уходить от Канашова не хотелось. Он понимал: в полку в полную меру могут проявиться его способности. Ему были по душе дерзкие действия подвижного отряда и то внимание, которым его окружали. Канашов представил его к награде, и Жигуленко чувствовал — скоро он может получить должность командира батальона. Но Русачев был непреклонен.
Жигуленко намеревался поговорить по душам с Канашовым, но, встретив его осуждающий взгляд, не решился говорить откровенно и только доложил об отъезде в дивизию.
— Зря согласились пойти в дивизию, — сказал ему командир полка и добавил: — Ну, если у вас призвание разведчика — желаю успеха!
— Товарищ подполковник, но меня никто не спрашивал. Назначили…
— Теперь говорить об этом поздно. Приказ надо выполнять.
Жигуленко в дивизии ожидала неприятная новость. Командир медико-санитарного батальона дивизии хорошо знал вспыльчивый характер Русачева. И как только ему стало известно, что Жигуленко возвращается в дивизию, он в тот же день направил Таланову в полк Канашова, чтобы разъединить ее с Жигуленко.
4
Последние дни и ночи Миронов совсем не отдыхал. Не успели закончить оборудование позиций на передовой, как взвод перебросили на новый участок. Миронов спотыкался от усталости, но когда Правдюк предложил ему поспать хоть немного, наотрез отказался и, лишь закончив работу, прислонился к толстому дереву и внезапно задремал.
Бойцы разглядывали с любопытством лейтенанта. Первое время у Миронова было серьезное, начальственное лицо с жесткими, знакомыми всем складочками, разбегавшимися ото рта. Но по мере того как сон овладевал лейтенантом, лицо его прояснялось, будто светлело хмурое, осеннее небо, когда ветер рассеивал плотный войлок туч. Узкое угловатое лицо Миронова с бронзовой кожей и припухшими губами было по-юношески свежим.
Пришла во взвод Таланова, — она разыскивала Дуброва, — и залюбовалась спящим лейтенантом. Бойцы хотели его разбудить, но она запротестовала:
— Пусть отдохнет… Все равно всех дел не переделаешь.
Прибежал связной от Дуброва с приказанием немедленно выступать. Миронова никто не будил, он сам вздрогнул и проснулся. Увидев перед собой улыбающегося санинструктора, лейтенант растерялся и даже не поздоровался с нею.
Еж перехватил его смущенный взгляд, оценивающе осмотрел Ляну и пришел к выводу, что лейтенант и санинструктор — хорошая пара.
Бойцы, докуривая, надевали скатки и, разбирая из козел винтовки, весело переговаривались.
— Больных направьте в санроту, товарищ сержант, — приказал Миронов Правдюку, — а остальных постройте и ведите. Да оставьте одного бойца проверить, все ли забрали.
— Есть, — ответил Правдюк и, поискав глазами, распорядился: — Боец Еж, останьтесь для проверки.
Скоро взвод влился в ротную колонну и снова зашагал по пыльным дорогам на восток.
Еж прошел по полянке, осмотрел место, где отдыхали бойцы, и, ничего не обнаружив, пустился вдогонку.
Из оврага донеслось сипловатое кукареканье… «И откуда здесь взяться петуху?» — подумал Еж. Подстрекаемый любопытством, он направился к оврагу.
Черно-атласный молоденький петушок с красным мясистым, как мякоть арбуза, гребнем запутался в проволоке и, пытаясь освободиться, хлопал беспомощно крыльями. Еж мгновенно освободил «пленника».
«Что же мне делать с ним? Нести в руках неудобно. Подумают — своровал… Голову свернуть — и все тут». Он уже взялся за шею петушка, как тот, почуяв что-то недоброе, затрепыхался, стараясь вырваться. «Не торопись, Ефим, — сказал себе Еж. — А что, если сегодня не доведется сварить? В такой жарище мясо протухнет».
— Ладно, пользуйся моей добротой, — Еж ухмыльнулся. — Полезай-ка в солдатский сидор.
Петух долго ворочался за спиной в вещмешке, пытаясь освободиться, но, потеряв надежду, притих.
За деревней Куповичи Ефим догнал взвод. Не терпелось рассказать товарищам о находке, но воздержался: подумают, украл. «Андрею скажу — и ладно. Одним цыпленком всех не накормишь. А для двоих в самый раз. Вечером такую похлебку сварим — пальцы оближешь». Он мысленно представил вкусно пахнущую похлебку, и сразу засосало под ложечкой: «Вот где бы молодой картошки нарыть?»
Поравнявшись с Андреем, он заговорщически понизил голос:
— Ух, у меня и находочка, брат, закачаешься!..
Но Андрей не понял. Он был занят своими мыслями.
Чем ближе подходили к Днепру, тем больше мрачнел Полагута: ведь там рукой подать до Долгого Моха, где живет жена его Аленка с двумя сыновьями. На исхудавшем лице Андрея теперь резче выделялись скулы, а глаза затуманились грустью.
Писем от Алены не было давно. Когда стояли на Березине, он написал ей и советовал уехать к родным на Дон. Но получила ли она письмо — неизвестно.
Так и шагали они молча, пока не пришли на место, где должны были готовить новый рубеж обороны.
На новом рубеже в артиллерийском складе полка взводу выдали три новеньких автомата, их лейтенант распределил по одному на отделение. Принесли два ящика патронов и один — гранат, а вечером — два мотка колючей проволоки, три лома и четыре большие саперные лопаты.
В отделении Правдюка автомат достался Ежу, и он немало гордился этим. Гладя рукой по вороненому стволу автомата, Ефим, улыбаясь, говорил:
— С этакой штучкой мне, братцы, теперь сам черт не страшен. Вот только патрончиков, товарищ сержант, маловато.
— Скилько положено, — отвечал добродушно Правдюк. — Глядить мэни, шоб автомат, як очи, берегли… Чуть якэ пятнышко, тоди не ждить от мэне пощады.
Поглядывая на бойцов, отрывающих окопы, Правдюк вдруг заметил, как один вещмешок зашевелился. «Почудилось, мабудь, — подумал сержант, присматриваясь, — устал, вот и лезет в голову всякая чертовщина». И тут вдруг раздался петушиный крик. «Откуда в лесу петух?» Правдюк направился к «живому» вещмешку и поднял его с земли. К нему бросился Еж, сокрушаясь, что не свернул голову коварной птице, и принялся сбивчиво объяснять. Их обступили бойцы.
— Понимаете, товарищ сержант, он беспризорный, в овраге запутался в проволоку. Ну, я пожалел его, беднягу: пропадет задаром, вот и взял…
Правдюк вдруг помрачнел.
— На нас народ, як на защитников, дивится, а мы шо, мародерствовать почалы? — И он гневно оглядел бойцов отделения, будто это была вина всех. — На курятину потянуло? — зло бросил он. — А завтра вин корову або свинью зариже, та и буде казать, ще вона беспризорна.
Подошел Миронов. Выслушав рассказ командира отделения и сбивчивое объяснение Ежа, он сказал спокойно:
— За такие проступки расстреливали еще в гражданскую войну, — вспомните, товарищи, картину «Чапаев»… Как же это могло случиться, что наш товарищ по оружию обворовывает советских людей?
Лицо Ежа горело, будто его отстегали крапивой.
— Да он ничейный был, товарищ лейтенант. Разве ж я из курятника его взял? — пытался защищаться он.
— А какая разница, где вы его взяли? — строго нахмурил брови Миронов. — Если вы взяли в овраге, то могли взять и из курятника.
— Наша товарищ всех подвела, — сказал Мухтар. — Зачем он тебе, курицын ребенка? Ах, Ефим, Ефим! — покачал он сокрушенно головой.
— Та шо, вин дитятя, чи шо? — сказал Подопрыгора. — Ни понимает, шо робит. За таке дило под трибунал надо! — сверкнул он гневно глазами.
— Придется, товарищ Еж, передать автомат, — Миронов оглядел бойцов, — вот товарищу Ракитянскому.
Лицо Ежа покрылось красными пятнами. Он с испугом взглянул на лейтенанта.
— Так мне его на складе выдали, и за мной по ведомости числится, — сказал он, будто попытался переубедить лейтенанта.
— Нет, товарищ Еж, оружие не выдается как обязательный пайковый хлеб или концентраты… И даже не вручается, а доверяется советскому воину как защитнику Родины! И он должен оправдать это доверие!
Еж склонил голову: «Зачем я брал петуха? Осрамился перед всеми». И как бы отвечая на его вопрос, лейтенант посоветовал:
— Если вы дорожите доверием товарищей, попытайтесь вернуть его. Все зависит от вас.
В сердце Ежа затеплилась надежда.
Глава одиннадцатая
1
Третьи сутки не умолкает стук топоров, визг пил в лесах на реке Друти. Идет заготовка строительного материала для оборонительных сооружений — блиндажей, землянок, укрытий. С каждым днем все глубже и глубже зарываются бойцы в землю. А над рекою все чаще появляются вражеские воздушные разведчики. Кое-где на переправах немецкие бомбардировщики бомбят беженцев. Отдаленно гремит, то приближаясь, то затихая, артиллерийская канонада. Солнце беспощадно палит, и река заметно обмелела.
Напряженной жизнью живет в эти дни полк Канашова. Прибывает новое пополнение, подвозятся боеприпасы, продовольствие.
Во всех частях большого войскового организма полка день и ночь кипит напряженная работа. Полк готовится к сражению.
Только Дубров бродит по лесу какой-то безразличный ко всему. Он долго и упорно молчит, уставясь рассеянным взглядом в землю, крутит в пальцах голубоватый цветок незабудки, покрытый пылью, изредка подносит его к носу, нюхает, тяжко вздыхает.
— Ведь вот нет в нем никакого запаха, — говорит он Миронову, — с виду бедный цветок, а какие Рита красивые венки из него плела, залюбуешься! Бывало, пойдем с ней в лес, кругом цветы, птицы поют, и на душе так легко… Хоть Жигуленко и друг тебе, и дело это прошлое, а скажу откровенно: не любит он Риту… Жаль, фотография Риты в Свислочи утонула. Помнишь, когда форсировали, она в планшетке у меня была. В воде осколком ремешок срезало. Я и не заметил. На берегу хватился — нет планшета. Знаешь, Саша, кажется, вот пустяк, карточка… Просто бумажка, а мне как-то легче было тогда. Больше верил в себя… И чувствую, нельзя мне распускаться. Какой же я командир… Признайся, тебе противно смотреть на меня? Да? — Дубров смущенно взглянул на Миронова. — Чует мое сердце, что жить мне недолго осталось, — добавил он каким-то чужим, оборвавшимся голосом.
На Миронова повеяло холодом от этих слов. Ему захотелось разуверить товарища. Ведь раньше никогда за Дубровым подобного не замечалось. В боях он дрался смело, за это его все любили. Почему на него вдруг напала хандра, почему сломился характер?
— Да что ты, Сергей. Ты что, забыл, — весело сказал Миронов, — ведь мы в академию собирались поступить после войны?
И Дубров, вглядываясь в мерцающие звезды, старается припомнить этот разговор.
— В академию?… — переспрашивает он, оживляясь. — Обязательно поступим. Это моя заветная мечта…
2
Всю ночь Еж и Новохатько ходили по селам. К утру они принесли два мешка бутылок. И тут же под наблюдением Миронова налили в них бензин и роздали по отделениям. Усталый добрел Еж до своего окопа, расставил бутылки в нише, упал, обессиленный, на дно окопа, накрылся шинелью и уснул как убитый.
Новохатько в это время копал себе щель. Вместе с Ежом они были назначены истребителями вражеских танков. «Ну и выдумают таке нестояще дило: на танк с бутылкой! Та от него даже снаряд отскакивает рикошетом, а шо ему бутылка зробит?… Цим средством клопив из кровати выжигать гарно», — думал Новохатько, усердно долбя суглинистый грунт и с завистью посматривая на спящего Ежа.
Он не выдержал и разбудил Ежа.
— Юхим, ты слыхал таку присказку? Мени ее рассказал мой земляк, Ванька Полудница…
— Какой такой Полудница? — рассердился Еж.
— Та цей, що на баяне гарно грае. У ихнем взводе балакают о Канашове так:
«У нашего Канаша больно сметка хороша. Воевать к нему пойдешь, никогда не пропадешь».Той присказкой воны усих отставших от частей бойцов до себе переманивают. Вот це агитация! А то шо ты нам шутки сыплешь. С них тилько зубы чесать…
— Каков полк, таков о нем и толк, дело ясное, — и, перевернувшись на другой бок, Еж снова захрапел.
Взошло солнце, оно согрело продрогшего от сырости Новохатько, его клонило ко сну, но он получил приказ копать щель. «Ты гляди, який чертяка стал, дыхать не дае, — размышлял Новохатько о Полагуте. — Раньше покладистый був хлопец, а теперь попробуй не послухай». Сон смежал отяжелевшие веки, глаза слипались, непослушная лопата то и дело выпадала из рук. Наконец, прислонившись к стене окопа, боец закрыл глаза, голова его свесилась на грудь.
Но чуток сон солдата, как у матери возле ребенка. Над окопом тонко, как оса, прожужжала шальная пуля, и сразу Новохатько встрепенулся. «Не иначе, як кто-то стрелял», — дошло до сознания, и он нехотя открыл один, потом другой глаз и стал всматриваться в противоположный берег.
Там по-прежнему было спокойно. Лес синим частоколом ринулся вдоль реки, вода изредка рябилась серо-зелеными бугорками волн, а середина ее курилась туманом.
«То мэни почудилось… Подремлю до солничка, а там и покончу щель», — решил Новохатько, подкладывая под голову вещмешок и устраиваясь поудобней.
Но вскоре появились вражеские самолеты-разведчики. Долго и надсадно, как бормашина, ныли они, неторопливо высматривая что-то на земле. И как только ушли на запад, над районом обороны батальона появились тяжелые бомбардировщики.
Земля затряслась и загудела, словно бубен, о который ударяли огромными колотушками. Еж и Новохатько вскочили. Перед окопом появился лейтенант Миронов, лицо спокойное, но бледное.
— Позиция готова? — строго спросил он у Новохатько, который был назначен старшим истребительной группы.
— Трохи ни успилы, товарищ лейтенант, — щурил он заспанные глаза.
И тут же донеслось:
— Танки слева!.. Танки слева!..
Артиллеристы выкатывали на опушку леса орудия, собираясь прямой наводкой отразить танковую атаку. В окопах зашевелилась пехота, готовя связки гранат и бутылки с бензином.
— Сколько ни выть, а знать, так и быть, — сказал Еж, чувствуя мелкую дрожь во всем теле. — Как думаешь, Иван, не наделают они из нас котлет? Кобыла с волком тягалась, один хвост да грива осталась.
— Ничего, Юхим, зараз наша артиллерия вдарит, та и мы подсобим трохи.
— А тебе не страшно? Гляну на танк, так бы и влез в землю, как червь.
— Оно-то хто не злякается, — признался Новохатько. — Земля и та пид танком корежится. Попадись пид его ненароком, вин тебе, як зерно на жерновах, перемелет.
Еж и Новохатько высунулись из окопа и стали наблюдать. Снова просвистела пуля. Новохатько пригнулся. Еж взглянул на него, осклабился.
— Ты кому кланяешься? Немцам, что ли? Не та пуля разит, что грозит…
От леса, разворачиваясь вправо, прямо на них ползли танки. Новохатько считал:
— Восемнадцать, — сказал он и вытер со лба пот. — Вот это, брат, штучки… А ты думал, нашему Рыкалову было легче? У него даже окопа плохонького не було. Решил, что остановит танк, и остановил. Железный мужик.
— Если по-русски скроен, — подмигнул ему Еж, — и один в поле воин.
В этот момент разом, как по команде, танки первой линии открыли огонь. В ста метрах от переднего края нашей обороны, где начинался противотанковый ров, взметнулись огненно-черные метелки взрывов.
«Дорогу себе пробивают, — подумал Миронов, не отрывая взгляда от того места, где разорвалось несколько снарядов и обвалились края противотанкового рва. — А потом пойдут за ними автоматчики и выйдут в тыл полку. Тогда все пропало!.. Неужели командование не видит опасности?»
У Миронова вмиг созрело решение выдвинуть на фланг пулемет, пропустить танки и, когда пойдут в атаку автоматчики, в упор встретить их огнем. Он вызвал опытных пулеметчиков Ягоденко и Щитова.
Танки уже были не более чем в ста метрах от переднего края нашей обороны. Они прекратили огонь и увеличили скорость. Лязг гусениц, гудение моторов, редкие выстрелы ков второй и третьей линии слились в угрожающий шум. Земля дрожала от страшного гула. А солнце не могло пробить дымное марево, что висело в воздухе.
Еж, пристально вглядываясь в даль, договаривался, что вначале Новохатько даст танкам «закуску», бросая связки гранат, а затем угостит их «выпивкой» — подожжет бутылками с бензином. Новохатько, пригибаясь, направился по ходу сообщения навстречу танку. В памяти его всплыл образ суховатого, подтянутого Рыкалова с болезненно-желтым лицом. «Ему тоже было страшно, как и мне», — мелькнула мысль.
Теперь танк был уже совсем близко. Все слилось в один скрежещущий звук. Новохатько приподнялся, бросил связку гранат и тотчас упал на дно окопа. Раздался оглушительный взрыв, но тут же Новохатько почувствовал, что танк врага продолжает идти на его окоп. Он мигом вскочил, выглянул, и страх охватил его: танк был метрах в двадцати. Он схватил и бросил вторую связку, за ней третью.
Взрывы последовали друг за другом, и вражеский танк остановился. Он попытался рвануться вперед, но перебитая гусеница раскатилась по земле, как оброненная солдатская обмотка. Экипаж танка все еще продолжал борьбу, поливая наши позиции огнем из пулеметов.
Еж подполз к Новохатько.
— Здорово ты его! Дай-ка поднесу ему выпить. — И, взяв две бутылки, Еж пополз по ходу сообщения. Скоро бутылка со звоном ударилась об обтянутый резиновый каток и, как из пульверизатора, разбрызгала бензин. Ефим торопливо бросал одну за другой бутылки и никак не мог попасть в башню или в жалюзи. Наконец он метнул последнюю, и она подожгла танк. Черный столб дыма штопором ввинтился в воздух.
Лейтенант Миронов наблюдал за поединком истребителей танков и твердил: «Молодцы ребята, молодцы!» Артиллерия открыла ураганный огонь по вражеским машинам. Миронов увидел, как в брешь, пробитую танками, устремились автоматчики. Развивая наступление вдоль левого берега, немецкие танки вышли к мосту, во фланг полку Канашова.
«Что же молчат Ягоденко и Щитов?»
Миронов быстро отыскал глазами курганчик, одиноко маячивший на ровном пологом берегу реки. У его подножья копошились двое бойцов. «Жаль, что разбило осколком бинокль». И тут же заговорил тяжелой скороговоркой пулемет. Ошеломленные враги заметались по полю, побежали в беспорядке.
«Хорошо, хорошо, хлопцы!» — радовался Миронов.
Но гитлеровцы не собирались отказываться от выгодного маневра: они твердо решили овладеть «лысым» курганчиком и, выйдя в тыл полка, прижать его к реке. Они открыли бешеный огонь из минометов, и курганчик исчез в огненных разрывах.
«Хорошо, если мои пулеметчики успели подготовить позицию, а если нет?…» — забеспокоился Миронов.
Немецкие минометчики замолчали, и автоматчики вновь пошли в атаку. Вот они уверенно приближаются к курганчику. Пулемет молчит.
Миронов вскочил, бросился к курганчику, стремясь опередить немецких автоматчиков. Он совсем забыл об опасности. Кончились патроны или поврежден пулемет? И тут «максим» снова заговорил короткой скороговоркой — и вдруг смолк.
Лейтенант взбежал на вершину курганчика, В стороне в луже крови лежал первый номер — Ягоденко. У пулемета второй номер — Щитов, — правая рука в предсмертной костенеющей хватке сжала ручку пулемета. По гимнастерке на груди расползались бурые пятна. Он, по-видимому, пытался, но не смог открыть огонь. Пулемет стоял на ровной как стол песчаной площадке. «Неверно выбрали позицию», — с горечью отметил Миронов. Он оттащил в сторону обмякшее тело Щитова и лег за пулемет и тут понял, что более подходящей позиции трудно найти.
Фашистские автоматчики, не ожидая опасности, шли во весь рост, простреливая длинными очередями лежащую впереди местность. Пули звенели о щит пулемета. Осталось всего полторы ленты.
Миронов вынул половину ленты и положил рядом. «Это будет на короткую очередь, а вот этой дам длинную — мощный огневой удар».
Вблизи послышались взрывы вражеских гранат, и тогда Миронов в упор открыл огонь длинной, с рассеиванием по фронту, очередью. Скат, обращенный к нему, покрылся светло-зелеными бугорками трупов. Пулеметная очередь на редкость удачно перерезала атакующую цепь, уничтожив большинство наступавших. Теперь он вставил половину ленты и стал короткими очередями бить по отдельным солдатам и группкам противника. Вражеские солдаты уже больше не решались идти в атаку на пулемет.
Миронов облегченно вздохнул и стал медленно отползать с пулеметом. Вдруг он почувствовал, как горячая волна песка, земли и воздуха ударила в пулемет. Погнуло кожух, пробило осколками. Пулемет вышел из строя. Миронов вынул замок, сунул его в карман и, с трудом превозмогая головокружение, боль в висках, добрался до наблюдательного пункта. Весь оставшийся день и всю ночь страшно болела голова и тошнило.
Утром его навестил Дубров. Миронов чувствовал себя лучше, и боль в голове была уже не так резка, но в ушах продолжало звенеть.
— Удачно обошлось, Саша. Счастливый ты, в сорочке родился. Мина близко разорвалась. Пулемет искорежило, а ты легкой, контузией отделался. Канашов видел твой поединок с немецкими автоматчиками. Да вот даже в дивизионной газете о тебе Ларионов написал, хорошо так. Читаешь, за душу берет, и все как было на самом деле. Будто он с тобой рядом за пулеметом лежал…
Дубров радостно поглядел на товарища и сунул ему газету:
— На почитай!.. Аржанцев сказал: «Хочу благодарность Миронову объявить». А Канашов не согласился: «Наградной лист на него пишите».
И вдруг лицо его слегка озадачилось.
— Вчера Бурунов вызвал, хотят забрать меня на комсомольскую работу. Полковым комсомольским начальством сделать. Роту придется принимать тебе.
— Ну, а чего ты расстроился?
— Не хочется с командной работы уходить. К людям привык, к тебе, бродяге… Ну, какой из меня комсомольский работник? Ты же знаешь, не в моем это характере наставлять людей, речи говорить… Да и не умею я…
— Речи на войне ни к чему. Тут личным примером надо показывать. А дружбе нашей твое назначение не помешает… В любое время рад буду тебя видеть. А где прежний комсорг?
Лицо Дуброва помрачнело, глаза потухли.
— В рукопашной схватке погиб… Богатырь парень был. Восемь фашистов заколол, а на девятом штык поломал, ну его и смяли…
3
Рота Дуброва с утра отбила семь атак немецкой пехоты. Но противник снова обрушил на позиции роты шквал артиллерийского и минометного огня. С угрожающим свистом сыпались мины, злобно шипели снаряды, раскидывая вокруг тяжелые сухие комья земли, визжали осколки. Бойцам, слышавшим их смертоносное завывание, казалось, что каждый снаряд, каждая мина и осколок летят именно в него. Изредка в окопах раздавался короткий крик или протяжный глухой стон. Многие умирали безмолвно, не успев понять, откуда пришла смерть. Выглянешь из-за укрытия, посмотришь на опустевшие позиции, и становится страшно. Кажется, нет ни души. Попробуй узнать, кто из бойцов убит, а кто жив.
Миронов спокойным взглядом осматривал позиции. Командиры отделений все чаще и чаще доносили о выбытии бойцов из строя. Но теперь Миронов не ощущал растерянности, которая в первые дни войны чуть было не толкнула его на преступление.
Все вокруг казалось мертвым, но только на первый взгляд.
Бойцы терпеливо пережидали томительно длинные, порой отчаянно-безнадежные минуты, пока, наконец, артиллерия противника не угомонится. Каждый хорошо знал, что после шквального огневого налета артиллерии и минометов непременно последует новая атака врага, может быть, еще более сильная и напористая. Поэтому все готовились к этой встрече.
И действительно, обстрел вдруг прекратился. Полагута высунул голову, огляделся. Справа и слева среди хаоса развороченной земли, осторожно вытягивая шеи, осматривались бойцы отделения. «Значит, все в порядке», — и Андрей, облегченно вздохнув, полез в карман за табаком и бумагой. Долго ему не удавалось скрутить цигарку — пальцы одеревенели от напряжения, с которым он вцепился в винтовку, когда лежал на дне окопа. После двух-трех затяжек повеселело на душе.
Слева, из окопа Ежа, тоже вился голубоватый дымок. «Значит, жив», — подумал Андрей. Он посмотрел вправо — и там тоже курился дымок и блестел штык.
Из тыла к позиции отделения ползли подносчики патронов. Они то исчезали в воронках, то снова появлялись, волоча за собой вещмешки. Пользуясь коротким затишьем, они торопились раздать боеприпасы.
Возле Полагуты упала пачка патронов, другая, третья… Боец приметлив. От того, сколько раз приползает подносчик и сколько даст патронов, в душу бойца вселяется уверенность: значит, все в порядке, воевать есть чем. По выражению лица командира и тону его речи боец угадывает, как идут дела и что можно ожидать в ближайшее время. Суровая военная жизнь выработала свои особые приметы, которым нельзя не верить.
Мимо Андрея Полагуты, тяжело отдуваясь и пыхтя, прополз сержант Правдюк. Видно, он уже совершил большой путь на животе и порядком устал.
— Як дило? — спросил он Андрея, будто по тому, как тот г ответит, можно было судить по крайней мере о делах всего взвода.
— Хорошо, товарищ сержант, — ответил Андрей. — Скорей бы только началось, а то сидишь тут в норе, как суслик, того и гляди накроет.
— Передай вправо, шоб наблюдали. Шо ж воны попрятались? Ждут, коли кто по башке вдарит? Я до лейтенанта, а ты за мэне тут доглядай.
Он хотел сказать еще что-то, но над головой прошуршал снаряд. Правдюк вскочил и бросился бегом. Пробежав несколько шагов, упал и снова пополз. Так было несколько раз. Андрей наблюдал, как точно и быстро перебегал сержант. Ему невольно припомнились мирные дни учебы: пригодилась учеба, так скоро пригодилась! А ведь все это казалось таким ненужным и вызывало досаду. Андрей взглянул вправо: со стороны села Красный Брод, где находился правый фланг их батальона, подымая пыль, гремя гусеницами и беспорядочно стреляя на ходу, шли танки.
— Один… пять… семь… — Считал он вслух, шепча пересохшими губами… «Хорошо, если подбросят еще боеприпасов… А вдруг гранат не хватит?… Ишь ты, как палят! Вертись вот тут, в окопчике, как карась на сковородке», — размышлял он, невольно пригибаясь при близких разрывах снарядов.
Точно злой шмель, рядом прожужжал осколок и, ударившись о стенку окопа, упал на дно. Андрей взял его в руки. Он был горячим, с острыми, зазубренными краями. «Вот такой хватит тебя по башке — и все, Андрей Данилович. Даром что мужчина ты видный, дюжий, а смерть — она без разбора валит».
…На левом фланге, где неподалеку находился наблюдательный пункт Дуброва, бойцы его роты перемешались с бойцами соседней роты. Крики «ура» внезапно оборвались. Их сменил сухой треск немецких автоматов. Он приближался из лесу с нарастающей силой. «Прорвались-таки на стыке!» — догадался Дубров. Он отдал приказание взводу Миронова — отрезать немецких автоматчиков от реки. За Мироновым, метрах в ста позади, лейтенант Сорока вел в контратаку свой взвод.
— За мной, товарищи, бей их, гадов! — и Дубров кинулся вперед, увлекая бойцов. Но в это время по контратакующей роте с вражеского берега открыла огонь артиллерия. Бойцы, встреченные сильным огнем, замешкались, некоторые повернули назад и побежали в беспорядке. Вновь застрекотали автоматы немцев, и они потеснили роту в болото, к лесу.
С большим трудом Дубров остановил на опушке леса отходившую роту.
— Ложись, ложись! — кричал он, красный, запыхавшийся. Сам он залег за станковым пулеметом и, подпустив метров на сто неприятельских автоматчиков, открыл огонь. Вставив новую ленту, терпеливо подпустил еще ближе одну дико орущую группу атакующих солдат и уничтожил ее. Бойцы, ободренные его смелыми действиями, залегли и принялись дружно отстреливаться.
Но немцы, нащупав слабое место на стыке двух рот, уже вводили туда свежие силы. Переправясь вброд, немецкие пехотинцы уже опять теснили роту. Дубров поднялся и с винтовкой в руках повел бойцов в контратаку. Для немцев контратака была неожиданной. Ударами приклада Дубров сбил с ног двух убегавших вражеских автоматчиков и устремился вперед, пытаясь перехватить отходивших солдат противника.
У самой реки, когда, казалось, замысел Дуброва был почти осуществлен, он обернулся и задержался на мгновение, показывая рукой взводу Миронова, где перехватить ему выход из оврага. Туда отступали немцы. И в этот момент немецкий автоматчик, притаившийся в прибрежных кустах, дал очередь в спину Дуброва. Лейтенант рухнул на землю.
Миронов услышал резкую автоматную трескотню, быстро осмотрелся и, не найдя среди отступавших высокой фигуры Дуброва, понял все… Он поднял взвод и бегом повел его к оврагу, чтобы перехватить отступающих немцев.
4
Миронов открыл первую страничку дневника Дуброва, В верхнем уголке ее стоял эпиграф: «Не умирать ты в бой идешь, а побеждать и жить».
«Сегодня с Сашей толковали о военной академии. Приложу все старания, чтоб попасть в нее, как только окончится война».
Миронов перевернул еще несколько страничек.
«…Пришлось проявить „характер“ по отношению к Миронову: отстал на привале со взводом. Сколько я пережил за часы их отсутствия! Ругаю его, а злость поднимается на самого себя. И я ведь прошляпил. И чем больше злюсь на себя, тем больше ругаю его. Он был удивлен моей неожиданной строгостью, но, как честный командир, любящий службу, молчал. Ему обязательно нужно вступить в партию. Хороший командир».
«Так вот он какой, Дубров!» — Миронов задумался.
— Товарищ лейтенант, — прервал его размышления политрук Куранда, передавая какую-то бумажку. — Вместе с комсомольским билетом была…
Миронов, чувствуя, как дрожат его руки, развернул лист бумаги в пятнах запекшейся крови.
— «Завещание, — прочитал он вслух. — Прочесть бойцам и командирам роты в случае моей смерти…»
— Я поручаю вам огласить это завещание.
— Прошу вас, товарищ политрук, пусть кто-нибудь другой прочтет.
— Это почему же вы отказываетесь? Ведь вы же комсомолец…
— Мне трудно это сделать. Дубров был мой друг…
5
Под вечер хоронили Дуброва. Солнце, утомленное долгим дневным путем, торопилось на отдых.
Противник к вечеру угомонился, притих. Лишь изредка прочертит наискось темный забор леса золотой пунктир трассирующих пуль да раздастся одиночный хлопок винтовочного выстрела — и опять все смолкнет.
На курганчике, где был наблюдательный пункт Дуброва, у самой вершины вырыта могила. Чуть ниже ее — несколько могил. Повсюду горки сухой земли и рядком лежат завернутые в плащ-палатки павшие герои-бойцы, три командира отделения — сержанты и лейтенант Дубров. У могил собрались бойцы и командиры, близко знавшие погибших. Всей роте присутствовать на похоронах нельзя: противник может начать внезапную атаку.
Лейтенант Миронов стоит рядом с Сорокой, Курандой и наблюдает за последними приготовлениями к похоронам. За эти несколько часов лицо Саши осунулось, глаза запали глубже.
Наконец все приготовления закончены. Правдюк выстраивает бойцов. Вполголоса подает команду, будто боится разбудить погибших товарищей. Сорока выходит перед строем. В руках у него лист.
— Товарищи! — обращается он к запыленным, почерневшим бойцам. Голос его дрожит. — Мы пришли сюда проститься с боевыми друзьями. Среди павших в бою героев мы хороним сегодня и нашего командира роты — Сергея Петровича Дуброва. Исполняя его последнюю просьбу, я прочитаю его завещание:
«Боевые друзья!
Это завещание я пишу на всякий случай. На войне всякое бывает. Только сейчас, воюя более месяца, я по-настоящему постиг великое значение любви к Родине. Без нее нам нет жизни; нет нам пути, нет счастья… Я очень люблю жизнь, но знаю: если умру, то умру во имя родного народа.
Я простой русский человек, слесарь, уроженец города Минска, собственными глазами видел, во что проклятые фашисты превратили мой родной город.
Если каждый из нас уничтожит хотя бы нескольких врагов, Родина будет жить и цвести. И тогда о нас с вами народ сложит песни, которые будут жить в веках!
Боевые друзья! Немало жестокого горя пережили ми с вами в эти дни войны, немало лучших друзей сложили своп головы за наше великое дело. Я делил с вами горести наших военных неудач, короткие, но славные радости первых маленьких побед и поэтому не хочу, чтобы вы плакали на моей могиле. Не слезами, а ненавистью и беспощадной силой оружия ответьте врагам за смерть боевых товарищей, за поруганную врагом землю, за честь матери Родины…»
Куранда стоял, подталкивая Миронова, и шептал ему:
— Надо выступить, скажи хоть пару слов.
Комкая в руках пилотку, Миронов проговорил:
— Товарищи, разрешите мне несколько слов. — И, глядя куда-то вдаль, просто, как бы беседуя, сказал:
Он настоящим русским парнем был И командиром храбрым и умелым. И Родину он всей душой любил, В бой за нее солдат своих водил И был всегда отзывчивым и смелым. Прощай, наш друг! Прощай, наш командир! В тяжелый час бесслезно мы горюем. Пусть будет памятью тебе весна и мир, Которые в боях мы завоюем!Лейтенант Сорока крепко пожал руку Миронова.
— Хорошо сказал! Все мы думаем так. — И уже шепотом на ухо: — А я и не знал, что ты поэт. А ты пошли стихи в нашу дивизионку…
Миронов засмущался.
— Хочешь, я Ларионову их покажу. Умница, он тебя поддержит.
…Но только собрались хоронить погибших, как по лесу разнеслись разноголосые команды: «Воздух!» На багровом фоне заката появились черные кресты фашистских бомбовозов.
— Черт их несет!.. Товарищей захоронить не дадут…
— Вот сволочи, человеческого у них ничего нет! — возмущались бойцы.
Как будто в знак всеобщего протеста все остались на местах, и только Куранда, придерживая карман гимнастерки — он боялся потерять авторучки — и наклонив голову, кинулся опрометью в ближнюю щель.
— А еще политрук… — проговорил кто-то.
Фашистские бомбардировщики пролетели…
Когда опустили Дуброва в могилу, прибежал, запыхавшись, его ординарец. Он виноватыми глазами осмотрел всех, как бы извиняясь за опоздание. В руках у него был пучок незабудок. Их так любил Дубров. Ординарец опустился на колени и бросил цветы в могилу. Они рассыпались по плащ-палатке, и сразу ее темно-зеленая суровая ткань осветилась маленькими голубыми огоньками.
Похороны были окончены, но Миронов остался у могилы друга. Вдруг страшная мысль овладела им. Пройдут годы, и холмик могилы Дуброва затеряется, зарастет травами, и никто не будет знать, что здесь похоронен герой, который отдал жизнь за народ, за Родину.
Он вспомнил, что сегодня видел у дороги большой треугольный камень. Пять бойцов и Миронов принесли камень и врыли в изголовье могилы Дуброва. На его шершавой поверхности Миронов выцарапал гвоздем: «Здесь похоронен герой 1941 года лейтенант Дубров».
Миронов долго сидел на кургане. Сумерки сгустились, плотно окутали землю, и все слилось в сплошную темную массу: и лес, и кусты, и берег. На вражеском берегу цвели ярко-оранжевые вспышки выстрелов. Наш берег молчал — берегли боеприпасы.
Глава двенадцатая
1
В дивизии Жигуленко почувствовал себя не у дел, особенно после того, как узнал, что бывший командир роты, вместо которого он назначен, ранен легко и скоро может вернуться. Жигуленко охватила апатия, ни к чему не лежали руки. Попадаться на глаза Русачеву не хотелось. Чтобы его не обвинили в безделье, решил зайти в штаб. Там было пусто. И только заместитель начальника штаба майор Харин, склонившись над картой, наносил обстановку. Приходу Жигуленко он обрадовался:
— А, привет молодым, преуспевающим!.. Каким это ветром?
— Попутным… А Зарницкий где? Не знаешь?
— Не знаю, — вздохнул тяжело майор. — Тут вот сводку надо составлять. И разведдонесение принесли, тоже нужно просмотреть. А он где-то гуляет, а может, и спит. — И Харин еще ниже склонился над картой, будто подчеркивая, что постоянно занят большими делами. — Ну, а ты доволен новой должностью? Или боишься опять попасть в опалу?
— Не в этом дело. Зря меня взяли из полка Канашова… Сегодня скажу полковнику. Может, отпустит. А не отпустит, поругаюсь, а уйду, — сказал он решительно. — Канашов всегда меня возьмет.
Харин внимательно слушал и присматривался к Евгению: «Ишь, как раскипятился! Этот мальчишка может не только напортить своей карьере, но и меня подвести…»
— Не советую тебе спорить с начальством. Оно всегда право, а ты окажешься в дураках.
— Ну, ты не знаешь, меня, майор. Я привык, чтобы и со мной считались.
— Удивляешь ты меня, старший лейтенант! Больно много ты захотел. Считались!.. А ты прояви себя и здесь. Будут считаться.
— Попробуй прояви. Женили меня на замужней роте. Бойцы косо глядят на меня. Они ведь разведчики — народ умный. Ждут своего командира. А я для них чужак.
Харин, большой любитель сладкого, достал банку из-под леденцов, где лежали мелко наколотые кусочки сахара, с улыбкой предложил Евгению:
— Похрусти… Подсласти горечи жизни.
Жигуленко отказался и, закурив, задумался.
«А может, и правда, не стоит обострять отношений с Русачевым? Все-таки это разведрота дивизии. Да и с Ляной лучше встречаться в роте, чем в медсанбате». Но у Евгения тут же мелькнула тревожная мысль: «А что, если Харин расскажет об этом откровенном разговоре комдиву?» Жигуленко знал, что Харин обладал тщеславным характером, любил, когда его хвалили, и решил расположить его к себе.
— Когда ни приду в штаб, всегда ты, Семен Григорьевич, за картой потеешь… А что же Зарницкий делает?
Харин усмехнулся.
— Он у нас — генеральный штаб. В обед забегаю к нему блиндаж с проектом боевого приказа, а у него на столе стратегическая карта Европы. И вся в красных стрелах…
— Наполеон?…
— Не меньше! Второй месяц этот Наполеон, заметь, учит немецкий язык со словарем, а начнет допрашивать пленного — кричит: «Подать переводчика». Переезжает штаб на новое место — раскроет карту, глядит, глядит, а потом останавливает прохожего: «Скажи, мил-человек, что это за деревня будет?» — Харин вздохнул. — Да ты погляди, как он пишет. У нас ни одна машинистка его каракулей не разберет. Плачут и бегут ко мне. Но что ты хочешь, если у него военное образование: ЦПШ[9] и двадцать лет командирской учебы…
Жигуленко взглянул на стол — там лежала армейская газета «Смерть фашизму». На первой странице внизу была заметка, обведенная красным карандашом. Она называлась: «Смелый поступок штабного командира».
«В Н-м соединении штабной работник майор Харин совершил смелый поступок. Вражеские автоматчики просочились в тыл и окружили машину с важными штабными документами. Был тяжело ранен шофер. Одному из фашистов удалось подползти близко и бросить гранату в кабину. Но Харин не растерялся. Он поймал ее и швырнул обратно. От взрыва погибло семь человек, в том числе один фашистский офицер». Автор — «Евг. Куранда».
— Поздравляю, Семен Григорьевич! Чего же ты молчал?
— А чего мне кричать? На войне — это обычное дело, — Харин аккуратно сложил газету и спрятал в нагрудный карман.
— Русачев знает об этом?
— Знает.
— Ну и что?
— Ничего… Я, говорит, этим писакам не верю… Делают из мухи слона. И рассказывал мне, как журналисты из него легендарного героя гражданской войны хотели сделать. В центральной газете написали, портрет поместили. Из Москвы запрос пришел, хотели вызывать для награды почетным революционным оружием. А он не поехал и написал, что отрицает все факты об этом геройстве.
— Вот чудак!..
— «То, что, — говорит, — заработал кровью — получил сполна, а дутой славы мне не надо».
— А откуда Кураида узнал все о тебе?
— Он же в дивизионной газете постоянно сотрудничает. В армейскую, фронтовую пишет. У него даже в «Красной звезде» есть статейки. Талантливый человек, а вот используют его не по назначению… Политруком может быть каждый партийный работник. А это журналист. Он в районной газете работал. У него большой талант слова подбирать…
Харин поднес трофейный перстень к губам, подышал на камень, имитирующий бриллиант, потер о колено и, склонив голову, залюбовался радужной игрой его граней.
— А талант, Евгений, как камень драгоценный… Он всем нравится, им каждый любуется, цены ему нет… Вот посмотри: очаровательная вещичка? — Майор повертел перстнем перед носом Жигуленко.
— Красив, но не поддельный ли?
— Я человек со вкусом. И, поверь, не буду размениваться на мелочи…
2
Поиск, тщательно подготовленный Жигуленко, был проведен удачно. Разведчики возвратились в полночь и привели «языка» — штабного немецкого фельдфебеля Фрица Шпанделя. Он беспокойно озирался по сторонам, бегая маленькими колючими глазами. Руки его дрожали. Он попросил воды. Дали. В штабную землянку вошли подполковник Зарницкий и переводчик. Начался допрос.
Фельдфебель сначала молчал, неподвижно уставясь в угол. Потом внезапно спросил, что с ним будут делать русские? Зарницкий улыбнулся: немец явно шел на сделку с совестью, но колебался, недоверчиво поглядывая то на подполковника, то на переводчика.
Зарницкий сказал переводчику:
— Объясните ему, что мы не бьем лежачих, у нас в армии так не принято. Пусть не боится за свою жизнь.
Переводчик перевел, но фельдфебель по-прежнему недоверчиво глядел на подполковника, о чем-то напряженно думая.
Только после того как переводчик очень подробно разъяснил все это, немец заговорил.
Зарницкий слушал показания пленного фельдфебеля, как показалось Евгению, без всякого интереса. Жигуленко ожидал, что полковник вот-вот даст команду увести пленного, и вдруг Зарницкий насторожился. Начальник штаба почувствовал, как пленный старательно обходит весьма важный вопрос: к какому времени приказано танковой дивизии выйти на правый берег реки Друти? Разведчики взяли карту у убитого немецкого офицера. На сгибе потертой карты стояла пометка «директива» и часть слова — «Гит». Зарницкий догадывался: эта пометка и ссылка на директиву Гитлера не случайны. Это был боевой приказ, он предписывал немецким войскам захватить к какому-то определенному сроку рубеж реки Друти.
— Я часто слышал, как офицеры беседовали между собой о приказе Гитлера, — показывал Шпандель. — Наш командир дивизии генерал Мильдер говорил о том, что к концу июля мы должны быть на Днепре.
«Сегодня уже восьмое августа, — думал Зарницкий, — прошло более недели, однако они только вышли к реке Друти и топчутся на левом берегу. Это хорошо».
Зарницкий после допроса пленного поспешил на доклад к Русачеву.
— Значит, в конце июля они замышляли быть на Днепре? — переспросил Русачев.
Зарницкий утвердительно кивнул головой.
— Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается… им не по Европе парадным маршем, по-гусиному, шагать. У нас дорожки с ухабами, спотыкаться придется.
Командир дивизии, слушая доклад Зарницкого, не отрываясь, наблюдал за полем боя в амбразуру:
— Опять, мать их черт, в психическую пошли. Гляди-ка, Александр Николаевич.
Атаки противника становились все более яростными. Они начинались одновременно в нескольких направлениях и, видно, преследовали единую цель — найти в нашей обороне слабое место. Враг с каждым часом наносил все более мощные удары с воздуха, возлагая основную надежду на свою авиацию.
Поразмыслив, Русачев приказал:
— Ты вот что: сними батарею, что у Канашова, поставим ее в центре. Видишь, норовят прорваться на стыке полков. Надо как следует встретить психов. Донесение командующему подготовь. Пленного немедленно отправь в штаб армии. Да прикажи: пусть связь восстановят с Канашовым.
Зарницкий направился к выходу. Русачев поднял трубку и попытался говорить, но телефон молчал. Он опять поднес к глазам бинокль и стал рассматривать набегавшие волнами атакующие цепи немецкой пехоты. Послышался шуршащий шум наших снарядов, и разрывы заплясали на земле, разметывая плотные цепи немецкой пехоты.
«Только бы танки не прорвались на стыке, — думал Русачев, — а пехоту мы не пустим…»
3
Тем же вечером пришла благодарность от командующего армией за поимку «языка». Зарницкий вызвал к себе Жигуленко и сам объявил ему об этом.
Евгений, радостный и взволнованный, торопился к Ляне. В землянке, где она жила, ее не оказалось. Боец-санитар сказал, что ее вызвал новый командир роты — Миронов. Увидев озабоченное лицо Жигуленко, он доверительно сказал:
— Да он, товарищ старший лейтенант, загонял ее, бедняжку. С ног сбилась… Раненых у нас сегодня много. А он о каждом требует доложить точно, что да как. Она и не обедала, как пошла к нему, так и пропала.
«Смотри, каков, — подумал Жигуленко. — Этак, чего доброго, из-за его начальственного рвения я и с Ляной не встречусь…» И тут же решил: «Пойду-ка позвоню из штаба полка в медсанбат к Наташе. Пусть придет в мою землянку на свидание с ним».
С этой мыслью Жигуленко ворвался к Миронову, столкнувшись при выходе с Ляной. Та вспыхнула и тут же шмыгнула в дверь.
— Здорово, Сашка. Поздравляю с повышением.
— А тебя со званием.
— Да ты тоже скоро получишь. Слыхал, что жмешь на своих подчиненных, аж пищат.
— У тебя научился. Помнишь: «Командир не девушка, чтобы его любили…» — твой афоризм?!
— Значит, усвоил, — насмешливо проговорил Жигуленко. — Ну, добро. А у меня к тебе важное дело. — Он таинственно, приставив руку к краю губ, понизил голос. — Дорогой мой, свершилось чудо, самое желанное для твоей души. Не догадываешься? Нет, ты не жди, что я сообщу, будто назначаешься командовать батальоном. Нет. Тебя отыскала твоя любимая. Встать, товарищ лейтенант, когда с вами говорят старшие!..
Улыбаясь, Миронов нехотя встал.
— Наташа Канашова здесь, понял?
— Где это здесь?
— Прибыла служить в дивизию. Она уже две недели как в медсанбате. Да ты не мрачней, друг. То, что ты не знал, вина не ее. Из боев-то ведь не выходили. У них там раненых сотнями. Хочешь ее видеть?
— Очень.
— Не теряй напрасно времени. Бери мою лошадь, дуй галопом ко мне в землянку. Она там. Я за тобой приехал.
— Ну, а ты как же?
— На своих двоих. Пешочком. Мне не к спеху. — А сам подумал: «Пока он с Наташей там, я здесь с Ляной встречусь».
Миронов подскочил к Евгению, крепко обнял.
— Спасибо, дружище!
И спустя час, все еще не веря всему происходящему и одновременно страстно желая встречи, Миронов скатился в землянку Жигуленко.
На самодельном столе в консервной банке дрожал крохотный язычок коптилки. Обтирая руки, выпачканные землей, Саша шагнул навстречу поднявшейся девушке-санинструктору.
— Наташенька! — Он крепко стиснул ее мягкую теплую руку.
— Ой-ой! — поморщилась она. — Какой ты стал сильный!
— Ты давно приехала?
— Вторая неделя на исходе.
Несколько секунд они стояли молча, растерянные, счастливые, не находя слов.
Наташа поймала на себе его пытливый взгляд.
— Мне так не терпелось скорее увидеть тебя. Но так закрутилась. Словом, когда ехала сюда, думала, все будет просто и я тебя каждый день буду видеть…
Тут уж Миронов не мог сдержать того порыва, который крушит преграду стеснительности в отношениях между молодыми людьми. Он бросился к Наташе, обнял, прижал ее голову к груди. Хмелем ударил в голову запах ее волос, чем-то напоминавший воздух в сосновом лесу после дождя.
— Я хочу к тебе в роту, — прижимаясь к нему, говорила Наташа. — Будем всегда вместе. На глазах друг у друга.
«Любит, любит», — ликовал Миронов. И тут же холодок тревоги затуманил радость: «Но ведь там опасно, могут убить».
— Наташенька…
Она с беспокойством взглянула ему в глаза.
— Ты против?
— Что ты? Мне очень хочется быть с тобой, но, понимаешь, как бы объяснить? — Поймав на себе вопросительный и настороженный взгляд Наташи, он подумал: «Говорить ли, она гордая, обидится».
— Наташенька, мне страшно за тебя.
Наташа тотчас же отстранилась от Миронова.
— А как же ты? Мне тоже, если хочешь знать, страшно за тебя. Вот мы и будем вместе.
«Отговорить, отговорить, непременно отговорить, — думал Миронов. — Надо рассказать, как много погибло санинструкторов». И вдруг он сказал Наташе:
— Главное, Наташенька, понимаешь, нелегко сейчас осуществить нашу мечту. В роту только что назначили санинструктора…
— Кого?
— Таланову.
— А, это демоническая красавица? Теперь мне все ясно… Она тебя устраивает?
— Что ты, Наташа?
И прежде чем Миронов успел продолжить разговор, девушка выскочила из землянки. Миронов выбежал за нею вслед. Но она точно растаяла во тьме. Крикнул. Она не отозвалась.
С тяжелым чувством возвратился Миронов к себе. «Вот и встретились…»
4
Канашов сидел в блиндаже и, пользуясь затишьем, просматривал свои заметки о тактике немцев — их он начал вести с первых дней боев. Он еще раз с удовольствием прочел сводку Информбюро, в которой за все эти безрадостные дни отступлений и частых неудач сообщалось, что «наши войска нанесли противнику сильный контрудар в районе г. Ельня, в результате которого немцы понесли большие потери в людях и технике».
Эта радостная весть натолкнула Канашова на мысль о том, что уже теперь надо нацеливать командира на изучение опыта первых боев с немцами, чтобы использовать его в боевой практике. Чепрак отнесся к этому неодобрительно. «И чего это Канашов придумал, чтобы штаб занимался обобщением боевого опыта. У нас и без того дел по горло».
— Ты что, против боевого опыта, Гаврила Андреевич? — спросил Канашов.
— Да нет, товарищ подполковник. Просто я пока не представляю, с чего начинать? Ведь не теоретические же конференции устраивать? А воевать за нас кто будет?
Канашов в его тоне уловил скрытую иронию.
— И конференцию устроим, и в военные журналы статьи писать будем. А сейчас надо копить опыт, отбирать наиболее ценное, поучительное. Твоя задача — точно вести журнал боевых действий. Понятно? Да, а как с материальной частью, с оружием? Когда пришлют? Большинство пулеметных и минометных подразделений полка стали стрелковыми. Погубим кадры, а когда новые учить? Да и разве в спешке их хорошо выучишь?… И вот еще что: почему ты тормозишь выдвижение молодых командиров?
— А откуда это видно? — удивился Чепрак.
— Как откуда? Аржанцев написал рапорт, выдвинул Миронова па должность командира роты, а ты положил его в планшет. А рота-то без командира.
— Товарищ подполковник, политрук этой роты Куранда категорически возражает против назначения Миронова.
Чепрак порылся в планшете и протянул Канашову какую-то бумагу. Тот отмахнулся.
— На кой черт мне эта бумажка? Разве ты не знаешь, как Миронов воюет. Ты что, забыл, что мы представляли его к ордену?
Их разговор прервал ворвавшийся врач Заморенков. Вид у него был потрепанный. Козырек на фуражке лопнул, гимнастерка в грязи, порванная в нескольких местах. Он слегка прихрамывал на правую ногу.
— Прошу извинить, товарищ подполковник, — развел он руками. — Не по форме…
— Где это ты попал в переплет? — встревожился Канашов. — Что с тобой?
— Вышло так, — уклончиво ответил Заморенков. — Срочное дело привело меня сюда.
— А ты иначе и не заходишь, как по срочным.
— Помоги, Михаил Алексеевич. Этот твой помощник по снабжению — чтоб ему ни дна ни покрышки! — под продовольствие машины дает, а для тяжелораненых — нет. «Вывози, — говорит, — своими». А у меня только что автомашину с медикаментами разбило прямым попаданием. Начальника аптеки и шофера — в куски.
Канашов тут же позвонил своему помощнику по телефону:
— Вы что там бузите? Немедленно вывезти раненых и доложить мне. Ничего не хочу слышать. Вывезите раненых, а потом все остальное.
И, взглянув на Заморенкова, слегка улыбнулся.
— Присядь на минутку. У меня большая радость… Наташа окончила курсы и прибыла служить в медсанбат дивизии. Правда, мы еще с ней не виделись. Горячее время. Да ты чего не садишься? Присядь, присядь, Яков Федотович!
На полном лице Заморенкова появилась виноватая улыбка.
— Нельзя мне, Михаил Алексеевич. Осколки у меня там, сзади. Некогда мне с ними возиться. Сначала надо эвакуировать тяжелораненых.
— Не будешь в другой раз спину врагу показывать. Мне рассказывали злые языки, как ты бежал без оглядки от минометного обстрела. Уж лучше юркнул бы в яму и лежал. От осколков и от пуль не убежишь.
— Не потому бежал — за медикаменты боялся. Машину шофер, балда, бросил на дороге, а ведь рядом глиняный карьер был. Не догадался ее туда спрятать. Тут и начали за мной охотиться немецкие минометчики. Пришлось тикать от них.
— Но ты благодари судьбу: легко отделался. Канашов тут же позвонил в санроту и приказал старшему военфельдшеру:
— Как только врач Заморенков эвакуирует тяжелораненых, оказать ему медицинскую помощь и доложить мне.
— Так как же дело с наградой Миронова? — снова спросил Канашов.
Чепрак опять порылся, в планшете и положил перед Канашовым наградной лист. Поперек листа была наложена резолюция красным карандашом: «Представить подтвердительный материал. Отказать». И внизу заковыристая неразборчивая подпись.
Канашов рассердился.
«Конечно, сидит там, за сто километров от фронта, какая-то чернильная душа и требует, а что — и сама не знает, А я-то, грешный, — схватился за голову Канашов, — думал, ну хоть на войне бюрократов не будет».
Вошел подполковник Муцынов. Чепрак, забрав бумаги, оставил их вдвоем.
— Здравствуй, Канашов! А я к тебе за помощью. Выручи, голубчик: мои хозяйственники опять оставили полк без продовольствия.
— Поделюсь, чем богат, Захар Емельянович…
— Эх-хе-хе! — вздохнул Муцынов. — Сейчас нагоняй от Русачева получил.
— За что?
— «Никто, — говорит, — к тебе в полк не хочет идти служить. К Буинцеву идут, к Канашову идут, а к тебе не хотят. Объясни — почему?» А я и сам не понимаю. Ты вот скажи мне, Михаил Алексеевич, что у тебя люди, из другого теста? Ведь под Минском из одного запасного полка их получали.
Канашов, прищурившись, улыбнулся.
— Конечно, лучше.
— Это почему же?
— Стойкости у них побольше. Неудобно как-то о себе говорить, но, если откровенно сказать, то злее они у меня дерутся. За землю крепко держатся, уцепятся, как репьи за собачий хвост, и ничем их не возьмешь, пока пулей или осколком не сразит… А почему так? Умную мысль подсказал мне вовремя Бурунов: надо заставить бойцов и командиров больше ценить их жизнь и не допускать таких настроений: мол, все равно погибнем.
— Так ты что же думаешь, — моим жизнь не дорога?
— Нет, не думаю… Когда Бурунов сказал мне об этом, я его демагогом назвал. Легко учить: надо сделать так. А как это сделать? Вот тут-то он и помог. «Жизнь солдата, — сказал он, — по-умному беречь надо. От пули-дуры или осколка шального не спрячешься, не убережешься и тем более не убежишь. Бежит он от нее сдуру и думает: спасусь, а осколок клюнул его и свалил».
Канашов закрутил папиросу, потом продолжал:
— Не в обиду тебе будет сказано, Захар Емельянович, больно на ноги они у тебя резвы. Отсюда и потери лишние. А заройся они в землю, держись за нее зубами — поверь, куда меньше потерь будет. Скажу тебе откровенно: нам кажется, когда мы на марше отходим, оторвавшись от немца, то потерь меньше, чем в обороне. Неверно это! Я от Минска такой учет стал нести. И оказывается, в обороне я меньше потерял, чем при отходе на марше: то авиация тебя накроет, то, глядишь, танки прорвались и давят. А в обороне, если зароешься в землю, трудно ему всех перебить. Не по каждому он человеку снарядом бьет и не каждым в цель попадает.
Муцынов сидел задумчиво, подперев голову руками.
— Хозяин дома? — послышался грубоватый басок Поморцева. — Разрешите? А, ты здесь не один, Михаил Алексеевич? Здравствуйте, товарищи. Может, помешал, прошу извинить.
— Время обеденное, — сказал Канашов, увидав в дверях ординарца с котелками. — Вы хорошо ориентируетесь, когда приходить надо. Присаживайтесь, обедать в компании веселей.
— Спасибо, я пойду, — встал Муцынов. — У меня весь полк голодный. Благодарю, Михаил Алексеевич, и за выручку и за совет.
Он ушел, а Канашов и Поморцев сели обедать.
— Завидно растете вы, Константин Васильевич. Расстались мы с вами, были вроде равными по чину, а теперь вы уже мой начальник.
— Неужели и ты из завистливых? Раньше что-то я за тобой этого не замечал. Да в не век же мне над тобой начальствовать, Михаил Алексеевич, — улыбался Поморцев.
Кусок мяса, который он попытался достать из щей, сорвался и утонул.
— Вот не везет человеку: один раз большой кусок попался и тот сорвался. Хорошие у тебя повара! Щи, ну, точно дома приготовленные. А я, признаться, заскучал по горячей пище: ведь все больше всухомятку живем.
— Повара у меня в полку завидные. Бурунов об этом постарался: двух шеф-поваров где-то отыскал.
— А не обижаешь ли ты, случаем, комиссара своего? — вдруг неожиданно спросил Поморцев. — Ты ведь мужик с характером. Тебе не перечь…
— Неужели жаловался? — спросил Канашов.
— Бурунов не жаловался. А вот с Русачевым у вас натянутые отношения.
— Тут уж давние симпатии. Личные, так сказать…
— И личные и, я бы добавил, лишние. Главное — это делу мешает.
Они доели борщ. Поморцев перевернул котелок и постучал ложкой в дно.
— Понял, что это? Гость добавки требует, — подмигнул Канашов ординарцу. Тот вскоре возвратился с пустым котелком.
— Товарищ подполковник, повар не дает больше щей. Говорит, запретил ему комиссар. Пока не накормит всех по первому кругу, добавки нельзя давать.
— Ты видишь, Константин Васильевич, какие порядки завел твой Бурунов? Командира полка и того в черном теле держит, — шутливо пожаловался Канашов и подсказал ординарцу: — А ты скажи ему, что я не один… У меня комиссар дивизии в гостях…
— Из-за чего вы опять вчера столкнулись? — спокойно спросил Поморцев.
— Видишь, Константин Васильевич, по-разному мы на вещи смотрим. К примеру, он в современных условиях ведения войны признает только один способ военных действий — жесткую, упорную оборону. Но оборона, как известно, кроме упорства, должна быть и активной. И комдив, заметь, не отрицает этого — ведь так и в уставе сказано. А вот когда я говорю ему, что эта активность должна проявляться не только в таких масштабах, как фронт и армия, но и в батальоне, полку, дивизии и прежде всего в умелом использовании местности, устройстве засад, в нанесении контратак, он категорически возражает, называет это тактикой распыления сил, тактикой булавочных уколов слону. А я не могу с ним согласиться, потому что все это я на практике проверил. За полмесяца истребительные группы моего полка и подвижный отряд уничтожили в засаде четырнадцать танков и три автомашины. А весь полк в обороне за это же время уничтожил только одиннадцать танков. Вот ты и сравни, учитывая при этом, что в полку более половины из одиннадцати танков было подбито нашей артиллерией. Как по-твоему — кто прав?
— Думаю, ты.
— Русачев чем меня допекает? «Потери, — говорит, — в этих группах большие: кое-где более половины личного состава». Это верно. Но разве, когда обороняемся, теряем меньше? Тут, правда, имеются большие трудности: нет времени, да и когда подготавливать людей для таких групп? Если бы их в запасных частях готовили — другое дело… И все же этот небольшой опыт показал, что такие группы из обстрелянных бойцов представляют собой значительную опасность для вражеских одиночных танков. Вот недавно подвижный отряд старшего лейтенанта Жигуленко напал в лесу на группу немецких танков, у которых кончилось горючее. Подожгли около восьми танков и два бензозаправщика с горючим. И группа-то вроде пустяковая — всего сто пятьдесят человек, десять автомашин, два орудия.
В землянку вошел сияющий ординарец.
— И каких щей повар добавил — сплошное мясо! Два котелка налил, не пожалел. — И он поставил котелки на стол. На поверхности плавала золотисто-красная пленочка жира.
— Не многовато ли будет по котелку на брата? — весело блестя зубами, улыбался Поморцев, пододвигая котелок. — Давайте один на двоих… О, да вы тут живете, как дома, — сказал он, видя, как ординарец льет молоко в кашу. — Хороша гречневая каша с молочком. Вы будто знали, что я приду, — мою любимую кашу сварили.
Пообедали. Разговор возобновился.
— Ты ведь тоже, Михаил Алексеевич, не безгрешен. Варишься в собственном соку и что находишь — сам пользуешься. У вас в полку вроде собственного натурального хозяйства и полная автономия. И главное, в ваших во многом правильных и хороших начинаниях не все обстоит благополучно. Мне хочется тебе помочь, чтобы меньше ошибок было и, главное, чтобы боевой опыт вашего полка служил всем на пользу…
— Что ж, помогай, комиссар, — согласился Канашов.
5
Русачев был не в духе. Ему не понравился утренний разговор с Поморцевым, в котором он увидел попытку посягнуть не его авторитет… До этого был у него майор Харин со многими документами (Зарницкий заболел — опять сердечный приступ после контузии), Харин рассказал ему, что в полку Канашова служит талантливый журналист — политрук Куранда и что хорошо бы назначить его в дивизионную газету вместо не справляющегося с обязанностями молодого редактора старшего политрука Защепы. Комдив вспомнил, как ему на днях попало от члена Военного совета армии за то, что дивизионная газета превратилась в «похоронный листок», как он выразился, и что, кроме некрологов и сводок, перепечатанных из центральных газет, в ней нет ничего. Бойцы и командиры называют газету «Мухомор», до того она скучна и далека от жизни войск и задач, которые они выполняют, защищая Родину.
Русачев, поразмыслив, согласился с Хариным и хотел уже подписать принесенный им приказ о назначении редактором Куранды, но в последнюю минуту решил посоветоваться с комиссаром дивизии. Поморцев выслушал его и заявил, что он категорически против. Во-первых, он считал, что Защепа не такой уж безнадежный редактор, и признал, что в его плохой работе виновен сам; во-вторых, он доказывал, что брать кадры политработников из подразделений (где их, кстати, оставалось очень мало) — а он был глубоко убежден, что они несут основную тяжесть боя, — значит умышленно или нет ослаблять боевую стойкость войск.
Самолюбие Русачева было задето за живое. «И зачем я ударился в этот демократизм, советоваться полез? — укорял он себя. — Подписал бы приказ — и точка: выполняй. Так нет же, дурак старый, покладистым дядей решил быть. А он, видишь, куда гнет: дескать на равных правах мы, а раз он против — попробуй теперь подпиши без его согласия…»
В довершение огорчений командующий армией генерал Кипоренко вызвал Русачева к себе и строго выговаривал ему за беспорядочный отход полка Муцынова, в котором он растерял весь транспорт и часть раненых. «Подожди, вот вернусь в штаб, — думал Русачев, — я ему покажу…» Генерал сообщил комдиву, что врагу удалось прорвать нашу оборону на участке северного соседа. Армия получила приказ отойти на новый оборонительный рубеж южнее Могилева — от Дашковки до Старого Быхова, по левому берегу Днепра. Чтобы обеспечить успешный отход, командующий решил оставить на флангах сильные заслоны. Дивизия Русачева находилась на левом фланге армии. Она должна была прикрывать направление Карачев — Рославль.
Кипоренко рекомендовал Русачеву оставить в арьергарде полк Канашова.
— Обстановка тяжелая и сложная… Вам, полковник, должно быть понятно: если немцы быстрее нас переправятся через Днепр, армия не выполнит приказа фронта. Отдайте Канашову всю артиллерию, танки и ваших саперов. Пусть сколотит несколько подвижных групп, а на труднодоступных для противника участках выставит небольшие заслоны до роты, которые займут жесткую оборону и должны стоять насмерть… — И, помолчав, сказал: — Я выделяю для поддержики боя арьергардов два артиллерийских полка.
Выйдя от командующего, Русачев понял: если Канашов не выполнит поставленную боевую задачу, то и ему несдобровать.
Часть третья Испытание огнем
Глава первая
1
Канашов вошел. Комдив поднялся ему навстречу. За всю их совместную службу он впервые протянул ему руку.
— Садись, откушаем вместе, — пригласил он. — Чем богаты, тем и рады… Проходи, проходи, будь как дома!
Адъютант ловко снял салфетку со стола, уставленного кушаньями.
— Может, выпьешь одну?
— Одну, пожалуй, — согласился изумленный Канашов.
Они сели за стол, как старые друзья после долголетней разлуки. «Что же произошло?» — пытался понять Канашов.
Не торопясь, они поели, поговорили о том, что делается на фронте, о погоде. Русачев предался воспоминаниям о старых добрых годах службы в кавалерии. А потом как бы между прочим приказал адъютанту принести карту. Расстелив карту на столе, пригласил Канашова садиться, что тоже было необычным: Русачев ставил задачи подчиненным только стоя и не допускал при этом никаких вольностей.
— Вашему полку надлежит оставить несколько подвижных групп на Друти и, находясь в арьергарде, прикрыть отход нашей армии за Днепр.
«Вот оно в чем дело, задача не из легких…» — понял Канашов.
— Я отдаю вам всю артиллерию и танки.
— А сколько их?
— Четырнадцать орудий и восемь танков. У танков, правда, маловато горючего, но…
«Армия отходит, ответственность за десятки тысяч людей ложится на меня, а он мне дает такие маломощные средства…»
Русачев встретил недоумевающий взгляд Канашова и торопливо добавил;
— Да ты не беспокойся! Командующий пришлет тебе артиллерии целый полк…
Канашов недоверчиво поглядел на комдива. «Когда припрет — ястреба сулят, а на деле и воробья не получишь».
— Командующий, товарищ Канашов, возлагает на вас большие надежды, это между нами говоря. Да и я тоже думаю — не подведете. Желаю успеха! — И он крепко пожал руку командира полка.
Канашов вышел. «Задача очень сложная, но выполнять надо! Скажу Бурунову и Хромакову — пусть мобилизуют коммунистов и комсомольцев на прикрытие отхода армии», — решил он.
2
У Чепрака сегодня сплошные неурядицы. Пригласил к себе в блиндаж Таланову, хотел предупредить ее, чтобы она не встречалась больше с Жигуленко, так как комдиву сообщил об их встречах Харин. И тут некстати пришел Бурунов. Он понял, видно, это по-своему. Может, даже подумал: а не приударить ли задумал начальник штаба? Не иначе так подумал и сказал: «Хорошая девушка…» И Чепрак это понял как: «Ты с ней шашней не заводи. А на более серьезное нельзя и рассчитывать, ведь идет война».
Чепрак давно присматривался к Ляне, и она пришлась ему по душе, и только он собирался с ней сблизиться, как тут же отговаривал себя. «Ведь она мне годится в дочери… Я старше ее на восемнадцать лет…» Но стоило ему где-либо встретить ее, и он ловил себя на том, что сердце не слушалось разума, и он старался переброситься хоть словцом. Сегодня, пригласив ее на официальную беседу, он предварительно долго приводил себя в порядок, брился и заставил ординарца пришить новый подворотничок.
Только ушел Бурунов, как тут же ворвался в блиндаж Заморенков. Этот старый козел, как он называл его за беспокойный характер, грозился доложить самому начальнику санитарной службы армии, обвинял в бюрократизме и бездушии, ругался на чем свет стоит. Но откуда он, Чепрак, возьмет ему транспорт для раненых, если при последней бомбежке и отходе с Друти они потеряли третью часть лошадей, повозок и несколько автомашин?
Вскоре позвонил Канашов:
— Вы почему не обеспечили эвакуации раненых?
Чепрак по голосу почувствовал, что Канашов сердит.
«Опять Заморенков нажаловался», — подумал он.
— Приготовьте мне данные о состоянии транспорта и доложите немедленно…
Затем позвонил комиссар Бурунов.
— Товарищ Чепрак, приглашаю вас на партийное бюро сегодня к двенадцати часам.
Встретившись в штабе, врач и снабженец заспорили.
— Это у тебя система! — кричал Заморенков. — Для разного барахла транспорт находишь, а для раненых нет! Я буду настаивать на партбюро, чтобы тебя исключили из партии. Какой ты коммунист? Люди у тебя на последнем плане.
— Да ты дальше собственного носа не видишь! Откуда я тебе столько машин и подвод дам? У меня боеприпасы остались…
И неизвестно, сколько бы длилась эта перепалка, если бы не пришел Канашов.
— Что за петушиный бой? — И тут же обернулся к Чепраку: — Собрать ко мне всех комбатов и командиров рот… Ты чего, забыл о нашем уговоре — боевым опытом обмениваться?
Чепрак недовольно поморщился.
— Товарищ подполковник, ведь нам за двое суток надо в землю влезть с головой. А если уйдут командиры, темпы инженерных работ снизятся.
— Ну, хорошо, давай, по-другому! Чтоб через полчаса штаб с начальниками служб, комбаты и комиссары были здесь.
Канашов с усмешкой взглянул на Заморенкова, тот, комкая пилотку, собирался уходить.
— А мне зачем? — спросил Заморенков. — Ведь батальоном-то мне не командовать. Мое дело — людей в строй возвращать.
— Дельному учиться, Яков Федотович, всегда пригодится, Ты вот не думаешь командовать, а вдруг придется.
— Оно, конечно, все может быть. Да только не смогу я.
— Немцы не спросят, сможешь или нет. Прижмут — гляди, еще как командовать будешь: любой строевик позавидует.
Вскоре в блиндаж Канашова набилось полно народу. Подполковник поднялся.
— Товарищи командиры! Так, как мы воюем, дальше воевать нельзя. Много ошибок делаем. Правда, есть у нас и успехи… — Канашов оглядел командиров. — То, что мы разгадали тактику устрашения, — успех! А вот бороться по-настоящему мы еще не умеем. Немец в психическую атаку идет или из автоматов сеет, а у новобранцев сердце в пятки. Снимет немец глушители с мотоциклов, а некоторые наши командиры докладывают: «Пулеметов у него видимо-невидимо». Забросит немец в тыл пару диверсантов или сигнальщиков-ракетчиков, а некоторые паникеры уже кричат: «Окружили!» Одни «кукушки» сколько командиров загубили. Помнишь, Белоненко, у тебя за один день двенадцать человек…
Майор Белоненко утвердительно закивал головой.
— Разведчики на меня обижались, что гоняю их… А без разведки, товарищи, нам бы давно труба. О подвижных отрядах много было толков. А польза от них немалая. Да разве я один в силах вспомнить, что у нас было плохого, а что хорошего? Вот и давайте вспоминать об этом вместе. Хорошее возьмем на вооружение, ошибки постараемся не повторять… Ну, кому слово?
Поднялся разведчик полка Андреев.
— Правильно, товарищ подполковник. Признаться, я сам первое время не разбирался, что и для чего делает немец. А вот сейчас стало доходить. Взять такой пример. Как только мы занимаем оборону в лесу, самолеты противника сбрасывают дымовые шашки. Вначале я думал, они лес поджигают. Ан нет! Немец не глупый по горящему лесу наступать. Это он обозначает для своей артиллерии и авиации наши цели: передний край, огневые точки, позиции и резервы. И по части разведки какие он только премудрости не выдумывает!.. Об этом я вскоре подберу материал и доложу.
Слово взял Аржанцев.
— В последнее время и в тактике немцев стало появляться новое. Вспомните первый месяц войны: ночью они не наступали. Немец заканчивал свой боевой день часов в десять вечера и шел отдыхать. Теперь он и ночью наступает.
Затем слово взял Канашов.
— Надеюсь, вы меня поняли, товарищи. Вот и давайте так накоротке обмениваться новым в тактике. Начальник штаба журнал заведет… Его дело такое — боевому опыту учет вести. А сейчас по местам… Время дорого, ускорьте оборудование своих районов обороны.
3
— Товарищ Куранда, я вызвал вас, чтобы поставить в известность о назначении нового командира роты, — сказал Аржанцев.
На лице политрука появилась улыбка.
— Наконец-то!
— Командиром роты назначается лейтенант Миронов.
Политрук пригнулся, будто кулак занесли над ним.
— Вы должны помочь ему — он неизбежно на первых порах столкнется со многими трудностями.
Куранда склонил голову набок.
— Конечно, это дело ваше, но Миронов еще молод для этой должности. Горяч и нередко безрассуден. И, к слову сказать, погибший командир роты Дубров отчасти тоже страдал тем же недостатком. Отсюда и мои с ним разногласия.
Аржанцев с недобрым чувством оглядел политрука.
— Я запрещаю вам — слышите? — за-пре-щаю порочить имя командира, который отдал жизнь за Родину. Где ваша партийная совесть?
Позвонил телефон. Аржанцева срочно вызывали в штаб полка.
— Сергей Иванович, — обратился он к вошедшему старшему политруку, — знакомься…
— Горяев, — протянул тот широкую ладонь Куранде.
— Комиссар батальона, — представил его Аржанцев.
Куранда оглядел моложавого комиссара с удивительно мягкими, правильными чертами лица и простой улыбкой. «Этот, видать, добряк… Он меня поймет», — подумал Куранда.
— Ну, я в полк, а ты оставайся за меня. А вам, — взглянул Аржанцев на Куранду, — я напоминаю о том, что назначение нового командира роты не мое пожелание, а приказ. Ясно?
Политрук уклончиво промолчал, но как только Аржанцев ушел, сейчас, же обратился к комиссару батальона:
— Я хочу поговорить с вами, как представитель партии. Не обсуждая приказа о назначении нового командира роты, я все же считаю его нецелесообразным.
— Но вам хорошо известно, что в армии приказ — это закон.
— И все-таки давайте проанализируем его критически, — не отступал Куранда. Он достал из кармана ручку, из планшета — блокнот с записями. — Кто такой лейтенант Миронов? Человек без жизненного опыта, а ему уже доверяют сотни человеческих жизней. Его бойцы проявляют недисциплинированность. Об этом я не раз писал в донесениях. В характере Миронова есть черты зазнайства и высокомерия. Я член партии и не намерен этого скрывать.
Золотые клыки Куранды угрожающе сверкали.
Комиссар батальона сидел, подперев кулаком голову.
— Я выслушал ваши обвинения в адрес Миронова, — прервал он его, наконец. — Но ответьте честно, как коммунист коммунисту: чем вы помогли Миронову?
Лоб Куранды покрылся крупным потом. Он часто-часто замигал золотистыми ресницами и ответил обиженно:
— Как это чем? Я неоднократно с ним беседовал. Я думаю, в мои обязанности не входит вместо него учить бойцов, как воевать или как содержать оружие?
— Нет, зачем же, командира подменять не след. Но беседа не единственный метод помощи и воспитания.
Куранда не сдавался. Он упрямо решил отстаивать свои позиции.
— А вот вам последний факт, — перебил он комиссара батальона. — На днях к нам в роту прислали нового санинструктора — Таланову. Миронов временно исполнял должность командира роты. Так он, вместо того чтобы по-командирски требовательно принять новичка, дать ему понять, что это боевое подразделение, а не какая-нибудь санчасть, даже не принял от нее доклада и панибратски усадил ее с собой обедать. А ведь это поиски ложного авторитета: глядите, мол, какой я хороший, добрый! — Куранде не терпелось сказать, что он даже подозревает их в близкой связи. Он навел справки о Ляне. И сам начальник оперативного отделения Харин рассказывал ему о ее легкомысленном поведении. «Нет, не буду говорить ему пока об этом. Надо подобрать еще новый материал… Вот тогда пусть попробуют возразить мне», — думал он.
— Что ж, присмотритесь к новому санинструктору. Помогите Миронову. Значит, он ошибся, поставив себя в такое положение перед подчиненной.
Куранда, не удовлетворенный беседой, тяжело вздохнул.
— А почему вы не были вчера на изучении материальной части гранат?
Политрука сразу бросило в пот. «Вот каков! Сразу круто берет…»
— Проводил совещание агитаторов роты.
— Неужели совещание нельзя было провести позднее? Предупреждаю, чтобы это было в последний раз, иначе буду ставить вопрос в партийном порядке. Мне совершенно непонятно подобное поведение коммуниста-политработника. Вы же не имеете военного образования? И не хотите учиться военному делу… Учтите, что зачеты по стрелковому оружию будет принимать сам командир полка…
«Нет, мне надо, пока не поздно, в дивизионную газету. А тут мне труба… Неужели Харин только обещал, но так ничего и не сделает?»
4
Тревожные мысли охватывали Жигуленко, когда он вспоминал о Ляне. Впервые в жизни он встретил девушку, которая выдержала его стремительную мужскую напористость, не увлеклась его неотразимой красотой. Порой он замечал, что девушка искала с ним встреч, а потом вдруг опять вела себя отчужденно. Он сердился, собирался круто порвать с ней, но тут же ощущал, что нет уже былой уверенности. И он начинал упорно искать слабые стороны в характере Ляны. Но больше всего его тревожила мысль: вдруг Ляна порвет раньше, чем он добьется своего?
Эта мысль заставляла его предпринимать новые и новые шаги, чтобы завоевать симпатию девушки. С ловкостью фокусника он подсовывал в ее карман шоколад. Однажды под подушкой она нашла свои любимые духи «Красная Москва».
Сначала Ляна думала, что эти сюрпризы — дело рук девушек-подруг. Но как-то, застав за «жертвоприношением» санитара, с которым она довольно часто встречала Евгения, поняла, кто тот тайный «снабженец».
Сегодня она была возмущена до крайности. Боец, присланный Жигуленко, передал ей маленькие, величиной с десятикопеечную монету, дамские золотые немецкие часики. И что особенно ее взволновало — все это видел Миронов. Ей почему-то не хотелось, чтобы он знал о ее встречах с Жигуленко. Как-то, направляясь на свидание с Евгением, она обманула Миронова, сказав, что идет в санроту за медикаментами. И вскоре была разоблачена: их встретил часовой Еж, и, как ей показалось, после этого Миронов стал холоднее относиться к ней.
Между Мироновым и политруком роты произошел неприятный разговор.
Политрук явно придирался к Талановой. Он обвинил ее в безобразном отношении к сержанту-агитатору. Миронов, расследуя этот случай, установил, что сержант допустил хамство — неожиданно обнял Таланову, и она отхлестала его по щекам. Но Куранда, не желая ни во что вникать, требовал, чтобы Таланова извинилась перед сержантом, ибо это лучший агитатор: только накануне в дивизионной газете был помещен его портрет с большой похвальной заметкой, автором которой был политрук. Об этой заметке сегодня хорошо отозвался на совещании политработников Бурунов. И Харин сообщил, что Русачев остался доволен этим выступлением в газете. А тут какая-то капризная девчонка вдруг испортила такой удачный шаг по пути к намеченной цели — уйти в дивизионную газету.
Извиняться Таланова наотрез отказалась.
Вечером Ляна и Евгений встретились. Девушка шла на свидание с твердым намерением резко сказать Жигуленко, что эти подарки унижают ее. Но горячность ее сразу остыла, когда она увидела Евгения. Голова его была перевязана, на белоснежном бинте проступали свежие пятна крови.
— Что с тобой? — спросил Евгений. — Ты так побледнела.
— Нет, лучше скажи, что с тобой?
— Это в разведке, сегодня на рассвете. Фриц, гад, чуть было не всадил мне нож в спину…
— Как же это?
— За «языком» отправились и нарвались на засаду, еле ноги унесли. Ночью это было, а на рассвете я опять туда своих ребят повел. Немцы не ждали от нас такого нахальства… Ефрейтора мы захватили. А когда стали возвращаться, минометчики обстреляли нас. Двоих разведчиков убили, Ефрейтору плохо руки связали, он бежать вздумал, ну, и ударил меня… Тряхнули его мои разведчики. Нашли в подкладке мундира золотые кольца, серьги — где-нибудь ювелирный магазин ограбил, мерзавец.
Ляна вспомнила о часах.
— Я прошу тебя, не присылай мне никаких подарков. Зачем мне эти золотые часы?
— Какая же ты, право, странная! Неужели тебе не нравятся красивые вещи?
— Нравятся, только если они заработаны честным трудом.
— Я их нашел в сумке убитого немца. Когда я иду в разведку, рискуя жизнью, разве это не труд? Как, по-твоему, это легко?!
— Знаешь что: оставим этот разговор, Евгений. Мне пора идти.
— Подожди, Ляна… Давай поговорим по душам… Вот я скоро поеду учиться на курсы «Выстрел». Окончу, тогда и на батальон могу рассчитывать. Давай сделаем так: я уеду учиться, а ты отправишься в политотдел и заявишь, что ты моя жена…
— Брошенная, что ли? — прищурилась Ляна. Глаза ее гневно блеснули. Она сжала губы, презрительно оглядела его и, повернувшись, быстро пошла прочь.
Евгений попытался ее остановить, но она сказала с угрозой:
— Вот только подойди!.. Видеть тебя не могу…
Какие они все самонадеянные, мелкие, эти мужчины… И Харин вчера настойчиво предлагал ей красивую брошь-розу, золотые лепестки которой оторочены черной замшей, а несколько капелек-камней имитируют росу. Неужели эти люди не имеют сердца, не понимают, что чувства нельзя пробудить подарками, какими бы они ни были дорогими и редкими?
Она долго лежала в блиндаже и плакала. Вдруг кто-то приподнял ее голову и положил на мягкий вещмешок, пахнущий сеном. «Это он пришел сюда, набрался наглости!» И девушка яростно вскочила с жесткой постели. У двери стоял смущенный Миронов.
— Кушайте, Ляна… Чаю вам принесут.
Девушка поглядела на стол: там стоял котелок с кашей, лежал нарезанный хлеб и кусочки сахара.
Лейтенант вышел, а Ляна все стояла и смотрела на дверь.
5
Встреча с Мироновым оставила у Наташи горький осадок. Она так стремилась к нему, а теперь вдруг новая неожиданная преграда. Санинструктор Нина рассказала, как Таланова крутила роман с Жигуленко, именно за это ее перевели на передовую. От отца Наташа узнала, что Рита собирается стать матерью. И сердце Наташи сжималось от боли за подругу. Да и у нее самой закралась тревога, как бы не совратила Таланова с истинного пути Миронова.
Вначале Наташа хотела поговорить с отцом, но передумала. Он ей непременно откажет и даже пристыдит. И тут у нее мелькнула спасительная мысль: «А что, если пойти к Заморенкову? Он наверняка поможет мне». При входе в санроту она столкнулась с Талановой. Они смерили друг друга непримиримыми взглядами, и тут как раз появился Заморенков.
— Ну как служится на новом месте, товарищ Таланова?
— Отлично, товарищ военврач. Командир у меня хороший, заботливый… Вчера я приболела, так он ужин сам принес. Душа человек! — И она многозначительно подмигнула покрасневшей Наташе.
Эти слова переполнили исстрадавшуюся душу влюбленной девушки. И как только Таланова вышла, Заморенков увидел на глазах Наташи слезы. Он подошел к ней, по-отечески приласкал. И Наташа доверчиво рассказала о своем горе, просила перевести Таланову из роты Миронова.
— Ладно, ладно, подумаем, — нарочито сердито глядел Заморенков поверх очков. — Вот отец узнает о нашей затее — обоим влетит по первое число.
Наташа отрицательно помотала головой и, расцеловав растерянного врача, убежала.
— Вот коза, — пробурчал он.
Через несколько дней Таланову забрали в санитарную роту полка под предлогом, что не хватает медперсонала.
В этот день Наташа чувствовала себя самым счастливым человеком. И даже война со всеми страхами, неожиданностями и смертями не казалась ей такой невыносимо тяжелой. В самом деле, разве она не счастлива? Идет война, а она нашла свое место и вместе со всеми приносит пользу скромным трудом, помогая раненым. Рядом с ней — ее родной отец. И самое главное — близко Миронов. Он человек, без которого она теперь просто не представляла своей жизни.
Что же касается отношений с Мироновым, она надеялась, что они постепенно наладятся. Теперь она не сомневалась, что историю с ужином Таланова просто выдумала, чтобы отомстить ей за свои обиды.
Глава вторая
1
Генерал Мильдер уже в который раз звонил начальнику штаба подполковнику Диксу, справлялся о Кауфмане, но тот еще утром ушел в разведывательный отряд и до сих пор не вернулся.
— У меня к нему срочный разговор, разыщите его…
«Да, это не Кранцбюллер. Тот понимал меня с полуслова».
Мильдер всегда строго придерживался установленного режима. Открыв окно, он пятнадцать минут делал физзарядку. Потом выпил стакан черного бразильского кофе и, заложив руки за спину, прогулялся пешком по лесу, жадно вдыхая смолистый воздух. «Необходимо поскорее выяснить, кто такой Кауфман, — думал Мильдер. — Или он совершеннейшая бездарность, или просто наплевательски относится к службе…»
Возвратясь с прогулки, Мильдер подписал срочные бумаги и сел завтракать; затем отдал ряд распоряжений адъютанту Гелю. Через несколько минут Дикс и Кауфман стояли навытяжку перед Мильдером.
— Майор Кауфман, — обратился Мильдер, — для меня совершенно непонятно, почему вы без должного интереса относитесь к службе? Скажите, как вы оцениваете действия русских войск в настоящем?
Вопрос застал Кауфмана врасплох. Да тут еще и подполковник Дикс смотрел на него пренебрежительно. Он только сегодня случайно узнал о возмутительном обмане: Кауфман показывал в разведсводках завышенные потери русских. Это поставило его, как начальника штаба, в крайне неловкое положение перед новым начальником — Мильдером.
— Мне кажется, господин генерал, — Кауфман старался подавить волнение, — русские армии слабеют. По мере нашего продвижения они несут колоссальные потери в технике и особенно в людях.
— Вам, вероятно, кажется, — насмешливо перебил генерал, — когда мы подойдем к Москве, нам не с кем будет сражаться? Так, что ли?
— Нет, я так не думаю, господин генерал. Но ведь наше наступление развивается успешно, по плану.
— А то, что у нас в дивизии потеряно почти сорок процентов танков и что мы запаздываем на две недели с выполнением плана операции, — как вы это расцениваете?
Кауфман удивленно пожал плечами:
— Но ведь русские несут потери во много раз больше наших.
Мильдер посмотрел холодно и сурово.
— Это, майор Кауфман, только по вашим разведдонесениям.
Теперь подполковник Дикс уже не скрывал своего презрения.
— Вспомните, сколько раз вы доносили мне, что дивизия полковника Русачева уничтожена. А она продолжает поджигать наши танки. Почему вы ослабили руководство разведкой? Что вы знаете о дальнейших намерениях русских?
— Господин генерал, вчера я выслал две поисковые группы. Одна из них вернулась. Мне сообщено, что русские решили упорно обороняться на прежнем рубеже.
Мильдер встал, давая понять, что аудиенция окончена.
Вошел адъютант и вручил Мильдеру шифрованную сводку из штаба группы и директиву. В сводке указывалось:
«Крупные силы русских армий переправились через Днепр у города Жлобин и контратаковали правый фланг одного из наших танковых корпусов. Правофланговой механизированной дивизии с большим трудом удалось отбить эту сильную атаку. В результате контратаки русских войск передвижение корпуса задержано. По данным воздушной разведки, отмечено усиленное движение железнодорожных эшелонов русских из районов Орла и Брянска в направлении Гомеля. На Днепре русские войска готовят оборонительный рубеж».
А в директиве главнокомандующего группы говорилось: «Сложившаяся обстановка свидетельствует об усилении активности русских армий, о попытке их создать на пути движения нашей группы оборонительные рубежи в целях изматывания наших войск. Приказываю…» Далее перечислялись номера корпусов и дивизий, в том числе и дивизии Мильдера, которым предлагалось ускорить наступление, с тем чтобы в ближайшие дни выйти к рубежу Днепра и попытаться форсировать его с ходу.
Мильдер вызвал к себе Дикса, дал ознакомиться с директивой.
— Готовьте приказ о наступлении.
— Но, господин генерал, я не имею пока достаточных сведений о противнике.
— А что делает Кауфман?
— Пока сделано мало, Сейчас обрабатывают данные аэрофоторазведки, и, как доложил майор Беккер, Кауфман сам отправился с разведгруппой. Разведчики переодеты в форму русской армии…
— Мне приятно слышать, что у Кауфмана есть еще кое-какие качества разведчика. — А сам подумал: «Едва ли будет толк». — Прошу принести мне обработанные данные воздушной разведки… И еще на всякий случай подготовьте, подполковник Дикс, распоряжение об отдаче Кауфмана под суд за опоздание с выполнением моего приказа. Нам нельзя медлить… Приступайте немедленно к разработке приказа о наступлении. Надо как можно скорее перейти Днепр.
Неделю назад Мильдер получил письмо от жены. Она сообщала: «У Гафнеров — траур. Самолет Эльзы сбит, а сама она пропала без вести. Твой брат настолько потрясен, что отказался от посмертного пособия…»
Мильдер отдал приказ своим танкистам: «Русских в плен не брать…»
2
С утра, назначенного для наступления дивизии Мильдера, на нее внезапно обрушились удары русских бомбардировщиков. После нескольких мощных налетов Мильдер вынужден был просить командующего задержать наступление дивизии еще на день. Командующий, обеспокоенный срывом наступления, пообещал приехать в дивизию Мильдера. Под вечер он прибыл к Мильдеру на командный пункт рассерженный: по пути он попал под бомбежку своих же самолетов, находясь в одной из пехотных дивизий. Там он побывал с целью согласования действий пехотной дивизии с танковой группой. Вышло все весьма неудачно. Свежая пехотная дивизия, прибывшая только что на фронт и не встретившаяся еще с противником, понесла потери от ударов своей же авиации. Командующий танковой группой сообщил об этом «прискорбном инциденте» главнокомандующему сухопутных войск, и оттуда передали, что в дивизию вылетает срочно комиссия для расследования этого скандального случая.
— Представьте себе, генерал, — возмущался командующий, рассказывая Мильдеру, — сижу я с командиром пехотной дивизии в своей машине и вдруг вижу: разворачиваются над нашими головами десятка два наших самолетов и давай нас бомбить… Я сразу же подумал, что это схитрили русские летчики, используя опознавательные знаки нашей авиации. Мы выскочили из машины и спрятались в овраге. Первая бомба упала так близко от моей машины, что ее сплющило, как скорлупу яйца. Затем они принялись бомбить каши пехотные части, зенитная артиллерия открыла по ним огонь, и один самолет был подбит. Но каково было наше изумление, генерал, когда приземлившийся летчик оказался самым настоящим немецким офицером…
— Чем же объяснить такую непростительную ошибку? — спросил сочувственно Мильдер.
— Их ведущий перепутал координаты. Кругом леса и леса. Трудно ориентироваться. Но дело, конечно, не в этом, генерал. Разгадка оказалась более простой: летчик еще совсем молод — ему не более восемнадцати лет, — и мне непонятны действия командующего авиацией. Зачем посылать на Восточный фронт эту зеленую, неподготовленную молодежь?
— Командование, по-видимому, желает дать боевую практику этим юнцам, — предположил Мильдер.
— Но, позвольте, господин генерал, какая же это практика, когда они бросают бомбы на головы своих войск! И это, заметьте, происходит, когда наши войска имеют опознавательные знаки. Ну, а что, если бы их не было? Нет, я отношу все это только за счет недостаточной подготовки летчиков.
Пришедший подполковник Дикс доложил Мильдеру о том, что начальник разведки майор Кауфман попал в плен к русским при неизвестных обстоятельствах. Мильдер догадался, что это, по-видимому, и дало возможность авиации противника нанести чувствительный удар по его дивизии. Командующий, немного было успокоившийся, опять стал возмущаться. Мильдер негодовал на Дикса за его поспешность с докладом о Кауфмане. «Разве нельзя было сделать это после отъезда командующего?»
— Вот оно, с чем связан бомбардировочный удар русской авиации по вашей дивизии. Меня удивляет, господин генерал, как вы терпели в своем штабе такого разведчика. Я не уверен теперь в том, что на нашу голову не свалятся еще какие-либо неприятности в связи с этим позорным взятием в плен Кауфмана. Скажите, генерал, а он не имел пристрастия к спиртному?
— Нет, не имел… Но этот офицер довольно часто доставлял мне неприятности плохой службой…
— А почему же вы за него держались? Вы надеялись, что осел может стать когда-либо лошадью?
— У меня давно уже лежит рапорт, в котором я просил командование о снятии его с должности. Подполковник Дикс, дайте мне приказ об отдаче Кауфмана под суд.
Дик протянул ему бумагу.
— Мне непонятны ваши колебания, господин генерал Мильдер. К офицерам, которые не хотят честно служить фюреру, нельзя проявлять никакого снисхождения. Вы ослабили внимание к вопросам дисциплины.
Мильдер краснел, белел и вновь краснел, слушая наставления рассерженного командующего.
…Осмотрев дивизию, командующий приказал подготовить ее к наступлению и лично доложить ему. К удивлению Мильдера, командующий охотно согласился остаться у него и даже задержался на отдых после весьма удачного, по его словам, обеда. После отдыха он намеревался побывать еще в двух дивизиях. Но планы его были нарушены.
Вечером прилетел на самолете с группой штабных офицеров сам Герман Геринг.
Молодежный бомбардировочный полк был его гордостью. Гитлер упрекнул Геринга в том, что его любимцы сбросили бомбы на немецкую пехотную дивизию. Но Геринг упорно защищал летчиков и утверждал, что все это маловероятная версия.
Впервые Мильдер видел Геринга близко на одном из совещаний перед началом войны с Францией. Совещание проводил Гитлер. Мильдер сидел тогда недалеко от Геринга и хорошо рассмотрел его. Геринг был в летной форме, выполненной для воздушных сил Германии по его рисунку. Летный мундир был плотно пригнан к его неимоверно тучной фигуре. Спереди чрезмерно широкий вырез, а сзади мундир плотно облегал спину, будто приклеенный, оставляя мощные ягодицы не закрытыми мундиром.
Вблизи Геринг был просто страшен своей тучностью. Он представлял собой бесформенную мясную тушу и мог бы с успехом стать чемпионом среди толстяков. Лицо его заплыло жиром, щеки свисали подушками из-под широко расставленных мутновато-голубых холодных глаз.
Мильдер знал, что фигура Геринга была предметом шуток среди немцев. Его считали образцом чистопородного арийца, и когда надо было определить, насколько тот или иной немец отвечает этим требованиям, то говорили: «Ты должен быть худым, как Геринг».
Рейхсмаршал был, видимо, в хорошем настроении. Он весело улыбался всем и, не теряя ни секунды, тут же дал задание прибывшим с ним офицерам начать расследование «прискорбного недоразумения», а сам удалился с командующим танковой группой.
В этот вечер Мильдер записал в своем дневнике:
«Если в этой войне я не вытравлю из своей души остатки гуманизма, мне нельзя ждать ничего хорошего от самой блестящей военной кампании. Если солдат имеет сердце — он уже не солдат. Сегодня я убедился в этом на собственном горьком опыте. Я проявил человечность по отношению к Кауфману, зная его плохую службу, и чуть было не поплатился за это, уронив честь своего мундира. Никому никакой пощады во имя великой Германии! Этому учит наш фюрер. Только так можно приблизить день желанной победы нации, призванной управлять всеми народами мира».
3
Мильдер, вооружившись лупой, тщательно изучал аэрофотоснимки. Да, сомнений не было, русские стянули сюда огромное количество артиллерии — не менее пяти полков. «Замысел их ясен — они пропустят мои танки через водный рубеж, завлекут в леса, болота и там устроят „артиллерийскую баню“». Он долго изумлялся, как это удалось русским быстро сосредоточить столько артиллерии, и возмущался, что начальник разведки упустил это скрытое сосредоточение.
На рассвете разведчик танковой дивизии Мильдера — Эрнст Заутер из группы Кауфмана — явился в штаб. Заутер, опытный разведчик, гордился данной ему товарищами кличкой «Волк». Он рассказал, что большинство из их группы уничтожено при столкновении с русскими войсками, когда они углубились в их оборону более чем на километр. Его, Кауфмана, Миндеса и Клепера русские взяли в плен. Но на допросе он, Заутер, убил русского офицера, схватил его полевую сумку и выскочил в окно.
Мильдер, восхищенный подвигом столь храброго и находчивого разведчика, велел немедленно послать аттестацию на присвоение ему звания штабс-ефрейтора и представить к награде. В руках Мильдера была отчетная карта дивизии Русачева. Изучив ее очень внимательно и сличив со снимками воздушной разведки, Мильдер пришел к выводу, что данные, полученные воздушной разведкой, подтверждаются. В этот же день он получил отрадные сведения из штаба левого соседа: тот сообщил, что на его участке оборона противника прорвана.
Через несколько минут в штабной автомобиль пришли офицеры штаба. Среди них был начальник штаба Дикс, новый начальник разведки майор Беккер и другие более мелкие чины. У каждого карта, набор карандашей. Дикс доложил Мильдеру, и все быстро, бесшумно уселись за откидные столики и стулья и, развернув карты, внимательно уставились на Мильдера.
Несколько минут генерал сидел молча, закрыв глаза и откинув голову на спинку кресла. Подчиненные знали — так обычно он начинал служебные совещания. Генерал собирается с мыслями… Вот он открыл глаза и пристально уставился в карту, будто видел ее впервые.
— Господин майор Беккер, доложите свои соображения, где, по-вашему, наиболее слабые места в обороне русских?
Вновь назначенный начальник разведки стремительно вскочил. Из его доклада Мильдер мог сделать вывод, что левее участка, где находится их дивизия, оборона слабее, так как левый сосед прорвал ее и противник отошел на неподготовленный рубеж. Там же проходил крупный лесной массив… Мильдер вдруг прервал Беккера:
— Как ваше мнение, можем ли мы провести наши танки лесными дорогами?
— Там есть одна хорошая дорога…
— Одной мало, — проговорил Мильдер. — Да и русские плохо содержат дороги… Карте доверять нельзя. Дайте распоряжение воздушной разведке проверить дороги и забросьте двух-трех разведчиков-саперов с рацией. Пусть разведают и доложат мне. Для выполнения этого задания даю одни сутки.
Беккер быстро записал указание в штабную тетрадь, сделал пометки на карте. Потом штабные офицеры отвечали на вопросы Мильдера. Он требовал, чтобы через сутки дивизия была обеспечена всем. Офицеру по пропаганде среди вражеских войск Мильдер приказал подготовить текст листовок и принести ему на просмотр.
Мильдер строго взглянул на своих подчиненных.
— Я хочу отметить, господа офицеры, что мы плохо используем внезапность, с таким блеском примененную нами в первые дни войны. Мы обладаем бесспорным преимуществом в боевой технике, а поэтому не должны давать русским никакой передышки. Я стою за то, чтобы не прекращать наступления даже ночью. В ближайшее время я лично доложу командующему свое мнение по этому вопросу. И если он одобрит, я намерен немедленно его осуществлять. Завтра, подполковник Дикс, надо будет собрать ко мне всех офицеров дивизии.
Отпустив офицеров, Мильдер опять долго и сосредоточенно смотрел на карту. «Так и сделаем… Только удар нанесем не по флангам, а с одного — левого фланга. И один полк, самый малочисленный, оставим действовать перед фронтом противника. Когда два других зайдут в тыл вражеской дивизии, он может ударить с фронта… Справа нельзя. Там болота и нет дорог. Как этого не учитывает Дикс?…» И вот у Мильдера созрел окончательный план разгрома дивизии Русачева. Надо оставить перед обороняющейся дивизией Русачева в основном только пехотную дивизию, она будет отвлекать русских и непрерывно их беспокоить. А чтобы у русских не возникло сомнения, что перед ними по-прежнему остаются танковые части, двум другим совершить ночью скрытый маневр и, используя успех левого соседа, выйти к рассвету в тыл дивизии Русачева. Бомбардировщики тем временем нанесут удар по скоплению русской артиллерии, а танки двинутся в решительную атаку и навсегда разделаются с этой «проклятой» дивизией.
Командующий, выслушав план Мильдера, одобрил и приказал авиагруппе бомбардировщиков ближнего действия нанести с рассветом мощные бомбовые удары по районам сосредоточения русской артиллерии и по обороняющимся войскам, чтобы во взаимодействии с танками уничтожить русские дивизии, задерживающие продвижение к Днепру.
Глава третья
1
На рассвете в землянку командира полка быстро вошел запыхавшийся Чепрак и разложил на столе карту.
— В чем дело? — всполошился Канашов, протирая заспанные глаза.
— Немцы опять начали атаки, без артиллерии, внезапно.
Командир полка искоса взглянул на Чепрака, удивленный его взволнованным видом.
— Докладывайте!
— В результате внезапной атаки противнику удалось потеснить наш полк.
Чепрак опять склонился над картой.
— Третий батальон обороняется на прежних позициях. Противник вклинился на участке роты Миронова. Атака отбита. Положение восстановлено…
Чепрак замялся, точно не решаясь продолжать. Канашов поднял на него недовольный взор.
— Давай, давай дальше, Гаврила Андреевич, тороплюсь на наблюдательный пункт.
Поправив съехавшую набок пилотку, Чепрак проговорил неохотно:
— Аржанцев тяжело ранен, а его комиссар Горяев погиб. Смелый человек! Поднял батальон в контратаку и немецкую пушку захватил. Стал сам у орудия и танк фашистский поджег. А второй его вместе с орудием смял.
— А где Аржанцев? — Канашов схватил Чепрака за руку. — Ну, чего замолчал? — вдруг прикрикнул он на начальника штаба. — Кто командует батальоном?
— Военврач Заморенков. Два раза батальон в контратаку водил. И, представьте, отбросил немцев.
На лице Канашова появилось одобрение.
— Лихой доктор! Как он попал в батальон?
— Аржанцев больно плох был, терял сознание. Заморенков поспешил туда помочь ему. А немцы уже прорвались к наблюдательному пункту батальона. Ну, Заморенков и кинулся с батальоном в контратаку.
— Комдив обещает нам помощь?
— Нет. Харин сообщил, что, по данным разведки, противник приостановил наступление и накапливает силы. В ближайшие два-три дня немцы не смогут наступать. По его мнению, они выдохлись.
Канашов резко махнул рукой.
— Ни черта они там не знают о противнике! Почему Андреев не представил мне данных о разведке? Немедленно Андреева ко мне!
— Есть! — ответил Чепрак и быстро вышел.
Ни к кому Канашов не был так беспощадно требователен, как к разведчикам. У всех воюющих бойцов и командиров враг был безликим и именовался «противник», «гитлеровцы», «фашисты». Канашов же всегда добивался, чтобы видеть «лицо» этого врага. От того, насколько разведчики умело добывали сведения о противнике, яснее и конкретнее был для него враг. В боях на старой границе это был командир пехотной дивизии — генерал Хютнер, а начиная от Минска — командир танкового полка подполковник Нельте, и в последнее время — командир танковой дивизии генерал Мильдер. Каждого из них он старался изучить, понять и представить себе не только как врага, военачальника, но и по возможности как человека со всеми его привычками и слабостями.
Вскоре на наблюдательный пункт командира полка прибыл начальник разведки Андреев. Канашов просмотрел данные разведки, спросил:
— Вот вы уверяли, что Мильдер будет наступать в центре. Но у него здесь, видимо, остался один полк. Куда же он дел еще два полка?
Андреев пожал плечами.
Канашов знал генерала Мильдера как умного и опытного военачальника, с которым мериться силами не так-то легко.
— Немедленно высылай разведчиков. И пока не найдешь — не приходи.
В полночь явился Андреев.
— Товарищ подполковник, мы «языка» привели. Офицер…
— Где он?
— В штабе.
Через час Канашов прибыл в штаб дивизии и, подняв заспанного и недовольного Русачева, рассказал, что танковая дивизия немцев намеревается нанести удар во фланг и тыл.
Комдив отнесся к этому сообщению недоверчиво, но когда был доставлен в штаб и допрошен немецкий офицер-разведчик, согласился, что надо как можно быстрее отходить. И тут же срочно выехал к командующему армией доложить свое решение об отходе.
Но больше всех в дивизии был удивлен Нежинцев. В немецком разведчике он без труда узнал «полковника», который посылал его с картой к Русачеву. «Так вот почему у него странный акцент! Теперь все понятно. Ловко он тогда одурачил меня…»
2
Когда Аржанцев увидел, что роте Миронова угрожает противник, он послал связного предупредить. Но связной был убит. Он послал второго, третьего, но их постигала та же участь. Тогда Аржанцев решил идти сам. Он уже почти добежал до левого фланга роты Миронова, когда по нему открыли огонь несколько вражеских минометов. Миронов видел, как комбат упал, и приказал Талановой, прибывшей из санроты, вынести его с поля боя.
Ляна вышла на опушку леса, всматриваясь в ту сторону, где земля дымилась и корежилась от огня и разрывов. Среди клочковатых куделей дыма, сползающего с высоты, она с трудом разглядела бугорки окопов, где упал Аржанцев. Он был ранен почти на переднем крае. Местность здесь была совсем открытая. Но Ляне не впервые вытаскивать раненых. И все же каждый раз, когда она отправлялась выполнять боевую задачу, ей было страшно. Она вдруг подумала: «Почему стрелки не прикрывают огнем вынос раненых с поля боя? Любой вражеский солдат может убить меня даже ради забавы».
Она легла, собираясь ползти, как вдруг пуля, свистнув, точно синица, срезала одуванчик, и он упал на ее санитарную сумку. «Вот так же и меня: „жик-жик“ — и нет!»
Ляна откинула сумку на спину и поползла по-пластунски, размашисто разбрасывая руки и ноги, будто плыла. Временами она останавливалась для короткой передышки, потом ползла опять. Три сотни метров показались ей километрами. Вот, наконец, последний рывок — и она перекатилась через бруствер окопа. Вытирая едкий соленый пот, режущий глаза, она осмотрелась, намечая дальнейший маршрут. Теперь на пути все чаще попадались убитые.
По ходам сообщения она быстро добралась до наблюдательного пункта батальона, куда был принесен тяжело раненный Аржанцев. Возле него сидел его ординарец — боец-бурят с узкими щелками опечаленных глаз. Аржанцев, бледный, с посиневшими, потрескавшимися губами, лежал на левом боку. Он пытался повернуться лицом к земле, будто стеснялся своего искаженного, болью лица. Он был ранен в правый бок осколком снаряда.
Ляна сняла кем-то наскоро сделанную перевязку и положила новую. По-разному переносили раненые перевязку. Одни плакали, словно малые дети, и это облегчало их страдания; другие стонали, корчась в муках; третьи, закусив губы, терпеливо переносили все без единого звука. Аржанцев закусил губы, и, когда Ляна кончила перевязку, она увидела выступившие на его губах капельки крови. Но стон не вырвался из его уст. Ляна напоила его из своей фляжки, бережно положила на плащ-палатку.
Аржанцев, несмотря на свой небольшой рост, был тяжелым, словно каменная глыба. Ляна попросила ординарца помочь ей. Первые сто метров они проползли сравнительно удачно, хотя пальцы болели от напряжения, будто кто-то их выламывал из суставов. Хорошо, что у Ляны есть помощник. Следующая сотня метров показалась ей еще тяжелей. Все чаще и чаще делали они передышки. Их опять чуть было не накрыл минометный обстрел. Может быть, стреляли и не по ним, трудно понять. Но вот они достигли рубежа, дальше шла открытая местность. «Если нас заметят, — подумала Ляна, — не отстанут». Она хорошо знала повадки немецких минометчиков — их страсть охотиться за санитарами и ранеными. У Аржанцева начался нервный шок. Это грозило неминуемой смертью. Ляна вспомнила: в дни учебы профессор рассказывал о сильном средстве против шока — новокаиновой блокаде. И она в очень трудных условиях сделала несколько уколов Аржанцеву. Страдания его уменьшились, и жизнь снова затеплилась в его обессиленном теле.
Ляна решила спрятать Аржанцева в ближайшем укрытии и переждать там до сумерек. Но как только они тронулись в путь — убили ординарца. Ляна догадалась: за ними охотится вражеский снайпер. Оставался один выход: притвориться мертвой.
Положив Аржанцева за трупом ординарца, она терпеливо дожидалась сумерек, а вечером, задыхаясь, приволокла комбата на батальонный медицинский пункт.
3
Лейтенанта Миронова срочно вызвали в штаб полка.
Он редко бывал в штабе и каждый раз, когда его вызывали, волновался. Штаб для него был таинственным и строгим учреждением.
По пути в штаб Миронов увидел во втором эшелоне, полка много макетов полевой артиллерии; они искусно были расставлены повсюду. Изредка попадались макеты зениток. «Зачем здесь столько макетов? А ведь говорили, что в дивизию прибыло много артиллерии», — подумал Миронов.
В штабной землянке Миронову сказали, что блиндаж начальника штаба разрушен прямым попаданием снаряда и что теперь он работает в землянке командира полка. Миронов разыскал Чепрака, который сообщил ему, что политрук Куранда назначен редактором дивизионной газеты вместо погибшего при бомбежке Защепы. Затем майор пригласил лейтенанта поближе к столу.
— По данным нашей разведки, противник собирается завтра с утра перейти в наступление, — Чепрак поднял глаза от карты, глянул на Миронова. Он не упомянул о предполагаемых силах противника, чтобы лейтенант был уверен в возможности выполнения задачи. — Наступление противника можно ожидать у переправы в село Забродье. Вашей роте придается два взвода станковых пулеметов. Вы сами, кажется, пулеметчик?
— Так точно, товарищ подполковник.
Чепрак одобрительно улыбнулся.
— Ну вот и хорошо.
Можно было подумать, что уже одно это определяло непременный успех.
— Ваша рота будет прикрывать отход полка…
Миронов почувствовал, как ему вдруг стало страшно. Рота — кучка людей — против сотен танков и тысячи вражеских солдат!.. Он беспомощно огляделся. И вдруг неожиданно увидел в углу овальную рамку с фотографией. На него смотрела, слегка прищурив насмешливо глаза, Наташа. Яркий свет, падающий на ее светлые волосы сверху, образовал вокруг ее лица лучистый венец. Она беспечно глядела на него, не зная, что ему грозит смертельная опасность. И это заставило вспомнить нелепую ссору между ними. Увидеть бы ее…
В блиндаж вошел Канашов.
— Ввожу комроты в обстановку, товарищ подполковник. Командир полка внимательно оглядел Миронова. От его взгляда не ускользнуло волнение Миронова.
— Надо задержать врага на реке на сутки.
«Сможем ли мы продержаться хоть несколько часов?» — подумал Миронов.
— У бродов поставьте фланговые станковые пулеметы. Тут кругом болота и лес, танками немец не будет рисковать. А пехота пулеметчикам не страшна.
— Танки наступать не решатся… Они знают, что у нас тут много артиллерии, — добавил Чепрак.
Это добавление Чепрака вызвало у Миронова неприятное чувство. «Зачем он меня обманывает? Тоже мне артиллерия!» Начальник штаба скорее почувствовал, чем увидел, что лейтенант сомневается.
— Вы напрасно, лейтенант, недооцениваете эту деревянную артиллерию. Вопросы есть?
— Как с питанием бойцов?
— Получите на неделю сухой паек…
«Зачем же на неделю?» — подумал Миронов. И тут же догадался, что для обреченных людей ничего не жалко.
— А раненых куда? У меня даже санинструктора забрали.
Канашов и Чепрак переглянулись.
Командир полка тут же позвонил Заморенкову:
— Яков Федотович, почему в роте Миронова нет санинструктора?
Заморенков замялся.
— Да у меня в девяти ротах их нет… Выбыли из строя, убитые, раненые. Из дивизии давно обещали пополнение.
Канашов сказал требовательно:
— В роту Миронова пошлите обязательно. Ясно?
— Постараюсь.
— Санинструктора вам пришлют, — сказал он, положив трубку.
Канашов что-то хотел добавить еще, но вместо этого махнул рукой, подошел и крепко пожал руку Миронова.
— Не вешай головы, лейтенант. Не на плаху голову кладешь. В бою надо больше о жизни думать. И выживешь…
Заморенков обтер рукавом обильно выступивший на лице пот.
«Кроме Талановой, ни одного свободного санинструктора! Вот задала мне задачу Наташа. И что с этой молодежью делается — ума не приложу. С ног валишься от дел, сам себе не рад, лишний час отдыха за счастье считаешь, а у них кровь зудит — любовь».
И тут, мельком глянув в сторону, он увидел себя в зеркале. На него смотрело усталое одутловатое лицо с припухшими красноватыми веками. Короткую прическу когда-то каштановых волос прибила изморозь седины. Не хотелось признаваться, что годы берут свое. Насупив сердито брови, он подошел, смочил голову водой и причесался. Мокрые волосы потемнели и лишь слегка блестели. И вот чудо — теперь он уже не казался себе таким пожилым и усталым. «Зачем это я делаю? Других еще можно обмануть, а себя-то не обманешь…»
…Когда стемнело, батальоны один за другим покинули рубеж обороны. Они исчезли, будто растворились в темной чаще леса. Немцы открыли частую стрельбу из орудий и минометов. «Неужели к ночной атаке готовятся? — подумал Миронов. — Хорошо, если бы фашисты хотя бы до утра не узнали об отходе полка».
Миронов вышел из блиндажа. К нему верхом подъехал командир полка и быстро спешился.
— Ну и запрятались — насилу отыскал. Народ-то где ваш, лейтенант? Ни одного человека не вижу. Как понимать: больно хорошо замаскировались или все спят? — Он говорил скороговоркой: — А немец-то, немец, гляди, как разволновался! Неужели обнаружил наш отход?
Подошел Еж и доложил:
— Товарищ подполковник, рядовой Еж. Разрешите обратиться к лейтенанту?
Командир полка кивнул.
— Товарищ лейтенант, поймали немецкого лазутчика. И темноте на нас напоролся. Пока очухался, что к чему, мы его связали — и к вам сюда.
— Теперь понятно, — сказал Канашов, — почему стрельба: разведку ведут. — И, повернувшись к Ежу, сказал: — За проявленную бдительность от лица службы объявляю благодарность. Можете идти.
Они остались вдвоем. Канашов повернулся к Миронову, на мгновение замялся.
— Наташа о вас справлялась… Жду вас, лейтенант, на Днепре.
И ускакал, оставив обескураженного Миронова. А Еж в этот вечер никому не давал покоя.
— Нет, что ни говорите, хлопцы, а разведчик на войне что гармонист в деревне — наипервый человек. Каждый его к себе в хату тянет, угощает, за честь считают словцом переброситься. Видели бы вы, как сам Канашов руку мне жал. Сказал: «Вам самый раз идти в разведку служить», — соврал, не моргнув, Еж.
— Так и сказал? — недоверчиво спросил Мурадьян. — Счастливый ты, Ефим, у большого начальства авторитетом пользуешься.
— Вчера чуть было Миронов голову ему не намылил за грязную винтовку, — вставил Ракитянский.
— Буду проситься в разведку, — не смущаясь, продолжал Еж. — Может, лейтенант отпустит?
— Гляди получше за немцем, ты, разведчик! Заболтался и забыл про наблюдение. А фриц подползет да и стукнет тебя по башке! — прикрикнул Полагута.
Еж хотел было возразить, но вспомнил, что с Андреем шутки плохи, поднялся и стал глядеть поверх бруствера окопа.
4
Наташа Канашова решила разыскать Миронова, поговорить с ним по душам. В самом деле, чего таить обиды…
И первого, кого она встретила в полку, был Заморенков. По его растерянному лицу девушка догадалась, что произошло неладное.
— Что случилось, Яков Федотович?
Заморенков махнул рукой.
— Преступление я совершил.
— Преступление? — недоверчиво спросила она.
— Приказа командира полка не выполнил…
— А что такое? — она ухватила его за рукав. — Может, я могу чем-нибудь вам помочь?
— Только до беды доводят ваши девичьи причуды…
И Заморенков рассказал ей о приказе Канашова обеспечить санинструктором роту Миронова, оставленную для прикрытия отхода полка. И вот теперь рота ушла выполнять боевую задачу без санинструктора и медикаментов.
Наташа жадно слушала его, остро чувствуя свою вину перед Заморенковым, Мироновым и сотнями людей, которыми он командовал. «Я исправлю это, надо торопиться. Виновата я и…» Она рассеянно попрощалась с Заморенковым и направилась к лесу, откуда доносились одиночные выстрелы. Там была передовая. Здесь и следовало искать роту Миронова.
5
Наташа долго блуждала по лесу в поисках роты. Иногда ей казалось, что надо немедленно вернуться в медсанбат. Мысль о том, что она ушла тайком, не давала покоя. Но воспоминание о Заморенкове, которого она подвела, заставляло продолжать поиски.
Беспокойные мысли Наташи прервал хруст сухого валежника. Кусты раздвинулись, и перед девушкой появился боец с забинтованной головой. Он смущенно крякнул, сдвигая зачем-то пилотку на лоб, и развел руками.
— Каким это счастливым ветром, сестрица? Никак с дороги сбились? — И он хитровато скосил глаза на Наташу.
— Скажите, товарищ, как мне роту Миронова разыскать? — И тут же смущенно покраснела: — Я к вам санинструктором.
— Как не знать, сестричка. Я сам собственной персоной из ентой роты. Медиков нам очень не хватает. Даже из меня медика сделали. Послали местечко для санитарного пункта сыскать. Пойдемте, родная, вместе местечко для раненых подыщем и в роту направимся.
— А раненые где?
— Раненые, не извольте беспокоиться, они у меня в холодочке, в кусточках отдыхают. Перевязки я им поделал. Не взыщите, ежели что не так. Как могем.
Наташа облегченно вздохнула и, будто еще раз проверяя свои сомнения, поглядела на повеселевшее лицо бойца. «Значит, меня тут ждали. Значит, я нужна этим людям. Кто теперь посмеет обвинить меня, что я убежала из-за личной прихоти?»
— Пойдемте, товарищ, — смущаясь, сказала она. — Не знаю вашей фамилии.
— Барабуля, — представился он, ухмыляясь. — Ну, это на русском вроде картошка, слыхали небось?
Она кивнула головой.
И они отправились разыскивать место для санитарного пункта. Барабуля шел впереди, заботливо придерживая ветки, оберегал Наташу. Вскоре они отыскали подходящее место в лесном овражке. Там были две землянки.
— Вот это санитарный пункт! — радовался Барабуля. — это с вашей легкой руки, сестрица. Верите, десять раз туды-суды бродил и вроде ничего подходящего не видал.
Они вдвоем перенесли раненых на новый санитарный пункт, и Наташа принялась за перевязки. Сознание того, что где-то поблизости Миронов, согревало ее сердце теплом, и она, позабыв тревогу, увлеченно работала.
— Вы тут, сестрица, командуйте, а я до лейтенанта сбегаю. Доложить мне надо, что приказ выполнен.
И через несколько минут, поправляя съезжавшую на глаза повязку и блестя счастливыми глазами, Барабуля докладывал Миронову:
— Товарищ лейтенант, ваше приказание выполнил. Такой медицинский пункт с сестрицей нашли, что лучше и не надо.
Увидав удивленное лицо лейтенанта, добавил:
— Сестрица там раненых охаживает, — он кивнул головой в сторону леса.
— Какая такая сестрица? — удивился Миронов.
— Самая обыкновенная, с сумкой санитарной. Я бы сказал, приятная из себя девушка…
— Что-то вы путаете, товарищ Барабуля, отправляйтесь-ка лучше к раненым.
Барабуля пожал плечами. Недоверчивость Миронова его обидела.
…И вскоре появилась Наташа в сопровождении Барабули.
— Вот она, — сказал боец, недоумевая, почему это Миронов так растерялся. Да и сестрица тоже нервно теребит край гимнастерки.
— Можете идти, — отпустил Барабулю лейтенант. Миронов глянул на Наташу, у нее вздрагивала верхняя губа. И тут он понял, что, рискуя всем, она сделала это все ради него.
Радость охватила его, появилось огромное желание прижать эту взбалмошную девушку к своей груди, и вместе с тем опять возникло чувство боязни за ее жизнь.
А у Наташи вспыхнуло противоречивое чувство: вдруг захотелось нагрубить ему и, ничего не объясняя, уйти. И в то же время не терпелось повиниться перед ним и откровенно рассказать обо всем, что произошло с ней.
Глядя на Миронова, Наташа почувствовала, как постепенно тает осуждающий ледок в добрых глазах Миронова, в тяжелых его вздохах она уловила сочувствие и прощение и вдруг просто сказала:
— Я боялась, Саша, что больше тебя не увижу…
И тут же на позицию роты обрушился шквальный артиллерийский огонь. Впереди, а потом сзади разорвались снаряды. «Артиллерийская вилка», — мелькнула у Миронова мысль. Он подбежал к Наташе и силой увлек ее за собой. Надо было как можно скорее укрыться в блиндаж. Снаряд со свистом и шипением опять прорезал воздух. Пламя и черный поток ринулись им навстречу, обив с ног.
Миронову показалось, что поверхность земли перевернулась в воздухе и падает на него тяжелой глыбой. Он зажмурил глаза, цепко сжал губы, чтобы не закричать: ведь где-то рядом была Наташа, она не должна слышать его испуганного крика.
Но вот наступила тишина. Слева кто-то тяжело дышал и отплевывался.
Миронов медленно открыл один глаз. Земля и песок сыпались откуда-то сверху, мешали смотреть, глаза резало. Он встряхнул головой, достал пилотку из кармана и вытер ею лицо. Потом медленно ощупал себя. «Вроде как цел, и только в левом боку саднит боль у поясницы. Ударился при падении», — подумал он.
Миронов осмотрелся. Неподалеку сидела Наташа. Она пыталась заколоть английской булавкой разорванную у рукава гимнастерку.
Он глядел на нее, как на какое-то чудо.
Наташа, спохватившись, зарделась.
— Ну, чего загляделся? Отвернись же…
Миронов растерянно улыбнулся, отворачиваясь, а Наташа вскочила, перекинула через плечо санитарную сумку и побежала к лесу, где находились раненые.
Глава четвертая
В течение ночи два танковых полка, в голове которых шла боевая машина Мильдера, медленно ползли на самых малых скоростях, не включая света, делая короткие остановки. Они шли крадучись, как идут в засаду тигры. Скрытый маневр и внезапный удар — это две трети успеха в бою. Поэтому генерал отдал приказ: за малейшие нарушения дисциплины марша — расстрел.
С красными от бессонницы глазами сам Мильдер выводил перед рассветом танки по одному в лощину, поросшую мелколесьем. Отсюда по его сигналу они стальной неудержимой лавиной ринутся на русские позиции.
Предутренние сумерки были густые и плотные — в пяти шагах ничего не видно. Башни танков замаскированы кустарником и молодыми деревцами. И когда засерел рассвет, танки совсем слились с лесом, даже в нескольких шагах их трудно было обнаружить.
Мильдер, довольный удачным маршем, бодрствовал, расхаживая по окопу, наскоро оборудованному под командный пункт. Он поеживался от прохладной утренней зорьки, просматривая впереди лежащую местность в бинокль. На горизонте таинственно молчаливой стеной темнел лес, за ним начиналась оборонительная позиция русачевской дивизии. Мильдер думал: «Добрая половина личного состава этой дивизии, наверное, отдыхает, а внимание другой надежно приковано неумолчным грохотом артиллерии пехотной дивизии, которая сковывает и отвлекает противника. Интересно, где находится теперь русский комдив? Хорошо, если бы и он не знал ничего до того момента, когда я начну танковую атаку».
Как только наступил дымчатый, робкий рассвет, Мильдер вызвал к себе полковых командиров, уточнил направление атаки полков и еще раз напомнил, чтобы, уничтожая русские войска и штабы, они старались захватывать их знамена. Каждое захваченное знамя — залог того, что этот полк или дивизия навсегда прекратят свое существование. Мильдер приказал командирам сверить часы и пожелал удачи в бою. И вот он опять один. Нестерпимо медленно тянется время. Теперь оно работает на противника, так как у него с каждой минутой возрастает возможность обнаружить его танки. У генерала появилось желание начать атаку немедленно. Но обращаться к командующему он не решался. «Терпение, терпение и еще раз терпение, — говорит он себе. — Надо подождать до тех пор, пока бомбардировщики не нанесут первого удара по противнику».
Чтобы скоротать время, Мильдер решил еще раз обойти экипажи своих боевых машин. Молча любуется он стальными чудовищами, чем-то схожими с ископаемыми животными, грозными в бою, а сейчас такими смирными и безобидными. Коричнево-змеиная кожа их покрылась обильным потом утренней росы. Лица танкистов тревожно-ожидающие. По их глазам видно, что они довольны появлением генерала в эту минуту перед атакой.
А вот стоит возле танка, на котором нарисована голова льва, экипаж братьев Кассэль, тех самых героев, что спасли его и командующего от верной гибели. Он приветствует братьев сдержанной улыбкой.
Обход окончен. Мильдер чувствует, как его сапоги промокли от росы и неприятная сырость холодит ноги, но он, удовлетворенный, возвращается на свой командный пункт.
Воздух наполняется приближающимся урчанием бомбардировщиков. Стараясь сдержать волнение, Мильдер смотрит на часы и радостно отмечает, что самолеты появились над целью в точно предусмотренный срок. Проходит еще несколько минут — и вот уже вверху слышен грозный рев пикирующих бомбардировщиков. Воздух раздирают резкие посвисты падающих бомб. И на темно-зеленом фоне леса вместе с оранжевыми хризантемами вспышек распускается черными кустами земля, взброшенная кверху взрывами.
Бомбардировщики делают несколько заходов. «Что это они действуют так медленно?» — досадует Мильдер, все чаще и чаще поглядывая на часы. Но вот бомбардировщики делают, наконец, последний заход — и Мильдер дает сигнал к атаке. Сам он пойдет за второй волной атакующих. Так он будет видеть первый эшелон и сможет управлять боем всей дивизии.
Мильдер чувствует, как приятно-остро бьет в нос запах бензина и подогретого горьковатого масла. Он садится в люк, закрывает крышку и командует: «Вперед!» Танк, задрожав, как застоявшийся верховой конь, вдруг рванулся с сухим треском, подминая на своем пути кустарник и молодые деревца. И когда развернулась первая цепь танков с маскировкой из молодых елей и сосен, можно было подумать, что в атаку перешел редкий молодой лес.
На ухабах танки бросало, как лодки в шторм. Мильдер сколько раз больно ударялся головой. Но сейчас он и не заметил этого, все его мысли прикованы к атаке. Башенный стрелок, поторапливаемый Мнльдером, быстро наводит орудие и ведет огонь. Танк наполняется дымом, во рту становится сухо и вязко. Генерал глядит вправо, влево, прямо. Перед ним идут на предельной боевой скорости танки его дивизии, изредка делая короткие остановки и с ходу ведя огонь из орудий. Вот они уже совсем близко от темной стены леса. Там правый фланг и тыл русачевской дивизии.
«Но почему они молчат? — недоумевал Мильдер. — Я не вижу ни одного неприятельского бойца. Или их пехота в панике разбежалась по лесу? Так почему же молчит артиллерия? Должно быть, часть ее уничтожена нашей авиацией, а другая часть сейчас выкатит на опушку орудия и ударит прямой наводкой».
Он всматривается. Да, впереди стоят вражеские орудия. «На всякий случай надо дать несколько выстрелов». Танк дает по этой подозрительной, по его мнению, батарее одним, вторым, третьим снарядом. Он видит, как в воздух взлетают земля и щепки. Нет, это не орудия, а деревянные макеты.
С каждой секундой напряжение усиливается. Вот-вот ударит русская артиллерия… Но она упорно безмолвствует. Пятьсот, четыреста, триста метров… «Огонь! Шквальный огонь!» — командует Мильдер по рации, давая понять командирам танковых полков, что не надо жалеть снарядов, ибо их танки подстерегает на каждом шагу опасность. Наконец первый эшелон танков врывается на опушку. Как много здесь этих деревянных макетов орудий! Мильдер стремительно углубляется в лес и по дороге на предельной скорости выскакивает на противоположную опушку. Снова эти орудия из дерева и на них увядшая маскировка. Нигде ни единого настоящего орудия, ни одного выстрела, ни одного вражеского солдата. Что это — ловушка?
Он дает приказ командиру полка Нельте выйти по дороге к населенному пункту Норовка — узлу дорог. А сам, подавленный, красный, обливающийся потом, вылезает из танка. Он чувствует, что нижнее белье, мокрое от пота, прилипло к телу и стесняет движения. Где же русачевокая дивизия? Нет, она не могла уйти в недолгие минуты бомбежки и тем избежать удара танков. Он приказывает другому полку — Баблера — начать преследование русских. Но скоро ему становится ясно, что командир русской дивизии обманул его и заранее отошел на новый рубеж. Теперь он подходит, должно быть, к Днепру.
Первое неприятное сообщение Мильдер получил от подполковника Нельте. Тот доносил ему, что на глубине свыше восьми километров он не встретил ни одного русского. И тут же, замявшись, добавил, что повсюду много макетов артиллерийских орудий. Вскоре о том же доложил и полковник Баблер. Мильдер взбешен.
«Черт возьми, как они ловко нас надули! А ведь мне сообщали разведчики Беккера, что у русских в лесу ложные позиции артиллерии и деревянные макеты. Да, но кто мог подумать о бутафории? Вот тебе и разведка… В чем же причина моей неудачи?» В этом продуманном до мелочей плане не сработал один винтик слаженной и безотказно действующей машины — его наземная разведка. Она принесла ложные данные — отчетную карту штаба русачевской дивизии. Этим винтиком был нерадивый офицер Кауфман… «От которого меня, слава богу, — думал Мильдер, — наконец, избавили русские». Мильдер срочно потребовал соединить его с командиром авиаразведывательного полка. Он еще не терял надежды исправить свои и чужие ошибки. Командир авиаполка вежливо отвечал, что он не в силах помочь генералу. Сейчас нельзя отыскать противника, который отошел неизвестно когда и куда. Впервые за время войны на Восточном фронте Мильдер в отчаянье. О чем он доложит командующему? Командир с огромным боевым опытом, командир прославленной дивизии, наводившей страх и панику на многие армии в Европе, оказался в положении Дон-Кихота и сражался с макетами деревянных орудий?! Потратить столько времени на разработку плана, так искусно и скрыто совершить марш, израсходовать столько бензина и снарядов — и для чего? И как он будет смотреть в глаза своим офицерам и солдатам? Ведь они теперь не будут верить ему.
Первый раз Мильдер не знал, что же ему предпринять. Надо подавать в отставку. Это по крайней мере меньше унизит его честь, чем любое понижение в должности. И он написал командующему рапорт об отставке.
Но командующий лишь отругал его за малодушие и вернул рапорт назад.
«Это хороший урок, генерал Мильдер. Когда у вас пройдет злость и вернется холодный и трезвый рассудок, подумайте обо всем хорошенько, и я уверен, посмотрите на это по-другому. Мы слишком избаловались легкими победами на Западе, переоценили свои силы, тактику и недооценили противника».
Глава пятая
1
На рассвете Миронова разбудил одинокий орудийный выстрел. Саша прислушался: где-то глухо гремела артиллерийская канонада.
Появился связной из группы прикрытия соседнего полка. Командир соседней роты, составляющей заслон от другого батальона, сообщал, что решил отходить, так как прежний участок обороны их полка обошли крупные силы немецких танков. Они сосредоточились в лесу, в направлении дороги, что выходила во второй эшелон прежних позиций дивизии.
Оставаться роте на этом рубеже было бесполезно, и, пользуясь предутренними сумерками, Миронов приказал отходить, разбив роту на три самостоятельные группы: одна из них вела разведку, другая была боевым ядром, а третья на двух повозках эвакуировала тяжело раненных и их оружие.
Последний раз он взглянул на высотку, где еще вчера хороводились березки, и вдруг будто что-то оборвалось у него в сердце. Высотка оголилась, орешник сильно поредел, березок на вершине не было. Куда же они делись? Немецкая артиллерия вчера поздним вечером усиленно обрабатывала высотку, не жалея снарядов, — вспомнил он последний тяжелый бой, в котором он потерял почти всю роту.
С тревогой он посмотрел на оставшуюся горстку бойцов, удаляющуюся на восток, затем — на высотку.
Вчера еще веселые и живые молоденькие березки, радовавшие глаз, теперь лежали рядом, сплетаясь ветвями, будто старались прикрыть собой братскую могилу русских солдат, похороненных под ними. Миронов почувствовал, как щеки обожгли горячие капли. «Обидно, столько жертв, и опять отходим… Неужели не хватит у нас сил остановить их?»
Он быстро протер глаза рукавом гимнастерки и оглянулся. Рядом стояла Наташа, стыдливо потупясь в землю, будто она подсмотрела недозволенное. И, повернувшись на восток, сказала:
— Пойдем, Саша, тебя ждут…
И они пошли вместе: она впереди, а он за ней поодаль.
К вечеру того дня отходившая рота Миронова увидела большую группу беженцев: это были женщины с детьми и старики. В бинокль Миронов увидел в стороне от дороги трупы убитых лошадей, поломанные телеги и приказал Полагуте свернуть на опушку, сделать привал, а сам с двумя бойцами — Ежом и Мурадьяном — пошел выяснить, что случилось. Впрочем, он и без того догадывался, что это дело рук фашистских стервятников.
Он подошел к ближайшей балагуле с верхом, плетенным из лозняка. Поодаль валялся труп лошади. Дышло балагулы было обрызгано свежей кровью. В балагуле сидела, поджав ноги, молодая женщина и кормила грудью ребенка. Юбка ее, выпачканная грязью, порвана. Ребенок завернут в скатерть с пышными яркими цветами.
Миронов видел курносый нос ребенка и припухлые розовые губы, которые, старательно причмокивая, сосали грудь матери. На голове женщины была посеревшая от пыли батистовая косынка, и из-под нее выбивался тяжелый узел темных волос. Большие карие глаза женщины были устремлены вдаль.
Миронов не мог отвести взгляда от женщины. Она глянула на него усталыми глазами, и лицо ее еще более помрачнело.
К Миронову подошли женщины-беженки, многие с детьми на руках.
Молодая красивая женщина, докормив ребенка, обратилась к лейтенанту:
— Вы не могли бы помочь нашему горю?… — И она рассказала о налете фашистских самолетов, о том, как были перебиты лошади и ранены дети. И для большей убедительности добавила: — Я врач, жена командира-пограничника… Моя фамилия Аленцова. Нам хотя бы одну телегу с лошадью дли раненых детей.
— Погодите, я сейчас, — сказал лейтенант.
Женщины проводили его взглядами, полными надежд. Миронов вернулся к взводу и оглядел всех бойцов, пытаясь угадать, как отнесутся они к этой просьбе.
— Товарищи, — сказал он, — фашистские стервятники обстреляли беженцев. Убили лошадь… Женщины просят дать им лошадь с повозкой отвезти раненых детей…
— Дадим, — сказал Полагута.
— А своих тяжело раненных товарищей куда? — вздохнул боец Рукавишников. — Или в их телегу вместо лошадей впрягаться?
— Ты брось городить, — оборвал Подопрыгора. — Если надо, впряжемся…
— Отдать одна телега! — послышался голос Мурадьяна.
— Я тоже помогу нести, — уверенно сказала Наташа и этим вызвала улыбку бойцов.
Еж выжидательно поглядывал на Миронова.
— Товарищ лейтенант, разрешите до ближнего села. Я разыщу им лошадку с телегой. Для нужд войны, — подмигнул он.
— Товарищ Еж, если еще хоть раз услышу — отдам под суд. Понятно? Товарищ Полагута, передайте одну повозку с лошадью женщинам.
Беженцы встретили Полагуту тепло. Им хотелось сказать что-нибудь ласковое этому загорелому бойцу-богатырю. Некоторые плакали. Аленцова просила передать лейтенанту спасибо от женщин-матерей. Но в роту Полагута вернулся хмурым. Встреча с женщинами заставила его вспомнить об Аленке, детях, и тоска вновь охватила сердце.
2
Немного оставалось до Днепра. И с каждым километром мрачнели бронзовые, опаленные солнцем, выстеганные ветром лица бойцов. Украинцам Днепр был дорог как родная река, белорусам казалось, что он станет последним рубежом, куда ступит вражеская нога на их земле. Для русских, казаков, башкир, якутов Днепр был одним из рубежей, преграждавших путь к их территории, и для всех советских людей — к Москве.
…За Днепром, в Долгом Моху, проживала жена Андрея Алена с сыновьями-близнецами. Полагута глядел на всех каменно-мрачным взглядом. Он шел позади отделения и покрикивал на отстающих бойцов. Они молча подчинялись ему. Еж в тревоге за Андрея отстал и пошел рядом с ним, немного впереди. Он разгадал невеселые мысли товарища.
— Андрей, держись бодрей, — попробовал пошутить он, но так, чтобы никто из бойцов не слышал.
Правдюк подал команду на привал. Андрей и Еж легли в стороне на ярко-зеленом бархатистом лишайнике.
— Мягко, как на перине, — сказал Еж. — Теперь бы поснедать чего-нибудь. Люди по такой жаре больше пьют, а вот меня на жратву тянет.
— Спокойный ты человек, Ефим… Иной раз, правда, вспыхнешь, как спичка, и горишь вроде, да недолго. Мне бы нрав твой…
В другое время Еж обязательно не упустил бы случая поспорить с Андреем и попытаться доказать ему обратное. Но сейчас ему было от души жаль товарища — он так тяжело переживал приближение к родным местам, и поэтому Еж сказал:
— Моя женушка тоже там с ребятней горе мыкает. Все мужики в армию ушли, пишет, что ее бригадиром в колхозе поставили. Она у меня крепкая баба, завернет дело круто, почище иного мужика. Хоть бы глазком на нее взглянуть. Страсть как соскучился! — Еж похлопал ладошкой по пыльным рыжим голенищам сапог, с тревогой глянул на отрывающуюся подошву, глубоко вздохнул, потом достал из кармана бечевку и подвязал подошву.
Опустив голову, Андрей сидел, отягощенный беспокойными думами.
— Тянет туда сердце да и только, — Андрей кивнул головой на восток. — Сам не знаю, почему оно так болит. Или что случилось дома? Попробовать отпроситься хоть на часок, да разве пустят? — безнадежно сказал он.
«А что, если самому уйти? — вдруг мелькнула мысль. — За Днепром ведь я каждую тропинку знаю. Да, но что подумают обо мне товарищи? Почуял медведь берлогу, за бабьим подолом прячется». А что-то там, внутри, так и мутило, так и подмывало, находя веские и убедительные оправдания. «Ну, заглянешь домой на часок-другой. Ведь не насовсем: поглядишь на их жизнь, и обратно. Что ж тут такого? Дома слабая женщина с двумя ребятишками. Надо ж сказать ей, чтоб уходила на Дон».
Еж услужливо протянул Андрею кисет с махоркой, тот резко оттолкнул его руку:
— Да отчепись ты со своим табаком!
Ефим молча скрутил цигарку обожженными, будто измазанными в дегте пальцами. Не спеша закурил и, щуря лукавые глаза, посоветовал:
— Ты бы спросился у лейтенанта — может, отпустит. Не к девкам же на гулянку, а к жене и детям.
И вдруг Еж ухмыльнулся:
— Чего в панику ударяться? Чем дальше немец в лес, тем больше дров. Разбросает он свои силы по нашим русским просторам необъятным, тут ему и капут.
— Капут-то капут, а я вот к дому уж подхожу. — И глаза Андрея помутнели от тоски. — Ты понимаешь? К дому. А там у меня двое ребят. Ты думаешь, легко это? Хорошо хоть, глухоманью идем, а то в глаза людям смотреть стыдно. Плюнут — и вытирать грех: заслужили. Народ, он по справедливости судит…
Тяжело переживал отход к Днепру и лейтенант Миронов. В одном селе его остановила колхозница, чем-то напоминавшая мать. Почерневшее лицо ее избороздили глубокие овражки морщин. И, глядя в эти исстрадавшиеся до пустоты глаза, Саша физически ощутил боль в сердце. Ему приятно было взять из ее огрубевших трудовых рук ломоть свежевыпеченного хлеба, пахнущего солнцем, дрожжами, и кружку молока, и в то же время он невольно чувствовал свою вину перед этой неизвестной женщиной. Вот он сейчас далеко от опасности, а может быть, в эту минуту ее сын, муж или брат умирает, согнувшись в три погибели в каком-то безвестном окопчике, и около него нет ни одного товарища, который мог бы передать последнее желание и по древнему человеческому обычаю закрыть его холодные веки, предать тело земле-матушке.
Пока он ел хлеб, торопливо запивая молоком, женщина пристально глядела на исхудавшего и почерневшего лейтенанта и, видно, вспоминала о чем-то, безмерно волнующем ее старое доброе сердце. На глаза ее навернулись росинки слез. Она торопливо смахнула их передником и проговорила со вздохом, идущим откуда-то из глубины сердца:
— А может, и мой вот так где… — и оборвала эту горькую мысль.
Сотни раз слышал это Миронов во всех деревнях, через которые ему довелось пройти отступая.
В такие тягостные минуты Саше хотелось одного: хоть чем-нибудь смягчить жестокое горе матери. Возможно, и его мать вот так же говорит какому-то командиру или бойцу. И Миронов ответил:
— Придет, мамаша, ваш сын. Непременно вернется…
А старуха мать, глядя на юное лицо лейтенанта, верила ему, потому что это было ее самое заветное человеческое желание.
3
Миронова вызвали в штаб полка и приказали вывести роту в резерв. В это время появился политрук Куранда. В карманах его гимнастерки блестели держатели трех авторучек, на животе висел планшет с блокнотом, — закрепленным резиновым кольцом. Поморцев упрекнул его, что он мало бывает в войсках и отирается в штабах. От него Куранда узнал о роте Миронова, удачно обеспечившей отход полка, и решил поехать «организовать» материал для газеты.
— Приветствую боевых однополчан! — потряс он рукой в воздухе, сверкая золотыми клыками, и обнял Миронова. — О вас там в дивизии все говорят, отличились. Молодцы, ребята! Геройский народ.
Миронов смущенно улыбался.
— Мне надо торопиться, Евгений Антонович…
— Давайте трогайте… Я кое с кем на ходу побеседую, материальчик в газету надо.
И рота двинулась в путь…
День был солнечный, жаркий, на небе ни облачка. Гимнастерки бойцов взмокли от пота. Дышать было трудно. Каждый нес оружие, был нагружен боеприпасами и мечтал о скором привале. Куранда отзывал бойцов в хвост колонны, задавал им вопросы и на ходу делал заметки. Дорога шла по открытой местности, и только справа и слева тянулись вдалеке кусты, местами переходящие в молодое редколесье.
— Вот ежели тут застукает нас немец своими «юнкерсами», хоть в землю влазь. — Еж с тревогой глянул на небо.
— Брось ты каркать, как старая ворона, — оборвал его молоденький безусый хлопец.
— Нет, я не ворона, а стреляный воробей, — отшутился Еж. — Это я хотел проверить, кто из вас труса празднует.
— Тоже мне смельчак нашелся! Каждый трус завсегда о храбрости речь ведет.
— Не так, парень: каждый трус смотрит в куст, — поправил Еж.
И тут все увидели, что в небе появилось несколько немецких бомбардировщиков.
— Накаркал-таки, ворон!
— Воздух! Воздух!
Бойцы разбежались по полю. Но опытный глаз Ежа заметил, что немцы не собираются их бомбить, так как в стороне была более заманчивая цель — автоколонна.
По полю в страхе метался один Куранда. Еж заложил в рот палец и изобразил свист падающей бомбы. Куранда опрометью кинулся к сточной трубе, что проложена была под насыпью пешеходной дороги, и, не раздумывая, шмыгнул в нее…
Глава шестая
1
В полдень в штаб дивизии прибыл командующий армией генерал-майор Кипоренко. Не застав комдива в штабе, он поехал по полкам и, наконец, нашел его у Канашова.
— Вы как вихорь носитесь, Василий Александрович, нигде не могу вас застать, — сказал он, пожимая ему руку.
Впервые за время войны Русачев видел Кипоренко в хорошем настроении. «Значит, имеются радостные вести. Не наступать ли собираемся?»
— Ловко вы, Василий Александрович, этого Мильдера обдурили. Пленный немец рассказывал, что он там рвет и мечет.
Русачев смутился, глянул, будто попросил помощи у Зарницкого.
— Ну, а как все-таки удалось обмануть немцев? Ведь у них воздушная разведка хорошо работает…
Русачев кивнул головой на Канашова.
— Да я что? Это Канашов, он у нас на выдумки мастер. А я, признаться, не больно верил в эту затею. Даже ругал Канашова, что отвлекает без пользы людей на эти деревянные пушки.
— Расскажу про вашу затею командующему фронтом. Здорово получилось! — генерал одобрительно посмотрел на Канашова. — Пойманный вами «язык» оказался начальником разведки танковой дивизии. В штабе фронта он сообщил очень важные данные.
Генерал помедлил и, взяв карту из рук Зарницкого, сказал:
— Смотрели вашу оборону. На правом фланге она у вас слабая. Участок обороны Муцынова недостаточно подготовлен и в инженерном отношении. Почему он не использовал естественные выгоды местности, не создал противотанковые заграждения?
— Столько труда вкладываем в это строительство, а при отходе приходится все бросать, — безнадежно махнул рукой Русачев.
— И все же этот поистине огромный труд наших войск уже принес свои плоды, немцы несут большие потери…
— Когда же, товарищ генерал, наступать-то будем? — спросил Русачев. — Все отступаем и отступаем.
Командующий вздохнул.
— Все спрашивают об этом… А как вы оцениваете, полковник, противника?
Русачеву хотелось угадать желание генерала, и, глядя на его довольное лицо, он сказал:
— По-моему, товарищ генерал, выдыхается враг. Выдыхается!..
— Неверно, полковник. Противник, конечно, не тот, что был в начале войны, — сказал командующий. — Он уже расчетливее, осторожней воюет. Но немецкая армия еще очень сильна, техники много, и наступать они могут еще не один месяц. — Командующий огляделся и понизил голос: — Наше дело измотать противника, а контрудар нанесут свежие войска, не обремененные инерцией отступления.
Вечером к Канашову позвонил комиссар дивизии Поморцев.
— Ты знаешь, что натворила твоя дочь?
— Знаю.
— Вот сидим с прокурором разбираемся. Сам понимаешь, военное время. По головке за дезертирство не погладят.
— Виновата — судите.
И с этой минуты Канашов потерял покой, осунулся, почернел лицом, перестал спать.
2
В таком гневном состоянии Жигуленко видел Русачева впервые. Глаза комдива до половины были закрыты ощетинившимися бровями, и когда он, кривя губы, играл желваками, шевелились кончики ушей. Он резко подымал телефонную трубку, там молчали.
— Никого нет, безобразие! — И он бросал трубку. — Расшумелись на всю армию и разбежались, как мыши по полю! Ну, мне эти политработнички!
Слова комдива прервал телефонный звонок. Он поморщился, как от кислого яблока, и схватил трубку.
— Ага, наконец-таки, Константин Васильевич, отыскался. Слушай, дай-ка ты команду своим политотдельцам, чтобы они прекратили трезвон по пустякам. Ведь подумай, до командующего армией дошло. Из-за глупости какой-то сопливой девчонки мы в историю влипнем. Нет, ты брось, Константин Васильевич. Это ни к чему. Какие там комсомольские собрания? Дай вам волю, так вы еще и конференции устроите. Война идет… Командир медсанбата шляпа, нет дисциплины, распустил людей. У него это уже не первый случай. Его я взгрею. Ну, а остальное беру на себя. Как решу — так и будет!
…Через полчаса посланный за Наташей Жигуленко привел ее к Русачеву, наставляя по пути, как она должна будет себя держать у комдива.
Наташа вошла, отрапортовала, но Русачев как сидел, так и не поднял головы. Он долго и сосредоточенно думал, не зная, с чего начать. Судя по выражению его угрюмого лица, весь он кипел от негодования. Но как только поднял глаза и встретился взглядом с глазами зардевшейся Наташи, мигом в памяти всплыла Рита.
— И чего натворила, дурная твоя головушка? Эх, будь я твой отец, не поглядел бы, что здоровая девка. Заголил бы подол да так бы отстегал, что неделю не садилась бы.
Переведя дыхание, он встал, приняв положение «смирно».
— Пять суток тебе ареста за самовольство и нарушение дисциплины. Посиди-ка, голубушка, одумайся. Отведите ее, старший лейтенант. Сдайте…
А когда Жигуленко вернулся, комдив все так же сидел задумчивый и угрюмый.
— Передайте в штаб, пусть отдадут приказ оставить Канашову в той же роте. В медсанбате и без нее хватит людей. Там она нужнее, ну, а арест для порядка. Не накажи их — все разбегутся.
3
На командном пункте полка шумно и тесно, Спешат с простынями карт штабные командиры, бегают связные; будто стараясь заглушить друг друга, выкрикивают позывные радисты и телефонисты.
Подполковник Канашов, как всегда, внешне спокоен, но глаза красные от бессонницы и бесконечных дум о дочери. «Надо же так опозорить честь нашей фамилии!» Здесь же сидят старший политрук Бурунов и майор Харин — новый начальник штаба дивизии, назначенный Русачевым после вчерашнего тяжелого ранения Зарницкого.
Харин приехал выяснить обстановку и передать приказания командира дивизии. Он глядит то на командира полка, то на комиссара и изредка, порывшись в карманах, достает свою неизменную банку с кусочками сахару и, отправив очередную порцию в рот, беззвучно сосет, выпячивая клейкие губы. Его тонкий крючковатый нос с горбинкой и темно-карие маленькие, близко посаженные глаза придают хищное выражение его лицу — узкому, вытянутому вперед, как у лисы.
— Видите ли, товарищ подполковник, — говорит Харин, глядя на Канашова, точно учитель на школьника, — бой — это не полевые тактические учения или маневры, где все можно переиграть сызнова, а война. В бою решительность командира играет первостепенную роль. Я на вашем месте сбросил бы немцев с плацдарма в Днепр.
Канашов спокойно взглянул на Харина.
— Ну и садитесь, дорогой, на мое место. Сбрасывайте.
— Зачем же так ставить вопрос? — возмутился Харин, расправляя складки на гимнастерке. — Я приехал не подменять вас, а проверить, как вы выполнили приказ комдива.
Бурунов внимательно следил за разговором.
— Наступать немедленно, наугад, была не была? Так, что ли? — недоверчиво спрашивает Канашов.
— Да, по-моему, это единственно целесообразное решение… Иначе немцы укрепят плацдарм и переправят главные силы. Тогда считайте бой проигранным. — И, помолчав, добавил: — Как только восстановится связь с командиром дивизии, я вынужден буду доложить… — Он снова достал кусочек сахару и отправил в рот.
— Хорошо вам говорить: «Я на вашем месте…», когда на это место вас тысяча дьяволов не затащит и когда у вас, кроме карты и цветных карандашей с планшеткой, ничего нет. А у меня люди, боевая задача, ответственность.
— Ответственность — это отговорка, товарищ подполковник, — сказал Харин. — В штабе дивизии тоже командиры, а не чиновники, и не менее вас ответственны за обстановку.
— Но вам ясно, что моя ответственность коммуниста не дает мне права уходить с этого берега. Ведь мы за Днепром. Понимаете, что это значит? Днепр, а там не за горами Москва…
— Чепуха, не в этом дело, — презрительно перебил Харин, — Днепр или Волга… Кутузов, как известно, Москву сдал, а войну все же выиграл.
Бурунов и Канашов удивленно переглянулись.
— Ну, Москву сдать народ не позволит, — вдруг отрезал Бурунов.
Харин пренебрежительно поморщился: что, мол, говорить с вами, если вы ни черта не смыслите. И он сказал поучающим тоном:
— Классическое военное искусство говорит, что иногда надо идти на жертву и на риск ради победы. Чего бояться? Не Москва решает дело, хотя это и самый крупный город Советского Союза. Страна, ее резервы, тыл — вот что предопределяет успех в войне, если исходить из стратегического масштаба.
Бурунов перебил его неторопливо:
— Вот вы ссылаетесь на «классическое» военное искусство. А вам, как коммунисту, ничего не подсказывает ваш партийный долг?
— Странный вопрос! Вы что, хотите мне устроить экзамен по основам марксизма? К вашему сведению, сдал на пятерку…
Бурунов возмутился.
— Видите ли, нет смысла вам устраивать экзамен. Но, как коммунист, я должен сказать, что между вашими знаниями основ марксизма и умением претворять их в жизнь лежит пропасть.
Бурунов поднялся и направился к выходу. На полпути он обернулся:
— Михаил Алексеевич, я в батальоны.
Майор Харин, перелистывая блокнот и посасывая сахар, сделал какие-то пометки в блокноте. Затем он потер камень перстня о брюки, стал любоваться им, поворачивая то одним, то другим боком.
— Что же прикажете доложить командиру дивизии? — спросил он.
Канашов ответил спокойно:
— Сейчас считаю необходимым закрепиться, пока не накопим сил. С потерей каждого человека слабеет оборона. Не к чему обрекать бойцов на истребление.
Майор Харин сухо попрощался, козырнул и вышел из землянки, застегивая на ходу планшетку. «Ничего, я заставлю тебя, упрямый осел, делать так, как тебе советуют умные люди».
Навстречу ему попался Андреев.
— Ну, как дела, разведчик? Давненько что-то я не видел тебя у нас в штабе.
— Какие наши дела, сами знаете, товарищ майор. Что бы ни стряслось, рикошетом в нас: разведчики проглядели…
— Понятно. Ведь вы глаза и уши… С вас покрепче спрашивать надо. — Харин зевнул. — А Жигуленко у вас в гостях бывает?
— Частенько наведывается… Да только не к нам, а в санитарную роту.
Майор понимающе кивнул головой и простился. «Неужели Жигуленко живет с ней? — подумал он с беспокойством… — И как это он ее ловко охмурил. Нет, надо мне действовать напористей, а его надо в хомут семейный возвращать. Скажу при случае Русачеву, он его быстро одуматься заставит».
Глава седьмая
1
Солнце только что село. Медленно догорающее пламя вечернего заката прорезывают, точно пишут невидимыми буквами, быстрые, юркие стрижи. Гладкая, голубоватая, слегка розовая от заката поверхность Днепра рябится, как серебристая рыбья чешуя. В густых шуршащих камышах, пахнущих тиной и рыбьей сыростью, по-домашнему знакомо крякает дикая утка. Днепр заметно обмелел, обнажив полосы прибрежного золотистого песка, похожие на остроносые гоночные скифы. Западный глинистый и крутой берег Днепра порос цепким густым кустарником. Восточный берег более пологий, тоже порос кустарником и местами заболочен.
Бойцы взвода Правдюка почти весь день расчищали сектор обзора для наблюдательного пункта командира полка почти у самого обрыва. Из батальона пришел Подопрыгора и принес радостные вести; в полк прибывает много артиллерии, и ожидается новое пополнение; сегодня вечером саперы начнут минировать противоположный берег и места у переправы.
Бойцы лежали, курили, слушая недавно назначенного замполитрука роты Подопрыгору, глядели на широкое могучее течение Днепра и вспоминали каждый о своем. Изредка легкий порыв ветра доносил до них глухие артиллерийские раскаты.
— Вот бы так сив у лодку и поплыв униз по Днипру до сэбе на ридну Вкраину, — с грустью в темных глазах под широкими бровями сказал могучий как дуб, великан Новохатько. — Як бы не война, там вже уборка к концу пидходила б. Врожай цей год богатый, давненько такого не було.
— Да, хлибец уродився гарный, та худо, шо ворог его топчет, — поддержал новый боец Чивилюк.
— А палыть его самым хиба ж не жалко? Стилько трудов в землю уложено! — сокрушался Новохатько.
— Давайте, хлопцы, заспиваем яку-нибудь нашенску. Бо сумно шось на души от цих помынок, — предложил боец Чмыхало.
— Про Днепро, — сказал Подопрыгора, — ту саму, що Тарас Григорьевич Шевченко сложил…
— С песней дружить и в бою не тужить, — вставил Еж.
Бойцы взвода Правдюка окружили Подопрыгору плотным кольцом. Он долго глядел на родной Днепр, будто настраивал сердце на знакомый мотив. И вдруг из его могучей, широкой груди вырвались высокие сильные звуки:
Реве тай стогне Днипр широкий,
Сердитый витер завыва…
Десяток крепких и звонких голосов бойцов-украинцев подхватили:
До долу вербы гне высоки,
Горами хвылю пидийма.
Эхо бросилось в гущу леса, распугало сторожкую тишину, И лес зашумел, заволновался, будто тоже хотел вплести свой шелестящий голос в песню.
Подопрыгора выждал, пока замолкнут последние слова припева, и еще уверенней и звонче словно выплеснул на широкий простор песню с берущей за сердце печалью по родной стороне:
Ще блидный мисяц на ту пору
Из хмары де-де выглядав…
Лица поющих бойцов были сосредоточенно задумчивы, хотя многие и не знали слов песни, но старались вложить в ее мотив всю силу выношенных в тяжелых боях дум и перенесенных страданий.
Неначе човен в синим мори
То виринав, то потопав.
Как разряды грозы освежают воздух от пыли и духоты, так хорошая песня очищает душу, будит в человеке лучшие его чувства, воспоминания.
Сержант Правдюк, возвращаясь во взвод от Миронова, услыхал знакомую с детства песню. Даже саперы, будто дятлы, звонко стучавшие топорами, прекратив работу, слушали.
У Правдюка радостно затрепетало сердце. Всплыло в памяти родное село. Беленькие, с маленькими квадратными окнами украинские мазанки с нахлобученными на них, будто папахи, соломенными крышами, цветущие вишневые сады с горьковато-миндальным запахом, вот такой же, как сейчас, огненный закат. И ему показалось, что в густом прибое мощных голосов поющих бойцов затерялся голос его жены, Наталки.
Подходя к реке, где расположился его взвод, Правдюк узнал в запевале голос Подопрыгоры.
Ще трети пивни не спивали,
Нихто нигде не гомонив…
И не успел Подопрыгора допеть последних слов песни, как она вдруг оборвалась — так падает подстреленный над степью орел.
— Немедленно прекратить песни! — послышался резкий голос Харина. — Нашли время. Позиции не оборудованы, а вы бездельничаете. Вы бы еще танцы устроили…
Бойцы, исподлобья глядя на майора, нехотя поднялись и, разобрав лопаты, кирки, мотыги, разбрелись по окопам.
— Тут с минуты на минуту немцы могут нагрянуть, а они песни поют! — кричал Харин, возмущенно разводя руками.
И, словно в подтверждение, с запада донесся угрожающий грохот вражеской артиллерии. Он напоминал громовые раскаты.
— Нам, может, после этой песни дышать легче, — сетовал Барабуля, выбрасывая землю.
— Командир называется, а не знает, зачем песни, — бурчал Еж, косясь в сторону Харина, который выговаривал Миронову:
— Это не боевое подразделение, лейтенант, а какой-то ансамбль. Никакой дисциплины. Наведите порядок, иначе я вас взгрею.
Вечером расстроенный Полагута пришел в блиндаж к Миронову и попросил разрешения отпустить его до утра завтрашнего дня домой. Он уверял лейтенанта, что ему тут знакома каждая тропка и что на рассвете он обязательно возвратится в роту.
Миронов посмотрел по карте: Долгий Мох находился в пятнадцати километрах. Прикинув, что двенадцати часов Полагуте хватит, чтобы побывать дома и вернуться обратно, он отпустил его.
2
В блиндаж, где сидел новый политрук роты Миронова — Хромаков, кубарем скатилась Наташа, запыхавшаяся, раскрасневшаяся (он обязал, ее докладывать о каждом раненом и сам дважды в сутки посещал ротный санпост).
— Чуть-чуть было не попала под разрыв, — проговорила она. И тут же спокойно достала маленькое зеркальце и как ни в чем не бывало посмотрела в него.
«Бесстрашная», — подумал Хромаков, с каждой встречей проникаясь к ней каким-то особенным уважением. Он туг же подумал о том, что женщина нигде и ни при каких, казалось бы, невыносимых условиях не забывает о том, что она — женщина. В окопе на передовой, в блиндаже или землянке — везде она не расстается с крохотным осколком зеркала и может в самое занятое время и даже в отчаянные минуты взглянуть на себя, поправить волосы, убрать с лица грязь и полюбоваться собой.
— Товарищ политрук, тяжелораненые нашей роты доставлены на батальонный медпункт, — доложила она. — По дороге трое скончались от нервного шока. Один раненый наотрез отказался следовать в санроту. — Наташа достала из сумки его тетрадь. — Его фамилия Барабуля.
— Барабуля — парторг наш ротный? — удивился Хромаков.
— «Сорок лет, — говорит, — живу на свете, не знаю, что такое врачи, и не желаю с ними знакомиться». Каких-то трав нарвал и приложил к ране. Ведь нельзя же так. Тут и до заражения крови недолго, — сказала она обеспокоенно. — Прошу, товарищ политрук, подействуйте на него…
— Попробуем подействовать, — улыбнулся Хромаков.
Наташа замялась, почувствовала, что смущается.
— Я не знаю, как мне быть, — развела она руками. — Как по-вашему, кто может помочь мне в этом деле? — И она стала говорить быстро, громко. Видно было, что вся она кипела от негодования. — Подумать только, как еще мы плохо эвакуируем тяжело раненных с поля боя. И неудивительно, что большая часть их умирает. Я поняла все это, когда стала работать здесь, в роте. Какая косность и неповоротливость в этом деле! Ведь из-за того, что каждое наше санитарное подразделение имеет свои закрепленные за ним носилки, тяжело раненного перекладывают три-четыре раза, пока положат его на операционный стол.
— Как это три-четыре раза? — удивился Хромаков.
— А вот так. У нас на ротном санитарном посту имеются свои носилки. Сдают наши носильщики батальонному пункту раненого, а там принимают его на свои носилки. Сдает батальонный пункт полковому, там то же самое творится. С полкового поступает раненый на дивизионный медсанпункт, там та же самая история. Ну, а зачем все это делать? Носилки ведь везде стандартные, из одного дерева делаются и одним и тем же брезентом обшиваются. Ведь подумать только, какие страдания причиняем мы тяжело раненному из-за этой медицинской бюрократии!
Хромаков слушал с восхищением ее возмущенную речь. Но больше всего его озадачивало, как он может помочь ей ломать эту действительно вредную систему, заведенную неизвестно кем и зачем. Ведь если он не окажет ей помощь, то невольно будет помогать всем тем, кто установил этот нелепый порядок.
— Может, стоит обо всем этом написать, ну, хотя бы в санитарное управление Красной Армии и попытаться доказать им, что заведенная система не оправдывает себя на фронте.
— Не оправдывает? — перебила Наташа. Глаза ее гневно блеснули. — Да это прямое издевательство над ранеными. Но пока мы будем писать эти бумажки и ждать ответа, еще сотни людей отправятся на тот свет…
— А что же предлагаете вы?
— Поломать эти так называемые порядки и делать так, как будет полезно раненым. Разрешите мне сдавать раненых на батальонный пункт, не перекладывая их на новые носилки. С командиром медсанвзвода я договорюсь. А когда наладим это дело, тогда сделаем следующую попытку: договориться о том же с полковым медицинским пунктом.
Хромаков обдумывал предложения Канашовой. Ее смелая мысль — начать ломать эти порядки снизу — пришлась ему явно по душе. Но пойдут ли на это остальные, сможет ли она убедить их всех?
— Я жду вашего ответа. Вы, кажется, тоже сомневаетесь, как и Миронов?
— Нет, что вы, что вы, Ната… товарищ Канашова, — спохватился он. — Я вполне с вами согласен.
— Но надо просить разрешения свыше? — перебила она, насмешливо улыбаясь.
— Я думаю, что вам можно и без разрешения начать это делать в роте…
Тут же, не давая ему опомниться, Наташа сказала:
— Второе, не менее важное дело, по которому я пришла, — мне нужны люди.
— Какие люди, зачем? — не понял политрук.
— Мне нужно человек пять бойцов старшего возраста, из которых я подготовлю санитаров-носильщиков. Помогите мне, я знаю, Миронов не даст. Сошлется на большие потери в роте.
— Но у вас же есть по штату…
— Дело не в этом, товарищ политрук. В штате со мной семь человек. Я разбила их на три звена по два санитара-носильщика в каждом звене. Но ведь они такие же люди, как и мы с вами, смертные… Другая трудность: раненых приходится переносить с передовой не так, как учили нас — на двести-триста метров, а в два-три раза больше. Вот я и решила испробовать новый метод эвакуации — «эстафетой». Надеюсь, вы понимаете, в чем он заключается?
Хромаков кивнул головой. «Какая умница! — думал он. — Как хорошо, когда человек не по-казенному относится к делу, а с душой! Нет, конечно, ее надо поддержать в ее полезных начинаниях, помочь всем, чем можно. Сегодня же поговорю с Буруновым. Этот человек всегда нас поддержит. Да, но откуда Миронову набрать этих пятерых бойцов? Ведь в роте и без того большой некомплект. Надо подсказать ему выделить пока двух, а потом, если получим еще пополнение, можно будет дать еще».
В блиндаж быстро вошел Миронов. Увидев Наташу, сказал:
— Простите, что помешал…
— Пожалуйста, — сказал приветливо Хромаков. — У нас тут секретов нет.
— Там санитары-носильщики принесли тяжело раненного сержанта, вас разыскивали.
Спросив разрешения, Наташа ушла.
— Вся в отца, — сказал, улыбаясь, Хромаков. — Она тут революцию с эвакуацией тяжело раненных затеяла, надо ее поддержать. Мне бы начинать жизнь сначала… Непременно с такой бы связал судьбу. Девушка с огоньком и умница. Такую подругу иметь — большое счастье в жизни.
Политрук встал, поморщился от боли, расправляя руки и подтягиваясь.
— Суставы мои опять загудели, к перемене погоды…
Миронов как-то сразу сдружился с политруком и, несмотря на то, что тот был старше более чем вдвое, доверял ему, как товарищу.
— Понимаешь, Иван Андреевич, сделал я одну оплошность, с тобой не посоветовался…
Хромаков, улыбаясь, посмотрел ему в глаза.
— Что же это за оплошность? Говори!
— Отпросился у меня командир отделения — дом у него здесь близко. А вдруг не вернется?… Что тогда делать?
Политрук задумался.
— Фамилия его?
— Полагута.
— Этот богатырского сложения парень? Работает он как вол — трудолюбив… Познакомился я с ними со всеми тогда, когда позиции готовили. Как же, помню! Но замкнутый он какой-то… Вот дружок его — Еж, тот остер на язык и весь наружу. Ну, а сам как думаешь — вернется?
— Не знаю.
— А надо знать. Как же это, с людьми воевать и не знать их?
— Да так-то он себя показал с хорошей стороны, исполнительный, смелый, честный. — И Миронов рассказал о случае с телком.
Хромаков рассмеялся от души и ободряюще похлопал Миронова по плечу.
— Так чего же тебе за него тревожиться? Такой не подведет. Таким мы должны верить. Ты вот, наверно, и в Наташу не веришь?
— Это почему же? — удивился Миронов.
И Хромаков рассказал ему о своей беседе с Наташей.
3
Домой в Долгий Мох Андрей шел, стараясь не попадаться никому на глаза. «Кто поверит, что меня отпустили? Подумают, дезертировал».
Надвигались густые сумерки, и, чтобы не сбиться с пути, Андрей выбрался из зарослей. Постоял, прислушался (ему казалось, что кто-то шел за ним сзади) и, облизав кровь, выступившую из расцарапанных рук, решил идти на отдаленный шум машины. «Там, наверно, дорога…» Но только он свернул влево и стал пробираться сквозь густой кустарник, как доносившийся шум машины пропал. «Неужели заплутался?» — подумал он. Андрею стало неловко за себя: «Как это я, лесной житель, вдруг заблудился, как ребенок?»
С каждым часом заметно темнело. Надо было торопиться. Вот началось редколесье.
«Значит, где-то близко должна быть дорога или поляна». Вскоре он вышел на поляну, на которой лежали кучи свеженарубленного соснового молодняка. «Видно, артиллеристы нарубили для маскировки», — подумал Андрей. Снова послышался шум автомашины. Андрей юркнул в кусты, упал на землю и затаился в молодом орешнике. Мимо промчалась полуторка, донося до него запах бензина. Когда машина исчезла, Андрей, озираясь, вышел на дорогу и устыдил себя. «Прячешься, как своровал что…» Прислушался, кругом ни звука. Глухая лесная тишина притаилась повсюду. «Торопись, Андрей», — говорил ему внутренний голос.
За поворотом дороги показалась деревня. «Вот он, Долгий Мох». Учащенно забилось сердце. На опушке ходила запряженная лошадь и, наклоняя большую, с одним ухом голову, рвала жадно траву. «Видать, шибко голодная… А где же хозяин?» — подумал Андрей. Он направился к лошади и услыхал доносившиеся из кустарника хрипловатые голоса. В кустах лежали два бойца. В сумерках лица их трудно было различить. Они курили, изредка перебрасываясь словами. У одного из них левая забинтованная рука висела на подвязке. Андрей подполз к ним поближе.
— Давай-ка, Иван, вернемся, — предложил раненый.
— Куда? Ты же тяжело раненный. И голова у тебя слабая… Качаешься как пьяный… Того и гляди упадешь…
— Голова у меня крепкая, да крови много ушло, вот и качает…
— Хоть ты мне и друг, но пойми же, не могу нарушать я приказ. Тебя в госпитале подлечат, и вернешься.
— Чудак ты, Иван, или не понимаешь меня. Какой же к черту госпиталь, если немец нож к горлу приставил? Родная деревня моя километров двадцать отсюда…
«У всех сейчас общее горе, а я о своем горе только пекусь, — упрекнул себя Полагута, почувствовав, как лицо его опалило огнем стыда. — Может, немец нас и гонит так скоро, что каждый о своей шкуре больше думает?»
Отпрашивался он у Миронова с твердой решимостью устроить свою семью и, если потребуется, задержаться. «У других семьи далеко, и им ничего не угрожает, — думал он. — А у меня… Не погибать же детям и жене… Пусть меня накажут, но каждый на моем месте сделал бы так же», — убеждал он себя. Но, услышав разговор двух бойцов, Полагута заколебался. Как же ему поступить? «Приду домой, увижу, что мне делать». И он ускорил шаг по направлению к родному дому.
4
При отходе дивизии к Днепру Зарницкий был тяжело ранен при бомбежке в обе руки, и Русачев отправил своего начштаба, несмотря на его протесты, в медсанбат. Обязанности начальника штаба перешли к майору Харину.
На другое утро майор вызвал к себе Жигуленко и стал говорить о том, что им недоволен начальник разведки, так как он несерьезно относится к своим служебным обязанностям. Это необоснованное обвинение вывело из себя Евгения. Он стал спорить с Хариным. Тогда тот сказал, что в политотдел дивизии поступили сигналы о панибратстве и пьянстве Жигуленко с подчиненными ему разведчиками. Зная резкий характер Жигуленко, он нарочито говорил с ним вызывающе.
— Недавно вас выдвинули, как молодого командира, а вы не дорожите оказанным вам доверием. Придется, — добавил он начальственно, оглядывая Евгения, — снимать вас как не справляющегося с обязанностями.
Жигуленко вспылил:
— Не вы назначали, товарищ майор, не вам и снимать придется! На себя много не берите. Вы сами начальник временный.
Лицо Харина запылало. Он хотел было крикнуть на этого, как он считал, мальчишку, говорившего с ним как с равным, но вспомнив, что Жигуленко зять комдива, сдержался. Он подышал на камень перстня, потер его о колено и, любуясь им, сказал наставительно:
— Вы, конечно, растущий командир, но ваше поведение со старшими и особенно отношение к вашей семье оставляют желать много лучшего…
Жигуленко, не дослушав Харина, ушел, хлопнув с ожесточением дверью.
«Ничего, мы еще посчитаемся! Тоже мне еще выскочка нашелся, — думал рассерженный Харин. — Всю войну под крылышком у Русачева не просидишь…»
5
В жизни случается иногда, что женское исстрадавшееся сердце становится чувствительным, как барометр. Бывают минуты, когда оно особенно точно и тонко чувствует все, что происходит с любимым человеком, и болит одной болью с ним. Такое же чувство жило последнее время в Аленке. Она ждала Андрея с тайной надеждой, трепетно, страстно, и в то же время в сердце закрадывалась тревога: а вдруг надежда не сбудется?
Вот кто-то стукнул в сенцах дверью. Аленка превратилась в слух. Андрей? Нет, это корова ударила ногой о дощатый помост в пристройке. Но вот в оконную раму кто-то постучал… Она долго всматривалась в глухую черноту ночи; ей почудилось, будто кто-то шел от дровяного сарая по дорожке к избе. У сарая на веревке висело старое платьишко — забыла она его снять. Вот оно и маячило на ветру, и Аленка вставала с постели, подходила к окну, вглядывалась в непроглядный мрак. Наконец с рассветом, истомившаяся и обессиленная, уснула как убитая и проспала, не подоив корову.
Весь оставшийся день думала об Андрее, и из рук валилось все. Вечером она даже достала из сундука гражданский костюм Андрея, вычистила и выгладила его. На нее нахлынули воспоминания об их первой встрече в лесу. Андрей на свадьбе был в этом синем костюме и светло-кремовой шелковой рубахе. Он называл ее «кудрявой березонькой», когда, распустив косы, она садилась на лугу и плела венки из полевых цветов… И все это было как будто совсем недавно. А ведь уже два года Андрей в армии, и полтора года их сыновьям.
Она поглядела с тревогой на беззаботно спавших детей, прикрыла одеялом их оголенные ноги.
«Если Андрей меня любит, — думала она, — он придет, непременно придет… Пусть даже на минутку… Ведь он еще не видел сыновей…» Да и самой хотелось испытать его мужскую ласку, от которой уже стала отвыкать. Аленка стояла у окна, с тревогой прислушиваясь к артиллерийской канонаде. А сердце ее так и рвалось куда-то. «Что такое, почему оно болит, как никогда? Может, случилось что с Андреем? Может, он лежит где, умирает, просит пить, и некому дать ему глоток воды?» Она, сама не зная зачем, выбежала в сенцы, налила в бутылку воды и, возвратись в комнату, поставила на стол. Уронила голову на руки и заплакала. «Андрюшенька ты мой, родненький, — зашептала она одними губами, — не видать мне, видно, тебя…»
Но вот сквозь всхлипывания она услышала, как кто-то постучал в окно. Она прислушалась. Тишина. Мирно тикают ходики да посапывают сыновья-близнецы. «Наверно, опять показалось». Снова услышала, как кто-то барабанит мягко концами пальцев. Так стучал всегда Андрей. Сжалось сердце, перехватило дыхание. Аленка опрометью бросилась к окну, ткнулась горячим лбом в стекло… Оно хрустнуло и, зазвенев, посыпалось на подоконник. В ноздри ударила лесная свежесть и запах мужского терпкого пота. Она не помнила, как добежала до дверей, открыла их, обессиленными руками ухватилась за шею мужа и оборвалась… но он подхватил и внес ее в дом, осыпая поцелуями.
— Андрюшенька, родной мой… А я-то дура…
Она не могла говорить, задыхалась, пересохло в горле, душили слезы.
— Ну, будет, будет, Лена…
Его радовали и раздражали эти слезы.
— Ну, что ты, дурочка, как по покойнику, плачешь? Я ведь пришел…
Она подымала на миг глаза и вновь, уткнувшись в его грудь, плакала и ласкала рукой его жесткие спутанные волосы.
Он тискал ее в своих грубых объятиях и каждый раз спрашивал:
— Лена, ты чего?
Она, с горевшим, будто выстеганным крапивой от его жесткой бороды лицом, закрывала глаза и еще плотней жалась к его широкой груди. Ей все время хотелось спросить его: «Надолго ли пришел домой?» Но она боялась спрашивать об этом. И по тому, как он быстро вдруг отстранил ее и спросил: «Где хлопцы?» — она поняла, что Андрей пришел ненадолго. Она снова прижалась к нему и заплакала. Андрей повторил вопрос, и тогда она молча повела его. Он осторожно приблизился к кровати, взглянул и широко улыбнулся.
— Вот они какие! Махонькие… — И тотчас в его глазах застыл ледок грусти.
Аленка приласкалась к мужу, он обнял ее и стал снова целовать.
— Хорошая ты у меня, Ленка…
— А я так ждала тебя, так ждала… Надолго?
— Кормить будешь? — спросил он, виновато улыбаясь. И тут увидел на столе бутылку. — Аль гостей ждала? — хитро подмигнул он, показывая глазами.
— Да это же вода, Андрюшенька, — и поднесла бутылку к его носу. — Я тебе настоечки на рябине мигом. — И Аленка бесшумно шмыгнула в чулан.
Андрей беспокойно осматривал комнату, а мысли его были далеко, там, на фронте, с товарищами. Что они делают, пока он сидит в родном доме? Может, кто из них уже погиб? Вспомнил разговор двух неизвестных бойцов в лесу. Начал беспокойно ходить, поскрипывая половицами. «К утру надо непременно вернуться…»
Аленка торопливо хлопотала у стола, и все валилось из рук. Появилась нехитрая домашняя снедь: соленые огурцы и помидоры, сало и янтарного цвета рябиновая настойка. Она наливала из графина, позванивая о стаканы и расплескивая на стол.
— Давай, Андрюша, чтобы все было хорошо…
Они чокнулись. Андрей нахмурил брови и молча выпил. Она отпила глоток, задохнулась, закашлялась и вдруг заплакала. Андрей поставил стакан, подошел к ней и тут заметил на ее лбу свежий порез.
— Где это ты?
— Не знаю, Андрюшенька, — провела рукой — кровь. Андрей достал индивидуальный пакет, разорвал и нежно обтер кровь со лба. И с грустной усмешкой сказал:
— Вояка ты моя! — Потом он взял помидор, поднес к ее губам. — Пополам давай?…
Она откусила, улыбнулась ему своей тоскливой улыбкой, поперхнулась и потянулась рукой к рябиновой. Но Андрей остановил ее руку.
— Плохие там дела, Андрюшенька? — спросила она, заглядывая ему в глаза.
— Плохие, — сказал он, помрачнел и стал торопливо жевать. — Поехала бы ты к родным на Дон, Лена…
— Куда же, Андрюша, я с двоими? Может, не пустите немца дальше?
Андрей промолчал. Сердце его опять заныло давней болью.
— Стели спать…
Андрей не стал раздеваться, снял сапоги, ремень, расстегнул ворот гимнастерки и лег.
У Аленки кружилась голова не столько от нескольких глотков выпитой настойки, сколько от волнения и беспокойных мыслей.
— Андрюша, а Андрюша, — жарко зашептала она ему в ухо. — Как же мы без тебя? Сил моих больше нет, И дети… Вдруг немец придет? Вон другие мужики попришли домой…
Андрея будто кто сбросил с койки. Он даже задохнулся от гнева.
— Да ты что, с ума спятила, Аленка? Не трави ты мою душу…
Она уронила голову ему на грудь, и он почувствовал, как теплый ручеек щекочет ему тело.
— Ну ты только подумай, я же своего командира обману. Что товарищи обо мне думать станут? Мне верили, а я… Бросил фронт и убег… — Он задыхался от гнева. — Ну что, ежели все по своим домам разбегутся, что тогда?
В окне дрожал мутноватый рассвет. Андрей ласкал ее горячие руки шершавыми, огрубевшими ладонями, а она, обессиленная и притихшая, лежала будто не живая, закрыв глаза. Он встал, подошел к кровати детей, поцеловал их, постоял и вернулся к ней. Надо было уходить, но не было сил оторваться от всего родного и близкого. Андрей прижал ее к груди.
— Сыновей береги, Лена… Себя береги…
Она обвила его шею руками и долго глядела опухшими глазами, в которых уже не было слез. Их покрыла туманная дымка безысходной тоски и горя.
— Ты не серчай на меня, Андрюша… Я же тебя люблю…
…С рассветом Андрей возвращался в подразделение. Ноги не хотели повиноваться ему, будто они налились каменной тяжестью. Ноздри щекотал терпкий и пряный запах волос Аленки. Голова ее всю ночь покоилась у Андрея на груди, и гимнастерка теперь была влажная и холодила грудь.
6
Жигуленко провел беспокойную ночь. Неделю тому назад он сдал свои обязанности командира разведывательной роты и опять исполнял должность адъютанта комдива. Сначала он отказался идти на эту должность, но Русачев сказал:
— Ты ведь скоро отправишься учиться. Послужи мне последние дни. Тяжело мне, Евгений Всеволодович. Видишь, как немец жмет. Того и гляди сомнет нас.
Русачев рассчитывал, что Жигуленко, уезжая учиться, непременно встретится с Ритой и они зарегистрируются. Разговаривая по душам, полковник намекнул Евгению, что все это он делает во имя их будущей семьи.
Жигуленко поблагодарил тестя и обещал оформить свой брак с Ритой. Русачев поверил. Да и из последнего, письма Марины Саввишны он знал, что теперь Рита часто получает от Евгения теплые, хорошие письма. По словам Марины Саввишны, Евгений писал: если родится мальчик, а это — его желание, то хорошо бы назвать его именем отца, а если девочка, то пусть Рита даст ей имя по своему выбору.
Вскоре после первых писем Евгений выслал Рите, как законной жене, аттестат и золотые трофейные часики, от которых отказалась Ляна.
И Василий Александрович резко изменил отношение к Жигуленко: теперь он нередко приглашал его к себе обедать и ужинать; торопил Харина с представлением Евгения к награде — ордену Красной Звезды за удачную поимку «языка»; отдал ему свое новое кожаное снаряжение, а на днях, когда он вновь стал его адъютантом, подарил маленький никелированный пистолет.
И все же Жигуленко был чем-то недоволен и даже резок в отношении штабных работников. Заметив это, Русачев спросил Жигуленко:
— Ты чего это, как леопард, на всех кидаешься?
Жигуленко гневно посмотрел на комдива.
— Товарищ полковник, мне не хотелось об этом говорить, но придется. Случайно я узнал, что из штаба армии пришел ответ на запрос о посылке на учебу. А Харин уже сутки задерживает его у себя.
— Ишь, какие вы нетерпеливые, молодежь! Да меня на дивизию назначили, — я три месяца ждал приказа. Подумаешь, сутки… Замотался Харин — забыл. А ты бы ему напомнил от моего имени…
Русачев снял трубку:
— Харина ко мне…
— Нет, — сказал Жигуленко, — это он делает нарочно.
— Чего это ты с ним не поделил?
— Поспорил с ним по одному вопросу, — сказал уклончиво Жигуленко. — Вот он и решил свести со мной счеты.
Вошел майор Харин, доложил комдиву, подозрительно поглядывая на Жигуленко.
— Ты чего молчишь об ответе из штаба армии?
Тогда уже Харин зло глянул в сторону Жигуленко, облизывая клейкие губы.
— Да он только что получен, — соврал он. И сразу перевел разговор: — На участке полка Канашова, — сказал он, — очень тяжелое положение. Немцы потеснили один из его батальонов на правом фланге. Чепрак убит…
— Может быть, ввести в бой два наших свежих батальона? — нерешительно предложил Русачев. — Как думаешь, начальник штаба?
Харин подошел к карте, наклонился.
— Пока пусть держатся своими силами.
— Но если гитлеровцы прорвутся на участке Канашова, тогда поздно будет.
— Думаю, товарищ полковник, сейчас бросать в дело резерв нецелесообразно. Если мы сообщим им, что намереваемся контратаковать на их участке, они будут надеяться на нас и не полностью используют свои возможности.
— Это, пожалуй, верно. Пусть еще подержатся, хотя бы до вечера… Да, вот еще что: сегодня же оформи на Евгения Всеволодовича документы, пусть едет…
Когда Харин вышел и Русачев с Жигуленко остались вдвоем, комдив сказал:
— Напрасно вы ссоритесь по пустякам. Харин башковитый парень. Он куда посмышленей Зарницкого.
Но Жигуленко уже не слушал. Всеми своими помыслами од был уже далеко. «Плевать мне теперь на все. Я добился того, что мне нужно было. Закончу „Выстрел“… Если удастся вдобавок увезти с собой Ляну, то мне больше ничего и не надо. Женюсь на ней, устроюсь где-нибудь в штабе… Теперь я командир с боевым опытом, боевые характеристики, ордена, благодарности есть — любой позавидует».
— Да, действительно, товарищ полковник, зря я поссорился с Хариным. Ну, ничего, помирюсь…
— Правильно. Да ведь Харин старше тебя по званию и академию окончил…
«Придет время, и я окончу!» — подумал Жигуленко; утвердительно кивая головой и улыбаясь.
Глава восьмая
1
Готовя дивизию к форсированию Днепра, Мильдер не тешил себя иллюзиями. Несмотря на то, что он прекрасно знал операцию по форсированию Рейна и сам лично обучал в академии на ее опыте не один выпуск офицеров, он не пожалел времени и снова, как слушатель перед экзаменом, проштудировал ее по карте, терпеливо разбирая всевозможные варианты. «Но Рейн не Днепр, а русские не французы», — размышлял генерал. Он знал: русские войска не позволят его танкам быстро преодолеть этот трудный водный рубеж, имеющий большое оперативно-тактическое значение. Еще задолго до выхода к Днепру он выслал передовые отряды; они должны были захватить два плацдарма: один против Старого Быхова, другой — в пяти километрах севернее. Но попытки оказались тщетны: дважды переправлялись отряды на противоположный берег и не смогли удержаться. Единственно, что им удалось, — это установить, что у русских на левом берегу Днепра создан крепкий оборонительный рубеж полевого типа. Но больше всего взбесило генерала известие разведки о том, что против его дивизии держит оборону все та же дивизия Русачева.
Несколько суток Мильдер не давал покоя штабу. Он сам лично готовил это ответственное наступление, посылая одну за другой разведывательные группы. Они пытались нащупать фланги и стыки противостоящих войск русских. Наконец им удалось захватить три прибрежных узких плацдарма. Переправлялись ночью на спаренных понтонах. Несколько групп (по три-четыре танка в группе) с рассветом начали вести разведку боем. На каждом танке действовали автоматчики, за танками двигалась пехота, чтобы создать видимость действительного наступления. Непроглядную тьму то и дело прорезывали снопы искр: это немецкие автоматчики трассирующими пулями указывали своим танкам направление атаки.
К исходу вторых суток обстановка вдруг резко изменилась. Начальник штаба подполковник Дикс доложил Мильдеру, что русские отходившие части (это был полк Муцынова, занимавший плацдарм на правом берегу Днепра) атаковали левый фланг дивизии с севера и стали теснить немецкие подразделения, а потому он просит срочно перенести командный пункт в более безопасное место. Мильдер вспылил:
— Вы, подполковник, трус! Я запрещаю переносить командный пункт!
Мильдер вызвал смелого танкиста Фрица Кепкэ и сам решил возглавить контратаку на своем командирском танке.
Одна из танковых рот полка Нельте, увлеченная успехом атаки, не заметила, что у русских на опушке редкого леса стоит батарея прямой наводки. И не успел Мильдер опомниться, как несколько его танков были выведены из строя огнем русских артиллеристов. Вторая и третья роты, следовавшие за первой, не слушая команд генерала, повернули назад и в панике стали отходить, прижатые огнем артиллерии, к Днепру.
Мильдер дважды пытался остановить отходящие роты и, наконец, вынужден был начать отход вместе с ними, И тут его постигло несчастье: танк накрыли разрывы снарядов. Какое-то чудо спасло генерала, он не получил даже контузии, а вот все остальные члены экипажа были убиты. С трудом выбрался генерал из разбитой машины, грозя расстрелять командира второй танковой роты, который своими паникерскими действиями свел на нет первоначальный блестящий успех танковой атаки, возглавляемой лично им, Мильдером.
Разыскивая свою полевую сумку среди покореженных частей и механизмов танка, Мильдер случайно натолкнулся на дневник своего верного слуги — бесстрашного танкиста и шофера Фрица Кепкэ. Несколько дней тому назад он подписал его представление к награде. Но теперь для Кепкэ, который был очень неравнодушен к наградам, было уже все безразлично.
Мильдеру захотелось в последний раз взглянуть на погибшего Кепкэ. Что запечатлело его бесстрашное лицо в последние минуты жизни? Когда Мильдер поднял за огненно-рыжие волосы голову Кепкэ, застрявшую между рычагами и педалями управления, первое, что он увидел, — это черное пятно на лбу от машинного масла. Открытые глаза Кепкэ помутнели и остекленели. Но что больше всего поразило генерала — это улыбка. Чему мог улыбаться верный Кепкэ?…
Вечером, когда стих бой, Мильдер опять вдруг вспомнил о Кепкэ. «Да, это был настоящий немецкий солдат. Он честно служил фюреру и великой Германии. Надо будет послать письмо его родным. Это, может быть, немного облегчит их горе». Он вынул из полевой сумки дневник своего отважного шофера, открыл последнюю страничку.
«Что ждет нас на Днепре? Говорят, за Днепром обороняется та же армия и дивизия, с которой мы встретились на границе. Меня охватывает страх при мысли, что мы, имея такие большие потери, до сих пор не смогли уничтожить одну русскую дивизию. Где же былая честь нашей прославленной танковой дивизии?»
Мильдер отложил дневник в сторону. Ему было непонятно, почему рядовой солдат мыслил об этом более верно, чем некоторые военные руководители. «Да, мы недооценивали русские войска, — признался он сам себе. — Может быть, это и хорошо, когда солдат мыслит…»
2
Мильдера срочно вызвали на доклад к командующему, который прилетел из Борисова, — там теперь находился штаб группы армий. Командующий получил дальнейшие указания о ходе операции. По его мнению, методы ведения операции, которые оправдали себя на Западе, сейчас являются неверной «теорией» генерального штаба. Здесь, на Восточном фронте, основная задача — уничтожение живой силы противника, и этого можно достичь только созданием не гигантских «канн», а небольших «котлов».
Мильдер не смог сдержать своего восторга. Значит, его теория стадийной войны с великим государством была, по существу, признана фюрером.
Но командующий нахмурился.
— Я не разделяю вашего мнения, господин генерал. Уничтожение русских войск небольшими группами даст им возможность выиграть время и подготовить новые армии. Используя свои неисчерпаемые людские ресурсы, они будут создавать в тылу новые оборонительные рубежи.
Мильдер не разделял этой точки зрения, но, не желая вызвать недовольство командующего, не возразил ему.
Сегодня с утра Мильдер получил секретную шифровку, адресованную ему лично. В ней говорилось: «Ранее намеченная задача — к 1 октября выйти на линию Онежское озеро — река Волга — считается невыполнимой. Имеется еще уверенность в том, что к этому времени войска достигнут линии районов Москвы и Ленинграда».
3
Еще только вчера, читая дневник погибшего в бою шофера Фрица Кепкэ, Мильдер подумал, что солдату иногда невредно думать, а вот сегодня он вынужден отказаться от этой крамольной мысли. «Солдат, быстро и точно выполняющий приказы своих начальников, гораздо более подходящий образец воина для германской армии, чем мыслящий». И вот подтверждение: сегодня Мильдеру было сообщено, что в полку, которым командует подполковник Нельте, водитель танка Т-3, младший из братьев Кассэль, Эрнст, вел среди танкистов возмутительные разговоры. Он подвергал сомнению, сможет ли немецкая армия до начала зимы дойти до Москвы и захватить ее, он же хвалил русский танк — «тридцатьчетверку» и уверял, что в сравнении с ним немецкие танки ничего не стоят. Сомнения рядового танкиста Кассэля заставили задуматься Мильдера.
«Пожалуй, он прав… С ним нельзя не согласиться». Но все же, что делать дальше с младшим Кассэлем? Ведь он нарушил свой долг. Мильдер хорошо знал и высоко ценил смелость и самоотверженность танкового экипажа братьев Кассэль, и все же подобные разговоры дадут повод другим нарушать дисциплину. Служба тайной полиции рассматривает его заявление как выражение сомнений в планах фюрера. Он восхвалял боевую технику противника и унижал достоинство германской армии. «Да, Кассэля все же придется предать военно-полевому суду…»
4
Вечером к генералу пришел средний брат Кассэль — Курт. Он долго и настойчиво умолял о помиловании Эрнста. Видно было, он любил его. Курт рассказал генералу, что сегодня братья получили письмо из дому, родные сообщили, что у Эрнста родился сын. В честь отца его тоже назвали Эрнстом. «Он вырастет и будет славным танкистом, как его отец», — заверял Курт.
Мильдер пообещал побеседовать с Эрнстом и по справедливости разобраться. Но когда обнадеженный Курт скрылся за дверью, генерал повторил свое решение: «Солдат, осуждающий фюрера, перестает быть солдатом».
И Эрнста Кассэля расстреляли перед строем.
В боях экипаж двух братьев Кассэль и новый водитель вели себя нерешительно, о чем подполковник Баблер доложил Мильдеру. Но каково было удивление Баблера, когда генерал Мильдер приказал представить этот экипаж к награде, а обоим братьям присвоил звание сержантов.
Случай с Эрнстом еще раз убедил Мильдера, что солдату не положено мыслить. «Солдат, потерявший веру в то дело, за которое сражается, опасен для окружающих, как заболевший заразной болезнью. Когда зуб загнил, надо поскорее вырвать его, чтобы не потерять остальные», — записал Мильдер в своем дневнике.
5
Фрау Мильдер написала мужу совершенно неожиданную новость: племянница Эльза бежала из русского плена и вышла замуж за начальника карательного отряда полковника СС Фрица Нагеля. Жена восторгалась прекрасной партией Эльзы. Мильдера это крайне удивило. «Да, это действительно похоже на женщин. Они воскресают из мертвых, когда представляется случай выйти замуж… А Маргрет так рада за Эльзу, что даже ни словом не обмолвилась, когда и как отыскалась пропавшая без вести племянница».
Он вспомнил, как в январе 1941 года, на совещании у главнокомандующего сухопутных войск, их, генералов, ориентировали на то, что Германия в скором времени может начать войну с Россией. Обсуждалось много разных вопросов, связанных с войной. Возник вопрос и об увеличении численности армий. Откуда дополнительно взять в Германии мужчин среднего призывного возраста? Предложения были разные: за счет войск «союзных армий», а также за счет формирования в оккупированных странах особых национально-оккупационных войск под командованием немецких офицеров и генералов.
А Мильдер предложил призвать в армию немецких женщин. И вскоре подал в генштаб проект мобилизации. Из наиболее физически сильных и специально подготовленных женщин надо организовать охранные и конвойные батальоны. Вторую группу составят женщины связисты. А третью (по преимуществу молодежь) можно привлечь в авиацию и сформировать отдельные женские бомбардировочные полки или авиатранспортные бригады.
Мильдер был твердо уверен, что этот проект явится одним из надежных источников и стратегическим резервом для Германии. Но, к великому огорчению Мильдера, к его проекту отнеслись без всякого энтузиазма, хотя и признали, что в нем есть «определенные достоинства».
И, читая письмо, пахнущее домом, Мильдер вспомнил, как совсем еще недавно, в марте этого года, он был на именинах Эльзы. На ее груди красовался орден Железного креста второго класса, и он восхищался племянницей, пророчил ей блестящее будущее. Теперь ему было неприятно вспоминать об этом. Тогда ему казалось, что призванных в армию женщин, при соответствующем воспитании, можно заставить так же сражаться и умирать за фюрера и великую Германию, как и мужчин. А теперь он увидел, что женщины — люди другого склада, и природа их создала не столько для войны, сколько прежде всего для продолжения жизни. И это «открытие» весьма разочаровало генерала…
Глава девятая
1
Почти непрерывно трое суток шел бой на Днепре. Все перемешалось в этой ожесточенной схватке, и не понять, где свои, а где противник. Позиции и рубежи по нескольку раз переходили из рук в руки. Наши бойцы и командиры, оглушенные бомбежками и непрерывным артиллерийским обстрелом, обороняясь в лесисто-болотистой пойме Днепра, то и дело теряли ориентировку и нередко открывали огонь по своим.
Немцам удалось под массированным прикрытием авиации переправить на понтонах немного танков и пехоты. К утру, на исходе третьих суток, они навели паромную переправу. И все же, переправившись на левый берег, враг не смог дальше развить наступление и топтался на месте. Наша артиллерия приняла на себя всю тяжесть немецкого танкового удара, встречая его огнем в упор.
Только к вечеру четвертого дня шум боя стал заметно стихать и удаляться, перемещаясь к дорогам и приднепровским деревням.
К прибрежным оборонительным позициям прокрадывалась настороженная тишина. Она не предвещала ничего доброго. В левобережных лесах и оврагах враг скрытно накапливал силы, подтягивал артиллерию и производил перегруппировку, готовясь с часу на час снова возобновить наступление.
Участок обороны, который занимал полк Канашова, имел выгодные позиции на возвышенностях, поросших кустарником и молодым лесом, хотя пересеченная оврагами и заболоченная пойма Днепра затруднила управление войсками. Танковая дивизия Мильдера охватила канашовский полк и отрезала его от основных сил нашей дивизии и тылов. В связи с тяжелым положением Канашов приказал непрерывно вести разведку и усилить боевое охранение.
Перед рассветом возвратился с задания Андреев со своими разведчиками. Из его доклада Канашов понял, что противник начнет атаку этим утром. Командир полка решил навестить малочисленный первый батальон, которым командовал теперь командир минометной роты старший лейтенант Хорунжев, сменивший тяжело раненного Заморенкова. Канашов вызвал ординарца, и они поехали верхом на лошадях, но на полпути на участок обороны полка обрушился огневой налет вражеской артиллерий. Пришлось прервать путь и пересидеть в щелях третьего батальона, занимавшего оборону в сожженной деревне и прилегающих к ней высотах.
Вскоре после артиллерийского налета немцы повсеместно перешли в атаку. Канашов сразу отметил, что действуют не одни танки, как прежде, а с десантом автоматчиков. Если бы полк имел побольше минометов, то можно было быстро отсечь автоматчиков от танков, но в полку оставалось всего лишь пять минометов: два полковых и три батальонных, а главное — на полковом пункте боепитания оставалось очень мало мин.
Канашов доложил командиру дивизии о начале атаки и просил помочь артиллерийским огнем. Он опять вспомнил о первом батальоне и решил позвонить, как там идут дела, но телефонист сам позвал его к аппарату. Канашов взял трубку — и сразу лицо его помрачнело.
— Только что убит Хорунжев, — сообщил лейтенант Хвощев.
— Принимайте командование, товарищ лейтенант, — приказал Канашов и положил трубку. Потом поднес к глазам бинокль и стал наблюдать за полем боя. Противник вклинился в центре полка. «Понятно, комбат убит, управление потеряно». Канашов приказал командиру поддерживающего дивизиона дать сосредоточенный огонь на стыке первого и второго батальонов.
— Сам знаю, что мало у тебя «огурчиков» (огурчиками условно называли снаряды), но ты хоть один огневой налет сделай. Если расколют оборону полка, тогда их не сдержишь…
Канашов особенно тревожился за первый батальон, и он снова позвонил туда.
Следом позвонили из второго батальона и сообщили, что вражеская атака отбита. «Хорошо, — повеселел Канашов. — Мне бы только восстановить положение в центре полка…»
Майор Харин передал Канашову по телефону, что в полк на рассвете должен прийти маршевый батальон.
Командир полка положил трубку, подошел к амбразуре; прямо на его наблюдательный пункт с грохотом и лязгом шли несколько немецких танков. «Откуда они взялись?» — удивился Канашов.
Немецкие танки настойчиво приближались и вели огонь с ходу. Земля дрожала под их тяжестью. Теперь их было уже не пять, а восемь. «Ничего, — успокаивал себя Канашов, — мои артиллеристы встретят их».
Обстановка с каждой минутой усложнялась. Немецкие танки неожиданно изменили первоначальный курс и пошли правее наблюдательного пункта. Вражеские танкисты намеревались выйти лощиной в лес, наполовину уничтоженный огнем немецкой артиллерии, не зная того, что за лесом, расположилась в засаде наша танковая рота, присланная комдивом для усиления полка. Надеясь на танковый заслон, Канашов взял один взвод из роты Миронова для обороны своего НП. Взвод привел на НП парторг полка старший политрук Хромаков. Он доложил с тревогой в голосе Канашову, что по пути видел, как немецкие танки смяли и без того поредевший первый батальон…
— А где же наша танковая рота? — резко повернувшись к Бурунову, спросил Канашов. Комиссар полка, недоуменно пожав плечами, отвечал:
— Как бы немецкие танки не прорвались и сюда, на НП. Тогда полк может дрогнуть, попятиться перед танками.
— Как думаете, — предложил спокойно Хромаков, — не вынести ли полковое знамя на высоту с кустарником? Там его весь полк будет видеть. Надо остановить гитлеровцев, и тогда мы всем полком перейдем в контратаку.
Комиссар вопросительно посмотрел на командира полка.
— Правильно, — согласился Канашов. — Иди, Хромаков, организуй группу и выноси знамя. Бурунов останется здесь, а я — в первый батальон. Там дела плохи. Если немцы прорвутся опять в стыке — расколют оборону, как орех. Остановим немцев — подыму батальон и танковую роту в контратаку и ударю им во фланг.
Бурунов молча кивнул головой. Канашов ушел, а комиссар занялся наблюдением за полем боя. Совсем близко он услышал угрожающий лязг гусениц: из-за поворота дороги, огибающей редкий лес, показался танк. «Наши танки! — чуть не вскрикнул от радости Бурунов. — Откуда они?» Его тотчас позвали к телефону. В трубку кричал Канашов:
— Ты что наделал, комиссар? Зачем выпустил танки из засады? Ведь их сейчас уничтожат! Ты гляди, их обходит немец с флангов… Как не ты приказал? А кто же? Это же преступление! Передай мой приказ по рации, чтобы отошли немедленно на прежние позиции! — надрываясь, кричал Канашов.
Бурунов безнадежно глядел в амбразуру: возвращать танки было поздно. Вырвавшись на равнину, они попали под фланговый огонь вражеских машин. Три наших танка сразу запылали дымными кострами. Два других продолжали вести неравный бой, отстреливаясь и медленно отходя.
В этот момент на наблюдательном пункте полка появился Русачев.
— Черт возьми, поторопился я, — сказал он сокрушенно, показывая на танки.
На наблюдательный пункт полка бежали с криком вражеские автоматчики. В стыке батальонов танки прорвали оборонительный участок. Что делать? Где же Канашов? Русачев попытался связаться со штабом дивизии, но штаб молчал. Немецкие автоматчики окружали наблюдательный пункт, пытаясь, по-видимому, захватить всех в плен. Комиссар приказал связным и ординарцам приготовиться к бою. Теперь они были отрезаны от главных сил полка, и неоткуда ждать помощи.
Но вдруг донеслось «ура». Бурунов бросился в ход сообщения и огляделся. С опушки леса бежала наша пехота, и ее контратаку поддерживали огнем два танка. Комиссар решил было, что это провокация немцев: они нередко переодевались в красноармейскую форму. Но стрельба вражеских автоматчиков сразу ослабела. И тут Бурунов увидел лейтенанта Миронова, бегущего впереди контратакующих бойцов. Немцы дрогнули и побежали к Днепру. Контратакующая рота стремительно преследовала их.
Из редкого леса опять показались немецкие танки. Их было много. Наши танки отошли в неглубокий овражек, откуда были видны только их башни с орудиями. Под прикрытием их огня рота Миронова начала отходить. Вражеские машины приближались. Наши танки открыли огонь в упор и сразу же подожгли несколько немецких машин. Теперь хорошо было заметно численное преимущество врага.
Рота Миронова еле достигла опушки леса, когда по ней открыла огонь вражеская артиллерия. В минуту наибольшей опасности воля командира овладевает бойцами с поразительной быстротой, побуждая их к самым активным действиям. Миронов подал команду: «Ложись!» Бойцы спешно заработали лопатами, долбя сухую, твердую землю. Лейтенант всматривался, стараясь разгадать, что произошло на поле боя за то время, пока они отходили. Там, где всего полчаса назад горела и дрожала земля от разрывов снарядов и мин, а вода Днепра кипела от пулеметных очередей и в смертельной ярости сшибалась в рукопашной схватке наша и вражеская пехота, все вдруг прекратилось, куда-то сразу исчезло. И только за лесом, как отголоски далекого боя, доносились взрывы, шум моторов и металлический лязг гусениц.
Опытному боевому командиру гораздо проще ориентироваться в неумолкаемом грохоте и хаосе боя, чем в наступившей вдруг тишине.
Тревожное чувство овладело Мироновым, когда он осматривал это мертвое поле боя, изрытое глубокими язвами разорвавшихся снарядов, усеянное трупами, пропитанное угарно-сернистым, тухловатым запахом. Где же противник? Где наши войска? Куда все исчезло?
И вот на опушке редкого, искалеченного, обезображенного артиллерией леса взвилось и заиграло пламенем неизвестно откуда взявшееся знамя полка. «Что бы это значило?»
И сразу же к знамени устремились взоры всех тех, кто па этом мертвом поле боя еще был жив, но, оглушенный и придавленный шквалом артиллерийского огня, лязгом гусениц танков, запрятался, замер.
Высокий командир держал плещущее под порывами ветра знамя, зовущее вперед. Это был старший политрук Ларионов. К знамени со всех сторон бежали бойцы — так стекаются маленькие родники, ручьи и реки к морю. И вот уже не видно знаменосца, а только над взбудораженным, мощным людским потоком летит, распластавшись, огненно-каленое знамя.
И снова бойцы, увлекаемые могучим порывом, бросились вперед в контратаку и снова потеснили немцев к реке.
В это время Канашов поднял первый батальон и присоединился к контратакующим.
Бурунов наблюдал за полем боя, и сердце радостно билось в его груди. «Вовремя, Иван Андреевич, о знамени напомнил… И как это я о таком деле запамятовал?» — укорял он себя.
Вдруг он увидел, как Ларионов рухнул на колени, и обе руки его, скользя по древку, стали медленно съезжать вниз.
«Ранен! — мелькнула мысль. — Надо поскорее вынести». Он тут же распорядился оказать помощь парторгу, посмотрел и увидел, что знамя по-прежнему продолжает пламенеть, развеваясь по ветру. И это вновь придало ему душевное равновесие и уверенность, что немецкое наступление удастся сорвать.
Русачев, вызванный по телефону Хариным, уехал в штаб дивизии.
А Бурунов снова поднес к глазам бинокль, наблюдая за боем. Он видел, как немцы накапливались на опушке, где стояли их танки. Необходимо предупредить Канашова. Но телефонная связь порвана… Послать связного? Успеет ли? Сейчас немцы навалятся огнем артиллерии, потом бросят в атаку танки.
Весь берег покрылся черными кустами разрывов от вражеских снарядов. Немецкие танки развернулись с опушки леса и двинулись в новую, трудно даже подсчитать, какую по счету атаку.
После контратаки рота лейтенанта Миронова понесла большие потери. Бурунов отдал распоряжение отвести ее во второй эшелон к командному пункту в лощине с кустарником.
И тут Миронов получил новый приказ от старшего лейтенанта Андреева — он только один уцелел из штаба полка:
— Товарищ Миронов, немедленно собирайте роту и сосредоточьте ее для контратаки вот здесь, на той же опушке, — показал Андреев на карте. — Там еще действуют наши два танка. Немцы отрезали наблюдательный пункт командира полка, где остался управлять боем комиссар Бурунов. Они могут захватить всех в плен.
С бойцами, оставшимися от роты, Миронов направился на поляну — разыскивать наши танки. Вскоре они вышли на опушку леса — рубеж контратаки. Навстречу им вылетела линейка, запряженная парой буланых коней. Линейка остановилась около Миронова. В ней лежал с забинтованными ногами Канашов, Рядом с ним, поддерживая санитарную сумку, служившую подушкой, сидела Таланова. Голова ее тоже была забинтована, и на белоснежной марле выступали пятна крови. Превозмогая боль, Канашов приподнялся на локтях.
— К командному пункту прорвались танки! Там полковое знамя… Лей-те-нант, спасай-те зна-а-мя, — задыхаясь, проговорил он, и голова его бессильно упала на сумку. И это прозвучало повелительно и безоговорочно: «Умри, а выполни приказ…»
3
Потеряв много времени на розыски Талановой, Жигуленко возвращался в штаб дивизии.
Боевая обстановка усложнилась до предела. Всюду шумели моторы прорвавшихся немецких танков. Жигуленко трижды обстреляли просочившиеся в расположение нашей обороны немецкие «кукушки». «Поздно я поехал за Ляной. Надо было сделать это с утра. Теперь где я разыщу Харина, чтобы взять направление на учебу?» Чем ближе подъезжал Жигуленко к штабу, тем яснее сознавал свою ошибку. Говорит же русская пословица: «За двумя зайцами погонишься…» Утром в этот день Евгению долго пришлось уламывать начальника отделения кадров, чтобы тот отдал приказ о возвращении Талановой в медсанбат. Видно, Харин препятствовал этому, но Жигуленко добился согласия начальства на перевод. «Эх, попадись он мне на узкой дорожке!.. Он, подлец, намеренно затянул с документами. Ведь вчера вечером можно было все сделать. А сейчас неразбериха такая… Отовсюду стреляют немцы, неизвестно, что с нашими полками. Где Русачев?» Жигуленко, сидя на коне, осматривался.
А в это время в штабе Харин и Поморцев уговаривали Русачева немедленно уезжать на машине. К лесу, где располагался командный пункт дивизии, просочились немецкие автоматчики.
Услышав от Харина, что Жигуленко поехал за Талановой, Русачев рвал и метал, как разъяренный зверь. «Так вот он, каков гусь! Притворился, подлец, а сам по-прежнему бесстыдно обманывает дочь и меня. Пусть только вернется, я ему устрою отъезд… Немедленно прикажу отправить на передовую. Пусть там кровью искупит свою вину». Ему сообщили неприятную новость, что командир полка Муцынов убит, а Буинцев ранен.
Горестные размышления Русачева прервал близкий треск вражеских автоматов.
Харин подбежал к Русачеву.
— Садитесь в последнюю машину. Она везет документы штаба. Нельзя ждать ни минуты.
Русачев в ярости, не помня себя, двинулся на Харина:
— Ты предлагаешь мне ехать в какой-то коробке с пыльными бумагами! На коне всю гражданскую воевал, на коне и теперь не пропаду.
Ординарец тут же подал коня, и, не попрощавшись, ни с кем, два всадника скрылись на бешеном галопе, растаяв в клубах пыли.
Спустя полчаса стало известно, что Русачеву не удалось далеко ускакать. Ординарец убит наповал немецкой «кукушкой», а тяжело раненный Русачев лежит, придавленный убитой лошадью, неподалеку от опушки леса.
Харин посылал трех бойцов, одного сержанта, писаря штаба и лейтенанта — офицера связи выручить Русачева, но к комдиву нельзя было приблизиться — немецкие «кукушки» закрыли все выходы к дороге у опушки. И все посланные были убиты.
Как раз тут-то и появился Жигуленко. Харин набросился на него.
— Это твои шашни с Талановой погубили комдива!
— Иди ты знаешь куда! — крикнул ему Жигуленко.
Неизвестно чем кончился бы этот спор, если бы не появился комиссар дивизии Поморцев. И тут у Харина созрел план.
— Товарищ полковой комиссар, — сказал он, — у меня нет подходящих людей, кто бы мог добраться до тяжело раненного Русачева. Пусть это сделает Жигуленко. Ведь он адъютант.
Поморцев неохотно поддержал Харина.
— Как вы думаете, товарищ старший лейтенант? — обратился он к Жигуленко. — Жизнь Русачева действительно в опасности… Мы теперь наверняка очутились в окружении. Попытайтесь спасти комдива.
Жигуленко взглянул на опустошенную опушку, где за едва различимым бугром крупа лошади лежал Русачев. «Он, может, еще жив, нуждается в помощи. Его нельзя оставлять на растерзание врагам!» Жигуленко повернулся к Поморцеву, подчеркивая этим свое пренебрежение к Харину, и ответил:
— Я выполню ваш приказ, товарищ комиссар!..
Быстро сняв новое снаряжение, он вложил по ручной гранате в карманы брюк, а пистолет поставил на предохранитель. Перебегая от одного дерева к другому, Жигуленко приближался к опушке. Все кругом зловеще молчало. Только где-то далеко распарывали воздух автоматные очереди, и это было похоже на то, будто кто-то рвал огромные простыни.
Постепенно деревья редели. Жигуленко остановился, отдышался. «Зачем я прячусь за деревьями? Ведь никто по мне не стреляет». Он вышел из-за толстой сосны и, пригибаясь, пошел. Оголенная опушка, небольшие пеньки да высокая трава. До Русачева оставалось метров триста. И тут Жигуленко показалось, что Русачев пошевелился. «Значит, жив…»
Тогда Евгений кинулся бежать к нему, но хлесткая автоматная очередь ударила рядом. Жигуленко упал на землю, затаился. И вдруг его охватило чувство безнадежности и отчаяния. Он ясно ощутил, что все это делает напрасно. И сразу Евгений почувствовал себя беспомощным, жалким перед одинокой немецкой «кукушкой». К чему ему гранаты? Они только мешают ползти. Теперь вражеская «кукушка» сделает все, чтобы помешать ему добраться до комдива. «Зачем я ползу туда? Может, Русачев уже умер. Неужели и мне надо губить молодую жизнь из-за никому не нужного трупа?» Мысли его вернулись к Ляне. «Возможно, она уже в штабе. Конечно, не может же она не выполнить приказа. Надо вернуться, разыскать ее и уходить отсюда без оглядки».
Жигуленко повернулся и пополз назад. И снова совсем рядом ударила автоматная очередь, срезая траву и цветы. Жигуленко понял: вражеский автоматчик не только наблюдает, но и охотится за ним. «Если я поползу обратно к своим и он убьет меня, наши поймут, что я струсил, отказался выполнять приказ».
Эта мысль обожгла, точно удар кнута. Евгений повернулся и опять пополз к комдиву. Немецкая «кукушка» молчала. «Может быть, немец не видит меня в густой траве?» Жигуленко сделал короткую остановку, вытер капли пота со лба и снова пополз вперед. И вдруг что-то его остановило. «И чего я ползаю здесь? Зачем? Предположим, доберусь до него благополучно. Ну, а дальше? Как вынесу его, тяжело раненного, когда он находится под наблюдением и обстрелом немецкой „кукушки“? Снайперская пуля может просверлить мою голову — и тогда все… все…»
И снова тело Жигуленко охватило леденящее чувство страха. Он лежал, не в силах сделать ни одного движения. Все вокруг безмолвствовало. Небо заволокло мрачно-грязными тучами. Война распугала птиц, осиротели леса, и только изредка, нарушая тишину, скрипел кузнечик.
Жигуленко поглядел на часы. «Может, дождаться темноты? Как эта разумная мысль не пришла раньше? Точно, я не двинусь до вечера. Поморцев и Харин, конечно, к этому времени уйдут».
И вот, когда уже, казалось, он нашел спасительный выход, сзади зашуршала трава, опять хлестнула автоматная очередь, и чей-то короткий предсмертный крик раздался рядом. «Значит, Харин и Поморцев не ушли. Они посылают новых людей на помощь комдиву. А если сейчас доползут до меня и увидят, что я цел и невредим, нехорошо получится…»
Эта мысль заставила Жигуленко двинуться вперед. Теперь он полз быстро, без передышки. «Будь что будет! Если комдив действительно убит, я, дождавшись темноты, уйду с чистой совестью».
И вот Жигуленко дополз до Русачева. На него глядели стеклянные мертвые глаза. Из полуоткрытого рта на щеку полз кровавый жгут. «Убит! А я рисковал жизнью!» Жигуленко взглянул на упрямый подбородок Русачева, на суровое выражение лица и невольно вспомнил недавний разговор с комдивом. Да, это была его точка зрения на современную войну.
«Ты думаешь, я из книг это вычитал, — говорил он, — или сам взял да выдумал? Нет, дорогой!.. Эта теория не только моей, а и кровью многих писана в годы гражданской войны. Наша страна — махина, не какой-то там Люксембург. Просторы у нас необъятные, а дорог мало. Полгода зима одна. А осенью, весной из грязи ноги не вытянешь. А конь, он что солдат, везде пройдет. Вот придет осень, пойдут дожди, а там и снегу подвалит. Конники тогда еще себя покажут. Конь в истории не раз выручал человека на войне». Но вот Русачев лежит — не спас его быстрый конь. Жигуленко чуть приподнял голову, огляделся. Метрах в двухстах виднелась яма. «Туда — и ждать дотемна!» — решил он, Евгений вскочил и кинулся к яме. И совсем на краю ямы в голову и спину ударила автоматная очередь.
…Из ямы, заросшей густой травой, торчали два сапога. Они привлекли внимание сидевшего на сосне гитлеровца. Автоматчик хозяйским глазом определил номер трофейных сапог. Повесив автомат на шею, вынул блокнотик, где аккуратно вписывал «личные трофеи», и под шестнадцатым номером в графе «обувь» сделал пометку: «Новые хромовые сапоги, номер 40–41».
Глава десятая
1
Потеряв почти всех бойцов роты во время контратаки и артиллерийского налета, Миронов жил теперь одним желанием — спасти знамя полка во что бы то ни стало. Вначале ему казалось, что выполнить приказ Канашова нетрудно. Вот и просека, которую расчищала его рота для контратаки; вот и одинокая высотка с поляной, обрамленной молоденькими березками, где похоронены боевые друзья, погибшие в сражениях за Днепр. Теперь надо взять чуть левее. Еще метров пятьсот-шестьсот, и он будет у цели. С берега доносились одиночные винтовочные выстрелы и автоматные очереди. «Это наши подразделения ведут бой. Значит, мы еще здесь не одни».
Навстречу ехал всадник. В нем Миронов узнал майора Харина, который выговаривал ему на Днепре за медленное оборудование позиций. Харин резко осадил коня и удивленно уставился на Миронова. Лицо Харина бледно, ноздри раздувались.
— А-а, мое почтение, командир роты… Ты чего здесь разгуливаешь, лейтенант? Кругом немцы. Попадешь в плен… Говорят, Канашов убит?
— Он тяжело ранен в ноги… Я выполняю его приказ, товарищ майор, — ответил Миронов. — Мне приказано отыскать знамя полка.
— Канашов — растяпа, — произнес Харин, облизывая нервно губы. — Ведь надо же, потерял знамя!..
— Не мое дело судить.
— Да вы, товарищ лейтенант, служака… Ну что ж, в добрый час! Действуйте!
Майор пришпорил коня и поскакал галопом. Миронов повел бойцов к командному пункту. Стрельба приближалась.
Было слышно, как хлещут пули, срезая ветви и обрывая листья, звенят, отскакивая рикошетом от металлических обломков, разбросанных повсюду. С нашей стороны артиллерия отвечала торопливыми выстрелами, ведя огневой бой с танками.
Он увидел, что по дороге его бойцы вели и несли своих тяжело раненных товарищей. «Куда же делся сержант Правдюк?» Миронову стало как-то не по себе. «Может, и действительно майор Харин прав?… В такой обстановке и в плен угодить нетрудно». Он почувствовал, как по спине забегали мелкие, холодные мурашки. «Но что делать?»
И только он свернул с дороги в лес, твердо решив найти кого-либо из бойцов роты, — а там видно будет, что делать дальше, — как ему навстречу вышла группа человек двадцать пять. Впереди шел политрук роты Хромаков с забинтованной головой.
— Вот собрал, кто остался из наших, — сказал он, морщась от боли и поправляя съезжающую на глаза повязку. — И Полагута сейчас еще приведет молодых бойцов из нового пополнения. Забрались в овраг, сбились в кучу, как цыплята, потеряв квочку, и сидят, не знают, что им делать. А где же твои помощники?
— Двоих миной на куски, а один контужен… Я его на медпункт отправил.
Хромаков тронул Миронова за плечо и кивнул головой в сторону. Они отошли от группы бойцов на высотку.
— Давай посоветуемся, что делать нам. Знамя надо найти…
— Знаю, что надо, — с досадой сказал Миронов. — Но ты же видишь, что творится…
На опушке леса разорвались несколько снарядов, и завывающие на все голоса осколки пронеслись над головой.
Миронов пристально всматривался, пытаясь сквозь редкие деревья увидеть, что делается на противоположной опушке. Шум боя, нарастая, уходил севернее. Там проходила шоссейная дорога. В том же направлении удалялся гул вражеских танков.
— Прорвались на шоссе, — сказал Миронов. — Теперь они отрежут нас здесь…
— Вот и хорошо, — сказал Хромаков. — Здесь, в лесу, остались у немцев только мелкие группы автоматчиков.
Миронова будто окатило ушатом холодной воды.
— Да ты что? Чего же ты нашел хорошего? Ведь мы можем попасть в плен…
— Можем… Можем, если башка не сварит…
«Тоже мне стратег нашелся», — с неприязнью подумал Миронов.
— Но ты получил приказ найти знамя. Давай думать, как нам его выполнить. Ты не только командир, но и комсомолец…
Миронова обидело такое напоминание политрука, но, с другой стороны, оно будто влило в него новые силы.
— Ладно, сам знаю, что мне делать, — сказал он и пошел к бойцам.
Хромаков окликнул его, подошел и загородил дорогу.
— Подожди, не торопись… Давай бери с собой несколько хлопцев, я возьму группу и прикрою подходы от оврага к командному пункту, а вон эти тропинки к поляне — Полагута с молодняком.
Миронову понравился план Хромакова. План этот без всяких тактических премудростей обеспечивал главное — поиски знамени.
— Найдешь знамя, уходи, а я прикрою твою группу от немецких автоматчиков…
— Ладно. Давай только быстрей. — Миронов крепко пожал руку Хромакову. — Ну, я пойду…
— Возьми с собой младшего сержанта Головенко. Он коммунист.
Миронов отобрал четырех бойцов, старшим назначил Головенко, и они направились к командному пункту.
Теперь в нем жила одна мысль и цель — во что бы то ни стало найти знамя полка…
2
Андрей Полагута получил задачу от Миронова перехватить с группой бойцов две тропинки, идущие через поляну к командному пункту. Расставив бойцов попарно в засаде, Андрей вел наблюдение за противником.
Душу его бередила тревожная мысль: «И здесь не устояли, опять отходим… До каких же пор?» Враз нахлынули воспоминания об Аленке, детях, доме.
Каждый раз, отходя на новый рубеж, Андрей надеялся, что если не удалось остановить врага на оставляемых позициях, то это будет непременно где-то на новом рубеже обороны. И потому в сердце его постоянно теплилась надежда. Были у него, как и у всех людей в те тяжелые дни отступлений, минуты колебаний, но они не в силах были сломить его могучего духа. Но и здесь, на Днепре, вопреки его надеждам дивизия не смогла остановить врага — он прорвался, форсировав мощную водную преграду, и терпение Андрея иссякло. Он почувствовал вдруг, что его охватывает незнакомое ему до этого чувство отчаяния. Дальше рубежей, подобных Днепру, по его представлению, не было.
И именно в эту минуту отчаяния к нему вдруг пришла, как ему казалось, спасительная мысль: надо стараться заманивать врага глубже в лес и уничтожать его в рукопашном бою. Тут он не развернется с танками, ослепнут его самолеты. В рукопашном бою может проявиться вся сила и широта русской натуры. Андрей обрадовался этой мысли и одновременно огорчился тем, что она пришла к нему так поздно. «И зачем мы связывали свои боевые действия с дорогами, высотами, рубежами?»
Его размышления прервал обстрел вражеской артиллерии. На опушке разорвался снаряд с сухим треском, и осколки прожужжали над головами. Два бойца, лежащие рядом, разом пригнулись, будто чья-то невидимая добрая рука, оберегая их от неминуемой гибели, наклонила к земле. Это были новички — необстрелянные бойцы из нового пополнения. Они беспокойно поискали глазами более надежное укрытие. Андрей перехватил их взгляды. Крикнул:
— Ни шага назад — убью! Понятно? — и для большей убедительности поднял кулак.
В бою Андрей сражался упорно. А при вынужденном отходе с глубоким разочарованием говорил: «Эх, не устояли, опять отходим…»
До Полагуты донеслись крики немецких солдат, бегущих в атаку. Андрей плотно сжал губы и, вскочив, ударил прикладом кинувшегося ему навстречу врага. Немецкий солдат кубарем отлетел в сторону.
— За мной! Вперед, хлопцы! — крикнул охваченный боевым порывом Полагута. — Бей гадов!
По лесу рассыпалась хряская, холодящая сердце дробь автоматов, и Полагута словно споткнулся. Винтовка выпала из рук. Новохатько и Еж подбежали к нему. Андрей поднялся, шатаясь, попытался бежать вперед и опять тяжело свалился на землю. Оглядываясь по сторонам, Еж увидел вражеских автоматчиков: они перебегали, полусогнувшись за кустами, прятались за деревьями. Новохатько склонился над распростертым телом Полагуты.
— Брось меня!.. — превозмогая боль, проговорил Полагута. — Уходите… Немцы схватят… — Он достал из сумки две гранаты и положил под руку.
Новохатько прибежал на крики — туда, где в рукопашной схватке дрались наши бойцы.
Полагута лежал, широко раскинув руки на траве. На выцветшей гимнастерке проступали бурые пятна крови. Он устало глядел на голубые прогалинки неба, открывающиеся ему сквозь плотно сплетенные ветви елей, и жадно вдыхал перегретый солнцем воздух с запахом душистой смолы. Лишь изредка слух Андрея тревожили выстрелы, звонкие голоса. Потом и они заглохли.
…На рассвете подобрал его колхозник из соседней деревни, увидевший, что в человеке еще теплится жизнь. Жалко стало ему этого простого русского парня. Привез он его домой, спрятал в старой, заброшенной бане и стал отхаживать.
3
Миронов торопливо осматривал блиндажи командного пункта полка. Нелегко здесь, в этом хаосе, среди трупов и каких-то разбитых ящиков, разыскивать полковое знамя.
Немецкие автоматчики яростно рвались к командному пункту. Группа прикрытия, возглавляемая Полагутой, не смогла сдержать их, и вот они одиночками стали просачиваться со стороны поляны.
Миронов направил туда младшего сержанта Головенко с одним бойцом. Головенко забрался на могучую сосну, с которой ему видна была вся поляна, и, как только появлялись немцы, обстреливал их короткими очередями из захваченного трофейного автомата. Его напарник, ползая, собирал немецкие автоматные обоймы и поставлял их младшему сержанту.
Группа Хромакова надежно прикрыла все подступы со стороны дороги, идущие из лесу на командный пункт. Вот уже больше часа Миронов разыскивал знамя, но никаких признаков его не обнаружил.
«Может, знамя кто-либо уже взял?» Его начали одолевать сомнения. «Не напрасно ли мы теряем людей и время?»
Немцы почувствовали, что русские не хотят уходить, и наседали еще упорней. После каждой отбитой их атаки они обстреливали еще яростней район командного пункта. Миронов решил прекратить поиски и послал связного к Хромакову, чтобы тот отходил.
Вернувшийся связной передал, что политрук спросил: «Нашли знамя?», и, когда связной сказал, что нет, он ответил, что не уйдет отсюда с бойцами, пока не отыщут знамя.
Это упорство политрука влило новые силы в Миронова. От сомнений, которые владели им еще несколько минут назад, не осталось и следа. И он снова принялся разыскивать, ворочая ящики, обломки бревен. Теперь в душе его шевелилась надежда, она подсказывала, что нельзя уходить отсюда, не осмотрев еще раз все тщательно. Вдвоем с солдатом, с трудом растащив тяжелые бревна накатника, они наткнулись на-расщепленное древко от знамени. Древко было изрезано и побито осколками и пулями. Миронов извлек его из-под обломков с земли.
Рядом прошипел снаряд и, разорвавшись, выкорчевал с корнем сосну. Совсем недалеко разорвалось несколько мин, и трое бойцов упали, сраженные насмерть. «Может, бросить поиски?» — тревожно осматриваясь по сторонам, подумал Миронов. Но тут же вспомнил и политрука и Канашова. «Умри, а выполни приказ», — повторил он. Древко нашли — значит, и знамя здесь. Миронов торопливо обшарил трупы лежавших поблизости бойцов. И вдруг он увидел знакомый уголок защитного цвета. Он высовывался из скатки убитого бойца. Руки дрожали от радости, когда Миронов вытаскивал чехол знамени.
Да, это было знамя полка! Миронов быстро снял пояс, приподнял гимнастерку и обмотал знамя вокруг тела. Тепло стало на душе при мысли, что знамя спасено, приказ выполнен. Можно было начинать отход. И тут Миронов заметил: его обошли две группы вражеских автоматчиков. «Неужели погиб Хромаков и Головенко? Где Полагута? Как же я остался один?»
А вокруг зло, будто осиный разоренный рой, жужжали пули. Острой болью ожгло голову, пронзило левую руку, в глазах замельтешили деревья, земля выскользнула из-под ног, и Миронов упал…
Глава одиннадцатая
1
Шел Кондрат Мозольков в родное село лесными знакомыми тропами, подальше держался от больших дорог и сел, сторонясь людей, как лесной зверь.
С рассветом решил переехать Днепр. Но нигде не было видно рыбачьих лодок — должно быть, их угнали немцы. Дед нашел несколько бревен и весь день до вечера мастерил плот, перевязывая кругляши телефонным кабелем, что бросили наши отходящие войска. Измученный вконец, он прилег отдохнуть тут же неподалеку от берега, заросшего кустарником и молодыми деревьями.
Ему приснилось, что он уже столкнул плот на воду и собирается отчаливать, вдруг появилась его внучка — Аленка. Она принесла ему любимых пирожков с вишнями. Кондрат усадил ее на плот, уперся шестом в берег, и тут его кто-то схватил за рубашку сзади. Он с досадой замахнулся шестом — и проснулся.
— Руки вверх! — скомандовал петушиный голос подростка.
Дед потер кулаком глаза, сел. Вот диво: с обеих сторон на него направлены винтовки. Два мальчика: один лет двенадцати, без шапки, веснушчатый, белобрысый, с темными, не по-детски серьезными глазами; другой постарше — лет пятнадцати, в красноармейском обмундировании, в большой, не по голове, пилотке, гимнастерке и шароварах; он плотно сжимал губы, и его смешные лопушиные уши чуть вздрагивали.
— Эй, хлопцы, бросьте баловать, — приказал дед, — опустите винторезы, а то друг друга побьете.
Кондрат попытался встать, но его остановили требовательные ребячьи голоса:
— Сидеть! Ни с места!
Кондрат пожал плечами.
— Та что вы, хлопцы, сдурели, чи шо? Что я вам, злодей какой аль фашист?
— Может, и фашист, — бросил один из них. — Покажь документы.
— Какие такие документы? — спросил дед.
— Брось дурнем прикидываться! — ответил тот, что постарше.
— Паспорт давай…
— Нет у меня паспорта, — ответил дед. — Беспаспортным живу. Никому я не нужен.
Мальчишки недоверчиво переглянулись.
Старший верховодил.
— Кто таков будешь? Куда идешь?
— Не здешний. А иду далеко, отсюда не видно.
— Оружие есть?
— Да на что мне оно, оружие-то? — удивился дед.
— Выворачивай карманы.
Кондрат послушно вывернул карманы. А в душе вдруг закипело негодование: «Вот щенки, молокососы!.. За кого они меня принимают?»
— Может, исподники снять? — язвительно спросил он. — Поглядите, нет ли там у меня какой пушки?
Ребятишки рассмеялись, А потом все тот же старший произнес солидно:
— Ты нас не смеши, дед. Тут дело серьезное.
Старший подмигнул другому, и раньше чем Кондрат успел сообразить, меньшой подскочил к нему, схватил его мешок — и в кусты. Дед пытался было встать, но его остановил все тот же окрик старшего:
— Застрелю, дед! Не двигайся с места!.. Витька, осмотри мешок.
Младший развязал мешок. Вскоре послышался его тонкий голосок:
— Подозрительного ничего. Вот разве топор…
— Эх вы, вояки! — укорял дед. — Напали вдвоем на старика. Герои!..
— Ладно, ладно, дед, помолчи, — сказал старший. — Мы еще выведем тебя на чистую воду. Если ты не здешний, то зачем плот срубил? Куда плыть собрался?
— К немцам в гости норовил, — ответил Кондрат, сердито сплевывая. — Вот дурачье-то, прости господи!
— Вставай! — приказал старший, — Пошли!..
— Куда это еще?
— Увидишь. Пошли, пошли.
— Может, расстрелять меня затеяли? — насмешливо прищурил глаза дед. — Да я вас, сукины дети, обоих топором побью! — крикнул он, выходя, наконец, из терпения, и кинулся к своему мешку.
Младший бросился наутек, оставив винтовку: уж больно неожиданным оказался для него этот «маневр» деда. А старший не струсил, щелкнул затвором винтовки. Тут уже шутки плохи. И дед покорно последовал под конвоем двух ребятишек. Младший нес дедов мешок.
Так они пришли к оврагу, заросшему густым кустарником, где скрывались от немцев пять раненых бойцов. Их подобрали на поле боя эти ребята-беженцы, которых сдружило общее горе.
Раненный в обе ноги Барабуля с трудом поднял голову и пристально вглядывался в пришедших.
— Здорово, дед! А ведь мы, кажись, с тобой встречались… Постой, постой… — Он морщил лоб, стараясь, припомнить. — Не ты ли наш полк под Минском из окружения выводил?
— Это там, где меня за предателя чуть не кокнули? Ну и везет же мне! Вот так всю жизнь. В какую острую перепалку ни попаду, тащут к стенке расстреливать. А разберутся — на руках готовы носить и орден сулят. Канашов у вас командир, что ли?
— Канашов, дед, Канашов.
— А где полк ваш?
— Не повезло нам, дед. Растрепали нас. Может, и Канашов погиб. С чем воевать, с голыми руками? Танков бы нам, дед, да самолетов — показали бы немцу, где раки зимуют…
— Показали, показали… Хвалиться все вы умеете! А чего же пустили немца сюда? Нету пороху у вас еще, братцы, показывать ему. Мало вам немец насолил. Вот еще поддаст жару, может, драться будете злее. Не надейтесь, сукины сыны, на то, что страна велика. Родную землю отдаете врагу. Сегодня немец, лютуя, мать или батька растерзал у Ивана в Белоруссии, а завтра и до твоих, что в Московской области, доберется. Башкой это соображать надо…
— Ладно, дед, не посыпай солью раны. И так сердце жгет, наизнанку выворачивает…
— Да я не в укор тебе, а по справедливости. Мне бы годочков двадцать сбросить, я бы показал вам, как русские люди врагов встречают. Да и сейчас, видать, не усидеть мне на печке. Не одному еще супостату сыграю отходную…
Так и не пришлось старому Кондрату исполнить свое намерение — повидать кое-кого из родных да найти в лесной глухомани уголок, где бы дожить спокойно последние дни до смерти. Надо было помогать тяжело раненным. А дед знал целебные травы, излечивающие раны.
2
На другой день, на рассвете, дед Кондрат, вместе с двумя своими бывшими «конвоирами» отправился в обратный путь. Надо было найти надежное место, где можно укрыть и выходить бойцов. При бойцах старшим оставили Игната Барабулю.
Кондрат Мозольков вспомнил о годах «гражданки» и решил разведать Партизанскую балку. Там находились давно заброшенные землянки. Дед долго петлял, как хитрый заяц, по едва заметным лесным тропкам, а за ним, спотыкаясь от усталости, шли ребята.
Землянки были вырыты в крутых склонах оврага, стены сложены из толстых бревен. Более двух десятков лет прошло с тех пор. И кто бы мог предугадать, что опять придется вернуться в те же места, скрываясь от врагов?
Вот они спустились в балку. На дне ее, точно веселый жаворонок, звенел лесной ручеек. Кондрат снял старый полинялый картуз, вытер рукавом пот и, сбросив котомку, сел.
— Привал, хлопцы! Садись…
Мальчики с любопытством огляделись по сторонам, кинули на землю мешки и хотели напиться. Прозрачная вода родника так и манила их. День был жаркий.
— Хлопцы, не торопитесь… охолонуть надо! Посидите в тени. Ключ родниковый, вода как лед. Так недолго и хворь подхватить.
Мальчики послушно уселись рядом. Кондрат, прищурившись, вглядывался в кусты, росшие по берегам оврага. «Чего он там высматривает?» — недоумевали ребята. Наконец дед сказал:
— Ну, отыскал я свою землянку. Вот отдохнем и начнем приводить дом наш в порядок.
— А скоро война, дедка, окончится? — спросил младший, Витя.
— Когда немца со своей земли прогоним.
— Эх, мне бы брата встретить! Ушел бы с ним воевать. Он лейтенант, пулеметчик.
— А ты чей будешь? — спросил Кондрат. — Где жил до войны?
— Дубров я. В Минске родился, там и жил.
— Мать, отец есть?
— Отец на финской убит. Мать и сестренку немцы — бомбой… Прямое попадание. Я из школы пришел — вместо дома яма да щепки…
— Сколько годов тебе?
— Двенадцать.
— Ну, хлопче, — пожалел дед, — горем судьба тебя не обидела. Вдоволь его хлебнул, на пятерых хватит… Ну, а ты кто таков?
Старший недовольно нахмурил брови:
— Ты, дед, как в милиции, допросы снимаешь.
— А ты что, бывал там?
— Приходилось.
— Откуда родом?
— С Одессы я. На каникулы к брату приехал в Минск, тут и война застала. Семилетку окончил, решил бросить учиться, пойти на завод. У меня брат токарь — Зимин. Слышал про такого? В газетах писали. Портреты печатали. А звать меня Колькой.
— Ну, а я из этих краев, лесником был, пасечником в колхозе. Ну, вот и познакомились, хлопцы, — подмигнул он. — Может, надолго связала нас одной веревочкой судьба… Теперь пейте воду. Уже можно.
Кондрат наклонился, зачерпнул широкими пригоршнями студеную родниковую воду и жадно припал к ней. Напившись, Кондрат встал, обошел все двенадцать землянок. За ним повсюду следовали его помощники. Сохранилось только три из них, остальные завалились.
Весь день, не покладая рук, трудился дед с двумя мальчуганами, оборудуя землянки под жилье.
— Вот бы нам отряд партизанский собрать, дедушка, — мечтал Коля. — Мы бы показали немцу, где раки зимуют.
Дед только улыбался. Он видел в этих ребятах свою далекую молодость, память о которой он так долго и бережно хранил, как самое дорогое в его жизни.
Потом они перенесли из лесной избушки остатки немудреного домашнего скарба. Теперь пойдет на обживу раненым бойцам.
А через несколько дней в эти землянки были перевезены раненые бойцы. Вскоре в «лесном госпитале», как называл землянки Кондрат, появилась заблудившаяся корова, приведенная ребятами.
«Лесной госпиталь» пополнялся все новыми и новыми ранеными из окружающих сел и лесов. И незаметно отошло, смягчилось сердце Кондрата. Перестал он жалеть о том, что не спрятался от жизни в полесской глухомани. И радостно и тепло было на душе при мысли, что он полезен в эти суровые дни лихой для народа годины.
Глава двенадцатая
1
О, как мы, мужчины, часто бываем несправедливы к женщине, когда не замечаем ее подвига, связанного с рождением нового человека, не видим, что происходит с ней, ожидающей первого ребенка, не знаем, на какие благородные дела она способна! Марина Саввишна в эти дни жила вся дочерью, замечала малейшие изменения в ней, в ее характере. Нет, не только начавшаяся война, трудности жизни, разлука с Евгением послужили причиной всех изменений в ее поведении, но главное, что заставляло ее меняться на глазах у матери, — это все более ощутимое с каждым днем чувство ответственности за жизнь того, кто нет-нет и напомнит толчком под самое сердце. Исчезли ее беззаботность в жизни, девичий беспричинный смех, появилось желание больше заниматься домашним хозяйством. Да и сама она внешне стала иная. Рита заметно похудела, стала собранней, подтянутей, и в глазах ее появилась постоянная задумчивость.
Раньше Марине Саввишне требовалось истратить немало сил, чтобы привлечь дочь в помощь по хозяйству. Теперь Рита не только охотно делала все для себя, но и взяла большую часть забот о доме. Исключение составляли тяжелые физические работы. Рита готовила обед, ходила за продуктами, терпеливо выстаивая в длинных очередях.
И в разговоре с матерью как-то невольно она чаще и чаще говорила о нем, ожидаемом ребенке. Она не скрывала, что хотела бы иметь мальчика. О Евгении в последние дни она вспоминала редко и чаще говорила почему-то об отце.
Марина Саввишна знала, насколько важно уберечь дочь от всяких травм в такое тяжелое для нее время. Она старалась делать все так, чтобы Рита ничего не принимала близко к сердцу. В разговоре о Евгении она обнадеживала ее, что все будет хорошо, кончится война и они будут счастливой семейной парой. Об отце также говорила, что он человек десятижильный, и часто рассказывала дочери о том лихом комэске, с которым она прошла всю гражданскую войну. Но при всем этом Марина Саввишна не могла отгородить Риту от жизни. И иногда, придя домой, она, увидев заплаканные глаза Риты, со страхом думала, что же могло ее расстроить?
— Знаешь, мамочка, сегодня убили на войне мужа Сони (соседки напротив). Ведь она с ним распрощалась всего две недели тому назад. И вот… В положении… Бедная Сонечка!.. Мне так ее жалко. — И тут же добавляла: — От Евгения что-то писем давно нет. Пошел второй месяц, как он молчит…
— Ну, Риточка, не всех же убивают на войне. А что нет писем — сама знаешь, как сейчас трудно на фронте. Мы вот здесь ни бомбежек не знаем, ни тревог. — Подошло время кушать — садимся. И худо-бедно — горячего похлебаем, А они там, бесприютные, и в холоде и в голоде. Чует мое сердце, — обманывая себя, говорила Марина Саввишна, — вот-вот они дадут о себе знать.
Говорила она это, а сама вспоминала о вновь прибывшей сегодня новой партии раненых. Трое из них скончались в дороге. Все требовали срочных и сложных операций. При каждом прибытии новой партии раненых она бежала смотреть с надеждой — может быть, кто из их родных, а может, знакомых по дивизии. Й каждый раз ее постигало горькое разочарование. Никого из их дивизии не привозили. «Конечно, фронты большие, — успокаивала она себя. — Почему должны привезти из их дивизии, и именно в их город, и обязательно в их госпиталь? Ведь в одной Уфе десятки госпиталей». В минуты горького разочарования и беспокойства ей приходила мысль (не говоря об этом Рите) обойти все госпитали города. Может быть, где-нибудь окажется кто-либо из их дивизии. Но, занятая множеством служебных дел и непрерывных домашних хлопот, она не могла себе позволить этого. Да и кто ее пустит осмотреть палаты всех госпиталей? И в работе встречалось много трудностей, от которых надо было постоянно искать выхода. Не хватало медикаментов, нательного и постельного белья, одеял. Были затруднения и в питании, хотя раненым старались доставать все лучшее. Как донор, она, как и многие, сдавала крови больше установленной нормы, но и этого не хватало раненым. Сегодня ее вызвал снова ведущий хирург госпиталя Пузаков.
— Марина Саввишна, мы готовим к очень сложной операции молодого бойца. Мальчишка-доброволец семнадцати лет был тяжело ранен в живот, потерял много крови. Нам нужна ваша группа крови. Знаю, — оговаривался Пузаков, — у вас нельзя брать сейчас, вы и так сдали больше нормы…
— Раз надо — берите. Я готова.
Она вспомнила почему-то о письме Евгения, полученном Ритой вчера. Письмо как письмо, но после него Рита еще больше осунулась. Утром Марина Саввишна увидала заплаканные глаза дочери. И хотя мать никогда не читала писем Риты, тут не одно любопытство взяло верх. Она прочла письмо Жигуленко. Писал он, видно, второпях, и навряд ли можно было обвинить ее автора в сухой информации, если бы не одна деталь. Евгений как будто вскользь упоминал, что «его ждут перемены». Почему это слово Рита восприняла тревожно? Марина Саввишна даже подумала: а не поговорить ли ей с дочерью, не выяснить, чем она так обеспокоена? Но потом раздумала. Разговор мог иметь обратное последствие и еще больше расстроить Риту.
Утром она сдала кровь и сразу почувствовала легкое головокружение. Она отнесла это за счет того, что торопилась на работу и ничего не ела. Марина Саввишна достала завалявшийся у нее в столе сухарь и стала его грызть. Сухарь был жесток, обдирал десны, припахивал цвелью, но она ела его с удовольствием. Потом она принесла горячей воды, бросила в стакан несколько сухих плодов шиповника. Как все это было вкусно! Но к полудню ей сделалось еще хуже. Она чувствовала, как силы покидают ее и порой становится темно в глазах. «Только бы дотянуть до вечера. Сейчас уходить нельзя… Это переполошит Ригу. Да и кто меня подменит, когда у каждого столько дел?»
Вечером ее доставили на машине. Не желая обеспокоить дочь, она сказала, чтобы ее высадили на углу их переулка. Она вышла из машины, и вновь потемнело в глазах, качнуло, и рука схватилась за забор. Шофер подошел к ней.
— Давайте сведу… И чего бы до дома не подъехать?
Марина Саввишна закрыла глаза и помахала рукой — не надо.
— Спасибо, мне лучше… Я дойду, не беспокойтесь.
Шофер пожал недоуменно плечами и уехал. А она стала тихонько, держась за заборы, пробираться домой. Какой-то проходивший мужчина хихикнул.
— Вот это хватила, баба, водочки! Ты на четвереньках, милая, давай… Скорее дома будешь.
Быстро сгущались сумерки. Она постояла, передохнула и рывком открыла дверь. Пересиливая себя, улыбнулась.
— Ну, как дела, Риточка? Как твой?… — Она кивнула на округлый живот дочери.
— Хорошо, мама.
Рита кинулась к матери, помогла снять ей пальто, развязала платок и прижалась к ее груди.
— На дворе холодно?
Мать устало кивнула головой.
— Замерзла, мамочка? Садись, — подставила она стул, — Я сейчас тебе разогрею обед, — и Рита исчезла на кухне.
Марина Саввишна, держась за стену, дошла до кровати и легла. Голова по-прежнему кружилась, и боль сдавливала виски.
«Неужели догадается, что со мной неладно?» Мать отвернулась к стене лицом, стиснула зубы, чтобы не застонать от боли.
— Ну, опять эта противная керосинка хандрит. Поставила борш разогреть, — сказала Рита и, увидав мать, лежащую в постели, добавила: — Вот и правильно, мамочка. Тебе так всегда надо делать. Придешь и ложись — отдохни, а потом и дела можно делать.
— Прикрой меня старой шалью, может, сосну немножко, — согласилась мать.
— Тебе холодно? Может, ты заболела? Вот градусник. Сейчас такой грипп, только и слышишь, кругом болеют.
Марина Саввишна полежала, пересиливая тяжесть в голове и ногах, встала обедать.
Рита сидела шила детскую распашонку.
— Вот, мамочка, если бы вокруг ворота вышивку сделать. Как жаль, осталась вся моя коробка с вышиванием.
— Чего об этом жалеть?… Жизней столько молодых осталось там, у границы, детей погибло, — сказала мать.
Рита тяжело вздохнула, увидала множество капелек пота на лбу матери, подошла, молча вытерла полотенцем.
— Ну как борщ?
— Хороший… Да ты у меня заправский повар.
— А я, знаешь, что сделала? Кусочки сала с луком обжарила.
— Да, борщ как в ресторане, со свининой, — подтвердила мать.
Рита долго глядела на вздрагивающий фитиль лампы. «Должно быть, кончается керосин».
— Мамочка, а как ты думаешь, о каких переменах пишет Женя?
Марина Саввишна вздрогнула от неожиданного вопроса.
— Перемены? — спросила она. И, улыбнувшись, сказала: — Может, отличился твой Евгений, за наградой приедет, ну и к нам заглянет, отпустят.
Рита недоверчиво поглядела на мать.
— Хорошо бы… — и, закрыв глаза, прижалась ко лбу матери щекой. И тотчас отстранилась. — Мамочка, а у тебя жар.
— Нет, что ты, доченька? Это меня после горячего борща разморило. — И она поспешно вытерла обильный пот со лба.
— И папа что-то молчит, — сказала Рита.
— Сегодня он мне снился на вздыбленном черном коне, как Петр Первый в Ленинграде, и только я протянула к нему руку — исчез… Давай спать, дочка, — предложила Марина Саввишна. — Утро вечера мудренее. — И она, нарушая свою привычку целовать дочь в лоб, только погладила ее рукой по голове. — Спокойной ночи, Риточка.
* * *
Нет, всю ночь не сомкнула глаз Марина Саввишна. Металась, опаленная жаром, вставала, качаясь, шла, пила воду и снова ложилась. А только смежит уставшие веки, как на нее подымается вздыбленный конь с неизвестным седоком, и она просыпалась вся в поту. Но на другой день утром Марина Саввишна ушла, как всегда, рано, к шести часам. На столе оставила записку, или, как Рита, смеясь, называла: «приказ по дому», в котором перечисляла, что надо сделать.
В госпитале все были удивлены приходу Русачевой.
— Вы с ума сошли, матушка! — кричал Пузаков. — Немедленно отправляйтесь домой — и в постель. Поглядите в зеркало, на вас лица нет. Марш, марш в постель! — И, уходя, добавил: — Дополнительное питание я вам выписал. Сегодня вам его привезут домой. Поправляйтесь скорее.
— Не надо, привозить. Я сама возьму…
Она не хотела, чтобы об этом знала дочь. К глубокому удовлетворению ее, Риты не было дома. Обессилев, Марина Саввишна вскоре уснула. Рита была удивлена, что мать сегодня пришла раньше обычного. Приготовляя обед, несколько раз подходила к матери, смотрела на нее, и было жалко будить… Но то, что мать продолжала спать, беспокоило Риту. В одиннадцать ночи (Рита сидела у постели) Марина Саввишна, укрытая одеялом до подбородка, высвободила руки, и тут дочь все поняла. Левая рука ее выше локтя была завязана бинтом. «Да ведь она же два дня только, как сдала кровь и ходила с такой же повязкой на правой». Рита увидела коричневый кружок затянувшейся ранки, забеспокоилась. Мать проснулась, увидела дочь и, чтобы избегнуть объяснений, снова закрыла глаза. Но Рита не могла уже сдержать себя. Она уткнулась лицом в мягкую, теплую грудь матери и заплакала.
— Чего ты, Риточка? Что с тобой?
— Ну зачем же ты так делаешь, мама?
— Что я делаю?
— Не бережешь себя. Можно подумать, что ты одна на весь госпиталь донор.
Марина Саввишна подняла тяжелые посиневшие веки и тихо сказала:
— Нет, я не одна. Нас много… Но, доченька, нужна была срочно моя группа крови. Со мной ничего плохого не будет. Вот отлежусь а пойду. А те, кто воюют, Рита, не только кровь отдают, а и жизнь.
* * *
Три дня еще пролежала Марина Саввишна дома. Рита, не отходя, ухаживала за матерью. Приходили ее навещать товарищи по работе. И как-то под вечер приехал военврач Пузаков. Привез ей банку сгущенного молока, сухарей и плитку шоколада, но, прощаясь, напомнил, что выговор ей даст по возвращении на работу. Ободрил он и Риту, уверив, что у нее должен родиться непременно сын.
— Вы же сознательная… Сейчас война, мужчины нужны.
Но Рита сказала категорически, что в армию она сына не отдаст.
— Он у меня будет инженером-строителем. После войны много строить придется.
После выхода на работу Марина Саввишна пришла вечером улыбающаяся, счастливая, какой давно Рита не видела ее.
— Жив он, жив, Риточка! — и она ласково обняла дочь, поцеловав ее в лоб.
— Кто, мамочка, Женя?
Она молча покачала головой.
— Папа?
— Не знаю, — тяжело вздохнула она.
— А кто же жив? Чему ты так рада, мамочка?
— Молодой солдат, которому кровь мою влили. — И, помолчав, добавила: — Да, кстати, его тоже зовут Евгений.
На другой вечер Марину Саввишну буквально ошеломило одно обстоятельство: придя домой с работы, она услышала плач грудного ребенка и склонившуюся над кроватью дочь.
— Риточка, голубушка, что же это такое?
Дочь обернулась, и мать увидела ее округлый живот.
— И это будет мой, — с виноватой улыбкой заявила Рита.
— Откуда он у тебя?
— Соня умерла сегодня после родов, и вот от нее мальчик… У Сони ведь никого из родных… И я взяла, — тихо и горестно проговорила она.
— Риточка, но ведь ты же сама…
Дочь замахала на нее руками.
— Не надо, мама!.. Ты же у меня хорошая, добрая. Ну, будут вдвоем расти… Веселее им будет.
Марина Саввишна уже не возражала и смотрела, будто не узнавала родную дочь. В душе ока одобряла ее поступок и знала, что на ее месте поступила бы так же.
— Мама, а знаешь, какое имя я ему придумала?
Мать догадалась, но лукаво улыбнулась, схитрила:
— Ты дашь ему имя своего отца.
— Нет, нет, ты и не угадала! Я назову его Евгением.
И они молча, как бы в знак согласия, обнялись, и у обеих на глаза навернулись слезы.
А всего в нескольких метрах от них копошилось спеленатое еще неопытной рукой будущей матери крошечное живое существо мужского пола с красным личиком. Оно еще не видело белого дневного света, но уже морщило курносое личико, будто принюхивалось: а какая она на запах, эта жизнь?
2
Едва проступил на востоке мутноватый рассвет, встреченный сторожевым кукареканьем петухов Долгого Моха, как донеслись и нарастающие громоподобные раскаты. Вот уже несколько дней возникают они спозаранку, ослабевают к полудню, стихают к вечеру, а случается, громыхают и по ночам. Там, где-то на западе, идут тяжелые бои. Темная стена дремучего леса пытается поглотить громовые раскаты артиллерии, тяжкие взрывы бомб, но все же они долетают тревожным гулом. Люди испуганно посматривают в ту сторону, тяжело вздыхают. Война уже идет где-то совсем рядом, подбираясь по лесным дорогам к осиротелым селам.
Вскоре в Долгий Мох пришли первые немцы. И Алена Полагута окончательно потеряла покой. Она часто вставала с неуютной постели, подходила к деревянной кровати сыновей и подолгу печально глядела на них.
За этии несколько дней лицо ее заметно осунулось. Горе подвело под глазами полудужья с синеватым оттенком, а на переносице четко обозначилась поперечная морщинка. Она придавала ее лицу строгое выражение, окончательно изгнав наивную непосредственность, что бывает у молодых замужних женщин, когда постепенно утрачивают они мягкие и нежные черты девичества. В сердце Аленки теплилась надежда, что война скоро окончится и Андрей возвратится домой. Эта надежда была, пожалуй, единственной силой, что поддерживала ее в эти мрачные дни невзгод.
По селу ползли разные слухи. Одни говорили, будто Красная Армия высадила десант и, разгромив немцев на Днепре, погнала на запад, другие утверждали, будто немцы за Днепром окружили наши войска и уничтожили их.
Алена больше верила первому слуху. А теперь по селу по-хозяйски разгуливают немцы. Они нагло шныряют по дворам, шарят по погребам, роются в сундуках, забирают все, что им по душе.
Изба Полагуты стояла на окраине села, на отшибе. Небольшой рубленый домишко спрятался в редколесье молодых сосен, где начиналась широкая луговая пойма с оврагом, а дальше лес, — все это не привлекало гитлеровцев, трусливых в одиночку. И все же с первых дней появления немцев Аленка с тревогой ждала их, надежно запрятав в погребце съестные припасы и глиняный узкогорлый сосуд, в котором берегла для мужа водку, настоенную на рябине.
…Аленка простояла несколько минут в задумчивости, прислушиваясь к нарастающему грому артиллерийской канонады. «Вечером надо будет выгнать корову попастись на лугу».
Управившись с хозяйством и уложив ребят, Аленка вышла во двор и стала поджидать бабку Потыличиху. Бабка приходила к ней ночевать, брезгуя, как она говорила, дышать одним воздухом с немецкими офицерами, что поселились в ее хате, Потыличиха всегда приносила кучу разных новостей.
В медленно надвигающихся вечерних сумерках обозначились силуэты трех человек — они шли к дому Аленки. По ковыляющей походке она угадала бабку Потыличиху. А с нею двое мужчин. Один высокий, широкоплечий, как Андрей. И это внешнее сходство заставило сжаться сердце тревогой. А второй — небольшого роста.
Аленка прижала руки к груди и замерла, не спуская глаз с приближающихся людей.
Неизвестные остановились, бесцеремонно глядя на Аленку.
— Не ждала, должно? — сказал мужчина маленького роста. — Здравствуй, красавица! Принимай гостей!..
Аленка растерянно перевела вопрошающий взгляд на бабку Потыличиху. Маленький мужичишка протянул ей руку с короткими, будто обрубленными, пальцами. Аленка ощутила скользкую, влажную ладонь, и чувство гадливости охватило ее.
— Ну вот, будем знакомыми. Я. здешний староста, фамилия моя Скрынников. А это мой помощник, — он кивнул в сторону высокого, широкоплечего мужчины, что пристальным взглядом зверковатых глаз глядел на Аленку.
— Это что, родственница тебе какая аль просто знакомая? — Скрынников показал глазами на бабку.
Алена растерянно молчала.
— Ну, да все одно, — сказал он, не дождавшись ответа. — Придется бабке переселиться к тебе: всю хату ее забираем под немецкую комендатуру.
Аленка пожала плечами. Лицо ее выражало и удивление и немое согласие.
Потом Скрынников многозначительно подмигнул Аленке и, схватив ее руку, энергично пожал, будто желая выразить свое полное расположение к ней.
Оглядываясь по сторонам, мужчины направились к лесу.
— Облаву, сказывают люди, устраивать будут нынче. Наших красноармейцев ловить. Какое-то знамя ищут, — прошамкала Потыличиха. — Глаза бы им в том лесу повыкололи! Иудово племя!.. Сам сатана, — перекрестилась бабка, — послал их на нашу погибель.
Аленка испуганно поглядела на лес, и сердце ее сжалось от боли. «А что, как поймают Андрея и убьют?»
И, как бы подтверждая ее мысли, Потыличиха сказала:
— Вчерась Мария принесла своего мужика из лесу. Побитый весь… Да ты помнишь ли Гришку, что в первой лесорубной бригаде был? Чубатый такой, Вороной кличка ему…
И Аленка уставилась на Потыличиху, полуоткрыв от неожиданности рот.
— Говорил он, что на Днепре много мужиков из Долгого вместе с ним бились. Страсть сколько положил их немец!.. А были все же и такие, что прорвались и дальше отступили…
Потыличиха тяжело вздохнула, в уголках ее рта залегли суровые складки, глаза потускнели.
Аленка бросилась к ней, обхватила за плечи.
— Про Андрея что сказывал Гришка? Он-то небось его знает… — Она испытующе смотрела на бабку, выпрашивая и одновременно боясь ответа.
— Не буду врать, девонька, не сказывал он про твоего. Да и как спросишь? К ним в хату народу со всего села насунулось, всяк про своих норовит разузнать. А Гришка совсем плох, еле языком ворочал, и кровью его рвало.
— Останься, бабушка, голубонька, с детками, я к нему сбегаю. Может, видал где Андрея моего? Чует мое сердце: близко он где-то, — задыхаясь, заторопилась Аленка.
Бабка обняла ее по-матерински нежно, шершавой ладонью погладила голову.
— Куда ты, милая, пойдешь? Помер он, помер…
В глазах Аленки застыл ужас. Они будто остекленели, стали вдруг холодными и неподвижными.
Бабка спохватилась, что сказала не то, всплеснула руками:
— Ах, господи-то, да не твой помер, а Гришка! Гришка, — повторила она еще раз для большей убедительности. — Какая же ты, право, бестолковая да суматошная! Чего тебе заранее убиваться? Детишек беречь надо, а их дело такое, мужское. Мой как в германскую пошел, так и по сей день поминай, как звали.
Но эти слова, видно, были последней каплей, переполнившей чашу страданий. Побелев, Аленка, как подрубленное молодое деревце, упала на землю и забилась в отчаянных рыданиях.
3
Чуть свет Аленку разбудила Потыличиха.
— Какую я тебе весть принесла, родимая! Дед твой Кондрат объявился в нашей округе. Сказывают, в лесной сторожке его видели. Вот чудо-то! Как с неба свалился. Столько годов в родной деревне не был и вот объявился.
Аленку охватило волнение. Она вспомнила, что после смерти отца несколько лет жила у деда, пока не появился молодой красивый лесоруб Андрей Полагута. Нахлынули воспоминания.
Вечером она отправилась к деду. Увидев, кинулась к нему, как бывало, обвила шею руками, расцеловала и, ощутив на своих щеках щекочущую бороду деда, ее лесной запах, как-то успокоилась. Показалось ей вдруг, что дед вот-вот скажет: «Садись, внучка, медком угощаться». И полезет в чулан, достанет пузатый горлач янтарного меду. Поставит перед ней и посмеется, стараясь подражать ее тоненькому девичьему голосу: «А где моя большая ложка?» И тут же спрячет обе руки за спину: «В какой — отгадай». В одной руке деда малюсенькая деревянная ложечка, которую он вырезал для Аленки, когда ей было года три, в другой — большая деревянная палехской работы: ее подарил деду отец Аленки.
Но сейчас дед, сурово нахмурив брови, выслушал горький рассказ Аленки, не перебивая ни одним вопросом. Тяжелые складки дедова лба то расходились, то суживались гармошкой, и Аленка угадала: дед что-то обдумывает. И когда она замолкла, он заговорил быстро, не глядя на нее из-под косматых бровей:
— Уходить тебе надо…
— Уходить? — удивилась она. — Куда ж это, дедуся? Ведь-повсюду немец. А дети, а дом?… А вдруг Андрей вернется?…
— Уходить надобно, внучка, — настойчиво повторил дед. — Зверем лютует немец.
— Нет, деду, никуда я не пойду, — заявила она и решительно поднялась.
— Пойдешь… Горе заставит, — убежденно сказал дед. — Есть у меня старый приятель, в хуторке неподалеку живет. Бот и подавайся туда с ребятишками. Переждешь, пока наши войска вернутся.
— Никуда я не пойду… Родной угол бросать, идти по миру? Не пойду!
Взволнованная таким непредвиденным разговором, возвращалась Аленка от деда. Шла она быстро, иной раз без тропинок, а когда огляделась, поняла, что сбилась с дороги.
Сгущались сумерки. Деревья глухо и тревожно шептались, словно им было близко горе Аленки. «Куда же я попала? — подумала она. — Да ведь тут где-то близко Марьина балка!» Там, по рассказам стариков, крестьянский парень Семен Безов в порыве ревности задушил, красавицу Марью — дочь сельского священника, когда узнал о ее помолвке с сыном лавочника. Многие жители окрестных сел считали: коли пойти в овраг — неминуемо постигнет несчастье. Но Аленка не верила в эту легенду; в детстве она не раз бывала в этом овраге: там было много лесной ягоды.
Вот и каменный пешеходный мостик, с него она любила подолгу глядеть, как, выбиваясь из-под земли, течет вечно живой родник. Аленку томила жажда. Она сбежала к мостику, зачерпнула пригоршнями воду и услышала чей-то, слабый стон. Или это ей почудилось? Прислушалась. Стон повторился. Значит, не послышалось. Она подумала об Андрее и смело пошла на стон.
В зарослях молодого лозняка, где журчал лесной ручеек, Аленка увидела бойца. Он лежал лицом вниз. Голова его скатилась к ручью, и волосы мокли в воде. На гимнастерке и шароварах виднелись темно-коричневые, будто ржавые, пятна. Помятая трава побурела от крови — видно, боец из последних сил полз к ручью.
Жалость охватила Аленку, и она робко спросила:
— Куда вас ранило, товарищ?
Боец приподнял голову. Его испуганный взгляд скользнул по лицу Аленки, и он снова уронил голову на траву, Аленка присела рядом, неотрывно глядя на раненого. И, точно чувствуя ее взгляд, тот опять приподнял голову. Аленка помогла ему сесть.
— Где немцы? Куда я попал? — спросил он, тревожно осматриваясь по сторонам. Но силы покинули его, и голова упала на колени Аленки. Она рассказала ему все, что знала о немцах.
Неплохо было бы перетащить бойца в лесную сторожку к Кондрату Степановичу. Но тут же Аленка передумала. «Он старый… Трудно ему будет. Да и уходить задумал. Придется взять к себе». Боец был очень слаб. Он то и дело терял, сознание. Его худое лицо и заострившийся нос были мертвенно-бледными. Аленка обмыла его руки, перевязала индивидуальным пакетом, найденным в его кармане, рану на ноге, на лбу и левой руке, простреленной выше локтя.
Ночью Аленка вдвоем с бабкой Потыличихой принесли раненого и спрятали на чердаке. Весь день просидела Аленка возле него, прикладывая к горячей голове мокрые тряпки. Боец метался в горячем бреду и все время настойчиво спрашивал о каком-то знамени.
Это был не боец, как предполагала Аленка, а лейтенант Миронов. В течение двух ночей он полз, истекая кровью, и, наконец, добрался до овражка с ручьем. Теряя последние силы, вложил в планшет документы, карту, комсомольский билет, свернул плотней знамя и привалил все большим камнем в зарослях лозняка. Изнемогая от истомившей его жажды, попытался напиться и потерял сознание. Здесь и подобрала его Аленка.
Глава тринадцатая
1
С каждым днем редеют листья на деревьях. Вечерние зори похолодали. Дни стали короче. В лесах уже не слышно птичьего пения; лес загрустил, задумался в своей печальной и яркой красе, как овдовевшая молодая женщина. Пришла на смену лету осень. И только люди, кажется, ничего не собираются менять в этом мире. По-прежнему земля корчится, стонет и дрожит под тяжелой поступью войны, по-прежнему ежедневно, ежечасно, ежеминутно умирают люди.
…Вторую неделю полк Канашова отходит по глухим звериным тропам. Ночью запрещено громко разговаривать и курить. Тяжелее всех приходится разведчикам Андреева и артиллеристам Дунаева.
Разведчики просачивались глубоко в тыл врага, совершая днем и ночью смелые налеты. Шоссейные и большинство грунтовых дорог, прилегающих к окрестным деревням, забиты наступающими немецкими войсками, танками, артиллерией, обозами. Разведчики нередко возвращаются, не досчитываясь многих товарищей — они пали в боях с врагом.
Нелегко и артиллеристам. Кони не выдерживают бездорожья. Выбившись из сил, они падают и дохнут. Бойцам нередко приходится на руках вытаскивать орудия.
Полк делает лишь короткие остановки. Большие привалы длятся не более двух часов в сутки. Ведет полк Бурунов. Он постоянно торопит всех, подгоняет. Таким беспокойным его не видел еще никто. Он боится, что полк не догонит передовые немецкие части. Тогда придется рассредоточиваться и просачиваться поодиночке через боевые порядки врага, а это значит заранее обречь полк на гибель. У полка и без того огромные потери в личном составе и материальной части; много раненых, больных. Запасы продовольствия и боеприпасов на исходе.
По пути, на каждом переходе, присоединяются новые и новые люди — они отбились от своих частей, бежали из немецкого плена. Численность до предела поредевшего в боях полка растет не по дням, а по часам. Правда, большинство людей, приставших к полку, военные только по обмундированию. Документов, как правило, нет.
В полку теперь были три новые женщины: две медсестры — родные сестры, раненые и побывавшие в плену, — и молодая женщина в гражданском платье — Аленцова. Она назвала себя врачом и тоже бежала из плена.
Начальник штаба дивизии майор Харин отделил женщин. Они следовали на телеге: медсестры потому, что у обеих еще гноились открытые раны, Аленцова же была предельно истощена долгим скитанием в лесах. Харин объяснил Бурунову, что женщин он берет под свое наблюдение, поскольку они, по его мнению, подозрительны и за ними надо установить постоянный контроль. Но особенно вызывал у него опасение прихрамывающий, плотно сбитый, коренастый мужчина с круглым безбровым лицом, в крестьянских худых опорках, в грубой холщовой рубахе и лаптях. Он выдал себя за офицера-танкиста Кряжева. Харину не нравится, что он держит себя гордо, разговаривает, как с равным. Если бы у него была форма и знаки различия, майор бы его одернул и поставил на место. А так, какой с него спрос. Каждый вливающийся в полк может назвать себя хоть генералом. Пойди проверь! Харин попытался было пристращать этого танкиста-гордеца:
— С таким позорным клеймом, как плен, я бы молчал на твоем месте и делал то, что говорят поумнее тебя да постарше.
— Это клеймо, товарищ майор, кровью смыто… Дадут танк — опять пойдем.
— Не так-то легко смыть… Ишь ты каков! Как сказал, так и поверил. Может, ты где на печи с чужой бабой спал, а сейчас за героя себя выдаешь. Видали мы таких героев. Вот к своим выйдем, там разберемся, что ты за гусь.
В памяти Кряжева промелькнули тяжелые картины боев, гибель товарищей, ужасы немногих дней плена… Если бы только знал этот чванливый майор, как он рвался к своим!..
Харин по нескольку раз в день докладывал Бурунову свои малейшие подозрения о танкисте. Увидев как-то Кряжева в кругу бойцов, которые относились к нему доверчиво и любили его за рассказы о смелых боях наших танкистов в первые дни войны, Харин потребовал, чтобы комиссар занялся этим «подозрительным типом». «Он подбивает на что-то бойцов», — так он заявил Бурунову. Но Бурунову было не до отдельных личностей. Он выводил из окружения полк. И он ответил: «Погоди, майор, не торопись. Будет время, разберемся».
Физическое и моральное напряжение людей достигло предела. Еж жаловался идущему рядом Мурадьяну:
— Веришь, до того изголодался и истощал, что ребро за ребро цепляется…
У некоторых не сходило с лица выражение отчаяния и безнадежности. Каждый боец знал, что может внезапно начаться кровавая битва не на жизнь, а на смерть; и, прежде чем они соединятся со своими войсками, им придется прорывать не одно кольцо окружения. Были бойцы, которые, потеряв веру, спрашивали друг друга:
— Как думаешь, пройдем?
— Трудновато сказать, как оно выйдет…
И в этом ответе слышалась затаенная надежда и отчаяние.
— Ведь немец-то на машинах, а мы по болотам на своих на двоих. Трудно нам тягаться с ним.
Но были случаи и похуже, когда вспыхивало недовольство. И удивительно, в те минуты как из-под земли вырастал Бурунов. И откуда он только черпал свою недюжинную духовную силу! Властно светились его суровые и цепкие глаза, зорко наблюдающие за всем и за всеми. В эти дни бойцы говорили мало. Они шли молча, тяжело волоча налившиеся чугунной тяжестью ноги, шли по лесным тропам, глухим зарослям, топким болотам. Думалось: сбрось с себя хотя бы вещмешок, и можно идти еще долго. А тут, ко всему прочему, надо еще нести казавшееся неимоверно тяжелым оружие и патроны. Некоторые бойцы стали пререкаться с командирами, открыто выражая недовольство.
Началось все с того, что боец-пулеметчик попытался бросить станок от пулемета «максим», а Бурунов приказал ему перебраться со станком через болото. Тогда боец, бесшабашно махнув рукой, взвалил станок и, не приглядываясь к болоту, пошел напропалую, попал в трясину и утонул. Это и послужило толчком к недовольству. По рядам пошел ропот:
— Кто мы, люди или скоты? Гибни и то с ярмом на плечах?…
— Да в каких это законах писано, чтоб над людьми так измываться!
— Он-то погиб, не воротишь, а вот каково будет такая весть материнскому сердцу?
— Как же, братцы, дальше-то? Долго еще нам по лесам бирюками скитаться? Третьи сутки штаны из рук не выпускаю, — жаловался щупленький боец с редкими волосами на подбородке. — Бушует в животе от грибов. Что мы, свиньи, что ли, чтобы нечисть жрать всякую?
— Чем блукать без толку по лесу, лучше разойтись по домам, — робко предложил маленький клещеногий боец в широких, как юбка, шароварах. Его круглые юркие глазки быстро забегали по сторонам, ища у бойцов поддержки и сочувствия. Но кто-то спросил спокойным, вразумительным голосом:
— А куда домой-то, к немцу, что ли? По-видимому, родная деревня этого бойца осталась позади.
— Немец не волк, а ты не овца. Не бойся, не съест, — огрызнулся тот.
В разговор вмешались другие. Лес загудел от взволнованных голосов:
— И то правда!.. Чего без толку болота мерить, айда домой!
— В общем так! Кто по домам, пусть отходит ко мне. Хватит митинговать! Не время!
Около пятидесяти бойцов, преимущественно старших возрастов, недавно призванных из запаса и еще не испытавших тяжести боев, неуверенно окружили заводилу. Подопрыгора сообразил, что надо немедленно разыскать Бурунова, и только он хотел улизнуть незаметно, как появился Бурунов. Его внезапный приход огорошил всех. «Бунтовщики» притихли, замерли в напряженном ожидании, стараясь угадать, как поступит комиссар. Из толпы бойцов, отошедших к зачинщику, выступил вперед грузный, пожилой мужчина, заросший черной, смолистой бородой. Он бросил вызывающий взгляд в сторону комиссара, потом презрительно посмотрел на кривоногого маленького заводилу, испуганно жавшегося к толпе, сказал грубо, резко махнув рукой:
— Сказ один. Не хотим иттить дальше — и все. Пора расходиться по своим деревням…
— Твой сказ? — громко прервал его Бурунов. — А вот тебе наш сказ, наш приговор, предатель! — комиссар вскинул пистолет и выстрелил в провокатора.
И тут же властно последовала его команда бойцам:
— Ста-но-вись!.. Равняйсь!.. Смирно!
Комиссар привел бойцов к основной массе полка и распустил по подразделениям.
Бурунов подошел к лежавшему на носилках Канашову. Он хотел рассказать ему о случившемся, но, взглянув на измученное желтое лицо подполковника, раздумал.
— Кто там стрельбу поднял, Николай Тарасович? — спросил Канашов.
— Свои, Михаил Алексеевич. Все в порядке, — ответил комиссар.
Канашов нахмурил брови.
— С боеприпасами поэкономней надо. Каждый патрон беречь. Впереди еще не один бой.
— Не волнуйся, Михаил Алексеевич, не пропали выстрелы даром. — И помолчав немного, добавил: — Они нам сотни людских жизней спасли…
Подбежал запыхавшийся Харин.
— Товарищ Канашов, кому вы доверили полк? — Он зло посмотрел на Бурунова. — Когда я предупреждал его о подозрительном типе, называющим себя офицером-танкистом, он отмахивался… Проглядел шпиона, разлагающего наших людей. А теперь применяет самосуд, бойцов расстреливает. Я требую немедленно расстрелять шпиона Кряжева, а комиссара отстранить от командования.
— А кто вы такой? — вскипел Бурунов.
— Я начальник штаба дивизии…
— Где он, ваш штаб? Вы начальник без штаба. Идите, иначе я не ручаюсь за себя.
Канашов, обессиленный и бледный, устало сомкнул веки.
— Товарищ майор, прошу вас удалиться… Я разберусь сам.
Харин взвизгнул сорвавшимся голосом:
— Замазать преступления, товарищ подполковник, вам не удастся! У меня сотни свидетелей. Разбираться тут не в чем. Таких надо гнать из армии и из партии. Вам, Бурунов, не удастся уйти от ответа, я сообщу о вас. Подождите!.. Канашов с трудом приподнялся на локтях. Голова его кружилась от острой боли.
— Уйдите немедленно, майор… Я вам приказываю, как старший.
Глаза Канашова горели ненавидящим огнем. Голова его сникла, и он закрыл глаза.
2
Харин быстро шагал, не разбирая дороги. У лесного заболоченного ручья он увидел врача Аленцову. Она сидела, опустив в воду обнаженные до колен ноги. Карие глаза ее были печальны, исхудавшее лицо отливало загаром. Харин залюбовался и решительно направился к женщине.
Несколько раз он уже пытался сблизиться с Аленцовой, но она лишь застенчиво улыбалась и на его признания отвечала тихо: «Не надо об этом, товарищ майор. Не время…» В начале их знакомства Аленцова доверчиво рассказала ему о своей жизни. У нее было два сына. Одного она потеряла накануне войны — утонул в реке, а второго, годовалого, еще грудного ребенка — совсем недавно. Вскоре в числе многих беженцев попала к немцам в плен и оттуда бежала.
Харин успокаивал ее:
— Ничего, Нина Александровна, в вашей жизни еще все наладится… Вы такая молодая, красивая… У вас все впереди.
Одно беспокоило Харина: слишком часто она вспоминала мужа-пограничника. Но и тогда Харин подбадривал ее, убеждал, что муж непременно отыщется, делился с ней добытым, сухарем, глотком воды, отдал ей оставшиеся у него в жестяной банке несколько кусочков сахару, защитил, когда один из раненых оскорбил ее.
И это не могло не расположить к нему убитую горем женщину. Она решила оправдать чем-то оказанное ей доверие и сказала Харину, что могла бы как врач принести пользу многим раненым. Он согласился, сходил к «начальству», как он называл Бурунова, но принес отказ.
— Вы не огорчайтесь, Нина Александровна… Не желают, и не надо. — И тут же шепнул: — Перестраховщики, боятся, что вы шпионка…
Он умолчал, что сам высказал Канашову такое подозрение. Несколько дней после этого Аленцова находилась в подавленном состоянии, недоверчиво глядя на окружающих. Ей казалось, что все ее презирают, только и думают о том, как бы от нее избавиться. Ночью, когда все спали, она подолгу плакала. Медсестры держались от нее в стороне. Ей не с кем было поделиться своим горем. А женщины, как известно, бывают излишне доверчивы, особенно в горе.
Увидав направляющегося к ней Харина, Аленцова застенчиво натянула юбку на оголенные колени.
Неожиданно захрустел валежник, и появился Бурунов. Харин умолк.
— Товарищ Аленцова, — сказал Бурунов, — прошу вас сейчас же идти со мной.
Женщина испуганно взглянула ка Харина, как бы прося защиты. А потом, поняв, что тот не намерен вмешиваться, гордо тряхнула головой, откинула назад волосы и шагнула навстречу комиссару.
Когда они отошли, комиссар спросил неожиданно:
— Вы смогли бы сейчас сделать операцию? Командир полка находится в тяжелом состоянии. Боюсь, у него началось заражение крови… Температура свыше сорока, часто теряет сознание.
Аленцова беспомощно развела руками:
— У меня особой никаких инструментов. И потом — серьезная операция в этих условиях…
— Но ведь вы советский врач. И когда речь идет о спасении жизни человека, надо из невозможного сделать возможное!
— Хорошо, постараюсь, но за успех ручаться не могу…
Аленцова бережно осмотрела раны на ногах Канашова, очистила их от гноя. Потом ее ланцет натолкнулся на один, второй, третий осколки. В заброшенной лесной сторожке, превратившейся в операционную, при свете керосиновой лампы она сделала под местным замораживанием две сложные операции обеих ног. Канашов часто впадал в беспамятство, бредил, метался, а когда закончились все его мучения, уснул как убитый.
На вторые сутки он проснулся и, вызвав Бурунова, потребовал продолжать путь.
— Я чувствую себя хорошо!
Но Аленцова сказала:
— Это совершенно невозможно! Ему надо еще полежать спокойно самое меньшее двое-трое суток.
И как ни сопротивлялся, как ни протестовал Канашов, Аленцова настояла на своем. Канашова оставили со взводом бойцов для охраны и трофейной автомашиной, а Бурунов повел полк дальше, на восток.
К концу дня Аленцова сидела у койки Канашова, перелистывая книгу.
Командир полка глядел, не отрываясь, на нее.
Неподалеку разорвалась граната, донеслось несколько винтовочных выстрелов. Аленцова вздрогнула. Дверь распахнулась, на пороге появился майор Харин.
— Нина Александровна, — сказал он, положив руку на ее плечо, — нас окружают немцы. Бежим скорее, у меня есть лошадь.
Канашов лежал спокойно, не подымая головы, будто все, что происходило за пределами этой избы, его совсем не касалось. Он не отрывал глаз от Аленцовой, но теперь в его взоре появилась мучительная тревога: как поступит она?
Обычно бледное лицо Аленцовой покрылось румянцем. Она встала с табурета, отведя руку Харина.
— Никуда я не пойду, Семен Григорьевич. Как я могу оставить тяжело раненного? — она кивнула головой на Канашова.
Харин растерянно посмотрел на нее. В избушку торопливо вошли два бойца. Они осторожно уложили Канашова на носилки.
Канашов взял руку Аленцовой.
— Спасибо вам!.. Садитесь в машину!
Но Харин сделал шаг вперед и хрипло проговорил:
— Нина Александровна поедет со мной, товарищ подполковник. Это моя жена…
Острая боль пронзила сердце Канашова, разлилась, казалось, по всему телу. Он почувствовал сильное головокружение и впал в беспамятство и уже не видел, как осуждающий и решительный взгляд Аленцовой остановил Харина. Не видел он и того, как женщина с презрением освободила локоть, за который поддерживал ее майор, и села в машину у изголовья Канашова. Харин, взбешенный и бессильный, грубо рванул дверцу машины и потряс пистолетом.
— Я требую выполнять мое приказание, товарищ Аленцова, иначе…
Он не договорил, так как врач захлопнул перед ним дверцу и требовательно крикнул шоферу:
— Трогайте машину!
За шумом мотора она не слышала выстрелов. Это стрелял Харин. Аленцова презрительно улыбнулась, увидав в дверке машины будто сверлом просверленную дыру. «Пулевая», — догадалась она и, стряхнув мелкую щепу с юбки, тут же забыла об этом уже не существующем для нее человеке. Ее обеспокоенный взгляд остановился на бледно-восковом лице Канашова. Самым приятным было то, что он ничего не знал. Ей не хотелось, чтобы он все это видел.
Глава четырнадцатая
1
Слов нет, трудно выходить из окружения войскам, но еще тяжелее это делать отдельным раненым, физически беспомощным бойцам и небольшим группам. Постоянная опасность подстерегает их на каждом шагу, и, чтобы утолить голод и жажду, они нередко вынуждены рисковать собственной жизнью.
Прячась в лесах, без карты и компаса пробирались к своим войскам на восток двое: санинструктор Таланова, раненная осколком снаряда в голову, и редактор дивизионной газеты Куранда, раненный в обе ноги.
Таланова вытащила политрука с поля боя и доставила его в район дивизионного медицинского пункта, но он уже эвакуировался, и они попали в окружение. Осмотрев ранение на ногах политрука, Ляна убедилась, что кости не повреждены и Куранда вполне может потихоньку передвигаться. Одно ее беспокоило: раненый жаловался на нестерпимую боль.
Чтобы облегчить ему страдания, она смастерила из палок что-то вроде костылей и старалась как можно чаще делать привалы. Но все это мало помогало, и, пройдя в первый день не более пяти километров, политрук к вечеру сел и сказал, что никуда не пойдет, если даже ему будут угрожать немцы. Следующий день Таланова потратила на то, чтобы устроить раненого получше. Она перетащила его в овраг, натаскала сена и листьев и целый день не отходила от него, стараясь облегчить его мучения.
Куранда жалобно стонал и часто спрашивал одно и то же; не угрожает ли это смертью и не отнимут ли у него ноги? На другой день она попыталась уговорить политрука пройти хотя бы немного, но он наотрез отказался.
— Если бы вы сказали, что бросаете меня, то и это не заставило бы меня идти. У вас, медиков, вместо сердца что-то вроде дерева или камня. Разве вы не видите, что это не ноги, а колоды, так они распухли? Вам, конечно, все равно, будут у меня йоги или нет. А мне, представьте себе, это не безразлично.
Ноги у Куранды действительно вспухли, но Ляна была уверена, что это не угрожало ему ничем страшным. А война нет-нет да и напоминала о себе отдаленным грохотом. И это не предвещало ничего хорошего. Ляна несколько раз уходила на поиски лошади. Раздобыть лошадь стало ее заветным желанием. Ей даже во сне стали сниться разномастные кони. Но, просыпаясь, она слышала стоны и сетования политрука — положение не улучшалось. Продукты были на исходе. Противогазовая сумка, служившая продскладом в начале пути, набитая концентратами, собранными Ляной в вещмешках убитых, тощала. А дальше? С каждым днем приближалось это неумолимое — что же дальше? Так они прожили в лесу более двух недель.
Но вот как-то поутру она увидела в лесу деревенского мальчугана лет пятнадцати. Он что-то закапывал в овраге.
Таланова застала паренька на месте «преступления» — он прятал пистолетные патроны. Тогда она вынула отливающий вороненой сталью новенький пистолет и сказала:
— Приведешь лошадь, будет твой.
И тут же потребовала от мальчугана соблюдения строжайшей тайны. Так состоялся их «тайный союз». И Ляна стала ждать, ничего не сказав политруку. Она хотела его порадовать.
Но проходили дни, а мальчик не появлялся. Таланова уже начала подозревать, что он обманул ее или просто похвастался и теперь наверняка не придет. Появилась и тревога: вдруг он проговорился, слух дойдет до немцев, и они сюда нагрянут. На другой день она с большим трудом заставила политрука сменить «обжитое» место в овраге. Поздно вечером, когда густые сумерки обволокли лес, послышался хруст валежника. Кто-то шел, не разбирая дороги, к оврагу, где раньше находилась их стоянка. По тому, как захрустели кусты в нескольких местах, Ляна догадалась, что их много. Сердце сжалось от страха, и Ляна зашептала политруку: «Немцы…»
Он сразу перестал стонать, а она достала из сумки пистолет. Идущие по направлению к ним остановились. Они, видимо, осматривались, что-то искали. Ляна взяла политрука за руку и почувствовала, как тот дрожит.
— Не надо стрелять, — зашептал он, обдавая ее горячим дыханием. — Поищут-поищут — и уйдут…
Вдруг до слуха их донеслось конское фырканье. «Да ведь это, наверно, мальчонка», — подумала Ляна. Она прислушалась.
— Тетя, где вы? — позвал детский неуверенный голос. Ляна поднялась и кинулась во тьму. Обескураженный политрук покрылся холодным потом. «Предала», — мелькнула мысль. И он достал пистолет, готовясь к защите. А Ляна добежала до мальчика, расцеловала его и тут же отдала обещанное.
— Не можешь ли ты помочь нам продуктами? — спросила Ляна мальчика.
Мальчик охотно согласился. И вскоре притащил буханку хлеба, кусок сала, солдатский котелок муки и даже деревянную ложку. Не теряя ни одной минуты, Ляна тут же, как только ушел их спаситель, помогла политруку сесть на тощую лошадь, и они тронулись в путь.
Так они продвигались всю ночь до рассвета: она — пешком, он — на лошади. Несмотря на усталость, Таланова стремилась идти все дальше и дальше, Но политрук опять стал жаловаться, что у него сильно болят раны и что ехать без седла он не может. Действительно, ехать верхом на такой истощенной до предела лошади было нелегко. И вот было решено днем идти, а по ночам отдыхать.
Но вскоре их постигла новая неудача. Запаленный мокрый мерин, напоенный под вечер колодезной водой, проявил вдруг несвойственную резвость. Он ошалело, с выбрыком проскакал сотню метров, потом встал как вкопанный, упал на колени, клюнул мордой землю, будто попросил простить его, и, повалившись на бок, издох. Жертвой его удивительного поведения стал опять политрук Куранда. Ему придавило ногу, и снова открылись поджившие раны.
Теперь политрук наотрез отказался идти дальше и упросил Ляну остановиться где-нибудь в укрытии.
Долго искали они безопасное место. И, наконец, Ляна нашла глухой овраг, заросший кустарником. Там они сравнительно спокойно прожили неделю. Гул артиллерийской канонады с каждым днем все удалялся на восток, и только изредка их беспокоили одиночные бойцы, отставшие от своих частей. Большинство из них были ранены. Ляне очень хотелось поговорить с ними, но политрук запрещал. Он боялся, что среди них могут быть немецкие агенты и дезертиры. И однажды, когда она хотела остановить хромавшего пожилого бойца, густо заросшего бородой, политрук схватил руку Ляны, сжал до боли.
— Что ты, голова твоя дурная!.. Погубить нас решила?…
— Евгений Антонович, я этого бойца видела в нашем полку.
— Ты могла обознаться… Категорически запрещаю вступать в разговоры без моего разрешения.
К концу недели отдохнувший Куранда заметно повеселел и стал вести с Ляной откровенные разговоры. Он даже рассказал ей о своей неудачной семейной жизни. По его словам, жену он не любил и не хотел с ней жить, но все не было подходящего случая для развода.
— У вас и дети есть? — спросила она. — Есть, но они большие. Сын закончил техникум, старшая дочь вышла замуж накануне войны, а младшая учится в седьмом классе. Я достаточно пожил для них, теперь надо пожить для себя.
И Куранда не сводил похотливых глаз с Ляны.
— Чего ты задумалась? Сколько ни думай, ничего не придумаешь. Свела нас с тобой судьба на одной дорожке. Надо тебе выходить за меня замуж.
Он хитровато прищурился улыбаясь.
— Так по рукам?
Глухая ярость ударила в голову Ляны.
— Не бывать этому! — резко сказала девушка. — Мы засиделись здесь… Завтра тронемся дальше.
— Но у меня еще болит нога, — застонал Куранда.
— Нога у вас уже не болит, а задерживаться здесь опасно. Утром я сделаю запас еды на дорогу.
На другой день на рассвете Ляна отправилась в близлежащие деревни за продуктами, но там уже были немцы. Пришлось направиться в дальнее глухое село в лесу. Вернулась она только на другой день к вечеру. Куранды не было. Ляна обошла ближние лесные овраги и, удрученная, вернулась в свой овражек. Политрук будто канул в воду.
Идти искать в близлежащие деревни она не решилась. Ее могли задержать немцы. Они заполонили танками, машинами и обозами тихие деревенские улочки. Ляна за эти дни видела в некоторых деревнях и расстрелянных и повешенных безвинных советских людей.
Она ждала политрука еще двое суток. Но он не появлялся, и она пожалела, что напрасно потеряла дорогое время.
Теперь уже ее не угнетало то постоянное чувство виноватости, которое сопровождало весь их совместный путь. На смену ему пришло всепоглощающее желание: во что бы то ни стало и как можно скорее догнать и перейти с каждым днем все удаляющуюся линию фронта. И, поставив перед собой заветную цель, она двинулась на восток.
…Таланова вышла на опушку леса. Тревожно огляделась. «Скорее бы перейти линию фронта. А там свои…»
Дорога раздваивалась. Один конец ее сворачивал на высотку, другой вился узкой стежкой по дну лощины, поросшему кустарником.
«По дороге идти опасно». И Ляна свернула в лощину с кустарником. Там было множество песчаных ям, заросших бурьяном. Видно, до войны здесь брали песок. И тут она услышала чье-то покашливание. Прислушалась… «Ну, конечно, это Куранда…» Ее охватил такой прилив радости, что она готова была ему простить все. Но, раздвинув кусты, она отшатнулась от неожиданности. На земле сидела разутая Наташа Канашова.
— Ты?! — удивилась Таланова.
— Я.
Наташа с досадой отбросила стоявшие рядом стоптанные кирзовые сапоги.
— А где же твои фасонистые? — улыбалась глазами Ляна.
— Раненого вытаскивала, каблук осколком срезало и голенище порвало. Пришлось бросить.
Таланова насмешливо относилась к щеголеватому виду Наташи, которая ходила в хромовых сапожках, гимнастерке из дорогого материала, и называла ее «фронтовой модницей».
Ляне стало жаль Наташу за то, что она вдруг стала так грубо выглядеть в этом мешковатом, изорванном обмундировании и тяжелых мужских сапогах. Но больше всего Ляну поразило, что Наташа встретила ее без прежней неприязни.
— Ноги вот растерла. Жгут огнем. У тебя не найдется кусочка бинта?
Таланова полезла в нагрудный карман, вынула какие-то документы и единственный бинт — вес, что осталось у нее от перевязочных материалов. Из комсомольского билета выпала фотография. С нее глядел красивый, улыбающийся лейтенант Жигуленко, каким его знала Наташа, когда он прибыл в полк. И сразу почему-то замерло сердце. Ляна стыдливо заморгала глазами, суетливо спрятала фотографию. Посмотрев на Наташу, она встретила сочувственный взгляд.
— Давай-ка перевяжу. Тебе неловко. — И стала торопливо забинтовывать ногу. Потом о чем-то задумалась и решительно встала.
— Подожди, я сейчас. — Она скоро возвратилась с флягой воды и пучком лопушистых листиков.
— Давай-ка промоем, — требовательно сказала она.
— А лопушок зачем? — полюбопытствовала Наташа.
— Подорожник это; а не лопушок. Привяжем, полежишь, и будет лучше. Ведь нам теперь идти далеко.
— Далеко, — охотно подтвердила Наташа. — Вместе ничего. Вот одной было страшно. Правда?
— Страшно. И опасней. А у меня вот пропал попутчик. — И она стала рассказывать о Куранде.
Как только приложили к потертым ногам прохладные листья подорожника, Наташе сразу стало легче.
— Хорошая ты, Ляна. А я, я…
И Наташа вдруг обняла подругу, прижалась к ее лицу щекой, как это делала в детстве, облегчая свое горе и ласкаясь к матери.
И Ляна почувствовала, как по ее щеке пополз теплый щекочущий ручеек.
2
Извечно существует у добрых людей потребность помочь попавшим в беду. Такое чувство появилось у Алены к раненому бойцу. Ей казалось, чем больше проявит она заботы, тем легче будет на фронте ее Андрею.
По ночам она долго ворочалась и не могла уснуть, думая о неизвестном будущем. Не раз она осуждала себя за то, что не эвакуировалась вместе со многими односельчанами. Ведь она могла поехать к родным Андрея на Дон. Могла уйти с дедом Кондратом в глухие леса Полесья. А теперь как быть? Надежда на возвращение Андрея с каждым днем отодвигалась все дальше и дальше.
Староста Скрынников заходил к ней, заигрывал, называл «цветиком». Аленка брезгливо вспоминала его противную улыбку и вороватые глаза. Он предлагал ей работать в комендатуре, но она отказалась, ссылаясь на то, что у нее малые дети. Большинство женщин их села состояло на учете, некоторые работали у немцев. А для нее староста делает снисхождение, хочет ей угодить. Будь у нее чуть постарше дети, она, не задумываясь, ушла бы в лес, где, говорят, скрывается большой партизанский отряд. А может, в отряде ее Андрей? Но куда она пойдет с малышами?
Аленка прислушалась. На чердаке ворочался боец. Видно, ему тоже не спалось. Он у нее жил уже третью неделю, но она знала о нем только то, что его зовут Сашей. В первые дни Аленка очень боялась: «А вдруг узнают немцы?» В деревне был такой случай, когда немцы расстреляли семью Дорошевых лишь за то, что они спрятали раненого советского бойца.
Аленка услышала, как на чердаке сдержанно кашлянул Саша. Пора вставать. Обычно на рассвете она приносила ему еду и воду на день.
В окне чуть брезжил рассвет. Зябко поеживаясь, она вышла во двор, осмотрелась и полезла на чердак. Когда она добралась до слухового окна и уже хотела нырнуть на чердак, увидела, что к ее дому идет со стороны леса какой-то человек. Сердце Аленки сжалось от мысли, что ее могли заметить. Она оглянулась еще раз, ио человека уже не было.
Миронов заметил испуг на ее лице.
— Что случилось? — спросил он.
Она рассказала.
— Зря расстраиваетесь, хозяюшка, — подбодрил он ее, — сегодня последний день, вечером тронусь в путь-дорогу.
После ухода Аленки Миронов выглянул из чердачного окна и увидел, что со стороны леса бежало к дому несколько немецких солдат и с ними один в гражданском. «Выследили», — мелькнула мысль. Не раздумывая, Миронов быстро опустился на руках, спрыгнул на землю. Острая боль кольнула в левую ногу, но Саша бросился через кустарник в лес.
— Хальт! Хальт![10] — завопили немецкие автоматчики, бегущие со всех сторон навстречу.
Когда до леса осталось не более пятидесяти метров, два немецких автоматчика забежали вперед, преградили путь. Саша почувствовал удар чем-то тупым и тяжелым по голове. В глазах поплыли огненные круги, и, теряя сознание, он свалился на землю.
3
Со связанными назади руками Миронова привели к штабу карательного отряда. Перед штабом стояли военнопленные. Большинство раненые. Немецкий солдат толкнул Миронова в спину и, показывая пальцем на группу военнопленных, крикнул:
— Шнеллер, шнеллер, русиш эзель![11]
На крыльце появился толстый, с бульдожьими челюстями немецкий офицер войск СС. Рядом с ним белокурая женщина. Миронов пристально всматривался в знакомое лицо женщины. «Да ведь это пленная летчица, задержанная под Минском».
— Ферштеэн зи деич? Вер бист ду офицер одер зольдат?[12] — выкрикнул немец, ворочая квадратными челюстями.
Миронов, с изжелта-синими кровоподтеками под глазами, молчал, глядя исподлобья. Взгляд его был полон презрения.
В воздухе свистнул стек. Но женщина схватила руку офицера. Она быстро сказала ему что-то, и он неохотно опустил стек. К Миронову подошел и стал рядом солдат с автоматом наизготовку.
Эльза побоялась приблизиться к злобно смотревшему Саше и, стоя на расстоянии десяти шагов, заговорила весело:
— Не правда ли, лейтенант, мы старый знакомый? Не узнаете? — откинув назад курчавую гриву золотистых волос, она вызывающе глянула на него. — Мы с вами встречались. Помните?…
На лице Миронова не шевельнулся ни один мускул. Губы его были плотно сжаты. Глаза смотрели куда-то поверх, как бы не видя ее.
Эльзе хотелось, чтобы этот русский лейтенант хотя бы одним молчаливым склонением головы признал себя побежденным, зависящим только от ее прихоти, и тогда она могла бы великодушно подарить ему жизнь. Но лицо Миронова словно окаменело, и только в уголках губ появилась презрительная улыбка.
Двое солдат, грубо подталкивая, вывели из толпы пленных Аленку. Миронов взглянул на нее, и сердце сжалось от ужаса: лицо и руки ее были в кровоподтеках, одежда разорвана. Взгляды их встретились, и Саша виновато опустил глаза. Она спасла ему жизнь «Надо было уходить раньше… А я колебался, смогу ли с едва поджившей раной перейти линию фронта… Теперь меня расстреляют, но, может, удастся спасти ее?»
— Эта женщина ни в чем не виновата! — крикнул Миронов. — Она не знала, что я спрятался на чердаке…
В глазах Аленки блеснули слезы, она посмотрела на Миронова и зарыдала.
Офицер сделал знак стеком, и двое солдат, подхватив Аленку, увели.
Эльза с улыбкой подошла ближе к Миронову:
— О, господин лейтенант, благородный мужчина! Вам жалко хороший женщина. Может, лейтенант желает меня о чем-либо просить?
В глазах Миронова блеснула ненависть, он не произнес ни слова.
4
Трое суток Миронова и Аленку избивали на допросах. На четвертые сутки, ничего не добившись, немцы вывели их из комендатуры и повели к Марьиной балке, где два дня назад уже расстреляли найденных в селах тяжело раненных бойцов и командиров.
Когда взошли на пригорок, печальный взгляд Аленки задержался на голубом небе, на темно-зеленой изгороди леса. До слуха донеслось пение невидимых птиц. И все, на что смотрела она, было освещено и согрето ярким солнечным светом. И вдруг Аленке, как никогда, захотелось жить.
Сухие, шершавые, до крови разбитые губы Аленки скривились от боли. Она надеялась: может, ветер донесет до Андрея то, что она шептала ему в последние минуты жизни. Сердце пронизывала боль при мысли о детях: на кого они теперь останутся?
Как бы прислушиваясь к птичьей песне, вокруг все умолкло, притаилось, и даже ветер перестал шевелить золотые листья, а в небе поползли, закрывая солнце, невесть откуда взявшиеся тучи, они, темнея, сгущались, набухали. Алена почувствовала, как с каждым шагом силы покидают ее.
Миронова и Аленку поставили рядом на краю обрыва.
Они пристально взглянули в глаза друг другу, молча прощаясь… Быстро бегут последние секунды жизни; близка уже неумолимая, не знающая жалости смерть…
Неожиданно на опушке леса раздался одинокий выстрел, и офицер рухнул на землю. Аленка и Миронов бросились бежать в разные стороны. Гитлеровские автоматчики открыли огонь. Аленка упала, а Миронов продолжал бежать к лесу. Лес ответил частыми, дружными выстрелами. В немцев полетели гранаты. Несколько человек, одетых в полувоенную, полугражданскую форму, выскочили на опушку. Ни одному из немецких карателей не удалось уйти живыми.
Партизаны окружили Аленку. Кондрат поднял с земли ее бездыханное тело, слезы катились по его щекам, теряясь в ковыльной бороде.
— Прости меня, внучка, старого. Виноват я, опоздал с выручкой…
Глава пятнадцатая
1
За письменным столом, склонившись над картой и подперев левой рукой подбородок, сидит командующий фронтом. В правой руке у него изогнутая трубка, концом которой он водит по карте. Он читает очередную оперативную сводку и сверяет ее данные с картой. Усталые, но с живым блеском глаза командующего остановились на Брянских лесах. Он долго, внимательно рассматривает их на карте, вглядывается в эти зеленые пятна леса, в эти вьющиеся ниточки дорог со множеством мелких черных миллиметровых квадратиков, обозначающих деревни, в тонкие голубые нити, будто кровеносные жилки на руке, — ручьи и реки. Синие жирные клинья вражеских ударов нацелены на Брянск.
— Вот тут мы его и остановим, — говорит он тихо. — Нам это на руку: крупные лесные массивы, частые речные рубежи, узкие лесные дороги…
Командующий берет со стола синий карандаш и исправляет указанное в сводке и нанесенное пунктиром на карте предполагаемое направление дальнейшего наступления противника. Оно показано было на Курск, Елец, Тамбов, но командующий поворачивает его с Брянска на Орел и Тулу.
«Хитрят гитлеровцы… На самом деле, несомненно, они замыслили обойти Москву с юго-запада», — думает он.
В кабинет входят начальник штаба и начальник разведотдела. Командующий встает и здоровается с ними. Затем зажигает спичку и не спеша раскуривает трубку. В уголках его губ проскальзывает едва заметная улыбка, глаза мягко, задумчиво улыбаются.
— Канны, — говорит он, показывая изогнутым концом трубки на карту, — никак не дают покоя гитлеровским стратегам. Хотят обойти Москву с юго-запада.
Начальник штаба подходит ближе к столу, всматривается в карту, лежащую перед командующим.
— Эта мечта о Каннах, кажется, не покидает их от самой нашей границы.
— Да, — подтверждает командующий, — они уже давно все наши армии окружили и уничтожили… в своих газетах. И с кем только они воюют, неизвестно. Здесь они сосредоточивают танковую ударную группу Гудериана, — показывает он концом трубки на леса западней и юго-западней Брянска, — для удара на Москву. А чтобы отвлечь наше внимание, сейчас немцы наступают под Ленинградом и на Украине. Но это лишь вспомогательные удары их общего стратегического плана, имеющего главную цель — захватить Москву.
Лицо командующего фронтом сосредоточенно и задумчиво.
— Думаю, так, — говорит он. — Немцы демонстрируют наступление на Западном фронте, желая ввести нас в заблуждение, что они собираются овладеть Москвой, наступая в лоб. На самом деле они сосредоточивают свои усилия на флангах и будут пытаться обходить и брать столицу в свои излюбленные «клещи». А какое у вас мнение по этому вопросу, товарищи?
— В сложнейшей обстановке мы не можем ожидать подхода свежих резервных дивизий, — говорит начальник штаба. — Ожидать в такое время — значит погубить дело обороны Москвы. Нужно произвести как можно быстрее перегруппировку наших наличных сил и средств.
Командующий поднял глаза от карты.
— Давайте, — предложил он, — передадим вновь формирующейся армии генерала Кипоренко две дивизии из резерва и танковую бригаду. А для того чтобы сорвать замысел врага о танковом таране на Москву, выделим в помощь Кипоренко побольше авиации. Ее задача — нанести мощный воздушный контрудар по гудериановской танковой группировке, чтобы парализовать ее дальнейшие действия. А к этому времени подойдут свежие резервные армии из глубины страны, и тогда план немцев будет сорван. Одновременно необходимо усилить оборону на правом фланге и стыке с Западным фронтом. Как вы считаете, товарищи?
Начальник штаба доложил о том, что до сих пор задерживается прибытие воздушной армии. Командующий продолжал напряженно думать, на лбу его появились две острые поперечные морщинки. Он неторопливо выбил пепел из трубки.
— Остается один важный вопрос, — сказал он, — Это об организации контрудара в районе западнее Трубчевска. Но решение этого вопроса отложим до предварительного доклада в Ставку верховного главнокомандующего.
Вскоре после ухода «штабистов» в кабинет вошел адъютант. Зная, что командующий не выпил еще даже стакана чаю, а был уже полдень, он предложил ему позавтракать.
— Позавтракать? — переспросил командующий. — Что ж, позавтракать надо, от этого, к сожалению, нельзя освободиться. — Он наклонился над картой, сделал для себя какую-то заметку и, зажигая трубку, приказал: — Вызовите ко мне к семнадцати часам генерала Кипоренко.
2
Генерал Кипоренко вывел, наконец, армию из окружения и сразу же получил распоряжение влить ее во вновь формирующийся по приказу Ставки Брянский фронт. Из всей армии Кипоренко остались только две дивизии, да и те измотанные, значительно утратившие боеспособность. Они заняли рубежи на левом берегу реки Десны, восточнее Брянска. Необходимо было вновь формируемые дивизии укомплектовать личным составом, вооружением и материальной частью, пополнить боевыми машинами танковые бригады.
Канашова назначили командовать дивизией, ему было присвоено звание полковника. Дивизия эта была выведена во второй эшелон армии и находилась на формировании и отдыхе. Остро стоял вопрос о дальнейшем существовании двух полков, у которых были потеряны знамена. Ходили тревожные слухи, что их расформируют.
Генерал Кипоренко все эти дни не вылезал из машины. Объезжая части и соединения, командующий заехал и к Канашову.
Канашов принял его, стоя на костылях, правая нога его была еще в лубке, левая рука подвешена.
— Не надо рисковать. Рано начинаете ходить. Знаете, Михаил Алексеевич, конь на четырех ногах, да и тот спотыкается… Полежали бы еще с недельку. В оборону стали, куда теперь торопиться.
— Ох, как надоело, товарищ генерал, — признался Канашов. — И кругом опека. — Он кивнул головой в сторону старшины Ракитянского, который выполнял одновременно несколько должностей: и ординарца, и адъютанта, и связного.
— Построже присматривайте за ним, — сказал с нарочитой суровостью Кипоренко, глядя на молодого, смущенно улыбающегося старшину Ракитянского.
— Как насчет моего бывшего полка? — непривычно робко спросил Канашов.
— Вопрос весьма сложный, — ответил генерал. — На днях буду в штабе фронта, посоветуюсь с командующим. Доложу. По-видимому, придется расформировать, — сказал он с явным сожалением.
Кипоренко знал полк Канашова с первых дней войны и высоко ценил, его. Но что он мог сделать, коли утеряно полковое знамя?
Канашов не раз вспоминал, как он отдал приказание лейтенанту Миронову спасти знамя полка. Сейчас, разбираясь в той сложной обстановке, ясно понимал, что разыскать знамя было невозможно. «Зря оставил Миронова, — думал он. — Только потерял еще одного командира…»
Сам не зная почему, Канашов чувствовал себя виноватым перед дочерью.
3
К концу августа танковой группе немцев удалось захватить предмостные укрепления на реке Десне. Вскоре после этого началось стремительное наступление немецких танковых дивизий в обход Брянска. Дивизия Канашова, не завершив формирования, снова начала боевые действия. Немцы метались вдоль линии фронта, попеременно нанося удары на различных участках и стараясь нащупать наиболее слабое место в нашей обороне. Дивизии Мильдера удалось прорваться в направлении Кромы. Немецкое командование любой ценой стремилось овладеть этим небольшим городком. Захват его позволил бы выйти всей танковой группе на важную шоссейную магистраль, ведущую на Орел, и перерезать железнодорожную ветку Орел-Курск.
Армия Кипоренко, ведшая тяжелые оборонительные бои, была обойдена и отрезана в районе восточнее Десны в знаменитых Брянских лесах. Дивизия Канашова получила приказ начать отход в направлении Орла за реку Оку. Командование дивизии и полка, которым временно командовал Бурунов, размещалось в одинокой избушке на окраине села Перелазы.
…Тускло мерцает керосиновая лампа, отбрасывая на стены причудливые тени. Печатает приказы пожилой боец из хозвзвода. Его непослушные толстые пальцы захватывают сразу по два-три клавиша.
Канашов уже перестал считать себя раненым, втянулся в работу и сам готовит дивизию к отходу, хотя, передвигаясь на костыле, он еще нередко морщится от боли.
Днем и ночью он рассылает офицеров связи с приказаниями, принимает командиров полков, сам просматривает все важные документы и особенно интересуется сведениями о противнике. «Если есть новое о немцах — докладывай в любое время, буди, если отдыхаю», — приказал он начальнику разведки дивизии.
Канашову помогает капитан Харин, разжалованный командующим фронта за ложное заявление на комдива. У него подвешена левая рука и перевязан лоб. Получая приказания от Канашова, он старается не встречаться взглядом с полковником и только сухо, односложно отвечает: «Есть», — и торопится выполнять приказание.
Канашов, шурша картой, изредка подносит ко рту карандаш, грызет его. За столом Бурунов делает какие-то пометки на карте. Он только что получил новые данные от полковых разведчиков и уточняет их.
В углу на лавке сидит старший лейтенант Андреев — единственный командир, уцелевший из штаба полка. Он временно исполняет все штабные должности.
— Товарищ батальонный комиссар, — обращается он к Бурунову. — Давайте назначим начальником связи лейтенанта Шураева, командира взвода связи.
— Назначайте, — отвечает, не отрываясь от карты, Бурунов. — Подберите людей на все вакантные должности и доложите обо всех сразу, а свою должность сдайте Петрунину, командиру взвода конной разведки. Заготовьте о себе приказ и, не откладывая, вступайте в должность начальника штаба… Вы скажите мне точно, товарищ Андреев, есть ли у немцев здесь танки или нет? Из ваших данных я ничего не пойму. Вчера докладывали: слышен лязг гусениц, в сегодняшней сводке ни слова об этом.
Андреев отвечает виновато:
— Товарищ батальонный комиссар, я сам вчера ночью проверял. Ошиблись наблюдатели: это не танки, а артиллерийские тягачи. Танков у немцев нет, — говорит он не совсем уверенно.
— Смотрите, Андреев, если подведете, не сносить нам головы…
Бурунов пристально поглядел в глаза начальника штаба. Андреева раздражает эта излишняя осторожность и недоверчивость нового командира полка. Канашов, тот бы не стал подвергать сомнениям его доклады.
Впрочем, Андреев и сам колеблется: «Может, и впрямь у противника танки?» Глубокой разведки провести не удалось… Поиск он намечал сегодня ночью.
— Я проверю, товарищ батальонный комиссар.
У порога расположились связные. Они ждут приказаний.
— Опять обрыв, — говорит связист и, тяжело вздохнув, собирается идти на поиски поврежденной линии.
Где-то недалеко слышны взрывы. Непонятно, бомбят или артиллерийский обстрел.
У печи, на ящиках, склонив голову на выцветшую брезентовую сумку с красным крестом, дремлет Аленцова. «Разве он может поправиться, — думает она, — если постоянно нарушает медицинский режим?»
— Товарищ полковник, — наконец, не выдержав, говорит она. — Вам нельзя напрягаться, опять откроются раны. Вы никогда не поправитесь…
Легко подходит она к Канашову, поправляет бинты и кладет его левую руку в лубке повыше на подушку.
— Проглотите, — приказывает она, протягивая ему таблетку. — Смотрите, товарищ полковник, не будете слушать, доложу командующему. Вы ведь обещали ему выполнять режим.
Канашов морщится не то от боли, не то от упреков, но возражать бесполезно. И он, покорно положив таблетку в рот, жует и смотрит в карту.
— Николай Тарасович, иди сюда.
Бурунов склоняется над картой, исчерченной красными и синими дужками, змейками со стрелочками, гребешками, крестиками, извилистыми линиями. Толстые синие клинья с ромбиками — вражеские танковые войска — идут в направо лении Орла. В них с правого фланга булавочными красными стрелками вонзаются направления контратак наших подразделений, они должны отвлечь главный удар врага.
— Полк Загуляева займет исходное положение от балки до высоты 120,7, — говорит тихо Канашов. — В этом полку наберется людей до батальона. Полк Кленова, точнее — там две роты, оставляю в своем резерве… Вот в этой роще, у железнодорожного моста, — показывает он кончиком карандаша на карте. — Твой полк по численности самый большой в дивизии и самый сильный по вооружению. Стало быть, тебе придется наносить главный удар во фланг противника. Ты подумай и доложи решение…
Бурунов подошел к Канашову. Длинно, задерживаясь на второстепенных деталях, он доложил решение. Канашов не терпел таких докладов и обычно прерывал командиров, делая им замечания. Но доклад Бурунова выслушал до конца.
— Вот две лесные тропинки, — указал карандашом Бурунов. — По-моему, надо нанести удар справа и перерезать шоссейную дорогу, а слева отвлекать немцев небольшими силами. Создам видимость наступления. Разрешите начать выдвижение батальонов в исходное положение для атаки?
— Действуй. Завтра с утра — атака. Надо тебе встретиться с командиром соседнего полка. Там командует сейчас капитан Загуляев.
— Эх, Михаил Алексеевич, вот бы мне полдюжины танков, можно было бы попугать немца…
— А у тебя же тракторные тягачи есть. Пусть ночью ползают по дорогам…
— Хорошая идея, Михаил Алексеевич, но у меня один.
— Три я тебе дам. И хватит… Первый бой, который ты организуешь сам… Это тебе экзамен на командира полка. Выдержишь — пошлю учиться в академию.
4
Дивизия подготовилась к наступлению. Кругом ни единого признака жизни — мертвая тишина. Лишь изредка взвиваются в воздух немецкие зеленовато-белые ракеты, освещая все мертвенно-бледным холодным светом. Обнаженный лес почернел, притаился в ожидании, сливаясь с предрассветной мглой. На востоке чуть приметно светлеет небо, и постепенно все вокруг приобретает более ясные очертания. В долинах и оврагах клубится легкий сизо-молочный туман.
По щелям, окопам и оврагам, на огневых позициях скрытно расположились и замаскировались бойцы.
Все с нетерпением ждут конца этого томительного, выматывающего душу затишья.
В небе заурчал немецкий самолет-разведчик. Он идет высоко, его не видно, и только доносится злое урчание мотора.
Вдруг тишину раскололо несколько взрывов на дороге, огибающей лес. Это немцы начали обстрел, предполагая, что оттуда начнется наше наступление.
«Значит, недаром ночью ползали наши тракторные тягачи», — радуется Бурунов.
На наблюдательный пункт пришел Канашов.
Пока вражеская артиллерия ведет огонь, разведчики и наблюдатели засекают огневые точки немцев и передают эти данные.
— Новый артиллерийский дивизион пришел на рассвете, — докладывает Бурунов. — Боялся я, что не успеют подготовиться к бою.
— Сколько у них?
— Семь орудий.
— Ну и дивизион…
Оба смотрят на часы.
— Начинай! — командует Канашов.
Бурунов берет трубку и говорит хриплым от волнения голосом одно слово: «Буря». И вдруг сразу отовсюду — из леса, кустарника, оврагов, балок, с дороги и лесных высот вырывается ярко-оранжевое пламя, и громоподобный грохот обрушивается на позиции противника.
Огненная стена, нарастая, идет в глубь расположения врага. Противник никак не ожидал, что здесь, на его фланге, в лесной глуши, среди болот и безмолвных одиноких высот, на него может обрушиться столько огня и металла. Он растерян. Разбитая в боях на Днепре русская армия, оказывается, продолжает жить и сражаться. Еще немного — и она сомнет правофланговые части немцев, нацеленные для удара по городу Брянску…
От Кипоренко прибыло срочное сообщение: танковая бригада на подходе. Она должна обрушить удар на расстроенные боевые порядки гитлеровцев, как только Канашов сообщит об успехе атаки своей дивизии. Две другие дивизии этой армии, пользуясь отвлекающим прикрытием дивизии Канашова, совершают ускоренный марш-отход. Они должны прорваться и выйти из окружения севернее Брянска.
Бойцы, воодушевленные короткой, но мощной артиллерийской подготовкой, с нетерпением ждут сигнала атаки. Кое у кого появляется улыбка, озаряя потускневшие усталые глаза.
— Ох, и долбанем сейчас немца! — говорит Еж, натягивая потуже на лоб пилотку. — Ты, гляди, не отставай от меня, — предупреждает он Мухтара.
Тот косит на Ежа темными, как ночь, глазами и гремит дисками, вытаскивая их из коробки.
Новохатько, тяжело сопя, ползет на животе недалеко от позиции пулемета. Осматривая бойцов, он говорит строго Ежу:
— Ты что патроны палишь? Спужавсь, чи шо? Це ще не последняя атака…
— Кто идет вперед, того страх не берет, — сверкнул глазами Еж.
Уже совсем рассвело. Полк молча поднимается в атаку и идет, сближаясь с врагом. Повсюду, по лесу и на полянах, рассыпались полусогнутые фигуры бойцов. Прячась за темные стволы деревьев, короткими перебежками продвигаются они вперед.
Над землей стоит маревая пелена пыли, песка и дыма. А там, за дорогой, где начинаются позиции врага, суетятся ошеломленные немцы. Снаряды и мины свистят над головой. Сейчас не поймешь, где свои и где чужие.
Через некоторое время после начала нашего артиллерийского налета оживляется немецкая артиллерия. Но она не причиняет больших потерь нашей пехоте. Немцы стреляют наугад, огонь их беспорядочен.
То там, то здесь-вспыхивают, крики «ура». Они перебрасываются с одного фланга на другой, то ослабевая, то усиливаясь, пока не захватывают своим могучим порывом всех бойцов, постепенно перерастая в грозный шум:
— Ура-а-а!.. Ура-а-а!..
Как морской прибой, доносится этот шум до наблюдательного пункта Канашова. И вот уже немцы, застигнутые врасплох, бегут, бросая оружие. Фланг противника смят.
Но вот командиры батарей один за другим докладывают, что снаряды на исходе.
— Ах, черт возьми! — возмущается Канашов, бросая трубку. — Так хорошо начали — и вот! Ты на гору, а черт за ногу…
Через полчаса из лесу доносится шум моторов и лязг гусениц.
— Вот, наконец, и танковая бригада. — И Канашов приказывает артиллеристам прекратить огонь.
Вскоре на дорогах появляются колонны пехоты, обозы. Бурунов, продолжая наблюдать в бинокль за движущимися колоннами войск, говорит комдиву:
— Наверно, наши дивизии…
— Готовь полк к отходу, — приказывает Канашов. — В заслоне останется полк капитана Загуляева. Ну, Николай Тарасович, экзамен ты выдержал, — хлопает он по плечу Бурунова.
Глава шестнадцатая
1
Осень на исходе… Ветер срывает последние сухие листья, чудом уцелевшие на деревьях. Лес опустел, почернел, исчезли живые, ласкающие глаз краски.
Начались заморозки, а вскоре выпал первый снег, но он не прикрыл землю, и в ворохах пожухлых листьев белел клочками распотрошенной ваты.
Все было необъяснимо странно… Дивизия Канашова готовилась к наступлению, а полк Бурунова, входящий в ее состав, готовили к расформированию.
Канашов собрался ехать к командующему просить его ускорить прибытие маршевых батальонов, когда на пороге появился полковник Быстров. Не здороваясь, он закричал:
— Наши-то наступают! Смотри, как под Ростовом долбанули, до Таганрога Клейст бежал без оглядки!
— Хорошие вести каждому человеку душу греют, — ответил Канашов, с беспокойством поглядывая на полковника: «Чего приехал… Наверно, насчет моего бывшего полка…»
— Наша армия тоже готовится…
Быстров сел к столу, закурил.
— Когда закончишь формировку дивизии? Смотри, командующий армией недоволен: «Затянул, — говорит, — Канашов…»
— А чем формировать прикажете, товарищ помощник начальника штаба? Может, мобилизовать в деревнях женско-стариковские роты? Вооружить их гранатами, лопатами и — на передовую.
— Да ты брось чудить, Михаил Алексеевич! Батальоны маршевые к тебе прибывают… Оружия вот-вот целый эшелон придет.
— Улита едет, когда-то будет, а пока прибыли четыре батальона. Об эшелоне этом уже полмесяца слышу. Вот так я доложи обо всем командующему.
— А ты лучше напиши ему. Официальный документ все же.
— Как ты к бумагам привык!.. Без них ни шагу. Ты, наверно, и машинисткам в штабе без письменного заявления не разрешаешь выйти.
— Вот ты смеешься, Михаил Алексеевич, а напрасно. Бумага на тебя работает, тебя защищает. Коснись чего серьезного, от слов всегда можно отказаться… А бумага, она на учете.
— Ладно, ладно, дадим тебе бумагу. Прикажу начальник ку штаба написать. Но ты все же командующему доложи устно… А то боюсь, как бы не бросили дивизию в бой недоукомплектованную. В спешке все может быть. Кстати, ты не знаешь, как решено с моим бывшим полком?
— Знаю… Командующий поручил мне его расформировать… Бойцов раздадим по подразделениям… Ну, а командиров будем судить согласно указу…
Ледяной тон и равнодушие Быстрова острым ножом резанули по сердцу Каиашова. Сразу заныли раны, спазма перехватила горло, и полковник, пошатнувшись, сел. С того времени, как разгромленный полк отступил от Днепра, его постоянно мучала неизвестность о Наташе.
Быстров с изумлением отметил, как этот, по его мнению, черствый себялюбец, делающий все ради собственной славы, на глазах сник, разом постарел, глаза стали пустыми, тусклыми. И тут он в первый раз заметил, что виски полковника совсем седые. «Что это он, будто я ему о гибели друга сообщил…» И, желая хоть немного разрядить тягостное состояние, Быстров сказал:
— Тут надо разобраться, но, по-моему, не ты тут виноват, а Русачев. Сколько раз я говорил тебе, Михаил Алексеевич, чтобы ты обстоятельно написал обо всем командующему. Были бы теперь документы. Зачем чужим грех на душу брать?
Канашов резко повернул голову в его сторону, с лица мгновенно сошла усталость… Оно стало суровым, волевым.
— Нет! Сам я виноват! И на мертвых плевать не буду!
— Ну, как знаешь! Пусть решает командующий…
— Алексей Иванович, ну, скажи, разве справедливо расформировывать один из боевых полков этой славной дивизии? — спросил Канашов. — Ведь как воевали люди! Это даже сам враг признает. От тысячи горстка осталась. А как эти люди свой полк любят! Можно ли такую боевую единицу ликвидировать?!
— Это все верно… — начал Быстров.
— А если так, — перебил Канашов, — помоги мне. Пока я к командующему армией съезжу, отложи дня на три расформировку! Дай телеграмму, попроси разрешение.
— Нет, этого я сделать не могу. Мы люди военные. Приказ есть приказ. Если бы какая бумажка… Слышал: «Без бумажки — ты букашка, а с бумажкой — человек».
— Эх ты, бумажка!.. Без тебя добьюсь правды! — И, презрительно глянув на Быстрова, Канашов вышел, хлопнув дверью.
Бурунов поднялся и молча направился к выходу. Неожиданно распахнулась дверь, и вбежал запыхавшийся Харин.
— Вам шифровка, товарищ полковник! Только что из штаба фронта получена…
Быстров пробежал глазами бумагу, и на лице появилось удивление. «Расформирование полка прекратить. Ждать дальнейших указаний. Кипоренко», — раздельно прочел он.
2
До получения этой шифровки полк строился по нескольку раз в день. Лучших бойцов направляли в другие подразделения.
— Обидно, ребята! Сколько боев выдержали, — сетовали они, — а теперь в глаза друг другу стыдно глядеть…
— Да и командиры у нас были стоящие, боевые. Умели воевать, что и говорить…
Бесконечные построения надоели, и все открыто выражали свое недовольство. Вот почему, когда опять была подана команда: «Выходи строиться!» — все неохотно потянулись на опушку леса.
Со стороны одинокой бревенчатой избы, где находился штаб полка, показалось несколько командиров, среди них Канашов, Бурунов, Харин. Бойцы, настороженно поглядывая, решили, что пришли забирать последних бойцов. «Не будет скоро нашего полка…»
И, будто интересуясь происходящим, солнце выглянуло из-за взлохмаченных тяжелых туч, пытаясь определить, зачем собираются здесь люди и что они намерены делать в этом бесприютном лесу.
И вдруг на опушке леса появилось кумачовое полотнище.
— Андрей Полагута, Андрей Полагута! — зашелестели в рядах красноармейцев взволнованные голоса, — Гляди, он уже сержант.
В крупной широкоплечей фигуре знаменосца, в его спокойной и уверенной осанке было что-то величественное.
— Ребята, да это же наше полковое знамя!
Полагута дошел до середины строя и, повернувшись лицом, медленно снял с плеча свежевыструганное древко знамени, бережно поставил наземь, будто это было не древко, а дорогой хрустальный стержень и его можно разбить.
К знамени подошли прихрамывающий полковник Канашов, батальонный комиссар Бурунов и стали по обеим сторонам знаменосца.
Ветер кинулся к порванному осколками и пулями полотнищу с темно-багровыми пятнами запекшейся крови, заколыхал, поднял это знамя, и Канашов невольно закрыл глаза.
— Товарищи бойцы и командиры! — прозвучал взволнованный голос Бурунова. — Сегодня в наш полк прибывает новое пополнение. Оно вольется в нашу боевую, дружную семью.
«Что он говорит? Какое пополнение, когда полк расформировывают?» — переглядывались между собой бойцы.
И дальше все, что видели ветераны полка, походило на волшебный сон.
Из глубины леса донеслось звонкое ржание, и вот из-за почерневшего частокола оголенных деревьев выскочила шестерка могучих, упитанных коней. Они легко, играючи, тащили за собой приземистое орудие с коротким, курносым стволом. Одно, другое, третье, четвертое… Это была полковая батарея.
И тотчас же с той стороны, откуда вынесли знамя, появились подразделения в новеньком обмундировании и снаряжении. Они проходили мимо присмиревших, изумленных бойцов и пристраивались на левом фланге полка. Минометчики — первые номера — несли на плечах пахнущие свежей краской темно-зеленые трубы, вторые номера — выпуклые сверху и ребристые снизу чаши плит, третьи номера звенели цепями двуноголафетов, похожих на большие циркули-измерители. Пулеметчики — первые номера — несли новые «максимы» с гофрированными кожухами, а плечи и спины вторых номеров оседлали станки.
Стояла настороженная тишина, от которой позванивало в ушах.
Комиссар говорил, а бойцы все — и молодые безусые хлопчики, вчерашние школьники, и усатые сибиряки-добровольцы, почтенные отцы семейства, и обожженные огнем войны ветераны полка, проливавшие кровь на полях сражений, — смотрели как завороженные на полковую святыню — знамя. Оно подчиняло их одной цели — служить делу защиты Родины.
Тяжелые следы войны покрыли это знамя неувядаемой славой, внушая бойцам невольное уважение и вселяя уверенность в его бессмертной силе. Эта сила помогала им покорно переносить все тяготы армейской жизни, она вела их вперед во имя победы!
— В последних боях на Днепре, — говорил Бурунов, — танки противника прорвались к командному пункту полка, пропало знамя. А потерять знамя — значит не жить части! Ибо мы с этой потерей теряем честь, позорим боевую славу полка… Но этого не случилось. Знамя не погибло… Мы гордимся нашими боевыми товарищами — командиром роты старшим лейтенантом Мироновым и командиром отделения сержантом Полагутой. Они спасли знамя!..
И если бы мог Миронов видеть сейчас глаза сотен незнакомых ему солдат, смотревших на это боевое знамя, он бы непременно написал хорошие стихи о знамени, которые так тогда и не написал.
Бойцы и командиры с гордостью и уважением смотрели на мощную фигуру знаменосца.
Когда порывы ветра ослабевали, знамя опускалось на широкое плечо Полагуты, будто желая отдохнуть, и нежно ласкалось к щеке, освещая лицо знаменосца отсветом пламени.
— За мужество и героизм, — звучал звонкий голос Бурунова, — проявленный Мироновым и Полагутой, перешедшими линию фронта со знаменем, они представлены к высокой правительственной награде — ордену Ленина.
— Товарищ комиссар, а где старший лейтенант Миронов? — выкрикнул сорвавшимся голосом боец Еж.
На него осуждающе посмотрели румяные, крепко сбитые молодые бойцы-сибиряки.
— Старший лейтенант Миронов ранен, — ответил Бурунов. — Он в госпитале…
Канашов пристально всматривался в лица стоявших против него бойцов и командиров, стараясь отыскать среди них ветеранов полка, и ему вдруг показалось, что знакомые лица редки. Его вдруг охватило беспокойство, и, желая проверить свои предположения, он подал команду:
— Товарищи бойцы и командиры, кто воевал под этим знаменем, — три шага вперед!..
И разом колыхнулась мощная стена, а на прежнем месте осталась пятая часть полка.
— Товарищи, — продолжал комиссар, — через несколько дней мы снова выступаем на фронт и пойдем в бой под этим священным знаменем, которое вручила нам партия, чтобы защищать честь, свободу и независимость нашей Родины! По установившейся в полку традиции, на строевом смотре в голове колонны со знаменем идет лучшее подразделение части. Сегодня это почетное право завоевала рота, командир которой вынес знамя с поля боя.
Комиссар подошел к знамени, сиял шапку, стал на колено и, взяв в руку конец знамени, поцеловал, а потом, выйдя на середину, подал команду: «Знамя — вперед!» Знаменосец поднял древко с земли и, сопровождаемый двумя ассистентами, вынес знамя на правый фланг полка.
Из строя вышел худощавый старший лейтенант с синеватым шрамом на лбу. Это был Сорока — новый командир роты, которой прежде командовал Миронов. Он расправил складки под поясным ремнем, строго оглядел бойцов, подал команду и вывел роту в голову колонны полка.
Полк тронулся торжественным маршем, проходя мимо командования. Кумачовое полотнище знамени, освещенное лучами солнца и подхваченное резким порывом ветра, заполыхало костром. Оно увлекло за собой грозную силу людей с оружием и боевой техникой. Теперь, говоря военным языком, это была подлинная воинская часть. Ее возродило к жизни знамя!.. В часть пришли новые защитники родной земли. Они пришли на смену погибшим, раненым, без вести пропавшим. Пришли продолжать сражение, защищать честь Родины.
Примечания
1
КЭЧ — квартирно-эксплуатационная часть.
(обратно)2
УР — укрепленный район, который создается обычно на государственной границе заблаговременно и подготавливается средствами полевой и долговременной фортификации для ведения длительной и упорной обороны.
(обратно)3
Марушка — милка.
(обратно)4
Домовина — гроб.
(обратно)5
Гузырь — конец.
(обратно)6
Баглай — лентяй, лежебока.
(обратно)7
КПП — контрольно-пропускной пункт.
(обратно)8
НЗ — неприкосновенный запас.
(обратно)9
ЦПШ — церковно-приходская школа.
(обратно)10
Стой!
(обратно)11
Быстрее, быстрее, русский осел!
(обратно)12
Понимаете по-немецки? Кто ты — офицер или солдат?
(обратно)






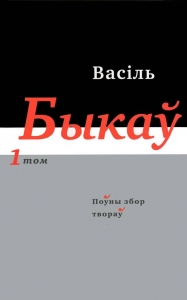

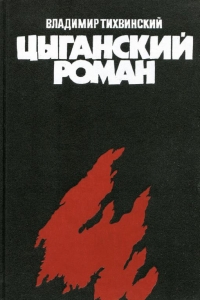
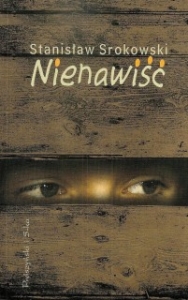
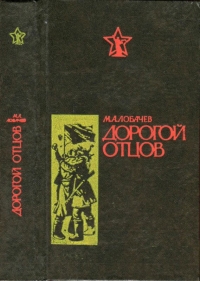
Комментарии к книге «Годы испытаний. Книга 1. Честь», Геннадий Иванович Гончаренко
Всего 0 комментариев