Жизнь вечная
ПРЕДИСЛОВИЕ
…Простая польская женщина, далеко не главная героиня романа «Жизнь вечная», шепчет отходную вслед ведомым на казнь, чтобы они, по ее разумению, как положено расстались с земной юдолью. Молва гласит, будто бы в годину войны и нашествия человек для человека и не мог сделать большего. Но та же женщина, как выясняется, прятала и выхаживала у себя в подполе парнишку — беглеца из гетто, а потом польского юношу, тоже преследуемого оккупантами. Значит, права не молва мирская, прав художник, способный обнаружить потаенный свет в потемках души человеческой.
«Жизнь вечная» — первый изданный на русском языке сборник Ришарда Лисковацкого (род. в 1932 г.) — известного польского прозаика, поэта, публициста и драматурга. Отец писателя, выходец из богатой помещичьей семьи, еще до войны порвал со своей средой и примкнул к рабочему движению. История его жизни положена писателем в основу романа — «Теперь, всегда, никогда». В Советском Союзе публиковались отдельные рассказы Лисковацкого в периодической печати и коллективных сборниках: «Польский рассказ» (1974), «Сон-трава» (1980), «Январское наступление» (1985). Но и эти небольшие по объему немногочисленные публикации не прошли незамеченными. Ведь в них выступали не безразличные советским людям персонажи — участники антифашистского Сопротивления подпольщики-коммунисты и партизаны Армии Людовой, солдаты Войска Польского, действовавшие в составе 1-го Белорусского фронта. Рядовые, безвестные труженики войны. Они исчезли в ее пламени, успев, однако, хоть на какую-то долю секунды приблизить день Победы, выполнили свою историческую миссию.
Мне первому довелось в свое время знакомить русского читателя с образцами малой прозы Лисковацкого. И должен признаться, что, пожалуй, впервые столкнулся со столь сложным материалом, при всей его внешне обманчивой простоте. Трудность заключалась даже не в органичном сочетании идейной остроты с тонким психологическим рисунком и авторской верностью принципу «естественной драматургии». У иного художника, периодически возвращающегося к излюбленной исторической тематике, при внимательном сопоставлении текстов, порой обнаруживаешь постепенный спад эмоционального накала, увеличение дистанции от предмета изображения. Лисковацкий же с поразительной точностью воссоздает обжигающее дыхание любого давно отгремевшего дня, если только день этот отдан борьбе или хотя бы мечтам о ней. Он обладает счастливым даром хранителя некоего вечного огня, который помогает ему высвечивать по-новому бесконечно варьируемый трагизм, казалось бы, примелькавшихся в литературе ситуаций. Тут, как выяснилось после долгих поисков соответствующего «ключа», положительный результат для переводчика зависел не столько от стажа и уровня профессионализма, сколько от сопереживания. От способности подключить к процессу перевода воспоминания о встречах с людьми, подобными героям Лисковацкого, о километрах, пройденных с польской пехотой по польской земле, мимо солдатских могил 1939 года и позднейших — партизанских, возле которых оставались новые могилы — участников освободительного похода.
Подпольщики, партизаны и фронтовики — традиционные персонажи произведений Лисковацкого. Писатель обращается к ним с вполне определенной, высокой целью.
«Война — главная тема моих книг, — подчеркивал он в обращении к советским читателям, предпосланном публикации в сборнике «Сон-трава». — Я пишу о тех жестоких годах не для того, чтобы бередить зарубцевавшиеся раны. Мне хочется напомнить молодому поколению, что есть в нашей истории дела, достойные вечной памяти».
Вероятно, иной творческой задачи и не мог ставить перед собой художник, награжденный нагрудным знаком «Сын Полка», который был не просто свидетелем и жертвой войны, отнявшей у него отца, но и активным участником одного из наиболее трагических ее эпизодов. Ему едва исполнилось семь лет, когда гитлеровцы вторглись на его родную улицу Марии Казимеры — главную улицу его родного Маримонта, района Варшавы. Она была в те годы единственной европейской столицей, где почти ежедневно совершались массовые расстрелы, срежиссированные наподобие устрашающих публичных казней средневековья, а в центре находились огромное гетто и лагерь уничтожения. Будущий писатель жил в городе — страдальце и герое, который в сентябре 1939 года, будучи брошенным на произвол судьбы буржуазным правительством и верховным командованием, организовал оборону и сдался, лишь израсходовав боеприпасы, а затем стал центром антифашистской борьбы, дважды восставал против оккупантов.
Двенадцати лет от роду в дни Варшавского восстания 1944 года Ришард Лисковацкий — связной на Маримонте, жители которого поныне законно гордятся, что стихийно поспешили на подмогу соседнему Жолибожу, восставшему гораздо раньше назначенного часа. В повстанческой судьбе будущего писателя нет ничего исключительного. Сотни двенадцатилетних заранее готовились в младших отрядах подпольной харцерской организации к вспомогательной тыловой службе на случай восстания. Когда же первого августа 1944 года пробил условный час «W» и город превратился в сплошное поле боя, от тыловой службы сохранилось одно название. Тылами могли условно считаться только зоны менее интенсивного артобстрела. Да мальчишки и не искали тихих мест, рвались туда, где жарче. Даже песню сложили о себе, начинающуюся знаменательными словами:
Нам всем здесь по двенадцать лет, Но трусов и в помине нет…Мальчишка-связной — это нечто бестелесное, скользящее зигзагами между сотым и сто первым артналетом, среди руин, воронок и груд щебня. Нечто невесомое и стремительное, как перекати-поле или комочек тополиного пуха, подхваченного ветром. Быстрее, быстрее, не останавливаясь ни на миг, чтобы вражеский снайпер-«голубятник» не успел прицелиться. Впрочем, связной боится не за себя, а за донесение, которое надо срочно доставить в какой-нибудь штабной подвал, а оттуда, с новым приказом, мчаться назад, на передовую. Связной постоянно в движении и потому видит и знает больше строевиков, и кое-кто ему даже завидует. Он же, не подавая виду, чертовски завидует тем, кому доверено оружие. Что-то есть от этого бесстрашия и упорства в герое рассказа «Старик», от той представляющейся почти нереальной, призрачной жизни на грани смерти…
Помнится, накануне капитуляции повстанцы все чаще переплывали Вислу и, опутанные ржавыми бинтами, как водорослями, брели по мелководью сквозь дым и багровый туман к свободному правому, пражскому берегу. Тогда еще никто не подсчитывал материальные и людские потери (позднее было подсчитано, что погибло 250 тысяч варшавян, город разрушен на 80 %), но все уже понимали: произошла национальная трагедия. Солдаты Армии Крайовой, из тех, что слепо верили пролондонской пропаганде, испытывали парализующее разочарование, гибель надежд. В высказываниях солдат Армии Людовой сквозила горечь: они были втянуты в акцию, которая преследовала глубоко чуждые им авантюрные цели. Мальчишки-повстанцы выходили из огня наименее морально амортизированными. Попросту еще не доросли ни до понимания интриг безответственных реакционных политиканов, ни до накала взрослых эмоций. Они воспринимали скорее внешнюю сторону событий. Страшных, но не лишенных каких-то моментов, созвучных их романтическим, бойскаутским идеалам товарищества и взаимовыручки. Ведь они видели сражавшихся на одной баррикаде солдат разных подпольных формирований и десантников Войска Польского, видели советские самолеты, бомбившие гитлеровцев и сбрасывавшие варшавянам оружие и продовольствие, слышали об иностранцах, даже таких неправдоподобно экзотических, как, скажем, австралийцы, присоединявшихся к восставшим полякам (по уточненным данным, в Варшавском восстании участвовали представители 18 национальностей из 13 стран). Потом все это будет подтверждено историками и названо яркими свидетельствами национальной и интернациональной солидарности, примеров которой, заметим попутно, в произведениях Лисковацкого немало.
Он, автор более тридцати книг стихов и рассказов, романов, повестей для юношества, писатель-коммунист, уже тридцать с лишним лет трудится на литературном поприще. Почти таков же стаж его работы в системе средств массовой информации ПНР. И сейчас он работник печати, главный редактор еженедельника «Море и земля», издающегося в Щецине. Между тем в юности ему грезилась судейская мантия. После освобождения страны среди молодежи, исстрадавшейся от оккупационного произвола, профессия стража законности пользовалась особой популярностью. Абитуриенты осаждали юридические факультеты. Интерес к правоведению рос в годы показательных процессов над нацистами в Познани, Кракове, Гданьске и Варшаве, героями которых были судьи и прокуроры, блестящие ораторы, страстно и аргументированно изобличавшие гитлеровских преступников, сгоряча переданных Польше англо-американской военной администрацией. И росла вера, что будут найдены и преданы суду все палачи, что юристам надолго хватит работы.
У каждой эпохи бывают свои пристрастия, надежды и… разочарования. Холодная война делала свое, Запад все явственнее покровительствовал военным преступникам и тем кругам, которые когда-то поддержали и привели к власти нацистов. И вот с высокой трибуны прозвучало откровенное признание: правосудию не дали выполнить свой долг до конца, осудить всех виновных, чему воспрепятствовали участники нового империалистического заговора, опасающиеся, что разоблачение тайных кулис вчерашней агрессии скомпрометирует агрессоров завтрашних. Это был голос члена Верховного национального трибунала ПНР, профессора Ежи Савицкого, который, не ограничиваясь констатацией бессилия органов правосудия, назвал их преемников.
«Ту борьбу, которую помешали довершить в залах судебных заседаний, должны последовательно продолжать силы общественности, обеспокоенной судьбами мира и прогресса, — заявил он. — Прокуратура покидает поле боя, силы общественности выступают в поход».
К этому походу, естественно, примкнула польская антифашистская литература, в ту пору уже окрепшая и громко заявившая о себе целым созвездием документальных и художественных произведений: «Дымы над Биркенау» (1945) С. Шмаглевской, «Медальоны» (1946) З. Налковской, «С баррикады в долину голода» (1946) М. Русинека, «Захватчики» (1946) Я. Добрачинского, «Из страны молчания» (1946) В. Жукровского и других. Она-то и призвала в свои ряды Лисковацкого, который понял, что перо — самое эффективное оружие для расплаты за отца, за попранное отрочество, за гибель почти двух миллионов его сверстников. О годах, проведенных на юридическом факультете Люблинского университета, он никогда не жалел. Ведь там, наряду с пониманием законов, учили искусству постижения сложностей человеческой натуры и взаимоотношений между людьми, столь необходимому писателю. И правомерно ли вообще говорить о какой-либо «измене» писателя первоначально избранной профессии? Лисковацкий и в литературе остался судьей, неустанно творящим суд на фашизмом и теми моральными и политическими деформациями, которые породил бесчеловечный оккупационный режим.
Открывающий сборник роман «Жизнь вечная» — лучшее из антифашистских произведений писателя, показывающее на неброских, локальных примерах неприятие подавляющим большинством польского общества политики расовой дискриминации, проводимой оккупантами. Это была достойная отповедь западным пропагандистам, которые с целью компрометации ПНР не устают фабриковать по заданию реакционных кругов «научные труды» и многосерийные фильмы, тенденциозно искажающие умонастроения поляков времен гитлеровского нашествия. Книга получила в Польше хорошую прессу, была удостоена почетной премии.
«Роман является попыткой художника вернуться во времена гитлеровского нашествия, попыткой нетрадиционной и смелой, не похожей на предпринимавшиеся ранее и достаточно известные, — писал видный польский критик Витольд Навроцкий. — Книга рассказывает о проблемах, знакомых нам по мемуарам и историческим трудам об участи поляков и евреев Замойщины под игом «нового порядка»; это произведение исполнено драматизма и величайшей искренности».
Витольд Навроцкий не случайно подчеркнул место действия романа. Замойщина для поляков — страшный символ оккупации. Весь мир знает трагедию чешской деревни Лидице. На Замойщине таких Лидице были десятки. Эта территория, часть Люблинского воеводства (по оккупационной номенклатуре — дистрикта), с наиболее плодородными землями, согласно «Генеральному плану Ост», подлежала очистке от местного населения и предоставлению в качестве «жизненного пространства» немецким колонистам. С ноября 1942 года по август 1943 года, пока не помешали активные действия партизан и катастрофические неудачи на Восточном фронте, оккупанты успели ограбить и выселить 100 тысяч человек из 293 деревень. 30 тысяч мужчин и женщин Замойщины было отправлено в концентрационные лагеря и на принудительные работы в Германию. Часть «расово неполноценных» детей, отобранных у родителей, гитлеровцы обрекли на мученическую смерть от голода и замерзания в запертых вагонах, загнанных в глухие тупики, часть вместе с немощными стариками сослали в специальные поселки-резервации, где их также ждала неминуемая гибель, 10 тысяч детей, признанных годными для онемечивания, вывезли в рейх.
Гитлеровский киднап практически осуществлялся по всей стране, но в этом регионе он принял формы широкой и явной полицейской операции. После войны удалось вернуть лишь 20 % похищенных детей, поскольку англо-американская сторона отвергала законные и документально обоснованные требования ПНР об их репатриации, как вымыслы «красной пропаганды». Поэтому слово «Замойщина» означает не одну из трагедий прошлого, отягощающих память народную, а беду, которая продолжается, ибо нельзя примириться с мыслью, что где-то на чужбине живут уже взрослые люди, вырванные из родной почвы, не догадывающиеся о своей истинной национальной принадлежности и, возможно, воспитанные в духе ненависти к собственной, навсегда утраченной родине.
У того, кто побывал на ныне застроенных руинах варшавского гетто, где граница между «арийской» и «неарийской» зонами города растворялась в сплошном, до горизонта, море развалин, невольно возникала мысль о сходстве трагических судеб поляков и евреев в годы оккупации. Об этом же думается, когда вспоминаешь историю Замойщины военных лет. Ведь ликвидация польских сел и гетто началась одновременно и осуществлялась одними и теми же руками СС. Пассажиры «юденцугов» и эшелонов с замойскими крестьянами прибывали к одной и той же станции назначения — Майданеку, и у дверей газовой камеры выслушивали один и тот же издевательский инструктаж эсэсовца: «Дышите глубже, чтобы лучше продезинфицировать легкие».
На польской территории гитлеровцы создали 300 гетто. Самые крупные — в Варшаве, Лодзи, Люблине, Белостоке. Итальянский писатель Курцио Малапарте, волею обстоятельств ставший фронтовым корреспондентом, посетил Варшавское гетто. Не знаю, получило ли это отражение на газетных полосах. Сочувственное, но слишком красивое описание гетто, иллюминированного огоньками экзотичных семисвечников, мы находим в его романе «Капут». На самом же деле не было там ни красоты, ни культовых атрибутов, строжайше запрещенных. Невероятная скученность при плотности населения 1100 человек на квадратный километр, унижения, голод, холод, грязь, отсутствие медицинской помощи, беспрестанные репрессии превращали доведенных до крайности людей в ходячие тени с глубокой скорбью в запавших глазах.
Положение затворников провинциальных гетто было еще страшнее. Здесь царил непрекращающийся террор, поскольку низовые карательные органы оккупантов имели предписание ликвидировать возможно большее количество евреев на местах, дабы разгрузить лагеря уничтожения, не справляющиеся с непрерывным потоком обреченных из других стран. Рассказывая о масштабах гитлеровских зверств, летописец Замойщины доктор З. Клюковский приводит следующие факты: в Щебжешине девятнадцатилетний жандарм Ширинг расстреливал за один день до 50 евреев, в Избице гестаповец Энгель с подручными убивал ежедневно несколько сот мужчин, женщин и детей. Летописец повествует и о том, как поляки помогали евреям, хотя в оккупированной Польше за это полагался расстрел.
Действие романа разворачивается в замойском захолустье — царстве ширингов и энгелей, мрачную картину которого мастерски воссоздает художник. Недаром в период работы над книгой ему часто хотелось
На сон грядущий погрузиться В объемистую летопись Клюковского — В глубины щебжешинского пейзажа…Богатые информацией записки зоркого и неравнодушного наблюдателя создавали необходимый настрой, обогащали теми «сугубо документальными историческими реалиями», вкус к которым Лисковацкого-прозаика отметил однажды рецензент «Трибуны люду». Действительно, все тут соответствует реальности: от всевозможных «мероприятий» оккупантов до топонимики и тогдашних цен на продукты. Подлинны имена одиозных гитлеровцев. Гремел на Замойщине и партизанский командир, назвавшийся «Ястребом». Правда, в жизни менее везучий, чем в книге. Знаменитый «Ястреб» — Антоний Палень — умер от ран осенью 1943 года. Но «Жизнь вечная» не просто «коллаж» из документов в первозданном виде и посильных авторских комментариев, а художественное произведение, где документальный, фактографический материал подчиняется творческому замыслу художника.
Персонажи типа «Ястреба», главенствующие на страницах рассказов Лисковацкого, здесь в меньшинстве и на втором плане, хотя выстрелы их звучат немолчным рефреном, как постоянная антитеза залпам карателей. Приоритет принадлежит безоружным. Обитателям Избицы и Щебжешина, членам семей двух старинных приятелей: учителя Яна Буковского и врача Леона Розенталя, — которые осмелились преступить варварские «законы» оккупантов и жить согласно своим убеждениям. И потому жили они недолго.
Из шести человек, находящихся в центре повествования, выживает один — юный Витольд Буковский. И тот в счастливые дни освобождения, которыми завершается роман, не улыбается, не воспринимает происходящего. Тяжелые испытания — пытки в гестапо, потеря матери и любимой девушки, погибших из-за его же нелепой оплошности, — отняли у него рассудок. Да и сам он чудом уцелел. Дважды ему невероятно везло: то вызволили из камеры смертников партизаны Батальонов Хлопских, то загородил собой от вражеской пули партизан Армии Людовой. Может, повезет в третий раз и Витольд избавится от недуга? Автор не лишает нас оптимистической надежды. Ведь юноша интуитивно бродит вокруг опустошенного войной отчего дома, где недавно, приняв эстафету от отца, брошенного в концлагерь, прятал и опекал Сабину и Добу Розенталь и где, когда сам был арестован, его заменила мать. А прикосновение к родному порогу, вдобавок освященному добрыми делами, говорят, порой приносит исцеление…
Оптимистическое звучание романа, предельно трагичного по содержанию, связано не с какой-либо отдельной фигурой. Оно как бы складывается из отголосков благородных поступков, действий или просто мыслей и побуждений — ибо не каждому дано действовать — главных героев и их окружения. Стихийных антифашистов, в совокупности составляющих не важно какой по счету — второй ли, третий ли, — а все же заметный эшелон антифашистского фронта.
Автор находит их в гетто, тюрьмах, концлагере, на воле, которая практически была тем же гетто для поляков, подлежащих уничтожению во вторую очередь. Они духовно возвышаются над гиенами, которые наживались на чужой беде, и фанатичными начетчиками, твердившими о греховности борьбы со злом, ибо зло — внешняя оболочка добра. И вместе с тем безоружные герои подчас трагически ограничены в своих возможностях, чего не скрывает писатель, далекий от идеализации.
Ян Буковский, поклонник романтической поэзии, мечтавший о подвигах, смог перед смертью лишь выругать палача, повторив тем самым поступок соседа по лагерным нарам, которого считал существом приземленным. Подвиг совершил маленький человек, из которого партизанский вожак «Ястреб» вырастил «Коршуна», подвиги совершаются героями рассказов, представленных в сборнике. И в новом романе писателя — «Убиенные, прощенные», — который Лисковацкий писал одновременно с «Жизнью вечной» — дважды совершает подвиг юноша, рядовой Войска Польского, при форсировании Одры и после победы, когда, будучи инвалидом, вступает в схватку с террористами из реакционного подполья.
Берег Одры, форсированной совместно советскими и польскими войсками, для писателя — величайший символ победы и обновления. Участнику этой операции, герою книги «Убиенные, прощенные», он даже вкладывает в уста довольно смелую идею — переделать национальный гимн, в строке «Пройдем Вислу, пройдем Варту» заменить Варту — Одрой.
Лисковацкий неоднократно возвращался на этот берег, как поэт, прозаик и драматург. Включенное в книгу интервью «Быть солдатом» — возвращение публициста. Благодаря открытости собеседника и умело подобранным вопросам интервью с польским руководителем незаметно превращается в живой, непринужденный разговор с молодым фронтовиком-подпоручиком. О боевых буднях, о горечи потерь и… литературе — эпизоде из эпопеи Яна Герхарда «Победа» (1968), где выведены Войцех Ярузельский и его друг и подчиненный подпоручик Ришард Кулеша, который погиб в разведке за Одрой.
Свыше 2000 лагерей для военнопленных, концентрационных, немедленного уничтожения, штрафных и т. д., устроили оккупанты на территории Польши. В них погибли миллионы узников. Первым на нашем направлении был освобожден «Шталаг 319» в Хелме. Вторым — крупнейший комбинат смерти Майданек, на окраине Люблина.
В Майданеке завершился крестный путь Яна Буковского. О многом передумал пронумерованный хефтлинг на лагерных нарах. Осудил себя за то, что когда-то боялся сблизиться с коммунистами из-за карьеры, которую так и не сделал. Вспоминал жену, сына. И они его вспоминали. Автор умело создает ощущение единства семьи, монтируя всплошную внешне разобщенные эпизоды. Кстати, убежденный реалист, Лисковацкий для усиления выразительности порой прибегает к образам иного стилистического ряда. Например, в сцене встречи Витольда с безумной крестьянкой, рассказывающей о расстреле немцами Христа, за которого она приняла пленного советского солдата. Есть что-то здесь от фольклорно-библейской поэтики и от «Двенадцати» Блока с их романтико-эпической захватывающей широтой.
Ян Буковский приобщил сына к таинствам рыбной ловли, но не смог подготовить к военным невзгодам. Проблема отцов и детей — ведущая в творчестве Лисковацкого — решается им преимущественно на остроконфликтном материале. В своем романе «Возвращение с того берега» писатель показывает, как отец-ветеран не находит точек соприкосновения с сыном, погрязшим в быту, и старику гораздо ближе «сынки», которые навсегда остались на «том берегу». Рассказ «Сломленный» — драматическая сцена встречи сына с отцом, которого гестаповцы заставили стать предателем. А Витольд Буковский, наивный и ослепленный любовью юнец, невольно предает отца-узника.
Летом 1944 года Военный совет 1-го Белорусского фронта обязал всех офицеров, следующих через Люблин, посещать бывший концлагерь Майданек. Польский батальон, в котором я тогда служил, был дислоцирован на III поле, и мне, уже знакомому в общих чертах с мрачной историей лагеря, частенько доводилось выступать в роли экскурсовода. Я показывал потрясенным молодым офицерам остатки крематория, рассказывал о страданиях узников, подобных Яну Буковскому. Возможно, кто-то из моих слушателей вернулся с войны и пересказал услышанное своим сыновьям или внукам. А если не успел или пощадил их, я все-таки советую им прочесть эту книгу Ришарда Лисковацкого, повествующую о муках и борьбе поляков.
М. Игнатов
ЖИЗНЬ ВЕЧНАЯ
Żywot wieczny
Poznań, 1981
Перевод М. Игнатова
1
Яну Буковскому от всей этой повести решительно никакого проку не будет. Она не похоронит его еще раз, не воскресит. А если бы и дано ей было воскрешать, так где его найдешь? Осталось от Яна лишь то, что удастся о нем рассказать. Можно больше. Можно меньше. Ибо таково преимущество живых, вольно им сколько угодно изменять биографии умерших, дополнять и вычеркивать то, что уже было на бумаге. А еще легче дописывать и вычеркивать, когда на бумаге ни единого слова, когда все только в памяти. Именно так обстоит дело с Яном. Жил он, как многие, и умер, как многие, то есть тихо и незаметно. К тому же покинул сей мир именно в тот момент, когда мир этот уподобился гигантскому дому умалишенных. А кто в доме умалишенных заботится о написании биографий? Нелепое, тоскливое это занятие, и не до таких пустяков по недостатку времени, ибо всем приходилось совершенно новые слова наизусть заучивать. Например, такие, как «комендантский час» и «нарукавные повязки» с желтой, шестиконечной звездой Давида. «Карательные экспедиции» и «коллективная ответственность». «Гетто» и «душегубки». «Арестантские эшелоны смертников». Страшно вспомнить, о чем приходилось думать. Но страх не камень, который днем и ночью весит одинаково. Страх можно задобрить и обмануть. Страх можно презреть и в нем не признаться. Куда хуже голод. С ним сложнее. Прежде чем Ян это проверил, и проверил как нельзя точнее, в этом уже убедились евреи, которые сыграли в судьбе Яна весьма существенную роль… Вот идут составы с евреями на Белжец. Ежедневно один Judenzug из Люблина и один со стороны Львова. Вроде бы все по плану и согласно расписанию, тем не менее кто-то нарушает порядок. Эшелон останавливается, не доезжая станции, или на запасном пути, или у семафора в ожидании зеленого света. И тогда Авраам Майзель, а может, Натан Феерштейн или Мордехай Левин, мужи благочестивые, мудрые, знатоки законов господних и законов человеческих, уголовного кодекса и Книги Зоар, конституции и Пятикнижия, а самое главное, познавшие и ту сторону жизни, где наимудрейший закон уже не имеет никакой силы, эти умудренные мужи, понимающие, конечно, что не на Мадагаскар, а в Белжец едет их рыдающий и молящийся эшелон, эти мужи протискиваются к зарешеченным оконцам вагона и кричат так, что уже никакого страха в их голосах не слышится, а только великий голод слышится: — Эй, люди, подойдите поближе, даю золотой перстень за буханку хлеба! — А я даю часы за горсть сухарей. — Немцы вдоль состава прохаживаются, разминают ноги после долгого пути, одни рычат: — Maul halten! Заткнитесь! — А другие улыбаются, словно понимают смысл просьб этих Натанов, Мордехаев или Авраамов, и, поглядывая на окна, опутанные колючей проволокой, пошучивают: — Guten Appetit! Приятного аппетита! — А вот уже не Авраам, а какая-нибудь Фрума или Рахиль закричала истошно и по-своему: — А штыкеле бройт! Кусочек хлеба! — По-своему, наверное уже не к кому-то обращаясь, а к самой себе, к нищете своей и распаленному от голода воображению: — Ай, ай, а штыкеле бройт! — Как подойдешь к вагонам, если каждому жизнь дорога? Подойти — значит умереть раньше, чем умрет весь этот Judenzug. Стоит народ. Пожилой мужчина пытается забросить в оконце два ломтя хлеба, слепленные мармеладом, но хлеб отскакивает от вагона, оставляя на досках красное пятно. Guten Appetit! Стоит народ, смотрит и слушает. Некоторые начинают плакать, а другие — удивляться. Может ли желудок победить голову? Возьмет ли голод верх над страхом? Неужели запертые в этих вагонах не понимают, что их везут на погибель?.. Яну Буковскому еще не довелось испытать своего самого сильного голода. Не мог он видеть и вагонов, следующих на Белжец, ибо, когда в Белжеце стали принимать длинные эшелоны, Ян находился уже за чертой, по ту сторону тюремных ворот. Он стоял на круглом плацу замойской Ротонды и думал о том, что будет завтра, через пятнадцать минут, через минуту. Ян помнил голод военной поры, но помнилось также, что был это голод трусоватый, лишенный надлежащего достоинства. Он, голод, прятался вместе с Яном в неглубоком окопе, когда налетали немецкие штурмовики. А чуть что — сдавался. Четыре дня подряд терзал Яна, как язва, жег огнем, скручивал внутренности, но, когда на пятый день перед окопом Буковского появился танк с черным крестом на броне, голод мгновенно дезертировал, бросив Яна, с которым как-никак успел подружиться, на произвол судьбы. Итак, говоря о Яне, вступающем на площадь замойской Ротонды, следует отметить, что его представление о голоде было весьма ограниченным… Годом раньше в дом Буковского проскользнул украдкой врач из Щебжешина, Леон Розенталь. И когда принялся рассказывать, что в августе были закрыты все еврейские лавки и с той поры евреи, вытесненные со всех улиц на задворки, снимают шапки не только перед полицейским и жандармом, но и перед паном голодом, Буковский слушал внимательно, понимающе кивал головой, но понимал еще далеко не все. Перед тем как Розенталь вопреки запрету осмелился тайком приехать из Щебжешина в Избицу, в жизни Яна произошло несколько событий, о которых нельзя умолчать, поскольку они положили начало драме с шестью действующими лицами в шести главных ролях. Надо поведать все и начать с того дня, когда подпоручик запаса Ян Буковский, возвращаясь по Люблинскому шоссе домой, остановился на одну ночь у своего старого верного друга Феликса, который держал в Лапеннике аптеку. Буковский был ранен в битве под Ленчицей. Ранение оказалось не слишком серьезным, но лишило его радости победы. Ибо у него была еще последняя возможность дня два-три продвигаться вперед. Только вперед, впервые с начала сентябрьской кампании, но хлестнуло по ногам горячим свинцом, он упал, выбыл из строя. И поехал на крестьянской телеге, переполненной ранеными, в тыл. И пожалуй, единственным утешением для него было то, что из госпиталя оказалось легко улизнуть от немцев. Круглолицая медсестра принесла ему гражданскую одежду и шепнула, что в пятницу прибывает немецкая врачебная комиссия. И поэтому в четверг утром, опираясь на палку, Буковский побрел домой. — А у меня была возможность хоть немного их потеснить. Понимаешь? Мои ребята взяли Ленчицу, здорово врезали немцам, только уже без меня… — бормотал он, сжимая в руке мензурку с чистым спиртом. В аптеке было темно, из соседней комнаты сочился свет керосиновой лампы. — Глотни, хорошее лекарство. И не распускай нюни, — сказал Феликс, отставляя пустую мензурку. Они вышли из дома в одних рубашках, ночь была звездная, очень холодная, и аптекарь вернулся за пиджаками. Деревенская аптека стояла у самого шоссе. Буковский, опершись о штакетник, смотрел на это шоссе, отчетливо видное в лунном свете, оно взбиралось на высокую гору и исчезало там, у черной стены леса. Он знал эту магистраль, как самого себя, сотни раз ездил по ней из Красностава, а потом из Избицы в Люблин, теперь она казалась чужой, недоступной. — Разве эта пустая, вымершая дорога не символ нашего поражения? — произнес он вслух, увидав аптекаря, возвращавшегося с пиджаками в руках. — Пора кончать беседы о символах, дружище. Успокойся, теперь не до патетики! — почти выкрикнул Феликс и тут же улыбнулся. Но Яна не тронула его примирительная улыбка, он не собирался успокаиваться. Десять дней он молча шел по Польше, а теперь наконец мог исторгнуть всю ту муть, которая накопилась в нем за эти десять дней. Плотину прорвало, и Буковский почти в истерике кричал: — Кончать беседы? Символика не ко времени? А на что теперь есть время? Я возвращаюсь домой и не рад этому. Сбежал из госпиталя, чтобы спастись от плена, а сейчас думаю, что не там ли мое место? Кому мы нужны? Кому нужны люди, которые все проиграли? — Ян сбросил с плеч пиджак, взглянул на друга неуступчиво, с вызовом. — Не все… — вдруг сказал Феликс с таким спокойствием, что несчастный подпоручик запаса воспринял это как пощечину. Он был глубоко, чувствительно уязвлен, но смолчал, не дал сдачи. Лишь теперь осознал, до чего немощен и жалок в своей беспомощности. Когда это началось? Неужели после первого же налета, когда он недосчитался половины взвода? А может, когда, придавленный обескровленным телом капрала, ехал на крестьянской подводе и удивлялся такому завершению, такому финалу своего ратного пути, который, собственно, по-настоящему и не начинался? Или это пришло позднее, в госпитале, где так о нем заботились, словно он на самом деле заслуживал человеческой благодарности? — Пей, пан офицер, а то у тебя губы потрескались от лихорадки… — Пожилая женщина ежедневно приносила ему терпкий компот из диких яблок и все извинялась, что больше ничего принести не может: — Бомба в мой домишко грохнула. Кое-какие кастрюльки спасла и комод, да еще перину. Ну и сама спаслась. Не кисловат ли компотик?
Он налег всей тяжестью своего обмякшего тела на покосившийся забор, так, что затрещали доски, и, уже не протестуя, не уклоняясь, принимал новые, разящие удары друга: — Не все проиграно… — втолковывал Феликс, как малому ребенку. — Война только началась, подпоручиков запаса никто еще не увольнял в запас. Запад будет воевать, у них нет иного выхода. Хитрили, заигрывали с Гитлером и доигрались. Так водили за нос союзников, что сами остались с носом. Одно несомненно, Франция будет драться всерьез, но за Францию, Англия — за Англию. А за твою Избицу, за мой Лапенник нам придется самим повоевать. Новость? Неужели какой-то аптекаришка должен именно тебя учить истории? — Буковскому вдруг сделалось очень холодно, словно его вытащили из проруби. Он с трудом оторвался от забора и одеревеневшими руками поднял пиджак. — Плохо себя чувствуешь? — встревожился Феликс. — Уже лучше… — солгал Ян и тут же умолк, так как хлопнуло распахнувшееся окно и в нем показался мужчина в черном свитере. — Что слышно? — вопрос был обращен к аптекарю, Яну он показался забавным. Что слышно? А что могло случиться в маленькой, уснувшей деревушке? За несколько минут до полуночи? — Пусто и тихо, как в раю, — спокойно ответил Феликс. Но именно в эту минуту на шоссе замигали тусклые фары автомобиля, едущего со стороны Замостья. Машина спускалась с горы, водитель, вероятно, заглушил мотор, так как свет струился в абсолютной тишине. — Закройте окно, — сказал Феликс тоном приказа. Свет фар лизнул крайние, стоящие возле самого леса хаты. И тут донесся рокот мотора, работавшего на малых оборотах. Залаяли деревенские собаки. Сперва во дворах, прилепившихся почти к обочине шоссе, а вскоре и весь Лапенник, от высоченного костела до приземистых хатенок на подмокшем лугу, огласился их разноголосым хором. — Собаки… — проворчал Буковский, не о собаках думая. — Видишь, даже деревенские шавки на нашей стороне… — подхватил Феликс и сильным рывком оттащил Яна в безопасное место. Прижавшись к холодной стене дома, они застыли в напряженном ожидании. Воинский грузовик ехал очень медленно, словно сидящие в нем солдаты хотели доказать всем, а может, в большей степени самим себе, что тот, кто выиграл, чувствует себя уверенно и, значит, не должен проявлять поспешность. — Скоты, разъезжают, как по собственному двору… — Буковский ударил кулаком по стене. — Будут еще бояться… — Аптекарь вытащил из кармана пачку сигарет, а затем принялся лихорадочно искать спички. — Черт побери, ведь были же они у меня, были. Скоро и в танке не посмеют сунуться ночью на шоссе. Черт бы побрал эти спички… — Только сейчас с момента их встречи Ян обратил внимание, что его друг хоть на минуту чисто по-житейски раздосадован. И вздохнул с облегчением, словно лишь сейчас уразумел слова, ранее им произнесенные. Умные и холодные. Леденящие и жгучие. Так он подумал. Наконец оба затянулись терпким дымом, а из окна опять высунулся мужчина в черном свитере. — По-моему, зять тебя ищет… — сказал Ян. — Зять? Какой там зять? — Феликс согнулся от внезапного приступа кашля, а когда приступ прошел, снова сунул в рот сигарету. — Для людей зять, а тебя не буду морочить. Этот зять на самом деле майор. Тоже из проигравших, тоже пережил шок, но ему было легче, он кадровый офицер. Будет ли ему легко завтра? Такой войны еще не было, и ничего нельзя предугадать. — Что там слышно? — спросил мужчина, свесившись через подоконник. — Приехали и уехали, можно ложиться спать… — ответил Феликс уже вполне спокойным голосом…
Четыре старые еврейки брели вдоль обочины шоссе, друг за дружкой, как гуси, и причитали. Первая несла ермолку, мокрую, перепачканную, будто поднятую из грязной лужи. И причитала громче всех: — Горе, горе. Где Самуэль? — Тише, бабы, дома поплачете, — заступил им дорогу полицай Шимко. — Не нарушайте порядка. По-доброму советую, давайте по домам. — И все стихло. Старухи исчезли среди деревянных халуп. А Шимко отправился пропустить кружку пива. Теперь Леон Розенталь может выскользнуть из темной, благоухающей квашеной капустой подворотни и преодолеть последние двести метров, отделявших его от дома Буковских. Крадучись пробирался он в Избицу и крадучись это путешествие завершит. Нет, он не слишком боялся. Но, чтобы эта вылазка из Щебжешина имела хоть какой-нибудь смысл, следовало соблюсти первую заповедь. А первая заповедь такова, что никто не должен видеть и знать, в чью дверь Леон Розенталь постучится в Избице. Крадучись. В кармане у него белая нарукавная повязка с желтой шестиконечной звездой. Такие повязки продавали в щебжешинском магистрате злотый за штуку. — Ничто не дается даром… — сказал без ехидства и даже с официальной улыбкой бургомистр, которого Розенталь встретил в коридоре. Доктор только что затворил дверь комнаты, где шла эта торговля, и, держа в руке три повязки, разглядывал их, поскольку было на что смотреть. — Ничто не дается даром… — сказал бургомистр. — Три злотых, разве теперь это деньги? — улыбнулся Розенталь. Улыбка за улыбку. Слово за слово. Повязки почти даром. Буковский слушал внимательно, утвердительно кивал головой, что, дескать, все понимает, но всего не понимал. Они заперлись в дальней комнате. Говорили шепотом. Из-за двери с матовым стеклом доносились до Витольда только те слова, которые Розенталь произносил с особым волнением. Ведь это такая гнусная святая троица — судья, адвокат и прокурор в одном лице. Прокурор кричит: уничтожить еврейскую погань! Адвокат просит: гуманно уничтожить. Судья резюмирует: мы приняли во внимание аргументы обеих сторон. Уничтожим гуманно. По-христиански. Сделают что захотят, а хотят они отнять у нас не только жизнь. Хотят лишить нас и достоинства, и человеческого облика. Всего. В прошлом году, в середине ноября, всех разбудил грохот. Грохнуло так, точно крупная бомба взорвалась. Я к окну бросился, а за окном уже багровое зарево. Крик поднялся, шум. Мы подумали, что горит синагога, а это горели еврейские дома возле синагоги. Теперь слушай. Еврейские дома сгорели, а утром меня остановил знакомый чиновник из магистрата, отвел в сторонку и говорит: — Доктор Розенталь, пусть ваша жена и дочь не выходят сегодня из дома. Жандармерия мстить готовится. — Как мстить? За что мстить? — спрашиваю этого чиновника. — За пожар, который был ночью. Нарочно пущен слух по городу, будто евреи собирались весь Щебжешин спалить, — отвечает мне чиновник. Вот тебе один из многих примеров. — Витольд, ведра пустые!.. — кричит Буковская, отворяя дверь. Лицо ее, раскрасневшееся от возни у горячей плиты, похорошело. Она взяла в долг яйца у Томасевой, гремела мисками, противнями, словно хотела страх заглушить. Пекла кекс специально для Розенталя. Из муки, молока, яиц и со щепоткой страха. — Я боюсь за вас, боюсь за этот дом, — сказала она в кухне мужу, и Розенталь этого не слышал. — Ты знаешь, что сделали с Малецким, который привозил картошку евреям? Не требуй от меня слишком многого. — Витольд взял два пустых ведра и не торопясь вышел из жарко натопленной кухни во двор, на холод. Уже стемнело, моросил мелкий дождик. Колонка не на краю света, но все же в конце двора, возле сарая, где Буковские держат кроликов. Не дать ли одного Розенталю, подумал Витольд. Живого-то он не возьмет, как потащишься с живым в такую даль? А резать рука не подымется. Вернулся с тяжелыми ведрами в кухню. — Витольд, ты все сапоги перепачкал, не мог поаккуратней? Оботри тряпкой, я же сегодня полы натерла!.. — мать кричит, чтобы кричать. Говорит о полах, а взгляд устремлен туда, где за матовым стеклом темнеет подвижная фигура Розенталя. Леон Розенталь ходит из угла в угол. Четыре широких шага — и назад. Шаги учащаются. И вот он уже не шепчет. — А ты узнал бы Сабину? Погоди, погоди, ведь это уже четыре года назад ты подарил ей на день рождения сборник сказок. И она до сих пор читает эти сказки. Ты понимаешь это? Разве в теперешнем мире есть место для сказок? Не смотри на меня как на человека, который боится своей судьбы. У нас говорили: если кто-нибудь обмолвится, что ты труп, и будешь трупом. Теперь так не говорят, ибо каждый молчаливо понимает, что это лишь вопрос времени. Мой час пробьет завтра, старика Броншпигля послезавтра, или наоборот. Большая разница? Я боюсь за своих женщин. За Сабину, за Добу. Ты бы не узнал Сабину, она так похорошела, точно хотела скрасить нам наши последние дни. А как их скрасишь? Когда в сырую землю ложится человек старый, сломленный болезнью, безобразный, не так жалко. А она до того похорошела, словно ей суждено жить и на роду написано совсем не то, что нам. Есть ли хоть какой-то смысл в моих словах? Не тронулся ли я умом? Знаю, что несу вздор, и знаю, что говорю святую правду.
Витольд смотрит на стеклянную дверь и пытается вспомнить Сабину, однако воспоминания четырехлетней давности столь туманны, невразумительны, что нет нужды напрягать память. На другой день Леон Розенталь покинул Избицу, унося в клеенчатом портфеле жирный кекс, кусок сала и немного масла, а в кармане повязку с желтой звездой. А Буковский как бы невзначай потерял слух и речь. Жена задавала ему разные вопросы, наконец перестала спрашивать. Только когда Ян достал из шкафа свой выходной костюм, она, став в дверях, воскликнула: — Если не скажешь, куда собрался, не пущу! — Еду в Лапенник, к ночи постараюсь вернуться… — ответил он, уставясь в стену. — Чего это вдруг в Лапенник? Не связано ли это с Розенталем? — старалась она выведать побольше, уж больно эта поездка показалась ей странной, подозрительной. Какие могут быть дела в Лапеннике, если дома столько важных, неотложных дел? — Пусти, я тебе не Витольд… — Он вышел стремительно, так как больше сказать было нечего. Ни жене, ни себе. Впрочем, не только в данную минуту. «Не связано ли это с Розенталем?» Ночевал он в одной комнате с доктором. Не спалось. Розенталь тоже не мог уснуть, тяжело ворочался с боку на бок, вздыхал, стонал, явно с тоской дожидался восхода солнца. Вчера вечером они не договорили до конца, сейчас могут закончить. Не хотели? Уже много месяцев Буковский жил какой-то половинчатой жизнью и уже начал к этому привыкать. Но мог ли он открыть свои жалкие карты Розенталю, в чьей игре ставкой была сама жизнь? И разве понял бы его Розенталь? Когда на стенах и заборах расклеили объявления о том, что все офицеры запаса обязаны зарегистрироваться у немецких властей, Буковский решил уклониться от регистрации. Он как раз встретил адвоката из Замостья, с которым подружился еще до войны. Некогда они проводили вечера в кружке книголюбов, а когда Яну посчастливилось раздобыть сборник стихов Мавриция Гославского, изданный в 1833 году в Париже, и они, читая стихи, принялись доискиваться исторических параллелей, спорить о фактах, разбираться в героическом прошлом Замостья и трагедии поэта-улана, что-то крепко-накрепко их связало. Но скорее не поэзия Гославского, а его горькая судьбина, столь же запутанная, как и вся история земли, на которой родился Ян. Теперь речь шла не об истории, о более практических вещах. Адвокат Бжеский послушал и вдруг рассмеялся: — Наконец-то у меня появился первый клиент, первый клиент с начала войны! — И больше не возникало повода посмеяться. В забегаловке хромого Сташека, куда они потом зашли, переговаривались уже шепотом, точно заговорщики. В забегаловке грязно, неуютно и относительно безопасно, пожалуй согласно поверью, что темнее всего под фонарем. Еще месяц назад она принадлежала еврею, а теперь прежний владелец не смел даже порога переступить. Месяц — это уйма времени, за тридцать дней можно судьбу целой страны изменить, не то что судьбу одного еврея и одной паршивой пивнушки. Хромой сын местного полицая купил эту пивную вместе со стульями, стойкой и щербатыми пивными кружками за пятьсот злотых. Свое хозяйствование он ознаменовал тем, что прибил на дверях дощечку: «Арийское заведение. Евреев не обслуживаетца». — Перемудрил ты с этой вывеской, пан ариец… — сказал ему в первый же день старый Дубель, который жил рядом с забегаловкой. — Разве я сам это придумал, пан Дубель? — побагровел хромой Сташек. — Если мне разрешат, я готов монголам, евреям, цыганам и хоть всему миру, извиняюсь за выражение, глотки пивом заливать. — Адвокат Бжеский пригубил кружку и снова наклонился к Буковскому: — Если ты сделал первый шаг, должен сделать и второй. Исчезни теперь у них из поля зрения. В официальных бумагах, при некотором везении, ты можешь начисто затеряться, говорят, в учреждениях такой балаган, что им до конца войны не навести порядка. А из школы непременно уходи, там ты слишком на виду. Сцапают при первом удобном случае. Непременно… — Шагал Буковский по узкой тропинке, шагал в сторону аптеки по грязной тропинке, бегущей вдоль шоссе и чувствовал себя учеником, не подготовившимся к важному экзамену. Повторял мысленно то, что собирался с ходу выложить аптекарю: ты преподал мне хороший урок, но ничего от твоего поучения не осталось. Видишь, я растерян, беспомощен, и такое дело на меня свалилось, что едва дышу под его бременем. Ни влево, ни вправо не могу шагу ступить. Божьей милости дожидаться некогда, поскольку я хорошо знаю, что тяжесть эту надо сбросить собственными руками. Боюсь ли я за собственную шкуру? Розенталь, который ждет от меня помощи, тоже не за себя боится. Все это породило какую-то странную философию страха. Ему не страшно, мне не страшно, а всем, что теперь делаем и должны делать, руководит страх. Все живет от страха и от страха умирает. Розенталь говорит: подумай о Добе и Сабине, о моих женщинах. А я про себя повторяю: подумай об Ирене и Витольде, о своих ближайших родственниках. Он прав, и я прав, но из этой правоты не возникает ничего практического. Я уже не учительствую, тружусь в кооперации, часто бываю теперь в Замостье, и документы у меня надежные. Но ведь в любую минуту ко мне могут нагрянуть немцы. Я же не зарегистрировался как офицер запаса. Нагрянут, сделают обыск и заберут всех. Жену Розенталя и его дочь. Мою жену и моего сына. В Избице начинается настоящий ад для евреев. Наш избицкий фюрер, эсэсовец Курт Энгель, вероятно, предвосхищает все директивы своих больших фюреров. И в этот ад тащить Добу и Сабину? Очень мне нужно посоветоваться с тобой, ведь я еще не сказал Розенталю: нет.
Аптека была закрыта. Буковский нажал дверную ручку, постучал в окно, но никто не отворил и даже не выглянул. Ян обошел дом, снова остановился у дверей аптеки. — Черт побери, ведь там кто-то должен быть!.. — воскликнул он, а когда повернулся лицом к шоссе, то увидел пожилого мужика в сером балахоне и стоптанных высоких сапогах. — Никого нет, — буркнул тот, недоверчиво приглядываясь к Буковскому. — Как никого? Ни магистра, ни его жены? — удивился Ян и, подойдя к мужику, угостил его сигаретой. — Аптекарша куда-то утром уехала. Аптеку на замок — и уехала. — Мужик говорил спокойно, бесстрастно, но во взгляде проскальзывала настороженность. — А пан Феликс? — выкрикнул Ян и даже сам себе подивился, что еще ничего толком не знает, а нервы уже сдают. — Наше дело сторона, налетел ураган, дерево свалилось, а больше ничего не ведаю… — Мужик откашлялся, сплюнул, растер плевок. — Тут, уважаемый, кругом черный траур, хоть его и не видно, а цигаретка хороша, ох, хороша. — Дружище, нельзя ли высказаться пояснее? Какой траур, какой ураган? Я приехал к своему другу, дом наглухо заперт, аптека заперта, а ты несешь какой-то вздор! Может, ты вообще не из Лапенника? — Мужик снял шапку, пригладил пряди седых волос и снова надел. И все это неторопливо, степенно, словно ему требовалось время, чтобы собраться с мыслями. — Так я могу отвести вас туда, где о магистре все доподлинно известно… — произнес он тихо и пошел, не оглядываясь, не проверяя, следует ли за ним Буковский. Через несколько минут остановился напротив хаты, недавно побеленной, чистой, но от старости вросшей в землю до самого порога, и только тут удостоверился, не потерял ли по дороге Яна. — Туда пойдем… — показал он на хату, — там вся правда о магистре. — Какая правда? — крикнул Буковский, но мужик не ответил. Молча пересек шоссе, докуривая дареную «цигаретку». — В июне его забрали. Подъехала к аптеке машина, вошли в дом трое — и сразу цап-царап, пана магистра забрали в июне. Боже праведный, ну и переполох в деревне поднялся, ведь люди подумали, что всему Лапеннику какая-то напасть угрожает. А взяли только одного. Молочка напьетесь? Коровенка у нас здоровая и дойная. Начали мы тут судить да рядить: что случилось? Кто с этим горем к нашему ксендзу побежал, кто в хате заперся, но у всех одна думка — что будет с магистром? Была еще какая-никакая надежда, что подержат и отпустят. Если для порядка проверить полагается, проверят, а потом привезут магистра домой. А дня через два-три, точно не помню, кто-то весть принес, что магистра в Хелме посадили. А теперь скажу, что почти своими глазами видел, поскольку родной брат рассказывал, а глаза родного брата все равно что собственные. Был я у брата в Хелме, он мне все подробно и описал, хотя издали, из укрытия наблюдать пришлось. Скажите, разве они люди? Есть ли у них хоть капля совести? Отцом-матерью они воспитаны или все поголовно серыми волками вскормлены? По-страшному истязали нашего магистра — люди сказывали, которые видели его после этих побоев, еще живого. Бел он был и черен. Бел оттого, что обескровлен и опух, а черен от побоев и каленого железа, от мук, которые принял в хелмском остроге… Молоко теплое — согреетесь, а то трясет вас, как в лихорадке… Есть там глубокий карьер, песок оттуда брали еще до войны. Брали и брали, пока не образовалась огромная яма. Называли это место Кумова долина, а теперь надо называть Долиной смерти. Туда их привезли, человек двадцать, к этой яме. Загнали прикладами вниз, на самое донышко. И давай швырять гранаты. В живых людей. Бах, бах, одну за другой. Разве им жаль гранат, если для них кровь человеческая не дороже собачьей… Выпейте молока, хоть глоточек. Ребятишек у меня трое, мелюзга еще, если бы не коровенка, голодали бы… Подождали немцы, пока пыль от этих взрывов осядет, и пошли к яме с жестяными банками и давай из этих банок поливать растерзанные тела. А может, не всех поразрывало насмерть? Но никто уже не дознается, трупы поливали или живых. Потом подожгли, в банках-то керосин был или что-то вроде того, и пламя полыхнуло. И люди те в яме загорелись. Черным дымом заволокло Кумову долину. Вот и весь сказ мой. Такую смерть уготовили нашему магистру… А молочка-то вы и не испили… Если немцы войну выиграют, к кому господь обратит свое слово? Неужто справедливости дождемся только на небе?
Буковский вышел из хаты с поникшей головой и опомнился уже далеко за околицей. Но шел он не домой. Шел в сторону Люблина. Не замечая ни прохожих, ни повозок, ни мелькавших деревьев, ни грязи под ногами. Пока дух не перехватило, словно кто-то набросился сзади и сдавил горло. Только тогда Ян остановился, прислонился к дереву, расколотому молнией, почувствовал слезы на щеках, и ему немного полегчало. Теперь он уже мог вернуться в Лапенник. Два часа прождал во дворе аптеки. Все надеялся, что до наступления темноты вернется жена аптекаря, и они смогут поговорить о Феликсе, и для этого разговора у них сил хватит. Мужики, проходившие мимо, снимали шапки и кланялись Яну, хоть и не были ему знакомы. А может, аптеке кланялись? Два часа ждал. Потом увидел телегу, ехавшую в сторону Красностава, и выбежал на шоссе. — Куда едете? — Домой, — ответил возница. — Мне с вами по пути… — Ян вскочил на телегу и утонул в пахучем сене.
2
Тетка жила на Замойской улице, и это была главная улица Щебжешина. Витольд, промерзший в дороге, шел быстро и заранее огорчался, что тетки не будет дома. По середине улицы маршировали евреи. В колонне по трое, как немецкие солдаты. Не очень четко маршировали, особенно в последних рядах, старые, бородатые, согнутые в три погибели, как будто заступы, совковые лопаты и метлы, которые они несли, весили по сто пудов. Вел их «синий» полицай, а замыкал шествие жандарм, добродушный с виду толстяк. Шел — будто в облаках витал. Правда, время от времени спускался на землю, ускорял шаг и покрикивал: — Links, zwei, drei!.. Левой, два, три… — И, догнав наконец последнюю тройку, громко скомандовал: — Ein Lied! Запевай! — И колонна запела. Во все горло. Старческие хриплые басы старались не отстать от звонких теноров и юношеских фальцетов:
Спасибо, фюрер, за заботу, Теперь мы учимся работать…Тетка открыла дверь, засюсюкала: — Витусь, Витусь… — и принялась его расцеловывать. Этого он боялся пуще всего. Пока ехал сюда, вспоминал тетку, и воспоминания о ней были сплошь обслюнявлены ее поцелуями. — Ну и вырос же ты за два года. Мужчина, право слово, мужчина. — И Витольд опять ощутил на щеках, на лбу прикосновения теплых, влажных губ. Когда-то он рассмешил тетку до слез тем, что после таких же нежностей принялся торопливо вытирать рукой щеки и губы. — Поглядите-ка, не любит целоваться! А может, ты, Витусь, в ксендзы метишь? — пошутила тетка Ванда. Когда-то, когда-то. Он почти ничего не помнил, да и что тут помнить? Тетка провела его в комнату, где стояли две кровати, украшенные никелированными шариками. Неприбранные, и только теперь Витольд заметил, что тетка разгуливает в ночной рубашке. Она, вероятно, уловила его смущение, так как весело воскликнула: — А ты не удивляйся, что я долго валяюсь под периной! Люблю поспать. А что мне делать-то? У мужа такая работа, что зачастую по два-три дня его не вижу. Так чем же прикажешь заняться? С бабами сплетничать? Ходить по городу и смотреть, как жандармы оттяпывают бороды евреям? — Он открыла шкаф и, заслонившись дверцей, начала переодеваться. — Садись на кровать или где хочешь, рассказывай, а я сейчас буду готова. Ты, наверное, голоден? У вас тоже такая же дороговизна? Баба, которая носит мне молоко, взяла с меня сегодня злотый пятьдесят, а еще в марте брала восемьдесят грошей. Разве это не скандал? — Витольд увидел вылетевшую из-за дверцы шкафа ночную рубашку. Подумал, что в данную минуту тетка стоит совершенно голая. — Почему молчишь? — спросила она, отрывая его от грешных мыслей. — Я не молчу. У нас все здоровы. — Дверца шкафа качнулась, задетая локтем или коленкой. А если захлопнется?
В прошлом году они с Зенеком забрались во двор к Малысякам и притаились у окна деревянного домишки. Малысяк лежал в больнице, дома оставались одни женщины. Жена Малысяка и три дочери, почти взрослые девицы. — Я четыре раза там был… — подбивал Витольда на эту эскападу щербатый Зенек, сын путейца, — если чуток повезет, такие чудеса увидим… — Везение состояло в том, чтобы Малысякова не слишком плотно занавесила окно. Черная светомаскировочная штора иногда цеплялась за высокий горшок с кактусом, и тогда оставалась щелочка, через которую была видна часть комнаты. Именно там стояли две кровати, на которых приходилось умещаться трем сестрам. — Смотри, голенькая, как ангелочек в костеле… — горячо дыхнул ему в лицо Зенек. — Раздетая клево выглядит. — Витольд прижался лбом к стеклу и увидал девушку, которая искала под подушкой ночную рубашку. Она была высокая, нагая и худощавая, как мальчишка. Даже волосы подстрижены коротко, под мальчика. И если бы не налитые, колышущиеся груди, Витольд мог бы сказать, что она вполне красива. — Клевая, но они все такие, — бормотал Зенек, давясь слюной. — Я знаю, чтоб мне провалиться, у меня ведь есть сестра. С этими сиськами каждый мужик рано или поздно примиряется, а когда притерпится, то они перестают ему мешать. Не понял? Ну, например, поглаживаешь бабу по животу, а на сиськи ноль внимания.
— Чего ты опять молчишь? — С визгом захлопнулась дверца шкафа, и тетка вышла на середину комнаты, как на сцену. Подняла руки. — Взгляни, этот свитер связала мне твоя мамочка. Правда, чудный? Передай моей сестричке, что именно в ее свитере я встречаю самых дорогих гостей. — Она потащила Витольда на кухню и принялась жарить яичницу, предварительно бросив на сковородку несколько ломтиков грудинки. Кухня мгновенно наполнилась упоительным ароматом поджаренного мяса. — Все живы и здоровы… Значит, ты попросту соскучился по мне и приехал? — Хотел тебя увидеть и приехал… — он смотрел на пол, смотрел на сковороду, на буфет смотрел, на полки и белый абажур, — …увидеть и приехал… — только на тетку не смотрел из опасения, что она запросто обнаружит его ложь — А я уж было подумала, не стряслась ли какая беда, Ирка заболела или у отца неприятности на работе… — Отец уже не работает в школе, — обрадовался Витольд, что может наконец сказать нечто определенное и уйти от разговора о порученном ему в Щебжешине деле, которое следовало держать в секрете. — А где он теперь? — Тетка поставила перед Витольдом ароматную, дымящуюся тарелку, положила два куска хлеба, намазанные маслом. — В каком-то кооперативе, очень часто ездит в Замостье… — Он принялся есть торопливо, с жадностью. Настоящий голод еще не был ему знаком, но в их избицком доме грудинка, масло, яйца и белый хлеб сразу в один день на столе уже не появлялись. — Вкусно? — Тетка гордилась своими припасами, ждала возгласов восторга, Витольд только кивнул головой, не отрывая взгляда от тарелки. — Может, тебя удивляет, что война еще не заглянула в наш буфет? Сто раз успела бы заглянуть, если бы не расторопность дядюшки Юзефа. Он крутит баранку, как и раньше, но, если бы жил, как до войны, только на свою мизерную зарплату, мы бы давно околели от чахотки. Документы у него отличные, ведь он Arbeitsamt, биржу труда, обслуживает, рук своих никакими грязными делами не пачкает. Что он делает? Едет, куда велят. А если ездишь повсюду, то и купить-продать можно. Вкусно? — Витольд снова кивнул, сметая с тарелки остатки яичницы. — Я так довольна, что Янек ушел из школы… — порадовалась тетка. — Что это за работа? Особенно в военное время. Кто-то правильно ему посоветовал перейти в кооперацию, в торговлю. И заработок больше, и немцы благосклоннее смотрят на такую нейтральную сферу. — Потом он мыл вместе с теткой посуду и рассказывал ей о серой избицкой повседневности: — Малысяка придавило телегой, он уже выписался из больницы, но, говорят, никуда уже не годится. Собстыля подстрелила железнодорожная охрана, он уголь воровал из вагонов. В квартире Карча, который уже до войны был пенсионером, немцы нашли радиоприемник, теперь старик ждет в замойской тюрьме приговора. — А что у вас с евреями, тоже свозят со всей Польши? — Тетка не знала ни старого Карча, ни молодого Собстыля и посему решила обратиться к более общечеловеческой теме. — Зачем их привозить-то? — искренне удивился Витольд. — Своих хватает. — Верно, всегда их там было полно… — согласилась тетка. — Избица — еврейская столица. А к нам везут, хотя своих тоже достаточно. В основном из Западной Польши привозят. Юзек рассказывал, что иногда просто кошмарные сцены разыгрываются, когда эшелон к нашей станции подходит… Переночуешь у меня? — Переночую, — поспешил поддакнуть он и вздохнул с облегчением, все наихудшее уже позади, во всяком случае, позади вся самая главная ложь и недомолвки. В комнате было тепло. Витольд прижался лицом к прохладной подушке. Представил себе, что лежит на чистом, ветрами охлажденном песке необитаемого острова, в окружении тихих вод. И не мог понять, почему в этой неуютной квартире чувствует себя в полнейшей безопасности, почему в этой чужой комнате ему так отрадно. Все в голове начало путаться, смещаться, и он, даже без малейшего удивления, вдруг уяснил, что тетка бесит его и вместе с тем нравится ему, что она безобразна в своем облегающем свитере, распираемом ее пышным бюстом, и одновременно очень красива, что его смущает ее присутствие и что ему хорошо рядом с ней. Далеко, кажется у железнодорожной станции, затрещал пулемет, а Витольд тем временем погружался в безмятежный сон. Снилась ему Сабина, которую он почти не помнил. Поэтому она походила на дочь Малысяка и была в голубом свитере, том самом, в котором тетка вышла из-за дверцы шкафа. — Поблагодари мать за то, что для меня сделала. — Сабина стояла посреди комнаты, подняв руки над головой, и наклонялась влево, вправо, словно собираясь танцевать. — Этот свитер она связала для тетки… — невзначай вырвалось у Витольда, и тут же он пожалел об этом. — Неправда. Мне его подарили четыре года назад, в день рождения… — Теперь она уже приплясывала вокруг Витольда, а он водил за ней взглядом. — Четыре года, четыре года — и я совсем не выросла и не хочу расти, ведь тогда не смогу носить голубой свитер. Он чудесный, не правда ли? Скажи своей маме, что в этом свитере я встретила тебя. — Сама ей скажешь… — Вдруг вспомнилось, что не сообщил Сабине самого главного. — Послушай, мы устраиваем убежище. Это будет твой тихий, безопасный остров. Вокруг море, а ты сидишь на песке и никого не боишься. Хочешь поехать на такой остров? — Нет такого острова, — улыбнулась она. — Погоди, я еще не все сказал.
Утром, как только тетка отправилась в лавку, Витольд захлопнул дверь и пошел искать дом Розенталей. На Рыночной площади возле юденрата толпились евреи, вооруженные лопатами и метлами. Они неумело строились в две длинные шеренги, толкаясь и отпихивая друг друга, так как каждому хотелось стоять во втором ряду. Подбежал жандарм, который долго и терпеливо наблюдал за беспорядочным построением. Ударил прикладом первого попавшегося. Худощавый молодой человек в металлических очках закачался и хотел было поднять шапку, которая свалилась у него с головы к ногам немца. И тут получил второй удар по непокрытой, коротко остриженной голове. Без стона свалился на землю, а жандарм начал пинать его сапогами: — Du mußt bald Krepieren! Сейчас ты подохнешь! — После этих слов парень поднялся, отер рукавом окровавленное лицо, не спеша спрятал в карман разбитые очки и спокойно произнес, но прозвучало это угрожающе: — Я знаю, что подохну, но и твой час пробьет. — Was sagt der Hund? Что сказала эта собака? — крикнул жандарм, но больше уже не бил. — Он сказал, что покорнейше извиняется перед господином жандармом, — выскочил вперед старый еврей в расстегнутом халате, — ах, что я говорю… — схватился за голову и еще раз выкрикнул святую ложь, на сей раз по-немецки. — Genug! Хватит! — Жандарму, видимо, надоело жалкое представление. Он еще несколько раз махнул прикладом, и рабочая команда зашагала в сторону Фрампольской улицы. Витольд не мог двинуться с места, словно прирос к тротуару. Потом ощутил жгучую сухость в горле и бросился на поиски какой-нибудь лавчонки. — Ты, видно, позавтракал селедкой, — засмеялся лавочник, когда Витольд жадно осушил третий стакан сельтерской. У прилавка беседовали двое мужчин. Не понижали голоса, вероятно полагая, что при таком сопляке можно говорить о чем угодно. — Забрали Кавалика и Радика с предместья. — Дождались-таки. Ведь ясно же было, что фрицы рано или поздно возьмутся за коммуну. Этот Радик быстро поладил в сентябре с красноармейцами. А коли поладил, надо было вместе с ними и уходить. — Ясное дело, но чудакам нет спасенья. Сами лезут в петлю.
Дом, где жил Розенталь, снаружи выглядел вполне прилично. Но в подворотне Витольд увидел совершенно иной мир. Ступеньки облепила чумазая, оборванная детвора. Перила лестницы держались на единственном гвозде, и рыжий подросток пытался именно этот последний гвоздь выдернуть. Пахло прокисшей капустой, пахло нищетой. Дети показали Витольду, где живет Розенталь, и загалдели, как галчата на дереве: — Он лечит только евреев, других принимать ему нельзя. А там есть еще Рубин с семьей, из самой Быдгощи. Еще Файвель Пятьминут. И его отец, тоже Пятьминут. А что? Разве не поместились? Еще как… Там вдобавок Якуб Блюм из Юзефова. О, Блюм. Ну он никого не боится, даже Ширинга. Дурак, с Ширингом никто не сладит… — Витольд махнул рукой, чтобы их утихомирить, и постучал в дверь. Открыла ему Доба Розенталь. Даже странно, что именно она. Словно почувствовала, что так деликатно не будут стучаться ни к Рубину, ни к Файвелю, ни к Ревеке, ни к Якубу, который, впрочем, земным звукам уже не внемлет, ибо углубился в пожелтевшие страницы Торы, где и правды торжество, и гонимым прибежище, и незрячим путеводный свет. Якуб запирается в кухне, завешивает окно и над землей обетованной склоняется. И никто даже словом единым не намекает ему о том, что иная земля с нетерпением его дожидается. Обыкновенная. Ну, может, еще только Файвель Пятьминут не желает слышать ни о той земле, ни об этой. Старый Якуб был когда-то шамесом в синагоге, только это было давно. Очень давно; но Якуб перестал считать дни, поэтому отдаленное ВЧЕРА в его представлении не так уж отдалено. Порой он ощущает прилив богатырской силы и тогда готов вступить в единоборство с коварным, бешеным Гаманом, который во время оно покушался на жизнь израэлитов, и даже с Ширингом, который покушается ныне, стреляет, убивает. Потом Якуб думает: на чем же зиждется эта сила, в чем заключена? Если есть радостный праздник спасения пурим, то, значит, действительно есть спасение? Кому противостоять, дабы кровь, уже пролитая нами, не была напрасной жертвой? Не будет напрасной. Пурим? Гаману была уготована виселица, нам — только яма, присыпанная известью. Так быть должно. Ш’ма Исраэль… Извечен бог наш. Извечен единый… Испытал господь Авраама. И Авраам покорился своей судьбе и был готов принести в жертву господу Исаака. И мы должны быть готовы покориться этой судьбе, ибо только господу ведомо, почему есть так, а не иначе. И он ведает, почему избранники его стоят на краю разверстой могилы… Доба Розенталь подождала немного и, когда Якуб с толстой книгой в руках скрылся в кухне, распахнула дверь настежь. — Так ты тот самый Витольд? — Она стояла перед ним вся в черном, похожая на плакальщицу. И показалась Витольду совсем старой, хотя была не старше тетки Ванды и матери. Доба впустила его в просторную, но чудовищно захламленную переднюю, где детская коляска соседствовала с ящиком, набитым книгами, а лоханка — с велосипедом, у которого была порвана цепь, и ветхим матрасом. — Так ты от Яна… — Теперь она улыбнулась и повела его по грязной, загроможденной рухлядью передней до самых последних дверей. — Осторожнее, не испачкайся. Видишь, как мы теперь живем, видишь? — Она первой вошла в большую комнату, а он, переступая порог, подумал, что порог этот разделяет два мира. По ту сторону границы — грязные стены, выщербленные ступеньки, ящики, лохани, сломанные велосипеды. А тут — свежесть недавно покрашенных стен, блеск полированной мебели, картины в золоченых рамках, а на полу красный ковер.
— Устраивайся поудобнее… — она пододвинула к нему стул. — Чем тебя угостить? Есть у меня еще немного хорошего чая. Английского. Леон купил в Замостье, когда еще удавалось кое-что достать и можно было туда ездить без риска для жизни. Подожди, схожу на кухню за кипятком. — Витольд остался один в комнате, и сразу же одолели его тревожные мысли. Он не надеялся, что в такую пору застанет доктора, но где его дочь? Доба Розенталь вся в черном. Может, в этом доме беда?.. Донеслись возбужденные голоса из передней, кто-то ссорился: — Ах, Файвель, я тебе говорю, что ты уже не еврей, а пустое место. Для тебя талес то же, что диагоналевые штаны. Штаны? Если бы ты хоть на эту диагональ сумел заработать. — Дай ты мне жить, отец… — Жить? Так я твою жизнь отравляю? Если говорю, что ты ни мозгами, ни руками не шевелишь, то, значит, я тебя убиваю? Ты умрешь с голоду, Файвель, а перед смертью от голода свалишься… — У меня своя голова, отец… — Ах, если у тебя есть разум, то я не Якуб Пятьминут, а Герш из Острополя. — Теперь Витольд услыхал спокойный голос Добы Розенталь: — Пан Пятьминут, вам непременно надо ссориться возле моих дверей? У меня гость, и мне неудобно. — Она вошла в комнату с чашкой на подносе. — Чем богаты, не стану же тебя черствым хлебом угощать. — Витольд никогда еще не пил из такой изящной чашки. Рука у него заметно дрожала, когда брал со столика эту белую хрупкую вещицу. — А ты не боялся прийти сюда? В наши зачумленные дома? — Чего бояться? Я приехал по важному делу. Никакого письма не привез, ведь самые безопасные письма те, что записаны в голове. Я могу все сказать хоть сейчас, но лучше, чтобы при этом был пан Леон. — Она молча смотрела на него, и постепенно ее взгляд делался все холоднее. Как будто наконец догадалась, с чем Витольд приехал, и этой догадкой была сражена. Долго молчала, уронив голову, и молча подошла к окну. Лишь через какое-то время он услыхал ее спокойный голос. Придерживая занавеску, женщина вглядывалась в серость за окном и говорила, обращаясь не к Витольду, а, скорее, к этой еврейской улице на окраине городка: — Здесь когда-то была голая земля, и в дождливую погоду невозможно было проехать на телеге — колеса увязали в грязи. Но едва мы здесь поселились, улицу начали мостить, и Леон шутил, что специально для нас делают удобную дорогу. А когда родилась Саба, я брала ее на руки и подходила к этому окну. Взгляни, дочка, вымостили камнями мостовую, расставили фонари, красивая теперь у нас улица. Так ей все показывала, пока она не научилась ходить, говорить, смотреть без моей помощи. Когда-то я думала: здесь нам живется обыкновенно, то есть хорошо и плохо. Теперь думаю иначе: здесь жилось нам очень хорошо. Столько тут всего пережито, что сама я стала чем-то вроде этого еврейского дома. Можно его сжечь, разрушить, но ни на какое другое место перенести нельзя. — Доба Розенталь вдруг смолкла, и Витольд услыхал лихорадочный шепот, доносящийся из передней. Шепот, шепот, а потом из этого шепота вырвался голос, полный щемящей тоски. Сильный, здоровый голос, и одновременно такой, каким прощаются с жизнью. Пела женщина:
О, мой несказанный, о, мой долгожданный, Ты и знать не знаешь сам, Что на свете кто-то плачет по ночам. Что распухли веки у одной Ревеки И она все время ждет, Что ее один добрый господин Отсюда увезет…[1]— Тихо, ша, глупая женщина, иди кормить ребенка. Ты от Файвеля заразилась безумием! — загремел мужской голос. Доба сделала несколько шагов к дверям, в передней все стихло. Поэтому она остановилась на полдороге и только теперь взглянула на Витольда. — Это Ревека. Иногда я пытаюсь ее понять, но это нелегко. — Доба вздохнула, как бы сожалея о том, что характер Ревеки Пятьминут столь сложен. — Так в ней жизнь перемешалась со смертью, радость с печалью, добро со злом, что одному богу известно, что получится из этой неразберихи. — Она придвинула стул, села напротив Витольда и холодно воззрилась на него. — Не знаю, с какой вестью ты прибыл, но знаю, зачем Леон в Избицу к твоему отцу ездил. Я сказала тогда, если понадобится, повторю сегодня: жили мы тут вместе и останемся вместе.
Витольд, словно окаменевший, сидел над своей чашкой из тончайшего фарфора, в которой уже давно остыл чай. Он перестал пить, когда начался этот странный монолог о еврейском доме, который нельзя перенести в другое место. Витольд совершенно не знал, как реагировать на глубоко потрясшие и удивившие его слова, которые не содержали никаких тайн, но все же были загадочны. Мощеная улица. Есть над чем задумываться! Булыжник — это булыжник. Фонари — только фонари. А о смерти стоит ли философствовать, если и безо всякой философии ее можно теперь повсюду встретить?.. Дверь распахнулась внезапно, широко, Витольд оглянулся и увидал Сабину. Это Сабина, подумал он, хотя лицо девушки не походило ни на одно из тех лиц, которые он извлекал вчера из глубин памяти или когда-либо видел во сне. Это, конечно, Сабина, подумал он. Глаза Добы Розенталь посветлели, помолодели. — Наконец-то, а я уже о тебе беспокоилась. Почему пан Хаубен так задерживает вас на занятиях? Разумно ли из-за истории Польши или теоремы Пифагора наткнуться на жандармов? — Это была уже совсем другая Доба. Та, печальная, примирившаяся с судьбой, осталась у окна. Может, еще любуется своей прекрасной, проклятой мостовой как своим последним путем. Другая Доба шла, улыбаясь, к дочери, и даже черная одежда казалась уже не такой траурной. — Посмотри, кто к нам приехал! Помнишь Витека из Избицы? — Сабина откинула волосы со лба и взглянула с любопытством на Витольда. — Ой, мама-мама, это было сто лет назад. Я помню какого-то мальчика, который порвал штаны на заборе и долго плакал. — Она присела на корточки у его ног и завертела головой, словно была у фотографа и не знала, в какой позе ей лучше сниматься. — А ты меня помнишь? Припоминаешь? — Ее звонкий голос прозвучал как эхо, донесшееся с далекой планеты. Ничего он не помнил, ничего не мог припомнить, но голос этот не был чужим. Витольд готов был поклясться, что голос этот не с запуганных еврейских улочек, по которым люди пробегают крадучись, боясь собственной тени. И не из этого дома, где слышатся молитвы или перебранки, плач или странные рассуждения о булыжниках и покосившемся фонаре. Этот голос оторвался когда-то от счастливой земли полетел стремглав к далекой лучезарной планете, а теперь на грешную землю вернулся. — Помнишь? — Я тебя помню… — ответил он, не избегая взгляда девушки. И так ему было теперь хорошо, так легко, точно этой святой ложью он искупил все свои грехи. — Видишь, он тебя помнит! — обрадовалась Доба, и мина у нее была малого ребенка, стремившегося поверить в самую неправдоподобную сказку. — Он ничего не помнит, он врет… — Сабина вскочила на ноги, взглянула с иронией на Витольда, а Витольд спокойно принял этот возглас. Счел добрым предзнаменованием и порадовался, что Сабина так легко отгадывает его мысли… В передней раздался трубный глас Якуба Блюма: — Господи, где Мордехай? Нет Мордехая. А они ждут, они еще способны ждать. Бог Авраама, Исаака, владыка наш, ты избавил народ избранников твоих из плена египетского, так избавь же нас от пагубной надежды, ибо надежда эта, как опиум, затмевает наш разум ныне, когда надо с чистыми помыслами встать на краю своей могилы. Нет для нас никакой земли обетованной, где можно найти прибежище. А они вертятся на кишащих блохами матрасах, не спят ночи напролет и только думают, как бы попасть в новый Адуллям. С вершины пророк Моисей охватил взглядом землю обетованную, а теперь даже с этой вершины величайший из пророков не узрел бы ни единого деревца, имя которому — спасение. Нет Адулляма, нет спасения, а сплошные вши, отверстые могилы на кладбище, жандармы и страшная дороговизна. Так куда же дальше? А они притворяются, будто не ведают, что их ждет, а они удивляются, что теперь каждый день надо бодрствовать, как в Судный день, бодрствовать в раскаянии и смирении. О господи, сделай так, чтобы мы не были слепыми. И еще сверши, чтобы камни, на которых мы здесь сложим головы, превратились по воле твоей в камни мостовой Иерусалима…
Хлопнула дверь, пискливо заплакал ребенок, и это хныканье перекрыл резкий мужской голос: — Пан Якуб, холера вам в бок первейшего довоенного сорта, кончайте заедать мою жизнь! Какое вы имеете право высказываться от моего имени? Вы можете говорить с кем угодно, но на свой собственный счет… — Молчи, дитя… — запротестовал Якуб, хотя его оппонент не желал молчать. — Пан Якуб, жить мне еще не надоело, мне даже такая проклятая жизнь мила, и ни в какую землю я лечь не тороплюсь. Будьте любезны принять это во внимание. — Ребенок плакал все громче. — Файвель, прошу тебя, Файвель, прояви хоть капельку уважения к пану Блюму! — раздраженно выкрикнула Ревека и начала успокаивать ребенка. — У него есть талес и Тора, так зачем же добавлять еще что-то, на что ему мое уважение? — ответил Файвель Пятьминут немного спокойнее, но тут же снова загремел: — Ох, евреи, ох, глупые евреи со своими мудрыми книгами! Ведь даже курица вырывается, когда ее кладут под топор. Неужели нельзя быть разумными, хотя бы как эта съедобная птица? Ох, евреи! — Сабина стояла у стены, прижавшись к стене, словно хотела с ней слиться. И с ужасом смотрела на дверь, за которой постепенно стихала перепалка. Не впервые слышала она такой спор и не впервые пыталась определить свое место среди тех, кто тянул канат с одного берега реки на другой, очень далекий берег. С одного, где оставалось еще достаточно радужных надежд, на другой, где только кайся, посыпай пеплом голову да ожидай худшего. Она тянула канат вместе с Якубом, чтобы через минуту перебежать на другой берег и ухватить конец каната, который держал молодой Файвель. Хотелось ей быть и здесь и там. Очень боялась, что Файвель проиграет, и молилась, чтобы Якуб не обессилел. В нарастающем смятении искала своего берега и наконец однажды призналась отцу, что запуталась и не знает, найдет ли его. Леон Розенталь вышел с дочерью во двор, ему хотелось побыть с ней вдвоем. — Приглядись к этой молодой листве… — сказал он и тоже запрокинул голову, чтобы взглянуть на темно-зеленую крону каштана, — вдохни поглубже, листва тут свежая, и поэтому воздух как бальзам. Мир прекрасен, и нет иного места для человека. Даже если человеку очень плохо, мир прекрасен и за него надо крепко держаться. Для евреев настало страшное время, а евреи кричат: страшное время, асибе, как будто от этого крика что-то может измениться. Либо ничего не кричат и думают так: настало страшное время, что же тут поделаешь? Послушай, дочка, Гитлер вынес нам смертный приговор, а мы пытаемся вмешать в это дело господа бога. Что с нами происходит? Кто вверг нас в этот идиотизм? Ты молода, поэтому слушай молодых. Не старого Блюма, который погряз в священных книгах и пророчествах, а молодого Пятьминут, который пытается бунтовать. Да, да и еще раз да. Ты должна понять, что бунт сейчас лучшая молитва. Послушай… — Она слушала, а потом повторяла эти слова перед сном. И все более успокаивалась… Месяц спустя, возвращаясь от учителя Хаубена и припоминая урок об Ицхаке Лейбе Переце[2], который, трудно поверить, одиннадцать лет жил здесь, совсем рядом, в Замостье, она остановилась в передней. Из-за двери слышался голос матери: — Не говори больше, ничего не говори. Ничего, ни словечка. На пороге сяду, и силой меня не сдвинешь. Без тебя никуда не пойдем. Ты не должен обрекать нас на такое спасение. — Попытайся успокоиться и понять… — Отец говорил мягко, как говорят с больным, который отказывается принимать лекарство. — Больных евреев немцы запретили принимать в польскую больницу, не помогли слезные просьбы юденрата. Я не могу покинуть своих больных, я им нужен, даже если их нечем лечить. Но ты с Сабиной… — Нет, нет, не желаю этого слышать второй раз… — Мать заплакала. Сабина села у дверей, и в одну секунду испепелились все ее мысли о счастливом спасении. Снова начались метания с одного берега, на котором молился Якуб Блюм, на другой берег, где молодой Пятьминут продолжал потрясать кулаком… Леон Розенталь вернулся домой около шести. Увидал Витольда и повел себя так, словно с Витольда начинался и на нем же кончался весь мир. Не поздоровался ни с женой, ни с дочерью, потащил юношу в переднюю, в самый темный угол. — Наконец-то. Я верил, надеялся. Ты привез мне хотя бы надежду? — Все в порядке, — произнес Витольд громким голосом, и Розенталь приложил палец к губам: — Тихо, мальчик, за этими стенами живут четырнадцать посторонних лиц. Говори шепотом, я услышу каждое твое слово. — И Витольд принялся рассказывать с самого начала, как бы повторяя то, что давно вызубрил наизусть: — Все в порядке, пан доктор. Убежище почти готово. Оно будет на нашем чердаке. Через два месяца можете перебираться, только надо еще раздобыть немного досок. Трудновато теперь с досками. — Розенталь все кивал одобрительно, с открытым ртом, точно глотал слова Витольда или сам собирался что-то сказать. Но ничего не сказал, вдруг расплакался, да так горько, что и Витольду захотелось плакать. Они стояли в уголке, прижавшись друг к другу, дожидаясь, пока немного успокоятся. — Ты сказал что-нибудь моей жене? — спросил наконец доктор. — Ни слова, — улыбнулся Витольд. — Это хорошо, очень хорошо. Я должен жену и Сабину немного подготовить к этой радости. Теперь такие времена, что следует весьма осторожно подходить к человеку с радостной вестью. Человек готов теперь только к худшему, и внезапная радость может свалить его с ног… — Потом Витольд попрощался с женой Розенталя и с Сабиной, которая в минуту прощания заметно погрустнела. Грустная, она еще красивее, подумал Витольд, еще красивее, чем в тот момент, когда вбежала в комнату со смехом. Он вышел из дома вместе с Розенталем. Пусто было, тихо и темно, так как фонари, замазанные синей краской, пропускали ровно столько света, чтобы прохожий не разбил себе лба о фонарный столб. — Дальше ступай один… — доктор пожал ему руку, — для евреев комендантский час начался в шесть. Будь осторожен, не попадайся на глаза жандармам. Для меня ты «аж поляк», а для них только поляк. — Розенталь остановился у серого строения, в котором жило десятка полтора семей и который тонул в угрюмом сумраке, напоминая дом мертвых.
3
Ян Буковский работал неторопливо, на совесть, ведь тайник должен быть хорош в любое время года. В летнюю жару и январскую стужу. Сам планировал и знал, что все придется делать самому, своими руками. — Читал новые распоряжения о евреях? — спрашивала жена, и в усталых от недосыпания глазах — она теперь плохо спала — вспыхивали последние зеленые искорки. Ирена еще надеялась, что худые вести вынудят Яна одуматься. — Не читал, ведь я не еврей и мне совершенно безразличны эти поганые бумажонки. — Ян отвечал резко, с вызовом, но она знала, что он всегда говорит так, когда принимает решение, которое свыше его сил. Поэтому снова завела речь об этих объявлениях, мокрых еще от клея, сохнущих на стене Дома пожарника, и на стене почты, и железнодорожной станции, и отделения полиции. — Не то что в соседней деревне, даже на соседней улице запрещено им показываться. Заперли их в гетто, как в огромном склепе. Говоришь, не читал, потому что не еврей, но, когда тайник будет закончен и заселен, мы начнем умирать от страха, как евреи. Там пишут, что лица, которые помогают евреям, прячут их, будут расстреливаться на месте. Слышишь меня? — Ян обнял жену мускулистой рукой и поцеловал в голову. — Мы еще не поднялись на палубу, а уже плачем, что судно идет ко дну. Я знаю, что нас ждет, и знаю также, что должен завершить свою работу. Теперь даже за пустяки нам угрожает смерть, так давай уж затеем действительно серьезную игру. — Она стояла рядом с ним не шелохнувшись, чувствовала на плече его тяжелую руку и снова утверждалась во мнении, что муж занемог и болезнь эта началась по возвращении его из Лапенника. Ирена знала разные хвори, даже чахотку, от которой умер ее отец, с недугом же, привезенным Яном из той поездки, никогда еще не сталкивалась. Лицо у него тогда было серым, бескровным, она даже вскрикнула от испуга, когда он стал на пороге, ей даже показалось, что он вот-вот упадет. Но муж оттолкнул ее, когда она попыталась его поддержать. Зачем? — только это прочла она в его взгляде. Зачем. Не упаду. Я не так уж слаб. В куртке, в сапогах, грязных по щиколотку, даже не снимая шапки, он пробежал в комнату и захлопнул за собой дверь. Вот до чего дошло! Она почувствовала, что теперь очень нужна Яну. Но как ему помочь? Зашипела вода на раскаленной плите. Значит, так плохо Яну? Надо выбросить к чертям этот чайник, четыре раза паяли, и снова протекает. А в комнате его, а за дверью тишина. Плохо ли это? Она стояла наготове у двери, не слишком далеко, не слишком близко. Позовет. Позовет ли? Лишь бы Витольд не вздумал именно сейчас вернуться от товарища. Она машинально вытерла руки о фартук. Нащупала дырку. Когда же это порвала? Надо зашить. Что с Яном? Что со мной? Боюсь? Нет, страх уже перестал ее душить, но она чувствовала себя все более беспомощной. Тихо в комнате, да не в пустой. Тихо, ведь Ян дома. Что может быть важнее этого? Главное — финал. Если Ян и влип в какую-нибудь историю, то, значит, выпутался, раз он здесь. Стреляли в него? Не попали. Тихо. Хотелось ему помочь, и поэтому она жаждала услышать его голос. Когда знаешь человека столько лет… Сколько? Сентябрь, октябрь, в ноябре будет восемнадцать. Если столько, то можно все определить по голосу. У голоса тысяча оттенков, тысяча цветов. Слово говорит одно, а голос — другое. В слове спокойствие, а в голосе предчувствие бури. Ирена подошла поближе к дверям, еще ближе. — Ты не голоден? — Тишина. Нажала на дверную ручку, переступила порог и стала так, чтобы видеть лицо Яна ярко освещенным. — Скажи мне наконец, что произошло? — Человека убили… — Он опустил голову, но через минуту выпрямился и уже не старался избежать бдительного взгляда Ирены. — Мало ли теперь людей убивают? — Она даже вздохнула с облегчением, значит, обычное дело. Великое дело и совсем обычное. — Ты ничего не понимаешь… — голос Яна зазвучал отчужденно, но в глазах его не было гнева, — ничего не понимаешь, — повторил он в раздумье и тут же добавил: — Не огорчайся, я тоже столько времени блуждал на ощупь. И должен это побыстрее наверстать, непременно. — Ирена села у стола, против мужа. — Хоть шапку сними, — произнесла тихо. Он скажет мне правду, подумала она, голос его не противоречит словам. Скажет правду?.. Ян встал так стремительно, словно и не было изнурительной поездки, швырнул на кровать куртку и шапку, передвинул стул поближе к жене. И принялся разглядывать ее с таким любопытством, что она даже удивилась: смотрит, точно год не видались. — Пожалуй, нам с тобой не было плохо? — послышался его неуверенный, ломающийся голос. — Не было, — ответила она искренне, но снова нахлынули тревожные мысли. К чему задавать вопрос, на который можно услышать лишь один ответ? Только один, поскольку иного нет. Это все равно что спрашивать, обязательно ли после воскресенья будет понедельник. Будет. Всегда будет. Не было нам плохо, хотя порой бывало тяжко. Надо наконец добраться до истоков этого вопроса. Если кто-то вдруг спрашивает, что было вчера, то чаще всего думает о том, что сулит завтрашний день. Не было нам плохо, а что ты замышляешь на завтра? — Кто был тот, которого убили? — спросила она осторожно. — Мой друг, аптекарь из Лапенника, — бледность сходила с лица мужа. Он говорил о смерти, а возвращалась к нему жизнь. — Мучили его страшно, потом убили гранатами и сожгли, как вязанку хвороста. — За что? — спросила она тихо и тут же осознала бессмысленность своего вопроса. Разве бывают такие преступления, за которые человека можно разорвать гранатами и сжечь на костре? Ждала вспышки гнева и приняла бы ее, но Ян потянулся к ней и, когда их руки встретились над столом, произнес спокойно: — Не знаю за что, однако догадываюсь и попробую его заменить… — Ночью ее разбудил стук. Она встряхнула головой, чтобы сбросить с себя сонливость, и поняла, что кто-то ходит по чердаку. Надо разбудить Яна. Протянула руку, но кровать мужа была пуста. — Все-таки болен, — прошептала Ирена, — все-таки слишком глубоко затронула его эта история. — Она мысленно петляла вокруг этой истории, как мышь вокруг ловушки. Тронуть? Ян среди ночи лезет на чердак, что-то проверяет. Тронуть? Трону — и ловушка захлопнется… Ян и визит Розенталя в этот дом. Уже тогда Ян сказал, что единственное спасение для евреев — лес или надежный тайник. Сказал. Пожалуй, нам с тобой не было плохо? Значит, такое будущее ты мне готовишь, мой милый? При чем тут смерть твоего аптекаря? Что вас связывало и почему ты должен расплачиваться столь дорогой ценой? И за себя ли расплачиваешься? Она закрыла глаза и повернулась лицом к стене, так как отворилась дверь и Ян на цыпочках направился к постели. — Ирена, — он наклонился над ней, она услыхала его учащенное дыхание, — спишь? — Еще ошеломленная внезапным, страшным открытием, она хотела все сызнова, тщательно обдумать. Когда он ей об этом скажет? Когда поставит ее перед этим фактом, как перед непреодолимой стеной? Сколько раз она, словно малого ребенка, уводила его с разных опасных дорожек, на которые он забредал. Они никогда не ссорились, попросту она не умела ссориться. Стоило ему повысить голос, как все ее умнейшие доводы опрокидывались, точно шаткие домики из детских кубиков. Но она умела возвращаться к якобы проигранному спору в тот момент, когда Ян совершенно этого не ожидал. И независимо от той или иной весомости ее аргументов в голосе жены Яну слышалась просьба. Может, поэтому он часто уступал? Иногда замечал со смехом: — Как же так? Две родные сестры, а походят друг на друга, как ястреб на цыпленка! — Не знаю, похожу ли я на цыпленка, — отвечала она серьезно. — Только Ванда очень похожа на отца.
Ян встал рано, чтобы к восьми попасть в Замостье. Она смотрела, как он торопливо завтракал. Подлила ему кофе. Завернула в бумагу два ломтика хлеба, намазанные смальцем. Неделю назад мать прислала ей из деревни кусок свиного сала. Ирена перетопила его, и теперь через день они чувствовали себя нормальными людьми. Хлеб со смальцем, картошка, поджаренная на смальце. Если через день, то жиров может хватить до конца месяца. — Хорошо ли себя чувствуешь? — Она склонилась над кастрюлей, умышленно не смотрит в его сторону. — Все хорошо. Вчера был небольшой кризис, но сон меня исцелил. — Она слышала, как он встал из-за стола, задевая тарелки. Потом начал одеваться. — Больше ничего мне не скажешь? — Ирена внезапно обернулась, словно желая застать его врасплох, неподготовленным. Между тем взгляд Яна был спокоен, и он медлил с ответом. Все же она услышала то, чего добивалась: — Я решил помочь Розенталю. — Ты хочешь его… — Она запнулась, не в силах произнести самого важного слова. — Его дочь и жену, — произнес Ян так, как будто речь шла о приглашении двух женщин на ужин. — А кто нам поможет, если все это раскроется? — Он пожал плечами, не ответил, да и откуда мог знать, кто им поможет. Неделю спустя направил Витольда в Щебжешин, чтобы Леон Розенталь уяснил себе, что дело сдвинулось с места. Оно сдвинулось. Ян работал неторопливо, на совесть. Убежище должно быть хорошим для любого времени года… Избицких евреев вдруг охватил смертельный страх. Они пробирались тайком в здание почты, пробовали связаться по телефону с внешним миром. Этот мир был повсюду, где кончались пределы города. Пытались дознаться, правда ли это? И вообще, может ли это быть правдой? Началось с того, что к первоклассному сапожнику, рыжему Вассеру, явился, изведав муки адские, его младший брат Элиаш. Когда постучался он ночью в окно, еще долго советовались, стоит ли открывать и разве это стук? Какое-то робкое «тук-тук». Уж тот, кто имеет право будить людей по ночам, знает, как будят. Но все-таки открыли дверь, и тогда вошел Элиаш, и не все узнали его сразу. До того он изменился, что даже рыжий Вассер смотрел-смотрел и наконец спросил: — Ты ли это, Элиаш, брат мой? — Элиаш сперва выпил стакан воды, затем съел несколько ложек холодной каши, а потом начал им рассказывать о своих злоключениях. Он и сам толком не знал, как остался жив, ибо должен был умереть по крайней мере трижды. Даже и такое было, что лежал в яме, придавленный грудой трупов, и думал: останусь здесь, к чему вылезать, раз уже погребен? Но все-таки выкарабкался, сообразив, что в засыпанной яме умирать хуже, чем от пули. А зачем ему худшая смерть? — Элиаш, может, у тебя жар? — спросил рыжий Вассер, — может, ты бредишь? — Тогда он на них напустился, и в крохотной комнатушке, где ютилось шесть душ, все почувствовали себя, как Элиаш в той яме. Или почти так же. Широко открывали рты, жадно глотали воздух и давились, ибо воздух этот был отравлен словами Элиаша. — Притормози, Элиаш, такого быть не могло. — Трали-вали и так далее. Мне это приснилось, а вы без понятия и подохнете, как рыбы, которые попадаются на пустой крючок. — Элиаш, как ты смеешь бросаться такими словами? — Еще как смею. Тра-та-та. Это началось, едва они заняли Хелм. Тут же произвели регистрацию всех евреев от четырнадцати до шестидесяти лет. Мы думали — зачем? Кто знал — зачем? Никто не знал. И у кого было узнать? В тридцать восьмом году премудрый ребе вразумлял нас, что немецкий порядок — это порядок высшего сорта. А когда Мендель Пост выкрикнул: — А «хрустальная ночь» — первый сорт? А поджог молелен тоже порядок? — ребе только руками замахал, что, дескать, это грязная сплетня. Тра-та-та. Немцы устроили облаву на мужчин, согнали нас на площадь возле шоссе. Тысячу пятьсот штук, молодых и старых. С бородами до пояса и молокососов. Трали-вали и так далее… Повели нас на Грубешов, а в Бялополе — хальт! И мы остановились. А они ходят, в глаза заглядывают, и выбрали полсотни самых лучших. Как дубы кряжистые. И тут же на опушку леса. И тра-та-та. И нет самых лучших. Слушаете? Где-то около двух часов ночи пригнали колонну в Грубешов. И было нас уже штук семьсот, остальные — в лесочках, в ямах, на свалках, в навозе. А за что? Что мы сделали, что могли сделать, если даже не успели немцев толком разглядеть? В Грубешове присоединили к нам местных евреев. Снова собралась огромная толпа. Две тысячи штук! Los! Es ist nicht weit! Вперед! Это недалеко. Ну и пошли. Далеко ли, близко ли — один черт, то есть тра-та-та. Страшный это был переход до самого Сокаля на Буге. И тут началась такая бойня, ну прямо конец света. Слушаете? Горы, горы трупов. Тра-та-та. И новая гора. Я упал в яму, но меня не задело. Не судьба. В кровь окунулся, да не в свою… — Элиаш, отдохни, замолчи, такое невозможно слушать… — Я вернулся в Хелм, поперся в юденрат, чтобы заявить, как с нами поступили. А еврейская охрана начала за мной по улицам гоняться. Видно, за то, что евреям страшную правду принес, от которой у них кишки скрутило? И потому эти болваны травили меня, как паршивую кошку или бешеную собаку. — Каждый имеет право бояться… — произносит загробным голосом первоклассный сапожник, рыжий Вассер, и подает брату кружку с водой. — Каждый, каждый, почему вы считаете, что ваш страх лучше окупится, что ваш страх подобен пасхальной жертве? Вы им преподнесете свой упоительный страх, а они вам отплатят от щедрот своих. Тем — пулю в затылок, а вам — жирного чернозема, чтобы капусту сажали. — А может? Всех ведь не перебьют, нет такой практической возможности… — робко вставляет Фрума, жена рыжего Вассера. И тогда Элиаш швыряет кружкой об пол, и вовсе не на счастье. — Элиаш, опомнись! Совсем новая кружка с золотым узором, такой убыток… — Тра-та-та. Ваши головы они изрубят как капусту! — кричит молодой Вассер, словно уже окончательно оттаяло в нем все, что успело оледенеть за время долгих, мучительных скитаний. — Наши головы изрубят, допустим, а твою? — обижается брат Фрумы, тридцатилетний портной с хорошим будущим и искривленным позвоночником. — А свою голову я подожду подставлять, желаю здравствовать. Ухожу отсюда, от вас несет мертвечиной. — Ах, куда ты пойдешь, Элиаш? — Рыжий Вассер радуется, что Элиаш хочет уйти, и скорбит, что такая была встреча и такое получилось расставание с родным братом. — Куда пойду? Туда или сюда, куда глаза глядят.
Ушел он еще до рассвета. А они побежали на почту. И страх охватил избицких евреев, правда некоторые старались не поддаваться. — Послушай, Вассер, твой брат Элиаш не болел ли, например, воспалением мозга? — Кто-то дозвонился в Замостье, до польского торговца, который до войны часто бывал в Избице. — Как там, пан Куровский? — Плохо. Расстреляли бургомистра Вазовского и его сына и еще человек пятнадцать. — А с нашими как? — С вашими тоже скверно, такие дела, но еще не вывозят. — Загалдели как на базаре: — Все-таки не вывозят! Из домов не забирают! — пока кто-то из них, успевший от Элиаша черной хворью заразиться, не пресек их радостного гомона: — Не вывозят? Да оттого, что с русскими пленными полно хлопот. Не могут же они одновременно расправляться с пленными и евреями. Не разорваться же им. Теперь гонят вагоны с Востока, много им нужно вагонов и жандармов, чтобы всех пленных перебросить. А как с этим управятся, вспомнят наши бороды.
Доски привез из Красностава владелец мастерской, над которой красовалась вывеска: «Изготовление гробов». Витольд сложил их возле сарайчика, а когда вернулся домой, отец пил водку с гробовщиком. В этом не было бы ничего особенного, если бы он не знал, что отец даже при самых торжественных обстоятельствах уклонялся от выпивки. Как только вернулся домой после сентябрьского разгрома, начал жаловаться на боли в желудке. Лечился в Красноставе, потом в Замостье, пока не услыхал от врача такого диагноза, что и лечиться перестал. Рассказывал об этом дома и очень удивлялся, что Ирена слушает серьезно, без тени улыбки. — Это вовсе не болезнь, а невроз желудка. Лечиться не надо, достаточно оградить больного от стрессовых ситуаций, не волноваться, внутренне расслабиться, рекомендуется также легкое калорийное питание и не слишком утомительная работа. Ира, может, напишем эту остроту на стене? — Словом, все выяснилось, но и до постановки диагноза и после Ян, выпив водки, всегда мучился; как оказалось, неврозы желудка бывают очень разные.
Ближайший сосед Буковских, тщедушный Томась, рассказывал, что у него тоже был невроз, но именно благодаря водке он с ним покончил. — Ну так по рюмашке вмажем и в мягкий песочек ляжем… — у гробовщика от избытка чувств задрожала рука, и он пролил водку на скатерть, — вы мне дали капельку надежды, а я вам — тесу. Так, на глазок, сколотить из него можно гробов пять среднего размера. Пять гробиков хороших денег стоят, а сколько я получу с вас за этот сырой, неоструганный товар? Но я ведь сетую видимости ради, поскольку не остался внакладе. Когда вы пришли ко мне и сказали, что хотите домик свой ремонтировать, у меня прямо сердце екнуло. Ведь я вас знаю не первый день, и знаю, что вы себе не враг. Неужели такой умный и осведомленный человек стал бы связываться с ремонтом дома, если бы почуял недоброе? Разве садовник поливает цветы, когда видит, что собирается дождь? Нижайше кланяюсь и благодарю за то, что вы обнадежили меня в такое гнусное время, когда каждый второй покойник отправляется в сырую землю без гроба… — Работа затягивалась, досок все же не хватило, однако Яну не хотелось вторично вселять веру и надежду в исстрадавшуюся душу гробовщика. Наконец доски нашлись в Старом Замостье, и работа была завершена. Ян сполоснул лицо у колодца и сказал: — Готово, остается только буржуйку поставить. Трубу выведу в дымоход, благо он прилегает к тайнику и в нем можно будет подтапливать. От двух топок пойдет один дым. — Ирена молчала. С того момента, когда поняла, что в этой борьбе она проиграла, единственным проявлением протеста было молчание. Ян вернулся со двора и сел у окна, за которым догорал день в багряных отсветах. Она смотрела на Яна, смотрела на небо, и ей пришло в голову, что это багровое зарево на горизонте — начало огромного пожара, от которого уже не убежать. А может, не все еще потеряно? — Морщин у тебя прибавилось, и вообще плохо выглядишь… — заговорила она, хоть тишина и давала ей ощущение наибольшей безопасности, — вредная у тебя работа. Вечно в разъездах, вечно в напряжении. Знаешь, какая у меня возникла идея? — Какая? — спросил он, не отрывая взгляда от багрового неба. — Я подумала, что мы могли бы перебраться к моей матери. Ведь это всего в тридцати километрах отсюда. В поле бы поработал, отдохнул бы от этих нервотрепок. И с продуктами в деревне меньше хлопот. — Она умолкла. А Ян смотрел в окно. После продолжительной паузы послышался его оживленный голос: — Надо бы еще сделать в тайнике специальную прокладку из старых мешков или соломы. Без такой звукоизоляции в нашей комнате будет слышен каждый их шаг. — Она сокрушенно покачала головой и пошла жарить картофельные оладьи. В субботу под вечер Ян привез печку-буржуйку. Все воскресенье Ян не спускался с чердака, и даже обед носил ему Витольд наверх. А в понедельник, на рассвете, возле дома Буковских остановился легковой автомобиль. Не было ни громких окриков, ни битья, ни даже тщательного обыска. Штатский, сопровождавший офицера, выдвинул несколько ящиков, зевнул, видимо очень рано встал сегодня, оглядел книги на полке и произнес несколько раздосадованно: — Ну, пора. Пошли, пан Буковский. — Ирена бросилась к мужу, но офицер остановил ее жестом. Некогда. Быстро прошли по двору. Ян, вдруг ощутив пронизывающий холод, начал застегивать куртку. Автомобиль тронулся в сторону Красностава, проехав метров пятьдесят, развернулся и покатил назад. На шоссе было пусто. Куда? Пожалуй, все-таки в Замостье, подумал Ян.
4
День начался. А для нее это была ночь. Ирена металась по квартире и не знала, почему мечется. Натыкалась на мебель и не чувствовала боли. Выглядывала в окно и ничего не видела. Такая ночь. Лишь немного погодя тьма рассеялась, и к ней вернулось чувство времени, зрение и боль. Она присела на низенькую скамеечку подле кафельной плиты. Закрыла лицо руками и горько заплакала. И пожалуй, этот надсадный плач помог наконец Витольду осознать, что дом его разрушен ураганом. Сперва его сбила с толку мнимая тактичность немцев, которые забрали отца без крика и битья. На улицах Избицы, Красностава, Щебжешина он видел столько жестокости, что ничего иного и не ожидал, когда в дверях появились немцы. А здесь все произошло по-другому, и он ухватился за слабую надежду, как тонущий за соломинку. — Тут не может быть ничего серьезного, — кричал он, когда мать бегала из угла в угол, опрокидывая стулья, — если что-нибудь серьезное, они непременно кричат и бьют. — Но мать была глуха и слепа. День начался. На недалекий луг прогнали мычащих коров. Со свистом и грохотом прокатил товарный состав. Посреди улицы брели деревенские бабы с бидонами за спиной. Со двора выскочила злая собака, и одна из баб потянулась за камнем: — Пошла прочь, окаянная! — Мать сидела сгорбившись на скамеечке. Худенькая, хрупкая, согбенная. Маленькая девочка с седыми прядями. Плач матери он слышал три-четыре раза в жизни. И помнил, о чем он тогда думал из духа противоречия: зачем плакать, если не умеешь? Ведь это было, скорее, детское всхлипывание, которое невзначай начиналось и внезапно прекращалось. А сейчас ее плач звучал как набат. Предостерегающий, торжественный, берущий за живое. Он не мог этого слушать, но и не мог оставить мать одну, не мог заткнуть пальцами уши. Это было бы бегством от ее боли, от собственной боли, от всего, что он должен теперь взять на себя. День начался, новый день новой недели. Вчера отец был умиротворен, весел, как человек, добившийся своего. — Мама, отцу не помогут твои слезы… — Дверь легонько приоткрылась, и заглянул Томась, ближайший сосед, хлебороб. — Разрешите? — Не дожидаясь ответа, он вошел в кухню. Худой, невысокий, сейчас он показался Витольду еще ниже ростом. Может, малость съежился от страха? — Увидал я эту черную машину и не пойму, за кем приехала? Шел свиней кормить, а тут машина. Вроде бы никаких особых знаков на ней, кто теперь так ездит? Меня аж пополам согнуло. Во как согнуло. Пресвятая дева, думаю, видно, какой-то паразит донес, что двух незарегистрированных свиней держу. А приезжие у машины по-своему пошпрехали и вашу калитку открывают… Пани Буковская, ради бога, не убивайтесь. Слезы теперь поберечь надо. Взяли что-нибудь в доме? — Отца взяли, — отвечает Витольд. — Знаю. Я на крыльце стоял, когда его вели. А не нашли ли чего, с собой что-нибудь забрали, ну, например, какие-нибудь документы, бумажки нелегальные или, боже упаси, оружие? — Томась смотрит на Витольда дружелюбно, хочет вызвать на откровенность. Со мной, мол, можно как с родным отцом, говорят глаза Томася, десять лет бок о бок живем, и ни одной ссоры, никаких недоразумений. — Откуда у отца оружие? — удивляется Витольд, что Томасю нечто подобное пришло в голову, — и вообще-то, они, пожалуй, ничего не искали. Штатский просмотрел отцовские книжки и даже не тронул самой толстой, о Пилсудском. Заглянул в ящик стола, но тоже ничего не взял. — Это уже великая вещь! — торжествующе восклицает Томась и пытается поднять Буковскую со скамеечки. — Пани Ирена, боже милостивый, если бы это было настоящее политическое дело, вы бы за неделю не убрались после обыска. Они ведь во все щелочки залезают, в каждый уголок, разве я не знаю?
Теперь в кухню заглядывает жена Томася и на всякий случай начинает плакать. Этим она пытается открыто и громко продемонстрировать свое сочувствие горю Буковских. — Нишкни, глупая баба! — прикрикивает на жену Томась и грозит ей сухоньким кулачком. Та мгновенно смолкает, но смотрит на мужа с явным неодобрением. Смотрит сверху вниз в прямом и переносном смысле, поскольку Томась ниже супруги на целую голову. — Тут надо мозгами пошевелить, прикинуть, в какие двери стучаться. От рева никакой пользы не будет, — теперь он может сказать своей жене о тщетности слезоизлияния, поскольку Буковская тоже перестала плакать. — Так пошевели наконец мозгами, — огрызается Томасева, — ведь ты же мужик, хоть и не служил в армии. — Томась голову опустил, сокрушили его эти слова не потому, что были обидны. Они заставили его спуститься на землю. Буковскую он утешал, глубоко убежденный в своей правоте, но одно дело утешать, а другое — давать дельные советы. В прежние времена сказал бы ей: побыстрее отправляйтесь в Замостье, наймите лучшего адвоката. И можно еще жалобу подать на имя воеводы или даже самого пана президента. — А если бы и служил в армии, то что? В жандармов из пушки бы выпалил? Надо, пани Ирена, найти какую-нибудь лазейку. Связаться если не с немцами, так по крайней мере с нашими «синими» полицаями. Может, с отцом хромого Сташека. Он не самый отпетый, на деньги падок, а Яна всегда уважал. — Томась помаленьку отступал к дверям и не смотрел на Буковскую, словно стыдясь своей беспомощности. Ведь то, о чем он сказал, Буковская знала и без него. Томасева последовала за супругом. Тоже опустив голову. Но у дверей обернулась: — Ежели что, я могу сегодня обед принести и по хозяйству помочь.
Они остались одни. Прижав на мгновение сына к себе, Буковская заторопилась, надела пальто, покрыла голову вязаным платком. — Я пойду с тобой, — сказал Витольд просительным тоном. — Нет, я сама. С глазу на глаз легче договориться о таком деле. — И вдруг, припомнив что-то, запальчиво вскрикнула: — Это из-за тайника! Это все из-за Розенталя! Он накликал беду! — Хлопнула дверью, Витольд даже не успел возразить…
Когда Ирена подходила к зданию полиции, Ян уже въезжал в Замостье. Теперь он с большим вниманием присматривался к мелькавшему за стеклом внешнему миру. Куда? В каком направлении? По улице Костюшко, мимо автобусной стоянки, проехали на Рыночную площадь. Порывистый ветер трепал огромный багровый флаг, водруженный над ратушей. Черная свастика извивалась на багровом фоне, и казалось, что вот-вот лопнет…
— Я тут мало что могу, пани Буковская. Они в отделение вообще не заглядывали, — полицай Шимко смахнул белую нитку с синего рукава. — Я не хочу вас обнадеживать, скажу, как есть. Они ехали наверняка, значит, команда была сверху. Если бы дельце было пустяковое, поручили бы нам. Извините за прямоту, но к чему тут врать? Ложью беды не отведешь. Могу подсуетиться, кое-какие кнопки нажать в Замостье, хотя, чувствую, дело серьезное. — Через несколько дней я приготовлю деньги. — Ирена покраснела и опустила голову, как будто заключала сделку на черном рынке. — У меня ничего нет, придется съездить к матери или что-нибудь продать. Я понимаю, что помощь в таком деле дорого стоит. — Пани Буковская, пани Буковская… — горячо начинает полицай Шимко, однако не договаривает…
Теперь ехали в сторону вокзала, и Ян с чувством внезапного облегчения подумал: пожалуй, все-таки Ротонда. Тоже не райский сад, но лучше, чем гестапо. Автомобиль сбавил скорость, часовой, стоявший у моста Ротонды, взял «на караул», а Ян успел прочесть: «Временный лагерь для интернированных в целях общественной безопасности». Еще раз прочел и не почувствовал никакого облегчения. Временный, то есть мрачный полустанок, откуда поезд последует дальше. А куда может последовать, если дело касается общественной безопасности? — Ну, камрад, теперь придется пешком, сказал офицер по-немецки, но Ян не двинулся с места, притворяясь, что не понимает. — Вылезай, а то, наверное, ходули отсидел, — засмеялся штатский, довольный собственным остроумием. Водитель открыл офицеру дверцу. Сидевший справа от Яна рябоватый унтер-шарфюрер высунул из машины сначала одну ногу, осторожно поставил ее на землю, как бы проверяя, не провалится ли она под ним, и лишь после этой удачной проверки выбрался наружу. Пошли к высокой стене. Распахнулись ворота. Яну захотелось в один миг все охватить взглядом, и этот чужой мир поплыл у него перед глазами. Плац. Обширный. Круглый. Плац. — Schneller! Schneller! Was gafft ihr? Быстрей! Быстрей! Чего пялитесь? — Деревянная калитка в изгороди из колючей проволоки, такая невзрачная, словно вела в обычный двор. А там? А тут? На беговой дорожке, или похожей на беговую дорожку, — целая толпа. И крик. Совсем как при марафонском забеге, некоторые уже падали от усталости: И крик: — Laufen! Hüpfen! Бегом! Ложись! — Бегущие подымались и снова падали на беговой дорожке, опоясывающей почти по-зимнему чахлый газон. — Hüpfen! Rollen! Ложись! Катайся! — Офицер уже значительно опередил его и не оглядывается, ведь Буковский окружен высокими стенами. Все лежат теперь, прижимаясь лицом к земле. Нет, не лежат, ползут, никто не хочет отстать, на последнего все шишки валятся. Унтер-шарфюрер тоже не хочет отставать, он уже сыт всем этим по горло и подгоняет Яна каверзным ударом в поясницу. Вроде бы и ударил слегка, но чувствительно. — Komm! Иди! — Офицер ждет и машет рукой. Левой рукой машет, а правой опирается о массивный стол. Обыкновенный это стол или уже стол трибунала? — лихорадочно думает Ян. У них тут все на свежем воздухе? И битье, и бег, и допросы? Временная остановка в пути, а уже столько сюрпризов. Штатский подскочил к офицеру и зачиркал спичками. Одна, вторая. Третья вспыхнула ярким пламенем. Там, позади, снова началось. Laufen! Hüpfen! Скорей бы с ним начинали. Ян стоит в двух метрах от стола, поднял голову, старается спокойно смотреть на немцев, которые вынимают какие-то бумаги из картонной папки, совещаются шепотом, что-то помечают на полях машинописного текста. Скорей же. — Имя, фамилия? — Ян Буковский. — Год и место рождения? — Третьего марта тысяча девятьсот шестого года. — Какое заурядное начало, словно в обыкновенном суде дает показания. И так всегда бывает, спрашивают, хоть и знают, что ты — это ты. — Где родился? — В Гожкове, повят Красностав. — Профессия? — Учитель. — Чему учил? — Польскому языку и истории. — Was sagt der Hund? Что говорит эта собака? — обращается офицер к штатскому, и тот все переводит, тут же добавляя, что ответы правильные. Alles in Ordnung. Все в порядке. — Воинское звание? — Подпоручик запаса. — Теперь все улыбаются, и к Яну возвращается надежда. Может, дело только в этом? Три месяца назад его смутил бы подобный вопрос, но за три месяца многое изменилось. — Bist du ein Deutscher? Ты немец? — Офицер прищурился, словно от яркого света. Сидящие за столом перестали улыбаться. Кто чинил карандаш, кто постукивал пальцем по краю стола. Теперь все они в сосредоточенном молчании смотрят на Яна, и это молчание затягивается. — Почему не отвечаешь? — Штатский берет со стола одну из страничек и зачитывает неторопливо, отчетливо: — Владение иностранными языками? Немецким — свободно. Русским — слабо. Я поляк. — Ян ощущает сухость в горле, кашляет, старается подавить кашель, но выглядит это так, словно хочет хотя бы на несколько секунд оттянуть неизбежную откровенность признания: — Семья моя всегда была… нет, скажу проще. Мой дед женился на немке, родившейся в Польше, но ничего существенного из этого не следует. Я поляк. — Буковский кончил, а они все молчат, как будто слегка озадачены тем, что он так легко вышел из положения. — Ты глупее, чем я думал, — бормочет штатский сквозь зубы и ждет распоряжений офицера. Сидящие за столом начинают приводить в порядок формуляры, машинописные страницы записи. Бумаг целая куча, ведь не одного Яна привезли сегодня в Ротонду. Офицер тоже как будто не прочь покончить с этой первой частью дела Буковского. Он неторопливо приближается к Яну. — Na ja, schön. Ну и превосходно, — слова сотканы из сплошного благодушия. И тут же следом сильный удар по лицу. — Конечно, ты прав. Вывод: раз не немец я, значит, польская свинья. — И второй удар. Ян слизывает кровь с рассеченной губы, глотает сладковатую слюну, как успокоительное лекарство. Кто-то хватает его сзади за ворот и толкает в сторону беговой дорожки. А там некоторые завершают уже пятый круг, и Яну приходится наверстывать упущенное, чтобы сравняться с лидерами. Laufen! Laufen! Бегом! Бегом! Он пытается обмануть немцев и начинает свой марафон так, будто каждый шаг ему труден. Пятьдесят метров хитрил. Лишь столько выиграл. Дальше пришлось за это расплачиваться. Первый удар не слишком точен. Палка соскальзывает с левого плеча. Второй удар — по спине. Теплая куртка теперь как броня, и Яну почти не больно, но следующие удары попадают по голове. Laufen! Уже нет смысла думать о равномерном распределении сил и о том, сколько еще кругов осталось до финиша. Где этот финиш? Ян мчится стремглав, с широко открытым ртом, спотыкается, убегает от побоев. Всего несколько десятков метров отделяют его от группы наиболее сильных бегунов, теперь почти топчущихся на месте. Те, что послабее, лежат на земле и ничего не боятся, так как ничего не чувствуют. Седой тучный мужчина в черном костюме пытается переползти с беговой дорожки на газон. У него окровавленное лицо и окровавленные руки. Толстыми пальцами, на которых запеклась кровь, он цепляется за грязную, затоптанную траву, и, может, ему сейчас кажется, что он сумеет не только с беговой дорожки выползти, но уже находится в другом мире, по ту сторону высоких стен Ротонды. А Ян догоняет группу сильнейших. Чувствует острую боль в груди, его берет сомнение, одолеет ли еще один круг. Сгорбленные спины впереди, склоненные, втянутые в плечи головы и свистящее дыхание из нескольких десятков легких. Обогнал. И снова попытался сбавить скорость, но это уже отнюдь не было уловкой. Он кое-как справился с болью в груди. Laufen! Сумел привыкнуть к черным пятнам, мельтешащим перед глазами. Laufen! Но с деревенеющими, подгибающимися ногами ничего не мог поделать. Еще раз споткнулся, зашатался и, возможно, сохранил бы равновесие, если бы не удары, которые именно в этот момент обрушились на него. Лежа на беговой дорожке, он заслонил голову рукой. Пожалуй, даже не подумал, что так следует поступать. Рука поднялась непроизвольно, повинуясь инстинкту самосохранения. Прижался лицом к твердой, глинистой земле и с каким-то диким упорством начал считать тяжелые удары, которые падали на него, точно наносила их безукоризненно работавшая машина. И вдруг сбился со счета. И вдруг возмечтал о надежном укрытии, о таком, какое успел-таки подготовить для Розенталей. Genug. Хватит. Неужели померещилось? Он выкрикнул то, что стояло комом в горле? Genug! Genug! Возглас доносился с середины газона, где теперь стоял офицер. Для всех «genug» или только для тех, которые еще в силах трусить по беговой дорожке? Пожалуй, для всех, так как Ян уже не ощущает ударов. Он осторожно приподнимает голову и видит густой туман. Не сразу возникает из тумана потная, добродушная физиономия немецкого унтера. — Ну, шабаш, бери ноги в руки и сматывайся, — говорит унтер по-польски и достает из кармана платок, чтобы вытереть лоб. — Куда мне идти? — Ян подымается, охая, еще не веря, что забег окончен. — Вместе со всеми, — унтер расстегивает воротник мундира, шея у него тоже взмокла, а ведь уже не август, не сентябрь, и надо вытереть испарину, чтобы не схватить простуду… Камер больше дюжины. Только теперь Ян сообразил, что это камеры, когда с грохотом стали распахиваться высокие двери. Кругом двери. А с беговой дорожки, как с поля битвы, потянулись кучки побежденных. Идут. Несут. Сильные тащат тех, что сошли с дистанции. Солидарны до конца или только в конце солидарны, когда стало понятным: то, что их прежде разобщало, осталось за стеной. Теперь всем направо либо налево, в те или эти широко открытые двери. Налево ли, направо ли, а все равно в одном направлении идут. Вошел Ян в камеру, и кто-то толкнул его. — Простите великодушно. — Буковский не понял. Чуждые слова, мертвые, из другой эпохи. Потолок в камере высокий, и летом была бы от этого польза — прохладнее, больше воздуха. А теперь никакой пользы от промозглого холода. Ян сел на сырую землю, прислонился затылком к стене, хотел привести в порядок все свои сегодняшние проблемы, все тщательно обдумать, чтобы завтра не совершить ошибки. — Уважаемый, подвиньтесь ко мне, тут есть немного соломы… — Мне и здесь хорошо, я же в теплой куртке… — Извините, я вас толкнул, так как и меня толкнули… — Пустяки, нет у вас других забот? — Человек должен вести себя по-человечески. Даже в таких условиях. — Ян не отвечает, не хочется продолжать этот разговор. Закрывает глаза и пытается привыкнуть к возвращающейся боли. Он временно отвлекся от нее на беговой дорожке, боль же, как охотничья собака, выследила свою жертву. Может, и к лучшему? Забивают голову разные нелепые мысли, и их все больше. Ян чувствует, что в одиночку ему с ними не справиться. А боль — это боль. Союзник. — Здесь Буковский? Ян Буковский? Буковский! — Ян открывает глаза, словно очнувшись от глубокого сна, но и с открытыми глазами продолжает слышать этот голос. Из другой камеры? Возможно ли, чтобы голос пробился сквозь такую стену? — Я здесь, — откликается он неуверенно, на всякий случай, и спустя секунду перед ним предстает адвокат Бжеский. Ничему не удивляется, даже не здоровается с Яном, только помогает ему встать и говорит торопливо: — Идем, потолковать надо. Я видел, как тебя ввели в Ротонду, идем. — Как ты вошел? — удивляется Ян. — Все камеры соединены коридорчиками. Переходить запрещено, но никто не следит, так и пес с ними. Идем, здесь слишком тесно, чтобы разговаривать. — В низком, темном коридорчике, того гляди, лоб расшибешь о стенку. Они останавливаются в полуметре от соседней камеры. — Здесь… — говорит Бжеский и сразу же заводит речь о самом существенном: — Когда тебя взяли? — Утречком, сегодня, и прямо в Ротонду, без пересадки, — отвечает Ян громко, так громко, словно само присутствие Бжеского гарантирует безопасность. Все вдруг припомнилось. Тот их разговор за кружкой пива в забегаловке хромого Сташека. И следующий разговор, уже в Замостье, на квартире адвоката. Бжеский тогда принес из кухни большую деревянную солонку, высыпал соль в глубокую тарелку. — Искали бы здесь? — Нет… — честно признается Ян и тянет руку за сложенной вчетверо запиской, которая выпала из солонки. — Сам взгляни, прочти. Дела не так уж плохи, чтобы умирать от досадной беспомощности. Англичане бомбят Берлин и Ганновер, наш истребительный дивизион 215 сбил над Францией десять немецких самолетов, прочти, Москва дала согласие на формирование в России польской армии, прочти. — И третья встреча. А четвертая в хате Кортаса, в пяти километрах от Замостья. Кортас откинул широкий полосатый половик: — Пожалуйста, сейчас откроем люк, а внизу есть лампа, ее только зажечь. — Был обыск? — Бжеский спрашивает шепотом. Ян уже опомнился, поэтому тоже шепотом отвечает: — Обыска не делали, впрочем, я ничего не держу дома. Я же не дурак… — Теперь послушай, меня взяли вчера утром… — Вчера? — Тогда надо прикинуть, нет ли между твоим и моим провалом какой-то связи… — Ни о каких контактах не спрашивали… — Меня тоже, но разве это совпадение, что взяли троих сразу? — Троих? — В одной из соседних камер лежит младший сын Кортаса. Его страшно избили, сплошное месиво. Я буквально теряюсь, ничего не понимаю, думаю, думаю и просто все глупею. Троих в течение трех дней. — Ян молчит, тоже не знает, где кончается совпадение и где начинается провал, провокация. — Что с твоими гостями? — нарушает молчание Бжеский и поглаживает рассеченную щеку. — Чертовское невезение!.. — восклицает Ян, забывая на минуту о своем пиковом положении, — как раз сегодня я мог бы их принять, тайник закончен… — Какое невезение? Дружище, опомнись и благодари бога, что именно так получилось. Не понимаешь? — Нет… — Святая наивность. Если бы их даже сегодня не забрали вместе с тобой, сделали бы это через неделю, через месяц. Твой дом теперь наверняка под наблюдением, а евреи все равно что малые дети. Вроде бы огня боятся, но руки в огонь суют. Спрячешь их в убежище, а они тебе вдруг среди бела дня в сад выйдут, облачками полюбоваться, свежим воздухом подышать. Думал, что мир спасешь, спасая двух евреек? — Вернемся к нашему делу, — резко обрывает Ян, слова Бжеского его не убедили, а разводить дискуссию о спасении мира или хотя бы собственной совести теперь некогда.
Буковская ждала полчаса, пока полицай Шимко увидал ее в окно и вышел во двор. Ночью выпал первый снег, а к полудню белый покров превратился в грязь. — Не здесь, не здесь, — занервничал Шимко, увидав, что Буковская пытается открыть сумочку. — Я же велел ждать дома. Ведь я знаю, где вы живете. — Он торопливо зашагал в глубь двора, а Буковская поплелась за ним, радуясь, что полицай все же согласился с ней поговорить. Наконец Шимко остановился. Вытащил из кармана синей шинели не слишком свежий платок и принялся полировать голенища своих новых сапог. Он делал это с таким усердием, словно забыл о стоявшей рядом женщине. — Ужасная грязь, — робко напомнила о своем существовании Буковская. Полицай спрятал платок в карман. Стоя спиной к Ирене, он глазел теперь на жирных уток, сновавших за забором. — Что там грязь, — услыхала она наконец его голос, — у евреев тиф начался, а тиф — это вам не насморк. Спиртом этой напасти не вылечишь. — Буковская молча кивала головой, а Шимко все же соблаговолил припомнить, что они встретились здесь не ради того, чтобы беседовать о плохой погоде и сыпняке, который косит избицких евреев. Хлопнул в ладоши, как бы оповещая, что начинается деловая часть встречи. — Это было нелегко, пани Ирена, аж мороз продирает, как вспомню… — Все понимаю и очень вам благодарна… — Буковская снимает с пальца золотое обручальное кольцо, достает из сумочки пятьсот злотых и робким жестом вручает этот выкуп полицаю. — Ну и женщина, чтоб я сдох… — Шимко растроган, — даже стыдно брать. Эти прохвосты из Замостья и пальцем не шевельнут, если не получат на лапу… Думаете, себе беру? — Вовсе так не думаю, — поспешно возражает Буковская и опасается, как бы Шимко не уловил в ее голосе фальши, — я столько лет вас знаю, вы отзывчивый человек. — Полицай Шимко скромно улыбается и заворачивает кольцо в платок, которым только что чистил сапоги. — Я, конечно, не ангел, но совесть не окончательно потерял. Приготовьте посылку для мужа, в Ротонде плохо кормят. Я загляну к вам завтра вечером.
5
Падал снег. Четыре дня и четыре ночи. Пока земля не сделалась белой, как стол, застланный праздничной скатертью. В полукилометре от Избицы застрял в сугробах товарный поезд, следовавший на Львов. Гауптштурмфюрер Поль позвонил роттенфюреру Хетту: — Рудольф, срочно давай сотню с лопатами. Воинский застрял в снегу, надо немедленно откопать. — Роттенфюрер Хетт позвонил начальнику отделения «синей» полиции: — Чтобы через полчаса была сотня крепких евреев с заступами и лопатами. Воинский застрял под Избицей. Поняли? — Начальник вызвал полицая, который в соседней комнате ел бутерброды с ветчиной. — Шимко, у тебя будут крупные неприятности, если через полчаса не выстроишь у станции сотню крепких евреев для Хетта. Возьми в помощь Юзвяка, возьми кого хочешь и свяжись с юденратом. — Что-нибудь случилось? — поинтересовался Шимко, который был искушенным игроком и всегда предпочитал знать заранее, велика ли ставка. — Нет-нет, ничего этакого… — ответил начальник. — Наши серые будни. Военный товарняк застрял в заносах, и надо его по-быстрому откопать. — Десять минут спустя полицай Шимко дернул за бороду Натана Крамштыка. У Крамштыка до войны была фабричонка, производившая канифоль и скипидар, а теперь — последняя стадия чахотки, и, возможно, поэтому он относился к смерти спокойнее, чем другие члены юденрата. — Пан Крамштык, разве не было распоряжения снять бороды и разные прочие пейсы? — Но я к своей бороде чрезвычайно привязан, пан Шимко… — Дождешься, что бороду снимут вместе с головой… — Столько людей живет теперь без головы, почему бы и мне не попробовать… — Плевал я на твою философию с высокой колокольни, пан Крамштык… — полицай Шимко отодвинулся подальше от улыбающегося туберкулезника и для поддержания чести своего мундира смахнул со стола стопку бумаг, исписанных каракулями, — и еще раз плевал. Но если через четверть часа не выстроится перед юденратом сотня крепких евреев, то от юденрата щепки полетят. Ей-богу, полетят… — Сотня крепких? — Крамштык поскреб голову, почесал под мышками и подумал, что все-таки придется обменять двести граммов мармелада и сто граммов соли на кусок серого мыла «Риф». — Сотня крепких? Я всего лишь член юденрата, а не чудотворец. Я уже давно не видал крепкого еврея, пан Шимко. — На улице грохнул винтовочный выстрел, и тотчас послышались громкие окрики, визг, причитания. Это Юзвяк принялся за свою тяжкую миссию. Дубасил в двери и, если долго не отпирали, бил прикладом стекла и вытаскивал из домов еврейских парней. А пальнул просто ради куража. — Дохлятина паршивая… — спокойно произнес Шимко и ударил Крамштыка по лицу, — пойдешь во главе своей армии. Уж я тебе сегодня покажу, как люди должны честно трудиться. Ты меня сегодня прогневил, Крамштык, и, как бог свят, не доживешь до Нового года. — Крамштык сплюнул кровью и, набрасывая на плечи куцее пальтецо, взглянул на полицая с вызывающей иронией: — Что такое теперь для еврея начало года? Каждый новый день теперь для еврея новый год. Наши судьбы не у престола Ягве решаются. Вы столько видите и так мало видите? — Они вышли из дома и по колена увязли в снегу. А снег был белее лица Крамштыка. На небольшой площади Юзвяк уже выстраивал рабочую команду, и голос у него осип от крика. Его возгласам вторил строгими, отрывистыми гудками паровоз, призывая поторапливаться. Кто-то подал Крамштыку лопату, и тогда Шимко, морща лоб, буркнул: — Сматывайся домой, чахотка, а то простудишься!
Буковская брела по снегу, сжимая в кулаке золотую пятирублевку. Сперва хотела продать монету, но предлагали только шестьсот злотых, и тогда она подумала, что Шимко больше обрадуется золотому кружочку, чем бумажкам. Два дня назад приехала к Буковской мать. Они поплакали в голос, словно над разверстой могилой, а потом мать расстегнула ворот и достала из-за пазухи холщовый мешочек. — Вот тебе четыре пятирублевки, приберегала на черный день. Теперь он наступил. Я все время молюсь за Яна, но одной молитвы может быть мало. Господь бог, думается мне, уже окончательно голову потерял от наших просьб и молитв — всюду горе, стрельба, ад кромешный. Крестьян начали выселять. Мой крестник из Скербешова всего лишился и сам едва уцелел. Выгнали жителей из Бялобжегов, Ситанца, Завалы и Удрыч под самым Замостьем. Из собственных домов повыгоняли, с родной земли. Вывозят неведомо куда, у матерей ребятишек отнимают. Ирена, по-моему, конец света наступает. Так что я поживу у тебя до рождества… — Буковская дышала все тяжелее, оттого что беспрестанно проваливалась в снег. Шла по ровной дороге, а устала, будто бы взбиралась на крутую гору. Она возвращалась в осиротевший дом, где ждали ее сын и старая мать. И говорила, говорила все громче, не открывая рта: господи, я порой не верила, что ты существуешь, теперь ты можешь свое существование мне доказать. Спаси Яна, дай ему благополучно вернуться домой. В чем я виновата? В моем упрямом неверии? Разве те, кто всегда в тебя верил, а теперь убивает невинных людей, лучше меня? Надо ли объяснять тебе, как много значит для меня Ян. Моя жизнь и жизнь моего сына — это два маленьких огонька, которые погаснут, если ты не выполнишь моей просьбы. Спаси его, что для тебя одно такое деяние?.. Кто-то преградил ей путь и не уступил дороги. Она взяла левее, увязая в белом сугробе, некто тоже сдвинулся влево. Ирена подняла голову, окинула почти невидящим взглядом рыжего еврея, который снял перед ней шапку. — Ой, пани Буковская, как я рад этой встрече… — Пан Вассер? — спросила она, не сразу узнав его, а он усердно закивал: — Он, он самый, хотя и немного другой. Тот Вассер, который пану Яну сшил великолепные офицерские сапоги. Я всю душу в них вложил, и это были такие сапоги… — Неужели вы не знаете, что у нас случилось? — резко перебила его Ирена, раздосадованная тем, что ее мольбу, произнести которую она так долго не решалась, кто-то почти чужой прервал пустяковыми воспоминаниями. — Почему не знаю? Разве Избица — Париж, чтобы люди ничего не знали друг о друге? Я только скажу: всегда остается надежда, если хочешь ее иметь. — Он надел шапку, затопал рваными опорками, из которых торчала солома. — Надежда. Вы еще во что-то верите? — Ирена посмотрела на сапожника несколько внимательнее, а тот вдруг захихикал, прикрывая рот посиневшими пальцами: — Ой, верю, только ша, тихо, а то кто-нибудь подслушает. Есть такое еврейское изречение: от счастья до несчастья всего ничего, метр или маленький шажок. А от несчастья до счастья — долгий путь. Шагать да шагать. Вот я и иду! Ша! — Он хотел разминуться с ней, но она остановила его жестом: — Куда вы идете? В таких лохмотьях, в дырявых сапогах, без шарфика и даже без рукавиц? Утром было семнадцать градусов, хотите получить воспаление легких? — Сапожник взглянул на нее с неприязнью, отчужденно, так взглянул, словно они только в эту секунду столкнулись на дороге и словно впервые в жизни встретились. Он молчал, поэтому она снова спросила: — Куда вы идете? — Наконец-то он узнал ее и тут же улыбнулся: — Ша, я знаю, куда иду. Может, туда? — Вассер махнул рукой в сторону железнодорожного полотна, за которым вырастали невысокие холмы. — Наверное, туда. Яблочко несу моему младшему. Вы помните Давида? — Хорошо помню… — солгала она. — А где он теперь? — Сапожник Вассер с благоговейной сосредоточенностью смотрел на сморщенное, червивое яблоко, которое держал в руке. Смотрел, причмокивал и улыбался: — Давидик? Он где-то здесь, но кому это теперь дано знать? Положу для него яблочко, вот он и придет за ним, а как придет, я цап его за шиворот и отведу домой. Посудите сами, ну не шалый ли он малость? Его застрелил жандарм на путях, Давидик ходил туда, чтобы набрать хотя бы горстку угля… Вы правы, утром только мороза было семнадцать градусов, и вдобавок пронизывающий ветер. Утром встанешь, и надо сперва воду растолочь, которая в ведре замерзла, и уж потом умываться. Ну, а жандарм взял и в Давидика прицелился и бабахнул — и убил его на месте. Помните его? И теперь ему боязно домой вернуться из-за того, что застрелен. А я его найду и спрошу по-хорошему: — Давид, разве твоя вина, что этот жандарм оказался такой меткий? Разве можно тебя в этом винить? — Пан Вассер, вы должны вернуться домой!.. — крикнула Ирена с болью в голосе, отдавая себе отчет в том, что этот тощий сгорбленный еврей не сына своего ищет, а своей смерти. Он рванулся, побежал. Она видела, как сапожник то падал, то появлялся из снежных сугробов, пока не исчез среди домов… Вечером пришла Томасева. Господа бога восхвалила и немедля обратилась к делам земным: — Слыхали, что стряслось? Возле станции убили старого сапожника, рыжего Вассера. — Буковская закрыла глаза и, обессиленная, прислонилась к буфету. — Ужасно, — прошептала она. — Чудовищно. Когда же это кончится? — Конечно, жуткое дело, а знаете, что он устроил? — Томасева с минуту помолчала, чтобы подогреть любопытство слушательницы. — Он, этот Вассер, подошел к жандарму и большущим яблоком в него запустил. Размахнулся и швырнул с такой силой, что яблоко пополам разломилось. — Мать Буковской слушала ее и внимательно поглядывала на дочь. — Ты знала Вассера, или как его там? — спросила она, когда Ирена, схватившись за голову, упала на табуретку. — Знала. И Ян хорошо его знал, я сегодня разговаривала с Вассером. Чувствовала, что этим кончится. — Он был порядочным человеком? — снова спросила пожилая женщина. — Да, это был порядочный человек… — Ну так помолимся за упокой его души. — Мать Ирены опустилась на колени, оперлась лбом о край стола и начала молиться своими словами, так как не знала ни одной молитвы, в которой бы упоминались евреи. — Отче наш милосердный, что даруешь нам жизнь и смерть, будь милостив к бедному еврею Вассеру, которого убили и который предстал сегодня перед ликом твоим… — О нет, за еврея ни за что не буду молиться… — воскликнула Томасева, — не буду ни в коем случае! Ведь евреи распяли Христа. — Она хлопнула дверью, и со двора донесся ее торопливый топот. Мать встала с колен и ударила кулаком по столу: — Ирка! Кого ты пускаешь в свой дом? Я больше не желаю видеть этой мерзкой бабы! — Потом подошла к Ирене, начала гладить ее по голове, словно ласкала маленькую девочку. И принялась втолковывать спокойно, терпеливо, как ребенку: — Видишь, теперь такие времена, что надо внимательно присматриваться не только к людям, но и к каждому слову. То, что вчера считалось белым, сегодня — черное, а бывает и наоборот. Люди изменились, слова изменились, все изменилось. Я как-то подумала: если Гитлер ополчился на евреев, значит, евреи неплохие люди. Ходил ко мне в ту пору такой несчастный Шмулик за продуктами для своей больной матери, отца-то немцы застрелили. Я давала ему хлеба, сала, крупы, яблок, а у него скулы сводило, до того был голодный. Но ни крошки не трогал, все матери бегом относил. Я даже плакала. Господи, какое этот еврейский мальчонка имеет касательство к Голгофе? Даже Петра, который отрекся от Иисуса, называют святым Петром, поскольку он прощен за свое отступничество. Скажу тебе честно, Ирена, по мне, сегодня хороши все те, кто плох для немцев.
Когда наступил комендантский час, в окно постучался полицай Шимко. Долго вытирал ноги, долго стряхивал снег с шинели. А Ирена между тем думала: я должна быть сильной. Ведь Шимко не принес добрых вестей. С добрыми вестями иначе входят в дом. Входят стремительно, не обращая внимания на грязные сапоги. Шимко расстегнул шинель, бросил на стол шерстяные варежки. — Я была сегодня у вас… — Ирена пыталась говорить спокойно, точно этим притворным спокойствием можно было изменить то, что произошло. — Знаю, мне сообщили, у меня был сегодня чертовски тяжелый день… — Шимко подошел к ведру, зачерпнул воды и стал пить маленькими глотками, смакуя, словно это было вино, — набегался на путях. Да и весть принес не из легких… — Говорите… — Посылку передал, и, видимо, она дошла, хотя пана Яна вчера уже отправили… — Куда? — В дверях комнаты показалась мать Ирены. Она стояла на пороге босиком, в длинной ночной рубашке. Седые волосы спадали на лоб. — Куда отправили? — повторила она вопрос громче, настойчивей, как будто ее раздражало молчание полицая. — Точно-то я не знаю… — выдавил озадаченный Шимко. Он не рассчитывал застать здесь кого-то еще, кроме Ирены и Витольда. — А что вы знаете? А за что мы вам платим? — крикнула старая женщина, и полицай смешался окончательно. — Мама, будь благоразумна, пан Шимко нам не враг… — Ирена попробовала разрядить напряженную атмосферу, но во взоре матери уже пылал гнев. Давно копились в ней сомнения и надежды, мольбы и проклятия, и наконец ее прорвало: — Ты молчи, он говорить должен. Обручальное кольцо взял, сережки взял, взял новый костюм Яна и еще тысячу злотых. Если уж такими вонючими гешефтами занимается, так пусть будет человеком по крайней мере для тех, кто ему платит… — Прошу не кричать, мамаша, я брал не для себя, — весьма официально заявил Шимко. — Не знаю, для кого брали, но знаю, за что, — перебила его мать, и полицай покачал головой, заговорщицки ухмыльнулся, словно ухватки этой седой бабки начали ему нравиться. — Мамаша, я не в курсе деталей, разве я сказал, что ничего не знаю? Яна отправили в Люблин. Может, в замок, может, в лагерь под Люблином. Увезли в запломбированном вагоне, что я могу еще знать? — Он торопливо застегнул шинель и попятился к дверям, забыв о варежках. — Сразу бы так сказали. Варежки, варежки забыли, еще пальцы отморозите!.. — крикнула старушка и, уже не обращая внимания на Шимко, побежала к дочери. Пристроилась на краешке ее табуретки, плечом к плечу, щека к щеке, и заговорила громко, торопливо, заливая Ирену потоком слов, ибо чувствовала, что после известия, принесенного полицаем, любое слово будет лучше тишины: — Мразь, зараза, подонок, душегуб с большой дороги! Почему ты так побледнела, разве Люблин хуже Замостья? Главное, что Ян жив. Это надо помнить, за это держаться. Послушай, до прихода этого мерзавца мне чудный сон приснился. Не гляди в пол, послушай, какой это был сон. Наш Ян гулял по громадному лугу среди цветов и всевозможных растений. Я приметила хвощ, мать-и-мачеху, бело-розовую очанку, и паслись там белые кони. А до чего же хороши, все как на подбор, один краше другого. Ян прогуливался неторопливо и похлопывал их по крупам. Белый конь, дочка, — это к счастливому окончанию путешествия. Уверяю тебя, что еще до Нового года мы увидим Яна за нашим столом. — Ирена встала с табуретки, подошла к дверям и повернула ключ в замке. — Я боюсь, мама… — задумчиво произнесла она, все еще стоя у порога. — Боюсь за Яна и боюсь за наш дом, ведь Шимко такой мстительный.
Не выдали им полосатой лагерной робы, не отобрали одежду. Спали и работали в том, в чем их забрали из дома, с улицы, с фабрики. Поэтому Яну можно было только завидовать: хоть теплая куртка лопнула на спине и под мышками, но все же это была теплая куртка. А Бжескому в его костюме, хоть и из чистой шерсти, грозила бы верная смерть, если бы не два экземпляра газеты «Новый глос любельский», вложенные под рубашку. От обычного воспаления легких до обычной смерти, следовательно, вполне человеческой, путь был здесь таким же прямым, как высокая ограда из колючей проволоки. В конце декабря температура понизилась до тридцати градусов, и если в бараке, среди спавших на нарах и тех, кому пришлось улечься на полу, кто-то питал надежду протянуть до весны, то должен был эту надежду каким-то способом укутывать и согревать. Хотя бы обрывком истлевшей мешковины или листом бумаги. Барак стоял на первом поле. Когда из Замостья привезли тридцать пять новичков, все нары в этом бараке были уже заняты. Ян долго не решался, где приткнуться, пока кто-то не предупредил: — Тут не найдешь комнаты с видом на море, воспользуйся тем, что есть, завтра и этого не будет. — И Ян воспользовался, лег на пол, надвинул шапку на глаза и порадовался, что его ложе находится далеко от дверей барака. От этой радости позабыл об адвокате Бжеском, который несколько дней вел себя так, будто полностью примирился со своей судьбой. Это было непостижимо. Ян ничего не понимал. Бжеский? Именно он? Упорство и одержимость не оставляли адвоката в самые трудные моменты и даже передавались закоренелым, тщедушным пессимистам. Но когда дошел до них первый, еще не слишком определенный, слух о подготовке партии заключенных к отправке в концлагерь, Бжеский сник. — Конец. Мне из этой передряги не выпутаться, — сказал он Яну, когда в камере начали обсуждать эту свежую еще, с пылу-жару, новость. — Ты спятил? — крикнул Ян. — Вдруг это для нас единственное спасение? Всюду можно жить, а в Майданеке хоть нами перестанет интересоваться гестапо. — Сам он не очень-то верил в то, что говорил, но, ободряя товарища, начал понемногу проникаться хилым, как декабрьский рассвет, оптимизмом. — Ты до конца жизни не научишься ловко врать… — усмехнулся адвокат, — меня утешать не надо, теперь ты должен заботиться только о себе. — Ян вспомнил о товарище, оперся затылком о дощатую стену барака и позвал: — Бжеский, тут есть теплое место!.. — Барак стоял на первом поле, было на нем еще с дюжину подобных деревянных строений хозяйственного назначения и таких, где ютились узники. Сразу же за бараками, у колючей проволоки, отделявшей первое поле от второго, находилась «будка смерти» и виселица. Виселица как виселица. Новички только диву давались, что поставлена она немцами не на виду посреди поля, а где-то на задворках. О «будке смерти» им еще предстояло узнать. Работали преимущественно на втором поле, куда были завезены строительные материалы и где уже закончили четыре барака, пока не заселенные. Может, потому, что лишь на первом поле между двумя рядами колючей проволоки круглые сутки расхаживали часовые?.. Когда на рассвете, в колонне по пять, заключенные входили в ворота лагеря, они зачастую не знали, будут ли сегодня сооружать бараки для живых или расширять и углублять огромную яму для убитых. Эта яма находилась в дальнем углу пятого, еще совершенно пустого поля. Была она метров двадцати в длину и такой глубины, что в ней поместился бы двухэтажный дом. — Смотри, земля шевелится, красная земля шевелится… — пробормотал Бжеский, прерывая работу. Он оперся о лопату и не отрываясь, широко открытыми глазами смотрел туда, где под тонким слоем песка и хлорной извести лежали тела расстрелянных утром. Обрывистый край братской могилы был обрызган кровью. — Ничего не шевелится, работай, Вольф смотрит… — поторопил адвоката Ян, с размаху вбивая лопату в мерзлый грунт. Долговязый Вольф медленно шагал вдоль открытой могилы. У него была мина рачительного хозяина, который не терпит небрежной работы. — Гляди, гляди, там шевелится… — не унимался Бжеский. — Берегись, Вольф… — только и успел произнести Ян… Это началось рано. Они допивали эрзац-кофе, когда с пятого поля донесся треск пулеметных очередей. Не успели они протереть снегом жестяные кружки и консервные банки, используемые вместо кружек, как стрельба смолкла. Воцарилась леденящая тишина. Кто-то перекрестился. Кто-то сказал: — Ликвидировали тех, из Замка. — А Буковский зашептал: — Я всюду готов работать, лишь бы не там, не там. — Но их привели именно на пятое поле… Вольф остановился позади Бжеского, и Буковский уже не мог ни торопить адвоката, ни просить, мог только смотреть, не прерывая работы. — Bitte setzen Sie sich… Присядьте, пожалуйста… — невозмутимо произнес Вольф и концом хлыста показал, где Бжеский должен присесть. Адвокат отложил лопату, вытер руки о штаны и опустился на корточки на самом краю ямы. Теперь все заработали с невероятной поспешностью. И пожалуй, не только из-за страха. Врубались в твердую землю кирками и лопатами, выворачивали ее наизнанку, кашляли, дышали тяжело, хрипло, ибо только такой музыкой могли проводить Бжеского. И выстрел показался им таким тихим, как будто Вольф сломал за спиной адвоката сухую веточку. Бжеский закачался, вскинул руки и полетел вниз головой.
Собиралась пожить, а уехала сразу после рождества. — Видишь ли, дитя мое, видишь ли… — Мать объясняла витиевато, и ничего путного в этих объяснениях Ирена не уловила. Уехала на удивление поспешно. Может, вдруг убоялась своих пророчеств о возвращении Яна еще перед рождеством? Может, стыдно стало, что так легко уверовала в красочный чудесный сон? Белые кони, благополучное окончание дальних странствий. Уехала…
Но это еще не был конец. Пришли сюда в колонне по пять и так же в колонне по пять уйдут. Труп Бжеского был включен в утреннюю сводку. До вечернего рапорта в эту сводку никто не имел права вносить изменения. По приказу Вольфа трое узников вытащили адвоката из ямы. К счастью, яма в этом месте оказалась неглубокой, а то Вольф начал терять терпение, даже заулыбался, что было грозным предостережением для живых.
Сели возле елки. В прошлом году отец неудачно закрепил ствол деревца. Помнишь, Витольд? Я начала вешать шарики, а елочка на меня свалилась. Пусто и тихо. Обед скромный, наша утка-одиночка пусть подождет, поживет еще до возвращения отца. Запеку ее с яблоками. Явилась Томасева, увидала в окно, что мамаша наконец уехала. С порога заулыбалась, запричитала, само воплощение рождественской благостности и покаяния: — Вы знаете? Так тяжело было у меня на душе, что дважды бегала исповедоваться… — подскочила к Ирене, попыталась поцеловать ей руку, — какая-то нечистая сила меня тогда обуяла, бес, что ли, попутал? Может, потому, что мы годами у евреев в кармане сидели. Занавески, обувка, швейная машина — все у евреев, даже доски на постройку хаты и те от Гольдштерна. В кредит давали, врать не буду, иногда брали процентик, но в кредите не отказывали — при деньгах были, а я к ним всегда с поклоном и пустой мошной. Может, отсюда и взялось тогда мое греховное ожесточение? Ксендз отчитал меня, и был прав. Пани Ирена, столько лет мы знакомы, и неужели теперь из-за одной моей глупой промашки должны раззнакомиться? — Томасева посидела часок, спела «Нынче в Вифлееме радостная новость», прокляла голод, мороз, войну, Гитлера и отбыла восвояси.
Возвращались в колонне по пять, и снег скрипел, а небо было чистое, отполированное морозом. Когда приблизились к широко распахнутым воротам, раздался окрик: — Mützen ab! Шапки долой! — Но Ян и широкоплечий торговец из Замостья имели право не выполнять этого приказа, остаться в шапках, так как руки у них были заняты — они несли окоченевшее на морозе тело адвоката. — Гады, только и радости у меня сегодня, что шапку перед ними не сниму.
Постель была уже разобрана, когда Витольд выскользнул из комнаты. Ирена не заметила его исчезновения. А потом заскрипело потолочное перекрытие. Ирена присела на кровать, слушала и вспоминала ту ночь, когда Ян пробрался на чердак. Значит, круг замкнулся. Неужели мы к этому окончательно приговорены и нет пути назад? — с ужасом подумала она, пряча лицо в ладонях. Витольд появился через несколько минут и, не глядя на мать, начал быстро раздеваться. — Что ты там искал? — спокойно осведомилась она. — Где? — Не притворяйся, я же знаю, что ты был на чердаке. — Подождала, пока он снимет рубашку и юркнет под перину. Хоть немного к ней приблизился, и на том спасибо. — Ты продрог там… — прервала она затянувшуюся паузу. — Вовсе нет, дрожу от чего-то другого… — От чего же? — Не знаю, но не от холода. — Ирена погладила его по голове, все отчетливее чувствуя, как отделяет ее от сына этот холод, принесенный с чердака. Сперва Ян там замерз, а теперь все это передалось Витольду. Ему ли одному? — Само по себе ужасно, что даже родной матери я словом не обмолвилась о нашей тайне, ведь это только нас касается… — шептала Ирена, как будто желала этими словами убаюкать сына. И вдруг, словно кто-то подсказал, что если когда-либо и придется ей свалить эту тяжесть, признаться в опасных мыслях, которые лишают сна, то уж, пожалуй, лучшего момента, чем сейчас, она не найдет, сию минуту должна все высказать. Снова положила руку на теплый лоб Витольда. — Как полагаешь, для нашего Яна это по-прежнему важно? И он похвалил бы нас, если бы мы довели до конца то, что он не успел завершить? — Я думаю, что для отца это по-прежнему важно, — услышала она уверенный голос сына. — И я готов в любую минуту поехать к Розенталям. — Поехать, поехать!.. — воскликнула она с внезапным раздражением, сама не зная, почему ее задела радостная оживленность доселе хмурого Витольда, почему причинила ей боль его демонстративная готовность. — Поехать, но это будет лишь первый шаг. Ты подумал, в каком мы положении? — Она-то часто думала. Словно все глубже и глубже заходила в какую-то реку, но, едва дно ускользало из-под ног, страх отрезвлял, и она снова оказывалась на берегу. А может, потому и раздражена, что Витольд не понимает ее страха, не хочет ей этого страха простить. Четыре едока — не два, а с деньгами совсем плохо. — Есть у меня бабушкины пятирублевки, но ты должен помнить, что они предназначены исключительно на спасение отца. Вдруг появится какой-нибудь новый Шимко? Поехать… А тут дрова на исходе, и торфу осталось столько, что через две недели нечем будет топить печку. Попробуй теперь пожить на чердаке в такой трескучий мороз… — Тогда зачем заговорила о тайнике? — спросил Витольд и хотел повернуться лицом к стене, мать задержала его рукой, глядя ему в глаза: — Подождем чуть-чуть, дай мне еще немного времени на размышления.
Пятнадцатого января мороз перевалил за тридцать градусов. Ночью в садах трещали стволы деревьев, а утром, перед самым прибытием поезда, следовавшего в Варшаву, жандарм Шульц застрелил богача торговца Арона Гольда и его молодую жену Розу. Сразу пошли разговоры, что немцы нашли при нем двадцать тысяч злотых, тысячу долларов и три кольца с бриллиантами. А в сумочке Розы — ампулы с ядом и всевозможные, превосходно подделанные документы. Никто этого яда и фальшивых документов не видал, никто денег Гольда не считал, пошли толки, как будто жандарм Шульц составлял протокол в присутствии тысячи свидетелей. Говорили о Гольде, но прежде всего о Розе, ибо в голове не укладывалось, что такая молодая и красивая женщина, с виду настоящая арийка, вздумала отправиться в поездку с типичным евреем. Самоубийственную поездку, поскольку происхождение Гольда было видно за километр. — Зачем ей понадобился такой опасный спутник? — недоумевал путеец Тростик, отец щербатого Зенека. — Со своими документами она могла бы ехать в Варшаву без гроша за душой. И еще какой-нибудь немецкий офицер поднес бы ей чемодан. Зачем пошла на риск с горбоносым Гольдом? — Стоявший рядом с путейцем коренастый мужчина отчужденно пожал плечами. Он плохо разбирался в женщинах, особенно в еврейках. Зато насмотрелся таких вещей, которые людям и не снились в самых жутких кошмарных снах, и перестал удивляться тому, что мир окончательно обезумел. Он постучал указательным пальцем по сутулой спине путейца: — Скажите, как пройти к Яну Буковскому? — Путеец даже рот разинул и испытующе уставился на незнакомца. — Вы ищете того Буковского, который был учителем? — Не его ищу, дом, в котором он жил… — Понятно… — буркнул Тростик, и в глазах его отразилось уже крайнее удивление… Скрюченные тела супругов Гольд пролежали несколько часов под забором, пока не пришли четверо молодых евреев под командованием полицая Внука. Полицай склонился над Розой Гольд, подумал и проговорил одобрительно: — Чертовски красива и мертвая полна жизни. Положите ее на санки, которые пошире, а еврея отдельно. Осторожней, рвань, с такой женщиной надо поаккуратней! — Он выругался сквозь зубы и обратил взор своих мутноватых глаз в направлении забегаловки хромого Сташека. Нелегко было полицаю Внуку, всего месяц назад его перевели из Билгорая в Избицу. Устроился кое-как, питался чем придется и раз в неделю отправлял полное угроз письмо своей бывшей невесте, которая пренебрегла «синим» полицаем, отдав предпочтение лысому чиновнику лесного ведомства.
Витольд возвращался из булочной, прижимая к груди буханку пайкового хлеба. Он даже не заметил Зенека, притаившегося у забора, а тот кинулся к нему с таким радостным воплем, словно полдня прождал этой встречи: — Витольд, теперь-то я настоящее кино поглядел. Дай почитать «В пустыне и в пуще», тогда такое скажу, что от зависти лопнешь. Дай почитать «В пустыне и в пуще», иначе ни словечка не услышишь. — Об убитых Гольдах? — спросил Витольд, надкусывая буханку. — Ты что, стал бы я болтать о покойниках! — передернул плечами Зенек, но тут же снова оживился: — Я нашел новое кино с голяками. В доме Цукермана, где теперь живет этот новый полицай.
Невысокий плечистый мужчина тщательно вытирает ноги и проходит с Иреной в дальнюю комнату. — Вы тут одна живете? — Одна, то есть с сыном, он куда-то умчался минуту назад. Такой худощавый, в коричневом пальто и с книжкой в руках. Может, вы даже разминулись с ним у калитки… — Меня интересует, нет ли здесь чужих и можно ли говорить, не понижая голоса… — Тут никто не подслушивает, мы можем говорить совершенно нормально, — поясняет взволнованно Ирена и уже тянет руку к клочку газеты, к этому посланию из дальних миров. — Возьмите, пожалуйста, я не читал, да и зачем? Не мне писано. — Приезжий садится осторожно, как бы опасаясь, что хрупкий стул не выдержит его тяжести. Кладет на стол руки и начинает рассматривать свои толстые узловатые пальцы. А Ирена подходит к окну, забыв о госте. Она теперь одна в комнате, так как должна быть одна. Разворачивает записку. Кривые, бескровные буквы клонятся на бок, переламываются, точно вконец изнуренные голодом и стужей. «Дорогие мои, почти месяц я в Майданеке. Эти слова свидетельствуют, что я еще жив. Жизнь здесь тяжелая, но ко всему можно привыкнуть. Посылку не высылай, не дойдет. Нам пока не отдают посылок, может, когда-нибудь? Думаю о вас, очень скучаю. Ничего, как-нибудь обойдется. Ведь я жив. Ян». Гость по-прежнему изучал свои растопыренные пальцы и не забывал о быстротекущем времени. Ведь еще сегодня он должен вернуться в Люблин. — Я ломовой извозчик, нанялся в Майданек возить все, что требуется для стройки. Они там огромное строительство развернули, уйму земли захватили, не поймешь, на что им столько? Полвека у нас хотят пробыть? Тогда от нас только прах останется. Ваш муж головой рисковал, передавая мне записку. Я тоже рисковал, беря ее. К заключенным близко подходить запрещено. — Как он теперь выглядит? — спросила Ирена. — Как все они. Врать не стану, там сплошное варварство или того похуже. — Она молчала, чувствуя, что теряет власть над собой, что любое его слово способно вызвать у нее крик отчаяния. — Вам плохо? — встревожился гость и подался вперед, Ирена остановила его жестом. — Выдержу… — прошептала, когда он уже понял, что ничем, кроме громкого плача, она не нарушит тишину. — Должны выдержать, ведь другим женщинам гораздо хуже. Ваш-то муж живой… — То же самое говорила моя мать. — Значит, мудрая у вас мать… — гость тяжело поднялся со стула, вытащил шапку из кармана, — мне пора. Я боялся этой встречи, больно уж бабы ревут. — Только сейчас, когда он собрался уходить, она осознала, скольким ему обязана. У нее в доме человек, который рисковал жизнью, принимая записку от Яна, а она не угостила его даже стаканом чая, не предложила снять куртку. — Не торопитесь… — в ее голосе прозвучала настойчивая просьба, — у меня остался от обеда вкусный суп, сын принес свежего хлеба. Такая досада, что не подумала об этом раньше… — До люблинского поезда меньше часа, — улыбнулся он Ирене, и его ничем не примечательное лицо показалось ей вдохновенным и благородным. — Не беспокойтесь, пожалуйста. Я непременно должен поспеть на этот поезд. — Она проводила его до порога и, когда он взялся за дверную ручку, спросила: — Деньги примете? — За что? — удивленно взглянул гость. — За все, что вы для нас сделали. — Он рывком распахнул дверь, словно собирался уйти молча, но, переступив порог, обернулся и сказал, как дочери: — Железнодорожные билеты мне еще по карману. А за страх мой заплатить не сможешь, нет у тебя таких денег, сколько страх мой стоит. — Так он сказал и вышел.
Дом был старый, из белого камня. Шатавшееся от ветра крыльцо уже разобрали на дрова ближайшие соседи. Было это еще в начале декабря, когда возле еврейского кладбища расстреляли все семейство Цукерманов и дом стоял пустой, как карман нищего. Больше месяца живет здесь полицай Внук. Он занял одну, самую большую комнату, однако в другие помещения доступ посторонним закрыт, ибо на дверях приклеена бумажка с печатью полиции. В нескольких метрах от белого дома торчит ветхая голубятня, которую соседи разобрать еще не успели. Хотя это вопрос только времени. Вернется однажды полицай Внук с дежурства и кособокую будку не узрит. Может, даже порадуется этому, поскольку сыновья Цукермана поставили свою голубятню перед окном самой большой комнаты, как бы предчувствуя, что именно там Внук поселится и они таким образом ограничат доблестному полицаю сектор обзора. Утром глянет он в окно, чтобы белым светом полюбоваться, а видит дырявую дощатую будку, и охватывает его черная печаль. — Лежи спокойно, а то доски трещат… — предостерегает шепотом щербатый Зенек. — Не вертись, иначе провалишься ко всем чертям… — До чего же ноги мерзнут, пальцы совсем одеревенели, — стонет Витольд и снова меняет положение. — Так я ж говорил тебе, оберни ступни газетами и в каждый ботинок насуй бумагу. Гляди, начинается, сейчас забудешь о своих замерзших копытах. Гляди, вон маленькая патефон накручивает. Без музыки они не забавляются, всегда это делают под музыку. — Друзья забрались в голубятню, когда первые тени сумерек легли на искрящийся снег. В большой комнате Внука был уже полицай Шимко и две молодые евреечки, не считая, конечно, хозяина, который сначала был полностью поглощен приготовлением ужина и не участвовал в предварительной разминке. Окно завесили белой тряпкой. Может, обрывком простыни, оставшейся от Цукерманов? Но верхняя часть окна оставалась открытой, и с высоты голубятни была видна почти вся комната. — Теплынь у них там… — вздохнул Зенек. — В одних кальсонах разгуливают. Так натоплено, что на стекле ни единого пятнышка изморози. — Зачем они сюда пришли? — В голосе Витольда слышатся только гнев, словно он забыл, что именно за это представление дал Зенеку книгу Сенкевича. Да еще в коленкоровом переплете. — Кто пришел? — переспросил обалдело щербатый Зенек. — Эти девушки. Ведь они же должны знать, все знают, что Шимко отпетый мерзавец, а новый тоже бил евреев прикладом… — Не дури, лучше в окошко поглядывай, — рассердился Зенек, потом немного погодя сам вернулся к этой теме. Видимо, вопрос Витольда задел какую-то пружину в его башке. — Чего ты меня спрашиваешь? Я, что ли, выпытывал у этих девчат, почему они к полицаям шляются? Может, им нравится, а может, просто голодные? У нового полицая часто бывает колбаса, и они ее лопают так, что за ушами трещит. Что задаешь глупые вопросы? Может, они жить хотят и потому водятся с этими гадами. О господи, старый Цукерман, наверное, в могиле бы перевернулся, если бы узнал, что творится в его доме. — Чернявая худенькая девушка уже давно сидела на кровати. Ее колени, на которых покоилась всклокоченная голова Шимко, подрагивали как бы в такт музыке. Полицай Внук самозабвенно крутил ручку патефона. Дородная партнерша Внука, которая наверняка была гораздо старше чернявой, положила на стол круг колбасы и выбежала из комнаты. Едва она отворила дверь, как белый от снега двор, казалось, закружился под звуки танго: «В этот час ты призналась, что нет любви…» — Красиво… — одобрительно произнес Зенек, вытирая нос пальцами. — Толстуха выскочила за порог, огляделась и присела на корточки, подобрав юбку. — Льет, как кобыла, — возмутился Зенек и, чтобы поднять настроение, возбужденно зашептал: — Та, худенькая малышка, симпатичнее, Шимко выбрал ту, что получше. Глянь, она кричит или поет? — Действительно, рот худенькой малышки был теперь широко открыт, Шимко вдруг толкнул ее, а когда она опрокинулась навзничь, вдавил в супружеское ложе Самуэля Цукермана, — Попалась!.. — взвизгнул Зенек, хватая Витольда за руку. Несмотря на трескучий мороз, ладонь у него была мокрая от пота. Витольд вырвался и начал поспешно спускаться по надломленной, рассыпающейся под ногами лестнице. Вслед ему полетели слова, вначале полные удивления, а затем злости: — Погоди, еще будут дела, еще этот новый полицай… Дурак-дурачина, кастрат, тряпка интеллигентская!.. — Витольд мчался опрометью, перемахивая через высокие сугробы, перебегал темные дворы, подгоняемый лаем собак. Потом широкий луг, походивший теперь на белое озеро. Он продолжал бежать, погружаясь в снег, как в воду, очищающую от черных мыслей. Наконец упал и заплакал, чувствуя, как слезы замерзают на щеках. Вдруг ему сделалось очень тепло, и он, возможно, уснул бы, если бы не подумал о Сабине. Мысль о ней причинила боль. Как бы пришпорила. Он раздвигал руками густой морозный воздух. Не знал, куда держит путь, но знал, почему убегает. Хотелось избавиться от мыслей, которые возникли, когда полицай навалился на чернявую. Витольд готов был сбежать от этих мыслей хоть на край света. Сабина. Он парил над белым озером. Сабина еще красивее. Сабина тоже голодает и тоже хочет жить. А как в ее городе борются за жизнь? Разве там нет похотливых полицаев и таких же заброшенных домов, где можно вытворять все что угодно? Сабина. Если не по собственной воле, не от страха или голода, то просто могут принудить силой? Ко всему принудить. Могут. И какой закон призовешь на помощь, если законом стала прихоть жандарма и полицая? Витольд широко открывал глаза — стоило их закрыть на секунду, как немедленно возникала Сабина, а за Сабиной шел какой-нибудь Шимко, какой-нибудь Внук с колбасой в зубах и патефоном под мышкой. И он открывал глаза. Почему я так долго ждал? Сочинил для Сабины стихи, а зачем ей стихи? Если бы раньше поехал, у матери не было бы выбора. Пришлось бы на все согласиться… Витольд вернулся домой к полуночи. Свет ослепил его, хотя под потолком мерцала лишь одна маленькая лампочка. Кто-то снял с него пальто, свитер, разул. Вероятно, мать, значит, я уже дома? — подумал он отрешенно, в полусне, не противясь тому, что с ним делали. — На лютом морозе и до поздней ночи. Я от страха умирала. Всякая погань разгуливает теперь с оружием, и что стоит мерзавцу выстрелить, убить. — Если бы я раньше съездил!.. — выкрикнул Витольд плаксивым голосом, но без труда дал уложить себя в постель. — Когда раньше, куда съездил? — Ирена плотно укрыла сына периной и прислушалась к его учащенному дыханию. — О чем ты говоришь? Не думай ни о чем, сегодня большой день. Праздник сегодня. Сейчас липового цвета заварю. Ты должен пропотеть. Сейчас, сынок. Весточка пришла от отца, взгляни, вот его записка. Дорогие мои, почти месяц я в Майданеке. Эти слова свидетельствуют, что я еще жив. Жизнь здесь тяжелая. Ничего, ведь я жив, как-нибудь обойдется. А знаешь, кто принес записку? Помнится, у нас еще есть аспирин, прими, липовым отваром запьешь. Знаешь кто? Простой извозчик, который работает в Майданеке. Такой человек, что жизнью своей рисковал и гроша не захотел от меня принять. Теперь люди должны помогать друг другу, вот я и приняла решение. Слышишь? Тайник на чердаке больше не должен пустовать. Слышишь? — Утром пришел фельдшер и поставил Витольду банки. — Видите, как до черноты натянуло? Прямо смола. Лишь бы не кончилось воспалением легких, — сказал он, пряча в карман тридцать злотых.
6
А когда собрался в путь-дорогу, почувствовал горький привкус страха. Впрочем, и раньше мысль о поездке вызывала странную тревогу. Странный, странная, странное. Две недели пролежал он в постели, и за время болезни множество простых вещей начало запутываться, усложняться. Читал книгу и ничего не понимал. Брался за письмо Сабине и не мог закончить, все время думал об отце. Говорил с матерью, а в комнату заглядывала Сабина. Лицо бледное, в испарине, видимо, кто-то ее преследовал. Отче мой, моя Сабина. Дорогие мои, почти месяц я в Майданеке. Эти слова свидетельствуют, что… — О чем думаешь? — спрашивала мать, так как Витольд молчал, даже не отвечал на вопросы. — Пожалуй, о жизни. Жизнь здесь тяжелая, но ко всему можно привыкнуть. Посылку не отправляй, не дойдет. — Не надо так думать, лучше отдохни. — Моя Сабина, я думаю, что вот-вот, думаю, что уже скоро… Эти слова свидетельствуют, что я еще жив… — Однажды в комнату проскользнул щербатый Зенек. Присел на корточки возле кровати, толком не зная, как начать разговор, кто перед кем должен первым извиняться. — А тогда Внук, этот новый полицай, аж до почты за мной гнался. Куда ему до меня, хотя страху я натерпелся. Чего ты дал деру с голубятни? — Не знаю… — Чудишь… Убежал — значит, должен знать почему. — Тех девушек было жалко… — Опомнись. Ведь и для них это удовольствие… — Зенек захихикал, точно кто-то пощекотал его под мышками. — Я как-то подглядывал за своей сестрой, к которой ходил пожарный. Сперва они целовались, а потом она сама его уговаривала, чтобы он… На солому ложилась и юбку задирала. Разве делала бы так, если бы это не доставляло ей никакого удовольствия? — Витольд отворачивался, не хотел смотреть Зенеку в глаза и думал о Сабине. Столько надо ей сказать, но что именно? Что она красива, что стихи написал, а письмо не докончил, что снилась ему дважды? В данный момент он знал наверняка лишь то, чего не может ей сказать. Не скажет о двух еврейских девушках, приходящих к Внуку. До самой смерти не скажет ей об этом. А что скажет? Он боялся ехать и нетерпеливо собирался в дорогу… Давка. Пассажирский поезд Хелм — Рава Русская. Пять вагонов третьего класса и шестой — второго. В последнем вагоне свободно, последний только для немцев. Витольд ехал, сдавленный со всех сторон, расплющенный, как сардинка. Мешочники пили самогон, закусывая табачным дымом, пока их чемоданы и мешки были еще пусты. Опоздание — пятьдесят минут. Мешочники сойдут на полустанках, разбредутся по деревням, скупая листья табака от Сулова до Радечницы, говядину и масло — от Груйца до Топорницы, и только обратный путь будет полон риска. А пока что они закусывали дымом, свежим анекдотом. — А про еврея слыхали? — Про еврея? — Насчет присоединения Японии к оси Берлин — Рим… — И что? — Услыхал об этом еврей-торговец и говорит с сомнением: если дела действительно хороши, зачем же брать третьего компаньона? — Пятьдесят минут. — Вчера была какая-то перестрелка под Завадой… — Не дай бог… — Во вторник там обчистили поезд, даже вшей под воротником не удалось привезти… — Не дай бог! — Оставьте бога в покое… — Ну так еще по одной. — Витольд еле дышал, прижатый к двери, и не было никакой гарантии, что дверь вдруг не распахнется. Пахло пропотевшим, грязным бельем. — Взгляните, эта малышка наверняка евреечка… — Почему? — Обратите внимание на ее глаза. — Обыкновенные. Можно сказать, голубые. — Не в этом дело, да и до голубых им далеко. Видали когда-нибудь затравленного зверя? — С какой стати? — Я говорю иносказательно, не в буквальном смысле… — Иносказательно? То есть как? — Туго соображаете. Я имею в виду, что у малышки глаза затравленного зверька. Вам это не кажется? — Нет… — У окна сидит пожилая изможденная женщина с маленькой девчушкой на коленях. Девочка озирается все тревожнее, как будто уже чувствует, что атмосфера вокруг нее сгущается. Поезд внезапно притормаживает и несколько минут стоит у семафора. Поля уже черны, и лишь кое-где виднеются пятна тающего снега. Кто-то открыл окно, и в вагон ворвался ветер, пахнущий плодородной землей. — Меня зовут Бася, я могу перекреститься. Во имя отца и сына и святого духа, аминь… — Девочка осеняет себя крестным знаменьем и ровненько прикладывает ладошку к ладошке… Румяная деревенская баба вытаскивает из кармана яблоко, тщательно вытирает о подол юбки и подает Басе: — На, отведай… — Моя мама болеет, я еду к бабушке в деревню, там коровы, куры, гуси, и умею еще: отче наш, ежи еси на небеси, да светится фамилия твоя… — Отведай яблочка, оно вкусное, а мама твоя обязательно выздоровеет. — Сидящий рядом с пожилой женщиной ксендз берет девочку к себе на колени. — У тебя такие замечательные косички и ямочки на щеках. Улыбнись и станешь еще красивее. — Я умею креститься… — Девчушка горбится, боязливо наклоняет голову, словно беда уже висит над ней и вот-вот обрушится, как черная птица. — Лучше улыбнись… — Что я говорил? Я, уважаемый, долго жил в еврейском доме и еврея за версту узнаю. — Заткнись, гнида, а то от тебя разит перегаром. — Аминь, — говорит ксендз и гладит Басю по голове. Поезд уже подъезжал к Щебжешину. Кто-то посоветовал закутать Басю в платок, ведь начнут открывать двери, а для ребенка нет хуже сквозняка. — Бабушка, закрой меня всю… — попросила девочка. Витольд сошел с поезда и подождал, пока последний вагон не растворился в лучах предвесеннего солнца. В этом вагоне поехала Бася. Возле грязного станционного здания молодой жандарм проверял документы. Согнал несколько мужчин к стене и теперь не спеша изучал их удостоверения личности. Среди задержанных Витольд заметил пассажира, который так долго жил в еврейском доме, что даже маленькая Бася не представляла для него никакой загадки. И Буковский подумал, что, хоть и нет сейчас справедливости, порою случаются своеобразные исключения. — Лучше не присматривайтесь, юноша, а побыстрее уходите отсюда, — схватил Витольда за локоть оборванный старик и увлек на другую сторону улицы. — Ведь это Ширинг, юноша, а от Ширинга надо держаться подальше. — От этого молодого жандарма? — Он действительно молод, но хуже его не найти во всем Щебжешине. Если бы за каждое убийство приписывали год жизни, то молодому Ширингу, пожалуй, было бы уже сто лет. — Дошли вместе до Замойской, и старик начал торопливо прощаться: — Я по Замойской не хожу. Что так на меня смотришь? Евреям уже давно запрещается там ходить, но я поляк. Много лет преподавал в гимназии, которая помещалась именно здесь, на этой улице. Мою гимназию превратили в казарму, и я не желаю этого видеть. Главное в жизни — быть принципиальным, Если не можешь быть таким в больших делах, надо поддерживать свое достоинство в малых. Я обхожу Замойскую стороной. Res ad triarios rediit[3]. Это Ливий. Извини, откуда тебе знать. — Он подал Витольду худую, костлявую руку, и они расстались на углу Замойской… Буковский постучал в дверь, еще раз постучал, но тетка не открывала, хотя было слышно, как она шаркает своими шлепанцами в передней. Он ударил кулаком, и только теперь услышал ее голос, полный тревоги: — Кто там? — Это я… — Кто? — Витольд из Избицы… — Не сдержался и прыснул, когда дверь наконец отворилась, но тут же посерьезнел, так как тетка с самого начала повела себя странно, не как год назад. Не было нежностей и слюнявых поцелуев. Чуть коснувшись губами его щеки, она бросилась к дверным запорам. Было их как в настоящей крепости. Два замка, огромный засов и цепочка. Запирала, проверяла, словно ждала нашествия хитроумных взломщиков. И, лишь тщательно заперев крепость, ввела Витольда в комнату. В ту, где стояли кровати и шкаф. Кровати были разворочены. — Садись, садись на постель, так тебе будет удобнее. Я получила ваше письмо, но не ответила, ведь у меня тоже несчастье… — тихо заговорила тетка Ванда, наклоняясь к Витольду, пока наконец не решилась присесть рядом с ним. — Юзик лежит в больнице. Тут лежал, в нашей, а вчера перевели в Билгорай. Ему еще повезло, а могло плохо кончиться. — Я тоже тяжело болел… — признался Витольд, машинально поглаживая холодную простыню. О своей болезни он упомянул только ради того, чтобы успокоить Ванду, уверить ее, что из любой неприятной истории можно выпутаться. Тетка с минуту помолчала, как будто сказанное Витольдом дошло до нее с некоторым опозданием. Вдруг рассмеялась, но в смехе этом не было веселости. Ирония была и немного горечи. Дитятко мое, Юзик крепкий, как кремень, к нему никакая хворь не пристанет. Знаешь, от чего он болеет? От бандитской пули. — Тетка порывисто встала, затопала мелкими шажками по комнате и дернула воротник свитера: — Душит меня. Подожди секундочку, я сейчас чего-нибудь приму… — Ее не было несколько минут, и он забеспокоился, не стало ли ей плохо, пока она искала лекарство. Однако тетка вернулась порозовевшая, с блестящими глазами, почти такая же, какой была в день его предыдущего визита. Села рядом с ним, и, когда снова заговорила, он почувствовал, что от нее пахнет спиртным. — Сюда получил одну пулю… — Ванда ткнула пальцем под правую ключицу и надавила, так, что Витольд охнул от боли. Затем указующий перст перенесся в область аппендикса. — А сюда получил вторую. Просто чудом не задело печень. Увидала я его белого, почти обескровленного, ведь он, бедняжка, чуть кровью не истек, пока довезли до больницы. Думала, упаду возле койки мужа и сдохну. — Тетка заголосила надсадно, фальшиво, потом, закурив сигарету, успокоилась, страдания ее рассеялись вместе с дымом. Упоминание о бандитских пулях озадачило Витольда. Война его в чем-то просветила, и он уже знал, что выстрелить в человека кое-кому так же просто, как накачать воды или затопить печку. Гораздо проще, чем разбить стекло камнем. Когда разбивают стекло, подымается шум и крик. Когда убивают человека, зачастую слышится только трагический шепот или вообще все смолкает. Это он уже усвоил.. А вот теперь почему-то не мог разобраться, откуда взялись эти пули и почему? Если бы немецкие, но они не были немецкими. Тетка разговорилась, подавляя его потоком слов, которые выкрикивала все громче, и своими массивными телесами. Он ощущал натиск ее могучего, пышущего жаром бюста и не знал, куда деваться. — Кто стрелял в дядю? — спросил Витольд, осторожно отодвигаясь к стене. — Я же сказала тебе, бандиты. Они устроили засаду на жандарма Визенберга и чиновника арбайтсамта. Немцы ехали на лесопилку в Длугий Конт, где-то там их подстерегли. Жандарм остался цел и невредим, чиновника едва задело, а Юзик сидел за рулем и не сбавил скорости, когда увидал бандитов на дороге. Уж он такой. Пули же были ни немецкие, ни бандитские, вдруг осенило Витольда. Тот, кто стреляет в жандарма, — не бандит. Так подумал он, но открытие свое затаил. Прежде чем сели за стол, Ванда сочла необходимым похвастаться квартирой. Взяла его под руку и провела по своему царству, безмятежному, богатому, вылизанному до блеска. Он смотрел и снова терялся. Смотрел на штабеля мебели, и все эти вещи казались ему одушевленными существами, выживающими тетку из квартиры. Тесно им, дышать нечем в заставленных комнатах, напирают друг на друга и вот-вот начнут борьбу из-за каждого сантиметра свободного пространства. Этажерки светлого дерева, туалетные столики с зеркалами в золоченых рамах, черные сундуки, кованные медью, еще стильный комод, и масляная живопись на стенах, и серебряные шандалы. — Богатство… — сказала тетка. — Приходится беречь как зеницу ока, ведь это живые деньги. После войны цены на всю эту роскошь пойдут в гору, — так она сказала. А он раздумывал: «после войны», за горами, за лесами, за семью реками. Далековато еще это «после». Сейчас, во время войны, умный человек не вкладывает деньги в обстановку. Ее не спрячешь в случае необходимости. Не убережешь от бомбежки и пожара. Тетка хорошо поняла его молчание, так как в кухне, когда уже сели за стол, выложила суть дела до конца: — Не подумай, что я ограбила банк. Все, что ты видел, оставили мне на сохранение евреи. Если бы я не взяла, взяли бы другие. Может, даже немцы. Они машинами вывозят в Замостье ценную мебель. Даже из польских домов забирают, если им понравится. — Она закурила сигарету, и Витольд заметил, что у нее дрожат руки. — В твоем молчании кроется что-то недоброе… — Она отодвинула нетронутую тарелку ароматного борща, уже не в силах совладать с нервами. — А может, из тебя получился такой же идеалист, каким был твой отец? Знаешь, как теперь? По одну сторону идеалисты, по другую бандиты, которые стреляли в Юзика. А посередке обыкновенные, нормальные люди. И у них больше всего шансов пережить войну.
…На ужин выдали суп из сушеной капусты и по кусочку хлеба. Стахурский выпил суп. Хефтлинги жевали неторопливо, и не только ради того, чтобы продлить вечерний пир. — Стахурский, ты что, булочную собираешься открывать? — Жевали. Хлеб с опилками, и даже попадались острые щепочки. Если глотать торопливо, можно подавиться, как рыбьей костью. Жевали. — Стахурский, торговлей займешься? — Уже несколько дней Стахурский откладывал часть своей пайки в мешочек, хранимый за пазухой. — Стахурский, а может, ты вшей подкармливаешь? — Вопрос не был бы лишен логики, если бы вши изменили свои вкусы, но они по-прежнему предпочитали кровь. Еще в декабре узники устраивали охоту, побоище в довольно-таки традиционном стиле. Стягивали рубахи, неторопливо, осторожно перебирали пальцами швы, нащупывали паразита, и тогда чуткое ухо улавливало тихий, мягкий щелчок. Это лопалась вошь между окровавленными ногтями. Позднее эта процедура была усовершенствована. После вечерней поверки раздевались в бараке догола и, толпясь у открытой печки, стряхивали вшей с рубашек в огонь. Вши были крупные, откормленные и сыпались как порох в костер. Огонь менял цвет, в печке трещало, и языки пламени вырывались наружу. После такой охоты узники быстро отправлялись на свои лежбища и по меньшей мере день-другой не страдали от паразитов… Три недели назад Ян перебрался с пола на нары. Это не было ни поощрением, ни повышением. В январе на пятом поле расстреляли несколько десятков узников. Тех, что жили в бараке немного дольше Буковского. Их называли «замковскими», так как они попали в лагерь из люблинского Замка. Места «замковских» на нарах достались в наследство тем, кто, как Буковский, доселе обитал на обледенелом полу. Таким простым путем Ян оказался соседом Стахурского. Было это соседство для них обоих весьма выгодным. После смерти адвоката Буковский ощущал вокруг себя бездонную пустоту, чересчур много думал, слишком часто разговаривал с самим собой. А что можно сказать себе путного, стоя над бездной? Стахурский же в свою очередь упорно искал партнера для бесед, не обязательно даже философских, но позволяющих хоть чуточку отвлечься от стереотипов лагерной жизни и лагерной смерти. Складывалась эта жизнь из борьбы за пайку эрзац-хлеба (черпак брюквенной баланды, ржавую ложку, чтобы не пить баланду прямо из консервной банки), за щепотку табака, за картофелину (украденную из бурта возле кухни), за милостивый взгляд старосты барака, за… за… за… а здешняя смерть? Смерть была еще более убога, чем жизнь. Она не питала к хефтлингам ни малейшего уважения, и хефтлинги отплачивали ей той же монетой. Наблюдали ее с разных точек и расстояний, старались показать, что она для них прозрачна, как воздух. Родом Стахурский был из Красностава, хотя арестовали его в Люблине, когда он слушал тайную лекцию для студентов. — Помнишь еще эту лекцию? — спрашивает Ян с любопытством. — Разумеется. Нам читали о протестантизме на Люблинщине в шестнадцатом и семнадцатом веках. — Пожалуй, странная лекция… — Тебе кажется странным протестантизм? — Нет, шестнадцатый и семнадцатый век. Двадцатый одарил нас более интересными проблемами. — Знаю. Я не бежал от них. Жил так, как хотелось жить. Война прервала учебу, но я твердо сказал себе, что она бессильна изменить мои планы. Ты читал книгу Александра Коссаковского? — О чем? — Не читал, неважно. Это была последняя книга, которую я держал в руках. А Коссаковский был до войны моим профессором… — Была, был… Скажи лучше, зачем собираешь хлеб? Хочешь ввести в соблазн голодных? — Ян разглядывал землистую, с выпирающими лицевыми костями физиономию Стахурского и тщетно пытался разгадать, почему он затеял самоубийственную экономию. Впрочем, в глазах этого выдыхающегося, в быстром темпе догорающего парня было столько оптимизма, словно его освобождение из лагеря уже давно утверждено самим гауптштурмфюрером Хакманом. — И ты о хлебе. Я хотел всем преподнести сюрприз. — Стахурский встряхнул мешочек, и сухие корки загремели, как кости. — Оставь сюрпризы фельдфюреру… — Не оставлю. Двадцать третьего февраля, то есть через два дня, мои именины — ведь меня зовут Дамиан. Я устрою пир… — Ешь лучше сам, открой свой мешочек и перестань дурить… — Буковского не рассмешила эта безумная затея. Не было в ней ничего смешного. Скорее смахивало на то, что у Стахурского высокая температура. — Знаю, ты думаешь, что я свихнулся, — очень кстати заметил Стахурский. — А в моей голове за всю жизнь не было еще такого порядка, как сейчас. Эти именины нечто большее, чем именины. Немцы хотят, чтобы мы от всего отучились. От чистоты, достоинства, уважения к себе. Хотят, чтобы мы думали желудком, как скотина. А если человек собирает по крохам хлеб, чтобы здесь, здесь, здесь отпраздновать именины, то он уже не животное. Понял теперь? — Понимаю… — отвечает, немного помолчав, Ян. — И понимаю даже, что протестантизм шестнадцатого века — хорошая тема для лекции по нынешним временам.
День, предшествовавший именинам Стахурского, был для всего лагеря днем необычайных волнений. Кроме этих забавных и очень важных именин назревало еще что-то значительное. Все чувствовали: что-то назревает. Лагерь бурлил и клокотал, как вода в котле, хотя никто еще не растапливал плиты. Гауптштурмфюрер Хакман сбросил утром русского пленного в выгребную яму. Лагерельтестер Хунд отсек плеткой отмороженное ухо узнику, который дожидался приема к врачу. Даже лагерарцт Тшебинский, который был родом из Гданьска и обращался с поляками относительно сносно, был в этот день исключительно груб. И в таком все жили напряжении, что Стахурский, которого побили во время работы на третьем поле, побоялся идти в санчасть. Ян обмыл ему окровавленное лицо растопленным снегом и раздобыл для него горячего кофе. — Ну как ты теперь? — Именины все равно состоятся… — Если нас всех не прикончат у той глубокой ямы… — Не прикончат. Знаешь, в каком я состоянии? Словно стою среди спелой пшеницы и глотаю пахучие зерна… — Стахурский сунул два пальца в мешочек. Принялся выуживать твердые крошки, честно делился с Яном. — Знаешь, я пришел к выводу, что жизнь моя была прекрасной. Живет человек поживает, порой киснет, а взглянешь на те дни с высот Майданека — и прошлое обретает свои истинные масштабы. Выясняется вдруг, что были мы богами, ибо имели и могли все. Ты был богом. На полке лежала «Энеида» Вергилия. Можно было ее в любую минуту взять и открыть. И на расстоянии протянутой руки были молоко, белый хлеб. Не пища ли богов? Я кричал: больно, если заноза попадала под ноготь. Разве подобная боль не развлечение богов? Утром выходил из дома, иногда хотелось побродить, и я шагал по полю, спотыкаясь о борозды, вдыхал запах молодого ивняка. Мог в любую минуту вернуться, мог также идти, идти аж до Гожкова, Жулкевки, до полного изнеможения. Мог кланяться всем встречным, но мог и поворачиваться ко всем спиной. Все у меня было. Вергилий, хлеб, свобода, пожалуй, мне нечего бояться завтрашнего дня. Ведь у меня все было. А у тебя… — У меня было еще больше… — произнес Ян с неосознанным вдохновением, точно слова Стахурского высвободили в нем все то, что он уже успел в себе заглушить. — У меня было все. И еще жена и сын. — Ночное безмолвие уже царило в бараке, когда Зенек, юнец, пользующийся подозрительным расположением старосты барака, принес, прошептал известие, что поздним вечером в лагерь пригнали большую партию евреев.
Замойская улица показалась Витольду очень пустой, больше, чем вчера. Редкие прохожие шагали быстро, словно торопились на условленные встречи. Эта спешка передалась и Витольду. После завтрака тетка зажгла свечу у иконы ченстоховской богородицы. — Может, сходишь в костел? Я дома помолюсь, после несчастья с Юзиком почти не выхожу на улицу. Да, обязательно в костел… — Ванда поцеловала его в лоб и дала десять злотых. Вероятно, стремилась побыстрее уладить вчерашний конфликт. — Мы венчались с Юзиком в этом костеле, а теперь ходят слухи, что украинцы уладили дело с попом, поп договорился с немцами и на пасху костел святой Катажины будет церковью. Представляешь? — Витольд не представлял, но с радостью принял предложение тетки, так как с утра искал благовидный предлог побыстрее сбежать из этого дома. — Я пошел… — Ты ведь знаешь, где костел? Рядом с больницей. — В двух шагах от больницы толпились женщины с детьми. Сгорбленная старушка вдруг заплакала в голос, а продрогший на ветру малец дернул ее за руку: — Бабушка, я хочу пипи. — А ну, разойдись, не на что тут смотреть! — крикнул полицай в синей шинели, но было на что смотреть, поскольку толпа не отступала. — Я десять минут назад разговаривала с ней, как сейчас с вами. — Не может быть… — Что б мне не дожить до завтрашнего дня. Я вот здесь стояла, а она — там. И насчет муки спрашивала, и вдруг Ширинг. Я — шасть в костел, а она точно окаменела. Прямо соляной столп… — Молодая, почти ребенок. Похожа на Файнберга… — Того портного, что был в красной милиции? — Когда? — В тридцать девятом. Мотался с красной повязкой, все хозяйничал, вместо того чтобы штаны шить… — Молодая еще… — Тем более надо было бежать. Еврейской звезды не носила, и, может, потому Ширинг выстрелил… — Разойдитесь, люди, представление окончено! — снова крикнул полицай, и толпа хоть и неторопливо, все же растаяла. Только теперь увидал Витольд лежавшую на мостовой девушку. Она лежала лицом к небу, с открытыми глазами. Из черной элегантной сумочки, которую держала в руках, выпало несколько картофелин.
Ручка водоразборной колонки пронзительно скрипела, и Буковская, следившая за наполняющимся ведром, не расслышала шагов приближавшегося полицая. Шимко застал ее врасплох, впрочем, судя по выражению лица, растерянность Ирены как будто доставила ему удовольствие. — А где же сын, что вам приходится самой качать воду? — Она поставила ведро, откинула волосы со лба и улыбнулась, чтобы скрыть растерянность: — Я отправила Витольда к сестре. Она живет в Щебжешине… — Буковская помедлила, чувствуется, что представляется случай немного сбить спесь с полицая, — дела у нее идут лучше, чем до войны… — Торговлишка? — заинтересовался Шимко. — Совсем напротив. Хорошая работа. Зять работает у немцев, а немцы умеют ценить добросовестных работников.
Постучал Витольд в эту дверь, когда-то наверняка белую, а теперь пожелтевшую, с грязными разводами. Постучал, не ведая, кто ему отворит. Может, Якуб Блюм, который беседовал со смертью, как с родной сестрой? Может, Файвель Пятьминут, который говорил с Блюмом, как с нахалом, неустанно сующим свой длинный нос в чужие дела? Отворила Ревека, жена Файвеля, и тут же попыталась захлопнуть дверь, сочтя, что парнишка перепутал адрес. Совершенно не похож на еврея, на полицая тоже не похож, слишком молод, чего ради такому переться в запретную зону? Витольд придержал дверь ногой: — Я к Розенталям… — Ах, так… — Ревека впустила его в переднюю. Протянула руку, словно желая поздороваться, но быстро спрятала ее за спину. — Ой, забыла о своей чесотке. Здорово бы тебе удружила. — Они смотрели друг на друга, Ревека смотрела с большим любопытством, ибо пыталась отгадать, какую выгоду могут извлечь Розентали из визита этого арийца. — Почему так тихо? — спросил Витольд, немного смущенный ее испытующим взглядом. — Где? — ответила она вопросом, не понимая, что он имеет в виду. — Здесь. Ни молитв, ни ругани… — А, значит, ты бывал в этом доме… — произнесла она в раздумье и пальцами левой руки принялась чесать правую. — Да, тихо, кому теперь читать молитвы или ссориться? Мой Файвель какие-то ямы роет на Затылах, где было стрельбище. Придет с работы и свалится, ни рукой, ни ногой не двинет. И сыночек у нас умер. Отец Файвеля в январе тифом заболел и быстро убрался. А Якуба Блюма забили насмерть за то, что дубленку не сдал, когда другие сдавали. Такой уж он был, не носил дубленку, но и не отдавал. Устроили тут обыск, Содом и Гоморру устроили… — А что у Розенталей? — спросил Витольд, опуская взгляд. Боялся, что прежде, чем услышит печальный ответ, увидит его в глазах Ревеки. Ждал, а она медлила с ответом, и он уже приготовился к худшему. — Ох, Розенталей еще ни одна смерть не навестила, — холодно ответила Ревека… Леон Розенталь лежал под взбитой периной, а присевшая возле него Доба маленькой ложечкой вливала ему в рот чай. И Леон первым увидал Витольда. — Неужели у меня жар? Или это наваждение? Взгляните, кто стоит на пороге! — Доба оглянулась и выронила ложечку, облив чаем подол. У прислонившейся к печке Сабины лицо было спокойное, даже безразличное. Не отразилось на нем ни удивления, ни радости. Ни страха, ни надежды. Розенталь начал выбираться из-под перины. — Такая неожиданность, такой гость. Очнитесь, женщины. — Слегка пошатываясь, в кальсонах и длинной рубашке, он поспешил навстречу Витольду и перехватил его еще в дверях. — Мальчик мой, сынок, вот и дождался я счастливого часа, и надежда моя не умрет… — Он обнял его, но не устоял на ногах, и Витольд помог ему добраться до постели.
Полицай Шимко взял у Ирены ведро и смешно засопел, как будто оно было неимоверно тяжелым. Только на кухне, пододвинув ему табуретку и предложив сесть, заговорила о муже. — У меня есть ячменный кофе, только нет сахара. Пьет ли полиция с сахарином? — Она смотрела на мужчину в синей шинели с таким вызывающим спокойствием, словно все ее трудности стали наконец улаживаться. — Из ваших рук я и отраву бы выпил, — засмеялся Шимко. Ирена присоединилась к его смеху, чтобы не оставалось никаких сомнений в том, что шутка полицая превосходна. — Итак, что же с Яном? — вернулся Шимко к главной теме. Тут для Ирены начались самые трудные испытания. Пришлось прибегнуть к чистейшей лжи. И самой неприятной. Вполне сознательно унизить Яна, дабы избавить этот дом от малейших подозрений и навязчивости полиции. Этого можно было бы не делать до отъезда Витольда в тот город, где он должен сообщить, что убежище ждет. А теперь это имело значение. — С Яном начинает проясняться. Ян поумнел, признался в своем происхождении… — Каком происхождении? — Так вы не знаете, что бабушка Яна была немкой? — почти выкрикнула Ирена, как будто неведение полицая было непростительным грехом. — Настоящей немкой? — встревожился Шимко и только теперь снял фуражку. — Ее звали Инга Кеммлер, ее родители были родом из Баварии, надо ли к этому что-либо добавлять? — Полицай Шимко отрицательно покачал головой — чего же добавлять, если все ясней ясного. Он вскочил с табуретки, быстрыми шагами обошел вокруг стола и потянулся к уже простывшему кофе. С сахарином. — Дьявольский фортель в стиле Яна. Ну и номер он отколол, экстра-класс. Если его теперь выпустят, он будет и орлом и решкой. Для немцев чист — по происхождению. Для поляков — узник Майданека. Орел и решка в одном лице.
Розенталь снова очутился в постели. Жена втиснула ему за спину две подушки, и он полусидя повел разговор. Вернее, монолог, ибо по мере сил никому не давал открыть рта. Он знал все, а если не все полностью, то большего не желал знать. Мир теперь так черен, что никакими белилами его не отбелишь и никакая чернота его более не зачернит. — Изыди, женщина, не показывай мне лекарство, вылей в помойное ведро эту пакость. Пододвинься, Витольд. Ничего мне не объясняй, я все знаю. У евреев хорошая разведка, хотя им нельзя и носа высунуть из города. А она все-таки действует. В середине января арестовали в Билгорае весь юденрат, так щебжешинские евреи узнали об этом раньше, чем здешняя жандармерия. Война наконец нас кое-чему научила. Научила? Нас? Точно знать, что приближается смерть, и защищаться от неизбежной смерти — это две книги на совершенно разные темы. Сабина, где книжка, которую тебе подарил пан Буковский? — Папа, ты же знаешь, что сожжена. Все сожжены, кроме твоих медицинских… — Одетая в толстый свитер, она все еще жалась к кафельной печке, а печь была холодна. За приоткрытой дверцей зияет чернотой погасшая топка. — Ну, знаю. Можно и так использовать книги. Мы жгли книги не на кострах, движимые ненавистью. Они нас обогревали. — Розенталь умолкает на минуту, он устал, взмок от волнения, но машет рукой, призывая жену: — Доба, не кажется ли тебе, что сегодня следует порубить стол? Зачем нам стол, если стулья уже пошли в огонь? А у нас такой гость, хотя бы теплом следует его попотчевать. Не дашь же ему черный сухарь… — Леон, это бессмысленно. — Доба приближается к постели, держа пузырек с лекарством. — Женщина, не показывай мне этой бутылки. Я думаю, надо стол порубить. — Подождем, Леон, не к спеху, — спокойно возражает Доба, — немного потеплело, а пока стол изрубим, пока кофе согреется, Витольду пора будет возвращаться. — Сабина закрыла глаза, словно ее усыпил этот разговор о повседневных делах, которые ничего не значат. Были книги, нет книг. Есть стол, завтра его не будет. Теперь Витольд смотрел только на Сабину и чувствовал себя лишним, униженным. В мечтах он представлял себе эту встречу совсем иной. Именно Сабина должна была обрадоваться ему больше всех. Его надежда должна быть ее надеждой. Розенталь, видимо, что-то почувствовал, погладил Витольда горячей, липкой от пота ладонью. — Не удивляйся, что Сабина совсем другая. Молчит, прячется в своей скорлупе, как улитка. Голод ее измотал, нервы замучили. Она здоровая, только слишком много плохого видит и мало ест. А теперь еще бегает на киркут, еврейское кладбище, ведь там после комендантского часа самое безопасное место. Вот и приходится потом отсыпаться у печки. — Вы отпускаете ее по ночам на кладбище? — возмущается Витольд, и это возмущение кажется Розенталю крайне забавным, он смеется, качает головой, как будто не может надивиться тому, что человеческая наивность столь живуча. — Ты задаешь странные вопросы. С какой стати мне ее не отпускать? Разве она одна ищет спасительной щелочки на киркуте? Жандармы уже столько раз устраивали облавы по ночам и перед рассветом на молодых евреев. Зачем Сабине здесь дожидаться, пока не придут за ней? — Доба Розенталь достала из кармана обломок черного сухаря и направилась к Сабине. — Съешь, сонливость пройдет… — Пусть спит. Сон здоровее сухарика из опилок… — Леон Розенталь заговорил так тихо, словно все же сомневался, что сон имеет преимущества перед сухарем.
Евреи и пленные советские солдаты помещались вместе в шестнадцатом бараке. Несколько сот человек. У пленных не отбирали обмундирования, поношенные, рваные гимнастерки мало чем напоминали военную форму. Евреи получили полосатую лагерную робу. Только те, из вчерашней вечерней партии, остались в вольной одежде. В черных кафтанах и модных осенних пальто, в пыльниках, а иные в одних пиджаках. Глядя на них, можно было безошибочно установить, кого сцапали в разгар зимы, кого в июле или августе. Кого с улицы, а кого из дома.
Буковская достала из буфета четвертинку водки и налила в кружку, из которой Шимко пил кофе. — За здоровье пана Яна… — полицай поднял кружку и про себя возблагодарил всех святых за то, что они сегодня мудро руководили его поведением. Хорошо знать то, что не знает еще даже начальник отделения. Инга Кеммлер? Именно Кеммлер, родом из Баварии. Кто раньше узнает, тот знает вдвое больше. — За его здоровье… — Ирена сделала усилие, чтобы улыбнуться, и ощутила болезненный спазм в горле. — Мне было досадно, когда моя мама грубила вам. Пожилых людей надо прощать, пан Шимко, они совершенно теряют голову в нынешних условиях… — Я ничего не помню… — растроганный полицай отставил пустую кружку.
Холодно, а у Розенталя по-прежнему лицо в испарине. Доба то и дело подходит и вытирает ему платком лоб и щеки. Доба показывает взглядом, чтобы Витольд собирался в дорогу, но ведь он еще ничего не уладил. Ждал подходящего момента и не мог дождаться. Ждал, пока Розенталь устанет и даст ему высказаться и чтобы Сабина открыла глаза и еще шире открыла их, услыхав, что не на киркуте приготовлено ей надежное убежище. — Какой лен, какая спелая пшеница… — пальцы Розенталя снова запутались в волосах Витольда, — не чудо ли, что у самого настоящего еврея светловолосый сын… — Пан Розенталь, я должен, наконец, кое-что сказать. Дело очень важное, а вы меня все время перебиваете… — К чему говорить, если я все знаю. Уже давно знаю, что Ян арестован. Меня словно громом поразило, когда услыхал об этом. Ты не должен объяснять, почему для Добы и Сабины нет места в Избице. Небо над нами разверзлось, а ты о нас не забыл, пришел, хотя и в твоем родном доме беда. Нам достаточно того, что ты о нас не забыл.
Еще перед утренней поверкой взволнованный Зенек сказал Яну, что евреям готовят сегодня что-то страшное. — Страшное? — подхватил Стахурский, стоявший рядом с Буковским. — Не паникуй, Зенек, здесь не может быть ничего страшного, здесь только сплошная смерть. А сегодня мои именины, и вечером я устраиваю пир. — В тот день они работали на втором поле. Потеплело, но земля по-прежнему была как бетон. Они вбивали в этот бетон кирки, лопаты и в тревоге дожидались первого залпа. Со стороны третьего поля доносились окрики возниц, заставлявших своих одров выкладываться свыше лошадиных сил, залпов все еще не было слышно. Никто не стрелял, хотя уже приближалась обеденная пора, пора брюквенной баланды. — Ну что, Зенек, дало осечку твое справочное бюро?
— К чему говорить, если я знаю. Зачем беспокоиться о пятнице, если не известно, что нас ждет в четверг? Живет здесь Ревека, жена Файвеля Пятьминут, который так великолепно бунтовал, пока не выдохся… — Перестаньте, пан Розенталь. Что мне Ревека? — Витольд схватил больного за рубашку, встряхнул, лицо у того было разгоряченное, взгляд блуждал, и смотрел он на Витольда, как на стену. «Стена» была вынуждена слушать. — Квартирует здесь Ревека Пятьминут, которая долго жила за наш счет. Я говорил всем, так говорил: взгляните, Ревека — это ходячая нищета. Евреи говорят: чужие неприятности не мешают спать, но мы теряли сон, когда она жаловалась, что ее ребенок умрет, так как у нее нет денег ни на лекарство, ни на капельку масла. Я помогал, как не помочь при такой нужде? Маленькому Хаиму грозил туберкулез. Как не помочь? Так случилось, что сперва старый Пятьминут умер от тифа, а вскоре от того же тифа умер сын Ревеки. И, только придя в отчаянье, она призналась, что у них есть золото. Берегли на черный день. А где она теперь найдет черный день, если наичернейший уже позади? Файвель окончательно сломался и ходит, как слепая лошадь в конном приводе. И я повторяю, чтобы больше не повторять: зачем беспокоиться о пятнице, если… — Пан Розенталь… — Витольд еще раз встряхнул больного, да так, что Доба подошла и стала возле Леона, как бы намереваясь защитить его. — Теперь я скажу, пан Розенталь. В Избице, в нашем доме, многое изменилось, но не все изменилось. Велите Сабине и вашей супруге собираться в дорогу. Мой отец подготовил на чердаке хороший тайник… — Что он говорит? — Розенталь взглянул на жену, словно ища в ее глазах подтверждения, что слова Витольда действительно прозвучали, а не померещились ему. — О какой дороге он говорит, переведи мне его слова. — У Добы было каменное лицо. — Поспи, Леон. Тебя снова лихорадит. — Она вытащила из-под спины мужа лишнюю подушку, вытерла ему лоб, и Розенталь уснул мгновенно, как будто принял двойную дозу снотворного. — Зачем ты ему это сказал? — шепнула Доба, хватаясь за голову. — Он перенес тяжелейший тиф и едва выкарабкался. У него никудышное сердце. И зачем ему такая надежда, которая только может ускорить смерть? — Витольд растерянно оглядел холодную, пустую комнату и вдруг почувствовал себя заточенным в каменном склепе. Правда, он может в любую минуту из этого склепа выйти. Значит, только он один? Неужели пани Розенталь дожидается, чтобы их замуровали в этом склепе живьем? — Пожалуйста, говорите понятнее. Теперь дорог каждый день, бежать надо. Я принес добрую весть, а вы смотрите на меня как на врага. Что тут происходит? Вы боитесь тифа и болезни сердца, но что такое тиф по сравнению с Ширингом? Когда я шел сюда, возле больницы застрелили молодую еврейку. Ведь завтра утром могут застрелить Сабину.
А за девятнадцатым бараком по-прежнему царила тишина. Уже было известно, что там творятся какие-то страшные дела, именно там, за девятнадцатым, где виселица и таинственная будка. Евреи ускользали из своего барака, искали всевозможных укрытий, и это от них поступило первое сообщение, что в будке смерть собирает жатву. Забирают туда эсэсовцы евреев, и тот, кого берут, уже не возвращается. — Значит, мало возьмут… — попытался приуменьшить масштабы происходящего торговец из Замостья, — сколько хефтлингов можно запихать в такую будку? — Приуменьшал, утешался, но даже самого себя не обманул. Весь барак трясло в напряженной тишине, и, когда жилистый мужичок из-под Пулав вдруг начал громко молиться, его засыпали проклятьями. Хефтлинги были не против этой молитвы, они жаждали тишины, чтобы дрожать в тишине.
Пани Розенталь взяла его за руку и крепко ее сжала. — А ты бросил бы своего больного отца, чтобы спасать собственную жизнь? Неужели жизнь настолько дорога? Сколько можно заплатить за жизнь? Сколько, чтобы потом этой жизни стыдиться? Чтобы потом эту свою жизнь не проклинать, как паршивую собаку?
Позже в барак вошли два молодых эсэсовца, да так внезапно, что даже староста, притаившийся у самых дверей, совершенно потерял голову. Они шагали вдоль строя, провожаемые взглядами, лихорадочно горящими от голода и меркнущими от страха, тут только староста опомнился и выкрикнул визгливым фальцетом: — Achtung! Häftlingen! Mützen ab! Внимание! Заключенные! Шапки долой! — И помчался вдогонку за этой парой с запоздалым докладом о состоянии барака, но эсэсовцы не нуждались в докладах и черт их знает, чего хотели. Дошли до конца барака, сделали «кругом» у заиндевевшей торцовой стены и двинули назад, к дверям. Ян, не открывая рта, считал их шаги с единственной целью, чтобы мозг, занятый счетом, не занялся проблемами поважнее. — Семнадцать, восемнадцать, девятнадцать… — насчитал Буковский, и вдруг эсэсовцы остановились. А до открытых настежь дверей оставалось еще несколько шагов. Девятнадцать. Освобожденный от обязанности считать, мозг тотчас взыграл, пустился в различные предположения, домыслы. Девятнадцать? Почему именно там остановились? Девятнадцать шагов, девятнадцатый барак, а тощему Тадеку, который вытянулся, словно новобранец перед капралом, тоже девятнадцать от роду. День рождения у него первого апреля, но в армии и в тюрьме месяцы не считают, значит, сегодня тощему Тадеку столько лет, сколько лишь в апреле официально отмерит календарь. Не слишком ли много совпадений для одного дня? Евреи каркали, каркали и могли не только себе беду накаркать. Эсэсовец оттолкнул Тадека, хотя тот стоял как положено, у своих нар. — Боже милостивый, что они затевают? — услыхал Ян за своей спиной плаксивый, замирающий голос замойского торговца. Мужичок из-под Пулав снова начал шепотом апеллировать к силам небесным, которые хотя бы теоретически имели превосходство не только над этой парочкой, стоявшей сейчас перед тощим Тадеком, но даже над гауптштурмфюрером Хакманом. «И не вводи нас во искушение, спаси нас…» Немного полноватый эсэсовец, сопя, охая, присел на корточки между нарами, заглянул под логово Тадека и радостно воскликнул, точно открыл золотую жилу: — Da ist der Mist!— Вот беглец! Вилезайт бистро, бистро. Понятно? — И окрик был, несомненно, понят, так как из-под нар, из-под досок, нависших над полом, из щели, столь узкой, что и штатная сторожевая собака, приписанная к лагерю, если бы захотела, с трудом бы втиснулась, появился прозрачный от истощения еврей. Спеша навстречу своей судьбе, которую не удалось обмануть, он зацепился штаниной за гвоздь и порвал полосатую робу, обнажив синее бедро, покрытое чирьями. Эсэсовец щелкнул плеткой, и беглец согнулся от удара. И лишь второй хлопок плетки заставил его выпрямиться, как на строевых занятиях. «Пресвятая дева Мария, матерь божья, молись за нас, грешных, теперь и в годину смерти нашей…» Мужичок из-под Пулав торопливо утрясал напоследок свои взаимоотношения с силами небесными. А небо было чистое, отполированное последней вспышкой предвесеннего морозца, восточный ветер разогнал облака, и ничто не препятствовало тому, чтобы богоугодные слова предусмотрительного мужичка воспарили бы высоко-высоко в поднебесье. Поскучневший эсэсовец, ибо поиски перестают забавлять, если известно, что все беглецы найдутся, погнал еврея к открытым дверям. Обладатель плетки принялся что-то обсуждать со старостой.
Староста приговаривал: — Jawohl! Так точно! — Староста приговаривал: — Danke schön. Благодарю. — А еврей вдруг повернулся лицом к тянувшимся во фрунт хефтлингам и выкрикнул с неожиданной силой: — Я Авраам Граф из Билгорая! — Неизвестно, желал ли он представиться им перед уходом в не столь вероятную вечность или молил этим возгласом, чтобы через месяц, год и даже десять лет они разыскали кого-нибудь из билгорайских Графов и сообщили хотя бы то, что двадцать третьего февраля 1942 года измотанный голодом и тифозной лихорадкой Авраам продержался на ногах до своего последнего раунда… А за девятнадцатым бараком по-прежнему тихо. Авраам уже давно исчез у них из глаз. Не было и тощего Тадека с первого этажа нар, и Манькоша — со второго. Угнали их, как и еврея. Авраам проторил безвозвратную дорожку, и они отправились следом за ним. — Хорошо кончилось… — замойский торговец дрожал всем телом и подобострастно заглядывал в глаза Яну, так как знал, что Ян дружит со Стахурским, а у Стахурского за пазухой мешочек с хлебом, — могли весь барак наказать. Всех могли заграбастать. Интересно, спрятал бы Граф нашего Тадека, если бы Тадеку это понадобилось. Черт побери, очень меня это интересует… — В таких делах, уважаемый, человеку не разобраться, все это не нашего ума… — вмешался мужичок из-под Пулав и воздел руку, указывая пальцем на потолок барака, — только там они могут решаться… — Похоже, что нам долго придется ждать справедливого суда… — проговорил с иронией торговец и огляделся в ожидании взрыва гомерического хохота. Однако никто не рассмеялся. Предельное напряжение сменилось смертельной усталостью, и, хотя в бараке еще витал дух тощего Тадека и чесоточного, опухшего от голода Манькоша, все мало-помалу снова возвращались в свою колею, на свои нары, где каждому удавалось чудом что-то сберечь. Кому частицу утренней веры, кому искорку предвечерней надежды. Они вкушали пахнущий медом хлеб, кусая пальцы, потрескавшиеся от стужи. Закрывая глаза, писали мысленно длинные письма. Прячась, затаиваясь под завшивленными одеялами, шли по садам, где росли цветы и фруктовые деревья. Ветви клонились к земле, и достаточно было поднять руку, чтобы проверить, что не кровь течет по пальцам, а сок из раздавленной вишни. А за девятнадцатым — тишина. И это было страшнее того, к чему они уже успели здесь привыкнуть. — Не будет именин? — спросил Ян, думая не столько о хлебе, сколько о Стахурском, потрясенном трагедией Тадека. — Отменяю, — отрезал Стахурский. — Надо все это отнести Тадеку. Он не выдержит голодовки… — Подождем до завтра. Хочешь действовать вслепую? Ведь нам даже неизвестно, где его держат. — Они сидели, касаясь плечами, обжигая друг друга дыханием, но тела были ледяными, как будто из них выкачали кровь. — До завтра? — возмутился Стахурский. — Меня душит тишина за девятнадцатым бараком, словно я тону в навозной жиже. С утра туда гонят евреев. Тадек с Манькошем тоже наверняка там. Нам дали знать, что за девятнадцатым бушует смерть. Но какая, дружище, какая? — Не все ли равно? — подумал Ян и произнес это вслух. А Стахурский разволновался пуще прежнего: — Если бы было все равно, не делали бы из этого тайны. Расстреливают нас на пятом поле? Расстреливают. И с таким шумом, что, пожалуй, на Люблинском шоссе слышно. Так почему же за девятнадцатым делают все потихоньку? — Ян растерянно покачал головой, понимая, что со Стахурским ему не сладить. Веревкой его к нарам не привяжешь, ни приказами, ни уговорами не уймешь… Стахурский переложил хлеб из мешочка в карман с величайшей осторожностью, чтобы ни крошки не упало на пол. — Глупо рисковать… — Надо. Это для меня очень важно, это святое дело… — Веришь в бога? — На соседних нарах двое хефтлингов препирались из-за горстки перетертой в прах соломы. Замойский торговец стряхивал над печкой вшей с рубахи. Юный Зенек завершал выгодную сделку, меняя хлеб на курево. Девятнадцатилетний Ганс Отто, несший в данный момент караульную службу между двумя рядами колючей проволоки, прислушался к перезвону колоколов люблинского костела и растроганно подумал о своем родовом гнезде в Мюнхене, о солнечной, удобной квартире на Санкт-Мартинштрассе. Там тоже слышен вечерний благовест, если отворить окно. — Когда-то я интересовался религией, ее социальной и политической родословной… — Стахурский говорил тихо, но отчетливо, неторопливо, как будто прислушивался к собственным словам, проверял, нет ли в них фальши, — это было познание, а вера пришла только здесь. Ты наверняка полагаешь, что было бы логичней, если бы я верил на воле, а за колючей проволокой веру утратил. Можно ли верить в бога, превращаясь в вонючее дерьмо, пожирая крапиву и подыхая от кровавого поноса? Можно ли верить, становясь на колени над ямой с хлорной известью и покорно дожидаясь, когда пьяный скот выстрелит тебе в затылок? Можно ли верить, если какой-нибудь Хакман, эдакая собака, капо-уголовник с зелеными треугольниками на груди и любой стражник, который с легким сердцем пристрелит тебя, только подойди поближе к ограде, — если все они тоже верят? Сотни раз я задавался этим вопросом: можно ли? И, не находя ответа, чувствовал, что приближаюсь к вере, которая подобна воздуху. Одним точно известен состав воздуха, другие слыхом не слыхали о каком-то кислороде, водороде, азоте, гелии. И те и другие не могут жить без воздуха. Можно глубоко дышать, не понимая химии. Разве все надо понимать? Майданек опровергает существование бога. Может, именно поэтому я верую? Верую, ибо не понимаю. Не понимаю, поэтому бунтую… Моя вера порождена духом противоречия и бунта. — Стахурский хлопнул Яна по плечу и быстро удалился, словно теперь ему была дорога каждая минута.
Сабина спала, прижавшись щекой к стылому кафелю. Что-то лепетала сквозь сон по-детски вкрадчивым голосом, но разобрать можно было лишь отдельные слова. Такой она ему запомнилась. — Я разбужу ее, пусть с тобой простится… — Доба говорила шепотом, чтобы не потревожить Сабину. — Пусть спит, передайте ей от меня привет. — Витольду хотелось поплакать, и, возможно, он не сдержал бы слез, если бы девушка в последнюю минуту открыла глаза. Пусть спит. Попытался придумать сказку со счастливым концом. Жили-были Витольд и Сабина… Они не простились, значит — не расстались. Розенталь выздоровеет, наберется сил и снова будет смотреть на мир как прежде. Ведь это он сказал о Сабине, когда пробрался к ним в Избицу: похорошела, словно ей суждено жить. Розенталь выздоровеет и все припомнит. Жили-были Витольд и Сабина… На лестничной клетке царила темнота. Он несколько минут стоял возле двери и громко стучал. Даже если бы тетка спала, такой стук непременно разбудил бы ее. Ног его коснулась кошка и отскочила, мяукая от страха. Этажом выше ссорились женщины. По всей вероятности, они стояли у самых дверей, так как было слышно каждое слово. — Я ему жена, и нечего тебе вечно меня поучать… — А я ему мать, и кое-какие права у меня имеются. — Витольд нащупал в темноте перила и начал осторожно спускаться по выщербленным ступенькам и, пожалуй, прямиком помчался бы на станцию, если бы ночью отходил поезд на Избицу. О необходимости ждать тетку и возвращаться в ее квартиру, загроможденную еврейской мебелью, он думал с нарастающим отвращением. Ванда наверняка спросит его, где шлялся до позднего вечера, и придется придумывать какие-то объяснения, которым тетка все равно не поверит. Может, даже примется убеждать, что неказистая правда ценнее самой великолепной лжи. И снова эта кошка. Черная. Она бы только мяуканьем выдавала свое присутствие в темной подворотне, если бы не белая полоса снега от калитки, висевшей на единственной петле, до первой ступеньки лестницы. Кошка выглянула на улицу и большими прыжками по этой белой дорожке — назад. И вот уже льнет к руке Витольда, опирающейся о ступеньку, мяукает ему в лицо. — Пошла к черту, брысь. — Возвращался Витольд как с поля битвы, где потерпел неожиданное и сокрушительное поражение. Все сказочные сны развеялись, а действительность оказалась гораздо страшнее, чем мог предполагать. И возвращался он в квартиру, где поражение придется переживать в одиночестве. Не скажет же он тетке о Розенталях, хотя теперь мог бы выложить все карты на стол. Великой тайне конец. Об убежище, которое пустует и, вероятно, будет пустовать, теперь можно поведать хоть самому Ширингу. Даже тетке, муж которой возит немцев отнюдь не на экскурсии. Витольд присел на нижнюю ступеньку лестницы, припал лицом к перилам и, дрожа от холода, начал сочинять обвинительную речь. Уличить Ванду в чем-либо конкретном было трудно, так как он слишком мало о ней знал. Теперь и малоконкретные дела свидетельствовали против нее. Уходя из еврейского склепа, когда Доба уже захлопнула за ним дверь, Витольд с необычайной ясностью осознал, что пройдет всего несколько улиц и очутится в другом мире. Все, чего не хватало Сабине, у тетки Ванды имелось с избытком. Вплоть до жажды жизни и страха перед смертью было у нее сверх меры, как будто не только от картин и мебели, но и от этих чувств отказались евреи в ее пользу. Кошка мяукала все жалобнее, видимо, ей хотелось попасть в теплое жилье. — Проси, проси, без просьбы далеко не уедешь… — усмехнулся Витольд, пряча лицо в поднятый воротник пальто. Наконец вожделенная дверь отворилась, мяуканье смолкло, и стало тихо. И вдруг из недр этой тишины выскочило багровое пятнышко. Оно росло, мерцая в черном туннеле подворотни, раздувалось, как праздничный воздушный шарик. Витольд ткнул пальцем в эту разбухающую красноту, раздался грохот, и из грохота возник голос Ванды: — Какой же ты парень, если стыдишься, когда тебя родная тетка целует? Никогда не целовался с девчатами? Клянусь тебе, они это очень любят. Скажи что-нибудь, чего молчишь, глупенький? — Она раздевалась, загородившись дверцей шкафа, чтобы наконец одеться по-человечески. Он сидел на кровати, смотрел, как перелетает через всю комнату, трепеща рукавами, белая ночная рубашка, и представлял себе наготу этой женщины. Обтянутый смуглой кожей живот-барабан — любой ритм выстукивай. Стройные ноги, две светлые реки, сливающиеся там, где вырастает пригорок, прикрытый стожком темного волоса. И еще массивные груди. Пожалуй, двух ладоней мало, чтобы прикрыть каждую в отдельности и от дневного света и от всего света спрятать. Такой была нагота, скрывавшаяся за широкой дверцей шкафа, выволоченная на середину комнаты всемогущим воображением Витольда. А теперь он обнажал эту женщину вторично. Разоблачал иначе, болезненней, ибо очутился на самом краю больного мира, чувствовал себя тоже больным, и воображение у него было больное. — Не подумай, что я обокрала БАНК. Все, что ты видел, ЕВРЕИ оставили мне на хранение. За твоим молчанием кроется что-то недоброе. По одну сторону… Может, из тебя получился такой же ИДЕАЛИСТ, каким был твой отец? А по другую сторону БАНДИТЫ. Была КРОВЬ. Думала, свалюсь возле Юзика и сдохну, он истек кровью, бедняжка. БОГАТСТВО надо беречь как зеницу ока, ведь это живые ДЕНЬГИ. — Теперь Витольд разоблачал ее иначе. Кожу сдирал, чтобы проверить, что там, под этой смуглой кожей. Все улыбки и всхлипывания, которые еще назревали в утробе, все слова, таившиеся еще глубже, он выворачивал из нее, как зловонную требуху. Такова была расплата за то, что он, по всей вероятности, уже безвозвратно утратил, когда выходил, крадучись, из склепа Сабины, оплакивая слезы Розенталей. На этой границе окоченевшего мира Витольд не желал думать о Фримерах, Ширингах, забыл вдруг избицких Энгелей и Полей, вычеркнул на время из памяти таких, как Шимко и Внук. В этот час и в эту минуту над черным, голодным, продрогшим миром царила тетка Ванда, первый адъютант Гитлера… Резко распахнулась дверь на первом этаже, блеклый свет растекся по высокому своду. Не вставая со ступеньки, Витольд смотрел в ту сторону, откуда пахнуло теплом и запахом ужина. — Кого дожидаемся, кавалер? Если Фабишевскую, то можно и у меня подождать, возле печки. Снова похолодало, снова завьюжило, чего доброго, простудишься, кавалер… — Я в третью квартиру, на втором этаже… — произнес Витольд с внезапным облегчением. И тогда посыпались слова острые, как битое стекло: — Ты в третью? К этой гадине ползучей? Так сиди до рассвета, пусть у тебя задница примерзнет… — Молчи, Зоха, беду накликаешь… — заскрипел мужской голос из недр квартиры. — Пусть накликаю, но свое скажу! — Дверь хлопнула так, что посыпалась штукатурка. Ванда убрала со стола две рюмки. Плавным движением сгребла два ножа и две вилки. — Что бы произошло, не случись этот знакомый полицай? Ты подумай об этом, Витек. — Он вынесла на кухню графин с остатками темной наливки. — Ты не маленький, знаешь ведь, что такое комендантский час. — Тетка подошла так близко, что коснулась коленями его колен, придерживая распахивающийся на груди халат. — Комендантский час. Знаю. А теперь мне хочется спать, и я могу спать даже на стуле… — Почему на стуле? Я беспокоилась о тебе и поэтому немного повышаю голос, ты не должен обижаться. — Полицай постучался не слишком громко, и дверь тут же отворилась. Прямо чудеса, подумал Витольд, то ли чудеса, то ли нюхом чуют друг друга даже через дверь. — Добрый вечер, извините, что в такую пору, я задержал нездешнего парнишку, который утверждает, что приходится вам племянником… — Действительно приходится! — воскликнула тетка, увлекая Витольда в переднюю. — Пустое дело, так сказать. Он заявил, что стучался, но никого не было. А в городе тревожно, какая-то стрельба у сахарного завода, и с этим малым могло быть худо. — Полицай переминался с ноги на ногу, не торопился уходить. Вероятно, считал, что за дружескую услугу ему кое-что полагается для сугреву. И тут в комнату вошел мужчина, внешний вид которого не должен был внушать особой почтительности. Был он, правда, в великолепных бриджах, но без сапог. Не успел надеть пиджака и даже рубашки, белая фуфайка распорота по шву под мышкой. Однако полицай не преминул изъявить почтение. Вытянулся по стойке «смирно», отдал честь: — Здравия желаю, пан Мруз. Что нового в Билгорае? — Ты меня знаешь? — удивился, правда не слишком, мужчина без сапог. — Так точно… — в глазах полицая светилась радость и преданность. — Ну, тогда ты меня не знаешь… — Слушаюсь! — гаркнул полицай, не очень-то представляя, как ему быть. Тетка хотела было погладить Витольда, но тот отпрянул, и рука ее повисла в воздухе. — Еще сердишься?
Утром, перед поверкой, дрожащий от холода и не только от холода Зенек рассказал Яну то, что слышал от пленного русского солдата. Пленный решился на крайне рискованный шаг, и ему повезло. Когда из шестнадцатого барака начали вытаскивать евреев и стало ясно, что все разыгрывается на первом поле, не на пятом, которое было местом массовых расстрелов, а именно на первом, пленный решил разобраться с этой таинственной акцией. В тот день он был в команде уборщиков, пробрался в барак и сквозь щель под самой крышей увидел почти все. Кое-кто тоже пытался подсмотреть, но на утренней поверке их никто уже не видел. Они исчезли вместе с разгаданной тайной. Зенек рассказывал шепотом и корчился, как будто даже этот шепот давил на него, прижимал к земле. — Вводили их в будку за девятнадцатым. По одному, в порядке очереди, чтобы не было ни давки, ни сумятицы. Теперь понимаете, откуда эта тишина? Вводили, и с ходу — дубиной по черепу. И того, кто уже получил свое, а, по-моему, не каждый от такого удара отдавал концы, на крюк насаживали. Крюк под горло — и подвешивали, как свиную тушу перед разделкой. Таким способом уделали вчера сотню евреев, нескольких русских и наших… — А тощий Тадек, а Стахурский? — У Яна кружилась голова, но чувствовал, что устоит, что земля не уйдет из-под ног. — Тоже там были, теперь висят на крюке… — Зенек кончил свой рассказ, но что-то еще бормотал себе под нос. Может, ругался или повторял тихо то, что трудно было повторять.
Тетка вернулась из кухни с полной рюмкой наливки. Присела на плюшевую оттоманку и уже не обращала внимания на распахивающийся халат. В комнате было очень жарко. Витольд закрыл глаза и услышал, как со лба стекают капли пота. С закрытыми глазами ему лучше виделась сцена того прощания. Тогда он смотрел в щель приоткрытой двери, теперь же не смотрел вовсе, а видел гораздо отчетливее. Они стоят как на сцене. Он уже в сверкающих офицерских сапогах, но без пиджака. Рука мужчины скользит по голубому халату, как по встревоженной поверхности воды. Вода колышется, и вот руки уже не видно. Утонула. — Прекрати, мы не одни… — говорит тетка, и голос у нее хриплый, чужой, — ох, ты невыносим. Не понимаешь? — Мужчина не понимает, оглох, онемел, они стоят молча, рука не может вынырнуть из голубой пучины, пока тетка не взмаливается: — Хватит, хватит… — Тетка вернулась из кухни с полной рюмкой наливки. Присела на плюшевую оттоманку, пригубила рюмку. — Что с тобой творится, Витольд? То рассказываешь полицейскому какие-то байки, якобы меня нет дома, а сейчас дергаешься, как цепной пес. Почему отказываешься есть? И почему надумал спать на стульях? Я должна сказать тебе о пане Мрузе, это для тебя очень важно. Он — сила, теперь с ним во всем повяте считаются. Работает в Билгорае, не знаю точно, по какой части, но знаю, что умеет обводить немцев вокруг пальца. И когда он навестил меня сегодня, я сразу подумала о нашем бедном Яне. Только потому и пригласила отужинать, чтобы все ему рассказать про Яна. Пусть же наконец какой-нибудь солидный человек возьмет это дело в свои руки. — Витольд молчал, и тетка пуще прежнего удивлялась, а может, и беспокоилась по поводу его упорного молчания. А когда он уже лежал, натянув на голову шерстяное одеяло, чтобы хоть таким образом отгородиться от этой квартиры, еще раз постучать к Розенталям, взглянуть на спящую у холодной печки Сабину, в комнату вбежала тетка в ночной рубашке. Зажгла свет, села возле Витольда и, сдернув с его головы одеяло, заговорила обрадованно: — Господи, какая же я женщина, в таком деле не разобралась! Знаю, ты влюблен в здешнюю девушку и к ней, а не ко мне приезжаешь. Сегодня свидание сорвалось, и тебе весь свет не мил. А я-то задавала нелепые вопросы и бог весть что вообразила…
7
Ян повторяет, чтобы проверить память, и знает, что проверяется нечто большее. ПАМЯТЬ. Память?
О матерь божия, ты в Ченстохове с нами, Твой чудотворный лик сияет в Острой Браме, И Новогрудок свой ты бережешь от бедствий, И чудом жизнь мою ты сохранила в детстве…[4]— Хороша молитва, я еще такой не слыхивал… — умиляется мужичок из-под Пулав и вдруг склоняет голову, то ли этим святым словам кланяясь, то ли собираясь приложиться к руке Яна. — Хороша, ох хороша, и прямо в душу западает. Наш приходский ксендз никогда такой не читал, а ведь он человек знающий, ученый, даже в Рим ездил. Сколько бы хорошего можно было еще услыхать, если бы удалось отсюда выйти. — Фамилия мужичка из-под Пулав — Немец, и он этого страшно стыдится и, пожалуй, в обиде на своих праотцев за то, что такое позорище в наследство ему оставили. Ходит теперь по пятам за Яном, поскольку к другим никак не может проникнуться доверием, и канючит, и жалуется на свою горькую судьбину. — Знаете, уважаемый, как меня Зенек обидел? Чего, мол, с ним разговаривать, Немец он. Во как меня оплевал. А я в первую очередь о сыновьях думаю, их у меня трое. Будь у меня дочери — куда ни шло. А сын как Немцем уродился, так до гробовой доски Немцем и останется. Вы ведь ближе к начальству были и наверняка знаете, куда обращаться, чтобы такую позорную фамилию поменять? Сколько может стоить такая замена? Морга земли на это хватит? Красиво вы молитесь. «О матерь божия, ты в Ченстохове с нами…» Как там дальше? — Мужичок хиреет с каждым днем, усыхает, как надломленная ветка, но твердо верит, что выйдет из этого ада, и ревностно готовится к хождению по инстанциям. — Я согласен зваться Куропаткой или Крысой, на Гниду согласен и даже на Желтопузика, но Немцем не буду — это за какие же грехи?.. — Кончается хмурое мартовское воскресенье. Тадек, Манькош, Стахурский и Граф из Билгорая почти забыты. Лишь вчера на какое-то время проснулась память. Через главные ворота лагеря проследовали плотными рядами колонны евреев. Тяжело было им идти, нагруженным туго набитыми рюкзаками, огромными кожаными чемоданами и свернутыми в трубку одеялами, — дорогу развезло, и вязкая грязь липла к обуви, к штанинам, нарушала четкий ритм марша. После тихой расправы за девятнадцатым бараком в лагере не осталось евреев. И даже разговоров на эту тему не было. А теперь все глядят, считают, удивляются. И вынуждены хотя бы мимолетно потревожить зыбкую тень Графа, тень Стахурского, который тогда до того одурел, что кончил жизнь на крюке и еще столько хлеба забрал с собой. — Большая партия, тысячи две будет. Может, из Варшавы? — прикидывает Зенек. — Богатая публика и чертовски глупая. Надо окончательно спятить, чтобы на собственном горбу переть фрицам свое добро… — Здесь-то каждый умнеет… — тихо подал голос мужичок из-под Пулав, — разве угадаешь, в какую сторону тебя Гитлер отправит?
— Определенно, разумеется, нельзя… — начинает философствовать торговец, — но хотя бы отчасти должны догадываться. Война тянется третий год, а немцы обманывают евреев одними и теми же фортелями. — Это было вчера. Сегодня уже известно, что партия не варшавская, а из Словакии. Выгрузили евреев в Люблине и тут же начали играть на их мужском самолюбии. Тяжелая ли была поездка? Скрывать нечего, не из легких. Так пусть мужчины займутся багажом, прихватят, сколько смогут донести. А женщины? Женщины с детьми немного отдохнут, попьют горячего кофе и пойдут потихоньку, к чему им себя утруждать? Они отправятся следом за своими мужчинами в лагерь, где ждут приличные рабочие места, где сапожник снова будет сапожником, портной — портным, столяр — столяром, кожгалантерейщик — кожгалантерейщиком. — Поторапливайтесь, друзья, — сказал офицер-эсэсовец и зашагал в голове колонны, призывая следовать за ним. Даже пройдоха Зенек удивленно покачал головой, когда прошел слух о вчерашнем спектакле, а мужичок из-под Пулав стал возле Яна, руки широко раскинул, как бы примеряясь к кресту, на котором его должны были распять, и произнес истово: — О матерь божия, что в Ченстохове с нами, ты запиши все это в какую-нибудь тетрадку. Евреи на месте, мешки и чемоданы свалены, а евреек с детьми нет и не будет. — Ян молчал, он ничего не видел и не слышал, поглощенный своими важными мыслями. Не перебивай меня, Ирена, память моя не так уж плоха. Я даже начинаю подозревать, что с каждым днем она становится все совершеннее, мускулы мои слабеют и тело увядает, чтобы окрепла память. Месяц назад я не помнил, в каком ты была платье, когда мы бежали по зеленому морю, а ныне уже помню, так как за этот месяц стал костляв, как кляча старого Фроймана, но память моя окрепла во сто крат. Платье у тебя было голубое, с глубоким вырезом, а когда ты подымала руки и воздушная ткань соскальзывала с плеч, я видел тени под мышками. Сейчас я тебе все напомню до мелочей. Это было в середине июля, через четыре года после нашей свадьбы, и Витольду исполнилось три года. Мы жили тогда у моей сестры, в Красноставе, в двухэтажном кирпичном доме у шоссе, ведущего на Замостье. В окно заглядывали высокие, раскидистые каштаны, а по ночам благоухал парк. Перейдешь Люблинско-Замойский тракт — и ты уже в лесу. В пятидесяти метрах от дома стояла ратуша с остроконечной башенкой, с часами и гербом. Погоди, я знаю, что у каждого города есть свой герб, но не у каждого мой герб. Только сейчас мне это пришло в голову. И я подумал, что мы могли бы там остаться. Не у моей сестры, не в квартире, где всем было слишком тесно, а в том городе, у которого две рыбы в гербе. Я же родился под знаком рыбы, так, может, этот город был моим предназначением? Может, там моя жизнь была бы иной, более толковой и насыщенной? И вот свалился нам с неба дом. С высокого неба, и отнесло его чуть восточнее. Вместо Красностава он приземлился в недалекой Избице, то ли селе, то ли местечке. Теща ссудила нам восемьсот злотых, именно такой долг по страховке оставил нам покойный Стах, и мы заполучили свой собственный зеленый дом в зеленом садике. Счастье. Теперь об этом счастье я думаю с тревогой и растущей подозрительностью. Вроде бы ни о чем не сожалею, ведь мы там славно пожили, но начинает брать сомнение, не слишком ли усыпило меня это безмятежное счастье? Когда залежишься на солнце, малейший порыв прохладного ветра кажется ноябрьским ураганом. Разнежился я в нашем тепле, боялся любого ветра. Жил — день да ночь — сутки прочь и большего не желал. И таким образом назревала подспудно болезнь, называемая хроническим страхом, от которой, правда, не умирают, но которая все же калечит. Вот почему, когда настала пора действовать, быстро принимать решения, я оказался не на высоте. Мне теперь тридцать шесть лет. Пожалуй, уже порядочно. А что свершил, чего достиг, что оставлю после себя? Погоди, я несколько забежал вперед. Надо вернуться к мысли, которая породила мою воскресную исповедь. Тогда тоже было воскресенье. И самая середина жаркого июля. Мы оставили Витольда под присмотром сестры — и бегом через парк. Часы на ратуше показывали какое-то нелепое время, и ты посмеялась, что их заводят вороны, которые усаживаются на стрелки. Мы могли смеяться, ведь наше время было только нашим временем. Нам принадлежал девятый час, и десятый, и двенадцатый, и все остальные часы были нашей собственностью. Это отнюдь не поэзия, а в самом буквальном смысле слова реальность, чтобы понять ее по-человечески, надо хотя бы один день прожить в мире, огороженном колючей проволокой. Снова ускользает мысль. Мы оставили Витольда под присмотром сестры. Нет, это уже было. По узенькой улочке, мимо костела, мы добежали до деревянных домишек на краю луга. А там речушка, этакий мутный ручей, впадающий в Вепш, забыл его название, только помню, что полно там налимов и усатых сомов. Мы разулись, я подвернул брюки до колен, и, нащупывая ступнями острые камни, переправились на другой берег, а там уже начиналось зеленое море. Этот огромный, раскинувшийся до горизонта луг был действительно как море. Безмятежное, почти уснувшее, разомлевшее от зноя, вызывающее неодолимое желание в него погрузиться. Пожалуй, ни раньше, ни позже я не чувствовал себя таким свободным. Мой друг, которого уже нет, или, говоря иначе, который лежит под тонким слоем гашеной извести и слоем песка, рассказывал мне о своих хождениях по бурым бороздам вспаханного поля. Он шел и шел, так как хотел идти, хотел спотыкаться о сочные пласты земли. Возвращался, ибо так ему хотелось. Не знаю, как тебе растолковать значение слова ХОТЕЛ, чтобы оно означало то, что на самом деле означает. Ведь значение слов изменяется вместе со значением жизни. Я помню разные довоенные дискуссии. Когда слово «свобода» мы огораживали теорией, высокой, как строительные леса. Спорили больше из-за цвета и формы этих лесов, нежели из-за смысла самого этого слова. А он шел, как хотел, возвращался — тоже когда хотел вернуться. И это так просто, обыденно и далеко от всяческих теорий. Идти, куда несут ноги, возвращаться когда заблагорассудится. А перед нами было зеленое море, и мы могли в нем утонуть, будь на то наша воля. Это была наша свобода. И мы вступили в это море, благоухающее прогретой травой, люпином, клевером, и предавались любви в этом море. Ты прекрасна, а тогда была особенно прекрасной. Скрывало нас лишь раскидистое, почти безлистное дерево. Ты обнимала меня смелыми руками, желая, чтобы мы вместе утонули в этом море, в одну и ту же секунду, хоть и боялась, что нас кто-нибудь подсмотрит. Я улавливал в твоем шепоте счастье и страх. Мы погружались на морское дно в упоении, а когда снова всплывали на изумрудную поверхность, я уже понимал, что счастье и страх — спутники удачного супружества. Страх боится одиночества, а счастье не бывает полным, если страх не щекочет ему пятки. Погоди, я совсем не это хотел тебе сказать. Не для того вывел тебя сегодня на луг, чтобы напоминать о том, чего ты не забыла. Позднее, когда мы уже шли вдоль берега Вепша, этой удивительной реки, перекрученной, как человеческий кишечник, оставив далеко позади холм, на котором красовался город с рыбами в гербе, случилось нечто, о чем ты вправе забыть. Мы увидели вдруг Избицу. Деревья, дома и домишки на том берегу реки. И за этими деревьями и зарослями ивняка, за белыми, серыми, красными стенами лежало наше царство. Ты сказала тогда, как девчонка, стоящая у витрины с игрушками: «Мне хочется постучать в нашу зеленую стену, заглянуть в окошко». Этим домом мы уже не раз любовались, и мною тогда овладело внезапное желание провести палкой по штакетнику, по нашему штакетнику. Увы, от Избицы нас отделяла река, метров двадцати шириной, глубокая, изобилующая водоворотами. Всего-то. Но я не умею плавать, страх сковывает меня, мои движения, едва нога теряет опору, да и ты боишься воды пуще огня. Итак, мы стояли на высоком, обрывистом берегу, почти у своего дома и одновременно далеко от него. И такая переполняла меня печаль и безысходность, словно я в одну минуту все потерял. Теперь-то знаю. Потерять все — значит спасовать перед безысходностью, когда нет ни единого шанса преодолеть безысходность. И не искать этого шанса. Именно так ныне обстоит дело со мной. Я на одном берегу реки, а на другом зеленеет наш дом. Возможно, сейчас вы садитесь обедать или смахиваете пыль с моих книг, а может, начинаете советоваться, кому бы продать мебель, некогда купленную в рассрочку у Хаима Келлера, может, пишете письмо, которое все равно не дойдет до меня. Во всяком случае, за этой узкой рекой находится все, о чем я хочу сейчас думать. Но я этой реки не переплыву. Более того, я не в силах даже окунуться в эту реку, победить безысходность и утонуть. Так утонул тощий Тадек, так утонули Стахурский и даже Бжеский, который бросился с высокого берега, ибо хотел броситься. Я утону лишь тогда, когда меня столкнут с крутого обрыва. Хотя, честно говоря, берег мой уж не так высок, и, когда меня будут сталкивать, я не успею по-настоящему испытать стыд. Сегодня воскресенье, и поэтому пытаюсь настыдиться за все будние дни. Которые были и которые еще будут. Погоди, дай закончить мысль, Я долго готовился к этой исповеди и не исключаю, что это последняя моя исповедь. Безысходность. Различны ее симптомы, и каждый здесь реагирует на эту болезнь по-своему. Стахурский, к примеру, копил в мешочке хлеб, чтобы в один прекрасный день заткнуть глотку этой ненасытной безысходности. По-разному можно с ней обходиться, ибо прежде всего в расчет принимается финал. По-разному: по-доброму, прибегая к утонченной тактике, или по-хамски, то есть кулаком под торчащие ребра. Ведь эта безысходность тоже подчиняется лагерным законам, спит вместе с нами на жалких нарах, жрет из одного и того же котла и худеет с каждым днем, как все заключенные. Однако не всякий с ней справится. Если человеку уже нельзя дирижировать своей жизнью, он должен решиться хотя бы на то, чтобы красиво продирижировать собственной смертью. Таково средство против безысходности, и не утешай меня, так как я этим средством не воспользуюсь. Буду здесь гнить, ползать и до конца судорожно цепляться за эту паршивую жизнь. Может, все бы сложилось иначе, если бы когда-то не вошел во вкус щадящего, безоблачного существования. Я так привык избегать препятствия, что мое пребывание в Майданеке иногда представляется мне величайшей иронией Судьбы, сплошной комедией. До войны я сочувствовал красным, однако в партию не вступил, чтобы не потерять работу. На войну меня загнала всеобщая мобилизация, но и тут услужливое невезение подставило ножку. Началась битва за Ленчицу, началось наступление на Бзуре, и, следовательно, я мог хотя бы на несколько дней оказаться в столь не свойственной мне роли, в роли победителя. И тут, как нарочно, угостили меня капелькой свинца. Это не слишком опасное ранение вывело меня из строя. Возвращаясь домой, я навестил аптекаря, пана Феликса, чтобы выплакаться ему в жилетку. Он был первым человеком, который убедил меня, что не все еще потеряно. Правда, его уже давно нет в живых, а я располагаю достаточным временем для горьких сожалений. Бежали дни. Наконец начал сооружать убежище для Розенталей. Долго об этом раздумывал и долго строил и не знаю, что творится с Розенталями, но убежден, что убежище пустует. Значит, могу только поздравить себя с тем, что имел благие намерения. Клянусь, меня никто не подбивал, это была самостоятельная попытка вырваться из тенет безысходности. Бжеский… Наконец-то появился шанс приобщиться к чему-то дельному. Причем полностью. Он дал мне на хранение два пистолета, мешочек с патронами и несколько гранат. Хороший почин. Финал значительно хуже. Из этих пистолетов уже никто не выстрелит, даже когда кончится война и будут палить в честь победы. Бжеский мертв, хотя мог и выжить, он был тверже, выносливее и моложе. Мертв и молодой Кортас, связной Бжеского. А только они двое знали, где спрятан тайный арсенал. Может, ты входишь сейчас в сарай, берешь щепки на растопку, а щедро смазанные пистолеты там полеживают и посмеиваются над Яном-неудачником. Неудачником? Над Яном, который родился под счастливой, счастливейшей звездой. Еще в Замостье мы узнали, что семнадцатилетний Кортас претерпевает муки адские в гестапо — доме Черского возле монастырского подворья. Я тогда подумал вполне резонно: сначала Кортас, потом примутся за меня. Могло ли быть иначе? Могло. И привезли меня сюда, без остановки на станции Черской, ни о чем серьезном меня не спрашивая и практически ни в чем не обвиняя. Ведь нельзя же придавать существенное значение допросу в Ротонде. Погоди, не ссылайся на войну, ведь я не ради того исповедуюсь, чтобы получить от тебя отпущение грехов, поцеловать епитрахиль и смиренно дожидаться какого ни на есть избавления. Нет у меня надежды, но и далек я от смирения. Ничего нет, кроме мыслей о не слишком удачной жизни. Но от этих мыслей я завтра тоже отрекусь. Раз не требовали от меня каких-либо признаний, то по крайней мере перед собой от всего отрекусь. От слов, поступков и даже мыслей. Сам себе задаю вопросы и возражаю, крича: НЕТ! НЕТ, я не разговаривал сегодня с тобой. НЕТ, я не боюсь реки, в которой утонул Стахурский. НЕТ, я не стыжусь ни одного дня, ни единого часа, прожитого по ту сторону колючей проволоки. Если потребуется, переплыву реки. Если потребуется — утону, ибо все зависит от меня. Даже здесь, где царствует великий Хакман. НЕТ, я не так слаб, чтобы обожествлять свой страх. Мой страх не так уж свят, чтобы верить в его всемогущество. Сегодня воскресенье. Царство Хакмана разрастается, еще немного — и наши вши переползут полосу пустой, ничейной земли и доберутся до улицы Десятой. Я расстаюсь с этим воскресеньем и возвращаюсь к тому. Ты была в голубом платье, мы утонули в зеленом море, предавались любви в море зелени. И ты, всегда прекрасная, была прекраснее, чем когда-либо. От этого не отрекусь…
8
И не было пасхи. И свечи не зажглись в серебряных шандалах. И за пиршественными столами не собрались празднующие. Тот, кто свечу зажигал, тут же гасил. Тот, кто надевал талес и молитвенную рубаху, тут же снимал, ибо от подворотни к подворотне носились взмыленные жандармы и трещали двери от сокрушительных ударов. Не было пасхи, так как не было времени дожидаться Ильи-пророка. И ни Якуб Блюм, ибо его уже не было в живых, ни Иегуда Цвайгер, ни Натан Тубельбаум, ни Шлема Фукс, старцы почтенные, главы хоть и поредевших, но все еще многочисленных родов, не брали в руки книгу Хагада, чтобы возвестить вечно живую правду о благополучном исходе иудеев из плена египетского. И чтобы, возвещая эту правду высокую, несокрушимую, как гора Хорива, лучезарную, как неопалимая купина, воскликнуть таким голосом, от которого меркнут пасхальные свечи, но светлее делается на душе, исполненной горечи: — О господь, который вывел нас из долины слез, будь ныне с нами! Спаси нас еще раз. Мы готовы, пусты наши кубки, в руках наших по куску заплесневелого хлеба, на плечах наших рубище, то, что надевают в дорогу. Выведи нас из этой новой долины горя, вызволи из плена, который хуже всех пленений народа твоего. Девять бедствий обрушил Моисей на египетского властелина, нужно было еще десятое. И теперь на дверях наших кровавые знаки. Ты сторонился домов иудейских, но теперь даже молодой Ширинг наши дома не обходит стороной. Господь, гаснут семисвечники в этот вечер, тогда как должны ярко гореть. И мы гаснем, растворяемся во мраке небытия. Суждено нам плакать за столами, возле которых должна расцветать радость, как цветы на равнине Сарона. Асибе, господи, дайге. — Но не было пасхи. И то, что могло быть выплакано, вымолено истошным криком, стеарином, капавшим с серебряных и бронзовых шандалов, припечатано, осталось в перехваченных спазмом гортанях и оробевших сердцах. И никто не задержал жандармов, которые таранили двери. Никто не остановил их громогласным окриком: асибе! — хотя у всех в глазах застыл этот немой крик: беда!.. В тот вечер, когда в жилищах, где царили тиф и нищета, все-таки веяло и праздником, немцы отметили канун пышных похорон. Выгнали всех из домов во дворы, дабы люди подышали запахом завтрашней церемонии. И запахом собственной крови, поскольку не одни приклады пошли в ход, раздались и выстрелы. А на второй день пасхи грянул военный оркестр и комья жирной земли посыпались на дубовый гроб, в котором опочил жандарм Борманн. Этот Борманн ничем особенно при жизни не выделялся. Бил, убивал, гонял по улицам городка евреев и поляков, то есть работал нормально. Возможно, был менее расторопен, чем Ширинг, возможно, был чуть получше Визенберга. Сносно говорил по-польски и погиб от польской пули. Впрочем, фамилия его писалась через два «н», и, следовательно, даже при наличии самой буйной фантазии не могла возникнуть какая-либо параллель между заурядным покойником и незаурядным здравствующим Мартином Борманом. Между тем, щебжешинские жандармы обезумели, словно обыкновенное покушение на скромного Ганса действительно подрывало основы третьего рейха. Только не разобравшись, кто убил Борманна, набросились на евреев. В своем рвении они опережали секретные директивы, спущенные из Замостья и Билгорая, касающиеся окончательного решения еврейского вопроса. Началась стрельба по евреям и в седер песах, и в другие дни пасхального праздника. И начали вытаскивать их на улицу, чтобы дробление костей перестало носить камерный характер. А после того как жандарм Борманн был предан земле, а евреи в порядке возмездия преданы огню и мечу, юденрат получил от начальника жандармерии распоряжение, чтобы на свежую могилу был срочно возложен венок от евреев. Юденрат сделал, что требовалось и даже чуточку больше, так как еврейский венок отличался необыкновенной пышностью и все остальные венки затмил. О Ягве, о боже, свечи уже погасли, даже рыдания заглушил военный оркестр, о чем тут еще говорить? Несколько дней спустя у начальника жандармерии Фримера снова возникло дело к маститому юденрату, и, не вдаваясь в детали, можно сказать, что дело было, несомненно, первостепенной важности. Ибо было принято историческое решение о создании в Щебжешине еврейской полиции. В других городах об этом уже давно позаботились, но Щебжешин лежал в стороне от других городов, впрочем, могли играть роль и особые соображения, о которых Фример не был обязан докладывать юденрату. Так или иначе, в конце апреля появились на щебжешинских улицах молодые, энергичные полицаи в гражданских пыльниках, куртках и пиджаках, в одинаковых фуражках с ярко-голубыми околышами. Несколькими днями позже Доба Розенталь и ее дочь Сабина вышли перед самой полуночью из вымирающего дома. На втором этаже плакал ребенок Зоненшайнов, за которым присматривала Сара Вульке, но Саре Вульке было уже семьдесят лет, и, потеряв мужа, который был еще старше, она перестала отличать плач чужого ребенка от собственного плача. Когда Зоненшайны почти в одночасье захворали сыпняком и на скрипучей тележке их свезли в еврейский изолятор, трехлетний Ицхок мог более полагаться на счастливую судьбу, благосклонность небес и сопротивляемость своего организма, нежели на дряхлую Сару. — Дитя, сиротка! — причитала Сара, а Ицхок перекрывал ее хныканье своим плачем, почти заглушал, и это был утешительный признак, что легкие у него еще в порядке. Итак, они выходили из дома. С минуту все же постояли в широко открытых дверях, и громкий рев маленького Зоненшайна проник во все углы коридора. В одном углу стояла расстроенная Ревека Пятьминут, которая открыто презирала и беглянок, замерших на пороге, и старую Сару, и маленького Ицхока, и весь этот дом, воняющий квашеной капустой, хотя бочки из-под нее уже давно пустовали. Карболкой воняющий дом, мазью от чесотки, прогоркшим жиром и кошками. После смерти ребенка Ревека Пятьминут пыталась как-то опамятоваться, и одно время все уже было поверили, что ей это удастся. Но увязла она в своем горе, как в смоле, и не было для нее спасения. Начала вдруг радоваться чужим бедам, словно видение ей было, что именно так поступать надлежит, ибо ниспослан на землю приговор Моисеев, согласно которому всем евреям суждена одинаковая участь. И начала презирать тех, которые хотят судьбу свою обмануть, подкупить, спрятаться от нее, юркнуть в лисью нору. В другом углу стоял Натан Рубин, родом из Быдгощи, а точнее, из Влоцлавека, где оставил свой размах, энергию, родительские могилы и два доходных дома. Теперь Рубин стоял в темном углу сумрачного коридора, вытирал костлявые пальцы об окровавленную рубашку, поскольку минут пять назад зарезал в кухне кролика, и добродушно улыбался Добе Розенталь. Рубин — это Рубин, все ему здесь симпатизировали, и все из-за чего-нибудь на него дулись. Он сумел поладить со старым Якубом, который задолго до своей кончины предрекал страшный конец иудеев. И ухитрялся спокойно дискутировать с молодым Пятьминут, который захлопывал дверь перед носом Якуба, чтобы тут же ее отворить и отвести душу, выкрикивая яростно: — Ах, до чего ты закоренелый идиот, Якуб! Тебя бы даже Левиафан не проглотил, он бы тобой подавился. Ты не стращай нас всякими ужасами, ты ищи в священных книгах таких слов, которые бы нас спасли. — Якуба уже нет, молодой Пятьминут еще жив, только ноги у него опухли, руки опухли, и отрекся он от бунтарства, как от смертного греха. А Натан Рубин стоит в углу, улыбается, костлявые пальцы о рубаху вытирает, и надеждой светятся его глаза, так как не думает он о том, что будет завтра, а о кролике, уже освежеванном, который будет сегодня. Рубин доверяет пророкам, дал бы отсечь себе указательный палец за Пятикнижие Моисея, а родившейся вскоре после начала войны дочери дал имя Эстер, дабы в тяжелые времена оно напоминало бы ему, что мудрость и хитрость берут верх над грубой силой. Разве не мудростью одолела Эстер крайне мстительного Амана, который вознамерился погубить иудеев? Та ли это мудрость? Рубин объясняет себе, что если даст отрубить один указательный палец во имя Торы, то останется у него еще один указательный палец для вершения дел земных. Рубин боялся греха, но еще пуще боялся войны, глада и мора. Поэтому ел кошерное мясо, ел то, что не было трефным, выбирал, пока предоставлялась возможность. Но когда уже весь свет сделался трефным, Рубин перестал выбирать и даже убедил жену, что если на обеденном столе лежат только священные книги, то ожидание мессии становится святой наивностью. Ведь ждать надо терпеливо, а кушать по крайней мере два раза в день. — Ну и что, сколько умного наговорили, а теперь к гоям, к иноверцам сматываетесь? — бросает из одного угла Ревека Пятьминут и саркастически посмеивается, словно уличила Добу в краже муки из кухонного шкафчика. — Ну и что, не дождетесь шабеса и тайком прямо в Иерусалим? А когда на вершину Синая взберетесь, чтоб небо над вами разверзлось! Да будет так. — Пани Розенталь, я желаю вам большого счастья, — подает голос из другого угла Натан Рубин и снова руки о рубашку вытирает, хотя руки гораздо чище рубашки, пропотевшей и перепачканной кровью. — Я желаю вам всего, что может теперь еврей пожелать порядочному еврею. Пан Розенталь был весьма значительный человек, а принял нас, как родственников. Завидую вам, но скажите, куда мне бежать с таким малышом? А когда через два дня уже наступит праздник, то, пожалуйста, испеките кугель, и скушайте его, и чуточку нам отложите, хотя бы на маленькое блюдечко.
И вышли они перед полночью из дома. Сабина несла туго набитую клеенчатую сумку, Доба сгибалась в три погибели, хотя ничего не несла. Петляя среди домов, затаиваясь в подворотнях, пробегая чрез темные дворы, они выбрались из города. Из того города, где еще несколько дней назад хотели умереть. Шли молча по влажному лугу, который льнул к их усталым стопам, как пушистый ковер. Шли, пока Доба не уселась под трухлявым тополем, еще высоким, еще шумящим, но уже неотвратимо приговоренным к смерти. — Идем, мама, тут нехорошее место, тут кто угодно может нас увидеть. Найдем какой-нибудь лесок, тогда отдохнешь, — прошептала Сабина. Мать молча покачивалась, словно ее расшатал весенний ветер, и немного погодя, лишь после того, как раздосадованная Сабина, бросив сумку на траву, присела рядом с ней, раздался ее благоговейный голос: — Оглянись, Сабина, взгляни повнимательнее, ведь почти ничего уже не видно. — Не видно, — согласилась Сабина, она смотрела на мать, а не назад. — Там наш город, — голос Добы Розенталь окреп от нарастающей боли, — там остался мой муж и твой отец, там осталось все, что мы имели… — У нас еще есть жизнь, — осмелилась вставить Сабина. — Есть или нет. Что ты знаешь о жизни? — воскликнула мать и тут же умолкла. Снова закачалась, почти касаясь лицом подогнутых колен. На каком-то дворе в километре или в двухстах метрах от них вдруг залаяла деревенская собачонка. Лай прозвенел над лугом, как предостерегающий голос нормального, вопреки всему, мира, где опасность и страх по-прежнему были в цене. Доба перестала качаться, прислонилась к немощному стволу тополя и произнесла почти шепотом: — Я должна тебе кое-что высказать, именно сейчас и на этом месте. Хочу, чтобы между нами не было неясности. Оглянись, я не бегу оттуда, хотя Ревека очернила меня таким обвинением. Я даже не ухожу оттуда, а только иду с тобой, ибо такова воля Леона Розенталя. И хотя на смертном одре он не успел ее подтвердить, я знаю, что решения своего не изменил. А теперь веди меня, ибо я слепа. Вижу лишь то, что оставила там, а впереди — ничего. — Она подымалась до того медленно, что Сабина в сердцах дернула ее за рукав пальто. — Я не слепая, хотя едва не ослепла от слез. Ты не оглядывайся, смотри вперед и вдыхай запах травы. Тут все пахнет иначе, чем там. — Что из того? — возмутилась Доба Розенталь. — Мы уходим украдкой, обрываем корни, которые связывают нас с этой землей, а ты все еще ничего не понимаешь? — Не понимаю? — Сабина засмеялась, и в ее смехе послышалась горькая ирония. — Не понимаю? — и бросилась бежать по ровному, как стол, лугу, и у нее закружилась голова от чистого ночного воздуха. Дожидаясь отставшую мать, она не только ногами, всем телом ощущала плавное колыхание весенней земли. И когда мать наконец поравнялась с ней, шаркая тяжелыми ботами по высокой траве, Сабина без запинки выложила те полусвятые, полукощунственные мысли, которые неотступно сопутствовали ей до самой окраины города. — Не понимаю? А что тут понимать? В одном углу стояла Ревека, которая желала нам погибели, в другом углу стоял Натан Рубин, который желал нам всего хорошего. Немцы заберут Ревеку из одного угла, заберут Натана из другого угла и столкнут их в общую могилу. Чего тут понимать? Если уж кому-то непременно захотелось умереть, то лучше здесь, на лугу, в лесу, под ароматной сосной, на проселочной дороге. И это будет уже совсем другая смерть. — То есть какая же она будет? — осведомилась мать настороженным, прерывающимся от одышки голосом. — Она будет красивой и более похожей на человеческую. К чему так глупо рваться на кладбище, где и без того страшная теснота. К чему преклонять колени над огромной ямой, где труп на трупе? Можно быть овцой и жить в стаде, только зачем умирать в стаде? — Саба, Сабина, дочь моя! — согбенная женщина вдруг выпрямилась и воскликнула столь громогласно, точно в эту ничтожную долю секунды ощутила в себе мощь патриарха Авраама, от которого ведут род свой иудеи, и веру пророка Моисея, который предводительствовал евреям, когда они шли из Египта в землю обетованную. — Саба, я должна тебе это сказать! — Что ты хочешь мне сказать? — Сабина подошла к матери и крепко обняла ее левой рукой, так как в правой все еще держала клеенчатую сумку с остатками имущества. — Уже ничего… — простонала мать после долгой паузы, — я не могу найти с тобой общего языка. Ты всегда предпочитала разговаривать с отцом. Уже ничего. — И они молча зашагали по лугу, влажному от утренней росы. Обошли стороной какую-то деревушку, обозначенную на карте ночи отчаянным лаем собак, поплутали по небольшому довольно густому лесу, и, когда рассвело, путь им преградила мутная речка, подмывающая вербы, благоухающая рыбой и аиром. Сабина коснулась коленями мокрого песка, зачерпнула пригоршню холодной, желтовато-розовой воды и обрызгала себе лицо. — Теперь я крещеная! — крикнула она матери. — Мне здесь разрешается жить, и сейчас мы будем завтракать. — Доба Розенталь не нарушила молчания, с которым вошла в сговор несколько часов назад. Она смотрела на дочь, на человека ей близкого, но так изменившегося за время долгого и рискованного пути. Смотрела прищурясь, так как солнце начало совершать омовение в воде, а Сабина сидела у самой воды. Лицо то же самое, и голос мало изменился, но что может сделать с человеком такое путешествие. Он вроде бы прежний и вместе с тем совсем иной. Доба Розенталь могла бы теперь точно сказать, когда Сабина начала опасно отрываться от земли. Пока прощались с пустым домом, где жило еще сонмище Натанов, Файвелей, Енахов, Сар, Ревек, Фрум, но не было уже Леона Розенталя, все еще обстояло нормально. Пока, сгорбившись, пробирались вонючими подворотнями, безлюдными дворами и порой приходилось не дышать, если раздавался стук кованого сапога по тротуару, Сабина была еще прежней Сабиной. Лишь позднее, когда надышались ветром на лугу и далеко позади осталось кладбище и трупный запах еврейских домов, Сабину что-то подхватило и увлекло вверх. Оторвалась она от своей земли, а когда снова на нее упала, то ступила уже не на свою землю.
Доба Розенталь еще раз перебирала в памяти все подробности и маленькими глотками пила эрзац-кофе с сахарином. Если память принуждать к чрезмерным усилиям, то память часто начинает вскипать и разыгрываться, как река в половодье. И неудивительно, что эта полая вода вышла из берегов, залила луг с умирающим тополем, быстро управилась с щебжешинскими улочками и уже начала подбираться к пузырьку из-под лекарства, где Доба Розенталь хранила сахарин. Бутылка как бутылка, средней величины, зеленого стекла, а какое в этой бутылке богатство. Можно его быстро и с относительной точностью оценить, вычтя четыре белые таблетки, растворенные в кофе полчаса назад. В прошлом году Леон Розенталь купил сто таблеток за тридцать злотых, а затем сто таблеток за сорок пять злотых. В январе Доба насыпала в зеленую бутылку двести таблеток, заплатив Бене Драбинке сто двадцать злотых да еще угостив его рюмкой медицинского спирта. А когда Леона привезли из инфекционного изолятора, где он отчаянно боролся с сыпным тифом, Доба на радостях крайне легкомысленно выложила за двести таблеток двести злотых. А Беня еще рвал на себе волосы и божился, что эта самая убыточная сделка за всю его долгую жизнь. А может, он был прав? Ведь если вдуматься, то увидишь, что сбываются самые мрачные предсказания и все дорожает, за исключением жизни.
Щеки Сабины порозовели от утренней свежести и утреннего солнца. Она собирает крошки. Ест неторопливо, с надлежащей осторожностью, ведь лепешки мать пекла на жаровне всего-навсего из затхлой муки с солью, замешенной на воде, и поэтому они не могут не крошиться. К тому же пекла она их в прошлую пятницу, значит, четыре дня назад. — Слышишь, Сабина, слышишь? — воскликнула Доба Розенталь, и крошки, которые Сабина держала на раскрытой ладони, высыпались, упали на землю, как манна небесная. Тарахтенье колес так внезапно раздалось над тихим берегом реки и глубокими выбоинами дороги, у которой они сидели, что ни та ни другая даже не подумали о бегстве. Услышали пофыркивание лошади, крестьянская телега медленно выезжала из низкорослого кустарника, а они сидели недвижимо, повернувшись боком к этому воплощению их неопределенной судьбы, катившей на четырех колесах. Мужик заметил сидящих женщин, собрался было что-то крикнуть, уж и рот широко разинул, но возглас застрял в горле. Присмотрелся к Добе Розенталь, а к другой, что помоложе, даже не стал присматриваться. Все было ясно, как этот весенний денек, который начинался так безоблачно. Лошадь шла не спеша, пожалуй, даже замедлила шаг в нескольких метрах от окаменевших женщин, а мужик, все еще с открытым ртом, заинтересовался вдруг макушками придорожных сосен. И тут Сабина очнулась. Сперва услыхала учащенное биение пульса, потом резко и болезненно кольнуло под левой грудью, а чуть позже она как бы впервые открыла солнце, запах реки и цвет травы. А значит, должна была немедленно принять этот мир, который секунду назад ее принял. — Добрый день! — крикнула весело и, словно ошеломленная собственной радостью, повторила еще громче: — Добрый день! — Мужик оставил в покое макушки сосен, повернулся к девушке и широко, беззубо осклабился. Его бурое от дождей, солнца и ветров лицо, изрезанное тысячью морщин, еще больше сморщилось от широкой улыбки. Он приподнял шапку, и его голова, покрытая редкими волосами, показалась Сабине слегка помятым глобусом, на котором неискушенная рука начертала складки горных массивов, пологие закраины долин, русла рек и речушек. Мужик дернул вожжи, и лошадь остановилась, точно заранее подготовленная к подобному развитию событий. — Куда же это вы? — захрипел он, так как не успел еще соорудить цигарку и прочистить махорочным дымом легкие. — Туда, пожалуй, туда. — Сабина показала рукой на кустарник, откуда только что выкатилась крестьянская телега. — Что ж, можно и гуда, — произнес мужик, подумав, — всюду можно, только с умом, немцы-то всюду охотятся. Вчера, к примеру, были в Радечнице. Они по-ястребиному где-то вверху парят и невзначай оттуда пикируют. То заберут из Радечницы, то заклюют кого-нибудь в Горае или в Сулове. Я-то еду во Фрамполь, вам, надо полагать, не по пути? — Нам в другую сторону, — ответила Сабина уже почти уверенным тоном, этой уверенности еще не набралось столько, чтобы прямо спросить дорогу на Избицу. — Что ж, можно и в другую сторону, только будьте осторожнее, ведь они наскакивают, как ястребы. И так вот напоказ выставляться не надо. Голодные? — Пожалуй… — Сабина невольно покосилась на клеенчатую сумку, из которой высыпались несколько почерневших морковок, две луковицы и три основательно подгоревшие лепешки. Мужик сунул руку в мешок из-под овса, порылся в нем, вытащил харчи в холщовой тряпице и удивительно метко бросил узелок прямо под ноги Добе Розенталь. — Храни вас господь! — крикнул он во весь голос, пересилив хрипоту. Причмокнул, тряхнул вожжами и, уже не оглядываясь, поехал вдоль реки. Потом дорога свернула в поле и затерялась в сосняке. Скрипучая телега тоже исчезла в лесу. Лишь теперь Сабина начала развязывать узелок. Доба видела еще как сквозь туман быстрые пальцы дочери, зажмурилась, а когда снова открыла глаза, на холщовой тряпице красовались ароматный деревенский хлеб и кусок желтоватого сала. — Мама, он не бросил в нас камнем, — сказала Сабина так тихо, что едва расслышала собственный голос, и в тот момент, когда все тени, зловещие подшептывания и страхи превратились в буханку хлеба, Сабина Розенталь заплакала так громко, что самая опытная профессиональная плакальщица позавидовала бы ее рыданиям.
Юзик поцеловал Буковской руку и долго столбом простоял посреди комнаты, дожидаясь, когда ему предложат сесть. Пока Витольд сновал по квартире, разговор за столом не клеился, юноша не был расположен к этому лысоватому мужчине в кожаном пиджаке и довольно быстро ушел. Буковская не видела зятя с начала войны, но многое знала о нем и не по письмам сестры, так как письма эти приходили очень редко, а Юзик вырисовывался в них фигурой довольно туманной и таинственной, то достойной уважения, то жалости. И только Витольд привез из Щебжешина известие, которое Буковская приняла, впрочем, с некоторой сдержанностью, но даже эта сдержанность не могла притупить презрения. Витольд рассказывал главным образом о тетке, о складе еврейской мебели в ее квартире, о буфете, набитом ветчиной, яйцами и колбасой, о соседях, которые всячески поносили тетку Ванду. И лишь упомянул в разговоре с матерью о том, что Юзик возил немцев и был ранен в какой-то перестрелке. Буковская истолковала эту совершенно неправдоподобную историю на свой лад. Разгадала ее, как шифр, с помощью генетического кода. Ведь в жилах Ирены и Ванды текла одна и та же кровь. Следовательно, с точки зрения генетики Ванда могла чем-то отличаться от Ирены. Могла быть немного лучше или немного хуже, но она так низко пасть не могла, ибо ничего подобного в их роду не наблюдалось испокон веков. Значит, если и есть какая-то доля правды в печальной повести Витольда, то главную ответственность следует возложить на лысеющую голову Юзика, поскольку жена — ветвь семейного древа, и если это древо гниет, хиреет, источается червями, то и ветке не избежать напасти. Смотрит Буковская с еле скрываемой досадой на белого как мел Юзика, который всего восемь дней назад выписался из больницы и у которого такая страдальческая мина, словно он все еще тоскует о больнице. Сколько кроется в человеке тайн, ведь их до гробовой доски приходится разгадывать. Кто это сказал Юзику, что он ничего не добьется в жизни, если всем будет уступать дорогу? Может, Ванда, может, Ян, а может, даже сама Ирена? — Есть хочешь? — осведомляется она без особого энтузиазма. — Нет, я к тебе на минутку, — отвечает Юзик, нервно перебирая сигареты. Он вытащил пачку из кармана, едва присев к столу, но только сейчас ее распечатал. Буковской приходит в голову, что Юзика смущает отсутствие пепельницы, все они были убраны на другой же день после ареста Яна. То ли это был какой-то символический жест, то ли слишком живо эти стеклянные, металлические и фаянсовые безделушки напоминали о человеке, который смолил по двадцать штук сигарет в день. Она направляется к шкафу, выдвигает нижний ящик и, секунду поразмыслив, берет самую неказистую пепельницу. Даже Ян однажды хотел ее выбросить, так как она исключительно безобразна и вдобавок еще с трещиной. — Пожалуйста, закуривай, — говорит сухо Буковская, ставя перед Юзиком фаянсового лебедя, напоминающего ощипанного гуся. — Ах нет, я покончил с курением, — усмехается Юзик и, чтобы не оставалось на этот счет никаких сомнений, прячет пачку в карман пиджака, — пуля повредила легкое. Ничего страшного, на какое-то время врачи рекомендовали воздержаться от курения. — Так зачем же носишь сигареты? — пожимает плечами Ирена. — Кто его знает? — Юзик с минуту размышляет, уставясь в потолок, а ей вдруг начинает казаться, что он ради того и приехал, чтобы пялиться в потолок и вынюхивать тайник, который находится прямо у него над головой. — Кто его знает… — голос Юзика сникает, и все отчетливее слышится в нем детская беспомощность. — Когда держу пачку в руке, мне кажется, что у меня есть хоть капля силы воли. Что в любую минуту могу затянуться, но не хочу. — В кухню ворвался Витольд. Они видели его в приоткрытую дверь, слышали, как хлопает дверками буфета, и сидели молча, избегая смотреть друг на друга. А когда на кухне воцарилась тишина, Ирена, подавив в себе остатки гостеприимности, проговорила резко, без обиняков, не только от своего имени, а как будто и Ян сидел за этим столом: — Ты не должен был приходить сюда, это порядочный дом. У жандармской комендатуры стоит серый автомобиль. Ты с ними приехал? — Я пришел кое-что объяснить тебе, — начал Юзик спокойно, и поэтому она еще раз крикнула: — С ними приехал? — С ними, именно на этой серой машине, но я просто присоединился. Воспользовался случаем, Бауэр едет в Люблин, мне тоже надо в Люблин. — Кто это такой? — Ирена попыталась сдержать гнев, и на мгновение это ей удалось. — Бауэр? Жандармский начальник в Звежинце. Он задержался здесь, чтобы утрясти какие-то еврейские дела, поэтому у меня есть немного времени… — А на кой черт мне твое время? — перебила его на полуслове Буковская. — Наших евреев уже нет, теперь у вас остались еврейские дела. Не теряй времени на болтовню, а то Бауэр тебя облапошит. Освободи помещение и займись еврейскими делами. — Ни единый мускул не дрогнул на бескровном лице Юзика. Он поднял вверх, выше головы, правую руку: — Плюйся на здоровье, но дай мне высказаться, — произнес он спокойно и бесстрастно. — Сперва ты меня выслушай! — крикнула она, подчеркивая свой крик ударом кулака по столу. — Знаешь, что тут творилось в конце марта? Когда я была еще девчонкой-школьницей, ксендз стращал нас адом. Я здесь в марте видела ад своими глазами. А ты что-то собираешься мне объяснять. Мог бы прийти сюда с Бауэром, он бы объяснил поподробнее! — Юзик уронил голову и оперся лбом о край стола. И теперь она увидела, что он действительно здорово облысел. Жиденькие прядки волос, приклеенные брильянтином к отполированному черепу, напоминали пунктирные линии, небрежно намеченные водянистой тушью. Она смотрела, немного обескураженная, на эту облезлую, совсем не идеальной формы голову, на хилые плечи, обтянутые черной кожей пиджака, на нервно дрожащие пальцы, в которых снова очутилась пачка сигарет, и неизвестно почему подумала, что Юзик скорее похож на арестанта, чем на шпика. Во всяком случае, ощутила внезапное облегчение и, пожалуй, даже удовлетворение, ибо затянувшееся молчание Юзика было ее победой. Но именно в этот момент, когда подумала, каков же практический смысл этой маленькой, частной победы, Юзик поднял голову, закурил сигарету и, кашляя, давясь дымом, спросил: — А ты знаешь, куда я еду? — Сказал, что в Люблин. — Фигушки, — рассмеялся он торжествующе, но заранее запланированный бравый смех получился крайне жалким из-за нового приступа кашля, — все знают, что в Люблин, что в служебную командировку, — черта с два, сплошная липа. Еду на край света, удираю. — От кого? — Буковская взглянула на зятя недоверчиво и гневно, полагая, что он ее разыгрывает, но в глазах Юзика был животный страх, а тем, кто так пуглив, не до розыгрышей. — От кого? — повторил он вопрос Ирены, и выражение лица его как бы смягчилось. — От себя, от следующей пули, которая может оказаться более меткой, от родни, от немцев, от тьмы могильной. — В комнате стало тихо. Юзик держал в пальцах дотлевающий окурок, и не подносил его ко рту, словно не желая нарушать кашлем этой тишины, почти благоговейной, праздничной, которую порой дожидаются целыми месяцами. — От немцев, может, и сбежишь, — сказала наконец Буковская, — и от родни, и даже от следующей пули, но убежишь ли от собственной совести? — А что ты знаешь о моей совести? Когда в мире все образуется по-человечески, я рассчитаюсь за каждый грош, за каждую минуту и, надеюсь, петлю не заслужу. — Ей не хотелось лишать его последних иллюзий, в которых даже смертникам не отказывают, и поэтому, глядя в меру безразлично на это лицо, как будто обескровленное, белое, теперь мокрое от пота, она спокойно осведомилась: — Почему ты все это говоришь мне? — Только тебе, даже Ванда не знает моих планов! — воскликнул он обрадованно, словно вдруг добрался до тайной тропы, с которой начнется его грандиозный побег. — Ты, вероятно, болен и должен лечиться, а может, сбежал из больницы? — Ирену охватил ужас. Она всматривалась в его лицо, а думала о своей сестре. — Напаскудил, натворил всяческих мерзостей, а теперь бросаешь Ванду на произвол судьбы? — Юзик зашипел от боли, так как догорающая сигарета прилипла к пальцам. Раздавил окурок в пепельнице — надтреснутом лебеде, похожем на гуся, вздохнул с облегчением, и это могло быть признаком того, что обожженные пальцы перестали саднить, но могло также свидетельствовать о том, что на него вдруг снизошло некое душевное умиротворение. Он отодвинул пепельницу на середину стола и заговорил без гнева и мольбы о помощи, без сожаления и протеста. Как говорят о погоде, или жестяном петушке-флюгере на крыше, или шинковке капусты. Ошеломила Ирену эта холодная одержимость, эти ледяные слова, извлекаемые из огня. — Ты мало знаешь, и не говори, что видала ад. Немного трупов видала, немного горя. Для избицких евреев настоящий ад начался, когда их эшелон дополз до Белжеца. Знаешь, что такое Белжец? Даже если слыхала, не имеешь понятия. Кто сам не видал, тот ничего не знает, ведь нормальному человеку такое и не приснится. Я бегу. А где мне спасаться? Убегу от немцев — так наши меня прищучат, наших проведу — так самого себя не проведешь. Что лучше? Все плохо, однако бегу. Ты мне сказки рассказываешь про ад? Прямо по адресу. Я возил туда разных унтер-штурмфюреров и гауптштурмфюреров. Они утрясали что-то с этим чудовищем — Виртом, а я пил пиво и глазел на платформу, которая находится в центре лагеря и с которой все начинается. Они управлялись с выгрузкой самого крупного эшелона за пятнадцать минут. На площади у платформы — первая сортировка. Женщины и дети — вне очереди. Раздевание, стрижка волос, и без задержки — в газовую камеру. Сначала зарывали трупы, а уж потом стали сжигать. Я видел этот дым, смрадный, как будто горела фабрика резиновых игрушек. Видел пустые составы, которые из этого ада возвращались. Пекло, ад. Захолустное местечко с мельницей, лесопилкой, винокурней и горящими людьми. А знаешь, что было в Туробине, что творится в Билгорае, в Звежинце, Тарнограде? Я имею в виду не только евреев. Везет мужик зерно, трах — и нет мужика, а конек трусит себе, знает дорогу на мельницу. Мой хозяин, мой жандарм, кричит мне: езжай, езжай! И разъезжаемся — мы в одну сторону, а убитый мужик — в другую. Через полчаса жандарм показал мне фотографию своей жены и двух дочурок. Мы осушили по кружке холодного пивка. За здоровье его Марты или Инги. Я спросил: обязательно надо было стрелять в мужика? Не обязательно, говорит он спокойно, да как-то по семье взгрустнулось, злость взяла, что не дают отпуска… Что ты видела? А разве я сознательно лез в этот бардак? Хотел работать, получить надежные документы, прилично зарабатывать. Велик ли грех? Начал с обслуживания арбайтсамта, биржи труда. Тогда что же говорить о машинистах, которые водят немецкие поезда? Я избавил кое-кого из знакомых парней от отправки в рейх. Они уже были в списках на принудиловку, все же я своего добился. Тогда еще думал, что удастся кое-кому помочь. Посыпались взятки, люди сами совали. Дескать, ты можешь, ты сумеешь, у тебя связи. И совали. И угощали. Приходилось пить, поскольку все глубже увязал в дерьме, но еще чувствовал вонь. Из арбайтсамта меня перевели в распоряжение крайсгауптмана — начальника района в Билгорае. Я уже стал настоящим фоксом, но еще не законченным подлецом. Был у меня тогда какой-то шанс, пожалуй последний. Был, да быстро сплыл. Врос я, то есть погряз по колено в дерьме. А Ванда точно с цепи сорвалась. Знаешь, как выглядит человек, заболевший жаждой золота? Морда у него желтая, глаза желтые, и желчью он исходит. Моя желчь вылилась вместе с кровью, а Ванда как спасется? Это она подбивала меня на самые выгодные махинации, нашла ходы к самому Фримеру, обделывала какие-то делишки с бургомистром. Я даже как-то подумал: глупый, лысый фокс, а может, ты делаешь карьеру только потому, что жена твоя подталкивает тебя вверх? Может, это она своими нежными пинками так высоко тебя подкинула? Не косись на меня за то, что так о сестре твоей отзываюсь. У меня своя голова на плечах, я знал, что делаю. И теперь знаю, что делать. И чертовски рад, что хоть так отыграюсь. Всех надую, обведу вокруг пальца. Сегодня я еще налицо, а завтра меня не будет. Хоть так отыграюсь.
Элиаш Вассер присел на корточки у пахучей молодой елки, откашлялся, выждал момент и гаркнул громче, чем намеревался: — Стой, стой, ни шагу дальше! — Он не отличался хорошим зрением, но не надо быть зорким соколом, чтобы с расстояния двадцати метров разглядеть двух женщин, к тому же идущих по самой середине лесной дороги. Женщины остановились, и та, что постарше, даже подняла руки вверх. Элиаш слегка смутился, ибо, хоть и поступил как положено, не усматривал в этом поступке глубокого смысла. Поэтому сунул заржавленный револьвер за потрескавшийся ремень и вышел навстречу женщинам. Он был уже на полпути к ним, когда та, что постарше, вдруг опустила руки и закричала с неожиданной яростью: — Ты мог бы с успехом выстрелить, глупый, вшивый Ицек! Чего уставился, как будто привидение увидал? Что ты вопишь из-за куста, лучше молчи и стреляй, очень тебя прошу! — И она принялась торопливо расстегивать длинное черное пальто, словно сомневалась, что пулька из такого револьвера не пробьет первосортное сукно. Элиаш быстро заморгал, точно слова пожилой еврейки превратились в сухой песок, в целую горсть сухого песка, брошенную ему прямо в глаза, а женщина стояла в пяти шагах от него и продолжала кричать, размахивая полами пальто, будто черными крыльями: — Что ты моргаешь? Зачем тебе этот револьвер, если ты понятия не имеешь, для чего он служит? — Элиаш спрятал руки в карманы, и был это явно пацифистский жест, он недвузначно исключал возможность стрельбы. Но в то же время вносил осложнения морально-этического порядка. Следовало осуществить выбор между недвузначным пацифизмом и хорошими манерами. Элиаш пришел к выводу, что миролюбивые чаяния важнее, поэтому поклонился, не вынимая рук из карманов драных штанов, и, еще глубже пряча руки в карманы, произнес: — Во-первых, я не Ицек, а Элиаш Вассер из Хелма. Надо ли называть улицу и номер дома? Во-вторых, может, я и глупый, с этим еще кое-как можно жить, но не вшивый. Не ради того я от первого встречного жандарма убегаю, чтобы от первой встречной вши схватить сыпняк и подохнуть. В-третьих, теперь даже иноверец среднего качества не позволит себе таких обидных выражений при виде живого еврея. В-четвертых, зачем мне вас убивать, если я вас вообще не знаю? Я еще никого не убил, так почему должен был начать с убийства еврейки? Зрение меня подводит, вот теперь я вижу, кто стоит передо мной, и мне даже очень приятно. В-пятых… — В-пятых? — Доба Розенталь застегнула свое черное пальто и замахала рукой, очевидно давая понять, что четыре довода Элиаша вполне исчерпывают инцидент, Элиаш же был иного мнения. — В-пятых, — молвил он с достоинством, — когда я кричал: «Стой, стой, ни шагу дальше», то имел на это право, не говоря уже о долге. — А почему бы не сказать? — Доба отряхивается от пыли, опускает голову, и Элиаш, возможно, не замечает, что губы ее кривятся в иронической усмешке. — У нас одно право — побыстрее лечь в сырую землю. — Мне не к спеху, подожду шикарный катафалк, — парирует Элиаш и начинает посвистывать, подражая голосам птиц. — Один подождешь? — напоминает о своем существовании Сабина, и трудно догадаться, чего больше в этом вопросе — насмешки или неподдельного любопытства, так как лицо у Сабины раскованное, просветленное, а глаза хмурые, словно взяты с совершенно другого лица. Элиаш сходит с песчаной дороги, прислоняется к молодой сосне. Деревцо выгибается, вот-вот оно превратится в катапульту и подбросит тощего парня выше макушек столетнего леса. — Нас тут несколько человек, и все евреи — отступники, которые не поверили, что достаточно накинуть талес — и пуля тебе не страшна, а если прицепишь на голову и на руку тефелин, то рука превратится в щит. Они сейчас там, где надо, а я караулю, чтобы могли по-человечески отдохнуть. А когда караулят, то кричат: стой! Таков закон. Выражаюсь ли я достаточно ясно и доступно? — Сабина сидит на черном от старости пне. Минуту назад принялась копаться в клеенчатой сумке, даже нащупала черствую горбушку, и пальцы замерли. Ибо Сабина начала вдруг присматриваться к тощему Элиашу с такой кротостью и восхищением, словно это был вовсе не Элиаш Вассер, а настоящий Давид, который одолел могучего Голиафа, и победил филистимлян, и взял Иерусалим, и стал царем иудейским. А разве прежде, чем его провозгласили царем, и прежде, чем он создал державу, раскинувшуюся от берегов Акаба аж до Евфрата, не довелось ему скитаться, скрываться и выпрашивать кусок хлеба? Сабина откладывает сумку, ногой отталкивает ее, хочет быть подальше от хлеба, от куска сала и нескольких подгнивших картофелин. Давид выстоял и победил, благодаря сильной воле. Вот этот. В изодранных диагоналевых штанах, в куцем пиджачке с рукавами чуть ниже локтя, в рваных башмаках, из которых торчат солома и бумага. Вот он. Посиневший от голода и, наверняка, от холода — велика ли радость от того, что завтра настанет первый майский день, если по ночам трудно согреться даже у костра. Царь Давид. С рыжими волосами, взлохмаченными над низким лбом, с карими глазами, в которых нет страха. Маленький великий Давид. Без дубинки и пращи, и без острых камней, найденных в потоке, и без благостной молитвы к Ягве на устах, но зато с настоящим револьвером. А ты все иронизируешь, Голиаф, все злословишь и не веришь, что близится твой конец. Для Сабины Элиаш — первый еврей, у которого настоящее оружие и который этого оружия не прячет, носит за поясом, дабы все видели и никто не вообразил, что Элиаш дешево продаст свою жизнь. И хоть скрывается, но отнюдь не бежит. И хоть никого еще не убил, может убить, ибо такая мощь в его глазах, в сердце и в этом револьвере. — У тебя много патронов? — Вопрос доходит не сразу. Может, он задумался о своей обширной державе, простирающейся от Сулова до Мостиск или даже до Жулкевки. Он уже поглаживает револьвер. — Сколько патронов? Четыре. Их надо экономить, ведь это редкий калибр. — Должно быть хотя бы пять, — вздыхает Сабина с сожалением. — Почему именно пять? — Ведь у Давида было пять острых камней, когда он шел на Голиафа. — Давид? Какой Давид? Ах тот… — Элиаш встряхивает копной рыжих волос и смеется.
Витольд сел на велосипед только за мостом. Первый день отработал. В голове шумит от избытка впечатлений. — Так ты сын Яна? — Вежбовский говорит громко, он глуховат, но с виду бодр, держится прямо, как на параде, хотя до шестидесяти ему не хватает всего двух лет. — А знаешь, что твой отец жил здесь, в соседнем доме? Да что я говорю, ведь и ты жил в Красноставе, и Ирена, матушка твоя. Сын Яна, надо же, — он отступает на три шага, приглядывается к Витольду, оценивает взглядом торговца. — Ты худощав, но вовсе не худой, глаза усталые, но не глупые. Думаю, справишься, не пропадешь у Вежбовского. А как Ян? — От отца нет никаких вестей. Ни от него, ни от кого-либо другого. — От кого? — громко переспрашивает лавочник, поскольку голос у Витольда осекся и даже при вполне нормальном слухе не все слова удалось бы разобрать. — Ни от кого, — повторяет он, почти выкрикивая. — Это ничего, парень, это, может, и к лучшему. — Вежбовский вынимает из кармана две карамельки. Возится с обертками, которые плотно пристали к липким конфетам. — Может, и к лучшему, Витольд. Ведь из таких лагерей быстрей всего приходят плохие вести. С сообщениями о беде немцы очень спешат. Сын здешнего врача умер в Дахау, так немцы родителей телеграммой известили.
Витольд сел на велосипед только за мостом. Крутил педали неторопливо, ловко объезжая крестьянские телеги, а когда доехал до развилки, где шоссе разветвлялось влево на Реевец и вправо — на Замостье, вдруг захотелось прокатиться с ветерком. Хотя ветер теперь дул прямо в лицо, Витольд низко склонился над рулем и закрутил педали с таким усердием, словно от этой отчаянной, головокружительной гонки зависела его коммерческая карьера. Именно коммерческая, поскольку в первый же день Вежбовский сумел заморочить голову весьма волнующей картиной. — Ты не смотри на торговлю как на нечто второстепенное. Торговец — это фигура. Когда кончается торговля — жизни конец. И во время войны, и в мирные времена. Запомни: священнослужитель, могильщик, врач и торговец — четыре важнейшие профессии. Если бы в руках торговцев оказались судьбы мира, даже врачи потеряли бы половину того, что имеют. Не говоря уже о могильщиках. Когда я стою за прилавком, вдыхая запах свежего хлеба, когда окидываю взглядом полки, на которых ровными рядами выстроились бутылки и коробочки, когда запускаю руки в мешок, полный гороха или фасоли, когда завешиваю лук, чеснок, яблоки, то чувствую себя так, словно мир оздоровляю, плохих людей превращаю в хороших. Представляю себе, как они стряпают, садятся пить кофе. Как улыбаются, ведь запах пищи убивает черные мысли. Ах, если бы еще в моей лавке было все то, что до войны. Впрочем, и так терпимо. У меня особые лимиты для снабжения фольксдойчей, а из этих лимитов всегда можно что-то урвать для порядочных людей. Поработаешь — сам убедишься, что торговля — это честь, достоинство и даже отчасти независимость. Не учили тебя в школе, что значит для народа хорошая торговля? — Витольд все энергичнее жмет на педали. Конец красного шарфика, которым обмотана шея, треплется за спиной, как предупредительный флажок. Проехал неказистое строение железнодорожной станции, помахал рукой маленькой девочке, которая шла по тропинке вдоль обочины, ведя на веревке худую козу, наконец почувствовал усталость. Ноги сделались непослушными, ныла шея, в легких не хватало воздуха. Привыкну, подумал Витольд, распрямляясь и уже легонько крутя педали, теперь мне ежедневно предстоит такая езда. Восемь километров до работы и восемь обратно. Хорошая тренировка, лишь бы мой драндулет не рассыпался по дороге. Этот драндулет был собственностью Яна и долго валялся на чердаке, пока снова не настал его звездный час. Целую неделю провозился Витольд с этим металлоломом: выпрямлял спицы, паял треснувшую раму, латал дырявые камеры и, если бы не помощь Томася, ковырялся бы втрое дольше. Шоссе было пустынно, только впереди метрах в ста старательно, правда без особой спешки, нажимал на педали какой-то велосипедист. Витольд, уже немного отдохнувший, хотел было поднажать и в тот момент, когда снова наклонялся над рулем, услыхал выстрел. Услыхал отчетливо, так как звук донес встречный ветер, и все произошло в ста метрах впереди, хотя в первую секунду он был совершенно ошеломлен и не отдавал себе отчета в том, что стряслось на шоссе. Велосипедист резко закачался, выпустил руль и рухнул навзничь. Издали выглядело это так, как будто велосипед, вдруг встав на дыбы, сбросил ездока с седла. По проселку в сторону леса бежали двое мужчин. Они то и дело оглядывались, вероятно хотели удостовериться, лежит ли велосипедист на шоссе. Он лежал. Неподвижно, как тяжелая колода. Только переднее колесо велосипеда, валявшегося на тропинке рядом с шоссе, не желало примириться с падением и по-прежнему вращалось, поблескивая спицами. Витольд видел это все отчетливее и никак не мог взять в толк. Значит, стреляли те двое. Их уже нет. Скрылись в сосняке. А этот? Наверняка убит. А если ранен? За что? Заняться им или броситься за помощью на ближайший хутор, в ближайшую хату? Фуражка слетела с головы убитого и откатилась в кювет. Темные волосы намокли от крови. Еще горячей, не запекшейся крови, она растекалась на мостовой и впитывалась в забитые песком зазоры между камнями брусчатки. Столько крови в человеке? Все медленнее вращается колесо велосипеда. Витольд остановился у обочины. Полицай. Но смерть есть смерть, и полагается обнажить голову. Сперва он разглядывает синий мундир, перетянутый поясным ремнем. Не осмеливается взглянуть в лицо лежащему. Может, потому, что лицо это обезображено метким выстрелом. Стреляли в голову? А может, целили в грудь, а полицай со страху наклонился. Все возможно. Кажется, я его знаю. Мысль, обгоняющая все остальные мысли и вытесняющая все остальные… Знаю. Определенно видел. И лишь после заминки, более продолжительной, чем агония лежавшего на шоссе, — уйма недоуменных вопросов. Знаю? Где я его видел? Приходил к нам? Не исключено. Нет, это не Шимко. В поезде? На станции? В лавке? У здания полиции? Вместе с жандармами? Нет, это не Малек. Ведь я его… Ночь. Видел. Бело от снега. Ежится Витольд, как будто в лицо ему пахнул ледяной ветер. Окно, завешенное обрывком простыни, может оставшейся от Цукерманов. Есть щель, через верхнюю часть стекла можно кое-что высмотреть. — Теплынь у них, — голос Зенека, — в одних кальсонах разгуливают. У нового полицая часто бывает колбаса, и они жрут. — Кто? — Ну эти девчата. Сейчас начнется. Они всегда делают это под музыку. — Кто? — Показалось Витольду или он действительно крикнул? А зачем спрашивать, если теперь никакие вопросы не нужны. В голове просветлело до боли. К чему кричать, если не на кого. По шоссе тарахтит телега, запряженная парой гнедых лошадей. Витольд обогнал ее пять минут назад. Мужик взмахивает кнутом, вероятно понял, что на шоссе случилось неладное. А хлопок кнута — тот же выстрел. Достаточно громкий, чтобы подтолкнуть тех, кто замер, застыл, окаменел, хоть жив и здоров. — Н-но! — Витольд вскакивает на велосипед, энергично крутит педали, разгоняется без особых усилий, поскольку шоссе здесь идет под уклон. Мог ли он предполагать, мог ли мечтать, что окажется первым свидетелем этой смерти. Теперь небольшой подъем, но и на высокую гору он въехал бы с таким разгоном. Люди! Есть жизнь. Есть смерть. И есть еще немного справедливости на этой земле. Люди, надо внимательно слушать, тогда и выстрелы услышите. А вы пригорюнились в своих домишках, в кособоких халупах, словно ничего не произошло… Томась как-то рассказывал сбивчиво, не справлялся со страшными словами, хотел побыстрее от них избавиться. — Когда гнали наших евреев на станцию, где уже были поданы вагоны, чтобы всех их, значит, в Белжец отправить, две евреечки, одна малюсенькая, как ребенок, из толпы выскочили и к «синему» полицаю бросились. Внучеку или Внуку, как-то так его звали. И давай просить, чтобы отпустил, а маленькая цап этого Внучека, или как его там кличут, за руку и чмок, как ксендза или отца родного, чмок его грязную лапу. Никого из жандармов поблизости не было, мог бы отпустить. А он прикладом замахнулся и назад в толпу их загнал, и они поехали в Белжец.
— Что-нибудь случилось? — Томась облокотился о штакетник, приглядывается к Витольду с вполне обоснованной подозрительностью. Грохнуть велосипедом об землю? Чем провинился велосипед, да еще такая рухлядь. Витольд забарабанил кулаками в дверь, крикнул, едва дверь отворилась, с таким восторгом, точно самую радостную весть объявлял: — Внука прикончили! Видел собственными глазами. Так метко влепили, что для Страшного суда не воспрянет. — Буковская много плохого слыхала об этом полицае, и все же ее поразила радость Витольда. Радость, граничащая с безумием. Можно ли так радоваться чьей-либо смерти? Можно ли? — Мама, он валяется посреди шоссе, как раздавленная собака.
Они ждали Элиаша полчаса, а то и больше. Притаились за кустом, как было велено. В полнейшем молчании, ведь он предупредил, что по лесу голос далеко разносится. Вспомнил об этом, уже уходя. А может, все время помнил, но одно дело стоять и беседовать с вооруженным Элиашем, а другое — ждать безоружными, в одиночестве. — Сидите здесь тихо, без разговоров. Я кое-что улажу и вернусь за вами. — Он помчался в глубь леса с револьвером в руке, как будто эта полезная штуковина за поясом ему помешала бы бежать или как будто боялся потерять самое главное, ценное для него сокровище. Сабина сидела запрокинув голову, чтобы видеть голубизну неба, голубизну, перечеркнутую сухими ветками деревьев. Несколько таких деревьев поблизости. Высоки они, да что толку, если вот-вот упадут. Подует ветер посильнее и вырвет корни этих царственных с виду деревьев из земли, и они застынут, замрут, как скрючившиеся от боли гигантские черви. Сабина все круче запрокидывает голову. А Доба достала гребешок и осторожно расчесывает темные, слипшиеся от пота волосы дочери. И ни слова. Но этот день, который был в самом разгаре, солнечный, полный птичьего свиста, щебета, верещанья, тревожил память, дразнил воображение. Вернется? Разве может такой не вернуться? Элиаш-бунтарь. Помнила Сабина, как бунтовал некогда Файвель Пятьминут, да что осталось от его бунта, что осталось от прежнего Файвеля? Даже постыдился выйти из комнаты, когда они ждали на пороге, чтобы попрощаться. Помнила разговоры с Левиным, Менуховым, с Шором, с другими еврейскими парнями, которые по ночам пробирались на кладбище. Как только начальник жандармерии додумался устраивать облавы в еврейских домах после полуночи или перед рассветом, забирать молодежь прямо из постелей, так началось паломничество за белую стену кладбища. Забыть? А есть о чем помнить? Бунтарства их хватало лишь на то, чтобы прятаться от ночных облав. А бежали они, притаившиеся среди надгробий, мысленно витая над строго охраняемым мостом через Вепш, над многочисленными патрулями, охотившимися по ночам на шоссе в конце Фрампольской улицы, у казарм, сахарного завода и железнодорожной станции. А надежды хватало лишь на то, чтобы, созерцая звезды Давида, выдолбленные в камне, снимать звезду Давида с собственного пиджака или куртки. Думает Сабина об Элиаше, молится Давиду. Эта золотая шестиугольная звезда — твоя звезда. Когда Голиаф пал на землю с рассеченным лбом от удара твоего острого камня, когда вручали тебе тяжелый меч, который едва можно было поднять, когда над стенами древнего града грянули песнопения в твою честь, эта звезда, о Давид, наливалась солнечным сиянием. А солнце — это жизнь. Так почему же не было в нас жизни, когда мы по ночам на кладбище бодрствовали и засыпали? Почему каменные надгробья были теплее наших тел? — Мне бы в Либерию или Бразилию, поближе к апельсинам, — приговаривал тихонько, как бы стыдливо Эмануэль Левин и тут же добавлял несколько увереннее: — Мне бы в Белосток, там у тетки была пекарня. — А может, выпил бы чего-нибудь? Например, бокал красного вина? — Голос Эмека Менухова усыпляюще мягок. Месяц назад в магистратской каталажке жандармы выбили Менухову семь зубов, и с тех пор в его воображении питье возникает чаще, чем еда. — А что вы скажете о селедочке, жирной голландской селедке и вдобавок огромной, как кит? — Генек Зогор облизывал потрескавшиеся губы. Так они ели, пили, путешествовали, сидя на старых могилах, дожидаясь новых, которые будут уже без каменных плит-надгробий. Даже без самой малюсенькой плиточки. Полчаса ждали Элиаша, может и больше. У Сабины не было часов, а золотые часы Добы остановились вчера утром и не желали двинуться с места. Наконец затопали шаги. Примчался Элиаш, взмыленный, запыхавшийся, но улыбающийся. — Пошли. Я поставил на пост заместителя, отведу вас в наш дом. — Так у вас даже есть дом? — удивляется Сабина. — Идем. Все может быть домом. Дупло, например. Дупло может быть домом, если человек в нем поместится. Дом. Смотреть смотрите, слишком много вопросов не задавайте, и чтобы никаких слез и нервов. Я выразился достаточно ясно? — Что ты говоришь? Какие могут быть нервы? — Доба Розенталь неожиданно кладет белую, испещренную бурыми пятнами руку на рыжую голову Элиаша: — Ты еще не можешь мне простить, что я так кричала и велела тебе стрелять? Я разнервничалась не без причины, не от голода и не от усталости. Прислушайся теперь к моим словам. Вооруженный еврей вдруг стал на моем пути, и я подумала, что замкнулся вокруг семейства Розенталь черный круг. Моего мужа, Леона, забили палками еврейские полицаи. Забили насмерть за то, что не хотел встать с постели. Он тяжело болел, перенес тиф и сердечный приступ, но уже кое-как подымался и ковылял по квартире. А когда увидал над своей головой эту еврейскую палку, заупрямился и не пожелал вставать. Словно бес его обуял — плевался, ругал полицаев страшными словами, пока не добили. — Где это было? — спрашивает Элиаш и с минуту чувствует себя малым ребенком, которому мать рассказывает страшные вещи и гладит по головке, чтобы чересчур не напугался. — Это было в нашем городе, в Щебжешине, несколько дней назад. А теперь дочь ведет меня по белу свету, ибо все на этом свете перепуталось и дети ведут за ручку своих беспомощных родителей. — Теперь мне все понятно, — произносит в раздумье рыжий, худощавый паренек, медленно направляется в глубь леса, а Сабина с матерью следуют за ним. Не спеша, не теряя из виду тощую, сутулую спину Элиаша. За ним. Считая, сколько раз прокуковала кукушка, а потом считая шаги, похлопывая на ходу по стволам деревьев, раздвигая низко нависшие ветки, поднимая с земли крупные шишки, помнящие прошлую осень. За ним. В глубь леса, а не в глубь земли. Вспыхнул бездымный костер, ведь Абрам Кот обитает в лесу не первый месяц и знает, как разводить костры и что жечь, чтобы не было дыма. Десять картофелин в огонь — это будет по две на каждого. Абельбаум и Куфель испекут себе сами, когда сменятся с дежурства. Золотушный Хаим Гебель уселся, скрестив ноги, в стороне от костра и даже головы не повернул, когда ему крикнули, что картошка готова. — Он молится? — спросила Доба. — Он беседует со своими, — Абрам снисходительно покачал головой, — с отцом, матерью, братом. Надо немало пережить, чтобы привыкнуть к превратностям судьбы. Хаим бежал из Избицы, а эшелон с его семьей поехал в Белжец. — Костер полыхает прозрачным пламенем. Элиаш направился к землянке, глубокой норе, вырытой в двухстах метрах отсюда, на краю поляны, заросшей раскидистым папоротником. — Хаим бежал из Избицы, а вы в Избицу, — размышлял вслух почти лысый Мендель Каменяж, — есть у вас там кто-нибудь? Договорились твердо? — Кое-кто есть, но мы не знаем, как там обстоят дела. — Сабина заметно погрустнела за последний час. Она надеялась, что Элиаш покажет ей частицу счастливого царства, что она увидит здесь людей смелых, с гордо поднятой головой, что пройдут они с матерью этот пустынный лес и засияют у них глаза, ибо откроется перед ними новая земля обетованная, новый Ханаан. — Они смелые, — пыталась она возразить самой себе, — отвергли вынесенный им приговор. Хотят жить. Живут. Разве можно иначе? — и смотрела на Хаима, который бормотал что-то себе под нос, не замечая и не слыша никого. И пыталась заговорить с Абрамом, который так приспособился к лесному убежищу и так ему здесь нравилось, что никакие дела, творившиеся за пределами леса, его уже не интересовали. Мендель Каменяж скребет ногтями череп, который уже обрастает жесткой щетиной. — Значит, железной договоренности нет? — Теперь он смотрит не на Сабину, а на Добу, словно от нее ждет более вразумительного ответа. А Доба знает еще меньше дочери, поэтому молчит — сказать-то нечего. — Но хоть гроши имеются? — Гроши? — Доба окончательно теряется. Она не чувствует сейчас ни голода, ни страха, ни даже усталости, а только парализующую беспомощность. Она бежала от своих, с которыми не могла сойтись, попала к своим, с которыми не в состоянии разговаривать. А может, сама во всем виновата? Возможно, все эти миры, из которых она бежит, по которым блуждает, в которые пытается проникнуть, они не для нее? — Ой, как же прикажете спрашивать? Прямо о долларах, о золоте? — смеется Мендель Каменяж и прутиком в костер тыкает, проверяет, испеклась ли картошка. — Меня интересует, можете ли вы хоть чуточку на себя рассчитывать или только на везение и чью-то жалость? — Только на везение, — Сабина тоже начинает смеяться, но из духа противоречия, однако Менделя не собьешь с толку. — Ты хорошо выглядишь, — обращается он к Сабине и внимательно ее оглядывает, — с такой внешностью можно рассчитывать даже на везение. Ты не похожа на еврейку. Я смотрю тебе в глаза, и там тоже нет ничего еврейского. — Разве я не знаю, что Сабина выглядит как самая настоящая арийка, — Доба пробуждается от летаргического сна, точно слова Менделя уязвили ее в самое сердце, — стоит ли лезть туда, где еврей должен восторгаться, что не похож на еврея? — Минуту назад возвратился Элиаш и тоже сидит у костра. Носком развалившегося башмака выгребает из горячего пепла черные, дымящиеся картофелины. Элиаш слышал последние слова Добы, и, видимо, это важные слова, так как он немедленно вмешивается в разговор: — А разве еврей должен этим восторгаться? Если есть жизнь, то обязательно еще должна быть радость? У меня был в Избице старший брат, который был таким глупым евреем, что глупее не придумаешь. — Не упоминай так громко Избицу, а то Хаим… — вставляет Адам Кот, и Элиаш понижает голос. — Я это все продумал на примере своего брата, очень хорошего сапожника и очень хорошего еврея, да простит его господь. — Послушайте, — вдруг оживляется Мендель Каменяж, который историю старого Вассера наверняка слышал раз десять, и, видимо, она пришлась ему по вкусу, если он в таком волнении готовится услышать ее снова. — Мой дорогой брат тачал великолепные шевровые сапоги, но жить учился по Священному писанию. И до того доучился, что перестал различать, где святые слова, а где обыкновенный смертный человек. Он хотел заполучить на этом свете все, а когда до этого всего не добрал пяти сантиметров, то знаете, что сделал? От всего отказался… — То-то и оно, — с жаром поддакнул Мендель Каменяж, перебрасывая с ладони на ладонь горячую картофелину. — У него был настоящий еврейский нос, и он хотел еще, чтобы его по-настоящему уважали жандармы. Он считал себя порядочным евреем и был уверен, что этого уже достаточно, чтобы спокойно просидеть до конца войны в своей трухлявой халупе, где родился. Он хотел уважать талмуд и немецкий закон. Он хотел, чтобы вся его семья благополучно пережила войну, но все ждал, что пророк Моисей лично договорится по этому вопросу с Гитлером. Он хотел иметь хлеб и талес, жизнь и пергамент с премудростями Торы. Хотел иметь все или ничего. Когда я ему рассказывал о страшном походе хелмских евреев аж до Сокаля на Буге, то он мне толковал о переходе иудеев через Красное море. — Элиаш уронил голову, замер, опираясь руками о серый, опаленный дерн. Говорил он с подъемом, а теперь походил на продувшегося подчистую игрока. Только Мендель Каменяж не утратил задора. Он повернулся к задумавшейся Добе и проговорил, громко причмокивая, оттого что дожевывал картошку: — Жизнь — это жизнь, и ни грамма больше. Кошка не любит воду и не умеет плавать, но брось ее в реку — и она непременно поплывет. Разве я говорю что-нибудь плохое? Разве еврей должен иметь все? Так я ставлю вопрос. Разве еврею не достаточно половины всего? И если у вашей дочери хорошая внешность, то надо ли еще раздирать одежды из-за того, что семитские носы теперь больше чем несчастье? — Не знаю, — искренне призналась Доба. Ночью пошел дождь. Мелкие капли с трудом пробивались сквозь густые кроны, налетел порыв ветра, и лес зашумел, как перед настоящей бурей. Мать и дочь выбрались из лесного убежища еще перед рассветом. — Приятно пахнет, — сказала Сабина, оглядываясь вокруг, и темный лес показался ей менее опасным, чем вчера. — Что пахнет? — удивилась Доба, покрывая голову черным платком и еще свитером, вынутым из клеенчатой сумки. — Земля, трава, воздух, все. — Глупости. Этот дождь сведет меня в могилу. — Они выбрались из лесного убежища, где утробно храпел усталый Абельбаум, а Хаим Гебель плакал во сне, как малый ребенок. Не было тишины и покоя в этой лесной могиле, полной живых людей. Даже Мендель Каменяж, который днем у костра щеголял показным оптимизмом, ночью обнаруживал совсем иной облик. Несколько раз просыпался с воплями, как будто его сталкивали в пропасть: — Sprich! Говори! Wo ist Samuel? Где Самуэль? Ведь он должен был ждать. Здесь ждать. Слышишь? — И падал без сил на отсыревшую подстилку, чтобы через час снова закричать от терзавших его кошмаров: — Wo ist er? Где он? Говори только правду. — Элиаш проводил женщин до самой опушки леса, а когда остановились на размытой тропинке, не знали, как прощаться. Дождь зачастил, со свинцового неба падали все более крупные капли, и струйки, сбегавшие по щекам, делались обильнее. — Кто этот Самуэль? — спросила Доба, которую Каменяж неоднократно будил своими дикими воплями. — Сын. Канул, как камень в воду, а Мендель продолжает верить в чудо, хоть в этом не признается. — Надо верить. — Доба опустила голову. — В чудо? — Не знаю во что, но надо. — И снова стояли молча, даже не глядя друг на друга, так как во взглядах больше правды, чем в словах, а они боялись этого прощания, поскольку сознавали, что, пожалуй, уже никогда не встретятся. — Где твой револьвер? — осмелилась нарушить молчание Сабина. — Адам взял, всегда берет тот, кто заступает на пост. — Жаль. С револьвером ты лучше смотришься, с револьвером ты красивее. — Саба, опять ты вздор болтаешь, — повысила голос Доба Розенталь и тут же обратилась к Элиашу: — Мы пойдем. Когда мне будет очень плохо, я подумаю о вашем костре. — А Элиаш вдруг наклонился и поцеловал Добе руку. Они шли, как он им велел. Сперва просекой, до широкого луга, на котором чернело пепелище сгоревшего дома. Потом свернули вправо, обошли на приличном расстоянии небольшую деревню и снова оказались в лесу. Доба дрожала от холода, сетовала на жестокую судьбу и ворчала на Сабину за то, что не переждали ненастье в лесной землянке. Еще до полудня из-за туч пробилось солнце, и стало немного веселее. — Мама, уже май! — спохватилась Сабина. — Что будет через восемь дней? — Я должна это знать? Я не знаю даже, что будет завтра, — ответила Доба усталым голосом. Сбросила с головы свитер, расстелила его под стройной сосной и села, поджав ноги. — С меня хватит. — Тогда отдохнем, но все-таки отвечай, что будет через восемь дней… — Сабина опустилась перед матерью на корточки и посмотрела ей в глаза. — Может, Гитлер умрет, а может, настанет конец света? — Не будет никакого конца, — рассмеялась Сабина, — через восемь дней мне исполнится пятнадцать лет. Ты уже не помнишь, когда я родилась? — Пятнадцать… — Доба тоже улыбнулась и повторила: — Пятнадцать… — словно сомневаясь. Вдруг послышался собачий лай, и это означало, что где-то поблизости человеческое жилье. — Ты подожди, а я чего-нибудь принесу, — предложила Сабина, — может, немного молока раздобуду? Позавчера достала целый литр, вдруг и сегодня повезет? — Но Доба не пожелала оставаться одна, и они поплелись вдвоем в сторону деревни. В просветах между деревьями уже виднелись хаты и даже несколько коров, пасущихся у самого леса. Небо светлело, согретая майским солнцем земля курилась, благоухала, как вынутый из печи каравай. Ободренные этой просветленностью и ароматом, они зашагали быстрее и вышли на дорогу, вымощенную камнями, которые собирают с полей. Полицай стоял у стены ветхого сарая, и, вероятно, поэтому путники заметили его слишком поздно, чтобы думать о бегстве. До леса было метров триста, а полицай стоял в десяти шагах и даже рот разинул от удивления. — Беги, — шепнула Доба, толкнув Сабину локтем, — я останусь, а ты попытайся… — Куда вы, бабоньки? — Полицай снял с плеча винтовку и прислонил к стене сарая. — Рехнулись, что ли? Куда претесь? Совсем ошалели. Слепой и то бы заметил, а они лезут. — Доба молитвенно сложила руки и преклонила колени на острых каменьях дороги. — Пан полицейский, дорогой, сжальтесь над этим ребенком. Ей нет пятнадцати, она должна жить! А меня можете убить на месте, хоть сию минуту прикончить. — Рехнулась, мать? Забирай девчонку и беги… — Полицай обеспокоенно покосился в сторону деревни, а была она на удивление пустынна. Только дворовые собаки по-прежнему заходились лаем. — Человеческим языком говорят тебе: забирай девчонку и беги в лес, подальше отсюда. В деревне жандармы ищут именно таких, как вы. — Мы побежим, а вы нам в спину выстрелите, — прошептала Сабина и попыталась поднять Добу с колен. — Боже милостивый, откуда только взялись такие глупые бабы? И себя и меня погубить хотите? Марш в лес, пока не поздно. — Тут Доба вскочила с земли и, шатаясь, жадно глотая воздух, словно была под этой землей и камнями погребена и кто-то лишь сейчас вытащил ее оттуда, бросилась к лесу. — Дочка, беги, беги первой, быстрее! — крикнула она повелительно и, может, была уверена, что деревья перед Сабиной уже расступились и что уже сомкнулась за ней стена высокого бора. Но Сабина обратилась в бегство лишь после того, как смолкли позади нее шаги и хриплое дыхание матери. Только теперь она расправила крылья и догнала Добу у крайних сосен. Они бежали еще несколько минут, спотыкаясь о ветки, неуклюже падая на сочный мох и вскакивая в панике, поскольку весь этот лес, вероятно, входил в запретную зону, где отовсюду надвигалась немедленная расправа. Наконец Доба припала к хилому деревцу, обхватила руками, крепко обняла, словно это был не древесный ствол, а живой Элиаш или Сабина, и крикнула в отчаянии: — Больше не могу, ни шагу! — Сабина почувствовала вдруг, что по лицу ее текут крупные слезы. Откуда они взялись? Она не плакала, ведь человек знает, когда плачет.
Ирена смотрела в потолок и снова дожидалась сна. Фельдшер прописал какое-то лекарство, а несколько дней назад Витольд привез объемистую бутыль из аптеки в Красноставе. Сперва принимала нормальную дозу, потом, укладываясь спать, проглатывала три ложки горькой бурды, а мысли, напротив, приобретали необычайную ясность. Именно по ночам она напряженно обдумывала все то, о чем днем пыталась не думать. Днем были готовка, стирка, уборка, лицезрение собственной персоны в зеркале. Я постарела после ареста Яна на десять лет. Когда вернется, увидит седую женщину и начнет искать взглядом Ирену, стоя рядом со мной. Ночью видела другие лица. Это Ян? Неужели его довели до такого состояния? Это Ванда? Более всего ее тревожило, что безнадежное положение Яна все чаще переплеталось в ее сознании с безнадежным положением Ванды. А тут еще плохое письмо от матери. Только этого не хватало, чтобы мать положили в больницу. Может, кто-то сообщил ей о щебжешинском позоре. Юзик? С самого начала было ясно, что Юзик не прочь отыграться. Себя казнил, но и других не миловал. Если бы Ян был дома, он бы что-нибудь присоветовал. Вернется ли он вообще домой? Нет вестей, есть только надежда. А если выпить полбутылки лекарства? И забыться хотя бы на два часа. Может, выпить все? Фельдшер заверял, что четырех ложек достаточно, чтобы усыпить лошадь. Возможно. У лошади спокойная жизнь. Витольд вытащил вчера из-за пазухи засаленную, измятую листовку. Наверное, сто раз переходившую из рук в руки. — Прочти, — сказал он и даже пальцем показал, откуда следует читать, как будто на этих машинописных страничках были слова, адресованные лично ей. «Дух народа не умирает, пока живы люди. И хоть война — бедствие, следует рассматривать ее и как великую школу жизни». — Что это такое? — Это «Просветительный бюллетень», — пояснил довольный Витольд. — Я не об этом спрашиваю. Что это за чушь? «Великая школа жизни»? Слишком легко жилось кому-то, если только война его чему-то научила. Школа? А для тех, кто уже в сырой земле? Для меня школа, для твоего отца каторга, а для твоей тетки — сплошной банкет. Так это должно быть? — Снова кто-то шатается по двору. Хорошо бы завести злую собаку, но собака — третий едок. Если мы едим говяжий жир, кости и гнилую картошку, то что дашь собаке? А все-таки кто-то шатается. Может, за самогоном к Томасям? После полуночи? Она вскакивает с постели, так как раздается легкий стук в окно. Босиком, в рубашке бежит к окну, отодвигает черную светомаскировочную штору, отдергивает занавеску и в сером ночном сумраке видит женское лицо. Скорее догадывается, чем видит. — Кто это? — спрашивает громко, нетерпеливо, лицо молчит. Неужели все это игра больного воображения или начало вожделенного сна? Ирена встает на цыпочки, открывает форточку и только теперь слышит голосок — тонкий, звенящий от страха или неуверенности: — Пани Буковская? — Да, а ты кто? — Я тут с мамой. — Я — Сабина. — Господи! Дитя мое, сейчас открою. — У Ирены трясутся руки. Она не может застегнуть халат. Бежит к дверям и возвращается, чтобы разбудить сына. Тормошит его за плечо, а Витольд спит крепко и видит чудный сон, от которого трудно оторваться. — Витольд, открой же наконец глаза, быстрее вставай, сынок. Приехали наши гости.
9
Ян думал, что от судьбы не уйдешь. Три месяца, день в день, на таких тяжелых работах, что назначение в Latrinenkommando, — команду ассенизаторов, он принял как помилование. Latrinenkommando? Когда после утренней поверки надсмотрщик вытянул его плеткой по спине и погнал в ту сторону, где стояла кучка истощенных хефтлингов, он помышлял прежде всего о том, чтобы не упасть. Падение почти всегда сулило узнику беду. Стоящий хефтлинг не имел никаких прав, бегущий тоже их не имел, но лежащий на земле получал, и не раз, причем мгновенно, право прямиком отправиться в эту землю. На веки веков, вот какое право. А тут еще неподалеку от формирующихся рабочих команд появился Антон Туманн. На кого Туманн взглянул — кранты, пиши пропало, но ему даже не обязательно было смотреть. Мог, например, закрыть глаза и ждать, на кого рявкнет его великолепная овчарка. Такое короткое ворчанье тоже было смертным приговором. Ведь оберштурмфюрер питал к своей овчарке безграничное доверие. Поэтому хлопал пса по серому жирному загривку и показывал плеткой на невезучего узника: — Du hast hier nichts zu suchen, mein lieber Mann. Тебе тут нечего искать, милейший. — И милейший понимал? Всякое бывало, так как Туманн был горазд на выдумки. Но кончалось всегда одинаково — вычеркиванием из списка живых, то есть уходом на заслуженный отдых с помощью похоронщиков— Himmelkommando. Ян и думать не хотел о таком отдыхе. Хотел жить. И чем более эта жизнь становилась нереальной, тем судорожнее он хватался за слабый проблеск надежды. Теперь он бежит через мокрый плац, разбрызгивая лужицы деревянными башмаками, озабоченный тем, чтобы не ткнуться носом в землю и не потерять своих колодок. — Быстрее, пан Буковский! — подбадривает мужичок из-под Пулав, а позже похлопывает его по спине и говорит радостным голосом: — Видите, вместе будем при нужниках. Я чую, что дерьмо принесет нам удачу. — И верно почуял, так как через три дня попал вместе с Яном в Kartoffelkellerkommando — обслугу овощехранилища. Это было уже кое-что. Работали за пределами лагеря, могли грызть морковь или брюкву, а иногда осмеливались пронести за пазухой полосатой куртки несколько картофелин. Тогда ужин превращался в настоящий пир. Поначалу работа в овощехранилище казалась Яну сущим раем. После всего пережитого на территории лагеря, после физических и моральных мук, испытанных в команде, которая собирала покойников, буртовку картофеля Ян расценивал как улыбку судьбы. Он уже не был носильщиком трупов, не таскал за ноги тех, кто час или полчаса спустя тихо и безропотно вылетал вместе с дымом из трубы крематория. И уже не приходилось затыкать нос, как в тот день, когда впервые извлекал из газовой камеры скрюченные тела. Он тащил молодую, еще не сильно истощенную еврейку, которая попала в газовую камеру прямо из очередного эшелона. А она точно вцепилась в бетон мертвыми пальцами и не желала выходить. Наконец он разобрался: девушка судорожно обнимала за шею седую старушку. И трудно было разделить двух женщин, которые даже после смерти не хотели расставаться. У Яна закружилась голова, он подумал с ужасом, что упадет на эти тела. Не понимал, откуда взялась внезапная слабость. То ли от остатков газа, который улетучивался в широко открытые двери, то ли от чудовищного зрелища? Потом была перемена. К лучшему? Жилистый и все более худевший мужичок из-под Пулав утверждал, что к лучшему. Они возились в дерьме, чистили нужники, которые все равно оставались зловонными. Выуживали из смрадной липкой жижи самоубийц или измотанных кровавым поносом доходяг, которые ненароком проваливались в выгребную яму. Как же было не радоваться новой работе? Тут, в нескольких сотнях метров от ворот лагеря, земля пахла землей, картошка — картошкой, а грязный, покрытый гнойниками узник вонял обычно, то есть как должен вонять. По ту сторону колючей проволоки, на плацу, где проводились поверки, и в уборных, в бараках и лазарете дышать приходилось смрадом разлагающихся тел, гнили, гноя. И ничем другим. Так разве хранилище картошки, моркови и брюквы не было преддверием рая? Начались заморозки, и эсэсовцы били палками за каждую секунду простоя. Хефтлинги послабее не выдерживали такого темпа, утром их несли, окровавленных, недвижимых, как манекены, чтобы на поверке сходился счет. А Ян ощущал прилив сил. Рисковал все чаще, пронося в барак картошку и морковь. Начинал верить, что счастье наконец ему улыбнулось. Kartoffelkellerkommando. Может, именно здесь решится его судьба? Когда он впервые подумал о бунте, о возможности побега? В двадцати метрах от шоссе, ведущего из Люблина на Замостье, а это значит, и к его дому, в Избицу, были довольно густо расставлены часовые из литовских формирований СС. Цвет их мундиров прямо-таки шокировал, поскольку напоминал Яну о сентябре. Вначале он даже думал, что молодые эсэсовцы получили обмундирование с трофейных польских складов. Только позднее, приглядевшись, определил, что мундиры их светлее тех, сентябрьских. Мундиры. Похожие на польские. Не это ли послужило психологической предпосылкой, не они ли, напомнив о борьбе, разбудили мысль? До сих пор радовало, что отделался от сомнений, а теперь этого было уже недостаточно. Вдруг он подумал: ведь я солдат. А через несколько дней: я офицер. Сперва это его удивило, рассмешило, ибо какое же практическое значение могли иметь факты столь отдаленные, казавшиеся совершенно иррациональными? В лагере, как на острове, плотно опутанном колючей проволокой, узник был только узником, и ничем больше. Не было у него ни собственной фамилии, ни собственного лица, ни биографии, ни прошлого. И не было будущего. А были деревянные башмаки, полосатая роба, номер и красный треугольник с буквой «П». Итак, позабавило его сперва то обстоятельство, что у него рождаются мысли, которые дешевле пайки лагерного хлеба. Хлеб, даже с опилками и картофельными очистками, имел определенный вес и цену. А мысль была воздухом. Пусть самым чистым, здоровым, увы, только воздухом. Ведь я офицер. Пронумерован, но фамилии не забыл. И ничего не забыл. Если бы мысли были только воздухом, жизнь человека сводилась бы к физиологии. Однажды картофельной команде стало известно, что молодых литовцев в зеленых мундирах отправляют на фронт. Даже те, кто принес это известие, полученное якобы из надежного источника, не знали, кто их заменит, но любая замена благоприятствовала планам Буковского. Кому открыться? Ему казалось, он знает всех как облупленных, но это было не так просто. Он не мог довериться слабым, гаснущим с каждым днем, ожидающим, как избавления, приказа: в газовую камеру! А кто силен? Торговец из Замостья мог бы одной рукой свалить Яна на землю. Есть еще в бараке несколько человек, которые легко выдерживают длительные поверки и не боятся внезапного приговора: — Du bist krank! Ты болен! — Сильные? Тут все надо мерить иной меркой. И мускулы, и слова, и характеры. Ходячий труп не в состоянии броситься с лопатой на часового, но его хватает порой на дерзкий порыв, который завершается сознательным вторжением в зону смерти. Один шаг, граница Todeszone — и автоматная очередь со сторожевой вышки. Разве подобного рода последний бросок — проявление предельной слабости? Сильные не бросаются на колючую проволоку. Сильные иногда слишком сильны, чтобы размениваться на рискованные шаги. Они уверены, что сумеют продержаться, и они знают, что даже малейшее проявление бунтарства кончается кровавой расправой. А ведь Ян замышлял нечто большее, чем обычный отчаянный бунт обреченных. Поздней осенью Kartoffelkellerkommando насчитывала уже свыше тысячи пятисот человек. Четыре батальона, — прикинул взволнованно Ян, полторы тысячи острых лопат. Решительная атака может оказаться удачной. И нашел наконец первого партнера для своей большой игры. Квасик работал на лесопилке в родовом имении Замойских и попал в лагерь за нанесение побоев немецкому чиновнику. Был он сильный, задорный, немного нахальный и необыкновенно везучий. А с кем же начинать игру, если не с тем, кому улыбается счастье и кто способен своему счастью содействовать? — Посвящать можно только надежных людей. Надо создать штурмовую группу, — предложил Ян. — Это ясно, а когда ударит штурмовая группа, двинутся остальные, — подхватил Квасик, сосредоточенно глядя на Буковского, — есть у меня трое, за которых ручаюсь головой. — Трое и нас двое, вот уже и первая пятерка. — Они сидели возле барака, был воскресный полдень, стало быть, время не рабочее. Дул пронизывающий ветер, но стена барака защищала от холода. Чуть подальше производился обмен пайки хлеба на три сигареты. Меняющиеся препирались, владелец хлеба кричал, что в пайке больше ста граммов, а сигареты заплесневели и выкрошились. — Черт бы меня побрал, это будет здорово… — вздохнул Квасик, и взгляд его затуманился, словно он уже видел то, что должно было произойти. — Мы им устроим настоящий бал… — Только не приплясывай преждевременно, балетмейстер, — перебил его Буковский, которому не понравилась горячность Квасика, — я офицер и не начну действовать, пока не будет в руках серьезных козырей. — Каких козырей? — поморщился Квасик. — Хоть разорвитесь, все равно нас перебьют… — И все-таки хочешь бежать? — Хочу, и баста!.. — Квасик грохнул тяжелым кулаком по стене барака. — Им свое, нам — свое… — Послушай, я отдаю себе отчет в том, что потерь не избежать, — Ян понизил голос, говорил почти шепотом, хотя уже никого не было поблизости, — потери неизбежны, но должна быть и какая-то польза. Пусть убежит по крайней мере пятьдесят человек. — Квасик слушал терпеливо, даже утвердительно кивал головой и, казалось, вполне соглашался с Яном, хотя в голосе его снова почувствовался дух противоречия: — А если не пятьдесят, а только пять или двое? По-моему, не важно, сколько сбежит, важно, что будет рубка. Настоящая, какая и должна быть. Давайте договоримся, что вы думаете по-своему, я по-своему, но делаем мы одно и то же. — Думать можешь по-своему, лишь бы выполнял приказания. — Я был капралом, знаю, что такое приказ. — Они обменялись рукопожатием, а когда уже поднимались с земли, Квасик выпалил, словно желая окончательно объяснить, почему ему не терпится устроить этот грандиозный бал с участием картофельной команды: — Минутку, вы думаете, когда я бил по толстой роже Шоберта, в моем кулаке были какие-то козыри? Попросту кто-то должен был ударить первым, чтобы другие поглядели, каким манером это делается. Порой вся загвоздка в таком первом ударе, в первом танце на балу. И картофельная команда подаст пример. Вот и все, что я хотел вам сказать. — В среду, после поверки, Ян должен был встретиться с первой пятеркой посвященных, которых завербовал Квасик. Уже с самого начала возникли некоторые осложнения. Разыскивая заслуживающих доверия узников, Ян получил сведения, что на первом поле есть уже какие-то группы, готовящие массовый побег. Это его даже обрадовало, хотя он тут же осознал опасность, которую сулит случайное дублирование серьезных акций. Энергичный Квасик пытался установить контакт с организаторами тех групп, и именно в среду что-то должно было выясниться. Был только вторник, до вечерней поверки оставалось не менее трех часов, а Ян вдруг перестал думать о бунте, Квасике, о контактах и планах побега. Потемнело в глазах, руки сделались тяжелыми, деревянными, лоб покрылся холодной испариной. Буковский оступился в черную вязкую грязь, и не было сил вытащить ногу в деревянном башмаке из этого зыбкого капкана. Последние проблески сознания все-таки подсказывали, что нельзя делать передышку, хотя каждый взмах лопатой стоил теперь нечеловеческого напряжения. Полчаса назад молоденький эсэсовец Курт заколотил насмерть палкой тщедушного Бончека, который на секунду отложил лопату и потянулся к куче брюквы. Эта брюква сейчас уже забуртована, укутана соломой и землей. А Бончек лежит возле бурта. У него все удачно складывалось, перенес тиф, вернулся позавчера из лазарета, рассказывал, как везло при сортировках. Больных забирали в двадцатый барак, где смерть была похуже, чем в душегубке, забирали в газовую камеру, где все кончалось пострашнее, чем в аду. Как-то сортировкой руководил Туманн, и когда в лазарете смекнули, чем это пахнет, то даже санитары собрали манатки и разбежались по своим баракам. Бончек остался, его еще лихорадило, и Туманн приглядывался к нему не менее минуты, пока не махнул рукой, и это было помилование. Так он рассказывал, размахивая тоненькими ручками, радостно выкрикивая: — Если повезет, то и Туманн не страшен! Самое скверное позади, только бы попасть в картофельную команду. — И попал. И лежит теперь на сырой земле, с лицом, обращенным к небу, а небо снова начинает хмуриться, грозит дождем. Ян не видит эсэсовца, который так быстро управился с Бончеком. Эсэсовец стоит в нескольких метрах позади него и покрикивает здоровым, молодым голосом. Время от времени он шутит. Подходит мелкими шажками к хефтлингу, который усердно машет лопатой, да так близко, что тот невольно прекращает работу, чтобы не обсыпать Курта землей. Говорит добродушно: — Du bist brav, mein Liebling. Молодец, милейший. — Напуганный, ошеломленный узник выкрикивает, вытягиваясь во фрунт: — Jawohl, Herr Scharführer! Так точно, господин шарфюрер! — И тогда Курт, чье звание не соответствует ни унтер-офицерскому, ни даже ефрейторскому, начинает повизгивать от удовольствия, как школьник, обманувший одноклассника. Повизгивая, он бьет узника по голове массивной палкой. Самое главное — выдержать первые удары. Если обливающийся кровью узник сможет устоять на ногах, Курт перестает смеяться, повторяет уже вполне серьезно: — Du bist brav, mein Liebling! — и отходит, возвращается на свое место возле пустых ящиков из-под моркови. Ян с трудом переводит дух, и голова начинает разламываться от боли, словно получил несколько ударов от Курта. Выстоять. Неизвестно, что будет завтра, что будет сегодня в бараке, но сейчас лопата должна вонзаться в черную жирную землю и эта земля должна падать тяжелыми комьями на солому, под которой лежит картошка. Можно чуточку передохнуть, притвориться, что работаешь, так как Курт придрался к Немцу, то есть к настоящему поляку, к мужичку из-под Пулав. Бончек выкрикнул, как полагается, и даже мастерски вытянулся в струнку, но после первого удара упал на колени. Выдержать. Знаешь ли, Ирена, что у меня все изменилось, и я теперь уверен, что мы перебежим с тобой широкий луг и переплывем большую воду. А мужичок из-под Пулав целых четыре удара выдержал. Сколько в нем веса? Килограммов сорок пять, а может, и того меньше? Теперь он вытирает окровавленное лицо рукавом и улыбается Яну, как будто чувствует, что тому очень худо. Вечерняя поверка тянулась два часа, и временами Ян полностью терял сознание. Падал тогда на Квасика, который стоял справа, и тот хлопал его ладонью по щекам, шептал: — Ну, еще немножко, мать твою… еще минуточку. — Что случилось? — Ян открывал глаза, но ничего не видел. — Придется подождать, Флорстед сбился со счета, что-то у него не сходится. — А что случилось со мной? — Похоже на тиф. — И что же теперь будет с нашим делом? — Каким делом? — Похоже на самый настоящий сыпняк. — «О матерь божия, ты в Ченстохове с нами…» — шепчет мужичок из-под Пулав, стоящий позади Яна, — матерь божия, крепитесь. Если это даже тиф, что особенного? — Завтра утром надо сходить в амбулаторию, и положат в лазарет. — Заткнись, а то капо тебе врежет, — ворчит Квасик и толкает Буковского локтем в бок, чтобы тот выпрямился, — ну, еще немножечко, браток, смотри у меня, не поддавайся. — Ночью жар усилился. Ян даже не чувствовал, как кто-то пытался влить ему в рот немного теплого кофе, вытирал лоб холодной, влажной тряпицей. Встретился со Стахурским, только Стахурский не стал с ним разговаривать, а может, не мог, так как в горле у него торчал огромный крюк. — Чуток полегчало? — Лицо мужичка из-под Пулав возникло из темноты, как ночное видение. Но это уже была не ночь, и покрытое синяками лицо Юзефа Немца было все-таки живым лицом. — Чуток полегчало, пан Буковский? — Не знаю, кажется, я видел Стахурского… — Скажете тоже, Стахурский теперь ветром по полю гуляет. Я возле вас дежурил, вы ночью вскакивали, а сейчас будет поверка… — Не осилю… — Ян попробовал подняться, но голова закружилась так стремительно, как будто он спрыгнул с чертова колеса. — После поверки надо записаться к доктору, — мужичок наклонился к Яну, говорил ему прямо в ухо, — лазарет — дело рискованное, по-разному с ним получается, но, если сегодня махнете в команду, они вас убьют. — Квасик тоже советовал идти после поверки к двенадцатому бараку, откуда эсэсовец отводил больных на обследование в лазарет. Только торговец из Замостья придерживался иного мнения: — Не помните, что они устроили на прошлой неделе? К двенадцатому бараку пришел рябой Герман, аккуратненько переписал все номерочки и отвел болящих в двадцатый барак. Хотите, чтобы и Буковского там прикончили? — Если выйдет нынче на работу, его тоже прикончат, — возразил Квасик, — ведь он и получаса не выдержит с лопатой в руках… — Выдержу, я должен выдержать… — тихо отозвался Ян, стуча зубами. Сделал несколько шагов к еще закрытым дверям и тут же облокотился на нары, так как пол под ним заколебался, словно от сильного землетрясения. — Вот видишь, — подскочил к нему тощий мужичок, — у меня хоть мозги всмятку, так Курт врезал, а все-таки соображаю, что к чему. Куда тебе на работу, бедолага… — И сразу же после утренней поверки Ян побрел к двенадцатому бараку, где уже сидели на земле несколько изможденных хефтлингов. Сидели молча, безразличные к тому, что творилось вокруг. Один из них, с лицом серым, сморщенным, как прошлогоднее яблоко, давился надсадным кашлем, хрипел, словно вот-вот задохнется. Ян прижался щекой к холодным доскам стены и подумал в минутном просветлении, что вся эта кучка узников, трагичных в своем убожестве, утративших даже чувство страха, действительно больше годится для отправки в газовую камеру или двадцатый барак, чем в прибежище болящих. Эсэсовец появился внезапно, точно выскочил из-под земли, и, достав из кармана блокнот в клеенчатой обложке, начал записывать номера больных. Дал пинка задыхавшемуся хефтлингу, но без особого рвения, скорее по привычке, сформировал колонну по двое и выкрикнул самую страшную команду: — Laufen! Бегом! — Ничего хуже и глупее он, пожалуй, не мог придумать. Больные затопали деревянными башмаками, старались выше вскидывать колени, все это, разумеется, не имело ничего общего с бегом. Эсэсовец замахал плеткой, просекал насквозь полосатую робу, хлестал по костлявым лицам, которые уже не могли кровоточить по-настоящему, а больные все топали, беспомощно размахивали руками и двигались так медленно, словно лазаретные койки совершенно перестали их интересовать. Но по крайней мере одно было несомненно — шли не в газовую камеру, так как впереди показался первый барак. Из всей этой группы, едва плетущейся, шатающейся из стороны в сторону, задыхающейся, может, только Ян оценил благосклонность судьбы. Загнанные в сени первого барака, они ожидали термометров. Эсэсовца уже не было, и хрипун растянулся на полу. Он не открыл глаза даже тогда, когда врач стал расстегивать ему ворот куртки. Теперь я могу признаться, Ирена, что порядочно наврал в этих ночных разговорах с тобой. И попытайся некоторые факты забыть. Нельзя подытоживать жизнь от весны до весны, от зимы до зимы. Впереди у меня еще много несвершенных дел, и не предъявляй мне счета, пока дышу. Одно великое деяние, осуществленное за день до смерти, может поколебать чаши на весах справедливости. Погоди, Ирена. Много ночей писал я труд, который может показаться тебе странным, но кому ныне ведомо, что странно и глупо, а что умно и возвышенно? Мне приходится теперь писать без карандаша и бумаги, я диктую памяти слово за словом, и память моя как бумага, и я могу сейчас прочесть с закрытыми глазами всю первую главу. Как видишь, я здесь не предаюсь праздности. Был тут один парень, упоминал ли я раньше о нем? Если нет, то теперь скажу, Стахурский. Арестовали его во время тайной лекции. А лекция была не о минировании дорог и мостов, не о командовании взводом, не об оружии и диверсиях. О протестантизме в семнадцатом веке читалась лекция. Так в чем же дело? А если бы о цветах на нашем лугу? Тоже бунт? Как установить иерархию тем, за которые стоит расплачиваться ценой жизни? Стахурский уже установил это и успокоился навеки. А где дорожка к моему бунту? Ведет она через двор, к старому сараю, и надо отодвинуть клетки с кроликами и выкопать из земли ящик, который никто не ищет. Пистолеты. Так называется мой бунт. Разве бунт — только выстрел? Он и молчание, когда нас вынуждают стонать. Он и надежда, когда делается все, чтобы мы ее потеряли. Он и смех, когда нам велят плакать. Так бунтуй же, Ирена, и пусть наш зеленый домик именно сейчас зашатается от смеха… — Вот тебе, браток, термометр. Вложи его под мышку и прижми покрепче, ведь это же в твоих интересах! — покрикивает бледный санитар, у которого не хватает передних зубов, а Ян учащенно дышит, будто его раза три прогнали бегом вокруг барака, и смотрит на санитара как на непрошеного гостя: — Отвяжись, какой термометр? — Обыкновенный, и ты не бойся, уж я по глазкам твоим вижу, что сорок градусов у тебя, как пить дать. Сыпнячок тебя одолел, братишка… — радуется санитар, но Ян его уже не слышит. Он спешит вернуться к себе во двор, огороженный дощатым забором, тяжело отдуваясь, останавливается у низкой водоразборной колонки, яростно качает, без отдыха, а воды — ни капли. — Что случилось, Ирена, почему ни единой капли? — Санитар тоже запыхался. Он утихомиривает дико вопящего узника, который с пеной на губах рвет на себе робу и бьется головой об стену. — Уймись, гнида, а то схлопочешь по морде, — сказано вроде бы резковато, но беззлобно. Однако прикрикнуть следует, чтобы кто-нибудь не подумал, что хефтлингу в лазарете все позволено: — Тихо, паскуда, термометр раздавишь! Успокойся, дружище, скелет ты ходячий, доходяга несчастный. — Но скелет все воюет, хотя десять минут назад лежал на полу как настоящий покойник и был не в состоянии протянуть руку за термометром. Врач взирает на эту баталию невозмутимо, как будто события развиваются в соответствии с планом. В этой тесной приемной и не такое случалось. Над Яном склоняется врач: — Пан Буковский, пан Буковский. — И еще ниже склоняется, хочет уловить в лихорадочном бормотании больного хоть одно человеческое слово. Душно, Ирена, отвори все окна, мне надо отдохнуть. Нет, я должен наконец изложить тему моего труда. Майданек. Ошиблась. Майданек. Опять ошиблась. Мы имеем в виду одно и то же название и совершенно разные события, весьма друг от друга отдаленные. Ты — Майданек, который рядом с Люблином. А я Майданек, который рядом с Замостьем. Я все объясню, но сперва найди на полке книжечку, пожелтевшую от старости, изданную в Париже свыше ста лет назад. Гославский. Верно, нашла. «Стихи польского улана». По-твоему, это плохая тема? Не опережай событий. Горечь этих стихов — ныне моя горечь, помни, только горечь, ибо от сомнений я наконец избавился. Я хочу рассказать тебе все по порядку, только очень душно, пить хочется, а наш колодец иссяк. — Это точно Буковский? — громко спрашивает врач. Санитару удалось наконец обуздать воинственного узника, и поэтому он может изложить суть дела. — Буковский, Ян Буковский, железно, пан доктор… — он тяжело отдувается, глотает воздух, как рыба, выброшенная на берег, так как хефтлинг, теперь уже агонизирующий в углу приемной, сберег значительно больше сил, чем допускалось при поступлении в лазарет. — Я точно проверил, и все сходится. А вчера после поверки был тут сам Черный Роман и лично просил об этом парне позаботиться — он им нужен. — Мне все нужны, но куда их класть? — ворчит себе под нос врач и снова склоняется над Яном: — Пан Буковский, вы в лазарете и останетесь здесь. — Тиф, как пить дать, — продолжает радоваться санитар, словно болезнь Яна не бедой была, а благодеянием. Они выходят из барака, и холодный ветер приносит минутное облегчение. Бредущий за санитаром Ян встряхивает головой, чтобы окончательно проснуться, в голове действительно немного проясняется. И в этом слабом просветлении начинает шевелиться настороженность. Спотыкающемуся Яну уже небезразлично, куда его теперь ведут. — Куда ты меня, — окликает он санитара, — может, в двадцатый? — Да ты не бойся, в пятый топаешь, — смеется санитар и языком нащупывает десны, передние зубы у него выбиты, — полежишь в лазарете, жив будешь, браток, я тебе это обещаю. — Следом за Яном плетутся еще двое тифозных. Двоих направили в хирургическое отделение. Значит, из четырнадцати человек, которых утром привел сюда эсэсовец, лишь пятеро получили талон на возможное продолжение жизни. Но остальные девять не из тех, что легко сдаются. Завтра, после утренней поверки, они опять соберутся у двенадцатого барака, присядут на корточки и будут в тревоге дожидаться эсэсовца. Может, придет тот же самый? Может, другой, немного помягче? А может, из тех, что стороной обходят лазарет и всех больных препровождают прямехонько в двадцатый барак? Тот ли… Другой… А сколько из той девятки, которой нынче не повезло, доживет до завтрашнего рассвета?
— О чем ты сейчас думаешь? — тихо спрашивает Витольд и не приближается к Сабине. Девушка подсела к приоткрытому окошку, из которого видна часть улицы. Стекло толстое, матовое, и, чтобы что-нибудь высмотреть, надо открыть оконце, хотя бы чуть-чуть. — Я думаю, что мне тут очень хорошо, и этого немножечко стыжусь. — Ты стыдишься, что тебе хорошо? — воскликнул Витольд и тревожно покосился в угол убежища, где на сеннике, набитом шелестящей соломой, похрапывала Доба Розенталь. Сабина спокойным движением закрыла окно на крючок. Матовое стекло слегка порозовело от заходящего солнца. — Вчера днем, когда ты был на работе, мы сидели с мамой у окошка. — Сабина говорила не спеша, словно через силу, и не смотрела в сторону Витольда. — Опять у открытого, а я ведь прошу не открывать, — громко посетовал Витольд, позабыв о спящей женщине. — Ты не тревожься, мы очень осторожно любуемся миром божьим, в узенькую щелочку, как мышки. Я никогда не думала, что в щелку можно увидеть весь свет… Принес мне книгу? — Принес, а что видела вчера? — В эту щелку? — Сабина коснулась лбом порозовевшего стекла, и лицо ее порозовело. — Жандарм провел по улице нескольких старых евреев, бил их нещадно, а потом послышались выстрелы. Мама заплакала, я тоже хотела, только ничего не получилось. Она тут же меня отчитала, ты, мол, совершенно конченый человек, даже плакать не способна. Может, я действительно разучилась? Во сне не раз слезами обливалась, днем же чувствую только боль в гортани, а глаза сухие.. — Никогда не плачь… — прошептал Витольд, с трудом преодолевая дрожь в голосе, и почувствовал, как зарождается волнение, как откуда-то из глубин души подымается к губам теплая волна, размывая, расплавляя слова. — Помни, никогда, разве только от большой радости. — От радости плакать? — Сабина отступила в угол, и лицо ее оказалось в тени. — А почему нет? Неужели ты не видала человека, который плачет над радостным письмом? А разве люди, встречающиеся после долгой разлуки, не плачут? — Сабина с силой закусила губу. Почувствовала сладковатый привкус крови. Ожидала, что будет очень больно, но острые зубы легко прокусили кожу. Значит, все по-старому. Немножко боли, немножко крови и сухие глаза. Может, я действительно конченая, как утверждает мать? Нежные письма, радостные встречи, кто мне напишет? С кем буду встречаться после долгой разлуки? С моим отцом? С Элиашем? С Файвелем Пятьминут? С Ревекой? Со старым Якубом Блюмом? С Эмануэлем, который вечно рассказывал о Бразилии и боялся переступить границы Щебжешина? С Эмиком Менуховым? Или с Хаимом Геблем, который хотя и жил в лесу, но был уже таким, словно его и вовсе не было? Витольд забеспокоился, так как Сабина канула не только в тень, но и в тишину канула. Уж лучше бы стояла у окна с матовым стеклом и даже распахнула бы его настежь. — Сабина, почему ты молчишь? Я сказал что-нибудь плохое? — Хорошо сказал… — она снова до крови прикусила губу, но совсем не почувствовала боли, — плакать надо от радости.
В коридоре пятого барака Ян сбросил свою грязную полосатую робу, стянул с худых плеч пропотевшую рубаху и, дожидаясь больничного белья, услыхал вдруг хриплый смех. — Видно, полетим на небо, ведь у нас уже крылья отрастают, — приземистый, худой и тоже совершенно голый хефтлинг содрогался от какого-то неестественного хихиканья. — Какие крылья? — буркнул Ян. — Вот здесь и здесь, ничего, дружище, не чувствуешь? — Маленький тощий человечек подскочил к Буковскому и принялся похлопывать его по спине, по острым, торчащим лопаткам. — Вот здесь крылышки, как у ангела. И у меня такие же самые. Полетим, дружище, на небо. — Один полетишь, я еще тяжеловат, не оторвусь от земли. — Четырехэтажные нары установлены в лазарете вдоль стен, очевидно, с таким расчетом, чтобы проходы между ними были как можно шире. А Ян подумал, что цель иная: чтобы во время сортировки лежащий узник был виден как на ладони. — Здесь ложись, вот твоя подстилка, — подтолкнул его санитар, у Яна снова разболелась голова. Именно сейчас, когда подумал, что болезнь осталась в сенях барака вместе с грязной робой и завшивленной рубахой. Все вокруг заполыхало, пол вдруг закачался, как палуба корабля в штормовую погоду. — Тут уже кто-то лежит, — простонал он, обессиленно припав к нарам. — Так отодвинь его, вдвоем будет теплее. Не видишь, какая тут теснота? — Санитар поглядывал на Яна с любопытством и знанием дела, как опытный профессионал. Уже третий месяц работает он в лазарете и, как сам говаривал порой, научился больному в душу заглядывать. — Бренное тело может ввести в заблуждение, а душа? Притащили как-то бедолагу — смотреть тошно. На ребрах хоть играй, как на ксилофоне. Кожа — древний пергамент, а под этим пергаментом — одни кости. Всего двадцать девять килограммов живого веса. Кто-то сказал: только зря место занимает, да, к счастью, быстро уберется. А я на это: выживет. И выжил. До сих пор здравствует, в команде огородников трудится, под крылышком чеха Лукеша. А однажды попал в пятый барак то ли бывший боксер, то ли борец. Температурит, стонет и прочие тифозные штучки, мужик еще крепкий, ему ли не жить. И что для такого сыпняк? Должен выдержать. А я не на плоть смотрю, в душу ему заглядываю и говорю: напрасны ваши совершенства. Накроется. И на четвертый день откинул копыта. У меня глаз-алмаз, это талант от природы. — И этим глазом-алмазом он смотрел теперь на Яна. — Так подвинь его. Всюду теснота, не видишь? — И грустно качал головой, а уходя, произнес тихо, но кое-кто расслышал: — Ох, бедняга, душа у тебя совсем иссохла, долго ты у нас не задержишься. — Ян прилег с краю, осторожно, за уголок потянул на себя одеяло. И прежде чем явился врач, чтобы осмотреть новоприбывшего пациента и повесить у него в ногах температурный лист, Яна обступила непроницаемая тьма. Он рухнул в глубокую яму с грязным, вязким дном, и, когда попытался позвать на помощь, вонючая грязь залила рот.
Сабина подошла на цыпочках к матери. Доба стонала во сне и махала руками, словно от кого-то отбивалась. — Тише, мама, я здесь. — Так я, пожалуй, пойду… — произнес упавшим голосом Витольд, но не тронулся с места. Он был недоволен собой, поскольку все кончилось как обычно, то есть опять праздновал труса. И так изо дня в день. Он выслушивал откровения Сабины, отвечал на ее вопросы кратко, односложно, даже кричал, удивляясь потом, что крик дается легче, чем хотя бы одно ласковое слово. А крик этот был прямо-таки живым существом, зловредным зверьком. Терпеливо выжидал, внимательно слушал и вырывался из горла именно в тот момент, когда в сумрачном убежище вдруг вспыхивал яркий свет и доски, солома, штукатурка и вся заваль на чердаке начинали благоухать лугом, летним садом. На солнечном лугу слова должны быть солнечными, а тут — крик. Странный, непредсказуемый, как будто в календаре все перепуталось и в июне посыпал снег. Сабина тогда заглядывала ему в глаза, ничего не понимая, и крик обрывался. Мимолетное возвращение зимы завершалось неловкой паузой. Доски, солома, штукатурка обретали свой изначальный цвет и фактуру, в убежище снова пахло затхлостью. — Успокойся, мама, я все время с тобой. — Витольд положил книжечку в твердом красном переплете на табуретку, подле стакана с недопитым кофе. — Так я пойду вниз, — сказал он. Девушка, видимо, не расслышала его слов. Не случайно принес он Сабине эту книжку. Были в ней стихотворения Ленартовича, Словацкого, Красинского, Гомулицкого. Некоторые подписаны только именем автора или одной буквой, словно поэт не хотел себя обнаружить. Может, находился в таком положении, как ныне Витольд? Может, в человеческих чувствах ничего не изменилось с тех времен, когда Мария Конопницкая собирала эти стихи о любви и потом издала их в одном томике? Есть даже год издания: 1889-й, и возле даты какие-то слова, но Витольд не мог их прочесть, они были написаны по-русски. «Цветы и песни». Не случайно именно эту книжку кладет он сегодня на табуретку, в тесном убежище, где нет цветов и нельзя петь. Сабина вдруг оборачивается: — Не забудь оставить книгу. — Тут она лежит, на табуретке. — Приходи вечером, когда будут звезды. Мне нравится, как ты рассказываешь о звездах. — Может, приду. — В прошлую субботу, когда Вежбовский велел ему прибрать в конторе, он почувствовал, что тишина вдруг перестала быть его союзницей. Страх овладел им, а из страха родилась тоска, как будто их с Сабиной разделяет по крайней мере тысяча километров. И вдруг они поменялись местами. Не Сабина сидит в убежище, тревожно дожидаясь его возвращения, считая каждую минуту опоздания. Это он теперь — затворник, заточенный в тесной конторе, где не хватает воздуха. Вырваться отсюда? Но ведь эта тесная, душная нора дает какой-то шанс уцелеть. А Сабина разгуливает в голубом платье по избицким улочкам, бегает по садам, лугам, и все ей улыбаются. Увидал ее полицай Шимко и тоже улыбнулся, совершенно обалдевший, — такое она произвела впечатление. Поклонился, сняв форменную фуражку, а ведь блюститель порядка, здороваясь, головы не обнажает. Нижайший поклон очаровательной панне. Бежит Сабина, едва касаясь земли. Вернется ли, не собьется ли с пути, не забудет ли затворника, заточенного в конторе Вежбовского? Кладет Витольд на ящик серый бумажный пакет, достает из кармана чернильный карандаш, опускается на колени и начинает записывать второпях, чтобы не потерять ни одного слова:
Ты приходишь, как шелестящий Теплый ветер из майского сада. Ты мой день без тревог и несчастий, Ты восхода час и заката. Ты как ветер спешишь шелестящий — Замирает весь мир в поклоне. Убежим из страны несчастий И любовь унесем в ладонях[5].Прочел несколько раз и порвал на мелкие клочки, словно из опасения, что пакет, чего доброго, попадет в руки Вежбовского, который завесит в него полкило крупы или муки, оскверняя возвышенную молитву к Сабине. Порвал, но не забыл. «Ты восхода час и заката…» Почему он трусит ей признаться? Сабина, вспоминая трагедии Щебжешина, часто смолкает, смотрит на Витольда с какой-то болезненной беспомощностью. Может, именно в такие минуты ждет от него сокровенных слов. «Ты как ветер спешишь шелестящий…» Таких слов? «Теплый ветер из майского сада…» Что его останавливает? Неужели поэзия — порождение человеческой робости? — Кто здесь? — вскрикивает Доба Розенталь. Она открывает глаза, а ей все еще мерещится опасность. Из рук жандармов вырвалась, а теперь снова надо вырываться. — Ведь это наш Витольд, мама. Что ты волнуешься? — В голосе Сабины мягкость, но движения энергичны. Она крепко, во всю силу своих худеньких рук обнимает мать, и разволновавшаяся женщина опускается на сенник. С минуту в убежище слышно только учащенное, слабое дыхание. И наконец раздается голос, как бы замирающий от стыда: — Ах, это ты, Витек, а я снова видела такой кошмар, что жутко вспомнить. Такие сны способны окончательно доконать человека. Сабина, дай мне чаю, там еще осталось в стакане. — Осталось немного кофе, — спокойно говорит Сабина, подходя к табуретке, но не стакан берет, а книгу в красном переплете. Над каждым стихотворением — яркий цветок, как живой. И на каждой странице — другой. Незабудка, роза, маргаритка, ландыш, сирень, распустившаяся калужница с зеленым листком, анютины глазки. «Всю ночь мне снился ландыш благовонный…» — Стихи принес? — улыбается девушка Витольду. Вчера она как раз думала о стихах, значит, он отгадал ее желание. Наконец-то. — Кофе, чай, какая разница, все равно суррогат, как и наша жизнь, давай побыстрее этот стакан, — упорно напоминает о своем существовании Доба Розенталь. Дела у нее не так уж хороши, хоть Ирена и уступила ей свое успокоительное снадобье. Доба плачет во сне, а когда просыпается, капризничает, как маленькая. Даже спокойные часы, когда она владеет собой, что, впрочем, случается редко, не приносят полной разрядки, так как спокойствие Добы весьма своеобразного толка. Сидит Доба спокойно в убежище или на кухне, когда поздним вечером уже крепко заперта дверь и плотно завешены окна черными шторами. Сидит спокойно и говорит спокойно о расправе над евреями, о Ширинге, о жандармском начальнике Фримере, о смерти мужа, который вскакивал с постели и осыпал проклятьями еврейских полицаев, хотя вся голова была уже разбита до крови еврейскими палками. — Нельзя непрестанно об этом думать, — протестует Ирена, — у вас дочь, у вас есть ради кого жить. — А они, они все, которые там остались? — вопрошает Доба очень спокойно, без протеста в голосе и словно не ожидая ответа. — Так придешь сегодня вечером, когда будут звезды? — Сабина берет с табуретки стакан и пятится, продолжая смотреть на Витольда. — Постараюсь, но у меня велосипед сломался и есть кое-какая работа… — Саба, как ты ходишь? Ты сейчас споткнешься и наделаешь шуму!.. — восклицает Доба Розенталь, чуть приподнявшись на сеннике.
Уже был завтрак, прошел врачебный обход, и сделаны пометки в температурных листах. Сосед Яна вытаскивает из-под сенника припрятанную пайку заплесневелого хлеба и принимается жевать, пуская слюни и громко чавкая. — Вы заметили? У меня появился аппетит, это хороший признак. А я уже был в таком состоянии, что и рта бы не открыл, если бы мне под нос подсунули ломтик сочной ветчины… — Заметил… — сказал Ян, тупо разглядывая небрежно оструганные доски, которые нависали над головой, как крышка гроба, — еще два-три дня — и вас выпишут из лазарета. — Не дай бог, — испугался сосед и на минуту даже забыл о хлебе, — уже почти не лихорадит, но что от меня осталось? Если через три дня выгонят в какую-нибудь тяжелую команду, то на вечернюю поверку меня приволокут на носилках. Я, уважаемый, совершенно случайно вернулся с того света. Был уже в бараке для доходяг и даже не понимал, где нахожусь. Вытащил меня в последнюю минуту старый приятель, который работает в авторемонтных мастерских, в Fahrbereitschaft. Каким-то чудом вытащил, договорился с капо Фрицем, и только поэтому живу. Кто хоть раз побывал стопроцентным доходягой, потом цацкается с этой треклятой жизнью, как с китайской вазой. Мне надо продержаться в лазарете еще неделю, чтобы окрепнуть, или хотя бы дней пять. Боже милостивый, подумать только, что я уже подыхал в гамельблоке. С завтрашнего дня, уважаемый, начну натирать термометр, авось сойдет. Вам-то нечего жаловаться на отсутствие горячки. — Яну действительно не приходилось об этом беспокоиться. Особенно по вечерам, когда голова разламывалась от боли и он внезапно терял сознание. Утром температура спадала, и откуда-то издалека возвращался к Буковскому нагой, голодный, шелудивый страх. Склонялся над Яном, вдавливал голову в подушку и начинал стращать деловито, убедительно, бесстрастно: — Сортировка! Барак переполнен, лазарет трещит по швам, и вот-вот двери перед высокой комиссией распахнутся. И станет в дверях твоя черная судьба, и ты непременно проиграешь, ибо какие у тебя права на выигрыш? В рабочую команду не погонят, ты и ста шагов на собственных ногах не сделаешь. Сделаешь? — Нет. — А долго ли намерен в лазарете валяться? Днем-то ты еще малость на человека похож, а по ночам подыхаешь и не можешь подохнуть. Ты, так сказать, стоишь посередке. Слева — лазарет, справа — команда ассенизаторов или какая-нибудь другая приличная работенка. А тебе нельзя ни влево, ни вправо. Куда же такого девать? Du bist krank? Ты болен? — Нет! — отвечает Ян своему нагому страху. — Значит, здоров. Die Arbeit wolltest du verweigern? Хочешь продолжать работу? — Нет! — снова кричит Ян, давясь кашлем. — Куда же такого? Zum Gammelblok?! В барак доходяг? — Пошел ты в задницу! — В голосе Яна звучит наконец бунтарская нотка, и страх начинает отступать. — Чего вы меня в задницу посылаете? — морщится сосед. — Это я про себя. Боюсь сортировки и говорю с самим собой… — Понятно. Есть чего бояться. — Сосед как раз проглотил последнюю крошку заплесневелого хлеба и повернулся на левый бок, лицом к Яну. Немного помолчал, прислушиваясь к отзвукам жизни в бараке. Утробные стоны сливались с бранью и исступленными воплями тех, кого даже в эту предобеденную пору не отпускала горячка, и все-таки в лазарете было теперь значительно тише, чем вечером. Поэтому таким резким показался внезапный крик санитара, который отчитывал пройдоху с верхнего этажа: — Кого хочешь облапошить, паскуда? Твой сосед откинул копыта не менее двух дней назад. Почему не заявил? Два дня его харчи жрал? — Не вчера он умер. Может, нынче на рассвете. Я думал, что спит, — защищался хефтлинг. — Старый фортель, — спокойно произнес сосед Яна, — такое удается лишь на верхних этажах нар… Уважаемый, я честный поляк, и уж вы мне объясните насчет этого взрыва? — Не понимаю… — удивился Ян. — Я тоже не понимаю, и отсюда мой вопрос, — сосед пододвинулся еще ближе к Буковскому, теперь они почти касались лицами. — В бреду вы все время кричали какому-то Гославскому, что надо биться до последнего патрона, но Замостья взрывать нельзя. Я вам даже рот затыкал, к чему разбрасываться фамилиями? Всюду разные люди. Подслушает какой-нибудь подлец — и попадете в Politische Abteilung. А что может быть хуже гестапо? Пожалуй, уж лучше в барак к доходягам. — Буковский закрыл глаза и, по-прежнему ощущая на лице горячее дыхание соседа, начал осторожно отходить на пыльные проселки под Замостьем, по которым маневрировал эскадрон капитана Верещинского. Триста волонтеров с Подолья и Волыни, из-под Цуднова, Чорткова, Бжежан, из Сосновца на Стрыпе и Трембовли. И Замостье для них — как скалистый остров, который уменьшается с каждым днем, поглощаемый прожорливым морем. Сдать крепость? У кого была хоть искра надежды в последний день августа, когда Верещинский лихой атакой взял Майданек? Атаковало только семьдесят восемь всадников, а разнесли в клочья две роты царской пехоты. Но остров остался островом. Так считайте дни. Когда неизбежно приближается конец, важен каждый день и даже каждый час. Ведите счет часам, ибо неправда, что с исторической точки зрения часы якобы ничего не значат. Минута свободы тоже имеет определенную цену, как и минута жизни. Такими ли именно доводами убеждал Гославский офицеров? Но Гославский был поэтом, а полковник Крысиньский, командовавший Замойской крепостью, должен был отдавать себе отчет в том, что поэзией противника не сломить. Особенно генерала Кайсарова, которого не проймешь никакой утонченностью. Разве слово не обернулось делом? Ведь уже вторая половина октября. Верещинский внимательно слушает, хоть и чувствует себя не лучшим образом. Дает о себе знать рана, полученная под Майданеком. — Послушай, Верещинский, в Варшаве уже давно Паскевич, с сентября, и теперь только мы — последний оплот, — Гославский повышает голос, точно ко всему эскадрону, к трем сотням добровольцев обращается, — на нас теперь все смотрят. И речь уже не о какой-то надежде, ибо надежды нет. Так будем же творцами фактов, ибо факты нам когда-то зачтутся. Каждый день борьбы является таким фактом. Понимаешь, куда я клоню? — Гославский сложными путями попал в стан восставших[6]. Во время русско-турецкой войны он подшивал какие-то бумаги в штабе русских. Выйти из восстания хотел простейшим путем. — Меня незачем убеждать, — отвечает Верещинский, преодолевая усталость, так как не спал уже две ночи и рана, полученная под Майданеком, беспокоила. — С военной точки зрения дальнейшая оборона Замостья не имеет смысла, но я и мои офицеры не помышляем о капитуляции. — Так было? Не тогда ли воскликнул взволнованным голосом Гославский, что лучше крепость взорвать, нежели капитулировать? А может, этот возглас раздался несколько дней спустя, после окончания военного совета? Был он бурным, но не слишком долгим. Полковник Крысиньский переждал, пока уляжется первый всплеск эмоций, и спросил: кто за сдачу крепости? Сотня рук медленно потянулась вверх. Полковник немного поколебался, хотел что-то сказать, но понял, что возвышенные слова, которые до последнего момента держал в резерве, утратили смысл, и молча поднял руку, поддерживая большинство. Семь офицеров были против капитуляции. Все из эскадрона Верещинского. Так, может, именно тогда Гославский окончательно потерял голову? Ян напрягает память, так как некоторые детали снова расплываются. — Вы уснули или говорить неохота? Я на чужие тайны не посягаю, тем более на такие, но должен предупредить, что с моей стороны никаких подвохов не будет. — Сосед вздыхает, откашливается, обдумывает каждое произносимое слово. Хочет выразиться так, чтобы в словах его не было ни навязчивости, ни холодности. — Вы проговорились в бреду, я это сделаю на трезвую голову, и счет будет ничейный. Я подыхаю здесь за родного брата, который впутался в какую-то серьезную историю, но успел смыться. Меня взяли в залог и предупредили, что отпустят, если этот щенок добровольно явится в гестапо. Надеюсь, что он не сваляет такого дурака. Ему едва стукнуло двадцать лет, впереди у него огромная жизнь. И он точно из таких, как этот Гославский, о котором вы рассказывали в бреду. Так вот, порой думаю: я здесь за брата или за нечто большее? Легче жить, легче подыхать, если известно, что за нечто большее. А меня взяли только в залог. — Гославскому легче, он давно в сырой земле истлевает… — говорит Ян по-прежнему с закрытыми глазами, словно не желает расставаться с делами давно минувшими. — Так, значит, его все-таки поймали и убили, сукины дети! — восклицает сосед гневно и с искренним сожалением. Он успел привязаться к Гославскому, так как всегда питал слабость к отчаянным смельчакам. — Наверно, лез на рожон, жизнью не дорожил, наверное, был молод? — Тридцать два года, — и лишь спустя минуту возникает более трезвая мысль. Надо объяснить. Гославский действительно умер в австрийской тюрьме, очень давно, в тысяча восемьсот тридцать четвертом году. Объяснить, что речь идет о другом Замостье, о другом Майданеке, о битве иной, ином сражении и иной надежде? Объяснить? Ведь я никого не вводил в заблуждение. Просто выдал в бреду частицу моей тайны. Может, сегодня вечером или завтра ночью покричу, доскажу еще что-то, но это по-прежнему будет касаться только моих дел. Я выхватывал из мрака судьбы тех людей, чтобы о своей судьбе не думать. Точно ли ради этого? Есть какое-то ВЧЕРА, есть какое-то ЗАВТРА, есть что-то происходящее сегодня. В нашей совести. «Погибай, но кровь и слезы понапрасну не прольются». Это твои слова, Гославский, вопреки отчаянью ты верил и, кощунствуя, до конца питал надежду, что «понапрасну не прольются». Итак, речь о другом Замостье? О том же самом. О тех же самых деревнях, взятых в конном строю, которые существуют поныне и говорят по-польски и по-польски умирают. О надежде, которая тебе была нужна и мне нужна. Старые деревья упали, но выросли новые. Реки текут в том же самом направлении, наши источники не иссякли, наши сыновья повторяют вслед за нами: «понапрасну не прольются». Твою смерть и смерть моего Феликса разделяет минута, ибо СЕГОДНЯ — вся наша история. Итак, ты умер сегодня. Что тут еще объяснять этому несчастному человеку, чье горячее дыхание я ощущаю на своем лице, человеку, который жаждет в тебя верить и уже поверил. И вера эта ему крайне необходима, ибо не совершил он в своей жизни ничего выдающегося, как я, и поэтому должен проникнуться убеждением, что умирающие за несовершенное деяние не всегда умирают ни за что. Он хочет жить, каждому хочется, так пусть же светит ему звезда удачи, но если суждено тут сгореть… — Так вот, доложу я вам, дело было под вечер, а брат по дому мечется, подскакивает, словно раскаленный пол ступни припекает, потом вдруг выскочил в сени и вытащил из тайника радиоприемник. Господи, откуда у него приемник? У нас прямо глаза на лоб повылезали от страха и удивления, поскольку мы сто раз мимо этого тайника проходили и ничего не заметили, так ловко был устроен. Брат приемник в мешковину завернул — и до свидания. Чудо или чудесное предчувствие, так как ночью нагрянули гестаповцы и такой учинили обыск, что и до тайника добрались, да он уже был пустой. И меня взяли не за приемник или за что-то подобное, а бессильной злобы ради, в отместку, то есть за брата. Так было, и бог свидетель, что только так. — Но если суждено ему тут сгореть, то пусть поверит в последнюю секунду, что не просто так, что подвиги его сражающегося брата и ему зачтутся. И не может быть иначе. Твою смерть, Гославский, и смерть аптекаря из Лапенника разделяет лишь одна минута, смерть этого аптекаря и мою — секунда. Есть железная логика в этой кровавой исторической эстафете. Все СЕГОДНЯ. «Не прольются понапрасну…» Да, я хочу жить.
Окно в кухне не только черной шторой — толстым одеялом завешено, но они разговаривают шепотом, и во время этих не слишком частых вечерних бесед слух у них так обостряется, что слышен скрип калитки за десять дворов. Вероятно, было бы безопаснее, если бы Ирена сидела теперь с Добой Розенталь на чердаке. Ирена моложе, здоровее, более энергична, может за восемьдесят секунд преодолеть расстояние между убежищем и кухонной дверью. Однажды они это точно проверили. Витольд стоял внизу и стучал в дверь, следя за секундной стрелкой часов, а мать пробежала по чердаку, бесшумно закрыла деревянную крышку потолочного люка, спустилась по лестнице со стертыми перекладинами, толкнула дверь, ведущую из темной, без окон, кладовки в кухню и, тяжело отдуваясь, крикнула: — Открываю! Кто там? — Восемьдесят секунд, — произнес Витольд в раздумье, — только восемьдесят, а ты усталая, заметно, что бежала, это уже подозрительно. — Конечно, было бы безопаснее посидеть с Добой в убежище, но Ирена знала, что делает, и зря не рисковала. Первые две недели Доба жила как в летаргии. Лежала пластом на сеннике, не разговаривала, почти насильно вливали ей в рот молоко, суп, чай, и тогда она смотрела на окружающих широко открытыми глазами, в которых было холодное безразличие, в которых угасала жизнь. Когда-то жил в Избице доктор Мариан, внушавший Ирене безграничное доверие, его арестовали в начале сорокового года и вывезли как будто в Дахау. Буковская прикидывала, кому еще можно было бы довериться, и пришла к выводу, что дело это безнадежное, так как от болезни Добы человечество еще не изобрело лекарства. Когда же сделалось совсем плохо, вдруг произошел перелом. Может, оттого, что Доба не дорожила жизнью, жизнь взбунтовалась в ней, начала отстаивать свои права на голод и сытость, на гнев и страх. Итак, настал день, когда Доба Розенталь, словно очнувшись от глубокого сна, взглянула вокруг с удивлением и любопытством. Сама потянулась за стаканом молока и, глотая его, заплакала. Этот плач обрадовал Ирену, так как убеждал, что летаргия наконец минула. Кто плачет, тот чувствует и помнит. Это были ценности достаточно важные, чтобы с надеждой, с умеренным оптимизмом подумать о начале нового этапа в жизни Добы Розенталь. Ирене приходилось так часто думать о не пустующем уже убежище и двух женщинах, которым оказала гостеприимство, что совершенно не хватало времени призадуматься над своей судьбой. А ведь сколько странностей, сколько загадок было за последнее время. Почему она не умирает от страха, когда во двор заходит полицай? Почему не превращается в соляной столп, когда у калитки останавливается жандарм? Откуда у нее вдруг столько энергии, сопротивляемости? Она возвращалась как-то домой, а возле почты жандарм выстрелил в еврея-подростка. Парнишка пополз к стене, словно эта стена могла заслонить его от следующей пули. Пополз медленно, оставляя кровавый след. Наконец прислонился к стене и умоляюще взглянул на жандарма, который возвышался над ним, загораживая ему небо своей огромной тушей. Умолял, чтобы добили? Просил пощады? Прохожие разбежались, а Ирена стояла в десяти метрах от подростка, который дождался-таки второго выстрела. — Что слышно нового? — спросила ее Доба через полчаса. — Тихо, спокойно, — улыбнулась Ирена. — Я раздобыла бутылку растительного масла, на ужин будут картофельные оладьи. — Вечером она наложила на тарелку груду оладий, налила в кувшин горячего кофе: — Отнеси это наверх и сразу же возвращайся. — Витольд остановился у дверей, ведущих в чулан. — Мама, я должен тебе сказать… — Пожалуйста, скажешь, когда вернешься, если дело не срочное. — Это очень важно, — шепнул он, ища ее взгляда, но она по-прежнему склонялась над плитой, занятая оладьями. — Я должен тебе сказать… Никогда не думал, что ты можешь быть такой. — Какой? — спросила Ирена с нескрываемым любопытством. Он замялся, недоставало слов для ясного и точного определения той перемены, которая произошла в повседневном поведении матери. Но вот откуда-то взялось вдохновение. — Такая, как отец! Такая! — воскликнул он, поспешно ретируясь из кухни, так как был слишком растроган и боялся, что прослезится. Доба Розенталь активно наверстывала потери, причиненные двухнедельной летаргией. Ощущала нарастающий с каждым днем голод. Голод обыкновенный, биологический, и вместе с тем алкала она вестей из того все более отдаляющегося мира, от которого пряталась. Первый голод удавалось перебарывать, второй был непобедим. На Ирену обрушивались вопросы, как тяжелые камни, ей удавалось лишь изворачиваться, уклоняться, она не могла остановить этой лавины однозначным, правдивым ответом. — Я изворачиваюсь, но ты не терзай меня подолгу вопросами, — шептала она ночью, глядя в потолок и чувствуя, как этот потолок трещит под тяжестью вопросов, которые копит на чердаке Доба Розенталь. — Зачем тебе подробности? Не спрашивай, о чем легко самой догадаться. Смерть в Щебжешине ничем не отличается от смерти в Избице. Не спрашивай. Обретайся в мире домыслов, предположений, недомолвок, ведь только тогда сможешь встречать каждый новый день проблеском надежды. Я этому уже научилась и потому верю в благополучное возвращение Яна. Не спрашивай. Легче тебе станет, если подробно расскажу о том, что творилось двадцать шестого марта? Дощатые стены вагонов трещали, такая была давка. Люди сидели друг на друге, и плач был слышен за версту. Прежде чем эшелон дополз до Белжеца, смерть собрала первую жатву. А на кладбище стреляли и стреляли. Целый день и полночи. Мы слушали, шепча молитвы запекшимися губами. Скорее бы это кончилось, скорее бы земля расступилась у всех нас под ногами. Скорей бы поглотила в одну секунду тех, кого косят залпы, и тех, кто стреляет, и тех, кто, затаившись в своих домах, прислушивается к залпам. Легче тебе? Потом привезли евреев из Чехословакии, но тут еще есть горстка наших, избицких. Они не выторговали себе жизнь, попросту для чего-то еще нужны немцам. А ты спрашиваешь о Хелме, потому что оттуда родом какой-то Элиаш Вассер. Я знавала старого Вассера, прекрасного сапожника и прекрасного человека. Господь над ним сжалился, ниспослал спасительное безумие, и пошел старый Вассер за своей свинцовой пулей, как воды напиться. Ты все о Хелме спрашиваешь, а я беспомощно пожимаю плечами. Ничего не знаю. Ни единого слова не скажу. Одиннадцатого апреля погрузили их в телятники, и паровоз прогудел трижды, словно от имени всех отъезжающих Якубов, Авраамов, Хаимов, Ревек и Рахилей прощался навсегда с улочками Хелма, с домами, дворами, с травой весенней. Немцы штыками перины вспороли, а день был ветреный, и все побелело вокруг, как в январе. И кто-то сказал, что ангелы пролетают над городом и чистят крылья. Возле маленького домика стоял деревянный конь-качалка. Паровоз прогудел трижды, и эшелон уехал. Уехал в телятнике и тот черноволосый мальчонка, который оставил коня возле дома, а конь качался все сильнее, словно хотел разогнаться, поскакать, догнать длинный состав, следующий в Белжец. Так мне рассказывал знакомый путеец, который божился, что видел все это собственными глазами. Но я ничего не знаю. Я знаю, что кровь на щебжешинском еврейском кладбище так же быстро впитывается в землю, как и на избицком, значит, и ты, и я знаем все. — Окно в кухне не только черной шторой, толстым одеялом завешено, но женщины разговаривают шепотом. — А свиное сало? — Пятьдесят злотых. — А масло? — Шестьдесят, даже шестьдесят пять. — А хлеб? — Восемь за килограммовую буханку. — Дороговизна, но в Щебжешине было еще хуже. Я, разумеется, имею в виду евреев, так как поляки могли ездить в деревню, а мы последние месяцы полностью зависели от отчаянных любителей большого риска. Я помню, что в марте за полкило свиного сала заплатила сто злотых. — Доба обескураженно разводит руками, задумчиво смотрит на них и вдруг оживляется, расстегивает платье, достает из-за пазухи красный плюшевый мешочек, — это все, что мы с Сабиной имеем. Пришлось многое продать, чтобы вылечить Леона, и еще соседям помогала, ведь у меня и в мыслях не было уходить из родного дома, разве что на кладбище. Пожалуйста, это все, — и она высыпает из красного мешочка два золотых перстня, золотые серьги, обручальное кольцо и серебряные мужские запонки. Лежит все это на столе рядом с луком, хлебом, солонкой, кучкой редисок и баночкой свекольного мармелада, а Ирена даже не знает, что́ Доба Розенталь высыпала из своего мешочка, так как на лицо ее смотрит, а не на руки. Только слышала, как что-то застучало о крышку стола. — Спрячьте, пожалуйста. Если мне не хватит денег, я обращусь к вам, а пока еще есть. — Глаза Добы темнеют от сожаления, а возможно, и от стыда, что за жизнь Сабины и свою собственную отвалила такую мелочь. Может, Буковская обиделась? — Это немного, я знаю, какие теперь цены, но у меня больше ничего нет. Что я могу иметь по нынешним временам? — Пожалуйста, спрячьте это, — повторяет Ирена мягче и кивает головой, словно себе поддакивает, — я продала вчера золотую царскую пятирублевку, значит, до конца месяца не будет проблем. Витольд зарабатывает мало, но приносит из лавки сахар, муку, иногда немного жиров. Вежбовский, у которого Витек работает, дружил с моим мужем и помогает нам по мере сил. Самое главное, что Витольду надежные документы оформил в арбайтсамте. Пожалуйста, все спрячьте, и желаю вам с этими вещицами никогда не расставаться. Пятирублевка — просто золото, а у перстней особая цена. По себе знаю, я отдала перстенек и обручальное кольцо полицаю, который должен был спасти Яна. Смотрю иногда на палец, где остался след от кольца, и этот след болит. — Доба Розенталь принимается вдруг одеревеневшими пальцами укладывать золото в красный мешочек. Доба Розенталь очень хочет сейчас заплакать и знает, что непременно должна пролить слезы над судьбой Ирены, своей собственной судьбой и судьбами всех осиротевших, одиноких женщин, но из горла вырывается только жалобный стон. Впервые нет сил разрыдаться. Может, это мстит мне моя совесть? — покаянно думает она. — Не стану отпираться, взяла смертный грех на душу, подозревая Буковскую в алчности. Но одна ли я грешу, не отличая хороших людей от плохих? Мир докатился до грани массового безумия. Добрые люди глубоко прячут свою святость, ибо доброту теперь необходимо скрывать. Плохие люди прикидываются хорошими, так как из этого можно извлечь немалую выгоду. Как во всем этом разберешься?.. Витольд передвинул старую кушетку к чердачному окну. Окно большое, не такое, как в убежище, но они смотрят на звездное небо сквозь запыленное стекло. Говорить шепотом не хочется, а если бы открыли окно, их голоса были бы слышны во дворе Томася. Ведь ночь не только звездная, она очень тихая, затаившаяся, сдерживающая дыхание, как узник, которому удалось вырваться из-за колючей проволоки и который окаменел в канаве, заметив немецкий патруль. Если бы выйти сейчас на середину улицы и щелкнуть кнутом, раздался бы звук, похожий на пистолетный выстрел, — когда тишина замирает от страха, любой звук удваивается, а шепот кажется громким возгласом. Поэтому не нужна им тревожная тишина, хоть бы и благоухала она цветущим садом. С них достаточно неба, созерцаемого сквозь запыленное стекло. — Сколько на небе звезд? — спрашивает Сабина и пытается сама себе ответить: — Пожалуй, пять тысяч. — Помножь это число на десять, — улыбается Витольд, хотя очень мало знает о небесных телах. — Я говорю о звездах, которые видно невооруженным глазом. Смотри сюда, Большая Медведица, или Большой Воз. Куда бы ты хотел поехать на таком возу? — Витольд на минуту задумывается и смотрит теперь не на небо, а на руку Сабины, повисшую в полумраке, парящую на фоне окна, как усталая птица, которая ищет укрытия. — Никуда не поеду, мне и здесь хорошо, а впрочем, никуда отсюда не двинусь, пока не вернется отец. — Наверняка вернется… — У Сабины начинают дрожать губы, она своего отца вспомнила, который теперь далеко-далеко, на самом верху Большого Воза. — Мне тоже хорошо здесь, а лучше всего, когда разговариваю с тобой. — Рука Сабины медленно опадает, слетает на край кушетки, и Витольд почти осязает, почти касается пальцами крыльев этой птицы, которая встревоженно шевелится и может снова взлететь. Как сказать ей, чтобы осталась, ибо это и есть самое надежное гнездо? — Понравилась тебе книга? — Замечательная! — восклицает Сабина. — Столько в ней цветов, а я уж почти забыла, как выглядит настоящий сад. Настанет ли когда-нибудь такое время, когда я смогу утром выйти в сад и нарвать столько пионов, чтобы в десяти вазах не поместились, и буду идти с этими цветами, и ни от кого не придется убегать? — Будет, ведь немцы войну не выиграют. Весь свет с ними сражается. Я как-нибудь принесу тебе тайную газетку, и ты сама прочтешь, что скоро все переменится. Там пишут, я даже матери показывал, что в мире воцарится добро. — Витольд смолкает, как бы смущенный своей горячностью, а Сабина смотрит на него так, точно он впервые открылся ей по-настоящему. — Скажи, Витольд, скажи еще о людях, которых я встречу на дороге, возвращаясь с цветами. Улыбнутся ли они мне, примут ли от меня цветы, если им предложу? — Все будут счастливые, улыбающиеся… — Голос у него дрожит, ведь он говорит о всех счастливых, а думает только о себе и Сабине. Почему так получается? — думает он, столько плохого повидал и, может, поэтому стыжусь хорошего? Те две девушки с полицаями… Знаю, как это выглядит, а чего еще не знал, досказал Зенек. У них, что ли, другая кровь, другие сердца, другие души? Сидели они когда-нибудь с парнями на чердаке и смущались, если их руки оказывались рядом? Как в этом разобраться? Да, я все видел, а Сабине даже словом не посмел бы об этом обмолвиться. — Хочешь, я прочту тебе стихотворение из твоей книжки, — нарушает тишину Сабина, — специально выучила на память, чтобы тебе прочесть. Хочешь? — Витольд утвердительно кивает, и тут же раздается ее спокойный, почти веселый голос:
Мне на свадьбу собираться В день веселый этот. Ведь земля идет венчаться В храм весны и света. Свой венок она надела, Песню напевая, А в саду деревья в белом, Как подружек стая[7].Две руки сближаются, слегка касаются друг друга. И все еще в тишине, так как стихотворение давно кончилось, и все еще робко, хотя невеста надевает венец, и во тьме, ибо глаза теперь должны быть закрыты, чтобы иного мира не видеть, кроме мира своего, который в этих, уже соединившихся руках, в пульсирующей крови. — Если хочешь, поцелуй меня, — говорит Сабина так тихо, что тише уже нельзя. Витольд слегка касается губами ее щеки и знает отныне, что самые прекрасные на свете стихи, даже те, что столетней давности, лишь для нее были написаны. И что никогда не испытывал он большего счастья, чем теперь… Доба Розенталь берет два ломтика хлеба и объемистый кувшин с горячим кофе. — Я сегодня в этой кухне снова поверила, что мир еще не погиб, — говорит она Ирене. Слышится скрип отворяемой двери, а потом стук башмаков на лестнице. Доба Розенталь карабкается на чердак, в свое надежное убежище. А у Сабины все еще закрыты глаза…
10
— Вы спите? — Санитар наклоняется над Яном, но Ян не открывает глаз. Побыть одному. Замкнуться в своей благостной тьме, из которой все видно. Дом обрастал диким виноградом вплоть до той первой военной зимы, когда мороз сгубил молодые побеги. Лишь через много месяцев заметил ты эту утрату. Все зазеленело, а стебли, веточки, которые оплетали наш дом, стали серыми, твердыми, похожими на пеньковые веревки. Предостережение? Просто мороз. Вчера выпал первый снег, и между бараками, говорят, белым-бело… — Он не спит, только что лежал с открытыми глазами, надо его толкнуть, — говорит сосед Буковского с внезапным рвением и подобострастно смотрит на санитара. Санитар вроде бы мелкая сошка, но всякое может случиться. Тут всякое бывает… — Уважаемый, открой глазки. Передо мной можешь не прикидываться тяжелобольным, — досадует санитар, — я кое-что принес. — Буковский неохотно выходит из недр темноты, откуда виден весь белый свет. Более яркий, чем тот снег, который уже наверняка затоптан сотнями деревянных арестантских башмаков. А санитар быстро вытаскивает из кармана кусок хлеба и две печеные картофелины. — Господи, это же роскошь… — стонет сосед Буковского. — Не для тебя, ты что-то слишком много болтаешь и прислушиваешься, — в голосе санитара гнев, но не такой, чтобы прятать голову под одеяло. Поэтому сосед продолжает наблюдать, но уже в полнейшем молчании, как хлеб и картошка перекочевывают из рук санитара под серое, драное одеяло Буковского. — От кого? — спрашивает Ян и прижимает к себе нечаянное богатство, словно из опасения, что ринутся на него те, кто уже благополучно преодолел тифозную горячку и теперь охотится за любой крошкой и шелухой — ведь не для того они пережили сыпняк, чтобы погореть при первой сортировке. — От разных людей, от Квасика, Черного Романа, лопай, дружище, не откладывай на завтра, а то из-под одеяла вытащат, когда уснешь. — Квасика знаю, а Черный Роман? Вроде я его не знаю… — Что поделаешь, — санитар наконец улыбается, и эта улыбка делает его моложе. Но тут же хмурится, припомнив, что, кроме хлеба и картошки, должен передать еще кое-что на словах. Он придвигается поближе к Яну, шепчет ему почти в ухо: — Дело дрянь, черт знает, чем это кончится. Вчера было большое переселение, всех поляков перевели с первого поля на второе и третье. Говорят, какая-то команда готовила массовый побег. — Какая? — вскрикивает Буковский и садится на своей подстилке. — Не знаю. Да какая теперь разница? — санитар смотрит на Яна с грустным спокойствием. — Второй день нет приема в лазарет. Всех больных, которые записались к врачу, погнали прямиком в газовую камеру. Не откладывай эту жратву, как бы не пришлось о ней пожалеть, а я бегу, передал, что велели передать. — И умчался. — Это не наш, кажется из хирургического отделения… — шепнул сосед, чтобы завязать разговор, но Ян молчал. Даже о еде на минуту забыл, так как переданная ему новость пахла не хлебом, а смертью. Началось. Перевод с первого поля на второе еще не наказание. Квасик прислал хлеб, значит, Квасика еще не взяли. Кого взяли? Кого возьмут завтра? Глупый вопрос или слишком логичный. Стоит ли отделять виновных от невиновных? Разве важно, кто планировал, кто подговаривал, если можно всех гуртом? С первого поля на второе, со второго — в газовую камеру. — Уважаемый, какой побег? — сосед дергает Яна за рукав. — Вы знаете подробности? Паразитов, которые это придумали, я бы на крючьях вешал. Рисковать надо с умом, а не подводить всех под монастырь. Я хочу выжить. До того как меня привезли в этот вонючий рай, я был просто Geisel — заложник, а теперь чувствую себя заложником в квадрате. Вечно отдуваюсь за кого-то. Сперва за брата, завтра или еще сегодня, ведь до вечера далеко, за баламутов, у которых от голода в головах ералаш. Хватит. Мне это уже боком выходит. — Молчи, у тебя нет жара, поэтому следи за каждым своим словом, а то уже совсем заговариваешься, — перебивает его Ян и принимается пировать. Хлеб надо держать на ладони, чтобы ни одна крошка не пропала. И ладонь поднять выше, к самому подбородку, чтобы не только языком слизывать, но и глазами есть. Был ли когда-нибудь на свете хлеб лучше этого? Странные названия мельтешат в голове, и откуда они? Из далекого сна, тифозного бреда, из лагерных фантазий, которые проходят зоной смерти, как по райскому саду, и часовой в них не стреляет, и колючая проволока не поражает током высокого напряжения. Был ли когда-нибудь хлеб лучше этого? А может, из старинных книг все эти подозрительные названия? Хлеб, хлебец, хлебушек. И чтобы ни единая крошка не упала — одеяло-то серо-бурое, ищи-свищи потом драгоценную пылинку в этих сумрачных складках, в морщинах байковой пустыни. Пшеничный? Что это значит? Пеклеванный, ржаной, пресный, с отрубями, солдатский, деревенский, печенный на листьях. Хлебушек. Не было никакого. Хлеба нашего насущного. Лучше не было. — Дружище, побойся бога. Даже понюхать не дашь, все сам слопаешь? — Сосед глотает одновременно с Яном, только Ян — хлеб, а тот — слюну. — Прислали те, кого ты собирался на крюках вешать… — раздумывает Буковский, — справедливо ли будет, если дам тебе хотя бы кусочек? — Тогда я отказываюсь от своих слов, и да простит меня господь… — Левой рукой сосед вытирает слезы, которые обильно струятся по его костлявому лицу. А правая рука тянется к Яну, и рука эта просит всеми пальцами, и рука эта качается, дрожит, похрустывает, как засохшая, надломанная ветка. — И да простит их господь, пусть бегут, я желаю им счастья, даже если мне придется подыхать дважды за каждый их побег. — Ян отщипывает кусочек хлеба. Хлебушка. Вонзает черный ноготь в черную, подгоревшую кожицу картофелины. — На, столько наговорил, а ведь знал, что и так получишь? — Знал… — поддакивает сосед, продолжая тихонько хныкать. От счастья плачет и страха, от пробудившейся надежды и безнадежности, от уныния, от внезапного облегчения и бог весть еще от чего. Ночь минула на удивленье быстро, словно гнались за ней эсэсовские псы. Может, так и было; когда проснулись, между бараками раздавался громкий лай. — Кажется, что-то страшное надвигается, — шепнул сосед, настороженно прислушиваясь к тревожным звукам, — я видел паршивый сон, снились мне белые черви на вонючей падали. Ничего себе предостережение. — Теперь все вслушивались, кто мог и был в состоянии слышать, чье сознание не помутилось от тифозной горячки. — Быстрее, скелеты, рубайте калории, а то отберу миски… — волновался щербатый санитар, и руки у него дрожали. Он тоже слушал, как усердные собаки хрипят, давятся морозным воздухом, и уже догадывался, что произойдет в ближайшие минуты. Сразу же после завтрака больным раздали кальсоны и деревянные башмаки, но хватило не всем. Сосед спрыгнул с нар и исчез, не говоря ни слова. Ян уже спустил ноги на ледяной пол, подумал, что первый раз в жизни и, вероятно, последний доведется ему топать босиком по снегу, и тут возник перед ним сосед. Трясущийся от холода и страха, однако почему-то с победоносной улыбкой на устах. Сперва заговорил в нем страх: — Подтвердились слова санитара, приходившего вчера. С первого поля всех долой, поголовно, а куда, зачем — не ясно. — Потом заговорил в нем победитель: — Раздобыл башмаки и кальсоны. Быстрее одевайтесь. Врач разрешил каждому взять по одному одеялу. Берите скорее. Держитесь, Буковский, поближе ко мне, у меня чуть побольше сил. Да что там, гораздо больше. — Только когда вышли из лазарета и студеный ветер взял их в оборот, пробрал насквозь, Ян понял, что дал себя обмануть тем иллюзорным признакам выздоровления, которые усыпляли его бдительность последние дни. Едва он прошел слегка ускоренным шагом между нарами, минуту постоял на снегу, потоптался в толпе корчившихся больных, подышал холодным воздухом, и все иллюзии окончательно развеялись. Ян зашатался, снег на глазах у него почернел, и он свалился бы у стены пятого барака, если бы не подставленное плечо соседа. — Видно, не осилю, земля подо мной колышется, упаду я с этой земли и полечу в тартарары… — пожаловался Ян тихим голосом. — Это только поначалу. Если долго лежишь, ноги забывают, для чего созданы. Пройдете метров сто, и все наладится, — заверил его сосед. Он заботился о Буковском с таким рвением, словно заодно самому себе хотел помочь и неопровержимо доказать, что он сильнее всей оравы шатающихся, теряющих надежду доходяг. — Будут машины? Пришлют ли за нами машины? — закричал кто-то в толпе. И тут же посыпались ругательства: — Падло, дурак ты безмозглый, дубина, доходяга паршивый, подавись своим идиотским вопросом! Машины? Не знаешь, что ли, когда приезжают машины? Не знаешь, куда отвозят на машинах? — Может, спрашивавший не знал, может, что-то перепутал, во всяком случае, все вздохнули с облегчением, когда стало известно, что машин не будет. Двинулись в колонне по пять в сторону второго поля, пока доплелись до ворот, колонна растянулась, разорвалась, и шагавший сзади эсэсовец распорядился, чтобы тех, которые на снегу уселись, и тех, кто, сбросив с худых плеч одеяла, обнял руками твердую землю, погрузили на фуру. И на вторую, поскольку одной повозки не хватило. Затарахтели колеса, как по деревенскому проселку. Двуногие полосатые кони тянули и толкали. Увязали в сыпучем снегу деревянными копытами, дорогу им не требовалось указывать, ибо для этих фур существовало одно-единственное направление. Иссохшие до кости ноги, головы, как из дерева изваянные, иссиня-белые руки, торчащие из-за бортов, случайно протянутые вверх, к хмурому небу. Ян остановил взгляд на фуре, нагруженной скелетами, и голова снова закружилась. Скелеты подрагивали в такт прыгающим по выбоинам колесам. И могло показаться, что на этой фуре все живет. Костлявые руки, кому-то грозящие, ноги, с которых потеряны башмаки, головы, присыпанные снегом, который начал падать. — Так быстро не умрут, живьем будут гореть… — громко сказал Ян, но только самому себе. — Крематорий далековато, — возразил сосед и, видимо, был слегка удивлен, что Буковский не понимает простых вещей — пока их доволокут, все успеют окоченеть и затвердеть, как дубовые доски. — Внимание, приближаемся ко второму полю, уже нам ворота отворили. Может, обойдется? — Колонна пыталась идти в ногу, но это была совершенно бесплодная попытка. Особенно пациенты хирургического отделения сбивались с ритма, спотыкались, ломали ряды, и атмосфера все более накалялась. Ян высоко вскидывал ноги, стучал деревяшками по мерзлой земле, на которой сотни других башмаков растоптали снег. Сосед дышал тяжело, надсадно, точно страх, витавший сейчас над колонной больных, вдруг отнял у него последние силы. И вдруг они услыхали звонкий смех. Самый настоящий. Не горячкой, не истерикой, не безумием порожденный. У ворот стоял высокий шарфюрер в идеально подогнанной шинели и радостно смеялся, от души. Показывал пальцем на колеблющиеся, нестройные ряды, на хирургических, инфекционных, на всех прочих больных, забавно согнувшихся в три погибели, согнанных час назад с нар. — Um Gottes willen… Господи, твоя воля… — столько радостного недоверия в голосе. — Und die leben noch?! Они еще живы?! — Может, это действительно было смешно, странно, неприлично, почему они были живы. Загнали их поспешно в один барак. Всех. Из хирургического и терапевтического отделений, из инфекционного пятого барака, где царил сыпной тиф… — Мы приземлились в девятом, запомните, — волновался сосед, как будто номер этого барака мог быть каким-то ключом к шифру, определяющему новую судьбу целого батальона больных хефтлингов. Бараки на втором поле были чуть побольше, чем те, откуда их ранним утром выгнали, но все равно давка началась невообразимая. Санитары искали свободные места для самых беспомощных, которые, едва переступив порог лазарета, сникли и все им стало безразлично. Даже жизнь. А сосед бранился. В каком-то восторженном упоении извергал самые грубые ругательства, так как к ним на нары втиснули пышущего жаром доходягу. Следовательно, они лежали втроем. Ян подумал, что брань соседа не заурядный протест против неожиданного уплотнения на нарах. Наиболее здоровый и сильный хефтлинг громогласно оповещает, что он здесь лидер, — так подумал Ян. А доходяга уже ничего не воспринимал, он стонал, просил какую-то Терезу срочно погладить ему синий костюм и невзначай умолк, потерял сознание. — Костюм, ишь чего захотел… — сосед притулился к Яну. Может, тепла искал или дружеского слова, чтобы отойти ко сну с надеждой на приятные сновидения. — Пронесло, пан Буковский, воздадим хвалу дню минувшему, поскольку солнце давно зашло. Пронесло, господь меня не оставил, а я уж подумывал о последней молитве. Я чувствовал себя полным сил, но если бы эсэсовец даже слегка меня ударил, то с земли бы не поднялся. Что такое в нас сидит, что мы готовы пасть на колени, хотя ноги еще держат? Это не обычный страх, ведь любой хефтлинг начинен страхом и по этой причине падать на колени отнюдь не спешит. Я с вами как на духу, самому-то мне в этом нипочем не разобраться. Что во мне такое загнездилось, от чего земля порой расступается под ногами, хотя на самом деле тверда? — Ян натягивает на голову воняющее карболкой одеяло, разговора не поддерживает, так как слишком много потерял времени на разгадку загадки, которая теперь мучит соседа. И не разгадал, ничего путного не придумал. Да, Витольд, я познал цену страха и цену смелости, однако уровень этих цен весьма различен. Порой испытываешь судьбу, расхаживаешь с гордо поднятой головой, хотя рассудок вопиет, что надо бы пробираться крадучись. Это смелость? Чего стоит смелость, если не знаешь истинную цену жизни? Как определить цену жизни, избегая смертельной опасности? Хотя бывает и так, что это уже не опасность, а наша последняя черта. К чему тогда страх? Без всякого протеста люди становятся на колени над глубокой ямой, зная, что даже самая покорная коленопреклоненность не изменит приговора. А ведь в такой момент появляется шанс дерзко и в принципе безнаказанно этот страх высмеять, ведь только раз полетишь вниз головой, ведь только единожды могут нас убить. Так почему же мы становимся на колени, когда нам велят становиться? Почему боимся, когда уже нечего бояться? А может, надо, Витольд, подняться еще выше, чем я поднялся, и пасть еще ниже, чем пал, чтобы ответить на подобные вопросы? Может, Качаровский знает ответ, и Стахурский, и тощий Тадек, и Бжеский, и Манькош, и молодой Кортас, может, знают все те, кто не будет уже со мной разговаривать… — все спокойнее размышляет Буковский, заставляет себя успокоиться, как будто заинтересован в том, чтобы загадка не была разгадана до конца… На следующий день, еще до завтрака, санитар стащил с нар уже остывшее тело хефтлинга, который ночью лишь изредка вскрикивал, звал мать, а потом Терезу. Упрекал Терезу, что снова ее видели с Августом, хотя всем в Реевце известно, что Август плохо кончит. Сосед помог санитару стащить покойника, но это был скорее символический жест — сколько могли весить эти мощи? Влез сосед на нары, потянулся так, что затрещали кости. — Поглядите-ка, сколько теперь места. Комфорт. Когда вначале, на первом поле, мы лежали вдвоем, нам было тесно, а теперь лежим двое — и такой комфорт, простор, любо-дорого… — Он засмеялся глуповато, неестественно и тут же умолк.
Сабине приснился Натан Рубин. Не Витольд, не рыжий Элиаш, потрясавший всамделишным револьвером, а именно Рубин, о котором ни разу не вспомнила с той минуты, как вырвалась вместе с матерью из Щебжешина. Почему Рубин? Он всегда и всем уступал дорогу, а теперь не желал уступить. Всегда первым кланялся соседям по дому, кланялся учтиво и старой Саре Вульке, и молодому Файвелю Пятьминут, а теперь вот предстал с вызывающим видом перед самим Ширингом. Не поклонился Ширингу. — Мама, что это за сон? Такое и во сне не часто увидишь. Слушай внимательно: идет по середине тротуара Ширинг, а пан Рубин не убегает, хотя все разбегаются. Пан Рубин держит за уши белого кролика, иронически ухмыляется и весело кричит: — Ширинг, мне интересно, попадешь ли ты в белого кролика, выстрели, Ширинг, что тебе стоит… — Выстрелил? — спросила Доба, прислонясь к теплой трубе. Ночи уже были холодноватые, сырые, и по утрам Доба Розенталь почти всегда отогревает старые кости, прижимаясь к теплым кирпичам. — И минуты не раздумывал. Бах — и попал кролику в голову. Из белой головки полилась струйка крови… — Ша, хватит. Зачем ты мне такие вещи рассказываешь? К чему нам такие сны? — Доба старательно закуталась в черную шаль, словно хотела оградиться от этих неприятных, таинственных слов, которые рассвоевольничались в темном убежище на чердаке. — Ведь я себе снов не выбираю, — мягко ответила Сабина и подошла к матери. С минуту она слушала шум дождя. Тяжелые капли стучали по железной крыше, как по упругой коже бубна. — Я не томлю Витольда воспоминаниями о нашем Щебжешине, ведь он говорит мне о жизни, которая будет прекрасной, как широкий зеленый луг. Так кому же мне рассказывать о Ширинге и пане Рубине? — Ты вся дрожишь… — Доба прикрыла Сабину крылом шерстяной шали, — не простудилась ли? — Я чего-то боюсь, мама. — Так не бойся, продолжай, расскажи все, ведь, пожалуй, действительно нет хуже мыслей, которыми не с кем поделиться. Ну, что было дальше? — С белым кроликом? — С кроликом, с этим страшным Ширингом и Натаном Рубиным… — Убитый кролик вдруг превратился в белого голубя и взлетел высоко-высоко, а пан Рубин захлопал в ладоши, как в цирке, и закричал: — Теперь в меня стреляй, Ширинг, не пожалеешь, собственными глазами другое чудо увидишь. Я полечу еще выше, чем этот кролик, честное благородное слово, еще выше. — Ширинг выстрелил, но чудо не повторилось. Пан Рубин упал на камни, поцеловал эти камни, точно какую-нибудь святыню, и умер. А Ширинг пнул ногой бездыханное тело, вопя: — Ты обманул меня, еврей, дал мне честное слово, еврейская гнида! Теперь я тебе клянусь, что даже после смерти горько пожалеешь об этом обмане. Обманул, старый лапсердачник! Подыхать-то любой из вас умеет, а ты должен был полететь. — Доба Розенталь так крепко обняла Сабину, что они теперь словно слились воедино. — Не возвращайся туда, Саба, прошу тебя, не возвращайся. — Куда, мама? — В Щебжешин, к Ширингу, к Рубиным, к Файвелям, в наш ад. — А ты не возвращаешься? — Я — другое дело, мне остались лишь эти возвращения, ты же должна смотреть совсем в другую сторону. Непременно, достаточно того, что одна из нас привязана к тем могилам. Я храню верность кладбищу, а ты будь верна жизни. Слушайся Витольда, смотри только в ту сторону, куда он велит. — Сабина освобождается из объятий матери и какой-то деревянной, сомнамбулической походкой направляется к оконцу, на стекле которого расплываются потоки дождя. Почему возвращаешься все позднее, Витек? Стекло холодное, как лед. Великолепный компресс для распаленного лихорадкой лба. Может, меня действительно лихорадит? — думает Сабина, вспоминая вчерашнюю ночь. Все уже спали, а она выскользнула из убежища, осторожно, чтобы ни одна перекладина не скрипнула, спустилась по лестнице. Не зажигая света, шаря руками в темноте, прошла через кухню, открыла дверь и очутилась за порогом дома. Этот порог был обыкновенной деревяшкой и одновременно великим символом. За этим порогом находился мир, который официально не существовал для Сабины. А может, и вправду не было уже ничего, кроме этого зеленого домика, кроме тесного убежища на чердаке? Может, все, что она видела из чердачного оконца, было попросту сном? Неужели Витольд лгал? Как попасть в тот мир, где целый день можно лежать на прогретой солнцем траве, спать под цветущей яблоней, встречаться с теми, кого хочется повидать? Не закрывая двери, она вышла на середину двора. Дождь лил холодными струями, но Сабина не ощущала дождя. Шла босиком по лужам, шла в белой ночной рубашке, уже мокрой насквозь, плотно облепившей тело. Где этот мир? Сквозь сколько дней и ночей надо пробираться, чтобы дойти до огромного сада, о котором говорил Витольд? Никогда не будет сада, как никогда уже не будет Леона Розенталя и Сары Вульке, Файвеля и Ревеки Пятьминут, маленького Ицхока Зоненшайна и Эмануэля Левина, который, прячась по ночам на кладбище, рассказывал о Бразилии, известной ему лишь по книгам. Залаяли собаки на соседних дворах, и Сабина опамятовалась. Упала с черного неба на черную землю, побежала к дому и, переступив порог, почувствовала такую радость, словно, захлопнув дверь, можно было надежно отгородиться не только от плохих людей, но и от черных мыслей.
Свой венок она надела, Песню напевая, А в саду деревья в белом, Как подружек стая.— Прелестно. Витольд тебя научил? — Доба Розенталь встревоженно присматривалась к стоявшей у окна дочери, долго молчавшей дочери, и теперь рада, что Сабина прервала молчание. — Он уже должен вернуться, мама… — Она открывает оконце, прислушивается к отзвукам угасающего избицкого дома. Может, через минуту раздастся знакомый скрип калитки? Потом веселое посвистывание — песенка о краковяке и его семи скакунах была их условным знаком. Даже если бы Витольд засвистел другую мелодию, Сабина узнала бы, что это он. Если бы молча отворил калитку, тоже бы знала, что это Витольд возвращается. Она уверяла его всерьез: — Ты этого даже не представляешь, ведь калитка скрипит иначе, когда ты ее открываешь. — Он засмеялся, целуя девушку в щеку: — Иначе? Значит, даже калитка радуется моему возвращению? — Доба Розенталь снова внимательно приглядывается к дочери. Нет нужды все время разговаривать, можно молчать, хотя молчание Сабины ей не нравится. От такого молчания только один шаг до какой-нибудь трагедии. — Что ты хочешь, Саба, ведь он работает в поте лица, чтобы у тебя был кусочек масла и кофе с настоящим сахаром. И ты еще требуешь, чтобы он каждый день являлся к тебе пунктуально, как чиновник в довоенном банке? — Не требую, просто боюсь за него. — Он уже не ребенок, Саба, и знает, что делает. Все взял на себя, взвалил себе на плечи и все тащит. Что бы мы без него… А когда приезжал к нам впервые в Щебжешин, был совсем беспомощным птенцом. Порой мне не верится, что тогдашний Витольд и нынешний Витольд одно и то же лицо. Слышишь, что я говорю? — Слышу, мама. — Всего она не слышала, так как именно сейчас пыталась припомнить позавчерашний разговор с Витольдом. Он объяснял ей, что все чаще занимается теперь такими важными делами, о которых нельзя рассказывать. — Такими важными? — Не спрашивай о подробностях, я присягал. — Верю тебе, должно быть, это действительно серьезно, раз наши встречи отошли на второй план. — Тучи заслонили небо, на чердаке царила такая тьма, что Сабина даже не различала окна, находившегося в метре от колченогой пыльной кушетки, на которой они сидели. — Не будет сегодня никаких звезд, никуда мы не поедем на Большом Возу, останемся здесь, — сказала Сабина. Пусть он меня поцелует и пусть узнает все мои мысли, которых я порой стыжусь, а сегодня горжусь ими, подумала Сабина. В смертельном напряжении, как будто прыгала с крутого обрыва в глубокий поток, она взяла холодную руку Витольда и неотвратимо понесла сквозь тьму. Пока Витольд не ощутил под пальцами маленькое, словно еще недозрелое, но уже отягощавшее ветку яблоко. И была это грудь Сабины.
Лишь после завтрака Ян снова услыхал голос соседа: — Пан Буковский, вы знаете Реевец? — Слабовато, всего один раз побывал там, к тому же давно, примерно в тридцать третьем году. — Если выйду отсюда целый и невредимый, съезжу в Реевец. Разыщу мать того парня, может, и Терезу найду, которая путалась с Августом, расскажу им все, что надо… — А что надо? — Надо им рассказать, что наш парень погиб геройски… — Не погиб, а тихонько помер от паршивого тифа. — Тут не умирают, пан Буковский, умереть можно в собственном доме или хотя бы под собственным забором. По эту сторону колючей проволоки каждый хефтлинг погибает как герой, даже если сам скачет в выгребную яму. А я не уверен, такими ли нас после войны сочтут? Мой брат будет на высоте, ведь он не дался им в руки, стрелял и воевал, а меня-то просто гноили здесь, а парень из Реевца загнулся от дурацкого тифа. Один наш, деревенский, сразу в лес подался и партизанский отряд собрал. В волостном правлении документы по продналогу сожгли, фольксдойча порешили, полицая пустили в расход, организовали несколько налетов на пункты слива молока, и в округе появился свой орел. Пан Буковский, что я буду значить рядом с таким орлом, когда вернусь в свой Немежин? — Сперва надо вернуться… — произносит в раздумье Ян, а сосед усердно кивает, поддакивая, и кричит: — Я вернусь, я в это уже поверил! Худшее позади, даже из барака смертников удалось вырваться, и теперь уж запросто не дамся.
Витольд чувствовал, что за ним следят. Он более часа петлял по пустеющим улочкам, нырял в темные провалы подворотен, через заборы и ограды забирался в чужие дворы. Однако преследователи были неутомимы, упорны и хорошо знали свое ремесло. Пытался догадаться, давно ли началась погоня. Не тогда ли, когда вышел из подворотни дома «Редактора»? Если так, то «Редактор» погорит со всем тиражом «Хлопского знака». Значит, большой провал? Витольд пытался восстановить в памяти события последних шести-десяти минут. Он шел по Краковской улице, на минуту задержался у массивного здания костела и, кажется, именно тогда впервые ощутил тревогу. Приземистый мужчина в слишком длинном пальто остановился на противоположной стороне улицы и принялся так неловко закуривать, точно был заинтересован в том, чтобы стоять и ломать спички. Потом низкого сменил высокий, плечистый, куртка у него едва сходилась на широкой груди. Чуть позже коротышка шагал рядом с высоким, и они уже не выкидывали никаких фокусов, не изображали случайных прохожих. Почему медлят? — подумал Витольд, нащупывая в кармане конверт. Должен был передать его «Линю», но уже не передаст. В таком городишке нет никаких шансов скрыться, подумал он, я у них как рыба в сети. Остается только сеть вытащить. Дойдя до магистрата, свернул влево, в аллею парка, но парк был голый, деревья и кусты уже облетели. Если бы здесь избавился от конверта, преследователи это бы заметили. Конверт. Контакт с «Линем». Конверт. Нагрянуло ли уже гестапо к «Редактору»? Несколько сот почти еще теплых экземпляров двухнедельника, доставленных вчера в Красностав из Орховца. Почти весь тираж. Конверт. Что с ним делать? И еще о матери думал, о Сабине. О своей судьбе не думал, как будто затягивавшееся бегство, финал которого был предопределен, лишило его воображения. Пробегая узкий, вонючий двор, он заметил дощатый нужник. Выхватил из кармана серый запечатанный конверт, торопливо порвал и бросил в очко. Это была последняя возможность, так как за воротами его уже дожидались. — Витольд Буковский? — Буковский, в чем дело? — В дерьме собачьем, ловкач. — Поставили его лицом к стене, велели поднять руки и тщательно обшарили все карманы. — Я работаю у Вежбовского, он может подтвердить, работаю хорошо. Немного подрабатываю у столяра, хотя ни одной дощечки не стащил. — Молчи, не дурачь нас! — рявкнул коротышка и ударил Витольда выше поясницы.
Сортировка началась неожиданно, перед самым обедом, и даже старые, бывалые санитары с большими связями и знакомствами среди барачных придурков и начальников рабочих команд вытаращили глаза, словно их растолкали среди ночи. Оберштурмфюрер Туманн свалился как снег на голову, поэтому они лезли из кожи вон, в спешке выполняя обязанности — стаскивали с нар тех больных, которым было уже все равно. Туманна сопровождали какой-то роттенфюрер, капо Гальке и староста барака смертников — «двадцатки». — Боже милостивый, видите этого сукина сына? — простонал сосед, хватая Буковского за рукав. — Боже единый, другого такого мерзавца днем с огнем не найдешь. — Староста «двадцатки» вырядился так, словно хотел позабавить перед смертью эту толпу скорчившихся доходяг. Зеленое пальто и розовый шарф, штаны заправлены в белые шерстяные носки, и какой-то вязаный дамский колпак, натянутый на лоб до самых бровей. Это он перешибает палкой позвоночники? Великий король смерти? В розовом шарфе. Кто был в «двадцатке», тот знает. Но кто был в «двадцатке», тех уже нет. Только чудо может вызволить хефтлинга из этого барака, где даже в лютый мороз не закрывают окна, где люди умирают очень долго, если хотят умереть молча, лежат раскинув руки на ледяном полу, лежат нагишом, окостеневая и каменея. Но смерть можно призвать криком, можно ускорить ее приход, шевельнув рукой или подняв голову. Это тот, кто всегда начеку с палкой в руке, готовый в любую минуту выполнить волю хефтлинга. Только чудо может вызволить, и сосед Буковского однажды такого чуда удостоился. — Auf! Auf! Подымайтесь! Ruhe dort! Тихо там! — Туманн стягивает перчатки, сует их в карман, Гальке раскорячился в двух метрах позади оберштурмфюрера и смотрит слезящимися глазами на мечущуюся толпу, которая постепенно превращается в две шеренги. — Пан Буковский, выше голову, в случае чего, на меня опирайтесь… — шепнул сосед и зашатался, хотя был якобы в силах взвалить Яна себе на спину и с этой ношей дважды обежать вокруг лазарета. А Ян чувствует себя все увереннее, и просто уму непостижимо, как это удается сохранять такое спокойствие и равнодушие во время сортировки, которой руководит сам Туманн. — Links! Налево! — крикнул оберштурмфюрер, останавливаясь перед снедаемым лихорадкой тифозником, который, скорее всего, не знает и не видит, кто перед ним стоит. — Налево, свиная башка!.. — вторит Туманну унтер-офицер. — Налево, weiter! Дальше! — Потом кого-то толкают в правый угол барака, затем снова в левый. И так образуются две группы, чьи судьбы будут совершенно различны, будут отличаться так, как день отличается от ночи. Легко догадаться, что спасение сулит правый угол, поэтому сосед жадно смотрит туда, как будто взглядом хочет умолить судьбу, напомнить ей о своем лагерном номере. Столько тут хефтлингов, столько номеров, столько лиц, костлявых, изменившихся до неузнаваемости, что даже самая благосклонная судьба может дрогнуть. — Links… Rechts… Влево… Вправо… — Ничего особенного, ведь это уже давно могло со мной случиться, думает Ян, безразлично глядя на страдальческое лицо польского врача, который пытается что-то объяснить Туманну, каждый день и сто раз на дню могло случиться. Разве я сто́ю больше Стахурского, Бжеского или Тощего Тадека. Ведь я выиграл тут много дней, которые запросто мог проиграть. Использовал все шансы, чтобы привести в порядок свои мысли и поразмышлять над своей жизнью в лагере. — Was hast du denn gemacht? Что ты тут делал? — спрашивает Туманн, а роттенфюрер с легкой иронией переводит вопрос, но Ян делает досадливый жест, отмахивается от исковерканных польских слов, как от надоедливых мух. Что его беспокоит? А что может беспокоить? Он перенес тяжелый тиф и очень ослабел, работать не способен. Но главное, болезнь уже позади. Раскоряченный Гальке тихонько хихикает, позабавило его нахальство Яна, Туманн будто озадачен тем, что этот истощенный хефтлинг так хорошо говорит по-немецки. — Wie lange bist du im Lager? Как давно ты в лагере? — смотрит в глаза Буковскому, и Буковский принимает вызов, не опускает глаз. — Zwei Jahre, Herr Obersturmführer. Два года, герр оберштурмфюрер. — Zwei Jahre? — задумывается Туманн, и все уже начинают удивляться, что нет ни крика, ни битья, ни приказа «Links!» Туманн не может помнить тех дней, когда Буковский перешагнул порог лагеря, так как Туманн прибыл сюда значительно позже, но разве это столь важно? — Es gibt nur einen Weg zur Freiheit… Есть только один путь к свободе… — улыбается Туманн, и одному богу известно, почему улыбается, почему разговаривает с Яном, почему эта темная игра так долго тянется. — Nein… Нет… — спокойно возражает Ян, хоть и знает, что Туманн абсолютно прав. — Nein? — удивляется оберштурмфюрер, и тогда Ян опровергает то, что следует опровергнуть. — Alles in Ordnung… Himmelkommando. Полный порядок… Небесная команда. — Гальке снова хихикает, ведь Гальке лишен фантазии, и все представляется ему смешным, даже смерть. Капо «двадцатки» удивленно качает головой. Приглядывается к Яну как к своему, точно уже заполучил его под свой кров. Ну, в «двадцатке» он уж постарается, чтобы у этого болтливого хефтлинга путь к небесной команде был долог и тернист. Что с Туманном? Может, потому все так повернулось, что он впервые явился на сортировку без своей овчарки? А может, прошлой ночью снилась ему прогулка по солнечной Фридрихштрассе? А может, ласки черноволосой, стройной женушки как никогда пришлись ему по вкусу? А может, надоела монотонность сортировок и Ян хоть на минуту сумел эту монотонность нарушить? А может, свершилось самое настоящее чудо? Кому охота, пусть догадывается. И пусть догадывается побыстрее, ибо хмурятся светлые очи Туманна. Он вдруг поворачивает голову в сторону вытянувшегося в струнку соседа: — Links! — Боже милостивый, почему links?! — выкрикивает отчаянным голосом сосед и, чтобы продемонстрировать свою форму, делает несколько приседаний. — Мне надо rechts, пан оберштурмфюрер, я — gut, хорошо, я уже nein больной. — И еще что-то выкрикивает плаксиво, отмежевывается от кучки истощенных, пошатывающихся доходяг, теснившихся в левом углу барака, пока его не утихомиривает ударом кулака смеющийся Гальке. Он умолкает, а через несколько секунд громогласно доказывает, что превозмог свой страх: — Пан Буковский, скажите этому гаду, что скоро он за все поплатится, всевидящий господь его накажет. — Es lebt ein Gott zu strafen und rächen, — торопливо переводит Буковский, словно опасаясь, что кто-то его подменит и опередит. Туманн смеется удачной шутке, все громче смеется, и теперь только и слышно: Links! Links! Но Яна он толкнул вправо, в правый угол, что означало жизнь. Едва выбракованных вытолкали из лазарета (облако сухого снега ворвалось в открытую дверь, кто-то в бараке зарыдал, завыл, кто-то истерически расхохотался), едва капо в розовом шарфе махнул палкой, погоняя свое стадо, свою собственность в сторону двадцатого барака, как к Яну подскочил мальчишка-рассыльный Абрамек и поцеловал ему руку. И взглянул на него как на живого бога.
Витольд не знал физической боли, ведь до сих пор его никто не бил. Повышенного голоса отца было достаточно, чтобы стало больно. Познание боли началось столь внезапно, без постепенного сгущения красок и оттенков, без размеренного приобщения к все более совершенной схеме ударов, поэтому, прежде чем успел захлебнуться страхом, обмер, окаменел от унижения. И быть может, в самые тяжкие первые минуты больше стыдился своей наготы (с него сорвали одежду), нежели своего крика. Так это началось. Били, но не спрашивали ни о «Редакторе», ни о «Лине», ни о «Лемехе», ни о «Борыне», и Витольд быстро смекнул, что не было никакого грандиозного провала. Связывали его с каким-то другим делом, с другими людьми, и это уже была улыбка судьбы. Он кричал упорно, пока не обессилел: — Не знаю, не знаю, никогда в глаза не видел! — И ничего иного из отбитого нутра не мог исторгнуть, даже если бы от боли лишился здравого рассудка. Он действительно не знал, не ведал. Спрашивали про какого-то Выпыха, Петра Лебеду, совали под нос скомканные листовки и прозрачные странички с записями радиопередач. — Не знаю. Клянусь, что не знаю. — После трех допросов о нем то ли забыли, то ли пришли к выводу, что сломит его ожидание в тюрьме конца расследования. Витольд сидел в переполненной камере красноставской тюрьмы и размышлял о своей неопределенной и нелепой судьбе. Вроде бы посчастливилось, он ни в чем не уличен, так как следствие велось на ощупь, вслепую, но велико ли счастье, если отбивают почки и ломают ребра из-за людей, которых никогда не видал и о которых слыхом не слыхивал? В камере было душно. Не видал и, вероятно, не увидит. Ничего о них не знает, и они наверняка не ведают, что он теперь принимает на себя (если даже случайно, то какая же в конечном счете разница) все те громы и молнии, которые должны были обрушиться на них. Духота сгущается, хотя в приоткрытое оконце под потолком сочится холодный вечерний воздух. Сидевший у дверей старик с лицом добродушного хлебороба, глубже познавшего тайны урожайной земли, тайны яблонь, пчел, трав, птиц, чем тайны людей, которые вовлекли его в свои потаенные дела, дышит широко открытым ртом, и кто-то присел перед ним на корточки, чтобы расстегнуть воротник рубашки, кто-то потребовал: давайте его сюда, под окном больше воздуха. Подхватили старика и оттащили к стене, которая была как будто светлее трех остальных, поскольку из оконца вместе с воздухом проникали последние отблески уходящего дня. Столько лиц, и ни одного знакомого, хотя сталкивался в Красноставе с уймой народа, даже успел проторить сотню всевозможных стежек-дорожек… Стук в стену. — Тихо, заткнитесь, — приказывает молодой блондин с подбитым глазом и рассеченной губой. Стук. Какое-то сообщение из соседней камеры. Теперь все прислушиваются к тихому, прерывистому постукиванию, хотя не всем понятен этот бессловесный разговор. Блондину, видимо, все ясно, он улыбнулся, как бы подтверждая этой улыбкой добрую весть. Его-то здорово поколотили, губу рассекли, пару зубов выбили, а он еще способен смеяться, подумал Витольд, я, пожалуй, легче отделался. Внутри побаливает, но только внутри, под ребрами. Зубы целы, лицо без синяков, дома не будет причитаний, когда меня увидят на пороге. Душно. Увидят? Лицо у старика почти синее. Должны увидеть. А «Редактор», наверное, уже свернул все хозяйство и объявил тревогу. Откуда ему знать, что я никого не выдал и что вообще не на наших колокольнях бьют в набат. За что посадили этого старика? Чем он им опасен? Сил у него едва хватит, чтобы на воле, опираясь на палку, доплестись до своего тихого смертного одра. — Полегчало вам, дедушка? — осведомляется блондин и грязным платком вытирает лоб старику. — Чуток получше, выдюжу… — А сюда попали, дедушка, за несдачу продналога или незарегистрированную свинью? — Я за сына, которому удалось скрыться… — Ну, значит, дела не так плохи, может, подержат малость и отпустят… — Я тут за своего старшего, я выдюжу… — Витольд тоже прислонился к стене, у которой было больше света и воздуха. Он смотрел на старика, но мысленно был уже далеко-далеко отсюда. Увидят ли его дома? Должны увидеть, а если?.. После трех допросов может быть четвертый, пятый. Попали пальцем в небо, но все-таки попали. Еще бы чуть-чуть — и схватили бы вместе с тем серым конвертом. Кто-то взял меня на заметку, кто-то следил, и хорошо следил, ведь в конечном счете для немцев без разницы, «Редактора» ли накроют или этого Петра Лебеду. И с тем и с другим им было бы о чем потолковать. После пятого допроса может быть и шестой и седьмой. Способен ли человек предвидеть, в какой момент все в нем перевернется вверх дном, развалится, рассыплется в прах? Забрали столько народа, почти коленями в камеры впихивали. Увидят? Любимая моя Сабина, я и раньше догадывался, а теперь знаю наверняка, что без тебя весь мир казался бы мне крошечным, затоптанным двориком. Когда меня поставили у стены и начали обыскивать, а потом в гестапо бросили на какую-то лавку и принялись хлестать плетками по спине и было очень больно, я вспоминал тебя. Если хочешь, я буду тебе молиться. И еще могу молиться, чтобы нам было хорошо вместе и чтобы темнело, когда стыд пугает нас пуще войны. Мы бежим от нашего стыда, как мыши в подпол, и руки у нас деревенеют, и слова застревают в горле и, того гляди, задушат… Внезапно его охватил леденящий ужас. В тот самый миг (блондин снова утихомиривал камеру, прислушиваясь к стуку в стену), когда уже касался теплой, чуть влажной кожи Сабины. Кончиками пальцев он взбирался по едва ощутимым под этой кожей ребрам, как по трепетной, все более дрожащей лестнице, пока не накрыл ладонью маленькую грудь, обтянутую жесткой тканью лифчика. — О да, я сама этого хотела, не убирай руку, теперь ты знаешь, что все принадлежит тебе, вся моя жизнь и даже смерть, и знай также, что ко мне еще никто не прикасался, ты — первый… — Шепот девушки растворился во мраке, и тут же они услыхали сухой, надсадный кашель Добы Розенталь. Страх. Тогда и теперь, но теперь он во сто крат сильнее. Как случилось, что думал в камере о разных вещах, а самое важное упустил из виду? Сабина. Если его арестовали, бьют, допрашивают, подозревают в связях с подпольем, то ведь в любую минуту могут сделать обыск в зеленом доме. Немцы знают его избицкий адрес, трижды названный во время допросов. Сабина. А может, мать не потеряла голову, узнав о его аресте? Агенты гестапо взяли его на улице, средь бела дня, и многие видели эту сцену. Наверняка дали знать Вежбовскому или сразу же помчались в Избицу. Было какое-то время принять нужное решение и хотя бы на несколько дней освободить убежище. Понимает ли мать, что в подобных случаях обыскивают с особой тщательностью? Сперва обшарят каждый угол в кухне и в комнатах, потом полезут на чердак, будут упорно искать радиоприемник, оружие, нелегальную прессу, будут искать то, чего в зеленом доме нет. А есть там Сабина…
11
Ирена проплакала всю ночь, но утром глаза были сухими. Лишь в голове шумело, гудело, как будто стояла под деревянным мостом, по которому непрерывно катили тяжелые грузовики. Ночью она не только предавалась отчаянию, а еще и бунтовала, впрочем, это был бунт слепой, и хорошо, что его все-таки удалось подавить. Там, наверху, в убежище, тоже не спали. Потолок скрипел, а Ирена считала шаги Добы Розенталь и Сабины — кто знает, для кого из них эта бесконечная ночь была невыносимее. И был такой момент, когда вскочила с постели, гонимая желанием подняться на чердак, взглянуть этим женщинам в глаза, крикнуть им, что сыта по горло смертельным риском и пусть они идут, куда им заблагорассудится, ведь и без них в этом доме нечем дышать. Без них? А может, именно они принесли под этот кров прилипчивую беду? Вырвались из мертвецкой, и в их глазах, словах, даже в мыслях тлетворный мрак. Влачат за собой траурный шлейф и, может, даже Яна задели этим шлейфом, хоть и умыкнули его отсюда до их появления. Забрали в ту пору, когда он, пожалуй, больше заботился о будущих обитателях убежища, чем о собственной безопасности. — Что за напасть? Что мне лезет в голову? — воскликнула она изумленно. — Значит, я уж до того дошла, что ищу виновных среди жертв? — Она легла в постель и снова стала прислушиваться к скрипу и потрескиванию потолка, но теперь слушала иначе. Было ей немного легче от сознания, что она не одинока в своем горе. Это, вероятно, шаги Сабины, быстрые, энергичные. Доба уже едва ноги волочит… — подумала Ирена, когда свет забрезжил в окнах. Так завершилась ночь. Долгая, бессонная и начисто потерянная. Никакого четкого решения не вынесла Ирена из вязкого и кромешного мрака. Но и начало дня не сулило ничего хорошего. Буковская знала, что нельзя сидеть сложа руки, и одновременно чувствовала, что начинает уподобляться тем избицким евреям, которых когда-то не могла понять. Они ждали своей погибели как величайшего избавления. Так ли было, как, посмеиваясь, уверял полицай Шимко? «Они до того боятся, что прямо деревенеют от страха. Приходится стрелять над самым ухом, чтобы заставить очнуться». Или как говорила Томасева: «Еврей — это такой человек, который в одиночку ни за что спасаться не станет. Взять, к примеру, известного всем сапожника Вассера, у которого было много друзей-приятелей среди благочестивейших католиков. Они ему советовали скрыться до погрома, который уже висел в воздухе. А Вассер на это отвечал, что, дескать, без жены, без детей и всей своей родни и шагу из дома не ступит». Ну ладно, пусть уж она будет такой, как почтенный Вассер, но почему держится за этот дом, который пуст, в котором ни Яна, ни Витольда? Могла бы уехать к больной матери, переждать в деревне, пока все выяснится. А Сабина, а Доба? Сабина не двинется отсюда без матери, наверняка, а для больной, впадающей в апатию Добы любая поездка может оказаться последней. Ирена накинула старое осеннее пальто Яна и отправилась за водой. Возвращаясь с полным ведром, она заметила Томасеву, перегнувшуюся через забор. — Есть какие-нибудь новости, пани Ирена? — Держат его в Красноставе. Только это знаю. — Надо что-то предпринять, пани Ирена, пока не вывезли дальше. Красностав не Замостье и не Люблин. Может, Вежбовский пораскинет мозгами, сколько к нему в лавку немчуры таскается… — Поеду к нему сегодня. — Ирена подняла тяжелое ведро и не спеша побрела к дому. — Вообще теперь нужно быть ох как осторожной, — догнал ее несколько навязчивый голос Томасевой, — и чтобы дом был чист, как совесть после исповеди. Каждый уголочек надо выскоблить, вы меня понимаете? — Буковская понимала, намек был достаточно прозрачен. К тому же, едва узнав об аресте Витольда, она поспешно перерыла все ящики, чуланы и закоулки дома. Ничего не нашла, и это ни успокоило ее, ни огорчило. Что в этой ситуации могла значить какая-то тайная газетка, даже сто тайных газеток, если тайником был весь ее дом. Обманываешь себя, Ирена, как малый ребенок, смешная ты, ей-ей, подумала она, заглядываешь под шкаф и буфет, опасной былинки ищешь, а над твоей головой трещит потолок, над твоей головой женщины живут, которым отказано в праве на жизнь… Она достала из буфета темный, крошащийся хлеб и начала готовить завтрак. На плите подпрыгивал чайник, кипящая вода выплескивалась на раскаленные конфорки и шипела, превращаясь в пар. Ирена долго искала коробку с ячменным кофе, потом спохватилась, что вчера выбросила ее уже пустую. Ну, значит, сегодня будет чай «Мата», пахнущий травами и сушеными яблоками. Подымая чайник, Буковская обожгла пальцы, но боли не почувствовала, так как именно в эту секунду ее осенило. Да, сейчас она поедет к Вежбовскому и расскажет ему о спрятанных женщинах. Только он может ей теперь помочь, ведь тут необходима, кроме доброй воли и смелости, возможность быстро предпринять практические шаги. Деньги необходимы, и надежные люди, и новое убежище, а для Сабины — арийские документы. Раздобывать документы для Добы нет смысла, ей под силу только где-нибудь отсиживаться. Когда-то она, вероятно, была красивой женщиной и не один завидный кавалер вздыхал по ее классической южной красоте. А досталась она Леону Розенталю, человеку трудолюбивому, начисто лишенному обаяния, да и к тому же еще некоторое время игнорируемому билгорайскими и щебжешинскими евреями. Особенно закоренелыми ортодоксами, которые не желали забыть, что старший брат Леона, Исаак, женился на польке. — Знаете, какой был Исаак? Он плюнул на общину, на раввина, махнул рукой на кошерное, а свою единственную дочку послал в польскую школу. О, Леон долго ходил по острым камням, пока не почувствовал под стопами мягкий песок. — Доба рассказывала тихо, монотонно, штопая свитер Сабины, а Ирена удивленно качала головой, не понимая, почему Леон должен был отдуваться за старшего брата. — Для наших Исаак был тогда ничтожным иберверфером, то есть ни евреем, ни иноверцем, этаким неприкасаемым отщепенцем, между тем Леон не желал порывать с братом, поэтому и Леон был нехорош. Извините, если мой откровенный рассказ чем-то вас задевает, я просто повторяю старинные сказки того мира, которого уже нет, который целиком провалился сквозь землю. И мне самой не верится, что мир этот действительно существовал. Ну да, один брат был афершолтенер, проклятый, а другой был думмер, глупый, да еще лживый, двуличный, хоть он по вечерам в пятницу семисвечник зажигал, а в субботу шел к Исааку, и они за рюмкой водки распевали какие-то украинские думки. Вы представляете? Во время шабаса — украинские песни, а знали их множество, ведь родом были из-под Бердичева и детские воспоминания о тех краях с собой привезли. И когда в такую субботу Леон возвращался домой, то мог хоть во все горло кричать встречным: добрый вечер! Никто ему не отвечал. Я тогда не была еще его женой и рассказываю сейчас с его слов. Он всегда с улыбкой пускался в воспоминания, а под конец делался грустным. Знаете почему? — Не знаю, — честно призналась Ирена, — может, грустил о молодости? Молодости всегда жалко, если даже она напоминает об острых камнях… — Нет, не то… — Доба выпрямилась и на минуту забыла о штопке, — Исаак плохо кончил, худшего конца ему бы и заклятый враг не предсказал. Исаак погиб от газа еще в ту войну. Его польская жена умерла в Лешневе от тифа, в тот самый момент, когда линия фронта передвинулась и туда вошла конница Буденного. Потом и могила ее затерялась. А дочку забрал дед в польский дом и не вернул. И Леону не удалось выяснить, где ребенок, куда эта Сабина подевалась. — Алейхем шолем… Здравствуй… — обращался Леон к Исааку, которого уже не было на свете и после которого ничего не осталось… Сабина? Когда у нас родилась дочка, Леон нарек ее Сабиной, как Исаак свою. Мы долго не могли иметь детей, вернее, я не могла, и лечилась, пожалуй, года три. Наконец родилась Сабина, Леон радовался и немного сожалел, что она не на меня, а, скорее, на него похожа. — Слава богу, подумала Ирена, слава богу, что на него. Она повернула ключ в замке, глянула в окно, чтобы проверить, нет ли кого во дворе. Неся на чердак поднос с завтраком, она думала только о Вежбовском. Старый, надежный друг, скольким ему Витольд обязан, а теперь снова может Витольду помочь. Пусть найдет убежище для этих женщин, это уже будет огромной помощью для всей семьи. Ирена постучала три раза, открылась хорошо замаскированная дверца тайника. Пришлось присесть на корточки и чуть наклониться пониже, чтобы попасть в крошечную темную клетушку. — Сегодня слабовато, только чай, хлеб и немного искусственного меда, все запасы иссякли… — произнесла она спокойно, ставя поднос на стул. Сабина стояла на коленях у мутного, запыленного оконца, как перед святой иконой. Словно молится — так и подумала Ирена, и тут же раздался басовитый, хриплый голос Добы: — Бог от нас упорно отворачивается, или бог уже умер, и наши молитвы улетают в пустоту. Пани Буковская, мы посидим тут, пока немного стемнеет, и пойдем себе… — Куда пойдете? — Ирена не заметила на лице Добы ни страха, ни сожаления, ни отрешенности. Белое каменное лицо. — Какая разница, куда пойдем, — Доба говорила, не открывая рта, — куда угодно можем пойти, ведь всюду одинаково. А в этом доме уже достаточно горя, чтобы добавлять… — Ох, скажете тоже, прямо надгробная речь, — перебила ее Буковская на полуслове, досадливо отмахнулась, — пока никто у меня не умер, все еще живы. Я решила временно вас перепрятать, а это надо организовать с умом. Не шутка попасть к немцам в лапы, вы туда торопитесь? — Доба молчала, Сабина молчала, а Ирена ощущала прилив энергии. После бессонной, изнурительной ночи, именно сейчас, в тесной клетушке, она чувствовала, что еще в состоянии воспрянуть духом и решительно действовать. Видно, уж такова моя натура, порадовалась про себя Ирена, если сталкиваюсь со слабыми, то забываю о собственной слабости… Подошла к Сабине и тоже преклонила колени, прижалась к ней плечом. — Мы должны пережить и это, дитя мое. Витольд был очень осторожен, и я надеюсь, что он благополучно выкрутится… — Я молюсь, чтобы он сегодня вернулся… — ответила Сабина. — А после молитвы займись матерью, как бы она не натворила глупостей… И носа сегодня не высовывай наружу. Меня не будет несколько часов, съезжу к Вежбовскому, в Красностав. — Едва спустилась в кухню, услыхала, что отворяется калитка. Незнакомый мужчина уверенным шагом направляется к дому, и лишь в последнюю минуту Буковская сообразила, что это Муляк, друг Яна еще с довоенных лет. Витольд однажды рассказывал ей: — Какой-то высокий, худощавый человек приходил к Вежбовскому, они заперлись в кладовке и проговорили целый час. А когда вышли, гость просил передать тебе привет. Кажется, Муляк его фамилия. — Муляк открыл потертый клеенчатый портфель и выложил его содержимое на стол. Муку, яичный порошок, искусственный мед, сало, колбасу. — Это от Вежбовского, и еще просил передать, чтобы ела и не паниковала… — Ладно, скажи что-нибудь о Витольде!.. — воскликнула она, хватая гостя за лацканы поношенной куртки. Муляк улыбнулся, и, прежде чем вымолвил слово, она почувствовала, что это не вымученная улыбка и что в словах его тоже не будет фальши. — Ничего при нем не нашли, он был чист в момент ареста. О допросах и следствии знаем пока маловато, пожалуй, дела не так уж плохи. Полагаем даже, что гестапо напало на ложный след. — Прошли в комнату. Ирена присела на кровать, закрыла глаза и мысленно перебрала в тишине услышанное. Беззастенчиво выхватывала из этой тишины слово за словом, как бы опасаясь, что поначалу от волнения могла что-нибудь упустить: ничего не нашли, был чист при аресте, но допросы, следствия — даже если ложный след, то все-таки допросы в гестапо… Муляк остановился у застекленной дверцы шкафа, открыл ее, погладил разноцветные корешки книг. Вдруг Ирена услыхала его удивленный, взволнованный голос: — Ирка! Сумасшедшая! Совсем спятила? Даже не верится, что в этом доме был обыск. Жеромский, Сенкевич, не угодно ли — «Крестоносцы» на почетном месте! Прус, Выспяньский, а тут еще сборник стихов о Пилсудском, иллюстрированная история легионов. Чем дальше в лес, тем больше дров. «На тропах грусти» и «Земля прахом полнится» Ваньковича. Просто великолепно, сплошной восторг. Тувим, Слонимский, Шульц и для полноты картины — Винавер и Корчак, целая коллекция запрещенных имен. Ирка, это нелепая игра с огнем. Надо почистить книжные полки. — С минуту она молчала, хотела даже рассмеяться при виде его оторопелого лица, но вместо смеха прозвучало резкое, ироническое: — Почистить? Так посоветуй мне, дружище, кого убрать в первую очередь — Пилсудского или евреев?.. — Калитка заскрипела предельно резко, калитка подавала тревожный сигнал, но они этого не слышали.
Была уже глубокая ночь, когда Витольд открыл глаза. Кто-то толкал его локтем в больной бок. — Слышишь, парень? Это недалеко, в километре или двух отсюда. Какая-то большая война, парень. — Сидевший рядом с Витольдом мужчина задрожал от волнения, словно недалекая ночная война решала и его участь. В камере наверняка никто не спал. Из всех углов доносился гомон, пока блондин с рассеченной губой не прикрикнул начальственно: — Заткнись, теперь надо слушать, а не молоть языком! — Все умолкли и обратились в слух. Страху своему внимали, надежде и тому, что творилось за стенами тюрьмы. Автоматные очереди все дерзновеннее дырявили хмурую ночь, рвались ручные гранаты, битва гремела, трещала, разгоралась, как гигантский костер, в который подбрасывают смолистые щепки. — Это все же не в городе, за мостом, должно быть, или где-то у железной дороги, — огорчился ближайший сосед блондина. А небритый мужик в барашковой шапке, сидевший у дверей, торопливо перекрестился и сказал с явным облегчением: — Слава богу, что где-то в стороне. Хвала всевышнему, ведь, если бы в самом городе началась какая-нибудь драка, могли бы всех нас в отместку перещелкать. — Ах ты, вонючая деревенщина, заткни уши, если слушать тошно! — рявкнул молчавший до сих пор худой мужчина в форме путейца. Битва постепенно угасала, в камере угасали страсти, и блондину не было нужды урезонивать даже самых рьяных крикунов, никому не хотелось говорить. Покричали о том, что кричалось, но еще остались тревожные мысли, а мысли — не слова, с мыслями надо осторожнее обращаться, без спешки. Хватит часов, хватит дней, чтобы все распутать, привести в порядок, позабыть отголоски ночного боя, якобы что-то предвещавшие, и вернуться к тюремной действительности. И вдруг, когда пальба почти совсем замерла, началось какое-то движение за обшитыми железом дверями. Затопали тяжелые сапожищи, заскрежетал ключ в замке, и сразу же сделалось светло, так как включили все лампы, и шумно сделалось от возгласов, восклицаний, сливающихся воедино и заглушающих друг друга: — Люди, выходите из камер… все, все, и побыстрее… люди, вы свободны… и побыстрее из камер… в наших руках… выходите… вся тюрьма… некогда… пошевеливайтесь… свободны… в лес, в лес, кто куда… свободны… люди, выходите из камер! — Витольд выскочил в коридор, где уже полно было арестантов, всяких арестантов, молодых, старых, охрипших от радостного крика, целующихся с партизанами и других — перепуганных, недоверчивых, не очень-то соображающих, что им делать с этой внезапной свободой, которая обрушилась на них среди ночи. Витольд заметил блондина, энергично командовавшего этой тюремной толпой, разыскивавшего своих: — Есть тут «Рафал»? Черт побери, ведь должен быть. Есть тут «Крест», «Аист» и «Войтек-маленький»?! — Ребята, кто из отряда «Хлебороба», собирайтесь у тюремных ворот, возле будки! — Витольд не был из отряда «Хлебороба», не знал громко выкрикиваемых кличек и понимал, что тюрьма захвачена партизанами. Они ищут теперь своих, бегают от камеры к камере с кличками и даже фамилиями на устах. — Где ты, «Вихрь»? Эй, Кулявяк, давай, браток, поцелуемся, вот ты и спасен, беги, браток, сбор у ворот тюрьмы. — Значит, ради них была ночная пальба, ради них проводилась вся эта операция. Остальные пусть пользуются случаем, другого не представится. — Пан из леса, уважаемый, я тут за самогонку сижу, и осталось всего-навсего три недели, так стоит ли мне бежать? — Да сидите себе сколько влезет, — отвечает молодой партизан и рукой своим машет: — Ребята, красная ракета, сматываемся отсюда! Я здесь лишний, подумал Витольд, останавливаясь посреди мостовой, чтобы взглянуть на красные стены, из которых столь неожиданно вырвался, у меня свои дела и свои «Хлеборобы», а теперь домой, пока еще можно. Он знал, что с рассветом гестапо начнет действовать вовсю. Будет усилена проверка на улицах и вокзалах, будут засады во многих квартирах. Но эта половина ночи принадлежит ему, только ему. Он пробирался дворами, выбирал слабо освещенные улочки, наконец остановился в темном провале подворотни, и, когда, тяжело дыша, наслаждался этим спасительным мраком, кто-то захрипел прямо у него за спиной, откашлялся и проговорил свистящим, астматическим голосом: — Издалека ли возвращаетесь, разрешите полюбопытствовать? — Витольд резко обернулся и сжал кулаки. Решил, что снова по-глупому влип. Что за ирония судьбы, угодить именно в ту подворотню, где притаился шпик. — Ну, я спрашиваю, а отвечать не обязательно, — снова захрипело в темноте. — Далеко ли, близко, один черт. Только должен предупредить, чтобы не ходили к мосту, если туда направляетесь, категорически не советую. Возле управы стоит броневик, а у моста пулеметы. — Спасибо, выберу другой путь, — вздохнул с облегчением Витольд, вглядываясь в темноту, откуда донеслось предостережение. Лица астматика по-прежнему не было видно, он стоял близко, но, вероятно, в какой-то нише. — Благодарить не за что, хорошая у нас была ночка, а вам желаю удачи. — В принципе он должен был предвидеть то, что услыхал в подворотне. Ведь это же логично и элементарно с военной точки зрения, что во время боевых акций мосты охраняются особо тщательно. Должен был предвидеть? Почему же раньше не подумал о другом пути? Значит, ошеломила внезапная свобода, притупила инстинкт самосохранения. Он шел как призрак черными дворами, по ухабистым неосвещенным улочкам, боялся патрулей, но упрямо стремился к мосту, откуда уже ни за что не убежишь. И все бы завершилось шумным финалом, которого, пожалуй, не заслужил… Подгоняя себя этими слегка ироническими мыслями, он брел по колено в воде по заболоченной речке Кавенке, пока не достиг огромного луга и не почувствовал себя вступающим в некий благословенный край, где уже не грозит опасность. Смотрел, узнавал этот луг, хотя сейчас его не видел, поскольку была ночь как по заказу, темная, непроницаемая. Витольд все узнавал и голову дал бы на отсечение, что различает все запахи этого зеленого края. Здесь бы жить, здесь с Сабиной поселиться, среди этих ароматов и в бесконечной темноте. И здесь дождаться такого рассвета, от которого уже никто не будет убегать. На том берегу Кавенки, то ли возле моста, то ли у магистрата, во всяком случае в том жестоком краю, откуда он благополучно вырвался, раздались винтовочные выстрелы. И сразу же к их нестройному хору присоединился автомат. Спустя минуту снова все стихло, Витольд за эту минуту успел вернуться к действительности. Конец мечтам о безопасном крае, и Кавенка никакая не граница, просто грязная речушка, самое большее — рай для уток, и луг — только луг, скоро конец непроглядной ночи, благоприятствующей всем побегам. Он заторопился, зашагал шире, спотыкаясь о корни и холмики кротовин, и, уже окончательно выбившись из сил, достиг высокого берега Вепша. Витольд знал эту реку как свои пять пальцев. Отец показал ему немало мест, где хорошо брали язи, крупные голавли и осторожные лини. Раза три тонул в этой реке, прежде чем научился прилично плавать. Но теперь, съехав с откоса по сырому песку и почти коснувшись ногами воды, вдруг ощутил необъяснимое недоверие к ее стремительному бегу. Чего-то ждал, сознательно затягивал ожидание, и, возможно, вода здесь была ни при чем. Закрывал глаза, стучал пальцем в землю, стучал долго, пока дверь не отворила мать. Он отчетливо услыхал ее голос. И эхо услыхал, прокатившееся по лугу: — Вернулся Витек, мой Витек вернулся, идите сюда все и посмотрите, вернулся целый и невредимый. Сынок, я знала, что ты вернешься, какая мне жизнь без тебя? — И эхо, прокатившееся по широкому лугу… И радость вперемешку со страхом, что не выдержит, припадет к ее коленям и выплачется за все времена. Будь что будет. Он оттолкнулся ногами от берега, река вздыбилась, забурлила, потянула в водовороты…
Знаешь, Ирена, как было? Лучше я тебе сейчас поведаю, ибо, когда, уже сидя рядом с тобой, в нашем доме, на тебя глядя и обняв рукой Витольда, захочу вернуться к этой истории, получится рассказ как бы из вторых рук. Все, все, что нам захочется рассказать вам завтра, будет правдой и ложью. Может, кто-то из знакомых заглянет и полюбопытствует, сильно ли воняет паленая человечина. А я скажу, что сильно воняет, что порой, когда крематорий дымил круглые сутки и дым от сожженных трупов гнало в нашу сторону, даже самых закоренелых хефтлингов наизнанку выворачивало. А я скажу: страшный дым, смрадный, тошнотворный. Но это будут только слова. От этих слов, правдивых, но обыденных, прижившихся в старых словарях, никого не затошнит. А может статься, что вообще не смогу завтра переступить даже мысленно этой колючей проволоки, за которой мы ныне угасаем. Todeszone. Зона смерти. Преодолею ли эту зону, когда буду уже в безопасности? Вернусь ли сюда, когда уже возвращусь к вам? Сейчас хочу говорить. Наши слова зачахли, ибо так должно быть, иссохли, как кожа доходяги, вышвырнутого пинком из лазарета, и где гарантия, что когда-либо впредь слова эти на что-нибудь путное сгодятся? Знаешь, Ирена, как было? Я умирал. Именно тогда, когда себя и тебя убеждал, что есть еще надежда. Не было никакой. Оставались считанные минуты — и это было роскошью. Именно тогда, когда рассказывал тебе о Гославском и декламировал его стихи, которые теперь не могу вспомнить. Ничего не могу. Лежал рядом со мной один человек, который уже отправился в крематорий. Когда у меня спадала температура, он подробно пересказывал мне все, что из моих уст услышал. Поэтому знаю, каким был тот наш разговор. Знаю об атаке Верещинского на Майданек, ведь я участвовал в этой атаке и стоял рядом с Гославским, когда полковник Крысиньский сказал, что Замойскую крепость сдает. Я говорил тебе обо всем этом второпях, так как наверняка хотел завершить свое исследование, которое начал перед самой войной и рукопись которого уже покрылась пылью в моем столе. Знаешь, как было? Именно тогда я умирал. К счастью, поглощенный Гославским, я не склонен был думать о собственном угасании. Так было и позже, когда начало проясняться сознание. Днем больше, днем меньше — никакой разницы ни для меня, ни для тех, кто нас толкает в газовую камеру. Тогда владело мною спокойствие, которого ныне я не в состоянии постигнуть. Одним днем длиннее, одним короче, будь что будет, думалось мне. Тогда. И в такой момент я пережил самую страшную сортировку. Отправились в «двадцатку», то есть в барак, откуда уже нет возврата, отправились в газовую камеру люди гораздо моложе, здоровее и сильнее меня. А я остался, не очень понимая, как это случилось. Это не везенье, скорее какой-то удивительный каприз судьбы. Туманн втянул меня в разговор, ты ничего не знаешь о Туманне, поэтому тебе невдомек, в чем заключается алогичность этого трагифарса. Я с ним беседовал, да так запросто, что весь лазарет качало от изумления. Сам не знаю, что об этом думать. Может, этого вообще не было? Но знаю, что живу. Уже выписался из лазарета. Вернулся на первое поле, а тут уже нет мужичка из-под Пулав, которому так хотелось переменить фамилию, ибо фамилия его была — Немец. И нет уже Квасика, вместе с которым я разрабатывал дерзкий план, и нет бойкого Зенека. Всех успели отправить в крематорий, пока я вел дискуссии с Гославским и с Верещинским наступал на Майданек. Потом появился Черный Роман, который еще раньше начал мне помогать, еду в лазарет передавал, порой даже лекарства. Я ничего не знал о нем, лишь теперь все выяснилось. Это сержант из моей роты, старый хефтлинг, и работает у Лукеша. О команде Лукеша мечтает каждый узник. Лукеш — это чех, который жил в Судетах, а теперь он мой ангел-хранитель. К Черному Роману, то есть к Роману Бонку, этот ангел питает какое-то особое уважение, что на мне отражается весьма положительно. Живу, Ирена. С тех пор как ступил на землю, огражденную колючей проволокой, я никогда еще столь уверенно не произносил этого слова. Живу. Все за той же самой проволокой, в той же самой могиле, в смраде и нищете, а кажется мне, что уже вышел из лагерных ворот и обитаю на своем счастливом острове. В моей прежней картофельной команде вчера было проведено воспитательное мероприятие. Обыскали парнишку, который возвращался с овощного склада, и нашли у него три морковки. Парнишка, Збых, чуть постарше нашего Витольда. Влепили ему, как положено, плеткой по спине и пояснице, до потери сознания. Потом быстро привели в чувство и поставили у караулки, затолкав в рот эти морковки. Простоял он, белый как покойник, до позднего вечера. Мне теперь легче красть морковь, я работаю в Gärtnerei — огородной команде. Должен тут побыстрее восстановить силы, ведь Лукеш не вечен, и Черный Роман не вечен, и лафа в огородной команде может кончиться в любую минуту, а вешу я теперь сорок килограммов, и Витольд казался бы рядом со мной Геркулесом. В огородной команде, на самом краю лагеря… Когда смотрю сквозь стекла парника, вижу улицу Десятую, а иногда вижу силуэты женщин. Тогда убеждаю себя, что одна из них — ты, и вчера сорвал цветок, которые выращивают для Флорстедта и, вероятно, также для красавицы жены Туманна, мне рассказывали, что у него красивая жена, которая обожает цветы. Я помахал тебе этим цветком, а потом съел его, чтобы не осталось следов моего преступления. Слушай внимательно, я буду жить, обещаю тебе это сегодня.
Томасева стащила с его ног мокрые, раскисшие сапоги, тощий Томась растер ему спину крепчайшим самогоном, а потом сухую рубаху на него натянул. Раздевали и одевали его, как куклу. Руки у них тряслись, они натыкались друг на друга, мечась в тесной, низкой горенке. Что они могли сделать для него, кроме того, что уже сделали? — Выпей чуток, один глоточек, это не повредит, тебя же трясет от холода, еще воспаление легких схватишь. Пей, ты же теперь должен быть здоровым. — Томась наполнил кружку желтым вонючим самогоном и подсунул Витольду под нос. — Сам вылакай, дурачок. Витеку теперь нужна очень ясная голова. — Томасева выхватила у мужа кружку, размахнулась, как бы собираясь выплеснуть сивуху на пол, но раздумала. Прищурилась, глотнула из кружки и спокойно, как чай, выпила. — Что скажешь? Может, плохой? — Знаю, какой, только самогон не детское питье и не в такую минуту, дурачок. — Томасева отерла рот пухлой ладонью и расплакалась. Она заплакала, когда Витольда втащили в горенку и пришлось обо всем ему рассказывать. И вот беда снова ее сломила, чужая и близкая, отделенная от нее всего-навсего забором, невысоким и дырявым. Она присела перед Витольдом, обняла его колени: — Ох, дитя мое, ничего не поделаешь, попытайся примириться с судьбой. Нет такой силы ни на небе, ни на земле, которая исправила бы то, что стряслось. Дитятко мое, ведь для тебя не новость, что горя теперь расплодилось больше, чем крапивы. Никто не знает, когда пробьет его смертный час, Витек, а жить надо, и падать духом не следует. Пользы от уныния что от грязи под ногтями, а если выживешь, в любом суде против этих палачей дашь показания и даже сам сможешь их судить. — Витольд видел лицо Томасевой, как сквозь туман. Хотелось наконец проснуться, ему казалось, будто все то, что тут он видит и слышит, — чудовищный тюремный сон, терзающий его в душной, набитой до отказа камере. Никем он из тюрьмы не освобожден, не было ни долгого перехода по лугам, ни переправы через реку. Надо стряхнуть с себя этот сон… После третьего допроса может последовать четвертый и пятый. И пусть будет. — А ты себя, Витек, так настраивай, что теперь им не больно, лежат себе спокойно друг подле друга, одинаково песком присыпаны, и никто над ними уже не издевается. — Тут невзрачный, тщедушный Томась грохнул кулаком по столу, да так, что подпрыгнули кружки и тарелки: — Хватит, хватит, баба, кончай хныкать, а то совсем доконаешь парня. Поревели сколько положено, а теперь надо мозгами пораскинуть, чтобы парня на верную дорогу вывести. — И в тишине, которая невзначай воцарилась, поскольку Томасева, рукавом нос вытирая и косясь на супруга, примерно помалкивала, в полнейшей тишине раздался голос Витольда: — Били их? — Он все смотрел на коленопреклоненную женщину и наконец увидал ее отчетливо, каждую морщинку, каждую складку на лице, хотя в горенке было немного света. — Очень их били? — И прежде чем Томасева успела открыть рот, неожиданно возвратились к нему слова Сабины, произнесенные на чердаке, которые словно бы хотели теперь с ним породниться: мать упрекает, что я совсем очерствела, даже плакать не способна, может, и правда плакать разучилась, во сне не раз слезами обливалась, днем же чувствую только боль в гортани, а глаза сухие. — Я тоже, я тоже!.. — вскрикивает он сдавленным голосом, словно кто-то его душит, а Томасева вскакивает и бежит с кружкой к ведру. — На, глотни холодной водицы, и горло отпустит. Вовсе их не били, дитя мое, все случилось мгновенно, я даже «отче наш» не дочитала. Трое их пришло, нет, четверо, один у калитки остался. Трое немцев и Шимко. Полицай кулаком в дверь постучал и гаркнул во все горло: — Пани Буковская, откройте, вам ничего не поможет! Все ясно, к чему нам стрелять и поджигать? — И вскорости дверь отворилась. Первой вышла твоя мама, за ней две женщины, одна старая, хромая, вторая — совсем молоденькая, красивая, как цветочек, но бледная, как будто всю кровь из нее заранее выпустили. Последним вышел высокий, по-городскому одетый мужчина. Кажется, не еврей. Он тут же с документами, с целым открытым бумажником к немцам было сунулся, дескать, ошибка — закричал, он в этом доме случайно, только объяснения ничуточки ему не помогли. Увели заодно с теми. Рассказывать дальше, Витек? — Все говорите. — Боже милостивый, как об этом скажешь? Мама твоя была спокойна, головы не опускала, а когда их из садика вывели, взяла под руку хромавшую старую женщину, и они пошли вместе… — Куда? — Витольд сползал со стула, голова его не держалась на плечах, как после третьего допроса, а заплакать по-человечески вот не смог. Застонал только, завыл и умолк, так как Томасева тоже молчала, напуганная этим звериным воем. — Куда? — Ох, матерь божья, а куда же их могли гнать? Я с самого начала слышала разговор немцев, но ничего не понимала, ведь по-своему калякали. Куда повели?.. С веранды я их увидала, пригнулась, а там несколько стеклышек недостает, и сам понимаешь, что каждое их слово до меня доносилось. Все из садика вышли, а перед этим дверь твоего дома бумажками обклеили и опечатали, я платок на голову накинула и шмыг за ними. И так все время следом, сто, двести метров, то за забор, то за хату прячась, шла до самого конца. Погнали всю четверку прямиком на еврейское кладбище, ты не казнись, что мама твоя, католичка, вместе с евреями лежит. У человека нет нынче выбора, и там он костьми ложится, где немцы укажут. А им указали еврейское кладбище. Едва услыхала я выстрелы, пала на колени у ограды и начала молиться за их бедные души. Со святыми упокой, господи, души рабов твоих… где нет ни болезни, ни печали, ни воздыхания, но жизнь вечная… четыре было выстрела, один за другим, потом небольшой перерыв и еще два выстрела, как бы напоследок… но жизнь вечная… и видишь, что не покинули нас без положенной им отходной, аминь. Ах, Витек, им уж только заупокойная молитва осталась, а ты хорошенько прячься, тебя искать будут. Ты у них дважды на заметке, одна заметка за то, что на свободу вырвался, другая — за евреек, которые прятались в твоем доме. К бабушке не ходи, ведь, когда они еще во дворе были, Шимко что-то о ней офицеру толковал, я даже название деревни расслышала, и там тебя могут схватить. — Томась принялся петлять вокруг стола, на котором красовалась бутылка и грязная посуда, и ругался. Вся и все ругал. Бога и Гитлера, евреев и жандармов, небо и землю, ночь, которая уже кончилась, и день, который вскоре должен был народиться. Потом остановился, дрожащей рукой наполнил стакан и жадно выпил, точно это было единственное лекарство, способное спасти ему жизнь. Самогон его успокоил, прекратились ругань и хождение вокруг стола. Присел теперь Томась на шаткую скамеечку, руки потер и уставился на Витольда удивительно трезвым взглядом. — Жуткое дело получилось, счастье твое, парень, что наши тебя аккурат сегодня из тюрьмы вызволили. Если бы налет на тюрьму совершили через два-три дня, ничего бы это тебе не дало. Позвонили бы из Избицы в Красностав, что, мол, у этого Буковского еще одно пятнышко — в доме его две еврейские бабы обнаружены. Из камеры ты тут же бы вышел, но лишь для того, чтобы стать на краю свежевырытой ямы. Швабы такие дела кончают с размахом, то есть всех подчистую и до последнего колена. А ты в лес подавайся, теперь только в лесу тебе место. Разве есть у тебя другой выход? — Витольд качал головой, вроде бы поддакивая Томасю, но продолжал молчать. И Томась еще раз спросил: — Разве есть у тебя другой выход? — И, не дожидаясь ответа, произнес наконец то, что с самого начала сверлило мозг: — Мама твоя сама себе смерть выбрала, понимаешь? Кто добровольно на такой подвиг решается, должен ожидать худшего. — Для Витольда это было ясно и очевидно, но, соглашаясь со словами Томася, он одновременно испытывал нарастающую неприязнь к этому человеку. Вот тебе мои полезные советы, моя рубаха, мой хлеб, самогонку пей сколько влезет, только большего от меня не требуй. Такой он? — Хорошо вам говорить, весь ваш риск — это самогонка… — произнес Витольд именно в тот момент, когда Томась снова потянулся за бутылкой. Потянулся и уже начал наполнять стакан, но рука у него так задрожала, что первосортный самогон разлился по столу, образуя лужу между грязной кружкой и щербатой тарелкой. — Ах ты, пьянь безбожная!.. — крикнула Томасева и тут же притихла. Подошла к мужу, принялась гладить его по лысеющей голове, а смотрела на Витольда. — Ты, Витек, не берись людей мерить, если нет проверенной мерки. Я тебе сейчас кое-что открою, поскольку дело прошлое, было да сплыло. Ты помнишь, что у нас тут вытворяли с евреями? День за днем гнали их на станцию, заталкивали в вагоны, словно скотину, а ведь и со скотиной надо обращаться по-человечески. И все время зверствовали, тех, кого не могли в эшелон впихнуть, добивали на месте. В Доме пожарного с тысячу евреев дожидались своей участи. Под замком их там держали, пресвятая дева, и партиями оттуда на кладбище отводили. Были и такие, которые шасть в сторону и бегом через улицу и между заборами. Тогда начиналась стрельба. Я помню молодую еврейку, которая упала, подстреленная, и приподнялась еще на руках и закричала своей дочурке: беги, не смотри на меня, беги к добрым людям. А доченька ни шагу, стоит возле матери, и немцу не пришлось торопиться. Подошел преспокойненько к лежавшей, пнул ногой, прицелился из винтовки и пальнул. С девчушкой так же поступил. Толкнул ее, боров раскормленный, толкнул малютку так, что она опрокинулась на свою убитую мать, зарядил винтовку и снова выпалил. Господи, я все это видела из чулана, сквозь щель в стене, с такого короткого расстояния, как от моего крыльца до колонки, и по сей день все ясно вижу, а домой тогда вернулась совершенно не в себе. Бормотала что-то и ни единого слова по-человечески выговорить не могла. Что ни возьму в руки, все на пол летит. Наконец ночь настала, прилегла я, а тут кто-то в стекло стучит. Бужу своего: послушай! То ли кто стучится, то ли в голове стучат те выстрелы? А мой ничего не отвечает, только мигом с постели срывается — и к окну, а потом к дверям. Слышу, вводит кого-то, почти втаскивает, а тот ноги волочит, значит, сил нет на собственных ногах держаться. — Кого ты тащишь? — спрашиваю, а мой, не раздумывая и совершенно спокойно, отвечает: парнишку волоку, еврея, займись-ка им — кровью истекает. Зажгла я свет и увидала все в натуральном виде. Сиротка божья: кожа да кости, и вдобавок столько крови потерял, что даже удивительно, как под этой белой как мел кожей жизнь теплится. В голову этого парнишку ранили, а на голове была повязка. Красная, кровью пропитанная, но все-таки была. И я подумала, что побывал уже бедняжка в чьих-то добрых человеческих руках, что кто-то пытался его спасать. Из постели одним прыжком выскочила, старую рубашку порвала, чтобы было чем перевязать, плиту растопила, чтобы приготовить воду и рану обмыть, а парнишка этот говорит тихонечко, о последних часах своей жизни нам рассказывает. В огромной яме, в разверстой могиле лежал он среди своих собратьев. Когда стемнело, очнулся. Пуля ему в голову попала, да так удачно, что жив остался. Начал помаленьку выбираться из ямы с мертвецами, успел вылезти до того, как могилу эту засыпали. И побрел неведомо куда, поскольку в глазах, кровью залепленных, черно было, а голова гудела от раны. Наконец остановился у нашей почты. Не долго думая, принялся стучать, пока не разбудил тех, кто ночью дежурил, и не ошибся, оказали ему там первую помощь. Рану очистили, наложили повязку, кто-то принес чистую одежду, ведь бедняга был весь в крови. Лежал среди убитых и собственной крови потерял немало. Отдохнул на почте, но оставаться долго не мог, где там спрячешься? Хлеба ему дали, денег и кратчайший путь в лес показали, чтобы вступил на одну дорожку с партизанами. И пошел он, да не ушел далеко, сил своих не рассчитал, но, к счастью, ночь все еще была непроглядная. С дороги сбился, голова опять разболелась, и остановился он, сиротинушка, у нашего дома. Повязку я сменила на свежую, чистую, кружку молока налила и несу ему, чтобы выпил, сил набрался, а сама все думаю: что же дальше? Наконец мужа спрашиваю: — Что будем делать с парнишкой? — А мой пожал плечами и говорит: — Ничего не будем делать, просто останется у нас, ведь в таком состоянии ему до леса не дойти, схватят и пристрелят у первого попавшегося забора. Неужели обречем его на смерть после чудотворного спасения? — Руки у меня затряслись от страха, как подумала, что беду навлекаем на наш дом и на свои головы, но, хоть и страшно, нельзя было поступить иначе. Пей молоко, сиротка божья, а в лес пойдешь, когда оклемаешься, — так я ему сказала. И жил у нас этот парнишка почти семь месяцев. Соорудили мы ему логово в подвале, и каждый день был для нас кошмаром. Часом полицай какой-нибудь нагрянет с проверкой насчет самогона, да что там самогон, если под полом смертный приговор выписан. Стоило только крышку люка поднять, и можно было этот приговор нам зачитывать. В конце концов этот раненый парнишка до того окреп, что в лес подался, а ты, Витек, сперва подумай немножко, прежде чем о человеке хорошо или дурно отзываться…
12
Лес. А если это единственное пристанище? А если с рассвета до заката и с заката до рассвета — только там? Витольд подумал об этом и не ощутил себя внутренне свободным. Битый и бесконечно усталый. Именно сейчас, когда следовало быстро принять решение, его одолела слабость, до того непреодолимая, что приходилось молчать, чтобы этой слабости ни единым словом не обнаружить. Он был болен. И от пережитого в гестапо, и от того, что пережил на собственном дворе, а потом в хате Томасей. Он знал уже все, только знал. С чужих слов мог себе сцену за сценой представить, воспроизвести. Слова были правдивые, впечатляющие, но воображение отказывалось повиноваться. Ему рассказывали о казни на еврейском кладбище, а он закрывал глаза и видел мать, которая резала черный хлеб, и видел Сабину, читающую стихи, и видел Добу Розенталь, принимающую какое-то снадобье, так как снова привязался кашель. С этим кашлем недолго до беды. Слышен даже в комнате, а если там окажется кто-то посторонний, а если удивленно глянет на потолок? Не хватало еще, чтобы из-за дурацкого кашля вся затея провалилась. Томасева крошит лук и вытирает глаза грязным фартуком. Побуду здесь немного, договорюсь с Томасем, ведь в одиночку мне не справиться, а у него руки золотые. Однажды я уже собирался велосипед на свалку выбросить, а Томась совершил чудо. Мать хлеб нарезала и теперь намазывает маргарином. Сабина голову от книги подняла: ты вернулся? — Мы тебя не выгоняем, Витек, побудь немного. В подвале есть нары, можешь там спрятаться, пока шум о Буковских малость поутихнет. Они всюду тебя искать будут и менее всего, наверное, тут, в пятнадцати метрах от твоего дома. — В подвале воняло гнилой картошкой, Витольд упал на твердое ложе и почуял могильный запах. Он не был способен, а может, не хотел бороться с мыслями, жестокими только потому, что они были правдивы. Лопатой надо землю отгребать, осторожно откапывать, пока не пахнёт из этой земли смрадом, и люди, вместо того чтобы наклоняться и опознавать своих, разбегутся, как от заразы. Потом вернутся, плача от стыда, падут на колени в позднем раскаянии. Где он, где она, где наши? Как их опознаешь, если все с землей перемешано, в землю превратилось? Черепа, кости, черепа, кости, и какие им дашь имена? Но взгляните-ка, вот башмачок с изящной пряжкой, и дамская сумочка, и еще обрывок ремня, и металлическая пуговица. Пуговица сохранилась лучше всего, стоит только стереть песок, надраить фланелью, и она заблестит, как новенькая. Останется лишь установить, кому принадлежала. А к носу прижать платок, ведь смрад все-таки смрад. Томась, пожалуй, использует эту гнилую картошку, получится из нее самогон что надо. — Бежать хочешь, уже отлежался? — Томасева направляется к Витольду со сковородкой, на которой шипят шкварки. Поливает картошку горячим жиром и не отходит от стола, ждет, чтобы Витольд начал есть. — Живой человек всегда что-то решать должен, вот и решай. Ступай к немцам, отдайся им в лапы, на душе у тебя будет полный покой. Чего тебе есть мою картошку со шкварками, если они тебя досыта накормят свинцовыми пулями. Либо ищи другой выход. Я ли должна тебе объяснять, какой это другой выход? Только окрепнуть надо, чтобы за все с немчурой расквитаться. Ешь, Витек, без еды никакой силы не наберешься. — Убеждала, потом просила, чтобы он в свой дом не входил. — Нагрянут эти гады с проверкой, увидят, что печать на дверях сорвана или окошко выбито, и, чего доброго, нас, ближайших соседей, заподозрят. Обыск сделают, а в чулане столько закваски и сивухой так несет, что от одного духа окосеешь. — Томась принес из сеней потрепанную куртку: — Бери, впору тебе будет, мы же почти одинакового роста. И еще дам тебе маленько деньжат, только в хату свою не вламывайся. — Витольд уступил ему довольно легко, как будто уже страшился переступить порог, за которым была пустота. Ни матери, ни Сабины. Никого. Вышел он от Томасей после полуночи. Записку оставил для Вежбовского, и Томась торжественно обещал, что еще до обеда сбегает в Красностав. О чем было писать, если Вежбовский и так все знает? Знает, что тюрьма разбита, и наверняка знает, что в зеленом доме — траур. Писал, подолгу обдумывая каждое слово, точно составлял завещание. «Конверт с марками вовремя уничтожил, это передать Р. Я здоров, уезжаю, так как здесь мне душно, дам знать о себе, когда почувствую твердую почву под ногами. Вит.» Письмо короткое, и только в одном соврал: не был он здоров. — Вручить Вежбовскому, и больше ничего? — удостоверился Томась, вкладывая записку в потертый молитвенник. — Ни слова от себя? — Хватит. Все кончено… — ответил Витольд, ощущая в горле такую сухость, что каждое слово причиняло боль. Резко нажал на дверную ручку, так как Томасева опять начала давиться слезами… И теперь уже никто не плакал, поглотила его ночная темень без звезд, но с собачьим лаем и отдаленными гудками паровоза. Это мой дом? — рука его задрожала, когда он гладил шершавые доски. Показалось ему, что одновременно с рукой задрожали стены, немного уже обветшалые, хотя и дубовые. Здесь я родился? Тут было все, что могло быть в моей жизни? Он приник лицом к оконному стеклу, внезапно увидал Сабину, а позади нее мать и Добу Розенталь. Они шли к нему, улыбались и шли, шли все быстрее, но дойти не могли. Не могли пробиться сквозь прозрачное стекло. — Витек, Витек… — Томасева, видимо следившая за ним, наверняка испугалась, что он слишком долго задерживается у своего дома. А вдруг Шимко или кто-нибудь еще почище засаду на него устроил? — Витек, беги, здесь тебе нельзя стоять. — Он пригнулся, словно негромкий окрик был сокрушительным ударом. Отскочил и быстро пошел прочь от своего гнезда, от стен, которые теперь никого не хранят и хранить не будут, от окон, от холодной трубы, от стола, всегда благоухавшего хлебом, от этих трех ликов, смертельно усталых, но почему-то улыбающихся. Стремительно пробивался сквозь равнодушную тьму, пахнущую осенним дождем, и не оглядывался. Томасева долго стояла посреди двора, пока тщедушный Томась, от которого разило перегаром, не потянул ее за руку: — Идем, старуха, ты уже ничем ему не поможешь, и даже господь бог не поможет. Все только от него самого зависит. Так теперь будет, а он ночь выбрал, и правильно сделал. Ночью страх чуточку справедливее, поляков душит, но и немцев не милует. — В карманах у Витольда пятьсот злотых, хлеб, кусок грудинки и два яблока, а документов — никаких. Все его важные и менее важные бумаги лежали в ящиках красноставского гестапо. Невелика потеря — какая польза от документов, пусть самых расподлинных, если они свидетельствуют против него? Имя, фамилия, год рождения и этот проваленный избицкий адрес. Чего больше? На что он мог рассчитывать при первой же встрече с жандармами или даже со сверхусердным «синим» полицаем? Сын Ирены Буковской, родившийся и проживавший до ареста в доме, где прятали евреек. Можно ли быть бо́льшим грешником, можно ли грубее нарушить общественный порядок? А в картотеке еще политическое дело, не выясненное до конца, и побег из тюремной камеры. Достаточно? На несколько смертных приговоров хватит. Вдруг подумал: я сошел с ума и весь свет окончательно спятил, как же это иначе назовешь? Я начинаю радоваться, что мой отец за колючей проволокой, в лагере, о котором люди страшные вещи рассказывают. Там у него хоть какой-то шанс уцелеть, а здесь бы его уже не было. В одной яме с матерью, Сабиной и Добой Розенталь очутился бы, в тот же миг земля поглотила бы всех четверых. Но ведь там был какой-то мужчина, которого также погнали на еврейское кладбище. Кто это был? Может, врач? Добу Розенталь страшно мучил кашель, и не только кашель, отекали ноги, а мать колебалась, один визит врача — и тайне конец. Может, кто-то от Вежбовского или «Редактора» хотел что-то передать матери? Некто. Кто бы ни был, он поплатился не за свои грехи… Шел Витольд лугами, лишь бы подальше от железной дороги, где немцы и по ночам шастают. Старался держаться берега реки. Река поворачивала влево, вправо, кое-где замысловато перекручивалась, все эти выкрутасы, вместе взятые, служили верным дорожным указателем. Размышляя о безопасном уголке, где можно было бы хоть неделю передохнуть, Витольд подумал о Щебжешине. А может, подумал о Щебжешине еще и потому, что эта была священная земля Сабины? Эти два обстоятельства взаимно исключали друг друга, как вода и огонь, но и в душе Витольда были теперь вода и огонь. Он проклинал тетку, не внемля ее кротким объяснениям: — Ты долго меня обманывала, и наконец я отплатил тебе той же монетой. Думаешь, я к тебе пришел как к близкому человеку, чтобы поплакать в жилетку, пожаловаться? Я просто искал безопасное место и тут нашел, а теперь между нами все кончено. Пусть тебя завалят, придушат гардеробы и картины, натасканные из еврейских квартир! — Внезапно огонь иссяк, и Витольд стал приглядываться к тетке с состраданием. Может, больше было наговоров в людской молве, чем правды? Случалось ведь и в Избице, что евреи отдавали свое имущество на сохранение полякам. А с Томасями как получилось? Разве Томасева не молола вздор о евреях? А оказывается, спасла еврейского парнишку, и, пожалуй, зачастую с людьми так и получается, что они совсем не те, какими мы их видим. Тетка уловила его колебания, и Витольд снова услыхал ее подвывающий голос. Одна осталась, всеми брошенная, а люди ей завидуют, даже этому ее одиночеству, ведь она не транжирила денежки, и квартира у нее приличная, и есть во что одеться. Он хлопнул дверью: конец, не оплакивай себя, оплакивать легче всего. Знаешь, куда я теперь иду? И вот он уже очутился на другом конце города, в доме, над которым висел окончательный и обжалованию не подлежащий приговор. Он так спешил, что толкнул кого-то. То ли Якуба Блюма, который бежал из Юзефова, вообразив, что в Щебжешине спасется, то ли Файвеля Пятьминут? Нет, Файвель так легко не уступает дорогу, Файвеля безнаказанно не толкнешь. Ну, тогда жену Файвеля, Ревеку Пятьминут, или миролюбивого и сверх меры учтивого Натана Рубина. В передней не зажигали света, в темноте он толкнул кого-то и даже в потемках быстро нашел дверь. Над домом, над той дверью и над всей землей Сабины уже висел приговор, поэтому следовало торопиться. А Доба Розенталь, стоявшая спиной к Витольду, лицом к окну, подтверждала этот приговор, и самым удивительным было то, что в голосе ее прозвучало безграничное спокойствие: — Нам тут жилось хорошо и плохо. Жили мы здесь вместе, и вместе останемся. — Тут Сабина вбежала в комнату. — Посмотри-ка, кто к нам пришел, помнишь Витольда из Избицы? — Лицо Добы просветлело, а Сабина рассмеялась: — Мама, это было очень давно, я не помню. — А я тогда впервые признал тебя, хоть и лицо твое не походило ни на одно из девичьих лиц, хранимых моей памятью. О, с какой легкостью лгал, что помню все твои приезды в Избицу. А теперь знаю, не было лжи. Мы всегда жили рядом, с самого начала в жизни моей все связано с Сабиной… — Он шагал упрямо, пока не забрезжил рассвет, и тогда подумал об отдыхе. Перед ним лежала деревня, и он мог пройти туда напрямик, полкилометра отделяло его от крайних хат, но побоялся, что не хватит сил. На подгибающихся ногах едва добрел до огромного стога. И заснул мгновенно, сжимая в руке яблоко, которое не успел надкусить. Разбудил его пронизывающий холод. Почти весь день моросил дождь, мелкий, надоедливый, и сено, в которое он зарылся, разбухло от сырости. Стуча зубами, Витольд начал встревоженно озираться, так как все вдруг перепуталось в голове и он не представлял себе — то ли пришел сюда из деревни, то ли должен сейчас туда отправиться. В нескольких метрах от стога остановился плечистый мужик в брезентовой накидке. Они посмотрели друг на друга, но только в глазах мужика засветилось любопытство. — Кто ты, еврей или партизан? — Мужик рассмеялся, словно его позабавили собственные слова, так как Витольд мало походил на еврея, а на партизана еще меньше. — Далеко ли до Щебжешина? — спросил Витольд, не обращая внимания на смех, чуть ироничный. — Не особо. Хаты, которые там видны, — это Нелиш… — Мужик на минуту посерьезнел, высунул голову из-под накидки, чтобы лучше разглядеть Витольда, и снова рассмеялся: — Зачем тебе в Щебжешин? У меня, парень, работа найдется. В Щебжешине, как в Туробине, в Томашове, как в Закликове, в Избице, как в Радечнице, в Билгорае, как в Горае, в Люблине, как в Кавенчине… — забавлялся он своим незатейливым стишком, словно малое дитя, но, когда Витольд отдалился от стога и уже ступил на тропу, ведущую к деревне, услыхал властный, решительный окрик: — Я не шучу, парень, получишь у меня хорошую работу. Зачем тебе скитаться, как нищему? Одежонка найдется, подкормишься по-человечески, а в Щебжешине что тебя ждет хорошего? — Витольд не ответил. Слишком прав был этот мужик, чтобы отделаться от него какой-нибудь отговоркой. Холод пробирал его все сильнее, и, желая согреться, он припустил бегом по влажной, пружинящей под ногами тропинке. Бежал недолго. Такая навалилась усталость, что присел, оперся руками о траву. Со мной действительно скверно, подумал он, и мысль эта была такой же бесконечно усталой, как ноги, сердце и легкие, а уж какие молодецкие планы строил, в лес торопился. Леса Билгорайские, леса Яновские. Сольская пуща. А под Заборечным что было? А под Краснобродом и Звежинцем? Он читал в нелегальной прессе, которую сам разносил, о больших сражениях и партизанских отрядах… — Это он шел вдоль деревни по песку и острым каменьям. Один как перст. Христос в терновом венце. Они влекли его на Голгофу, подгоняли, столько ему досталось толчков, он падал, но тут же подымался. И всем, кто стоял возле хат и у большака, милосердно улыбался и грехи отпускал. Приидет еще царствие мое, так говорил он всем, хотя шел в молчании. Но все слышали, что таковы были слова его… — Старушонка голосок мелодичный, певучий напрягала, а потом пала на колени, седую голову склонив до самой земли. — Отвяжитесь вы со своим Христом, уж сто раз просила, не болтайте чепухи. Вместо того чтобы чудачить, лучше бы картошку почистили! — крикнула молодуха и повернулась к Витольду, который сидел у печи и, обжигая губы, пил горячее молоко. — Какой там Христос! Таких Христосов теперь полно в округе. По весне немцы брата моего убили, на этом дворе, возле сарая убили, и на мать затмение нашло с горя. Совсем с той поры умом тронулась. Попей, попей горяченького. Молоко — наилучшее лекарство. Какой там Христос? Немцы вели через деревню русского. Русский он был, потому как по-русски просил подать водицы. Из какого-нибудь лагеря сбежал или из эшелона, а может, это был русский партизан? Голова разбита, окровавлена — вот и весь его терновый венец, который матери в ее помрачении померещился. Пей. Сразу же за деревней с ним и покончили. Упал он, а подняться не смог, так немцы его прикладами и сапожищами забили насмерть. Есть там холмик песчаный, вроде бы та его Голгофа, о которой мать бредила. Я тебя ни о чем не спрашиваю, хочешь идти — ступай с богом, скатертью дорожка, твое дело, но если хочешь отоспаться — оставайся. Выглядишь ты хуже некуда и далеко не уйдешь… — Я спал целую неделю, а сейчас уже темно, пойду… — ответил он тихо, возвращая кружку молодухе. А старушонка вдруг вскочила с колен и с неожиданной резвостью подбежала к Витольду: — Никого не слушай, меня слушай, это был истинный Христос. — Она смотрела на бледного, изможденного парня, как на своего сына, которого несколько месяцев назад скосили автоматной очередью под окнами собственного дома. Ночь была очень долгой. Витольд открыл глаза — вокруг бело. Белый потолок, белая дверь, белая перина, и даже тетка в белом свитере, прислонившаяся к белой печке. Ванда была начеку и поэтому заметила, как у него дрогнули веки. И вот уже она рядом, над ним, поправляет перину, подушку, меняет компресс. Он услыхал торопливую капель, как будто дождь забарабанил по железной кровле, и спустя минуту благостная прохлада облепила его горячий лоб. — Витек, мальчик мой дорогой, — ойкнула тетка Ванда. Холодная тряпица на лбу постепенно нагревалась. Из нее сочилась вода, и у Витольда возникло мимолетное ощущение, будто свершилось доселе невозможное. Теплые капли на щеках — подождал, пока сбегут пониже, лизнул языком. Капли не были солеными, это только вода. — Я спал? — Он попытался вспомнить, когда пришел, как попал сюда. — Уже второй день спишь, но был доктор, и, по его мнению, самое худшее уже позади. Я патентованное вливание раздобыла в Замостье, тебе надо лежать в постели, ты перенес тяжелейший шок, и воспаление легких угрожало, и два ребра повреждены, поэтому так туго эластичным бинтом спеленут. — Два дня? — Молчи, я все знаю о вашей беде… — Она снова над ним склонилась и начала осторожно ловить капли, которые катились с мокрой тряпки на лоб, а со лба на щеки. Эти компрессные слезы. — От кого узнала? — Он попытался привстать, сбросить с себя пухлую перину, так как чувствовал, что тонет в собственном поту, но тетка схватила его за плечи и придерживала до тех пор, пока он не перестал дергаться. — От тебя узнала, бедняжка. Потом-то один знакомый звонил в Избицу, и все, увы, подтвердилось, но сперва от тебя все узнала. Не помнишь? Ничего удивительного, ведь ты пришел в таком состоянии, даже описать трудно. Пришел полумертвый. Я растирала тебя спиртом, чтобы разогреть заледенелое тело, а ты говорил, говорил, не открывая глаз. Я плакала, вероятно люди на улице слышали мой рев, а ты заунывным голосом о нашей трагедии рассказывал, таким не по-людски заунывным, что мне подумалось: «Господи, он уже никуда не годится, помешался, бедняга, с горя». Ох, парень, почему такие беды на нашу семью валятся? — Она наклонилась к Витольду, поцеловала его в лоб. — Почему вы были такими безрассудными? Что можно спасти, спасая двух евреек или даже сто евреек? Безрассудные и наивные люди. Твой отец не допустил бы этого, будь он дома… — Неправда! — крикнул Витольд, рванулся, уронил компресс со лба. — Я горжусь моим отцом, это он соорудил на чердаке тайник. Скажи, наконец, как жить иначе? Кто должен помогать евреям, кто должен их прятать на земле, где они родились? — Ладно, лежи спокойно… — ее напугала внезапная горячность Витольда. И она вышла. Он видел, как тетка стоит в передней перед зеркалом и рассматривает свое лицо. Отяжелевшие веки опустились, а когда открыл глаза, тетки уже не было на кухне. Резко звякнуло стекло, затем воцарилась тишина, все более мучительная, от которой разламывалась голова… Что со мной творилось до того, как постучал в эту дверь? Был Христос на Голгофе, и была кружка горячего молока. Потом бор меня упрятал, в самой чащобе, высокий сосновый бор. А мужик, который ехал на телеге? По эту сторону леса? Или по ту? Две тощие лошади тянули повозку без особого напряжения. Мужик брезентовую накидку с головы сбросил: у меня найдется для тебя работенка, чего еще ищешь? На что тебе Щебжешин? В Щебжешине, как в Туробине. Мужик остановил лошадей: садись, бедолага, подвезу, куда надо. А в телеге — кочаны капусты. Ты, похоже, давно идешь, далеко еще?.. Ванда проскользнула в комнату, держа в одной руке бутылку водки, а в другой — наполненную рюмку. Села у окна, они смотрели друг на друга и молчали. Потом она медленно поднесла ко рту рюмку с какой-то трагической сосредоточенностью, и даже крупные слезы покатились по ее бледным щекам. — Я не собираюсь от тебя ничего скрывать, — сказала тетка, отставляя пустую рюмку. — Я больна, из-за водки. Она меня убивает, она же и поддерживает. Если бы пила тайком, скрываясь от тебя, было бы еще хуже. Я стыжусь и хочу, чтобы ты видел мой стыд. Если осуждаешь меня, осуждай вслух, не мысленно. Так будет лучше. — Сонливость его одолевала или повышалась температура? Близился вечер, а ведь горячка особенно по вечерам лютует. Слова тетки рассыпались в воздухе, бессильно опадали на пол, словно поначалу полсвета обегали и лишь теперь, уже ничего не значащие, возвращались под этот щебжешинский кров. — Вчера, Витек, я заказала панихиду по мамочке твоей, моей бедной Ирене. Нет у нас приходского храма, святотатство свершилось, слышишь меня? Немцы отдали костел святой Катажины православным, отныне там церковь. А нашу панихиду отслужат в кладбищенской часовне. — Сонливость одолевала, однако Витольд переборол ее остатками сил и сказал, чтобы уснуть с чистой совестью: — Я напрочь погорел. По счастливой случайности вырвался из тюрьмы. Если гестапо дознается, что скрываюсь у тебя, то и ты, и ты… — Если дознается, то и я, но не думай теперь о таких вещах… — Она отставила бутылку и подошла к ночному столику, где лежал термометр.
Еще не началось построение команд, и хефтлинги в спешке заканчивали завтрак. Кто первый назвал завтраком этот глоток остывшего ячменного кофе и ломтик хлеба, похожий на иссохшую, серую ладонь хефтлинга? Кто? Еще было слышно, как узники прихлебывают кофе, чтобы приглушить голод. Утренний голод, отдохнувший, жгучий, особенно зловредный. Прихлебывают кофе, откашливаются, кряхтят, еще не началось построение команд, еще все впереди. Буковский по-прежнему в команде Лукеша. Уже не в огородной, пятый день в каменоломне, примыкающей к Фабричной улице. Какая каменоломня? Одно название, поскольку все должно как-то называться. Они таскали на носилках из карьера бесформенные глыбы известняка, и все-таки не было плохо. У Лукеша всегда было лучше, чем где-либо. На некотором расстоянии от Postenkette — линии постов — ходили обыкновенные вольные люди, без номеров, такие свободные, что, пожалуй, не имели представления о том, сколько цветов и оттенков содержит одно слово: неволя. Неволя бывает черной и цвета дизентерийных испражнений в лагерном нужнике, бывает всего-навсего серой и даже белой, как простыня. Вольные люди пробирались по ночам на территорию каменоломни, оставляли в расселинах хлеб, сигареты, луковицы, и команда Лукеша без труда находила днем эти сокровища. Тогда Буковский на какое-то время прощался со своими философскими рассуждениями относительно различных оттенков неволи и, немного конфузясь, проглатывал найденный в камнях хлеб. Обыкновенные люди без номеров… Отнюдь не обыкновенные, и да не коснется их какая бы то ни было нумерация. Буковский выглядел уже почти по-человечески. Во всяком случае, не походил на того дистрофика, который, впервые попав в лагерную теплицу и увидав цветы, застонал и ущипнул себя за щеку, чтобы поверить, что это всего лишь цветы, а не чудесный предсмертный сон, от которого не просыпаются. Прибывало сил, веры в благополучный исход, а Черный Роман словно только этого и дожидался. Потолковали. С Лукешем можно жить, Лукеш — порядочный человек, но вечен ли Лукеш? Именно потому, что порядочный, в один прекрасный день команду ликвидируют. — Не каркай, а то беду накличешь. Слишком далеко не заглядывай, там Todeszone — зона смерти. Сегодня неплохо, так стоит ли задумываться о том, что будет завтра? — Стоит. Я ждал, пока встанешь на ноги, и дождался… — возразил Черный Роман, — возможность появляется, которую грешно было бы упустить. Мне случайно удалось наладить контакт с роттенфюрером, потерявшим отца и мать во время бомбежки Берлина. Надломился, негодяй, начинает верить, что постигла его божья кара. — Какая возможность? В лице надломившегося роттенфюрера? — пожал плечами Ян, но Черный Роман самое важное приберег на десерт. — В команде Schutzpolizei — по обслуживанию охранной полиции — открывается для нас эта возможность. Он нас туда воткнет. — В Schutzpolizei? Хорошенькую команду нашел, храни тебя силы небесные… — Ян сперва возмутился, а потом взглянул на приятеля с нескрываемой подозрительностью. — Слишком много философствуешь, да мало знаешь, старый арестант, следовало бы основательно подтянуться… — Черный Роман говорил по-прежнему спокойно, словно успел уже сто раз взвесить каждую деталь новой ситуации. — Эта команда часто выходит за пределы лагеря, ее люди даже в самом городе работают, в разных казармах, в немецких домах. Может ли представиться лучшая возможность? Мы когда-то мечтали о бунте в картофельной команде, и подобные мечты можно без сожаления швырнуть в выгребную яму. Меняем стратегию, пан поручик. Бежать можно одному или, если попытаемся, вдвоем, с групповыми побегами покончено. — Хефтлинги прихлебывают ячменный кофе, откашливаются, кряхтят, еще не началось построение команд, а посыльный Абрамек подошел к старосте барака, и спустя минуту Ян услыхал свой номер. Староста барака орал так, что вздулись жилы на худой шее, хоть кричать не было нужды, так как Буковский стоял в нескольких метрах от него. — Хорошенько умойся, соскреби грязь с башмаков, тебя вызывают в Politische Abteilung, — и все-таки проскальзывает в голосе старосты удивление. Возможно, он так думает: где тут логика или хотя бы порядок? Ветеран, старый хефтлинг, прошел почти все круги ада. Почему раньше не угодил в отделение гестапо, если что-то за ним тянулось? Может, новое дело? Какое же новое, ведь как раз после возвращения из лазарета в силу вошел, благодаря широким связям… — Не слышишь? Умойся, тебя вызывают в гестапо… — Меня? — Если староста слегка удивился, то и Буковский мог не скрывать удивления. Но мгновенно опомнился, что тут было неясного? Стоят бараки, работает газовая камера, дымит крематорий, есть команды получше и похуже, есть Лукеш, есть и такие, как Выдерка или Гальке, которым наскучило убивать и которые обожают издеваться над трупами, есть лазарет, и есть гестапо. Все для узников. Тут любая неясность лишь внешне выглядит неясной. Вчера жизнь случайно дарована, сегодня смерть даруют без причины. Ян подтвердил кивком, что понял и берет назад удивление, и спросил почти спокойно: — Когда? — Сейчас же, — ответил староста, почесываясь под мышкой. — Немедленно, до ухода команд на работу… — добавил посыльный Абрамек и опустил голову. Пожалуй, не от стыда, чего ему стыдиться? Уж скорее от досады, что такой надежный парень, на которого можно было поставить, как на скаковую лошадь, проигрывает сегодня свой главный забег. Поставить хотя бы ради иллюзии, что для сильных людей существует какой-то шанс выжить. Может, не полностью проиграет? А только отчасти? Абрамек уверовал в Буковского, когда во время генеральной сортировки в лазарете на втором поле Ян самого Туманна отуманил. И это было самое настоящее чудо. А если случилось одно чудо, не произойдет ли и второе? И почему бы этому второму чуду не распространиться и на Абрамека, который был главным свидетелем первого чуда? Но теперь начинает закрадываться сомнение, ведь этого Яна вызывают в гестапо, и любые чудеса могут рассеяться, как дым из трубы крематория. Ну ладно, вызывают, а где сказано, что он не вернется?.. Барак Politische Abteilung у самой колючей проволоки первого поля, возле дверей барака висят доски с римскими цифрами, дабы здесь соблюдался порядок и узник знал, где ему стоять, пока не позовут. Ян ждал у доски с римской единицей, так как первое поле было для него официальным местом, хоть и далеким от античности. Абрамек давно улетучился, команды давно разошлись на работы, а Ян ждал, и хуже всего было именно то, что располагал временем для размышлений. В барак входили эсэсовцы, из барака выходили эсэсовцы, болтали о всевозможных вещах, договаривались о выпивке после дежурства, обменивались информацией о белотелой Линде, которая гораздо лучше Гильды, так как разрешает некоторые вольности, кто-то радовался, что получил неделю отпуска, кто-то радовался еще сильнее, что получил письмо от жены и что все в порядке, хотя англичане бомбят почти каждую ночь, а Ян ждал. Эти банальные разговоры об отпуске, девках, женах делались его союзниками, ибо теперь разумнее было внимать чужой болтовне, нежели собственным мыслям. Но мысли не желали отступать, все более тревожные, они напоминали о своем праве на самостоятельное бытие, ибо, коль скоро человек жив, с какой стати мысли его должны подыхать преждевременно? Ноги болят от долгого стояния, спина болит, деревенеет, ведь у доски полагается стоять навытяжку. Мысли тоже изнемогают, и есть у них такое право, и давно пора Яну это осознать. Зачем вызвали? Связано ли это с Замостьем? Старое дело, ничего от него не осталось. Бжеский успел истлеть в земле, парнишка — связной — как его звали? — тоже давно зарыт в песок. Быльем поросшее дело. Уклонился от регистрации офицеров запаса, но это уже обнаружилось на допросе в замойской Ротонде. Да, фамилия связного Кортас. Хорошо, что вспомнил. К чему? Господи, неужели нашли в чулане пистолеты? Может, Витольд нашел и кому-то похвастался, а когда его потом прижало гестапо… Витольд, сколько ему теперь лет? Сколько было пистолетов? Два, кажется два. И четыре гранаты. Как будто четыре. А может, Туманн вдруг обо мне вспомнил? Если даже так, то на кой черт все эти церемонии? Ему нет необходимости разыгрывать комедию с Politische Abteilung… — У нее очаровательные темно-голубые глазки и голова куколки… — Это приторный голос эсэсовца, который входит в барак. А Ян ждет. Темно-голубые глаза? Именно такие у Ирены, успел еще подумать, и тут же его подтолкнули так, что споткнулся о ступеньку крыльца и чуть не упал, угодив головой в стену коридора. Такое было начало. Приоткрытая дверь, третья по левой стороне, приглашала его на продолжение спектакля. И знал он лишь одно, еще не переступив порога, что независимо от того, кто его из-за стола поприветствует, унтер-штурмфюрер или даже гауптштурмфюрер, он, Ян Буковский, выступит здесь в главной роли. Сперва увидел до блеска начищенные высокие сапоги, письменный стол увидел, на котором лежала папка с бумагами и толстая бамбуковая палка, потом взглянул на молодого, плечистого оберштурмфюрера и доложил о своем прибытии. Оберштурмфюрер заглянул в папку, небрежно перелистал несколько машинописных и рукописных страниц, как будто только сейчас знакомился с делом Буковского, и лицо у него было равнодушное, словно дело это не сулило никаких сенсаций. И Ян стал с надеждой приглядываться к эсэсовцу. Эта надежда жила еще две-три минуты — столько времени заняли необходимые формальности. Ян Буковский, рожденный в Гожкове, повят Красностав, в тысяча девятьсот шестом году? Проживает в Избице? — Так точно! — С каким усердием он это выкрикнул, с какой надеждой подтвердил точность своих анкетных данных. А оберштурмфюрер спокойно осведомился, нуждается ли хефтлинг в переводчике, и Ян ответил, что переводчик не нужен. Тогда офицер тяжело поднялся со стула, глянул в окно, а когда на Яна воззрился, всякая надежда отпала в одну секунду. — Ты, вонючая свинья собачья, коммунист жидовский! — рявкнул он с такой силой и яростью, что все лицо его вдруг преобразилось, и это уже не был тот оберштурмфюрер, к которому Ян присматривался, войдя в комнату. — Ты, дерьмо поганое, король жидовский, уж я сегодня сшибу с тебя корону, и вместе с короной полетит твоя завшивленная башка. Мы тут кормим тебя, учим работать, а в твоем доме в Избице, оказывается, был устроен жидовский приют. Тебе говорят, слушай, а то через минуту навсегда оглохнешь. Уж на том свете вся твоя паршивая семейка, на тот свет отправилась вместе с твоими жидами… — Genug! — Хватит! — закричал в отчаянии Буковский и, до того как первый удар обрушился на его голову, успел добавить с болью, но уже и с бешеной ненавистью: — Скоты, бандиты… да, да, это конец. Капут Германии! — Из пробитой бамбуковой палкой головы хлынула кровь. Ян лежал на полу и, хоть били все сильнее и изощреннее, почти не ощущал побоев. Ибо самая неимоверная боль обрушилась на него еще до первого удара, поэтому бамбуковая палка и даже стальной прут уже ничего не значили. На какое-то мгновение он очнулся и, со стоном собственную кровь опознав, которая впитывалась в половицы, и кровь эту языком слизывая, прошептал, прохрипел то, что когда-то высказал Туманну от имени отправляемого в «двадцатку» хефтлинга и что хотел теперь высказать всем от своего имени: — Es lebt ein Gott zu strafen und rächen. Всевидящий господь вас накажет. — Может, оберштурмфюрер и не расслышал толком этого не слишком грозного пророчества, тем не менее принялся избивать распростертое на полу тело с каким-то особым подъемом. И вдруг забренчали гонги, возвещая обеденный перерыв. Оберштурмфюрер прервал свою работу, вернее, уже ее закончил и, тяжело отдуваясь, крикнул: — Hans, komm her! Ганс, войди! — Вошел молоденький, похожий на гимназиста эсэсовец. — In den Lager zurück. Доставь его в лагерь… — сказал офицер, показав носком сапога на скрючившееся, измятое, обескровленное тело Яна, — и только осторожнее, осторожнее, Vorsicht, Vorsicht. — И оба почти одновременно расхохотались. Эсэсовец схватил лежавшего за ноги, рысью протащил по коридору, выволок за порог барака и бросил у дощечки с римскими цифрами. Рабочие команды теснились поближе к котлам, хорошие команды, плохие и хуже которых нет, дожидались раздачи баланды. Тот, кому достанется счастливый черпак, найдет в своей миске не только кусочек гнилой брюквы, но и ошметочек, волоконце настоящего мяса. А тут лежит Ян. Вся эта история, которая была, есть и еще будет, не имеет уже для Яна ни малейшего значения…
13
Маленькая эта деревенька, и вдобавок разбросанная до невозможности. Первая хата возле заболоченного пруда, в котором, говорят, водились когда-то карпы и лини, последняя — в десяти метрах от леса. Дворов с дюжину, а чтобы от калитки до калитки пройти — полчаса потеряешь. Витольд нашел пристанище в последней хате, у лесной опушки, но это не только пристанище. Уже неделю тут отсиживается, неделю бежит от того, от чего убежать невозможно. Если даже сегодня или завтра придет «Ястреб» с доброй вестью, если скажет: все улажено, все проверено, собирайся, идем — то Витольд пойдет в лес, в жизни его наверняка многое переменится, а щебжешинская история, от которой теперь не в силах освободиться, потянется за Витольдом. Можно смертью смерть искупить? — задает он себе вопрос, лежа на сеннике в душном, темном помещении, которое когда-то собирались превратить в светелку. Хата обширная, две комнаты и кухня, Гражина говорит, что отец намеревался третью комнату из темной клетушки переоборудовать. Эти планы были тесно связаны с приближающейся свадьбой Агнешки, старшей сестры Гражины. Грянула война, и все расстроилось. Жених Агнешки погиб под Коцком, немцы без устали жгли соседние деревни, и надо было ума лишиться, чтобы в такое время помышлять о расширении дома. Темная клетушка превосходно выполняла роль склада, чулана, а неделю служила также спальней. Положили для Витольда набитый соломой матрас на земляной пол, так как лишней кровати в доме не было. Можно ли смертью искупить смерть? Проверят, как полагается, все выяснят, и он пойдет в лес, получит наконец винтовку, и настанет день, когда впервые в немца выстрелит и первый раз в него попадет. Полегчает ли ему тогда хоть чуть-чуть? Можно ли одной смертью, справедливой, необходимой, другую смерть искупить? — Когда придет «Ястреб», когда? — спрашивает он раздраженно, так как внезапно вошла Гражина, отрывая его от этих болезненных, но столь важных размышлений. — Да придет, неужели тебе здесь плохо? — Он слышал ее шаги, и, вероятно, она рядом присела, поскольку ощутил на щеке ее дыхание. Теперь она тихо могла говорить, тихонечко, ведь они почти касались лицами. — Неужели тебе плохо? Почему безвылазно торчишь в этой темнице? Немцев бойся, но людей бояться не должен. Тут нет чужих, тут только я и Агнешка да отец с матерью. — Когда придет «Ястреб»? — упрямо повторил Витольд, но голосом, уже менее напряженным. Девушка с минуту молчала, усаживаясь поудобнее на хрустящем сеннике. — Ох, земля же не горит у тебя под ногами. Откуда мне знать, что творится в лесу? Кто ждет, тот дождется… — она погладила его теплой ладонью по щеке. — Наверняка все бы скорее сладилось, если бы не твое умопомрачение. Не помнишь, что вытворял? — Он помнил, такое не забывается. А ведь только и помышляет о том, как бы забыть, но упрямая, настороженная память артачится, не вступает с Витольдом в сговор. И он помнил. Хозяин долго не отворял, дело-то было ночью, а когда наконец приоткрыл ворота, Витольд, стремясь освободиться от наболевшего, принялся выкладывать сразу все. Столько проблем накопилось, и все важные, одна другой важнее, что вскоре совсем запутался, утонул в своем многосюжетном повествовании. Может, поэтому в отряде «Грома» затягивается эта нелепая проверка, что с самого начала Витольд всем показался крайне подозрительной личностью. Столько здесь шныряло шпиков, и каждому не терпелось в лес, как и ему. — Мой отец всегда был молчуном, неохоч до болтовни. Не думай, что он так только с тобой… — Гражина придвинулась ближе, Витольд почувствовал, как она напирает на него всем телом, уютным, пахнущим молоком и яблоками. Так было и еще продолжается. Отец Гражины первое время не заводил с ним никаких разговоров. Слушал, что говорит Витольд, утвердительно кивал, позевывал, курил цигарки толщиной с палец (свертывая из высушенной на печке махорки и обрывка «Нового глоса любельского»), а ночью, когда гость засыпал в своей безоконной берлоге, забегал к соседу, который тоже поддерживал связь с «Громом». Они толковали басовитыми голосами, и оказывалось, что отца Гражины вовсе не требуется тянуть за язык. — До чего же больной он был, когда его принесло, а в речах темного чуток многовато… — Торопиться некуда, лучше подождем… — Может, и верно? А до чего же распаляется, глазами так и прожигает, словно весь свет огню предать готов… — Может, и верно? Шел бы себе ко всем чертям, но если подослан, лучше его маленько придержать, присмотреться… — С документами у него интересно получается… Никаких бумаг при нем нет… В этом-то все дело… Не было. А это и плохо, и хорошо… Говорит, немцы отобрали… — Видал. Бывали подосланные с надежными документами… Вот, к примеру, у того, который «Грома» тут выслеживал, в бумаге было указано, что он доктор из Познани, выселенный немцами. Он доктор, а мы ему такое лечение прописали, что святой Петр клочков его не соберет… — Не соберет. А мы «Грому» добровольцев вербовать не обязаны. Не в этом дело. Народа у него хватает. — Дело в другом. Ты подержи еще этого белесого. Он три адреса назвал: в Красноставе, Избице и Щебжешине. — Подержу. А если установят, что подосланный, мы ему посодействуем насчет леса, куда так рвется, и тогда во имя отца и сыны и святого духа становись на колени, добился своего… — Рука Гражины соскользнула со щеки Витольда и протиснулась за ворот рубашки. — Не доверяют тебе, чересчур шумел о своей разбитой жизни и к «Грому» очень рвался. Откуда знаешь о «Громе»? — Не только о нем. В газетах читал об «Азии», «Максиме», «Подкове», о больших сражениях. Ведь я рассказывал, какая у меня была жизнь в Красноставе… — Я тебе почти сразу поверила. У человека все можно по глазам прочесть, а в твоих глазах столько боли было. Но зачем ты так убиваешься? Неужели думаешь, что скорбью своей хоть частицу потерянного вернешь? — Томится рука Гражины, тесно ей за пазухой, пальцы подбираются к пуговицам, и сразу делается просторнее. — Какой же ты худой, бедняжка, где тебе в лесу жить? Не меньше месяца надо молочной лапшой отъедаться. И хорошо, что тянут, пусть проверяют подольше. Примчится, прилетит этот «Ястреб», как на крыльях прилетит, благо есть к кому. Сказать? И так бы узнал, ни для кого это не секрет. К моей сестричке. Может, даже у них любовь? Как-то я их подглядела в сарае, и Агнешка потом меня упрашивала, чтобы ничего не говорила отцу. А зачем говорить-то? Может, это любовь началась? Я к тому речь веду, чтобы ты со своим сердечным делом сравнил. У Агнешки был жених-красавец и вдобавок образованный. Сельский учитель, любили они друг друга, как иногда в книжках пишут. Погиб он в тридцать девятом, а Агнешка уже и подвенечное платье сшила. Господи, что творилось в этом доме, когда пришло известие, что он лежит в сырой земле. Агнешка так убивалась, что даже чужие люди плакали, на нее глядючи… Послушай, паренек, почему они тебя подозревают? Кожа да кости, вот и весь ты. Где это видано, чтобы гитлеровский прихвостень до такого истощения докатился? Ребра торчат, нищета — вот она, твоя правда, наш ты… Агнешка вся исстрадалась, но пролетели годок-другой, и теперь она в окошко глядит, высматривает своего «Ястреба», которого и ты дожидаешься. Уж так повелось, и должен ты наконец с этой мыслью смириться. Человек живет и помирает. Живой обязан жить среди живых. Матери тебе никто не вернет, это самая тяжкая твоя потеря, а другая Сабина обязательно на пути твоем встретится. Однажды глаза чуточку пошире откроешь, из темницы на свет божий выйдешь, и она тебе встретится. И будет так, как у «Ястреба» с Агнешкой. А о тетке той — стоит ли думать? Бедняжечка ты, настоящий ребенок, хоть и повидал немало… — произнесла она таким тоном, словно разделяла их уйма лет, а была, может, на год старше Витольда, — ребенок ты, ребенок, расскажешь им в лесу все, как было, еще похвалят. Любому встречному ксендзу расскажешь, и любой грехи тебе отпустит, ведь, если бы было иначе, в каком огне пришлось бы жариться хотя бы тому же «Ястребу»? Он говорит, что прикончил девять жандармов. А ведь жандарм тоже человек. Значит, получается, что на его совести девять смертных грехов? Ох, бедняжечка, ты же чист как слеза. Ох, худышка моя, поправишься и будешь парень-загляденье. Все сказать? Ладно, скажу, что мне таиться? Как только увидала тебя, со мной что-то удивительное приключилось. Теперь-то я понимаю Агнешку, почему она на перину бросается, всю ночь места себе не находит и «Ястреба» зовет. Сиди, сиди в этой темнице, если нравится. Не понимаешь? — Гражина поцеловала его в уста, но его уста были мертвы, и она стала трепетными, влажными губами искать такого местечка на его теле, где сохранилась хоть искорка жизни. Он лежал недвижимо, порой задерживая дыхание в надежде, что это охладит пожар, охвативший Гражину. — Разве я некрасивая? — Гражина резко отстранилась, видимо ее задела его непонятная, несправедливая холодность. — Ты очень красивая… — шепнул он и отнюдь не солгал. — Говоришь это ради красного словца, а сам пальцем ко мне не прикоснешься… — Мы не одни… — Он застонал так, словно его прижгли каленым железом. — А кто тут есть, кто? Бедняжка, сидишь сиднем в темноте, и от этого в голове затмение… — Она снова над ним склонилась, волосами лицо ему накрыла, потом послушала, сильно ли стучит сердце, и начала его облизывать, как корова теленка, едва на ноги вставшего. — Мы не одни!.. — опять вскрикнул он, рванулся, чтобы избавиться от теплых, влажных прикосновений, и припал лбом к стене… Та маленькая и такая красивая еврейка, что, пожалуй, не один парень умер бы от радости, если бы смог поцеловать ее в щеку, та малышка широко разинула рот, но стыда своего криком исторгнуть не в силах… Слишком поздно. Почему поздно? Все кричат, дети и женщины рыдают, полицаи и жандармы глотки себе криком срывают, услышит ли кто-нибудь в таком шуме зов, замирающий на супружеском ложе Цукермана? Слишком поздно, Шимко уже торопится… Та маленькая и такая красивая. Ее уже почти не видно, тонет, теперь только в ногах спасение, чтобы удержаться на поверхности. А не лучше ли утонуть? К чему это барахтанье?.. И полицаю легко достанется то, что не для него было создано… Хватит. Нет, еще не хватит. Еще далеко до конца света. Немало утечет минут, прежде чем в теткиной комнате сделается тихо, как на кладбище… — Оставь меня в покое, мне никто не нужен, я хочу побыть один! — крикнул Витольд, и столько в голосе его было ненависти, что Гражина отскочила к дверям. — Видно, ты и в самом деле рехнулся… — сказала она, дергая ржавую задвижку. На мгновенье посветлело в клетушке, хлопнула дверь, и снова вернулась ночь. Нет, это был лишь вечер ранний, но довольно хмурый. Тетка зажгла свет, так как врач подсел к столу, чтобы выписать рецепт. Потом они разговаривали в передней, так тихо, что Витольд не разобрал ни слова. Окольными путями возвращалось к нему здоровье. Он чувствовал себя лучше, его уже не лихорадило, и даже собирался как-нибудь ночью, когда тетки не будет в комнате, снять эластичный бинт. А потом все началось сызнова. Опять высокая температура, бессонница, кормление превратилось в пытку. С одинаковым отвращением он глотал бульон и горькие лекарства. Ночи напролет не сводил глаз с окна, завешенного черной, траурной бумагой, а за окном раздавались выстрелы, иногда очень далекие, случалось, и близкие, как будто на соседней улице. За этим окном, за бумажной шторой нарастал топот подкованных сапог, и тогда Витольд весь сжимался и готовился бежать. Промчатся дальше или остановятся у подворотни, пройдут мимо или затопают в коридоре? Лишь перед рассветом, усталый, разбитый, забывался тревожным сном, от которого, конечно, было мало толку. Приходилось удирать от жандармов, а дорогу преграждал Шимко и потирал руки, поскольку знал, где ему затаиться. Пытался перевести мать, Сабину и прихрамывающую Добу Розенталь через болото, за которым лес высокий, густой, надежный, но они начинали увязать в трясине, причем он глубже всех. И неизвестно было, кто кого спасает и кто кому несет гибель… — В легких чисто, с ребрами тоже почти хорошо… — говорил врач, — а то, что его постоянно мучит, не поддается медикаментозному лечению. Нужны время, покой, заботливый уход. — Тетка снова пришла с бульоном. Час назад Витольд рта не желал открыть, теперь тетка кормила его, как дитя малое. — Пожалуйста, еще одну ложку, и еще одну. Бульон из молодой курочки, знаешь, какой он полезный? Ты должен быть сильным, ты у меня единственная надежда и опора, мое будущее. — Коробили его эти приторные слова, хотел им поверить, принять их, но почему-то не получалось. Он предпочел бы видеть тетку будничной, без этой ханжеской улыбки, которую она изображала на лице, не сознавая, что перебарщивает. Уж лучше бы она подходила к нему с раскрасневшейся физиономией, прижимая к груди бутылку водки. В пьяном умиротворении или возбуждении она забывала все роли, подготовленные специально для больного Витольда. Тогда они могли вместе забредать в запрещенные врачом пределы, и Витольд все явственнее представлял, что выигрывает, прячась в этом доме, и что теряет. Последние два дня были к нему немного благосклоннее, понизилась температура, раз-другой появлялся волчий аппетит, и только ночи по-прежнему пугали бессонницей. — О разных людях ты мне рассказывал, а люди как люди, такие и сякие… — У тетки дрожали руки, она их прятала сперва под фартуком, потом стучала пальцами по спинке кровати, а финал такой же, как вчера, позавчера, как всегда. — Видал? Только одна рюмка — и вся дрожь проходит. Другого лекарства нет, напрочь измочалила нервы война… О чем я говорила? А, что такие и сякие. Когда зимой начались в Щебжешине уличные облавы, знаешь, кто немцам помогал? Наши пожарные, борцы с огнем. Может, не все, но сама видала, как несколько ствольников гонялись за прохожими. Вот тебе и наши люди. Слушай дальше, теперь из другой оперы. Принялись немцы из окрестных деревень поляков выселять, а украинцев не тронули. Ты не представляешь, какие толпы деревенских ринулись в приходский костел, который теперь превращен в церковь. Откуда-то вдруг взялось столько православных, что поп даже глаза протирает от удивления. Вот тебе наши люди. Каждый старается как-то выжить. С имуществом или нагишом, но лишь бы в живых остаться. Я этих добровольных ловцов-пожарных не равняю с мужиками, которые невзначай православными заделались. Это разные вещи, я вообще говорю о людях, что они такие и сякие. Один за свою веру даст себя распять, а другой ради нее куском хлеба не поступится… — Снова близилась ночь, и Витольд бросил слушать тетку, начал прислушиваться к винтовочным выстрелам, которых еще не было, к топоту подкованных сапог, который еще не раздавался. А тетка шевелила губами все быстрее, будто выброшенная на песок рыба, умирающая без воды. Он подумал, что надо спасти эту рыбу и для себя тоже искать спасения. — Боюсь, наступающей ночи боюсь, больше не выдержу, снова не спать до утра!.. — не сказал он, криком исторг свой страх. Тетка тут же умолкла, но только потому, что Витольд попытался вскочить с постели. Первым делом молча затолкала его назад, под перину, а затем, когда он с тихими стонами недоверчиво на нее воззрился, завершила этот инцидент спокойным заявлением: — Видно, опять поднялась температура, не беда, все пройдет. Сегодня будешь спать долго и мирно, доктор оставил тебе лекарство, я говорила ему о твоей бессоннице. Сейчас примешь и будешь спать… — Первая крикнула Гражина, и Витольд не понял, почему именно она так бурно радуется. — «Ястреб», «Ястреб», наконец-то «Ястреб»! — Агнешка перебежала двор, кинулась к «Ястребу», едва он забор перемахнул, и повисла у него на шее, болтая в воздухе ногами. А Гражина затворила окно. — Погляди вот и пожалей… — шепнула она Витольду. «Ястреб» прибыл не один. Привел с собой худощавого рыжего парня, который долго шаркал подошвами сапог на крыльце, прежде чем прошествовать на кухню. — Это ты из Избицы? — Парень присмотрелся к Витольду, напрягая память, словно надеялся, что встречал его раньше и вот-вот вспомнит — где и когда. Но ничего не вспомнил. Махнул рукой, прислонил винтовку к стене и как будто погрустнел. — Меня зовут Элиаш, у меня был старший брат в Избице, по фамилии Вассер, а у меня теперь кличка «Коршун». — Элиаш? Элиаш? — Витольд почувствовал резкий укол в сердце, обыкновенную физическую боль, точно кто-то пронзил его насквозь длинной иглой. — Так, может, ты был царем Давидом, может, про тебя рассказывала мне Сабина? — Хозяин поставил на стол бутылку водки, запахло яичницей… Был сон. Все-таки пришел, принужденный лекарством, но распростился с Витольдом быстрее, чем следовало. Три-четыре часа познавал Витольд безмятежные ночные тропы и шел бы хоть всю жизнь, так как встретил на этих тропах Сабину. Впервые ее такой встретил. Улыбающуюся, без страха в глазах, спокойную и сознающую, что ей никто не угрожает. Они не должны были разговаривать шепотом, не прятались, и наконец свершилось то, о чем мечтали. — Теперь все так, как ты когда-то говорил, — она взяла его за руку, повела по огромному саду, где было черным-черно и одновременно пестрело красками, — я нарву столько цветов, сколько смогу унести. Кому предназначены эти цветы? Знаю, не подсказывай. Прежде всего твоему отцу и моему отцу, затем твоей и моей матери… — Он открыл глаза, а Сабина все еще была рядом. Услыхал приглушенные голоса, как будто из-под кроватей, стульев и шкафов доносящиеся, вероятно и Сабина их услыхала. Изыди. Рукой помахал перед своими, перед ее глазами. Изыди. Наконец до нее дошло, что пора возвращаться туда, откуда пришла. В беспросветные сны. Один остался? Сквозь приоткрытую дверь в спальню проникал клин мутноватого света. И голоса проникали — теткин и мужской. Голоса вместе со светом, но ярче света, так как в соседней комнате был только ночник, стоящий на стуле и заслоненный газетой. Нечто странное, нереальное, словно он из одного сна в другой перенесся. Там минутная пауза, так, может, ее будет достаточно, чтобы проснуться? Сначала для этого следовало бы уснуть, но тут раздается хриплый голос тетки, она всегда хрипнет от спиртного: — Я выпила, себе долей, повезло тебе сегодня, парень получил лошадиную дозу успокоительного, спит как ангелочек, отсыпается за весь недосып. — Какое везение? Интуиция, знал точно, что нынче надо постучаться. Выпей, благоухает Парижем… — Какое дерьмо, водка всегда водка, а эта самогоном отдает. Подожди, нахал, где ты воспитывался? Убери лапы. — Герр Мруз был лучше? — Мруз — это Мруз, пан Стефан. — Только его уже нету. Знаешь, умнее всех, мне думается, был твой Юзик. Потому умнее всех, что первым начал бояться и вовремя смылся. Герр Мруз стыдился страха, так ему черви уже косточки обгладывают. На кого теперь поставишь? С Билгораем все кончено. Снова твой адрес: Dorfgemeinde, сельская община Щебжешин, Kreis — район Замостье. Прежде чем найдешь нового короля, твое королевство разлетится вдребезги. — Какое королевство, Стефан, и кто его разрушит? — Я, этакая птичка-невеличка, этакой жучок-паучок. У меня пан или пропал, полный карман или темная могила. Я ждал и дождался. Думаешь, Мруз мне по пьянке не рассказывал, какую с тобой фирму заложил? На него даже мастер Фример начал косо поглядывать, до того к золоту рвался, что другие за ним не поспевали. Где это золото, не в могилу же вместе с Мрузом кануло, где оно? Думаешь, тебе удастся заморочить мне голову еврейской рухлядью, ландшафтами из собраний Штрейхера и мадам Бронштейн? — Успокойся, Стефан… — взмолилась тетка, они подняли возню, и Витольд сперва увидал мужчину, стоявшего на коленях, а спустя секунду тетку. Затем они появились посреди комнаты, выползли из мрака, как звери, готовящиеся к смертельной схватке. В этом единоборстве следовало рассчитывать каждый бросок, малейшее движение, ибо аргументы и силы не были равны. Тетку увидал, которая поцелуями пыталась заставить своего соперника замолчать. Теснила его, пока он не упал навзничь, не растянулся во весь рост, якобы поверженный и все-таки побеждающий. — Знаю, больше знаю, все знаю… — Тихо, Стефан, война нас доконала, водка нас доконала, так нам ли добивать друг друга? — бормотала она, тяжело отдуваясь. — Тихо, Стефан, такая же была у меня с Мрузом фирма, как теперь с тобой… — Витольду захотелось умереть, раз и навсегда умереть, но это было не так-то просто. Сквозь плотно закрытые веки он видел потное лицо тетки, и рот, растянутый в широкой торжествующей улыбке, и мужчину видел, и как они барахтались на полу… — Кушай, Витек, знаешь, как полезен бульон из молоденькой курочки? Силы тебе понадобятся. Еще, еще. Еще одну ложечку, и еще одну. Ведь люди и такие и сякие… Все пройдет, сегодня будешь спать долго и мирно… Чего тебе еще надо, Стефан? Отобью тебя у той девки из солдатской столовой. А ты, если хочешь, забирай всю еврейскую рухлядь… Я отказывалась, сами несли, чтоб сохранила, а к чему мне теперь все это?.. Отобью тебя у той девки… Ты ей липовое удостоверение личности устроил… Господи, а я сестру потеряла, сестру единственную… Ты, Витек, моя надежда и мое будущее, ты обо мне когда-нибудь позаботишься… — Кушай. Я говорила врачу… Такие и сякие… Вот тебе наши люди… Получай, что хотел. Получай, о господи… Ничего от тебя скрывать не стану, я болею от водки, Витек. Она меня и убивает, и поддерживает… Получай. Разрушил ты мое королевство, и ладно. Ладно, Стефан, на что мне теперь королевство?.. Если бы я, Витек, пила тайком… Теперь королевство. Теперь. Должен теперь… — Витольд так хотел умереть, что наконец он умер. Умер за час до рассвета, чтобы воскреснуть, когда запоют первые петухи. Они запели, благо Щебжешин такой город, где гусям, уткам, курам и петухам разрешено жить среди людей. Запели, и Витольд открыл глаза. Черная штора на окне. Еще ночь? Тусклый свет из соседней комнаты. Он встряхнул головой, разламывающейся от боли, спустил ноги на ледяной пол. И даже тишина, в которую он ступал, пошатываясь, опираясь о мебель, тоже была ледяная. Перешагнул порог. Тетка лежала на коврике, между тахтой и опрокинутыми стульями, спала, уткнувшись лицом в вышитую подушечку. Витольд подошел осторожно, сперва стыдливо отвернулся, сперва хотел прикрыть ей колени завернувшимся подолом рубашки, а потом что-то лопнуло у него внутри, разлилось жгучим, расплавленным свинцом, и он уже не испытывал никакого смущения. Он не знал, кому мстить, поэтому мстил самому себе. Смотрел, прикусывая до боли губы, на белый живот женщины, на темный треугольник лона, на раскинутые ноги, которые в эту минуту зашевелились, как будто своим одержимым взглядом он вдохнул в них жизнь. Тетка захрапела, заворочалась с боку на бок и вдруг открыла запухшие глаза. — Опять ты… — услыхал он полусонное мурлыканье, — вернулся, лысенький бычок, хамлюга негодный. — Она обхватила ему ноги, прижалась к ним, как пьяный к фонарному столбу. — Ты напрочь убил меня, так убей же еще раз, прошу тебя. Убей и пропади пропадом. — Витольд дернулся, начал вырываться, но тетка вцепилась в него еще крепче. И тогда он поднял с пола черную тяжелую бутылку. И ударил с размаху. Тетка взвыла, как собачонка от пинка ногой, и упала, а вышитая подушка стала пропитываться кровью. Витольд ударил еще раз, и бил до тех пор, пока лицо ее не сделалось ничьим лицом. Даже не заметил, что последние удары были нанесены осколком, острым как нож. Бутылка треснула, развалилась надвое. Он этого не заметил. Одиноко и тускло мерцал прикрытый газетным листом ночник, тоже прятавшийся в этой комнате за светомаскировочными шторами. Витольд дернул веревочку, и черное полотнище скользнуло на пол. Кончилась ночь. — Ночи больше нет… — эти слова он прокричал в безотчетном волнении, — нет, нет! — И вдруг его затошнило и так вывернуло наизнанку, что чуть не задохнулся. Потом, не ведая толком, что делает, делал все, что следовало. Холодной водой смыл кровь с рук, со своих рук, чужую кровь. Лицо умыл, разыскал одежду в шкафу, даже о куртке Томася не забыл. И неторопливо покинул квартиру, где не осталось уже никакой жизни. Ровным счетом никакой. И даже приличной смерти не было… — Теперь расскажи о Сабине… — Еще раз? — Они сидели на молодом, уже поверженном дереве. Выпал первый снег, и все деревья, стоявшие и лежавшие, покрылись белым пухом. Белизна вокруг такая, что глаза режет. — Еще раз? Что же еще-то? — Элиаш докопался каблуком до затвердевшего песка, растаптывал снег и не подымал глаз на Витольда. — Я только раз в жизни ее встречал, сколько можно рассказывать? Красивая была, хрупкая, но полная какой-то внутренней силы, умная и всем интересовалась. Разве я знаю, какая она была? — Сабина знала о тебе больше… — сказал Витольд. — Откуда? Я сам о себе не слишком много знаю… — Элиаш запрокинул голову, чтобы взглянуть на небо, на облепленные снегом ветви, которые образовали непроницаемый свод. — Она говорила тебе, что я убил Голиафа. Не обижайся, ведь это смешно. Я убил свой страх, позже — пару немцев, а Голиаф чихал на меня с седьмого этажа. Что в наше время может Голиафу сделать Элиаш Вассер или даже царь Давид? Скажи, что может сделать? — Они сидели на поваленном дереве перед выходом на задание, под Топольчу. Немцы уже несколько раз устраивали облавы в Топольче и Кавенчине. Приезжали на машинах из Замостья, иногда привозили узников, раздетых почти догола, сперва их расстреливали, а уж потом, словно одурманенные запахом свежей крови, жандармы приступали к расправе над местным населением. Ох, врезать бы им сегодня, размышляет Элиаш. Ему не хочется думать ни о чем, кроме сегодняшней засады. Рядом с Элиашем по-прежнему сидит Витольд, который не имеет себе равных по части вызова духов. Можно ли непрерывно носиться и разговаривать с духами? Вначале Элиаш без чьих-либо подсказок всегда держался поближе к Витольду. Знал, что парню тяжело, и пробовал ему помочь. Вторил его сетованиям. Делил с ним одеяло. Во время серьезных операций старался не терять Витольда из виду, так как успел достаточно овладеть партизанским ремеслом, умел охотиться и убегать от охотников. Но через месяц отношения их начали разлаживаться. Сгущались тучи, близилась буря. — Сходи как-нибудь с «Ястребом» в деревню, там одна девушка наших ребят о тебе расспрашивает. Смастери ей ребенка, будет от этого польза. После войны выйдешь из леса, а тебя кто-то встретит и покажет твое готовое произведение. Ох, ребенок в люльке — самое прекрасное произведение. Ты почувствуешь себя как сам господь бог, ибо подумаешь: я создал человека. Создал этого маленького человека по образу и подобию своему. Теперь мне есть для кого жить и я уже не отдам концы в одиночестве. — Перестань, я запрещаю тебе так говорить, — вспыхнул Витольд, глядя на Элиаша, как на вандала — грабителя костелов и святотатца, — ты кощунствуешь, а ведь прекрасно знаешь, чем была для меня Сабина. — Ну и что? — Элиаш не намеревался так легко уступать. — Была, только она больше не уляжется с тобой на сене и ребенка тебе уже не родит. С ее могилой хочешь обручиться? Чего ради, друг любезный, в лесу страдаешь, если жить неохота? — А ты почему удираешь от немцев? — резко парировал Витольд. — Так тебе жизнь дорога? — Может, не так дорога, хотя кое-чего стоит. И не от страха бегаю, ведь я убил свой страх. А если я скажу, что ради любопытства убегаю? Чтобы увидеть, поумнеет ли мир хоть немножечко, когда с Гитлером будет покончено. А если скажу, что во имя долга? Чтобы всем им надгробья воздвигнуть и нечто более основательное, чем надгробья. Найду женщину с добрыми глазами и широкими бедрами. Она родит мне пятерых сыновей. Подожду, когда подрастут, и подробно расскажу им, что творилось на этой земле. И будет так, словно пять мудрых книг напишу, ведь каждый из сыновей передаст своим сынам правду о нашей судьбе. Правду передаст, а книга не всегда правду передает, даже мудрая. Ложь тоже бывает мудрой. Как видишь, от пятерых сыновей больше проку. — Они сидели на поваленном дереве, и Элиаш хотел думать исключительно о сегодняшней операции, но опрометчиво глянул на Витольда — и началось. Боже праведный, пусть этот Витольд здравствует сто лет, ему это полагается по справедливости, нельзя ли устроить так, чтобы он сейчас сидел чуть подальше? Он сидит и с неживыми ведет беседу, по глазам видно. А к чему перед серьезной операцией смерть вызывать? И почему я непременно должен делать то же, что и он? И вот уже мысли Элиаша не в Топольчу мчатся, а совсем в другую сторону. Прячутся среди деревьев, гаснут в душной землянке. Немедленно прибыл прыщавый Хаим Гебель, уж он всегда первый, когда такая встреча наклевывается. Пришел Адам Кот, который лучше всех разводит бездымные костры. Пришел Мендель Каменяж, который якобы и силой не обделен, и речист, и самоуверен, только сегодня этим Элиаша не проведешь. Почему не пришел Абельбаум? Он живой, в отряде «Федора» и не обязан являться по первому же зову. Ша, Хаим, никто тебя не упрекает, что не бежал, хотя была еще какая-то возможность бежать. Видимо, тебе уже вполне хватило этого костра, печеной картошки и стояния на коленях у сосны для безмолвных бесед со своими близкими. Кто не убегает, тот возвращается к своим. И ты вернулся. Пожалуйста, теперь можешь шептаться со своими до бесконечности. Только Абрам лучше с костром управлялся, чем с пистолетом. Ах, какой громадный пистолет, дважды бабахнул, а больше не пожелал. Все-таки дважды, именно столько и требовалось, чтобы Мендель успел из землянки выбраться. Славно живется в землянке, но умирать лучше под открытым небом, под ароматной сосной, в раскидистом папоротнике. — Ну-ну, не распускай язык. Зачем вообще умирать? — сетует Мендель, нервничает Мендель и пытается напомнить Элиашу, что было на столе в последнюю праздничную субботу перед войной, то есть в те времена, когда Роза, жена Менделя, более всего на свете боялась соседскую собаку. — Ша, Мендель, не вспоминай… — Об этом страхе? — Ох, Мендель, ты даже теперь шутишь, даже в такой серьезный момент? Не вспоминай праздничного стола… — Должен, ведь такое не забывается… — Даже там, где ты теперь? — Особенно тут, где я теперь. Дадут ли мне тут такую рыбу? Или такое печенье, которое пахнет Цейлоном, Индией, Явой и Суматрой, то есть первосортной корицей? Тут ждет меня манна небесная и, возможно, полное отпущение грехов. Сам посуди, стоило ли взбираться по самой высокой лестнице, чтобы получить нечто подобное? — Мендель-Мендель, насчет манны небесной не беспокойся, но со своим острым языком на полное отпущение грехов не очень-то надейся. А Мендель улыбается, уже молча, но в иронической улыбке себе не отказывает. Витольд и Элиаш сидят на упавшем дереве. Неподалеку остановился «Ястреб», стряхнул снег с зеленой каскетки. Эту шапку сшила ему Агнешка. Попросила непременно ходить в ней на все задания, и «Ястреб» ходит, и пуля его не берет. — Элиаш, что с тобой? — кипятится Витольд. — Ничего… — Третий раз к тебе обращаюсь, а ты не слышишь… — А что слушать?.. — Говорю, что своими глазами видел летящих аистов… — Зимой — аистов? Да еще в снегопад? — Видел, — упрямо твердит Витольд. Элиаш начинает смеяться, а едва повеселев, спохватывается: — Правильно, Витольд, ты их видел. Добрая примета перед таким делом, аисты приносят счастье. — «Гром» передал один взвод «Куцему», и одним взводом они пошли на засаду. Снега подвалило. Мало радости от этого снега, ведь взвод оставлял следы, но была надежда, что снегопад скоро не кончится и следы исчезнут. А Элиаш снова рядом с Витольдом. В душу бы ему заглянуть, думал он, присматриваясь к товарищу с возрастающим беспокойством, — хоть бы на секундочку заглянуть. Пожалуй, дал маху, шепнул бы «Куцему» — и Витольда оставили бы на базе. У него такой вид, словно понятия не имеет, куда идем и зачем идем. Смотрит и, кажется, даже снега под ногами не видит. — Витольд, как себя чувствуешь? — Лучше некуда. — Но все потные лбы отерли и вздохнули с облегчением, когда «Куцый» передал по цепочке, что они почти на месте. Теперь можно немного отдохнуть, выкурить сигарету, проверить оружие, чистого снега наглотаться. — Врежем им сегодня, так что черной кровью испоганят нам белый снежок, — сказал Элиаш, а Витольд — ни слова. Скверно. Грустные речи еще полбеды, а грустное молчание уже шаг к могиле… разные мысли роились в голове Элиаша, одна хуже другой, и все, вместе взятые, гремели набатом — скверно. С мертвыми разговоры? Что поделаешь! Иногда и такое найдет на человека. Но чтобы зимним утром аисты мерещились? С парнем не того, и пусть мне в лицо плюнет, я все-таки доложу «Куцему» и даже «Грому», что он не того, и пусть парня отправят подлечиться в деревню. Посидит у теплой печки, среди добрых людей, и оттает. Порой и за несколько дней дурная кровь от сердца отходит… Разделившись на две группы, партизаны притаились по обе стороны не слишком широкой дороги, на которой белым-бело и ни следа колес. Немцы утром тут проезжали, у «Грома» была хорошо поставлена разведка. Сразу после завтрака девушка с лесной заимки доставила донесение, что в Топольчу выехали два грузовика с жандармами. Раз поехали, значит, вернутся. Всегда берут направление на Щебжешин, а оттуда поворачивают на Замостье… — Послушай, Витек, когда я прибился к «Грому» и меня приняли в отряд, то громадную силу ощутил в каждом своем пальце, а немного погодя впал в отчаянье. Странно? Не очень, ведь легче позволить себя убить, чем самому убивать. К собственной смерти привыкать нет нужды. А с необходимостью убивать дело обстоит иначе. Берешь на мушку, нажимаешь на спусковой крючок — и готово. И даже не знаешь, кем был тот человек. Может, не самый плохой? — Тихо, — предостерегает «Ястреб», высовываясь из неглубокого кювета. Лежит он в этом кювете и брюхом снег отогревает. Слушает, не доносится ли рокот немецких машин, но слышит только голос Элиаша: — Уж так мне было худо, совсем одурел. То же со мной творилось, что и с Хаимом, который сперва от жандармов смылся, а потом об этом сожалел. Ну и отослал меня «Гром» в нашу деревню, пожил с людьми, по-человечески, и дурость как рукой сняло. Я рассказываю об этом, чтобы ты знал, что порой к нам заглядывает слабость… — Зараза, заткнешься ты, наконец! — это опять «Ястреб». И хоть Элиаш тут же умолк, тишины уже не было, так как из-за поворота показались грузовики, которые, рыча и подвывая от натуги, месили колесами сыпучий снег. На кабине головной машины торчал ручной пулемет, его расчет прятался под брезентом. Холодно, и до дома еще далеко. Немец-водитель, вероятно, прикурил сигарету, так как за ветровым стеклом мигнул золотистый огонек. Догадливый, знает, когда закуривать, подумал Элиаш, чувствуя, как все в нем расслабляется. Прижался щекой к прикладу, начал аккуратно и спокойно прицеливаться, пока дуло винтовки не остановилось там, где за стеклом вырисовывалось лицо немецкого водителя, — догадливый, это будет твоя последняя сигарета. Затянись, не жалей, это в последний раз. Грузовики ползут, будто зеленые тяжелые черви по белой тарелке. Напрягаются, все быстрее перебирают черными ножками, а тарелка скользкая, не дает разогнаться. Почти одновременно полыхнуло огнем более дюжины стволов, головная машина резко свернула влево, зарылась колесами в придорожной канаве. Из-под брезента посыпались жандармы. Элиаш считал и сбился со счета. Восемь? Одиннадцать? Они укладывались на снегу, как на белой простыне, которая утрачивала белизну. Заползали под накренившийся грузовик, кричали, как настоящие люди, которые боятся смерти и боли. Это была великолепная картина. Элиаш чувствовал, что ничего более прекрасного в жизни своей не увидит. Немцы действительно боялись смерти. Они действительно выли от боли, хватались за простреленные животы и раздробленные свинцом ноги. Они. О, Ягве, они ежедневно развозят смерть, запросто, словно какую-нибудь жирную жратву в котелках. Десятки тризн справили в Звежинце, Пардысовке, Журавнице, Сохах. Где только не совершали злодеяний. В Топольче целую семью, шесть человек, поставили у сарая — и та-та-та, как будто ложками застучали по краям котелков. Насытились горем людским, наслушались воплей, значит, должны представлять, что это именно так выглядит. Насытились, а теперь получайте добавку. Обыкновенную, самую легкую смерть, о какой только можно мечтать. Кто-то метнул гранату, и головная машина превратилась в факел. Четверо. Нет, уже трое, поскольку Элиаш снова удачно выстрелил. Трое жандармов стали крадучись отходить ко второму грузовику, который замер, перегородив дорогу. Колеса увязли в снегу, и бегству — конец. Их страх претерпел метаморфозу. Сперва парализовал жандармов, ослепил, а теперь взбадривает. Они уже смекнули, что их никто не спасет, что спасение зависит от них самих. Залегли в канаве, за колесами грузовика и не жалеют патронов. А ребятам «Куцего» начинает недоставать боеприпасов, все реже они стреляют, и наконец поступает приказ, передаваемый из уст в уста: отходить перебежками, сбор у трех камней. Несколько человек отходят. Без сожаления и горечи, так как сделали что полагалось. Могли больше, но ведь всегда можно еще чуть больше. Во всяком случае, итог вполне удачный. Отходят без потерь, а там, на дороге, черно и красно. И тут вскочил Витольд. Только не назад направился, а в сторону немцев. Шел неторопливо, увязая по колено в снегу, и стрелял не целясь, из старой винтовки, которая, пожалуй, лишь ради столь необыкновенного случая не давала осечки. — Витек, ложись, Витек, на землю… — услыхали голос Элиаша все, но не Витольд. Он шел, и счастье его не покидало. А могло покинуть? Если зимним утром видишь летящих аистов, то такое должно увенчаться какими-то добрыми делами. Он шел до тех пор, пока Элиаш не прыгнул на него сзади, и Витольд, потеряв равновесие, не зарылся лицом в снег… Начало смеркаться. Они снова были в лесу. В таком родном, безопасном, что любое восклицание спокойно пролетало среди ветвей и возвращалось к ребятам, как прирученная птица. Громче всех кричал «Ястреб», наступал на Витольда, который съежился под деревом: — Дуролом, мразь последняя, что же ты натворил?! — И показал рукой на Элиаша. На двух жердях несли его, пока не выдохлись, и положили Элиаша, «Коршуна», царя Давида, в полуметре от проторенной тропы, где снег был чистый, глубокий, пушистый. Элиаш был в зеленой шинели. Полгода назад он купил ее у мужика в Радечнице, а поскольку мужик отличался богатырским сложением, пришлось шинель переделывать. Деревенский портняжка взял за работу всего две четвертинки самогона и так расчувствовался, что безвозмездно пожертвовал Элиашу шесть металлических пуговиц с орлами. В зеленой шинели… И походил Элиаш на зеленый бугорок, с которого кто-то аккуратно смел снег. «Ястреб» опять раскричался: — Взгляни, уродина, полюбуйся, вояка сопливый, вот дело твоих рук! Твоих! — А Витольд молча смотрит на «Ястреба», потом на этот бугорок и ничегошеньки не понимает. Даже такой очевидной истины, что не будет уже у Элиаша ни пятерых, ни даже одного сына. Так получилось. И если бы Витольд был способен, он сказал бы «Ястребу»: — Извини, не понимаю. Но единственная ли это загадка в моей жизни, в их жизни, в вашей жизни, которую долго еще не удастся разгадать?.. — Так получилось, что Витольд Буковский, сын Яна и Ирены, очутился в Щебжешине где-то в середине июля, а там еще были немцы. Злые, настороженные, готовящиеся к ретираде. На шоссе застрелили мельника, у вокзала тяжело ранили мальчишку, который убегал, неподалеку от еврейского кладбища — старуху, которая не убегала, хотя ей кричали: — Hau ab! Laufen! — Разве каждому известно, что означает hau ab? Неподалеку от кладбища. Не только там нечем было дышать. Почти по всему городу распространился трупный запах. Ведь немцы начали второпях раскапывать еврейские могилы, и, хоть на эту тему кружили различные слухи, никто толком не знал, почему немцам захотелось увидеть истлевшие тела. Витольд слонялся по городу, ночевал в подворотнях или чуланах, ел, что люди подавали. Так и существовал. Однажды остановился возле дома, где жила тетка. Какой-то дом. Две женщины выносили из подворотни тяжелые чемоданы и поторапливали сгорбленного мужчину: — Где повозка? Беги к Вальчаку, пусть побыстрее подгонит. Ты дал ему задаток? — Какая-то подворотня… Витольд постоял минуту и побрел вдоль кромки тротуара. Какие-то люди собирали пожитки, искали тележки, повозки, искали безопасного места и не знали, где оно. Ночью пролетали над городом советские бомбардировщики, а днем по городу ехали немецкие танки и грузовики. Люди обменивались новостями, отчасти правдивыми и совершенно фантастическими: — Гитлер умер, русские вошли в Сокаль и Грубешов… В Замостье жандармы перебили всех заключенных, а у нас должны забрать всех мужчин, а русские будут пускать с самолетов газы. — Витольд хотел войти в костел. Не для того, чтобы помолиться. Близился вечер, и следовало позаботиться о ночлеге. Но у костела стояла немецкая охрана. — Убирайся! Тут тебе нечего делать… — услыхал он и почти одновременно получил удар прикладом в живот. Согнувшись от боли, он резко отпрянул, пока его не остановила пожилая женщина, видевшая все: — Нельзя так рисковать, кавалер. Настанет время, скоро настанет, когда мы снова сможем помолиться в нашем костеле. Теперь они в храме лазарет устроили. Сперва ксендза прогнали, потом попа вышвырнули и открыли лазарет. Навалили раненых прямо на каменном полу, и пусть подыхают. А ты плохо выглядишь, и тебе не только молитва нужна. — И, растроганная тем, что Витольд ради святой веры столь отчаянно рисковал, отвела его в свое скромное жилище. Он съел наконец горячий ужин и выспался на удобной кушетке. — А куда ты идешь? — осведомилась она перед сном, все же несколько разочарованная тем, что юноша упорно отмалчивался. — К своим… — ответил Витольд после долгого раздумья. — Хорошо, когда есть свои, — покачала она с пониманием головой, поскольку знала, что такое одиночество. Утром он вышел на щебжешинскую улицу и опять растерянно огляделся. Любая из четырех сторон света была для него в одинаковой степени хороша и плоха. Его не утешало даже то, что немцы оказались в гораздо худшем положении. Для них какую-то ценность представляла только одна сторона. Они расспрашивали о дороге на Фрамполь и Янов, так как в Реевец и Хелм, по слухам, уже ворвались русские. Люди считали часы и минуты, опасаясь, что перед паническим бегством немцы учинят резню. Витольд присел на камень, обратил лицо к солнцу, и время превратилось для него в воду, струящуюся между пальцами. Но двадцать пятого июля весь город так зашумел, что даже стоическое спокойствие Витольда было нарушено. По мостовой маршировали партизаны, ехали русские танки, на здании магистрата реял бело-красный флаг. Какой-то заплаканный мужчина бросился на шею Витольду и расцеловал его, как будто после пятилетней разлуки встретил кого-то из своих близких. — Почему не радуешься? Дорогой мой, мы свободны. Воскресла Польша! — Меня зовут Витольд… — ответил он слегка изменившимся голосом и что-то начал припоминать, всматриваясь в текущие по лицу мужчины слезы. Тот махнул рукой, отпрянул от него, а Витольд опять все забыл. А может, и не все? Ибо, когда в конце июля вышел из города, как будто нюхом почуял кратчайший путь. Не забрел ни в Билгорай, ни в Хелм… Шел полями, лугами, держась поближе к реке, поскольку река эта притягивала его как магнит. В какой-то деревне пришлось передохнуть, очень уж притомился и ноги стер до крови. Отдыхал в риге, где нашел охапку соломы и лишь капельку покоя. Уже под вечер предстали перед ним два молодых милиционера, которых позвал подозрительный хозяин риги. — Есть у тебя какие-нибудь документы? — спросил капрал, а Витольд только улыбнулся. — Куда идешь? — спросил капрал, а Витольд показал рукой на приоткрытые ворота риги. — Как фамилия? — спросил капрал, а Витольд вдруг насторожился и ответил: — Не скажу. — Оставь его, это какой-то чокнутый, — вмешался второй милиционер. — Или притворяется помешанным… — Капрал внимательно присмотрелся к Витольду, даже лицо ему осветил карманным фонариком. — Посмотри, на кого он похож. Какое уж тут притворство? — настаивал на своем второй милиционер. Капрал погасил фонарик. Милиционеры еще немного задержались и вышли. Поэтому Витольд смог прилечь и проспал до рассвета, пока хозяин не выставил его из риги. А ровно в полдень добрался до Избицы. Было погожее воскресенье, люди торжественно шествовали, празднично приодетые, может, возвращались из костела. Он смотрел на их улыбающиеся лица. И чувствовал себя иначе, чем неделю назад, чем вчера, но не осознавал, в чем эта перемена заключалась. Не заметил он также своего дома, ибо не знал еще, что дом этот именно здесь находится. Пошел дальше. Может, куда-нибудь дойдет? Если встретишь его, не расспрашивай слишком много, так как знаешь все его перипетии, и все-таки помоги ему в трудных скитаниях сквозь зыбкий мрак забвения.
Ноябрь 1978 — сентябрь 1979.
РАССКАЗЫ
ОТ ПЯТНИЦЫ ДО ПЯТНИЦЫ, А ПОТОМ ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА
Взяли их в пятницу. Дело не в суевериях, но все-таки в пятницу. Ровно в полдень, в самый разгар их работы. И уже не было никаких надежд выкрутиться. Все лежало на виду и просто лезло в глаза. Было этого столько, что хватило бы не на два, а на двадцать смертных приговоров. Бумага, краска, ручной печатный станок, радиоприемник, записанные Петром последние радиопередачи, двести готовых листовок, три гранаты и пистолет системы «вальтер» с пятью патронами.
А ведь место было отличное, надежное на девяносто процентов. Прямо над их головами, на первом этаже, была гладильня. Туда приходили женщины с окрестных улиц. Печатный станок запускали, когда наверху грохотал гладильный пресс, а газеты и листовки выносили в корзинах, под чистым бельем. И вот тогда, в пятницу, им не повезло — все случилось так внезапно, что не успели ни оказать сопротивление, ни даже по-настоящему испугаться.
Ровно в полдень… Роман положил на пол еще мокрые от краски листовки, а Петр отошел от станка и вынул из кармана спецовки два куска хлеба, слепленные маргарином. Именно тогда раздался условный стук. Кто-то стучал в дверь условленным паролем, и они подумали, что это Ванда, обещавшая прийти в двенадцать за листовками.
Едва Петр открыл дверь, как уже лежал на полу. Получил рукояткой пистолета по голове, потерял сознание и уже не видел первого акта трагедии. Когда ему плеснули водой в лицо и пинком помогли подняться, он сразу увидел Романа. Роман стоял у стены, его серое лицо почти не выделялось на ее фоне.
Тех было четверо и один в форме. Они шарили по всему подвалу, и глаза их блестели от радости. Еще бы, как быстро и удачно все завершилось, а вся история могла иметь совсем другой конец: на белом табурете лежали три гранаты и еще пистолет типа «вальтер».
И вот один из них, самый высокий, в облегающем кожаном пальто, берет с пола листовку и читает:
«Не помогут науськивания БХ[8] на ППР[9] — мы знаем, что крестьян Красноставского, Красницкого и особенно Пулавского повятов запугивают, будто Армия Людова…»
Восемь месяцев они работали в этом подвале, надежном на девяносто процентов. Особенно трудно было в декабре и январе: наступили сильные морозы, а тут ни печки, ни электричества, чтобы как-то согреться. Грели руки над карбидной лампой и каждые полчаса делали зарядку, то есть двадцать приседаний, а то и тридцать, если хватало сил. Хуже всего приходилось Роману: два года назад, в лесу, он был ранен в ногу, и хотя все вроде бы зажило, но временами…
«…и особенно Пулавского повятов запугивают, будто Армия Людова идет их бить. «Устраивайте засады на ППР». Скоро крестьяне поймут, что это подлые махинации врагов Польши. Эти господа хотят нарушить единство крестьян пугалом советской угрозы, проложить себе дорогу к власти в Польше. Не выйдет!»
Тот, в мундире, начал просматривать заметки Петра, но, видно, не зная польского, отдал тетрадь штатскому. Штатский стал переводить слово за словом на немецкий, и, однако, временами казалось, что слушавшие не понимают.
«Миколайчик в Вашингтоне. Карпатские уланы и 15-й полк Познаньских улан сражаются за Пассо-Корно и Монте-Кассино. Наступление Красной Армии на Карельском перешейке. Две дивизии в котле. Множество пленных. Войска I Белорусского фронта освобождают Витебск».
Уже перед самым выходом один из гитлеровцев включил старенький «филипс», и сразу зазвучала величественная, могучая музыка Бетховена. Можно ли было придумать лучшее сопровождение? Наверное, Бетховен подействовал и на немцев: они заговорили тише и до выхода из подвала ни разу не ударили ни старого Романа, ни молодого Петра.
— Держись, — сказал Роман шепотом, когда их вталкивали в машину, а Петр подумал: «Какая уж разница? Теперь ничего не изменишь. Только пуля в лоб, только темная могила».
Ехали медленно: улицы узкие, да еще забиты крестьянскими подводами. Пятница была в К. базарным днем. Даже во время оккупации. Если машина свернет на Кошаровую, значит, везут их прямо в гестапо, значит, спешат и уже сегодня будут допрашивать. Роман думает: «Еще бы полчаса и конец работе и меня бы там не было но если не меня то взяли бы Виктора и «Длинного» а если бы пришли в пять минут первого то и Ванда попалась бы… но почему она не пришла ведь должна была прийти ровно в полдень может заметила что-то подозрительное может кто-то ее предупредил… но кто предал, только шесть человек знали пароль, только восемь человек знали о типографии… Ванда и Виктор и «Длинный» это уже трое я и Петр это пятеро Хмель шестой и еще Алек и «Шеф» так кто же тогда… и знают ли они что в типографии засада ведь наверняка уже устроили засаду я долго не выдержу да наверное с нами и не станут долго возиться ведь у них все в лапах и типография тоже… пропади оно все пропадом… эта типография да еще Петр поспешил открыть знал что придет Ванда и уже дрожал от счастья так кто же предал Алек нет готов поручиться и не Виктор и не «Длинный» там наверняка засада и с нами не будут цацкаться а я-то мечтал когда все кончится срублю себе домик над рекой и буду… такую типографию загребли столько сил столько денег пошло прахом шестеро знали пароль только бы не сломаться только бы выдержать ведь с нами не будут долго а Петр…»
А Петр думает: «Еще полчаса и я бы этого избежал даже Ванда была бы уже в безопасности какой там случай пришли когда мы как раз ждали своих поэтому так легко у них и получилось… что с Вандой как хорошо что она опоздала а может и ее взяли теперь конец до чего несправедливо ведь мне только девятнадцать и уже конец Виктор счастливый у него есть о чем рассказать а он наколотил швабов больше чем пальцев на руках… что с Вандой а я уж никому ничего не расскажу да и что я успел узнать за мои девятнадцать лет… вот Роман пожил немало ему будет легче ведь умирать тоже можно по-разному я хотел в лес а мне говорили что фронт везде можно везде воевать и в типографии тоже… действительно можно везде воевать… что с Вандой и зачем только такие девушки берутся за дело ведь это рано или поздно кончается могилой если бы «Шеф» захотел нас отбить но он ведь сразу станет прикидывать есть ли какой-либо шанс Роман им нужен но что с Вандой если ее не взяли то она пойдет к моей маме ну и наплачутся… я хотел в лес Роман уперся и вот как получилось все взяли все захватили теперь будут нам ребра пересчитывать ведь если взяли типографию то теперь потребуют фамилии или хотя бы… что с Вандой Роману легче будет умирать… еще полчаса и я бы…»
Свернули в Кошаровую. Автомобиль прибавил ходу: улица была пошире, да и подвод поменьше. Под брезентом стало душно. Немцы высовывались из машины, чтобы чуть остудить лицо. Они были спокойны, а тот, что в мундире, даже насвистывал какую-то веселую мелодию. Передышка длилась три часа. Это было время, отпущенное Роману и Петру на размышления. По всей вероятности, это не имело ничего общего с гуманностью, а вызвано было лишь тем обстоятельством, что только в начале четвертого к зданию гестапо подкатил черный лимузин и унтер-штурмфюрер Вольке приветствовал штурмбанфюрера Юнга. Сразу после этого Романа вызвали на допрос. Петр не знал об этом, так как сидел в другой камере в тот момент, когда Романа вели в большую темную комнату. Петр подумал с надеждой: а может, подарят нам хотя бы этот день. Может, все начнется только завтра?
В очень большой и темной, всего с одним окном, комнате встретился Роман с унтер-штурмфюрером Вольке, о котором уже слышал, и штурмбанфюрером Юнгом, которого совсем не знал, да и не мог знать, потому что Юнг специально приехал на этот допрос из самого Люблина. В комнате еще были молодая и стройная протоколистка, которой время от времени улыбался Юнг, и два рядовых эсэсовца, которые время от времени улыбались Юнгу.
Вольке начал очень спокойно. Ведь он собирался провести показательный допрос. Он смотрел на Романа изучающе, словно хотел проверить, есть ли в глазах сидящего перед ним пожилого человека желанный, многообещающий страх.
— Послушай, ты, — начал Вольке, и Роман удивился, что этот гестаповец так хорошо говорит по-польски, — даю тебе шанс. Не тому щенку, а тебе. Сколько тебе лет?
— Пятьдесят шесть…
— Так вот, слушай… в твоем возрасте уже пора знать, чего стоит такой шанс. Скажешь, что надо, отправим тебя в рейх, там поработаешь и с тобой будет все в порядке. Понял?
— Понял.
— Даю тебе слово. Понял?
— Понял.
— Отлично. Теперь говори. Имя, фамилия?
— Юзеф Варецкий.
— Ничего ты не понял, свинья. У тебя скверно сработанное, фальшивое удостоверение. Ты польский коммунист, понял?
— Меня зовут Юзеф Варецкий.
«…Как бы меня ни звали Юзеф или Роман или Адам или еще как угодно сейчас ясно одно умру я как Юзеф а ребята скажут накрыли Романа а жена найдет «Шефа» и спросит с отчаянной надеждой в голосе может Адам как-нибудь вывернется ведь выворачивался я и некоторые даже завидовали я уверовал в свою счастливую звезду раза четыре был на волосок от смерти и всегда оставался цел…»
— Ты меня все еще не понимаешь. Подумай лучше, ведь господину штурмбанфюреру некогда. Напиши мне на этом листке несколько фамилий и адресов, и все будет хорошо, и тебя оставят в покое.
— Каких фамилий?
— Ты знаешь, каких. Дай нам пятерых коммунистов, это наша цена.
— Я таких не знаю. Не состою ни в какой организации. Я простой печатник и в политике разбираюсь плохо. Пришли ко мне какие-то люди, сказали: хочешь хорошо заработать, приходи на Школьную улицу. Я хотел хорошо заработать, ну и…
— И какие-то люди оставили тебе гранаты и пистолет?
— Оставили, но я их в руки не брал. Нанял на работу того парня, которого вместе со мной взяли. Не очень-то умный парень, но работящий, вот я и уговорил его помочь, чтобы…
— О себе говори, глупец, о себе, ты по-прежнему меня не понял, я ведь желаю тебе добра.
«…О себе говорить значит ничего не говорить был кажется конец марта когда «Длинный» установил со мной связь я болел лежал в жару он сел возле кровати и сразу выложил мол есть партия образовалась партия из Варшавы сообщили и не только сообщили… смотри что принес и вынимает из-под подкладки пиджака какой-то текст на тонюсенькой бумаге это было воззвание Польской рабочей партии еще помню большой черный заголовок К рабочим крестьянам и интеллигенции ко всем польским патриотам и как только малость оклемался мы сразу же начали агитировать людей дело шло не без трудностей, сильны были лондонцы на одной встрече с сельской молодежью какой-то парень спросил меня кто вы такие почему мы должны вам верить разные тут бывали и по-разному говорили о той Польше которая будет когда кончится война а я сказал что Польша не будет Польша есть и все дело в том чья будет Польша когда кончится война наша ли рабоче-крестьянская или тех что уже держали ее в руках и тогда «Длинный» прервал меня расскажи мол о себе пусть знают кто им говорит о концлагере Березе скажи им о процессах и поломанных ребрах…»
Он уже не сидит напротив унтер-штурмфюрера Вольке. Большая темная комната закружилась вместе с мебелью, и даже солидный Юнг висит где-то под потолком, и лица эсэсовцев невероятно вытянулись, а потом стали расплываться, тускнеть, исчезать, и красивая секретарша стала махать руками, словно хотела улететь из комнаты, и кто-то кричал, и кто-то говорил, и воздух сделался тяжелым, как свинец, — и свинец этот давил на грудь, и трещали кости, и ковер стал твердым как бетон, и сомкнулась непроницаемая тьма, и в этой тьме Адам Юзеф Роман канул в пучину нестерпимой боли.
Несли его медленно: он был без сознания и очень тяжел. Стучали каблуками, сопели и ругались. А когда за Романом захлопнулась железная дверь и закончился первый день допросов, открылась дверь перед Петром. Петра провели в большую темную комнату, и он, переступив высокий порог, встретился с унтер-штурмфюрером Вольке и штурмбанфюрером Юнгом. В комнате еще были молодая стройная протоколистка и два эсэсовца.
— Тот вонючий коммунист свалил все на тебя, — сказал Вольке. — На тебя, — повторил он и замолчал, так как Юнг стал внимательно приглядываться к ногам протоколистки, а та, заметив его внимание, еще выше задрала юбку. — Прошу тщательно протоколировать, — проворчал Вольке уже не столь невозмутимо, как хотелось бы. — Тот вонючий старый пес свалил все на тебя. Сказал, что ты возглавлял типографию и поддерживал связь с местными коммунистами. Говори. Даю тебе три минуты; если хочешь сохранить башку, расскажешь обо всем. Фамилии, адреса, понял?
— Я ничего не знаю, — в голосе Петра был страх, и страх был столь велик, что его услышал бы даже глухой.
— Три минуты, а потом мы превратим тебя в мокрую тряпку. Есть у тебя отец, мать, девушка? Хочешь их еще увидеть? Три минуты, давай явки, фамилии, клички…
«…Будут бить… не дали даже дня последнего дня чтобы собраться с мыслями чтобы со всем попрощаться… будут бить хоть бы знать что с Вандой наверное устроили в типографии засаду… она красивее чем эта стройная сука с задранной юбкой немка она или из фольксдойчей и как такая может на все это смотреть и спокойно записывать что у людей вырывают из горла вместе с языком… Ванда должна спастись будут бить я не боюсь смерти умирать ведь не больно и такая может на все это смотреть на человеческие потроха на кровь поломают мне руки и ноги Романа наверное уже отделали но он выдержал он ведь как кремень ничего им не скажет Роман есть Роман а я не выдержу я всегда боялся боли пусть уж лучше меня сразу… Ванду наверное кто-то предупредил должна была прийти в двенадцать а в типографии засада просил ведь «Шефа» чтобы отправил меня в отряд лес есть лес что с Вандой а они мне что партии хорошо можно служить везде если бы мы с Вандой поженились было бы хуже пусть уж лучше меня сразу…»
Он вскакивает со стула, бросается с кулаками на оторопевшего Юнга, два быстрых удара, и тот опрокидывается как тяжелая кукла. Но только два удара, только два, и все.
Темнота. Это еще не смерть. Тут смерть приходит по приказу, а такого приказа еще никто не отдал.
— Хватит, хватит с него, — говорит Вольке. — Не бейте по голове, он должен говорить. Извините ради бога, господин штурмбанфюрер, никак не думал, что это такой бешеный пес. От него просто разило страхом, я и полагал, что все пройдет гладко. На нижней губе у вас еще кровь, господин штурмбанфюрер.
На другой день допросы начались около полудня и продолжались до вечера. На третий день допрашивали только Романа. На четвертый день в большую, темную комнату затащили только Петра. Роман лежал без сознания в камере и время от времени невнятно вскрикивал: «Ничего не знаю. Ничего не знаю». На пятый день Петра вынесли из большой темной комнаты на солдатском одеяле. На шестой день прервали допросы. На седьмой день штурмбанфюрер Юнг очень любезно попрощался с унтер-штурмфюрером Вольке и вернулся в Люблин. А часом позже посиневшего и окровавленного Петра бросили в камеру Романа.
Вольке так распорядился, и один Вольке, наверное, знал, что за этим кроется. А может, за этим ничего уже не крылось? Может, просто настал час, когда они должны были вместе, вдвоем, плечом к плечу, дойти или хотя бы доползти до той великой, последней черты?
Семь дней. И снова была пятница. И прошли они за эти семь дней всю свою жизнь. Всю жизнь и каждый год, каждый месяц, каждый час в отдельности. Перебрали в памяти все, что было когда-то, даже в самые трудные, самые скверные дни, но дни живые, человеческие. «Ты выдержал, Петр. Мы выдержали. Должны держаться и дальше. Теперь уж нам будет легче, ведь нас уже не захватят врасплох. Мы вынесли всю боль, которую только человек может причинить человеку. Мы ничего не знаем, Петр, и никого не знаем. И помни, пока в груди еще что-то стучит, надо надеяться. Всегда что-то может измениться. Даже в последний момент что-то может измениться. Столько раз я уже обнимался со смертью и всегда как-то выкручивался».
«…Но теперь уже не выкрутишься и неизвестно кого ты утешаешь меня или себя не скажу тебе ничего о моей боли и страхе никто не имеет права меня обвинить потому что человек всего лишь человек и выдерживает столько сколько может выдержать пусть придут сюда те кто рассказывал мне о геройских подвигах, пусть выдержат хотя бы день в большой темной комнате в преддверии ада никто не имеет права требовать чтобы человек превратился в молчащее дерево… человек с полопавшейся кожей и поломанными костями окровавленный с вырванными ногтями это ведь не дерево пусть придут сюда но почему именно я и куда мне деваться со своей жизнью которая уже не жизнь а сплошной страх перед всем и перед собой и перед каждым голосом и перед сном и перед пробуждением и перед каждым восходом и закатом солнца и перед своей черной тенью… в преддверии ада никто не в праве требовать чтобы человек… окровавленный с вырванными ногтями чтобы человек с полопавшейся кожей и поломанными костями превратился в дерево…»
На десятый день их вывели из камеры. Роман предчувствовал, что это случится именно в этот день. И прежде, чем загрохотали по коридору подкованные сапоги, прежде, чем заскрежетал в замке ключ, он придвинулся к Петру и положил ему руку на плечо, а Петр задрожал, как в лихорадке.
— Ко всему надо приготовиться, — сказал Роман. — Если так случится, что нас вместе поведут кончать, надо будет в последний раз попытать счастья…
«…Не скажу тебе ничего не поведут нас вместе не заслужил я твоего доверия но честно говоря человек никогда не знает чего он стоит надо сначала пройти с обнаженными нервами через такую большую темную комнату чтобы…»
— Надо в последний раз попытать счастья. Надо умело притвориться, что мы совсем сломались. Когда будут тебя подталкивать прикладом — падай. И пусть думают, что мы способны только ползти на карачках и что наши перебитые кости уже тоскуют только по сырой земле. А я выберу подходящий момент, понимаешь? Тот единственный, подходящий момент. Ту счастливую секунду — и тогда крикну, и мы бросимся в разные стороны. Обязательно в разные стороны, тогда им будет трудно взять нас на мушку. Мне один такой бросок удался, ты знаешь. Палили по мне десять сукиных сынов и все впустую. А я благополучно ушел в лес. Какой-то шанс всегда есть. Говорю тебе, есть шанс, пока человек в этот шанс верит.
«…Не убегу я ни в какую сторону… мне и впрямь только на карачках ползать… но Петр не знает об этом и не узнает до той последней минуты он верит в мою счастливую звезду и только эта вера еще может его спасти подарить ему жизнь или хорошую смерть… то есть смерть без страха без собачьего скулежа над вырытой ямой… он хочет жить у него в глазах воля к жизни и то великое неведение благодаря которому можно далеко улететь как на мощных крыльях…»
На десятый день их вывели из камеры. Роман вышел в коридор спокойно, а Петр судорожно вцепился в дверной косяк, и его пришлось выволакивать силой. Потом его подталкивали по лестнице, били прикладами по шее, пока не подошел к нему Вольке и не шепнул тихо, успокаивающе: дурак, чего дергаешься? Ведь это будет только представление. Берем вас вместе, чтобы Варецкий ни о чем не догадался. А для тебя это будет только цирк, понял? Через полчаса вернешься в камеру, я ведь дал тебе слово офицера.
Ехали медленно, потому что улицы были узкие, то и дело встречались крестьянские подводы. Конвоиры курили и молчали, словно на похоронах. День обещал быть солнечным. Небо голубело, как на картине, и все люди, шагавшие по тротуарам, выглядывавшие из окон, люди без страхов и огорчений, искренне радовались этому картинному небу.
— Помни, — шепнул Роман, — как только дам знак, следи за мной… — И ничего больше не сказал, так как сидевший рядом жандарм ткнул его локтем в ребро.
«…Ведь это я уготовил Петру такой конец… он все рвался в лес и может счастливо прожил бы в своем лесу до конца войны если бы не мое решение… если бы не типография… но вправе ли мы мечтать о конце войны… кто дал нам это право… каждый день умирают люди умирают в тюрьмах и на виселицах и в камерах пыток и даже в лесу по которому так тосковал Петр умирают почему же мы должны быть счастливее почему именно нам должно повезти больше чем тем которые уже истлели в земле но кто-то переживет кто-то останется ведь это я уготовил Петру такой конец но почему я… это война обрекла его… каждый хочет жить и тот кто жизни еще не познал и тот с сединой на висках каждый потому что все может отдать человек и только жизнь отдать трудно хотя бы жена узнала обо мне попозже и товарищи помогли бы ей как-то но как и в чем ей теперь поможешь…»
Доехали до низкорослого сосняка, машины остановились на песчаной дороге. Им велели вылезти, и Роман снова был первым, хоть и зашатался, спрыгнув с машины в песок. А Петра опять пришлось вытаскивать силой. И опять ему досталось прикладом по ребрам.
— Нет. Не хочу. Оставьте меня в машине, — кричал он срывающимся голосом, тогда его свалили на землю и прижали ногами.
— Спокойно, парень, я ведь сказал тебе, будь внимателен, — прошептал Роман, поднимая Петра с земли.
У самой дороги, метрах в десяти от стоявших машин, уже была готова яма, к которой их и подтолкнули. Вольке взглянул на Петра и кивнул ему, сделал знак, что все будет в порядке. Но Петр уже не питал никакой надежды. И начал понимать, что это действительно представление, в котором на его долю выпала худшая, подлейшая роль. Выпала? Ведь он сам ее выбрал.
«…Этот скот дал мне слово… сказал что за жизнь я должен заплатить именно такой ценой… а я плачу в сто раз больше чем Роман и все остальные счастливцы которыми не побрезгует земля засыпая им рот и глаза… чего я боялся больше смерти и боли… этот скот… и я истлею в этой земле но нечто худшее чем смерть будет пожирать мое тело мое имя и мать моя сойдет с ума не от боли не от горя а от стыда что она моя мать а может все-таки а может все-таки а может а может он ведь дал мне знак… пусть возьмут всех мне-то что я ведь совсем еще не жил я только учился жить… ни Роман ни его товарищи не вернут мне жизни… жизнь это кровь живая кровь… обманул меня скот но на что я рассчитывал выломал пальцы содрал ногти и теперь поставил над этой ямой а может все-таки а может Роман умел красиво говорить о том что будет завтра а завтра уже ничего не будет ни для меня ни для него уже ничего не будет смотрит на меня и ни о чем не догадывается и в глазах у него сочувствие если бы знал он что я…»
Роман оглянулся. Немцы стояли у машин — и на песчаной дороге, и возле глубокой ямы. Он искал тот один-единственный шанс. Искал не для себя, а для Петра, у которого длинные ноги и которому всего девятнадцать лет. Слева лес начинался почти у самой дороги. Низкие разлапистые сосны так и подбивали бежать. Всего метров пятнадцать, а может и меньше. А если добежишь до этого густого сосняка — легко будет уйти от погони. Только бы у Петра не сдали нервы.
Вольке вынимает из кармана сигареты и подходит к стоящим у ямы.
— Внимание, парень, ты налево, в тот перелесок, а я направо, — шепчет Роман. — Внимание… вперед!
Петр крикнул что-то, крикнул бессознательно, дико и одним прыжком перескочил песчаную дорогу. Через несколько секунд услышал первые выстрелы. Но даже не обернулся. Бежал. Чувствовал крылья за плечами, а сосновый лес все сильнее благоухал жизнью. Он бежал, споткнулся о торчащий камень, рухнул лицом в колючую хвою, но тут же вскочил, подгоняемый автоматной очередью.
Только это и успел увидеть, падая на колени, Роман, который и пяти метров не отбежал от ямы.
— Еще, еще, мой мальчик, еще совсем немного…
А потом раздались два пистолетных выстрела, но Роман Юзеф Адам уже этого не слышал. Не слышал ни ругани немцев, ни шума запускаемых в спешке моторов.
А Петр? Это уже не имеет значения, добежал он до густого сосняка или нет. О Петре не скажу больше ни слова. Никогда.
Перевод Д. Шурыгина
ТРИ ПИСЬМА, ОДНА ЖИЗНЬ И НЕМНОГО ИСТОРИИ
За окнами уже светает. Запела первая птица. Запела звонко, задорно: должен ведь кто-то разбудить этот мир, скорчившийся в нездоровом, тревожном сне. Но Марию будить не приходится. Мария не заметила ночи, и потому ее не удивил рассвет.
Двор еще пуст, но через час-два выйдут люди, насладятся свежим воздухом, щурясь от яркого света. Мария знает этих людей и еще вчера была расположена к ним.
Первый хлопнет дверью Руматовский. Он уходит на работу в начале шестого, так как до железнодорожной станции надо добираться с полчаса. Потом во дворе появится кашляющий Петрас; у него овощная лавчонка, но все знают, что у Петраса можно достать и самогон, и мясо. Около семи, как обычно, выбежит из дома молодой веснушчатый Чарноич, работающий шофером в магистрате. Потом постепенно двор наполнится шумом, криком, песнями, руганью, хлопаньем дверей, лаем собак, стрекотанием швейной машинки. И завертится, отсчитывая минуты, этот живой и мертвый, прекрасный и уродливый мир, в котором уже нет Петра.
«Дорогая Мария, не писал тебе целый месяц, потому что пришлось поехать в З., и все наши планы лопнули, как старая пружина. Но главное, мне удалось все сделать так, как надо, и даже ворчливый Рысь похвалил меня. Сейчас сижу у коптящей свечи, пишу это письмо и очень тороплюсь, потому что Кароль через полчаса отправляется в твои края, а я хочу попросить его выступить в роли почтальона. Мне очень жаль, Мария, что нам пришлось так быстро расстаться, но иначе было нельзя. Любить друг друга и быть вместе — это сейчас слишком большая роскошь. Кто может позволить себе такое? Мы должны, Мария, привыкнуть тосковать друг о друге, а уж если привыкнем, то и жизнь, которая нас ждет, покажется нам величайшим счастьем. Но, откровенно говоря, я и сейчас чувствую себя счастливым, потому что мне есть кому писать письма — ночи мои не пусты, я все время думаю о тебе, на марше и на привале, когда умираю от усталости и когда, открыв глаза, вижу над своим волчьим логовом зеленые иглы молодой сосны, покрытые росой. Вчера прошли без отдыха больше тридцати километров. Сегодня все лежат вповалку, как мертвые, а я пишу тебе и почти не чувствую усталости. И с каждым словом мне становится легче…»
Вот уже вышел Руматовский, остановился и стал шарить по карманам в поисках сигарет. Стоит теперь и зевает. Первая спичка сломалась, вторая сразу погасла, зато третья вспыхнула весело, и Руматовский как-то особенно долго прикуривал, словно никак не мог нарадоваться этому задорному огоньку. Руматовский улыбается и с улыбкой поглядывает по сторонам. Он благополучно прожил ночь и, если счастье ему не изменит, проживет и день.
«…На шоссе Влодава — Хелм устроили хорошую засаду на жандармов. Десять жандармов отправились на тот свет, и еще несколько — в госпиталь. У нас потерь не было».
«…В Острове-Любельском ликвидирован немецкий шпик. Это был фольксдойч Высоцкий. Фамилия польская, а душа немецкая. Его прислали сюда из рейха, но свою могилу он нашел в Польше. Убили его средь бела дня».
«…15 августа четверо наших устроили засаду под Островом-Любельским. Убили двух жандармов, одного ранили. Добыли один автомат, одну винтовку, один пистолет и две гранаты».
«…Во второй половине декабря 1943 года жандармы из Мордовы нагрянули в деревню Сток-Руский и захватили врасплох В. Издебского. Тут же застрелили его и почти голого выбросили во двор. На труп накинулись жандармские овчарки и разорвали на куски. Надругаться над покойником — это даже не дикость, а бессмыслица. Сколько ярости, сколько усилий, а все впустую. Недаром поется: «Кто умирает — тот свободен». Жандармам надо выучить эту песню. Местные жители сообщили, что вместе с жандармами были трое предателей: Мяжджик, Сошинский, Челях».
«…На кладбище в Боровине большая экзекуция. В самое рождество привезли из Радзыня 24 заключенных и всех расстреляли. Немцы любят ровный счет: 24 декабря — 24 трупа. Среди расстрелянных были опознаны рабочие из Лукова, арестованные четыре месяца назад как коммунисты».
«Дорогая Мария, с прошлого письма я постарел на целых два месяца, и мое нетерпение и тоска стали невыносимы. Я уж было думал, что в начале января мы двинемся в твою сторону, и тогда представилась бы возможность повидаться с тобой, хоть на минутку, но получилось иначе. Может, оттого, что ты все отдаляешься и моя тоска по тебе выросла до небес, во мне вдруг проснулась тяга к поэзии. И вчера вечером я написал первое в моей жизни четверостишие — правда, это далеко не поэзия. Я никому о нем не сказал, да и кому скажешь? Ношу в кармане свое стихотворение как талисман, предназначенный только для тебя. Может, когда-нибудь смогу прочесть тебе эти четыре строчки, над которыми столько трудился. Я сравниваю тебя в них с прекрасной, доброй, спасительной ночью, которая прячет меня, оберегает и всегда благоприятствует. Нам приходится жить в такое время, Мария, когда люди страшатся дня и солнца. Ночь и лес для нас теперь надежный дом. Спасибо тебе за шерстяной шарфик, а главное — за письмо. Шарф теплый, но письмо греет меня куда больше. Когда я был маленьким мальчишкой (когда, когда это было, Мария?), то умирал от счастья, любуясь белым, чистым, прекрасным снегом. Теперь же белый, чистый снег стал страшным нашим врагом: на нем, убегая, как вспугнутые животные, мы оставляем следы, по ним пойдут наши преследователи. И я проклинаю этот снег последними словами, забывая обо всем прекрасном. Но ведь где-то там, за тридевять земель, а может, и чуть ближе, существует чудесный, нормальный мир. И мы должны, несмотря ни на что, верить в него, потому что без этой веры наша борьба, наша мука, наша смерть и наша тоска не имели бы никакого смысла. Ты пишешь, что собираешься отрезать свои косы. Не надо, Мария. Хочу увидеть тебя такой, какой была ты в день расставания. Для меня это очень важно, и даже не могу тебе объяснить, как это важно. Кароль сказал правду. По приказу Рыся записываю в тетрадь разные вещи, разные факты. Одни происходят у нас на глазах, о других рассказывают люди, сообщают товарищи из других отрядов. Рысь говорит: когда-нибудь это станет историей. А я добавляю: а сейчас это наш горький повседневный хлеб. Письмо посылаю тебе с Бронеком по старому адресу. Так будет безопаснее».
А теперь хлопнула дверь, и во двор вышел Петрас. Поплевал на руку, не спеша, задумчиво пригладил рыжую шевелюру. Через двор, в сторону сараев, лениво бредет черный кот. Петрас на мгновение замер, потом наклонился, поднял камень и старательно прицелился. Кот почуял неладное, прыгнул вперед и исчез между сараями. В тот же миг тяжелый камень ударил в гнилые доски, и этот глухой удар был похож на отдаленный выстрел.
— Погоди, пакостник, — крикнул Петрас, — я тебя еще подкараулю.
«…10 января в Конкольнице арестовали Янину Краевскую. Она была активисткой ППР. Известно ли им было об этом? Официальный повод для ареста совсем другой. Краевская, как врач, оказала помощь раненому партизану. Какой-то гад донес…»
«…Есть и такие поляки. Ксендз Плонский из Лукова, когда его попросили отслужить молебен по пяти расстрелянным, ответил: отслужить-то могу, но сколько заплатите? Семьи расстрелянных были очень бедные и, конечно, много заплатить не могли. Стали торговаться, Плонский снизил цену, но и она была в десять тысяч злотых».
«…В Стоке-Руском снова пролилась кровь. В соседнем лесу в землянке скрывались пять коммунистов. Фамилии их пока неизвестны. Зато хорошо известен осведомитель. Это тот самый Челях, который виноват в гибели Издебского. Немцы вытащили из убежища всех пятерых и тут же расстреляли».
«…На перегоне Красник — Шостарка взлетел на воздух воинский эшелон. Взрыв был мощный. Паровоз и несколько вагонов полетели под откос. Убитых немцев с полсотни, а раненых — вчетверо больше. Колею чинили в невероятной спешке, но все равно на это ушли целые сутки».
«…Немцы распространяют разные листовки и брошюры. Им не справиться с нами оружием, поэтому они пытаются с помощью провокаций и лжи».
«12 вопросов к Польской рабочей партии», «Маски красного Кремля», «Да здравствует Польская советская республика». Заголовки говорят сами за себя. Фашисты трогательно обеспокоены нашим будущим».
«…В середине февраля в Ружанце на Буге расстреляны трое за то, что не явились рыть окопы».
Итак, до сих пор во дворе все идет как обычно. Очередность соблюдена. Вслед за Петрасом вышел Чарноич. Как месяц назад, как неделю назад, как вчера. А может, и завтра все будет так же. Разве что кто-то не вернется домой, разве что… но сегодня все идет своим чередом, и каждый из появляющихся во дворе, наверное, думает: хоть бы до завтра. Чарноич на бегу сует в карман какой-то сверток. Наверное, свой обед. Два кусочка хлеба со свекольным мармеладом или маргарином. Через несколько часов он вытащит этот хлеб из кармана. Съест его. Мария широко распахивает окно. Он будет жить, будет разговаривать с товарищами. Завтра суббота, условится сходить с ними выпить. Сколько же ему лет? Двадцать пять или немного меньше? Петр был моложе его. А на дворе уже совсем светло. Ночь пролетела так быстро, что Мария совсем не уверена, действительно ли просидела она в этой комнате от сумерек до рассвета. Прекрасная, добрая и спасительная ночь — так говорил Петр.
«…Стычка под Карповкой с жандармами. Когда наш отряд ушел, жандармы прочесали деревню. Десять домов спалили. Несколько десятков человек расстреляли, шесть сожгли живьем. Среди брошенных в огонь были молодые девушки — перед смертью их раздели догола».
«…В поместье Лазиска удачная операция против немецкой охраны. Убили не менее тридцати немцев. Винокуренный завод полностью уничтожен. 80 тысяч литров спирта поглотила земля».
«…В поместье Старый Двор, Красноставского повята, живьем сожгли 13 немцев, добыли много оружия и боеприпасов».
«…Из Бялой Подляски сообщили, что работавшие там на аэродроме советские военнопленные захватили самолет и бежали к своим. Отличная операция. Счастливого пути, товарищи».
«…В Александрове банда НСЗ[10] убила 8 евреев и поляка, который их прятал».
«…В Михалове расстреляны шесть наших товарищей, членов ППР».
«…НСЗ начинают действовать не хуже немцев. Поляки гибнут от руки поляков. Это трагедия. В последнее время целая серия убийств: 2 партизана убиты около Юзефинка, погибло много активистов ППР, много общественных деятелей — Банчер, Купец, Краковский. Массовый расстрел крестьян в Грабовце. Убит капитан «Орел». Жестокие убийства в деревнях Рудка, Потоки, Лишник. Пал от руки поляков замечательный солдат АЛ[11] — поручик «Молния». Ему размозжили голову, раздавили грудную клетку».
«…Один из наших отрядов перехватил радиограмму высшего руководства НСЗ поручику «Яну», который командует бандой НСЗ в Яновских лесах: «Сообщаем, что немцы хотят войти в контакт с НСЗ, предпочтительно с «Зубром», они обещают оружие и боеприпасы для уничтожения ППР. Дело курирует гестаповец Август из Красника через Дыбовского, полицая, который служил в Уланове, а теперь — где-то в Аннополе или под Красником. Честь имею! Начальник службы порядка — Юр». — Что тут добавить к этому рапорту, если и так все ясно».
«Дорогая Мария, времени у меня совсем мало, поэтому пишу тебе всего несколько слов. Я жив, здоров, скучаю, и в этих словах заключено все, что я хотел бы тебе сказать. А Кароль никогда уже не принесет тебе моего письма, потому что Кароля уже нет среди нас. Жаль парня, ему было всего девятнадцать лет, единственный сын. А я жив и все больше верю в свою счастливую звезду. За Бугом становится жарко. Значит, не за горами тот наш прекрасный мир, к которому стремимся из последних сил, но с растущей надеждой. Этот мир уже близок, Мария. Он действительно уже близок. А дни все короче, и ночи пролетают быстро, и мне все больше хочется жить. Это хорошая примета. Знаю все о твоем смелом решении, Мария. Горжусь тобой и очень за тебя тревожусь. Не хочешь отстать от Крыськи, которая вот уже полгода в лесу. Вдруг мы с тобой встретимся, на какой-нибудь солнечной поляне?»
И вот двор уже наполнился гомоном, криком, пением, руганью, хлопаньем дверей, лаем собак. Мария замечает «Лорда». «Лорд» спокойно идет через двор, будто ему некуда спешить, и он оказался здесь совсем случайно. Потом слышатся тяжелые шаги на лестнице, минута тишины и условленный стук в дверь. Мария закрывает окно. Внимательно смотрит на серые стены комнаты, на покрытый клеенкой стол, ветхие стулья, кровать, где когда-то спал Петр. Надо насмотреться, потому что завтра уже этого не будет, завтра войдет сюда кто-то чужой, для кого эта комната станет всего лишь обыкновенным, грязным, тесным прибежищем. Снова стук в дверь. Надо пройти по комнате, как по собственной жизни. Тут когда-то она встретилась с Петром, тут же с ним и простилась.
— Я опоздал, под Избицей была перестрелка, — говорит «Лорд», — пришлось переждать.
— И хорошо, что опоздал, — пробует улыбнуться Мария, — я побыла наедине с собой.
— «Густаву» очень нужна тетрадь. Я сегодня же должен ему ее вручить.
— Я пойду с тобой, — говорит Мария, — и сама ему вручу.
— Такого приказа не было.
— Но я принесла тетрадь оттуда. Три дня несла ее; наверное, я имею право?
— Пожалуй, да, — соглашается «Лорд», — пойдем к «Густаву» вместе.
Мария вынимает из кармана три исписанных листка и кладет рядом с тетрадью. Склоняется низко, словно хочет еще раз все прочесть.
— Только это и осталось от Петра, — говорит она спокойно, кажется самой себе, и «Лорд» понимает и молчит.
Перевод Д. Шурыгина.
НА РЕКЕ ШИРОКОЙ, НА ЧУДНОМ ОСТРОВКЕ…
1
Еще четыре дня назад, когда они, запыхавшиеся, совершая ночные марш-броски, проходили пустые деревни и поселки, когда приостанавливались у погнутых, задранных в небо, простреленных насквозь указателей и разбирали по складам: Приббернов, Мюленбек, Морин, — рядовой Рутяк, раздумывая о завтрашнем дне, думал и о том, как устроить, чтобы сын его наконец был при нем. Дело было проще простого. И может, именно поэтому никто не желал Рутяку содействовать. Те, что шагали в неизвестность, стирая до крови ступни (командир взвода: «Если бы ты, Рутяк, хотел пополнить взвод, допустим, десятком старых вояк, тут бы я мозгой пошевелил, а ты мне голову морочишь из-за одного сопляка. Пришлют его к нам официально — возьму, поставлю на довольствие, не пришлют — переживем»), жуя махорку, ибо курить запрещено приказом, — те, что делали по семь километров в час, а то и больше, полчаса на привал, а то и меньше (старшина роты: «Я помню, Рутяк, чего ж не помнить, но не теперь, браток, всему свой черед. А ты, Рутяк, не убивайся, дорогуша, и не думай, что самые страшные подлости враги готовят второму батальону, а третий батальон будут встречать цветами. В любом батальоне, дорогуша, можно схлопотать пулю или заработать медальон. Не так ли?»), пропыленные и усталые люди, еще не знавшие, на Берлин они идут или на Щецин, твердо знали, что даже на марше можно чуток вздремнуть, а уж если думать на ходу, так либо о сверхважном, о приговоре судьбы, к примеру, или, напротив, о такой чепухе, как песчинка, которая попала в сапог и натирает пятку. А то, чего просит Рутяк, не отнесешь ни к сверхважному, ни к пустякам. «Не так ли?» — спрашивает ротный старшина, сержант Мрочко. «Так-то оно так, — отвечает Рутяк с полным вроде бы пониманием, но и не без некоторого сомнения, — все ясно и правильно, гражданин сержант, но если во всех батальонах можно одинаково схлопотать и заработать, то я покорнейше прошу, чтобы, значит, сын мой, Рутяк Владислав, в третьем батальоне зарабатывал. Меня-то на двух войнах натаскивали, и я знаю, когда такого сопляка из окопа вытолкнуть, а когда за шиворот схватить, чтобы зря головы не высовывал». Наконец остановились в пропахшем весенним паводком лесу, который доходил почти до самого берега. И сразу же от взвода к взводу шепоток: на месте мы, конец похода. Кто был поближе к железнодорожному полотну, тот мог прочесть на красной стене полустанка: Цекерик. А кто был подальше, тому ротный старшина объяснил, что к чему: «Шабаш, ребята. Озеро, которое впереди, это река Одра. Установим здесь такую границу, что лучшей не надо». Река была как озеро. Широко разлившаяся, ленивая, взбаламученная у берегов, неподвижная, словно замерла в ожидании своей большой судьбы. И когда уже нагляделись вокруг, осторожно высовывая головы из неглубоких траншей, поскольку западный берег гостеприимно приветствовал их огнем снайперов, когда насмотрелись на деревья, словно бы уже зеленые, на утреннее небо, предвещавшее вёдро, на реку, которая могла внушить страх (кто хотел, тот слушал Рутяка, а Рутяк скорее к себе обращался, нежели к тем, которые головой согласно ему кивали: «Такой широченной реки мы еще не одолевали, даже на хорошей лодке в четыре весла махать не менее получаса, ведь там-то, куда хватает взгляда, только еще стрежень, значит, целый час промашешь, прежде чем на тот треклятый берег ступишь»), когда радостное возбуждение из них вышло, как воздух из лопнувшей камеры, и вернулась усталость, ибо можно три дня ноги обманывать, но на четвертый они набираются ума-разума и без всякого разрешения ищут отдыха, положенного, как бы там ни было, человеческим ногам, — сержант Мрочко отыскал Рутяка. Сел рядом с ним под сосной. Тоже прислонился к стволу. Угостил Рутяка махоркой и, едва прокоптили первой затяжкой глотки, угостил его словами: «Я доложил о твоем деле поручику, а тот говорит: «Дело житейское, подсоблю Рутяку, если смогу. Потолкую с командиром батальона, — так мне сказал поручик, — а подвернется случай, то и с самим полковником Сеницким». Что ты на это скажешь, Рутяк?» — «А то скажу, что радуюсь. А в особенности потому, что Рутяк Владислав — сын мой единственный. Есть еще в доме две девахи, да замужние, считай уже как бы отрезанный ломоть. И я низко кланяюсь вам, пан сержант, за эту услугу». — «Да катись ты, Рутяк, к чертям со своим поклоном. Для меня вся эта коммерция только тем важна, что в роте одним активным штыком прибавится. Верно?» «Верно, — горячо поддакнул старый солдат. — Двое Рутяков, вместе взятые, — большая сила. А Владек силен как кузнец, только солдатской сметки ему малость недостает».
2
Уже вторую ночь они к Одре принюхиваются. По ночам сподручней осваиваться с рекой. Мутная, черная вода в некоторых местах подходит почти к самому шоссе. Когда стемнеет, можно к ней приблизиться не сгибаясь. Немцы ведут себя ночью вполне прилично. На польском берегу еще не погасли все пожары. Горит лес в Густебизе, трещат, догорая, деревянные домишки в Цекерике, но все это последствия дневного артналета. Теперь лишь пулеметчики на обоих берегах реки ведут между собой разговор без особого энтузиазма, короткими очередями. Рутяк вернулся из лесу с охапкой сосновых веток. Он готовил себе логово столь старательно, как будто собирался проспать в своей яме весь апрель. «Песочек для тебя твердоват, королевич?» — шпынял его капрал Юзефацкий, первейший виршеплет в роте, а может, во всем третьем батальоне. Юзефацкий писал послания своей зазнобе исключительно в стихах: «Как только кончится война, будешь ты со мной всегда. Как фашистов разобьем, будем мы с тобой вдвоем». Подобные стихи имели общечеловеческое звучание и с одинаковым успехом могли сослужить службу как Юзефацкому, так и тем, кто лучше управлялся с винтовкой, чем с пером. Капрал был страстным курильщиком. И пожалуй, только потому не мог оставаться бескорыстным служителем муз. Впрочем, Юзефацкий установил исключительно льготную для молодых солдат таксу. За четверостишие брал сигарету или щепотку махорки на приличную козью ножку. «Песок для меня не жесток, — отвечал Рутяк без тени гнева, — да словно бы отдает мертвечиной. А от сосновой веточки под головой, от такой подушечки зеленой — смоляной дух. Если им дышишь, то и помирать не хочется, а коли помирать нет охоты, значит, не помрешь». «Пустое говоришь, Рутяк, — фыркнул Юзефацкий, но не отходил от выстланного сосновыми ветками ложа. — А разве есть такие, что на тот свет торопятся? Есть ли такие вообще?» «Почему бы им не быть? — Рутяк поглядел на капрала с ласковой снисходительностью. — Вот Куцва из первой роты, например, у него одна думка: всегда быть впереди. Добровольцев кликнут — он тут как тут. Почему бы им не быть? Я к своей старухе, к девахам своим тороплюсь, а он? К кому Куцве возвращаться? От избы только пепелище осталось, а от семейства одна большая могила. Чужими руками вырытая». Рутяк уже переворачивался на другой бок, запыхавшийся от столь длительного невеселого разговора, смертельно усталый за день на лесосеке, где валили высокие прямые сосны, из которых саперы сколачивали надежные плоты. И уже шинель натянул на голову, и глаза закрыл, ибо даже в темноте глаза закрыть требуется, чтобы как следует перед сном разные важные мысли привести в порядок, как вдруг фамилию свою услыхал. Подумал еще с закрытыми глазами: «Не дадут человеку выспаться, от ночных дел добра не жди, особенно на войне, а без сна воевать скверно», — но уже все более настораживаясь, ибо голоса сперва послышались у железнодорожного полотна, а потом ближе, среди деревьев, наконец совсем близко, у перекрестка лесных стежек: «Рутяк наверняка уже кемарит, точно крот в норе, бери левее и чуток пониже. Рутяк… Рутяка… Рутяку-то хорошо. Своего добился. Теперь уже прямо». Рутяк вскочил, выпрыгнул из окопа и побежал, спотыкаясь о корни. «Владек, сыночек, неужто не видишь меня? Ведь я стою прямо на твоей дорожке, ведь я еще не призрак. А отца родного и в ночи видеть положено». Они обнялись, как выдохшиеся боксеры, которые отдыхают с минуту, подпирая друг друга. Только и было тишины, пока обнимались, обессиленные от радости. Потом шагали плечом к плечу, хотя определение это не совсем точно, поскольку сын был по крайней мере на голову выше отца. А старик говорил торопливо обо всем, что следовало высказать: «Да, значит, поручик слов на ветер не бросает, и вот мы вместе, Владек. Это по справедливости, сын обязан при отце находиться и на пахоте, и на поле брани, и, если родителев последний час пробьет, полагается сыну у его смертного одра преклонить колена. Вот мы и вместе. Я сосновых веток принес на подстилку и сала кусочек припас, чтобы от разговора скулы не свело. Чуяло сердце гостя дорогого. Перекусим маленько и скажем друг другу, что в таких случаях полагается. Ведь как мы из Грейфенберга вышли, я только раз с тобой встретился и из дома никаких писем не получал. А утречком, едва рассвет, ты увидишь, Владек, отменную картину из моего окна. А картина такая: сплошную воду увидишь и клочок неба. И мы, Владек, эту воду избыть должны». Сын жевал пожелтевшее от старости сало и поддакивал. Потом угнездился в окопе, поджал длинные ноги к животу и не возразил, когда отец накрыл его своей шинелью. Еще четыре дня назад, когда они, запыхавшиеся, совершая ночные марш-броски, проходили пустые деревни и поселки, Рутяк с тревогой думал о том, что будет завтра; а теперь он бормотал что-то над спящим сыном, а если и вспоминал о завтрашнем дне, то не было в его мыслях никакой тревоги. И если бы даже этой ночью приснился Рутяку достоверный сон, в котором генерал Бевзюк разговаривает с полковником Сеницким о судьбе-злодейке третьего батальона, Рутяк не отогнал бы своих мыслей, исполненных благости. Ибо на войне испокон веков одних осеняет злая судьба черными крылами, а другим суждено помилование.
3
А кому помилование? Третий батальон не получит помилования, но в батальоне более трехсот человек, да не всем одно и то же на роду написано, хоть и на всех один приказ. Остров. «Подумать только, Владек, что именно нас угораздило. Вроде бы не велика разница, поскольку одним сегодня, а другим, к примеру, завтра, но я тебе по совести признаюсь, что меня завтра больше бы устроило. Маловато дали нам отдохнуть. Остров. Через месяц-другой вода спадет, и, пожалуй, остров этот исчезнет. Река вернется в свое русло, а от острова зеленый бугорок останется. Трава там будет такая сочная, что коров палкой не отгонишь». Еще не рассвело, но им уже все видно. У топкого берега, неподалеку от железнодорожного моста, центральные пролеты которого немцы успели взорвать, саперы поставили несколько десятков лодок. На польском берегу делается все оживленнее, солдаты, покашливая и отдуваясь, грузят в лодки все, что будет им необходимо на том берегу. Минометы грузят. Легкие орудия грузят. Пулеметы грузят. Ящики с боеприпасами грузят. Даже немного странно, что немцы столь терпеливо внемлют звукам и голосам, хоть и не громким, но наверняка доносящимся по ночной реке на тот берег. И, словно желая всю эту ратную суету приглушить, утихомирить: «Скоро рассветет, — сказал Рутяк сыну, который снял на минуту каску, чтобы вытереть вспотевший лоб, — а мы должны туда добраться еще затемно, и ты вперед не рвись, в случае чего на отца поглядывай, что он будет делать». Словно уже отпала необходимость скрывать то, что вскоре произойдет, лес позади них полыхнул огнем из ста, а может, более стволов, завершались последние приготовления к переправе через Одру. Угловатые, большие лодки уже качались на воде. Солдаты вскакивают в них поотделенно, размещаются, ища местечко поукромнее и забывая, что для тех, кто садится в лодку, любое место — опасное. Едва Рутяк услыхал: «Отваливай!» — и едва успел повторить этот крик, повторить только ради того, чтобы не молчать, ибо хуже нет дожидаться молча, — и тут же почувствовал, и все почувствовали, полвзвода, плотно прилепившегося телами к лодке, почувствовало, что они не отчалят. Вода тут была ниже колена, и лодки застряли в илистом дне. Уж никто не кричал: «Отваливай! Греби!» И тогда поручик Ленцкий, а потом сержант Мрочко и почти одновременно еще пять поручиков, и тринадцать сержантов, и двадцать три капрала, и кто только хотел (а хотели почти все) принялись высказывать спасительную идею: «Волоком! Все за борт — и айда тянуть лодки до глубокого места. Волоком. Лишь бы подальше от берега». И вот уже тридцать лодок подхвачены солдатами. Кому суждено помилование? Еще рановато об этом думать. Кто-то споткнулся о корень, кто-то поскользнулся на отшлифованных водою камешках. Двадцать девять. Рутяк осторожно щупает дно раскисшими сапогами. Порой ему кажется, что его обувка уже давно растаяла в воде и немецкий берег придется брать босиком. «Где же, черт побери, глубина? Саперы лодки сколачивали, а дно хотя бы шестом промерить не удосужились». Двадцать восемь. Две лодки выскальзывают из рук не на чистую воду, а в ил. «Минометы накрылись, спасайте минометы!» — «А что ж ты, браток, будешь делать с минометами? В карман их сунешь? Голыми руками из трясины вытащишь?» Пока что их еще огонь со своего берега прикрывает. И остров. Он отгораживает их от немецкого берега. Двадцать семь. «Черти, растяпы, спасайте боеприпасы». Немцы слышат, чувствуют, но еще не видят. Не из-за темноты, уже рассвело, а просто остров заслоняет. Лодки тащили метров сорок. Некоторым вдвое больше тащить пришлось, пока вода им до пояса не дошла и пока не крикнули: «Глубоко! Отпускай! Плывем!» С прибрежного вала строчили очередями немецкие пулеметы. Но пули проносились слишком высоко. Посвистывали над головами третьего батальона. Еще не им предназначенные. Остров. Щит. Позже, когда дружно гребли, беря курс на этот остров, Рутяк сказал: «Уже солнышко, сынок. На солнышке все веселеет и вроде бы лучше видно, а нас с божьей помощью не видать». Потом немецкие артиллеристы начали помаленьку, на ощупь, пристреливаться к протоке, что за островом, к лодкам, что за островом. Водяные фонтаны рассыпались прозрачными брызгами. Наконец сто первый снаряд на ощупь попал. Как на ученьях. В самую середину лодки. Взметнулись вверх ошметки досок. Вода прозрачными брызгами. Ошметки плоти. Брызги. «Господи, влепили им. Кажется, третий взвод…» Месиво. Брызги. До берега было уже рукой подать. Снова подсвеченный солнцем фонтан. Метров пяти высотой. «Не бойся, Владек, как заберемся на остров, фиг они нас достанут. На воде, ничего не скажешь, страшновато, но остров, сынок, это уже суша». Доплыли. Солнце стояло высоко, когда батальон начал зарываться в землю. Ногтями, лопатками, обломками досок. Кто с одного конца острова на другой переполз, тот увидел во всей красе немецкий берег. Первыми переползли разведчики. Вернулись. И теперь все, кто лежал в неглубоких сырых ячейках, едва переводя дух от усталости, ловя воздух широко открытыми ртами, услышали: «До немцев самое большее метров двести. Двести метров, но уже сплошной глубины, ведь по ту сторону острова главное русло». Услышали. Не более двухсот. Каждый прикидывает на свой лад: двести, но ведь уже не ночь. Двести, но так светло, что можно с этого расстояния лягушке в глаз попасть. Каждый по-своему: отмель — плохо. А теперь сплошная глубина — еще хуже. Дышат впрок. Лежат на спине, глядят в небо. Впрок. А кому ведомо, когда глядишь вот так в последний раз. Рутяк думает: «Не по справедливости вышло. Получается, что я сынка из второго батальона ради того перетаскивал, чтобы первым делом через такую широченную реку бросить?» Рутяк протягивает Владеку флягу с кофе: «Я по-генеральски все тебе изложу. Для того нас нынче в воду сунули, чтобы у немчуры слабые стороны прощупать. Пошуруем чуток на том берегу — и айда назад. Наши генералы теперь на какой-нибудь горке стоят, в бинокли посматривают и так промеж собой толкуют: тут у фрица огневые точки, а там ни шиша. И как завтра вся наша дивизия через реку двинет, то уж будет знать, куда двигаться. Понял, в чем загвоздка?» — «Все ясно, батя, только дадут ли нам немцы пошуровать на своем берегу хоть чуток?» — «А почему бы нет? Смотри в корень, Владек, ведь мы к ним в гости нагрянем не взводом, а целым батальоном. А что такое третий батальон, я тебе, Владек, объяснять не буду, ты и без меня это знать должен». Загремело на немецком берегу, но снаряды перелетали остров и рвались там, где уже с полчаса не было батальонных лодок. Их втащили на берег, и только теперь можно было убедиться воочию, сколько в сосновых бортах пробоин и свинца. «Отхлебни еще, Владек, когда вокруг вода, особенно в горле пересыхает». У них только и осталось времени, чтобы глотнуть немного кофейку и пахнущего тиной воздуха. Уже слышится окрик сержанта: «К берегу бегом — марш! Взять лодки и перенести через остров!» Рутяк завинчивает колпачок фляги, стягивает потуже поясной ремень, не торопится: «А Владек не глуп, в мыслях моих читает, сказал то, что у меня в глотке застряло. Не пошуруем мы сегодня. Дал бы бог, да вряд ли. Не по справедливости получилось». Несут. Пока на макушку острова не вышли, могли и потешиться тишиной. По болоту, по колено в воде несли, теперь несут по суше. Земля илом и рыбой благоухает. Несут. Еще выше. Выпрямляя натруженные спины, как бы желая этими широкими плоскодонками слишком светлое небо подпереть. Немцы еще молчат. Почему? Даже артиллеристы, которые успели пристреляться к острову, тоже вдруг угомонились. Первая лодка, убаюканная на солдатских плечах, уже почти воды касается. Хорошей, глубокой. Тут даже самая тяжелая лодка не застрянет. Хороша вода. Длинную молитву успеешь сотворить, прежде чем лицом в дно ткнешься. Глубока вода. Почему молчат? Спятили от страха при виде странного шествия лодок, влекомых бережно, словно они из картона и могут разбиться, соскользнув с усталых плеч. Сбросят эту первую лодку, так что изумленная вода заплещет, и останется только двести метров. Пошуруем? Сбросили. И принялись поспешно грузиться, скользя на мокром днище. «Скорее, сто чертей! — кричали, судорожно хватаясь за весла, поскольку течение тут быстрое и лодку тотчас начало сносить влево, — держать направление, ребята, мать вашу, держать направление», — и еще левее, все дальше от стального скелета моста. И тут грянул гром. Словно по общему приказу, от единственного прикосновения к спусковому крючку зарычал, полыхнул, загрохотал немецкий берег. И, роняя лодки, живые падали рядом с мертвыми, мертвые даже проворнее. Рутяку, который успел нырнуть в неглубокую борозду, с минуту казалось, что немецкий берег исчез, что нет там деревьев, кустов и водозащитного вала, а только сплошная стена огня. Стал он поспешно отползать в глубь острова, а в воде — останки трех лодок, разбитых, продырявленных как решето, — не дожидаясь приказов, — а на тех останках несколько раненых и убитых, остальные уже с дном здороваются, — ведь никто, пожалуй, и не командует, случаются на войне такие моменты, секунды, когда следует полагаться лишь на собственный приказ, на собственный страх, интуицию, смелость или недомыслие. В глубь острова. Слева и справа от Рутяка торопливо ползущие, перепуганные люди. А куда? А где безопаснее? А кому даровано помилование? Остров таков, что за пять минут можно его досконально шагами измерить. Вдоль и поперек. «Владек, ко мне спеши, тут у меня ямка, хоть голову спрячешь». Но вот уже звучат приказы. И «сорокапятка» на огневой позиции. Единственное орудие, которое у них осталось на острове. Капрал Лепковский не тратит впустую боеприпасы, их немного. Стреляют метко, и кое-кто даже восклицает: «Попал в пулеметное гнездо! Только пыль столбом. Накрылись!» Но мало радости в этом крике, и не велика честь погибать на острове, где можно молчать, можно кричать, можно плакать, можно даже стрелять, но нельзя достойно, идя вперед, умереть и нельзя даже трусливо ретироваться в безопасные тылы. Ибо нет здесь ни передовой, ни тылов. А есть остров. И все чувствуют себя словно на большой сковороде, одинаково подогреваемой со всех сторон. Остается ждать. Лишь это им дано. Но не подмоги, ибо кто же осмелится среди бела дня бросить следующий батальон через реку? И не того, что немцы угомонятся, ведь если даже на недалеком берегу им перегревшиеся стволы остудить понадобится («Всего двести метров, ребята, один бросок — и были бы мы там…») — то какую бы этот перерыв дал передышку? Допустим, получасовую. А до сумерек сколько осталось? В них спасение. Придется ждать, придется умирать терпеливо, пока не вспомнит о них ночь. Тогда можно будет на последних уцелевших лодках отвалить от острова и вернуться туда, откуда пришли. Они видят свой берег. Не так отчетливо, как немецкий, но видят. «Выдюжим, сынок, верно? Ночка настанет, и мы поплывем». Именно теперь пришла пора студить перегревшиеся стволы или обедать, либо какой-нибудь расчетливый немецкий офицер приказал: прекратить огонь, боеприпасов жаль, там, на острове, никто не уцелел. Уцелели. Внезапная тишина. Прильнувшие к земле тела расслабляются. Надо проверить ноги. Левую. Правую. Руки надо опробовать. Перед глазами пять перепачканных глиной пальцев. И каждый палец жив. И обязан это удостоверить, кое-как пошевелившись. Припавшие к земле тела не расслабляются. Желтые, синие пальцы жадно впились в землю. Уже не оторвутся от нее. «Юзефа в клочки разнесло, пан сержант». — «Санитар, давай побыстрее сюда, а то капрал окончательно кровью истечет». — «Болдаку, гражданин сержант, в кадык попало, у самого берега лежит, хлестало из него не приведи господи». Считают. Сперва живых, потом убитых, затем боеприпасы. Убитых слишком много, живых слишком мало, боеприпасов почти вовсе нет. А счет еще не закрыт. Молодой Рутяк подносит патроны. Берут у мертвых, отдают живым. Поручик Заремба говорит сержанту Мрочко: «Они хотят нас в воду столкнуть и шпарить как по уткам. Кто выживет, тот выживет, но уцелеть можно лишь на острове. Передай это во взвода. Чтобы никто со страху не лез в воду». Передать во взвода? Ищи, брат, здесь взвода. Каждый искал свою ямку, свои шансы выжить и своей смерти. Самостоятельно. Во взвода? Зачем? Все знают то же, что и поручик Заремба. По крайней мере то же самое чувствуют. По крайней мере знают: кто выживет, тот выживет, сумерки — единственное спасение. Тогда не придется нас в воду сталкивать, сами столкнемся. И этот обратный путь на берег, где мы успели пустить корни, будет вдвое короче. Страх нас погонит, ибо не всякая смерть одинакова. Даже на войне. А хуже всего умирать, когда нельзя напоследок хотя бы зубы показать фрицам или хотя бы зарычать — кто услышит, кому это нужно? Старый Рутяк помогает санитару из первой роты. Еще тихо, неизвестно, надолго ли, с невысокого бугра тащат раненого, еще тихо, с середины острова на самый берег. Здесь, на восточной стороне, безопаснее, вернее, относительно безопаснее. Сколько еще будет этой тишины… Раненый руку протянет, если дотянется, воды коснется, а потом мокрые пальцы в рот, обсасывать их будет, если дотянется. «Повезло тебе, браток, так и не сетуй, вошла пуля без твоей помощи и вышла подобным способом, вытаскивать не надо, значит, и плакать нечего. Присохнет как на собаке. Думаешь, меня ни разу не шарахнуло? Хуже, чем тебе, доставалось, уж ангелочки мне допрос учиняли, а вот видишь, браток, стою перед тобой живой и здоровый». Возвращаются старый Рутяк с санитаром, переворачивают тех, кто лежит ничком, точно боль или крик последний хотели телом своим в эту болотину, где почти ни травинки, вдавить. «Закрой ему, бедолаге, глаза, чтобы солнышко не докучало». Сколько им даровано тишины? Минуты тянутся одна за другой, а будто топчутся на месте. «Положи его поудобнее, долгонько прождет своей могилки». — «Ему и так удобно». — «Много ты, медицина, понимаешь. Может, о жизни чуток имеешь понятие, а что касается смерти, то даже мне, хоть годков на тридцать тебя постарше, многое невдомек. Тот, которого мы на берегу оставили, до вечера не дотянет. В глазах у него жизни не было. Как же нас измолотили, боже милостивый!» Немцы нарушили тишину, когда Рутяк тащил к берегу молоденького солдата с оторванной по локоть рукой. Санитар двумя бинтами культю обмотал, но кровь оказалась сильнее и пробивалась сквозь повязку, на волю. Остров снова колыхался от разрывов, точно вот-вот готов был скрыться под водой. Рутяк положил раненого под каким-то хилым кустиком и шмыгнул в ячейку. Ткнулся лицом в землю и принялся выкрикивать, давясь мокрым песком: «Чтоб ваши матери и жены до скончания века были бесплодны, чтоб земля-кормилица для вас в прах обратилась, гады, ишь герои какие, когда мы точно в западне!» — кричал Рутяк, но никто его в этой огненной буре не слышал, и, пожалуй, он сам себя не слышал, потому что вдруг умолк. Поднял голову, и тут же разорвавшийся поблизости снаряд залепил ему лицо ошметками грязи. Он протер глаза, подполз к тому месту, где лежал раненый, и перетащил его в свою ячейку. Не было здесь ни удобнее, ни безопаснее, но Рутяк, уступая раненому свой вроде бы окоп, хотел себе, а может, и не только себе, доказать, что с него хватит, то есть что он уже ничего не боится. Старик сидел возле раненого, выпрямившись и положив руку на его влажный лоб, и бесстрастно взирал на медленную агонию острова. Потом снова была пауза. Подполз к отцу молодой Рутяк. «Даешь им прикурить?» — спросил отец, отвинчивая колпачок фляги с остатками кофе. «Как положено, — ответил сын. — Пулеметчика убило, и я все время работал на его машинке». «Все время?» — переспросил старик. «До последней ленты работал, а теперь только свистеть могу». — «Мы еще и свистнем, сынок. Повезло тебе, что ты вовремя в третий батальон прибыл». А справедливо ли это? Это самое? Просил я низшее и высшее начальство, чтобы сына в наш взвод перевели. Просил четыре месяца, и всегда что-то мешало. Почему же, к примеру, вчера ничто моему сыну не преградило дорогу? Могли бы его задержать хотя бы дня на два или на денек, и не попал бы он на остров. Старый Рутяк взял раненого за ноги, молодой Рутяк подхватил его под мышки. И снова, пользуясь затишьем, пошли они на восточный берег, раненый окончательно сомлел, повязка на культе багрово-черная, черна земля под ногами, тридцать шагов, увязая по щиколотку в грязи, шли. Не было никакой уверенности, что даже для здоровых и целых хватит вечером лодок. Однако несли. Была уверенность, что нельзя иначе, что раненых надо подтащить поближе к берегу. Пусть знают, что о них заботятся. Хоть это. Так говорил Мрочко еще до того… «Продержимся до вечера, сержант?» — «Кто-то продержится». Он не продержался. Срезало его, когда шел с восточного берега на середину острова, на невысокий пригорок, где стояли три пулемета, из которых только один мог еще стрелять. Подбежал старый Рутяк: «Сержант, господи Иисусе, столько прошли вместе — и теперь? И здесь?» Мрочко что-то хотел ответить, но только шевелил губами. Значит, только себе ответил. Это тоже считается. Он смотрел на Рутяка, и взгляд его смягчался, глаза застилала пелена. Умирал он быстро, без проволочки, как бы стыдился, что именно в такую минуту покидает батальон.
4
Рутяк очнулся, когда они преодолели уже полпути. Разведали боем, что требовалось разведать. Частично и ценой жизней разведали. Звезд еще не было, но уже стемнело. Рутяк медленно и как бы боязливо открыл глаза и с минуту прислушивался к громкому сопению гребцов. Хотел поднять голову, но нестерпимая боль обрушилась на него и крепко прижала к днищу лодки. Из густого мрака, откуда они удирали, доносились разрывы одиночных снарядов. Потом рассыпалась звездами белая ракета, и в лодке кто-то крикнул: «Налегай на весла, ни черта они нам уже не сделают!» Рутяк, превозмогая боль, узнавал окружающий мир. Помаленьку возвращался из небытия, пока наконец не вернулся. И тогда крикнул истошным голосом, даже гребцы на секунду замерли: «Где Владек?» Над ним склонился капрал Юзефацкий и произнес усталым, бесстрастным голосом: «Спокойно, старина, все будет по-человечески. Ведь мы вернемся на остров, не оставим Владека без могилки».
Перевод М. Игнатова.
ИЗ ДНЕВНИКА ПОДХОРУНЖЕГО «ЧАПЛИ»
Операция началась при дурных предзнаменованиях. Сперва Кшистоф, который шел ко мне на явку, неожиданно попал в облаву. С этим известием прибежал Титус. Он матерился на чем свет стоит и свое донесение об этом трагическом случае перемежал подробностями кошмарного сна, который привиделся ему предыдущей ночью.
— Я так и знал, что-нибудь случится. Как только приснятся глисты, значит, жди беды.
— Ты говори по-человечески! — крикнул я, выведенный из себя. — Оставь меня со своими снами.
Титус вспылил.
— Нет, не оставлю. Ты к снам не цепляйся. Ты вообще малоинтеллигентный мужик, чтобы в них разбираться. Повторяю тебе еще раз, глисты всегда к несчастью, и спасибо, если все кончится сегодня на Кшистофе.
Я махнул рукой и вообще отвернулся от него.
— А ты как считаешь, — проговорил он, подходя ко мне поближе, — сегодня отменят нам операцию?
— Если бы они верили в сны, то тогда бы отменили, но мне сдается, что они там не верят, — сказал я ему.
Он промолчал в ответ на мою подковырку, поднялся со стула и принялся ходить большими шагами вокруг стола.
— Тогда кто пойдет вместо Кшистофа? — спросил он через минуту.
— Наверное, Петр. Он был в резерве, — ответил я.
— Не люблю ходить с Петром. Он у нас чересчур лихой герой. Все хочет решить одним наскоком. Я лично предпочитаю спокойных ребят, серьезных…
Мне не хотелось злиться, но нервы уже отказывали.
Я очень любил Кшистофа. Это он привел меня в подполье. Если бы не он, развозить мне бы сейчас мясо или табак и самым легальнейшим в генерал-губернаторстве способом обеспечивать бы свои потребности, как моральные, так и материальные. Потому что за это мне причитались и денежки, и признательность оголодавших патриотов, взыскующих своего килограмма мяса.
Петр пришел в последнюю минуту. Он ворвался, тяжело дыша, в комнату, обвел нас испытующим взором и лаконично сказал:
— Ну что, парни, надо делать дело. Я в твоем распоряжении. Мне его приканчивать или тебе?
— Ты заменяешь Кшистофа, — ответил я, — так что эта честь выпадает тебе. Ручонка-то не задрожит?
— Не валяй дурака, — сказал он, изображая на лице обиду. — Ты что, меня не знаешь или что?
— Начинается, — заворчал Титус, — подайте герою саблю.
Петр ответил на это не сразу. Он вытирал грязным платком потную шею, заинтересованно глядя на свои разбитые, годами не чищенные ботинки. Мы всегда его поддевали, что у него один платочек для лица и ботинок. С нашей стороны это была лишь шутка. Его ботинок никогда не касался платочек. Наконец он спрятал платок в карман и спокойнейшим образом сказал:
— Ах ты, бедняга Титусик. Тебе хочется быть солдатиком, а ты родился сапожником. Поэтому плетешь всякую ерунду и завидуешь чужой смелости.
Я знал, что только сейчас и начнется основополагающая дискуссия. Так случалось всякий раз, когда при Титусе произносили слово «смелость». Он жутко не любил этого слова. И страстно убеждал всех, что такое слово ничего не означает. Он говорил:
— Откуда вы знаете, боялся мужик или нет? Вообще, кто из нас не боится? Можно сказать: он владеет собой, он решительный, у него мгновенная реакция, но как только мы говорим: он смелый — мы как будто ничего не сказали. И ежели кто-нибудь отстреливается до последнего патрона, чтобы не попасть в руки немцев, то это делается не из-за какого-то там геройства. А может, человек верит, что в последнюю минуту что-либо произойдет и будет возможность убежать. Может, он и стреляет потому, что очень боится. Вообще, черт его знает почему, никто этого не отгадает.
Титус мог на вышеназванную тему говорить целыми часами. К сожалению, он редко находил заинтересованных слушателей. Петр оказался идеальным партнером.
Чтобы не мешать им, я вышел на кухню. Я все еще думал о Кшистофе. Меня раздражала болтовня Титуса и повышенный тон Петра. Кшистоф был им полной противоположностью. Он говорил неохотно, но в то же время мог прикрыть дискуссию одним словом.
Когда я вернулся в комнату, с дискуссией о смелости было уже покончено. Титус затягивался сигаретой и говорил следующее:
— Сновидение, брат ты мой, это чертовски сложная вещь. Надо уметь отгадывать сны.
Тут он взглянул на меня и засмущался. Петр не знал, что я уже имел с Титусом беседу на эту тему. Он сказал с усмешкой:
— Ты, наверное, много мяса жрешь на ночь, вот тебе и снится всякое свинство. Мне или не снится ничего, или красивые голые девочки. Может, ты знаешь, к чему снятся голые девочки?
— Я мог бы тебе сказать, но ведь ты шутишь, — ответил Титус.
— Неужели я сегодня ничего не услышу от вас поинтересней? Один треплется о глистах, другой о голых бабах, а потом заводят дуэтом о смелости.
— Теперь треплись ты, — лениво сказал Петр.
Я сел на колченогую табуретку.
— «Пятница» в это время бывает в доме один. Операция идеально проста. Мы заходим туда втроем. «Селедка» к нам присоединяется по пути и остается у ворот. Оружие берем на Рудской улице. Возвращаем около пекарни Шолла. Яся будет ждать в воротах.
— Это мы знаем, — нетерпеливо произнес Петр. — А если у него кто-нибудь окажется?
Я взглянул на Петра с интересом. Он не задавал таких вопросов никогда. Обычно прерывал словами: «Все ясно, к чему столько разговоров».
— Яся пойдет туда раньше нас. Информацию передаст «Селедке».
— А потом мы намылим шею этому недоумку, — порывисто сказал Титус. — У этого подонка будет легкая смерть. Скорей бы только…
Я их не узнавал. Петр тщательно взвешивает могущие быть неожиданности, а Титус горит нетерпением и еще грозится. Что с ними, черт возьми?
Когда нам уже надо было выходить, Петр подпер спиной дверь, загородив дорогу.
— Я хочу еще тебе, «Чапля», доложить, что мне дьявольски жалко мамашу «Пятницы». Она очень меня любит. Любила, — уточнил он. — Хотя любого сына, будь он священником или бандитом, каждая мать оплакивает одинаково. Ты только попробуй ей втолковать, что ее сынок понес заслуженное наказание.
— И никто ей объяснять не будет. Она сама должна знать, — сказал я неуверенно.
— Должна знать? — усмехнулся Петр, выходя в переднюю. — Она, даже когда узнает, ни за что не поверит.
— Ля-ля-ля, — пресек диспут Титус. — У героев угрызения совести?
Больше по дороге мы не разговаривали. Только в тот момент, когда связная передавала нам оружие, Петр как-то неестественно сказал:
— Простой кусочек железа, а действует как три успокоительных укола.
Все шло по плану. «Селедка» подал знак рукой. Мы вошли во двор. «Пятница» жил в собственном одноэтажном домишке.
Времени на вступительную часть не было. «Пятница» вжался в кожаное кресло. Он как-то жутко отупел. Вытянул ладонь в сторону Петра и закричал:
— Ты не скроешься, убийца! Тебя найдут на краю света! Тебя повесят, зарежут, тебя в газовую камеру!..
— О господи, какой он дурак, — бессмысленно сказал Титус.
Его слова были закончены сухим выстрелом. «Пятница» с усилием поднялся. Широкими, нервными движениями рук он загребал воздух.
— Прикончи, — прохрипел он с ненавистью. — Чего ты ждешь, подонок?
Петр стал стрелять без памяти, пока тот не свалился на пол.
— Конец, — сказал Петр и, вытащив платок, тяжелым движением вытер пот со лба.
Мы все стояли неподвижно, глядя друг на друга. Титус облизал губы.
— Пошли отсюда к черту, — сказал он истерически. — Похороны уже не наше дело.
Он первый вышел в переднюю. Остановился машинально перед большим зеркалом и некоторое время смотрел на свое отражение. В этот момент мы услышали условленный свист «Селедки».
— Что за холера, — забеспокоился Петр.
Мы застыли как статуи. Свист повторился. Я сунул руку в карман. Я знал, что должен на что-то решиться, что каждая потерянная секунда может оказаться роковой. Прежде чем я это понял, прошло, однако, слишком много секунд. За стеклянными дверями замелькал силуэт женщины. Скрежет поворачиваемого ключа показался мне громким, как грохот танковых гусениц.
Она приветливо поздоровалась с нами от порога:
— Вы уже уходите? А где Стефан? Сколько времени я тебя не видела, — обратилась она к Петру. — А вы, — это уже ко мне, — вы очень плохо выглядите. — Она говорила и говорила, раздеваясь в прихожей. — Стефек! — крикнула она в глубину дома.
Тогда Титус грубо выругался и вырвал из кармана пистолет. Она медленно оседала на пол, цепляясь руками за повешенное только что пальто. Мы выбежали на улицу.
— Я не мог иначе, — скулил Титус, — ты сам говорил, Петр, что она никогда не поверит в то, что мы за дело пристукнули этого подонка. Поняли? Так было надо. Только так. Она одна, а нас-то трое…
Мы тяжело дышали от усталости. Петр замедлил шаги.
— Она правда была способна на все, — прошептал он.
Я все еще молчал. И только когда Титус неожиданно сказал:
— А все же эти глисты…
Я заорал в бешенстве:
— Заткни хайло, идиот!
Перевод Л. Петрушевской.
ВКУС ПРЕКРАСНОЙ СМЕРТИ
Бывает такая тишина. Страшная тишина, от которой болят уши. Лучше всего об этом знает Сергей. Все легли спать и притворяются, что их сморил сон. А Сергей даже притворяться не может. Минуты расползаются по вонючим углам подвала. Если поднять голову, можно их заметить. Они похожи на откормленных тараканов, которые никуда не спешат.
В четвертом часу утра с соломенного тюфяка поднимется пан Леон. Он почешет свою волосатую грудь, протрет кулаком заспанные глаза и пойдет к дверям, стуча незастегнутыми сандалиями. Сегодня очередь пана Леона. В коридоре его ждет помятое ведро. Пан Леон побежит рысцой по тихой улице, которая отдыхает после вчерашнего налета, прячась, перебежит широкую, всю в воронках площадь и встанет в очередь у колодца.
За это время Сергей пересчитает в уме, сколько таких «водоносов» он проводил глазами вплоть до вечно отворенных, выкрашенных в желтое дверей.
Пошла третья неделя.
В понедельник ходил пан Шимон, органист, который перед безопасным походом за водой молится в полный голос, как будто его через секунду расстреляют.
Во вторник — портной Печка, тощий Печка, который всегда наводит скуку своими рассказами из времен первой мировой войны.
В среду пан Леон, извозчик. В тридцать девятом авиабомба убила у него коня. Голодные прохожие порубили Сивку на котлеты, а пан Леон сказал, что другого коня покупать не будет. Он мог бы купить, пару грошей отложил, но не купит. Кончился Сивка, кончилась и пролетка. Пан Леон смастерил себе велоколяску и ездил как рикша до первого августа, когда, вспугнутый внезапной стрельбой, бросил свой экипаж посреди улицы и пехтурой вернулся домой.
Четверг. В четверг воду носил Франек Качмарек. Он всегда просыпался слишком поздно, и, пока выбегал на улицу, с ближайшей баррикады уже доносились первые выстрелы. Франек носил солдатские сапоги, поношенный гражданский пиджак всегда подпоясывал новым офицерским ремнем. С первого дня восстания он собирался «в армию». Но решение откладывалось со дня на день, пока в один прекрасный момент, когда все уже над ним смеялись прямо в глаза, его не настигла случайная приблудная пуля прямо перед закрытыми на засов воротами дома. Похоронили Франека в самом углу крошечного двора. Пан Шимон сбил из двух досок крест и прочел молитву по усопшему, а портной Печка тут же спросил о деле:
— А кто будет в четверг ходить за водой?
Кандидатов было двое. Шестидесятилетний портье уже не существующего маленького отеля «Висла» и пан Колек, моложе его вполовину, известный в округе карманный вор. Его полная фамилия, принятая, кстати, и среди жителей улицы, звучала Граф де Колечек.
— Пусть ходит Граф, — сказал после краткого раздумья пан Леон.
Граф ждал возможного протеста жильцов. Однако все молчали, и молчание было сочтено знаком согласия.
— Теплой водки вам в мыльницу, — проворчал Граф де Колечек. — Я пойду, но это несправедливо, я пью воды меньше всех, по усам не течет.
Об этом разговоре и похоронах Франека Сергей узнал от пана Леона. Сергей мог только узнавать. Он не вставал с тюфяка. Он терпеливо ждал исхода своей дурацкой судьбы и жадно наблюдал за жизнью, хотя именно сейчас она была не слишком интересной и приятной даже для тех, кто не харкал кровью и не захлебывался кашлем при каждой попытке втянуть побольше воздуха в легкие.
Пятница. Единственный день на неделе, когда все пьют воду, принесенную женщиной.
— Это не женщина, — всегда поясняет пан Леон. — Это бой-баба.
Бой-баба взялась за дело добровольно, в связи с этим освободив от нагрузки своего мужа, когда-то хорошего адвоката, а ныне тощего, вечно небритого мужчину, три недели страдающего расстройством желудка и без протеста внимающего ядовитым тирадам супруги, которая крепким словцом старается пробудить в муже волю к жизни.
В субботу и в воскресенье воду приносит зубной техник Рафал Сморек. В субботу за себя, в воскресенье за зубного врача Котафальского, что оплачивает по постоянному, принятому обеими сторонами, тарифу: двадцать сигарет за один курс.
Вода. В настоящий момент это одна из немногих вещей, которые объединяют десяток людей, обитающих в подвале.
В первые дни восстания их объединял еще и энтузиазм, не слишком опасная болезнь человечества, легко излечимая.
Пан Леон принес несколько метров красного и белого полотна, а портной Печка шил знамя и рассказывал:
— Приходит ко мне капрал с вопросом: «Рядовой Печка, что бы вы сделали вот в такой вот ситуации. Хорунжий, раненный в грудь пулей врага, гибнет за родину. Знамя падает, враг стреляет часто, а вы стоите рядом?» И тогда я ему отвечаю: «Рядовой Печка грудью бы заслонил знамя, которое падает». — «И докуда?» — спрашивает опять капрал. — «Что докуда?» — «И докуда бы вы заслоняли?» — повторяет капрал. — «До последней капли крови», — отвечаю.
— Это продлилось бы недолго, — прерывает пан Леон. — Крови в вас, пан Леон, как в комаре.
Печка на момент прерывает вдевание нитки в иголку. Он поднимает свою маленькую руку и некоторое время смотрит на нее, прищурив глаза.
— Эти руки стоят больше целого ведра воды, — говорит он с пафосом. — Это руки художника. Если бы вы знали, кто у меня перед войной шил костюмы…
— А сейчас все дерьмо, — ворчит с некоторой досадой пан Леон. — Сейчас даже хоронят в том, в чем есть.
— Даже покойника, — поддакивает Печка и глуповато улыбается.
Бело-красный флаг надели на палку от швабры и водрузили на фронтальном балконе.
— Вы бы видели, — наклонился над Сергеем Шимон. — Люди шапки с голов поснимали — как в костеле. Такой красивый флаг, что плакать хочется.
Но через пару дней именно Шимон вызвал большой шум своим криком:
— Креста на вас нет! Вывесили флаг, а это может привлечь внимание летчиков. Они будут думать, что здесь командный пункт или что-то в этом роде. Повесьте его тут, у себя в подвале, чтобы никто не видал.
Поднялся крик. На него набросились со словами «Трус! Подозрительный элемент!» Но вечером кто-то убрал флаг с балкона. Утром все со вздохом облегчения восприняли этот факт и не стали доискиваться, кто это сделал.
То был первый день, когда болезнь под названием «энтузиазм» начала понемногу их покидать. Они еще не привыкли к этому. В разговорах деликатно избегали слов, которые некогда, еще неделю, еще день тому назад, заставляли их сердца учащенно биться. Понемногу сгущались тучи. И все это чувствовали.
Вечером они комментировали сводки с фронта, события последних часов. Сергей прикрывал глаза. Он сразу проваливался в глубокую, густую ночь. Эта тьма его душила, пугала, но только так слова собратьев доходили до него в виде чистых, понятных образов. У слов были определенные очертания, их можно было выучить на память. И он закрывал глаза и слушал. Зубной техник, Рафал Сморек, читал повстанческую газетку:
«…Варшавское восстание продолжается. Это, с одной стороны, вносит коррективы в задачи руководства, а с другой стороны, вызывает невольный вопрос: когда завершится трагедия героической Варшавы? Никто не сомневается, что она кончится победой, но каждый хотел бы знать, когда?»
— Вот именно, когда? Я спрашиваю: к о г д а? — не выдержал Шимон.
— Не прерывать! — крикнул дантист Котафальский. — Пан Сморек, будьте любезны, читайте дальше.
«Каждый день для нас — это выигрыш. Каждый день наши силы растут. Немцы с каждым днем тратят силы и теряют бодрость духа».
На этом месте даже уважение к Котафальскому не удержало общего возмущения. Сморека прервали руганью и криками, как будто он был во всем виноват.
Котафальский протестовал:
— Господа, восстание еще не закончено. Я верю, что оно закончится нашей победой.
— Чьей это нашей? — спрашивает Леон. — Кого вы тут накалываете? Я считаю, что все это уже не имеет никакого смысла.
— Я помню, что в первую мировую… — «Для Печки существует только та война», — думает Сергей. — Окружили нас в таком маленьком городке. Мы держали оборону до вечера, а потом поручик говорит: «Солдаты, не будем проливать кровь. Капитулируем!» Вот это была война. Умели побеждать. Умели капитулировать.
— На вас креста нет! — «И как этот Шимон мог петь в костеле? — думает Сергей. — Сколько я его помню, он всегда ходил охрипший». — Город горит как коробка спичек, во дворах растут кладбища, а они все свое: «Победим! Победим!»
Сергею хочется пить. Во рту терпкий вкус никотина, а ведь он не курит уже месяц. «Это вкус смерти, — думает он. — Самой скверной смерти, к которой надо привыкнуть. Понемногу, минута за минутой, день за днем. Сначала она невидима, ее нельзя коснуться, сначала она приходит только во сне. Только на миг. Потом забирает целые ночи. Она стоит над моим тюфяком, и когда все спят, можно услышать ее дыхание. Глубокое дыхание. Такое глубокое, что в подвале начинает недоставать воздуха. Я умирал ночами, и только дни были спокойны. Но меня мучил один и тот же вид красного потолка подвала, вид бледных людей, старающихся обходить меня издалека. Они боялись этой моей смерти. Они боялись и той, которая хозяйничает на улице, атакует город каждым выстрелом, но моей смерти они боялись больше. Тогда я закрывал глаза, и моя ночь удлинялась».
— Сергей, вы спите?
— Нет, не сплю. Я думаю.
Леон садится на покосившийся стул. Наклоняется над лежащим. «Один. Только он один подходит ко мне на расстояние дыхания».
— Сергей, я вам почитаю что-нибудь. Хотите?
— Последние известия?
— Нет. Немцы снова сбросили листовки. Все читают и не знают, что делать. Вы слушаете?
— Слушаю.
Минута тишины. Леон приглаживает пальцами помятый кусок желтой бумаги, близко подносит к глазам.
— «Руководствуясь человеческими чувствами, а также моей ответственностью перед общим для всех нас богом, я отдаю всем подразделениям, подчиняющимся мне в границах Варшавы, приказ, дабы 9 и 10 сентября от 6 до 8 утра была прекращена стрельба, чтобы дать гражданскому населению возможность безопасно покинуть город. От вас, члены АК, зависит, захотите ли вы в это время прекратить огонь, чтобы сберечь собственную польскую кровь, а кроме того, если вы сложите оружие, я гарантирую вам жизнь, работу и хлеб…»
— Вы им верите? — спрашивает Сергей.
— Мне х о т е л о с ь б ы им верить. Я всем этим уже сыт по горло. Я хочу отсюда выбраться. Иногда я думаю, что на свете еще есть луга, что на этих лугах растут цветы. Что можно лечь на пахучую траву и спать. А потом побежать на речку, хлопнуться лбом в холодную воду и вдосталь напиться, разбухнуть, как разбухает высушенный корешок. Ведь в эту минуту есть люди, которые наклоняют кружку и пьют воду. Целые литры воды.
— Мне хочется пить, — говорит Сергей. Его не смущает сознание, что сегодня он уже выпил свою порцию.
Леон тихо идет к ведру, стоящему на самом видном месте, на столе. Эмалированный кувшинчик брякнул о край.
— Не трогать воду! — кричит из угла Сморек.
— Полпорции для Сергея.
— Не трогать. Каждый уже свое получил.
— Заткнитесь, — говорит Леон. — Я отдам завтра из своей доли.
В подвале послышался шепот. Никто не поддерживает вслух Сморека, никто не защищает Леона, но одно точно: каждый в этот момент чувствует вкус воды на губах.
Сергей касается пальцами холодной кружки, поднимает голову и жадно пьет.
— Понемножку, — говорит Леон. — Надо пить понемножку. Только тогда можно почувствовать вкус…
«Почему именно этот человек опекает меня? Именно он, которому за столько лет, живя с ним в одном доме, я не оказал ни единой услуги. Я даже с ним не разговаривал. Относился к нему равнодушно, даже презрительно. Не любил его, хотя у меня не было к этому никаких причин. Сморек целый год занимал у меня деньги. Проскальзывал в комнату и рассказывал о своих несчастьях. И умел плакать, когда плач был ему нужен».
— Вам тяжело? — Леон смотрит на дно пустой кружки.
— Сейчас нет. Я уже привык. И знаю, что это должно произойти, оно приближается, оно придет. Ко всему можно привыкнуть, даже к собственной смерти.
— Нас всех это ждет. Не сегодня, так завтра, — говорит без убеждения Леон и смотрит на кружку.
«Они знают много о моей жизни. Мы столько лет жили в одном доме. Карабкались по одной лестнице. Заглядывали друг к другу в кастрюли. Но они не видят одного. Глядят на меня с интересом из своих углов. Думают, сегодня я умру или завтра. Но они не знают моих мыслей. Тех, которых я сам боюсь, которых избегаю. Восстание. Для меня это был последний шанс. Не для них. Для меня. Я ждал его с большим нетерпением, чем сейчас они ждут капитуляции. Это, пожалуй, не цинизм, а если это и так, только я смогу его проглотить. Только я знаю его вкус. Я никого им не отравляю. Ни с кем им не делюсь.
Когда я уже знал, что должен умереть, что мне уже не выбраться, я хотел увидеть еще одну вещь. Я хотел дождаться именно той минуты, когда прозвучат выстрелы. Ведь мы все этого ждали. Долго ждали. Слишком долго и слишком терпеливо, чтобы умереть за секунду перед этой большой игрой».
— Как вы мне посоветуете? Поверить этому фон Баху или подождать, пока нас всех тут зажарят? — Леон минуту ждет ответа, а потом нервно взывает: — Как вы мне посоветуете? Почему вы мне не отвечаете…
«Понемногу падает занавес. Сейчас он отделит его от тех, которые еще не сыграли своей пьесы до конца. Он уже по другую сторону сцены, около выхода, куда уходят усталые актеры. Скоро наступит финал этой малоинтересной пьесы. Скоро… это когда? Завтра? Через неделю? Леон и все остальные, которые сквозь прищуренные веки наверняка сейчас смотрят на ведро с последним литром воды, выйдут ли они на зеленые луга? Успеют ли?
Сейчас несомненно лишь одно, что они переживут меня на те два часа, за которые можно успеть выкопать неглубокую яму и спрятать меня в ней. Спрятать от всего того, что их еще ждет. Два часа… если бы это все должно было предстать передо мной. И эти первые выстрелы, и эти несколько недель смерти… Я хотел бы прожить еще два часа. Я хотел бы дожить… Не до тех недель, которые мне подарили мои легкие, а до тех первых выстрелов. Это хорошо, что умираю вовремя, что я не умер на два часа раньше… А потом они… по зеленым лугам… где растут цветы… где пахнет трава… Где? Где?»
Печка встает первый. Он идет к Леону, осторожно, потихоньку, как бы боясь кого-то разбудить. Но он не разбудил никого. Все встали с сенников. Все смотрят в тот угол, который утром будет уже пуст. Печка наклоняется над Сергеем. Касается его руки — раз, другой.
— Не будьте идиотом, — говорит Леон. — Вы что, не верите?
— Все может быть, — ворчит Печка.
Он смотрит на недвижное тело Сергея и медленно возвращается на свой тюфяк.
Но прежде чем лечь, ткнул пальцем в тот угол и сказал монотонно, но без пафоса:
— Счастливчик. Какая прекрасная смерть.
— Вы ему позавидовали? — крикнул Леон. — Позавидовали? — повторил он.
Но Печка не ответил.
Перевод Л. Петрушевской.
ДРУЗЬЯ ОЖИДАЮТ РАФАЛА
Губерт вошел в комнату вслед за пожилой женщиной.
— Он здесь лежит, — сказал она и с явной неохотой вернулась в кухню.
Комнатка была маленькой и темной. Окно, занавешенное грязной, желтой тканью, давало ровно столько света, чтобы можно было различить очертания мебели. Кровать стояла у окна.
Губерт пошел туда. Заскрипел пол, и Губерт услышал голос Рафала:
— Кто это?
— Это я, Губерт.
— Губерт? — В голосе лежащего радость смешалась с недоверием. — Садись, дорогой. Сюда, рядом со мной.
Глаза постепенно привыкали к темноте. Стал виден Рафал, пытающийся сесть в кровати.
— Лежи, — сказал Губерт. — Лежи. И не мучайся. Ты должен как можно скорее поправиться.
— Для чего? — спросил Рафал. — Для чего? — повторил он вызывающе.
— Как для чего? Ты что, не хочешь к нам вернуться? Ты уже обо всем забыл? — Губерт пытался говорить спокойно, но у него эта не получалось.
Рафал молчал, и его молчание усиливало недобрую, болезненную тишину.
— Как ты себя чувствуешь? — Губерт пытался заново начать разговор.
— Как видишь. Говорить я еще могу. Ты знаешь, самое смешное для больного, когда он слышит, как врач сулит быстрое выздоровление. Единственный забавный момент этой довольно печальной истории. Но врачи не умеют хорошо врать, а может, им кажется, что такого больного, как я, который ждет самого малого утешения, можно успокоить любой ерундой. Ладно, обещаю, что о себе я больше не скажу ни слова. Теперь говори ты. Я хочу знать все…
Губерт знал, что при этом разговоре должны быть произнесены именно такие слова, и всю свою долгую дорогу готовился к ответу. Но сейчас он чувствовал свое бессилие. Имел ли он право что-то утаивать от Рафала? Ведь с его именем были связаны все самые крупные операции, когда его вынесли из-под обстрела на окровавленном одеяле, то в тот момент казалось, будто в могучем мосту рухнул целый пролет…
— Губерт?
— Да…
— Губерт, когда ты будешь уходить, я дам тебе маленькое письмо к маме. Я тут накарябал ей пару строк о себе. Тебе не нужно будет ничего говорить…
— Хорошо, я передам. Скоро, кстати, ты сам ее навестишь.
— Не будь ребенком. Я сам лучше всех знаю, что из этого мне не выбраться. К тому же мы условились обо мне не говорить.
— Ладно, я расскажу тебе о ребятах. Они очень хотели тебя увидеть.
— Увидят, — сказал Рафал и тихо засмеялся.
— Чего ты смеешься?
— Значит, я увижу ребят. Что в этом странного?
— Когда я уходил, «Волк» сказал, что у него есть для тебя новенький «бергманн». Он его добыл в последней операции и бережет для тебя.
— Что это за операция?
— Красивая операция. Ты бы видел! Целый отряд шел как на маневры. А потом нас провожала такая прекрасная луна, глаз нельзя было оторвать. Когда вернулись, Зимек как всегда напился и начал читать свои стихи. В одном даже написал о тебе. Я не помню содержания, но ребятам очень понравилось. Просили, чтобы он прочел еще раз.
— А Ванда?
— Ванда… Она все время говорит о тебе. Просто надоело. Все ее разговоры начинаются так: «Когда Рафал поправится, то…» Кароль отхватил для нее модный свитер. Никто не знает где, зато Ванда в нем такая красивая.
— Новенькие есть?
— Двое. Одному вроде лет семнадцать, но такой ушлый, что «Волк» несколько раз песочил его за разные глупые выходки. Как-то без приказа отправился в деревню, в которой стояли немцы, и приволок в отряд винтовки, патронташ и сапоги.
— Расскажи еще что-нибудь о Ванде…
— Я ведь уже говорил. Ждет твоего возвращения.
— Это я слышал.
— Она хотела передать со мной тебе письмо, но потом раздумала. «Когда он вернется, — сказала она, — я ему все сама расскажу». Все завидуют, что у тебя такая девчонка.
— Когда ты вернешься туда?
— Когда вернусь туда? Хотелось бы поскорей. Ты знаешь, что это такое, один день без них. Это как будто тебе поотрезали руки и ноги…
— Я знаю, не говори ничего. Губерт, прежде чем я пришел к «Волку», мне пришлось побывать в других местах, но такой отряд попадается один на тысячу. Я мог бы там быть до конца всех событий.
— Еще будешь…
— Вот тебе письмо… Передай матери и ничего не говори. Ты всегда любил понарассказать лишнего.
— До свиданья, Рафал…
— Держись, старик. Мы еще встретимся?
— Не болтай ерунды. Мы выскакивали и не из таких переплетов, как твоя рана. Помнишь Кароля? Мы ему уже крест стругали, а он через два месяца пошел на свиданку.
— У него тоже была красивая девушка…
— Была и есть. Когда бы ни проходили мимо этой деревни, он всегда норовит забежать к ней хоть на минуту.
Губерт держался за ручку двери. Он нажал ее только тогда, когда в комнате воцарилась тишина, не нарушаемая голосом Рафала.
Старая женщина сидела на широкой лавке. Дремала. Он потряс ее за плечо. Она открыла глаза и посмотрела на него испуганным взглядом, будто он вырвал ее из страшного сна.
— Ну, я пошел, — сказал он.
— Вы знаете, дела-то у него плохи. — Она показала пальцем на дверь комнаты. — Вчера был врач и только качал головой. Теперь остается дни считать. А когда пришло известие, что вас всех в Ольшине…
— Он знает?! — крикнул Губерт.
— Конечно, знает. Он все знает. Тот, другой, который тоже спасся, приходил сюда вчера. Тоже был ранен. И принес Рафалу небольшой сверточек. Я попозже заглянула, увидела там какой-то платок бабий и фотографии молодой женщины. Это известие совсем прибило Рафала. А вы о чем с ним говорили, почему такие странные вопросы задаете?
Перевод Л. Петрушевской.
НЕМНОЖКО О ГОСПОДЕ БОГЕ, НЕМНОЖКО О ТОВАРИЩЕ МАЕВСКОМ
Я хорошо помню эту историю, ибо произошла она именно в тот день, когда должно было состояться освящение нашего алтаря. Ксендза мы привели издалека, с улицы Гданьской, из того маленького костела, где по воскресеньям бывала такая же давка, как в трамвае перед комендантским часом. Ксендз, совсем дряхлый старик, едва плелся, а мы рассказывали ему о нашем алтаре. Шепотом. Забывая о том, что находимся не в костеле или ризнице, а на одной из улиц оккупированной Варшавы. Вот мы и говорили, перебивая друг друга, а ксендз, возможно, даже не понимал нашей возбужденной болтовни: «Столик, на котором стоит распятие, пожертвовала пани Молейкова, а распятие, которое стоит на столике, пожертвовал пан Ковалик, инвалид первой мировой войны, малость глуховатый, но примерный христианин, а четыре подсвечника накладного серебра принесла жена парикмахера, а вазы мы купили на собственные деньги, выручку от проданных яблок, целую неделю воровали, но это, должно быть, не грех, ведь мы хотели, чтобы наш алтарь выглядел прилично, а цветы принесла пани Шленская из своего сада, принесла, хотя всем известно, какая она скупая, а коврик пожертвовал домохозяин пан Розенфельд, и теперь наш алтарь — загляденье, сейчас увидите сами, святой отец, и помещается этот алтарь в беседке, которая стоит посреди двора».
Таким манером развлекая ксендза до самой нашей улицы Марии Казимеры, мы привели его в наш двор, где собралось уже порядочно народу. Ксендз был встречен весьма сердечно, а Молейкова приложилась к его ручке и громко провозгласила как бы от имени всех жильцов: «Слава Иисусу Христу, приветствуем вас, досточтимый отец, и просим освятить наш алтарь, чтобы мы могли каждый вечер возносить мольбы господу богу». Ксендз возложил руку на плечо Молейковой и долго молчал, а все начали беспокоиться, ответит ли он вообще на это приветствие. Ибо отдавали себе отчет в том, что наш алтарь возник одним из последних на улице Марии Казимеры, если вообще не на всем Маримонте. Во всех соседних дворах уже месяцами раздавались по вечерам литании и боговдохновенные песнопения. Так, может, ксендз сердит на нас за то, что мы долго не приобщались к этим христолюбивым и как-никак национальным обрядам. Но наконец послышался голос ксендза, и все вздохнули с облегчением. Ксендз зажмурился, словно желая получше сосредоточиться, и изрек нижеследующее: «Я радуюсь, дети мои, что в эти тяжкие времена вы не забыли о боге. Бог тоже вас не забудет. Помните: ныне нам, как никогда прежде, необходима глубокая вера, чтобы противустать всему, что жестоко, богопротивно и тешит сатану. Так ведите же меня к своему алтарю».
И все направились к беседке, убранной цветами и зеленью, как по случаю великого праздника. Но лишь немногие смогли войти в нее. И вошли в беседку только наиболее отличившиеся при воздвижении алтаря. А именно: Молейкова и парикмахер с супругой, домохозяин со всем семейством, Ковалик, Шленская со своей единственной дочерью, бледнолицей и прекрасной Лидкой, наряженной, как для первого причастия, в белое платье, и еще несколько персон. Зажгли свечи, а ксендз уселся на стул, услужливо пододвинутый Коваликом, чтобы немного передохнуть, поскольку шел ему, пожалуй, восьмой десяток и его основательно измотало путешествие с Гданьской на улицу Марии Казимеры. Молейкова воспользовалась моментом, чтобы поправить цветы в вазах, а Шленская толкнула Лидку в спину, и та живо преклонила колени пред алтарем. Те, что не попали в беседку, начали проталкиваться вперед, каждый хотел оказаться поближе к алтарю и увидеть собственными глазами, как ксендз будет махать кропилом. «Не пихаться, бога ради, — воскликнула Шленская, — ведь это же святое место». — «Пока не святое, освящения ведь еще не было», — возразил ей кто-то довольно невежливо, и люди продолжали напирать все сильнее.
Ксендз дышал тяжело, поскольку в беседке была такая давка, что даже у младшей дочки домохозяина засверкали на лбу капли пота. Тут хозяин тоже разнервничался и крикнул, повернувшись спиной к алтарю: «Или мы пришли сюда молиться, или мы пришли на базар?» Никто ему на этот вопрос конкретно не ответил, но те, что были во дворе, не переставали протискиваться в беседку. Тогда Ковалик наклонился к ксендзу и шепнул: «Начинайте, отец, с богом, иначе нас тут всех начисто затопчут». Ксендз, видимо, придерживался того же мнения. Он встал со стула, подошел к алтарю и опустился на колени рядом с Лидкой, глаза которой были закрыты, и выглядела она как взаправдашняя святая. Все вдруг притихли: ведь наступал самый важный момент.
Именно тогда, в этой благоговейной тишине, вместо долгожданного голоса ксендза раздался голос Метека Сковронека, разносчика газет, которого воспитывала бабушка, а говоря по правде, так вовсе не бабушка, попросту улица. «Глядите, глядите, что я тут нашел за доской!» — орал Метек, и те, что стояли поближе, увидели у него в кулаке какие-то скомканные бумажонки. «Заткнись, щенок, не греши в такую минуту», — сказала Молейкова, и кое-кто даже поддержал ее, но другие, особенно не попавшие в беседку, принялись кричать: «Чего ты нашел? Что там у тебя? Какие это газетки? Дай, покажи, прочти!» Метек до того разохотился и пришел в такой раж из-за своего открытия, что напрочь забыл, где находится и вообще чего ради оказался здесь. Он разгладил мятые странички и начал читать: «Польская рабочая партия является единственной партией, стоящей за бескомпромиссную борьбу с гитлеровскими убийцами польского народа. Польская рабочая партия борется за сильную, независимую и суверенную Польшу, борется за Польшу демократическую, за социальные и экономические преобразования…» Ксендз, еще коленопреклоненный, уже пытался встать. Шленская завопила: «Святотатство! Перестань читать, это коммунистическая листовка». Молейкова бросилась к алтарю и погасила свечи, очевидно полагая, что без горящих свечей алтарь несколько утратит свою значительность, а тогда и грех, совершенный Метеком, тоже соответственно чуточку уменьшится. А Метек читал дальше: «Польская рабочая партия стремится к установлению добрососедских и союзнических отношений с СССР, а также искренних отношений со всеми государствами, которые сражаются с нашим смертельным врагом — Германией». Ксендз проталкивался к выходу, хоть Шленская и пыталась задержать его, вцепившись в сутану. «Я пришел к вам не на коммунистический митинг, дети мои, — шептал ксендз с самыми настоящими слезами на глазах, — я пришел к вам со словом божьим». А за его спиной Метек продолжал драть глотку: «Польская рабочая партия стремится к объединению всех сил польской демократии», пока кто-то не заткнул ему рот и не воцарилась тишина, как в настоящем костеле, хотя беседка отнюдь не была костелом, а ксендз давно уже выбежал во двор.
С этого момента наш дом обрел громкую славу. Даже на Потоцкой, на улице Клаудины и на улице Камедулов передавали из уст в уста историю с пепеэровскими листовками. А наш алтарь был освящен только месяц спустя. Другим ксендзом. Так что и мы могли петь по вечерам перед собственным алтарем «Кто господу себя препоручает» и, распевая, часто думали: кто прятал эти листовки в беседке? Так раздумывали мы вплоть до июня 1944 года, ибо во второй половине июня снова были расклеены красные объявления. Я шел в тот день с Метеком Сковронеком на площадь Вильсона, и мы остановились возле извещения, которое начиналось дословно так: «За время с 1 по 15.6.1944 г. в Варшаве снова были осуществлены бесчестные и подлые нападения на немцев и находящихся на германской службе лиц, при этом несколько немцев и находящихся на германской службе поляков было убито либо тяжело ранено. Все эти преступления гнусно и вероломно совершили коммунисты либо лица, с ними связанные. В связи с этим 16.6.1944 г. нижеследующие 75 коммунистов приговорены чрезвычайным судом полиции безопасности к смертной казни за политические преступления, совершенные в интересах Москвы…» Теперь мы читали неторопливо, словно хотели эти фамилии заучить наизусть. Мы читали, читали, а рядом с нами читали этот длинный список другие люди. И вдруг Метек воскликнул: «Гляди, расстреляли нашего Маевского». И ткнул пальцем в еще мокрый от клея лист. «Вот, вот наш Маевский, о господи, такой мировой мужик… такой мировой мужик, а коммунист». Мы не пошли на площадь Вильсона, бегом вернулись домой и сразу же всем рассказали, что Маевский расстрелян и в извещении написано, что он действовал в пользу Москвы, а значит, в пользу пепеэр. Маевский жил в нашем доме один, и никто не знал его родни, якобы находившейся в Радоме. Человек он был очень спокойный и вежливый. Ни с кем в доме не ссорился и ни капельки не походил на тех, кого нам расписывали коммунистами. Ковалик даже заявил во всеуслышание: «Я этого совершенно не могу понять, Маевский — коммунист? Ведь он никого не агитировал, никому не рассказывал ни о Москве, ни о Сталине, ни о Красной Армии». Но в красном объявлении было ясно написано, что Маевский коммунист, а Шленской вдруг вспомнилось, что она видела однажды, как Маевский крадучись пробирался в беседку, и все дружно заговорили: «Да, эти листовки наверняка принадлежали ему. Наверняка он их прятал…» Когда в феврале 1945 года я вернулся в Варшаву, то сразу пошел на улицу Марии Казимеры поздороваться со своим домом. Но дома не было. От него осталось лишь немного щебня да кирпича. Я огляделся вокруг и заметил беседку. Удивительное дело. Сгорели все соседние дома, а беседка осталась невредима. Стояла на своем месте, точно на этой улице и на этом дворе ничего не случилось. Я неторопливо направился к ней, поскольку мне некуда было спешить. Подошел к беседке и увидел могилу. Такую маленькую, почти вровень с землей, но с крестом и деревянной дощечкой. Надпись расплылась, и я наклонился пониже, чтобы прочесть: «Мечислав Сковронек, 16 лет, харцер». В ту пору я уже разучился давать волю чувствам, ибо подобные кресты были для меня нормальной вещью. Даже сердце не забилось сильней, только как-то обыкновенно подумал о Метеке, о всяких его пустых и толковых затеях. И когда вот эдак размышлял, то мне вдруг припомнилось, что именно Метек нашел в этой беседке пепеэровские листовки, которых ксендз не пожелал освятить. Я заглянул в беседку. Она была пуста, от освященного алтаря не осталось и следа. Вот там была Лидка в белом платьице, рядом коленопреклоненный ксендз, а здесь прижатый к стене Метек читал листовки. Кто их тут спрятал, действительно ли Маевский? О Метеке я могу кое-что рассказать. Он был, что называется, свой в доску. А вот о Маевском не могу сказать ни слова. Видал его несколько раз, кланялся ему, поскольку был приучен кланяться старшим. А позже читал красное извещение. И в нем значился Маевский. И это все. Если бы не могила Метека, я, пожалуй, и не вспомнил бы, что жил такой человек, который где-то сражался, за что-то погиб. И его-то могилу никому не найти, даже днем с огнем.
Перевод М. Игнатова.
ПАН МЕТЯ
Мы очень любили пана Метю. Пан Метя был не абы кто. И характер твердый, как дубовое полено, и фантазия не хуже, чем у стародавнего автора Жюля Верна, который когда-то навалял такие книги, как «Путешествие на воздушном шаре к полюсу» и «80 дней вокруг света», а также еще несколько таких же. Пан Метя этих книжек не читал и мог даже безо всякого стыда похвастаться: не читал. Ни этих, ни других. И, принимая во внимание его жизненные передряги, будет совершенно правильно, что на все описанные в книгах чудеса он мог махнуть рукой. Правда, только одной рукой, но мог. И зачем ему были всякие описания разных литераторов, если у него у самого жизнь сложилась такая, что ее хватило бы на сто книг. И еще каких.
Мы любили нашего пана Метю. Ни один пацан во всей округе, начиная от трамвайного депо и кончая кладбищем, никогда не сказал ему плохого слова. Мы уважали нашего пана Метю… нет, не за то, что он был уже старый мужик, а мы были перед ним сопляки. Не каждый старый мужик заслуживает уважения. И не потому мы всегда говорили: доброго здоровья, пан Метя, — что он был калека. У него не было одной руки. Правой. Но калека калеке рознь. Есть такие, которым должны платить чистым золотом за потерянную где-то на белом свете руку или ногу. И есть такие, которым бы люди охотно крикнули прямо в харю: получил свое, вонючее ты дерьмо, господь бог знал, кому лапу оторвать!
Пан Метя был героем. Самым настоящим под солнцем и всеми звездами. Когда наступали серые деньки и нас охватывала великая скука, мы толпой шли к пану Мете. Он обитал в маленькой комнатенке на пятом этаже. И бедность у него была, как у настоящего героя. Шкаф, койка, три стула и колченогий стол. Пан Метя в шутку говорил, что это стол-калека и что калека к калеке липнет. Чаще всего мы приходили туда вчетвером: «Ангел», «Крапчатый», «Шнапс» и я. Меньше всего радости было от «Шнапса». Это был жутко ограниченный малый, и даже когда пан Метя рассказывал самые смешные случаи, этот «Шнапс» смотрел на него бездумно, как на обыкновенного человека. Но, правда, «Шнапс» часто приносил с собой поллитровку «родимой», поэтому мы и брали его с собой на тот пятый этаж. Хотя, правду говоря, это была профанация или даже еще хуже. Другое дело «Ангел». «Ангел» был безотцовским сыном, то есть он своего старика и в глаза не видел. Когда-то мать рассказывала «Ангелу» — то ли на нее откровенность нашла, то ли, может быть, злоба, — что этот его папаня, он какой-то бесстыжий редактор или кто-то еще в таком же духе, то есть кто-то пишущий. Может, она соврала, чтобы похвастаться? Но что-то в этом должно было быть, поскольку «Ангел» был малый не без таланта и этот талант он же должен был от кого-то ухватить. А мать у него была глупая, как четыре ножки от стола, вместе взятые. Раньше вроде бы она была красивая курочка, и это было все ее богатство. А с красотою люди живут очень недолго, о чем все бабы должны знать. Особенно те, которые показывают по улицам свои хорошенькие мордашки и ведут себя так, будто бы они все время находятся на выставке. Стало быть, как я уже сказал, у «Ангела» был сильно развитый кумпол. Он лучше всех рассказывал фильмы… так здорово, что уже и не надо было на них ходить. Он еще и стишки писал. Сначала любовные, а потом стал рифмовать и на другие темы. Пока я ему не сказал, что за такие рифмы можно схлопотать по кумполу и будет гораздо лучше и полезней для всех, если мы организуем налет на киоск или даже на приличный магазинчик. И «Ангел» после того нашего разговора прекратил писать свои стишки, это и доказывает, что у него светлая голова. Что в этой голове все стоит на своем месте. «Крапчатый» был середнячком. Если ум в нашей стране оценивается в две тысячи злотых ежемесячно и если за «Шнапса» я бы не дал и ломаного гроша, то ум «Крапчатого» я бы оценил в одну тысячу злотых с мелочью. То есть ни высоко, ни низко. У «Крапчатого» были свои плюсы, но и минусы давали ему прикурить. Но самое плохое было то, что он готов был продать самого лучшего друга за любую задрипанную юбку. Он бегал за девками с утра до вечера. Сбрызнет свою грязную рубашку тройным одеколоном — и отправляется крутить романы. Это вовсе не означает, что я избегаю девиц. Но все должно быть в свое время. А для «Крапчатого» время было только в такой цене, какую имела следующая его девица. Это кто-то ему натрепал, что если он хочет иметь хорошую кожу на лице, а была она у него такая, что не дай боже, то он должен получать лечение от таких девиц, которые потеют, стоит только мужику к ней прикоснуться. Вот он и искал таких девиц. И постоянно сокрушался, что их в мире все меньше и меньше.
О своих достоинствах я упоминать не буду. Хвалиться не люблю, а в таком случае пришлось бы говорить одни комплименты. Так что я вернусь к нашему пану Мете, нашему общему герою, без которого у нас в округе было бы пусто, тихо и скучно. Я помню тот вечер, когда пан Метя устроил для нас кульминационную программу. Речь зашла об этой его правой руке, то есть о вершине его славы.
— Расскажите о той вашей грабле, — деликатно попросил «Ангел».
— Мы знаем, что это было что-то необыкновенное, но важны детали, — добавил я, уточняя.
Пан Метя выпил угощение, принесенное «Шнапсом», и посмотрел на нас сквозь набежавшую слезу с симпатией.
— Сказать я могу, х-холера. Вам причитается. Каким-нибудь прыщам я бы не стал, а вам причитается. Будете, шпана, отчизну строить, когда усы у вас подрастут, так что обязаны знать, что Метя тоже когда-то приложил правую руку к этому строительству. В сорок четвертом я так круто колотил под Люблином немцев, что круче быть не могло.
— Это мы знаем, — вперся необразованный «Крапчатый», — валите сразу про эту граблю.
— Заткнись, урод, — прервал я его тактично, — заткни хайло, открой глаза и внимательно слушай дяденьку Метю.
— Правильно, — подтвердил пан Метя. — Я не люблю, когда мешают. Выпадаю из настроя. О чем это я говорил?
— О том, как вы давали шороху под Люблином.
— Я давал, — согласился со мной пан Метя. — Как-то мы слегка накрыли пост жандармерии. Постойте, а какая же местность-то была? Как-то сексуально называлась. Вроде бы Цыцов или что-то в таком роде.
— Прекрасно, — обрадовался «Крапчатый», однако «Ангел» врезал ему локтем в ребро, и «Крапчатый» мигом посуровел.
— Ну вот, значит, мы в этом Цыцове делаем то, что нужно. Началась перепалка, но хлопцы за пару минут справились с работой. В общем, руки у них от этой работы горели, и ввалились мы внутрь. Имеется в виду пост жандармерии. Летаем так по комнатам и добиваем швабов, а они оказались такие завзятые холеры, ни один руки вверх не поднимет. Без пощады, мать вашу так, думаю я. Тут вы мне лапы не подымаете, так быстрее с вами разберутся на Страшном суде. Нас оставалось трое в той большой комнате, и тут кто-то из швабов бросил осколочную гранату — такую, с длинной деревянной ручкой. И такая маленькая красная бусинка уже торчала из этой ручки, качалась на шнурке, значит, сейчас у нас под ногами эта железка рванет.
— Ах, ты… — забеспокоился «Ангел», и даже пот проступил у него на лбу от волнения.
— Ну вот, эта осколочная лежит себе на полу, как будто духу набирается перед взрывом, я тут схватил ее и хотел отбросить: чтобы хлопцев спасти, которые со мной, и еще чтобы показать им, раз такой случай выпал, что у пана Мети свой понт. Значит, держу я эту штуку, и вдруг эта холера разлетелась у меня в руке. Ну, потом началось какое-то заражение, и пришлось отрезать по локоть.
— Чудеса, — прошептал «Крапчатый».
— Эх… — вздохнул «Шнапс», и это, принимая во внимание его всегдашнее молчание, было великим достижением.
— Значит, схватили вы гранату и отбросили, — весьма мудро поддержал разговор «Ангел».
— Хотел отбросить, — поправил его пан Метя.
— Куда им до вас, этим всем генералам, о которых пишут книжки, — резюмировал я с гордостью, пропуская единым духом угощение «Шнапса». И «Шнапс», безо всяких напоминаний, отправился за второй бутылкой.
И так хорошо нам жилось с нашим паном Метей, с нашим героем, который был повыше всех генералов и маршалов. Но однажды грянул гром с ясного неба и наступил конец света. Вылупился один такой тип, который знал когда-то давно пана Метю, и все рассказал нам о его руке. Как мы все это перенесли! Страшно сказать. И по-дурацки так вышло. Этот знакомый пана Мети высмеял гранату и сказал как отрезал: какой Цыцов, какая граната, Метя всадил лапу в станок еще перед войной, на заводе у Герлаха. В обыкновенный станок. На обыкновенном рабочем месте. Какой он партизан! Обычный работяга. «Ангел» сразу потащил нас к этому трепачу. И сначала плюнул ему под ноги, а потом такую литанию отбарабанил, что даже лучший довоенный извозчик поседел бы от этих ругательств, которые он выгреб с самого дна своей чистой, ангельской души.
Да и у меня различные слова порхали в голове. В станок… хулиган… на рабочем месте… сукин сын… в станок… рвань такая… никакая и не граната… сопляк… не в партизанах… подонок… у Герлаха… скотина… Ну, как обычно.
Пан Метя заплакал. И слез не вытирал, и щеки у него были такие мокрые, будто он стоял под дождем.
— Хлопцы, — рыдал он, — только и было у меня в жизни, что я пожил эти годочки героем. Во всей округе. От трамвайного депо до кладбища. Простите меня, не хотелось быть простым калекой. Что это за жизнь без одной руки, а так мне было немного легче. Да и вам было со мной хорошо, ребята.
Мы хлопнули дверью и оставили заплаканного фрайера. Пусть черти с ним пляшут. «Ангел» даже заплакал и завыл на лестнице: иди к такой-то холере, подонок! А я тихо так, про себя: надо же, такой негодяй подвернулся и такое нам натрепал! Чтобы его придавило. Что же теперь? Скоро осень. Дождливые и короткие дни. Что же теперь? Ищи ветра в поле, ни одного героя в округе. Только «Шнапсу» все едино. Хорошо таким, аж завидно. Х-холера…
Перевод Л. Петрушевской.
БЕЗ ПЯТИ ДВЕНАДЦАТЬ
«Низкий» засмотрелся в испоганенный клопами потолок, и на минуту воцарилась тишина. Полная тишина. Когда слыхать, как настойчиво пульсирует кровь, и когда слыхать этот прикованный к потолку взгляд и шелест дыхания, именно тогда и наступает полная тишина. Так оно и было. Они вдвоем почтили ее достойно, с полной выдержкой и осознанием. Потом «Низкий» опустил голову и спокойно сказал:
— А трава? Какой цвет травы ты больше любишь?
«Высокий» прикрыл глаза, чтобы лучше увидеть все оттенки травы.
— Такой подгорелый цвет, — отозвался он через минуту. — Еще не желтый, но уже не зеленый.
— Понял, — усмехнулся «Низкий», — ты ложишься, закрываешь глаза и засыпаешь при этом цвете. И при этом запахе. Такие сны лучше всего.
— Я не закрываю глаза, — мягко запротестовал «Высокий». — Я ложусь на лугу и смотрю в небо. Лучше всего в июле.
— А если поблизости есть река?
— Это самое простое. Тогда беру удочку, ищу тихое местечко — и меня уже нет. Меня никто не найдет. Я выключаюсь из всего.
— Ты ловил уклеек?
— Уклеек? Они пугливые, осторожные, спинка черная, бока желто-зеленые.
— Говори…
— Зацепишь уклейку, она борется до конца. Упорная… Сильная и смелая.
— А линя?
— Перестань… я когда-то жил поблизости от чудесного озера. Чудесного для меня, а на самом деле там была грязная вода и полно водорослей, я же мог сидеть там от зари до зари.
— Ну и что это озеро?
— Ничего. Там были лини. Они сидели в иле на дне и терпеливо ждали моего прихода. Наверное, они меня любили, потому что охотно клевали на мою наживку.
— Крепкие, оливково-зеленые, золотистые, покрытые мелкой чешуей.
— А лес?
— Что — лес?
— Ты ходил в лес?
— Нет, я лес не люблю.
— Слишком в нем тесно?
— Слишком тесно. Ты понимаешь, нет пространства. Глаз упирается то в одно, то в другое дерево. Я люблю открытое пространство… стоишь над рекой и видишь мир. До самого горизонта. Тогда и дышать легче.
— А я родился в лесничестве.
— Шутишь.
— Что в этом странного? Мои родители там жили. И до сих пор там живут. Среди деревьев. В семь лет мне казалось, что весь мир — один огромный лес. Что нет городов, нет деревень, только всюду одни деревья. И лесничества. Я хорошо знал этот мир леса. Я хочу сказать тебе, что это не такой глупый мир, как кажется городским. И не глупый, и не глухомань, и не пустой. Я мог разговаривать с деревьями, олени почти вплотную подходили ко мне, и траву я мог слушать.
— Это только так говорится.
— Нет, на самом деле так. У леса свой язык. Очень точный и красивый, но надо долго учиться этому языку.
— Я не люблю лес.
— А я не люблю город. Я всегда сострадал людям, которые должны локтями толкаться на тротуарах, должны слушать грохот машин… Я предпочитаю лес…
— А в горах ты был?
— Не был. Никогда.
— Я тоже не был. Много раз хотел поехать — и всегда как-то не получалось…
— Там, должно быть, красиво.
— Наверное.
— Они обезоруживают человека своей высотой.
— Наверное, ты прав.
Они снова умолкли. А тишина, не по их вине, теперь оставалась только в их мыслях. Сквозь крошечное окошко нагло лез последний их мир и последний час. Это были быстрые и пугающе ритмичные шаги в коридоре, и был скрип тяжелых ворот, которые, видимо, никто никогда не смазывал, и слова были, слова, как короткое рычание беспокойной собаки.
— Очень хороший день, — шепнул «Низкий».
— Засуха. Три недели, как нет дождя. Трава засохла, превратилась в стружку, — слишком громко сказал «Высокий». И, видимо, устыдился своего повышенного тона, потому что вдруг умолк.
— Ты слышишь? — с трудом выдавил из себя «Низкий». — Слышишь их?
— Да… Как же не слышать.
— Быстро пролетела ночь.
— Мой боже, — застонал «Высокий» и заплакал. Он плакал тихо, отвернувшись лицом к стене.
— Успокойся, давай поговорим еще о лугах.
— Не хочу. — «Высокий» не мог справиться с дрожью в голосе.
— Тогда давай о реке, о рыбе. У меня раз на крючке повис сом…
— Не надо.
— Тогда давай про дорогу через лес. Зеленая такая. Идешь и можешь ничего кругом не знать, она как компас. Дорога через лес всегда приводит к людям. Не надо молчать…
— Не могу.
— Мы сейчас должны говорить. Все время говорить, до самого конца. Ты это понимаешь?
— Я не хочу говорить. Я хочу думать.
— Нам сейчас нельзя думать. Слушай, это правда, что леща можно поймать даже в декабре?
— Можно, — с большим трудом прошептал «Высокий» и тут же закричал: — Боже мой, что ты болтаешь о декабре?! Этого месяца больше нет. Его никогда не будет. Один залп — и с ним покончено. Ни августа, ни сентября, ни октября, ни ноября. Не будет.
— Не думай об этом. Пойми, я должен разговаривать, и вся моя надежда на тебя, не буду же я разговаривать сам с собой.
И он умолк. В коридоре загудело от тяжелых шагов. Загудело как в глубоком колодце, как на самом дне. Шаги. Раз. Шаги. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Однако? Восемь. Девять. Однако. Десять. Пошли дальше. Десять. Коридор еще длинный. Десять. Десять. Они не пойдут дальше. Заскрежетал ключ в замке, запищали дверные петли.
— Seid ihr schon fertig? — сказал спокойно и вежливо щуплый гауптшарфюрер.
— Вы готовы? — тут же подхватил штатский. И, не ожидая следующих слов офицера, показал свое хорошее настроение:
— Ну и как, товарищи, успели примириться с господом богом?
— Los weiter, — напомнил о себе офицер, который, вероятно, желал, чтобы последнее слово в этой камере осталось за ним.
И они пошли. Они пошли. Было ясное утро, четырнадцатое июля тысяча девятьсот сорок третьего года. Небо было без облаков, а деревья — без ветра. Наступал прекрасный денек, и по календарю какой-нибудь Бонавентура и какая-нибудь Марселина готовились к именинам. Они шли. В трех километрах от тюрьмы они миновали озеро, в котором щуки гоняли по зеленому плесу плотву и уклеек, выскакивающих из воды. В кустах ивняка стоял рыжий мальчик и неловко насаживал на крючок извивающегося от боли дождевого червя.
А командир экзекуционной команды вынул из кармана белый платок и приложил его к слегка опухшей щеке. В глазах его была неподдельная боль. Он подозвал конвоира.
— Мой боже, я не спал всю ночь. До рассвета не сомкнул глаз. Что за чертов зуб! У тебя нет какого-нибудь порошка? Я сойду с ума от боли.
У конвоира, к сожалению, не было порошка от боли, и он чувствовал себя страшно неловко.
Они шли. Они подходили к березовому лесочку, а песок все больше пропитывался солнцем. «Высокий» повернул голову к «Низкому» и нашел его ладонь. Было ясное утро… без пяти двенадцать.
Перевод Л. Петрушевской.
СЛОМЛЕННЫЙ
Стук в дверь — три долгих удара, два коротких. И снова — три долгих, два коротких. Все было бы в порядке, если бы время можно было повернуть вспять, но пароль давно изменили, и человек за дверью сильно опоздал. Такое многодневное опоздание непростительно и в обычные времена. Три долгих удара. А теперь даже за каждый час надо подробно отчитываться, минуты нужно ценить, а с секундами установить прочный союз. Два коротких удара. Кто это? Черт побери! Роман сунул в тайник рукопись статьи о необходимости объединения всех борющихся поляков и еще несколько листков папиросной бумаги с перехваченными по радио сообщениями, но что там эта рукопись или листки — не они были главной уликой. И, пожалуй, даже не пистолет, лежавший на тумбочке. Уликой было одно то, что Роман все еще был жив и все еще на свободе. Листки он спрятал, а куда спрятать себя? И для пистолета найдется место в тайнике, одно время там даже несколько пистолетов лежало, но всегда ли пустые руки обеспечивают безопасность? Руки пустые, чистые, а досье — грязное. Он честным, тяжким трудом заработал себе право на такое досье, распухшее от черных грехов. И нет сейчас в принципе никакой разницы, сколько этих грехов — сто или двадцать. Ведь осуждать его можно хоть сотню раз, но приговор все равно будет только один. Кто это? Чтоб тебя черти взяли! Еще полчаса, и статья была бы готова. Он осторожно подошел к окну и, слегка отодвинув черную бумагу, выглянул на улицу. Ему было видно лишь то, что освещал висевший поблизости фонарь с покрашенным в синий цвет стеклом. Пусто. Вроде пусто. У калитки никто не стоит, никто не стучит сапогами по тротуару. Правда, они могли остановиться чуть подальше, поставить машину за углом. Три долгих удара. Проклятье! Если это кто-нибудь от Макса, я им такое устрою, до конца войны будут помнить. Два коротких удара. И с такой наглостью, что морду набить хочется! От Макса? От Виктора? Из моих никто не может быть, они знают об объявленной тревоге, о необходимости соблюдать особую осторожность, о смене паролей и шифров, о закрытии впредь до отмены приказа всех старых явок. Притаиться и не дышать, пока не закончится эта страшная история. Для моих людей — страшная, для ребят Макса и Виктора — тоже страшная, а для меня — страшнее не бывает. Роман старается ступать на цыпочках, ведь пол скрипит, трещит, не желая считаться с законами конспирации. Уже с пистолетом в руке — с ним связано столько прекрасных дел и одно тяжелое, мучительное, о котором даже думать трудно, — уже с этим семейным пистолетом марки «вис», он, не доходя до двери, спрашивает: — Кто там? — Это я, открой. — Голос как будто знакомый, но чей? Точно знакомый, но разве сейчас можно быть в чем-нибудь уверенным? Если кто-то пытается воспользоваться старым, уже отмененным паролем, никакая осторожность и подозрительность не могут быть чрезмерными. — Кто это? Говори прямо или катись отсюда… — Ромек, Ромек, не узнаешь? — Теперь он узнал и хотел было закричать от радости, хотел одним прыжком подскочить к запертой двери, но в глазах у него потемнело, и ему пришлось на секунду прислониться к стене. Он? Он. От этого поразительного открытия все кругом вдруг стало мрачным и подозрительным. В его изумлении было все меньше радости. Он. Но как он сюда попал? — Отец, ты один? — Один, один, открывай скорей… — Отец, если ты не один… — Даю тебе честное слово… — Левой рукой он отпирал дверь, в правой держал пистолет. Честное слово — это только слово. Когда-то он мог на него полностью положиться. Еще неделю назад он дал бы по локоть отрубить себе правую руку за такую встречу, но пришел Виктор и показал ему три записки, переправленные из тюрьмы на волю. Они сравнили текст записок с реальными фактами — все так точно совпадало: ни о какой случайности или ошибке не могло быть и речи. И Роман заплакал, как ребенок. — Я не могу в это поверить, — бормотал он, хотя уже верил. — Этого не может быть, — кричал он, хотя сейчас все могло быть. Левой рукой — ключ, потом — цепочку, и отец вынырнул из темного коридора, как со дна реки. В этом-то и было все дело: утонул — и живой выплыл на берег. Он подождал, пока Роман снова запрет дверь, и лишь тогда бросился к сыну. И они, как два борца, сжали друг друга в крепких объятиях. Роману была дарована эта минута, чтобы, прижавшись к отцу, он мог почувствовать себя, как когда-то, мог забыть обо всем, что превращало эту встречу в опасную игру. Минута. Пока отец не заговорил. А потом начались слова, и к Роману тотчас же вернулось недоверие. — Ромек, потрогай меня, ущипни, живой я, изломанный, искалеченный, но живой! Удрал я, чудом удрал. Такой номер выкинул, что этого рыжего Крауса, этого унтер-штурмфюрера, наверное, удар хватит. — Когда ты убежал? — спросил Роман, изо всех сил стараясь, чтобы в его голосе прозвучала хоть какая-то радость. — Вчера, когда меня снова повезли на допрос из Ротонды в дом Черского. Я тебе потом все подробно… Сперва я должен прийти в себя. Ромек, мне сначала нужно поверить, что я здесь… — Руки у него тряслись, он дрожал как в лихорадке. — Ты здесь… — шепнул Роман. — Это просто чудо, что тебе удалось. — Отец кивнул, рассмеялся и быстрым движением вытер глаза. Он вдруг начал ходить по комнате, трогал мебель, на секунду остановился возле часов с кукушкой, которая давно уже перепутала время и куковала теперь в шесть часов — двенадцать раз, а в двенадцать — шесть. Он глядел по-детски сосредоточенно, и Роман не знал, как нарушить молчание. Наконец он спросил, решив, что по крайней мере один вопрос надо выяснить срочно: — Отец, а хвоста за тобой не было, когда ты сюда шел? — Точно не было… — воскликнул тот, оборачиваясь к сыну. — Я так петлял, что сам черт бы запутался. Пешком отмахал тридцать километров. Кто хоть раз попробует, каково там, тот может жить без воды и без воздуха, на одной только осторожности. Понимаешь, Ромек?
Ты был для меня самым большим, самым сильным, самым справедливым, ты научил меня всему, ты, как азбуке, учил меня жизни — от первой буквы до последней, да что там буквы, не слишком это удачное сравнение, ведь в твоем учении не слова были самым главным, хотя и они были важны, но за каждым важным словом стоял важный поступок, так ты учил меня, и мне не нужно вызывать это из глубин памяти, я еще ясно все это вижу, хотя сейчас ты стоишь в двух шагах от меня, и тень ложится на все то, чем я гордился, стоишь, проникнуть бы хоть на секунду в эту тень, ты дал мне больше, чем жизнь, ты дал мне веру и надежду, и первый пистолет я получил тоже из твоих рук, вот он, мой, и только мой, я не расстанусь с ним, особенно теперь, после твоего падения, потому что если самые сильные, самые справедливые люди и те не железные, то почему я должен думать, что я железный, я вгонял иголки себе в тело — боль, ящиком стола сдавливал пальцы — боль, но ведь этой болью управлял я сам, невелика штука страдать по собственному приказу, отдать приказ и быстро его отменить, когда стон начинает рваться с губ, теперь-то я уже знаю, именно поэтому не оставляю пистолет дома, мой пистолет, моя последняя воля, теперь я знаю, что лучше испытать себя самому, прежде чем они начнут испытывать, я успею, Виктор мне объяснял, а я чувствовал, что это он пытается встать на твое место, смотри, что получается, говорил он, люди ждут смерти, выпрямившись, навытяжку стоят перед смертью, а перед болью ползают на коленях, пресмыкаются, не всегда так бывает, сказал я тогда Виктору, не всегда, не всегда, но сегодня я мысленно соглашаюсь с этими словами, мне приходится согласиться, чтобы не вцепиться тебе в горло; Макс говорил, что иметь такого отца — это иметь все, давно он это говорил, когда я и правда все имел, а неделю назад я написал о тебе стихи, которых ты никогда не прочтешь, послушай, потому что их ты не услышишь, если преступил запретную черту, не возвращайся к своему очагу, забудь, как пахли деревья в твоем саду, если преступил запретную черту, такое начало стихотворения, а каков твой конец — ты преступил запретную черту и осмелился вернуться…
Он торопливо стащил с себя пиджак, сорвал рубашку, и Роман увидел бледное, истерзанное тело. Фиолетовые полосы увидел, синяки, язвы и струпья. — Шесть допросов, шесть кругов ада я прошел. Посмотри, мне даже ногти вырвали на некоторых пальцах, а живот у меня опален огнем. На проволоке клок ваты, намоченный в спирту… и Feuer, Feuer, загоготали, и огнем по коже. Это было, ты знаешь, что это было? — Знаю… — ответил Роман, опуская голову, а знал он еще больше.
Тогда Виктор дал мне эти три записки, если хочешь, можешь прочесть, сказал он, кладя мне руку на плечо, мнения разошлись, некоторые советовали отстранить тебя от этого тяжелого дела, не думай только, что не доверяли, они просто хотели тебя пощадить, я стукнул кулаком по столу, так, что даже кисть онемела, так, что даже чернильница слетела на пол, хватит, я не ребенок из сиротского приюта, чтобы мне подачки совали из жалости, это фальшивая жалость, и никто не смеет мне закрывать глаза, когда мой отец проходит тяжелейшее испытание, так получается, что он перед двумя судами стоит: перед гестаповским и перед нашим; ты имеешь право знать всю правду, согласился Виктор, это твое право, поэтому я и принес тебе эти записки, мы начали читать, а вернее, Виктор читал, время от времени комментируя эти короткие фразы, пронзительно ясные и такие для меня мучительные, легко было кричать, что я имею право знать правду; труднее класть голову под острые, как нож, слова, остерегайтесь «Лесничего», начал Виктор, «Лесничий» раскололся, сломался на третьем допросе, его уже не бьют, но все еще возят в дом Черского, где находится гестапо, вчера его продержали там три часа и не били; С. из синей полиции дал понять, что надо держаться подальше от «Лесничего», ликвидируйте явки в Б., К., З., медленно читал Виктор, а я закричал диким голосом, что не могу в это поверить, хотя моя вера или неверие ровным счетом ничего не значили, вчера пришло известие, что гестапо накрыло явки в Быхаве и Замостье, записки опоздали, и только в Красноставе нам удалось опередить гестаповцев, а теперь собирай свое барахло, сказал Виктор, не буду, ответил я, отсюда я не двинусь…
Он налил в таз воды, вынул из шкафа чистое полотенце. — Умывайся, папа, а я чего-нибудь приготовлю. У меня есть немножко настоящего чая и настоящего сахара. Это ребята Макса сделали мне подарок, они добрались до кладовой земского комиссара в Лукове, и мне кое-что с этого дела перепало. — Теперь он стоял в кухне, вода в чайнике уже шумела, крышка начала подпрыгивать, он стоял, как бы пытаясь продлить еще на минуту, еще на две это одиночество вдвоем. Потом опустил пальцы в ведро с холодной водой, плеснул водой в лицо и сразу же схватился за кипящий чайник.
Именно так это и выглядит, пронеслось у него в голове, — именно так, меня бросает то в холод, то в жар. Сколько во мне гнева, столько и беспомощности. Чего я еще жду — пока наивность окончательно не усыпит меня? И все-таки я жду. А он пришел сюда, чтобы передо мной исповедаться, рассказать о своем падении. С первой минуты, как только он перешагнул этот порог, он пытается впутать меня в то, из чего сам уже не может выпутаться. Я искал в его глазах хоть каплю скорби. Смущение, стыд, чувство вины? Не нашел. И боль в его глазах, ему, конечно, больно. И радость, потому что он, наверное, правда рад, что снова со мной. Боль, радость. И ничего больше. Неужели он пал так низко, что вырваться из когтей смерти для него — высшая цель, достойная любой цены? За это уже заплатили своей свободой ребята из Замостья и Быхавы — «Гураль», «Холодный», «Осколок», то есть трое за одного. Пока трое, потому что, кто знает, какой будет окончательный счет, сколько на самом деле он заплатил за свою свободу? Разве это свобода? Неужели он так наивен, что не чувствует веревки у себя на шее? Они потянут за эту веревку, когда придет время. Он так долго учил меня конспирации, посвящал в разные тонкости, из повседневной борьбы создавал великие теории человеческих побед и поражений. А сегодня хочет, чтобы я поверил в его побег. А если? — Роман принялся заваривать чай, разливая воду. — А если в записках не все было правдой? Разве не бывало, что подозрения падали не на тех? В прошлом году мы отреклись от Мариана, потому что вокруг него стали происходить какие-то странные вещи. Мы избегали его, меняли места встреч, а он рвался к нам через все преграды. Он ничего не понимал, наше поведение вызывало у него агрессивность, и эта агрессивность опять-таки свидетельствовала против него. Все кончилось хорошо, а могло кончиться и приговором. Потому что были и такие, которым не терпелось поскорее убрать Мариана. В течение месяца каждый провал записывали на его счет. А разве сейчас кто-нибудь специально выяснял, как все это случилось в Быхаве и Замостье? Что можно выяснить за несколько дней? «Гураль» был парень лихой, осторожностью не грешил. Да не в «Гурале» дело. Бдительность. Пусть даже чрезмерная. Но разве я с этим спорю? Как я могу отрицать, что один легкомысленный шаг — это часто десятки арестов. Но как этой бдительности придать человеческий вид, что сделать, чтобы около нее осталось хоть немного места для терпения и здравого смысла? У нас есть записки из тюрьмы, но ведь их писал человек, которого тоже избивали на допросах. Он выдержал, не раскололся. А что мы еще о нем знаем? Может, у него сейчас нервное расстройство, и он никому не доверяет, в каждом из сидевших вместе с ним видит предателя? Меня бросает то в жар, то в холод. Из огня прямо в ледяную прорубь. Убежал? Когда человеку удается вырваться из ада, он стремится как можно скорее рассказать о своем бегстве во всех подробностях, а мой великий человек медлит, как если бы боится, что ложь застрянет у него в горле. Но ведь я в аду не бывал, так откуда же я могу знать, что самое главное для тех, кто из ада вырвался? Я не убежал. И хорошо, что остался здесь, что на этой квартире все может решиться. Они начнут колотить в дверь, а я уже буду знать, где лед, а где пламя. Успею уничтожить несколько листков прежде, чем они взломают дверь. Ну и еще у меня есть мой «вис», значит, я успею сам решить свою судьбу. Да, именно так, потому что я не знаю, теперь уже, правда, не знаю, хватит ли у меня сил, чтобы не пасть на колени перед адской болью.
Когда он вернулся в комнату, позвякивая стаканами и ложечками, отец лежал на кушетке, спрятав лицо в ладони. — Ты спишь? — Нет, как же можно спать в такую минуту. Я еще на тебя не нагляделся, ты еще мне ни слова не сказал, что у нас происходит… — Много чего происходит… — буркнул Роман. — Много чего — и у нас, и у всех остальных… — Сначала о нас… — Отец внезапно оживился. Его левая рука, лежавшая на столе, начала подрагивать, и он тут же прикрыл ее, прижал правой. — Когда ты виделся с Виктором? Макс спрятал бумагу для типографии? — Ты измучен, болен, у нас будет еще много времени, чтобы поговорить о делах… — Роман говорил спокойно, не отрывая глаз от лица отца, который после недолгого возбуждения снова вел себя так, будто внутри у него, кроме безграничной усталости, ничего не было. — Много времени? — прошептал он и отрицательно покачал головой. — Не надо меня щадить, Ромек, я знаю свой срок. У меня отбиты почки, я страшно мучаюсь, когда мочусь, и мочусь я кровью. Не пойму даже, где я взял силы, чтобы решиться на побег и на такое долгое путешествие по безлюдным местам. Но эти силы были последними, больше от меня никакой пользы не будет. — Он склонился над столом, и седеющие волосы упали ему на лоб. Бледное, без кровинки лицо, все в морщинах. Больное и безнадежно грустное. Так выглядят люди, которые абсолютно уверены, что никакие лекарства их не спасут, подумал Роман, и им снова овладела жалость. Ему захотелось сказать отцу что-нибудь такое, что его хоть ненадолго оживит. — Пришлось нам повозиться с твоей типографией, опять переезжали. Первый мартовский номер выйдет с порядочным опозданием, но зато место мы для нее нашли отличное… (С т в о е й, в таком определении мало преувеличения, ты почти по кусочкам перевозил ее из Варшавы, даже машинистов к этому подключил, они везли, спрятав в уголь, то, что не помещалось в чемоданах, — на это ушло все неожиданно свалившееся и печальное наследство: в октябре ты похоронил брата, а уже в середине декабря новая типография вступила в строй; у брата были картины, серебро, красивая мебель, ты все продал, вернулся без гроша, но с известием, что типография будет, и она была, и есть…) — Вы перевезли типографию после моего ареста? — поднял голову отец. — Решили, что я могу расколоться? — Каждый может… — ответил Роман прямо и почувствовал внезапное облегчение, — что мы знаем о нашей твердости, пока нас не начнут поджаривать на огне, пока не начнут ломать кости. — Отец потянулся за стаканом, обхватил его осторожно, как будто все еще чувствовал боль в искалеченных, покрытых шрамами пальцах. Он пригубил чай, облизал губы, и длилось все это очень долго, а может, Роману только так казалось. — Ты помнишь нашу первую операцию — немецкий эшелон с отпускниками? — наконец заговорил отец. — Пять разбитых вагонов, тридцать с лишним убитых, и еще двое суток они не могли привести в порядок взорванные пути… — Помню, первый экзамен не забывается… — ответил Роман, и снова наступило молчание. Он легко мог его нарушить, но предпочитал, чтобы это сделал отец. Был даже уверен, что так надо, потому что ведь это отец вернулся из далекого путешествия, из которого лишь немногим удается вернуться. Счастливое возвращение. Притворяется? Как долго можно притворяться? И долго ли сможет притворяться он? — Твердость, твердость, твердость… — голос отца был на удивление бесстрастным. Таким голосом говорят о погоде, о пустой книжонке, об оторвавшейся пуговице. Час назад он кричал почти в истерике, показывая сыну свое тело, иссеченное плетьми и палками. Теперь он устало говорил о каком-то, о чьем-то там биологическом страхе. Уходил от слов, которые навязчиво лезли к нему. — Твердость? Это не человек боится боли, это его кожа кричит от боли, это его нервы рвутся от страха, это его кровь стынет от ужаса… — Отец, говори со мной просто, как раньше. Ты ведь умеешь называть вещи своими именами. Жалко сейчас времени на поэзию и философию. Поспешим, где уверенность, что эта ночь — не последняя для нас с тобой.
Виктор говорил, что иметь такого отца — это иметь все, Виктор говорил, у нас здесь сегодня Роман, сын «Лесничего», он пришел, я рекомендую его в партию, а они ему, что, если это сын «Лесничего», зачем им рекомендация, «Лесничий» — это лучшая рекомендация, тебя, отец, тогда не было на этом собрании в Быхаве, ты следил, чтобы твоя типография в целости и сохранности добралась аж за Хелм, тебя не было, и я чувствовал себя как-то взрослее, я сказал, что знаю, за что борюсь, знаю, что за свободу, но хочу знать больше, до тысяча девятьсот тридцать девятого в Польше тоже была свобода, а отец мой три года просидел в тюрьме в Равиче; прочитал я пару дней назад газетенку «В огне борьбы», там много о свободе пишут, они пишут, будет свобода, пишут, прогоним немцев и коммунистов, и украшают эти слова польским гербом — большущим орлом на первой странице. Так я сказал, и сразу разгорелся горячий спор, который окончился только после полуночи, и спали мы в овине, на сене, а «Осколок», подавая мне ломоть хлеба, товарищ, это ваша порция, сказал, товарищ, товарищ, мысленно повторил я за ним, потому что никто так ко мне еще не обращался.
Отец попросил сигарету. От первой же затяжки у него запершило в горле, но он кашлял и не переставал курить. Говорил и не переставал кашлять. — После операции я оставил пистолет у «Холодного», мне казалось, что я могу возвращаться, меня не знали ни в Горайе, ни в Радечнице, а документы у меня были надежные. Даже когда меня уже схватили и втолкнули в машину, я все еще верил, что как-нибудь выкручусь. Еще больше я в это поверил, когда автомобиль въехал в Замостье и проехал мимо костела, не останавливаясь у дома Черского. Сейчас везде можно получить, что тебе причитается, но, когда проезжаешь мимо гестапо и едешь дальше, трудно не быть оптимистом. Отвезли меня в Ротонду. Я успел прочитать, что там было написано на белой доске перед входом. Временный лагерь для интернированных. Дальше еще что-то, длинная надпись, но я ухватился за одно это слово: временный. Посредине газон, забор из колючей проволоки, с полсотни заключенных, подгоняемых палками на беговой дорожке, и несколько человек, стоящих у стены с поднятыми руками, как перед расстрелом. Там восемнадцать больших камер, и считать не понадобилось, потому что на каждой — огромный черный номер. Прежде, чем двери камеры отворились, меня пинками погнали на комиссию. Гестаповцы сидели за обычным кухонным столом и прямо на улице, может быть, поэтому все показалось мне не таким опасным. Начался тщательный обыск. Нормально. А теперь слушай, потому что настоящее начало только сейчас. Вытащили у меня из кармана разные мелочи, вытащили носовой платок, а из него вылетел патрон от моего «вальтера». Запутался там как-то, подлец, я ведь перед уходом от «Холодного» проверил карманы. Невезение? Легкомыслие? Случайность? Один патрон, но для них я уже стал кем-то, кто заслуживает особого внимания. Меня не заставляли ни бегать, ни отжиматься, эта беговая дорожка в Ротонде для обычных узников. В тот же день мне устроили первый допрос в гестапо. Не буду тебе пересказывать, у тебя ведь есть воображение… — до сих пор он говорил довольно спокойно, и Роман начал уже думать, что так оно до конца и будет, но отец, видимо, остановился на том самом страшном месте, где перед ним открывалась пропасть. Может быть, он осознал это именно теперь, и его охватил ужас. — Хватит. Чего ты еще ждешь? Самое главное, что я не позволил себя сломить, они не сломили меня, слышишь? — Он смотрел на Романа с гневным упреком, хотя Роман все время молчал и внимательно его слушал. — Хватит. Нет смысла рассказывать дальше, потому что ты мне все равно не веришь. Ты только прикинулся обрадованным, когда увидел меня в дверях… — Я был поражен и взволнован. Тебе не пришло в голову, что твой стук давно перестал быть паролем? — Понимаю, теперь в эту дверь стучат по-другому, потому что меня схватили… — Не только тебя. Еще «Гураля», еще «Холодного», и «Осколок» тоже арестован. Тебя потрясло это известие? Чего же ты замолчал? — Потому что это страшно… — простонал он и снова потянулся за сигаретой, — страшно… — повторил он, и наступило долгое молчание, которое Роман понял по-своему. Понял, что без последней атаки эта ночь не могла закончиться. Но его гнев смягчался под действием сочувствия и жалости. Дать отцу шанс, дать ему последний шанс… — застучало у него в мозгу, заглушая мысль о лобовой атаке, и из-за этого на секунду вернувшегося бессилия у него вырвался опасный вопрос: — Однако ты собирался рассказать мне о своем побеге… — А ты мне поверишь? — холодно спросил отец и положил руки на стол, как будто бы хотел, чтобы Роман еще раз посмотрел на его изуродованные пальцы. — Да ты подумай, ты только подумай. Если бы я тебе не верил все это время, я бы уже давно ликвидировал нашу старую явку. А я даже тайник не очистил. Показать? Бери, читай, вот последние радиосводки, вот моя статья, вот сведения из района, которые принесли связные, вот мой пистолет. Настоящая пороховая бочка, а я на этой бочке спокойно сидел. И плевать мне, что другие говорят или думают, потому что важно то, что думаю я. Ты не мог нас засыпать. Так я думаю. — Отец заслонил глаза ладонью. Руки у него снова начали дрожать. — Шесть допросов… — сказал он так тихо, что Роману, чтобы что-нибудь услышать, пришлось наклониться к нему. — Каждый раз я молил о смерти, но они были начеку. Однажды даже врач ко мне явился, сделал укол, чтобы я дотянул до следующего допроса. Они уже знали, что мои документы поддельные, а значит, и я был для них поддельный, и только патрон был такой, как надо. После шестого допроса они выбросили меня, как тряпку, в какую-то пустую комнату. Может, думали, что это уже конец, что я сразу подохну, поэтому и оставили меня одного. А я все никак не мог подохнуть. Поднял голову и тогда подумал о побеге… — Он на секунду остановился и начал рассматривать Романа, словно только сейчас увидел его перед собой. — Ты веришь в чудесные спасения? — Я верю в счастливый случай, верю, что иногда везенье нарушает всю логику событий… — Но только иногда, только иногда… — усмехнулся отец, — пить мне очень хочется, у тебя еще есть этот чудесный настоящий чай? — Роман кивнул и вышел на кухню. Он снял с уже остывающей печки конфорки, подбросил несколько сухих поленьев и начал раздувать огонь. И тогда раздался грохот. Первая мысль была, что кто-то выстрелил в коридоре. Он схватился за карман, и в ту же минуту вспомнил, что пистолет остался на столе. Он бросился в комнату. Отец, скорчившись, лежал возле стула, из головы сочилась кровь. В коридоре на лестнице послышались тяжелые шаги, кто-то начал ломиться в дверь. Соседи? А может, шпик, до сих пор прятавшийся в воротах? Роман сгреб в карман записки, рукописи, радиосводки, но пистолета у отца не вырвал. Возможно, он хотел, чтобы полиция, которая придет за телом отца, так его и нашла. С пистолетом в судорожно сжатой руке. Он открыл окно, сполз по водосточной трубе в кусты крыжовника. Ночь была темная, эта страшная ночь помогала ему.
Виктор сказал: — А ты попробуй посмотреть на это немного иначе. Его изуродовали, сломили, раздавили. Но, даже сломавшийся и раздавленный, он сумел вынести себе приговор. Он сделал это сам, так пусть же ему это зачтется. Он сам осудил себя, а мы не будем его судить…
Перевод В. Бергельсон.
«СТАРИК»
Сосенки не загораживают нам поля, поскольку мы залегли почти у самой опушки. Так безопаснее. За спиной лесок, широкое поле перед глазами. Бросишь сухую шишку, и она канет без следа в зеленой ржи, высокой, уже почти по колено. Сейчас нам не пройти по этому зеленому ковру, подождем, пока стемнеет и все вокруг погрузится в спасительный сумрак. За этим слегка волнистым полем виднеется дюжина хатенок. Их можно обойти, а вот поля никак не обойдешь. Нет другой дороги к лесу, где нас, пожалуй, уже дожидаются. А ждут нас те, кого не покидало военное счастье в Парчеве, и под Амелином, и под Ромблевом, и на трудном пути в Яновские леса. Жаворонок заливается прямо у нас над головой. Даже не верится, что все вокруг идет обычным порядком. Земля родит, как родила, реки не текут вспять, на песках расцветают дрок и ястребинка, сизокрылые ракши вернулись из теплых краев, аисты ладят гнезда, все по-старому. Только судьбы человеческие круто изменились…
Я сижу в неглубокой ямке и чувствую, как в бок врезается острый край соснового пенька. Сижу. Вижу их всех, пытаюсь разгадать, о чем думают. Надеюсь, не о самом плохом. Ведь если они и предаются сомнениям, даже самым безудержным, не могут не понимать, что худшее уже позади. Так пусть сомневаются на здоровье, нам это не в новинку.
Ребята сидят плечо к плечу, спина к спине, словно так, в куче, надежнее. Только «Старик» уже не может сидеть. Простые земные дела ему уже не под силу. Он лежит неподвижно и тихо. Еще вчера срывал бинты и кричал от боли, а нынче так ослабел, что и стонать не может. Не сдавайся, «Старик», держись. Мне и другим можно расслабиться, тебе нельзя. Ты потерял много крови, но повязка присохла, больше ни капли не пропустит. И попытайся убедить себя, что кровь, которая у тебя осталась, лучше пролитой, ибо самое ценное в человеке остается до последней секунды, до самого конца. Письмо твое лежит у меня в кармане, чего ради ношу его — не знаю, и все же ношу. Прежде мог выбросить, теперь — нет. Но справедливо ли будет, если ты в сырую землю ляжешь, а это письмо уцелеет? Не даст оно мне покоя до конца дней моих. И о ребятах подумай. Два дня и две ночи волокут тебя ребята, а теперь, когда спасение уже совсем близко, собираешься так нелепо над ними подшутить? Так их отблагодарить? Два дня назад мы были под Ромблевом. Не ближний свет — поскольку петляли, обходя засады, — и я тебе все напомню, вырву тебя из тишины, в которой ты укрылся. Может, еще два дня потребуется, а может, и через несколько часов найдем тебе убежище, устроим по-королевски. Остается только пустяк — проскочить из этого леса в другой лес. Двинем отсюда, когда начнет смеркаться, и уж я знаю такие чудесные места, где не только молоко, хлеб и доброе слово найдутся, но даже и расторопный фельдшер будет к твоим услугам…
Лежит «Старик», и глаза у него широко открыты. То ли в хилые кроны сосенок всматривается, то ли в бездонную голубизну неба. Хорошо бы теперь дождь полил или хотя бы дождичек. Лицо бы тебе обмыл, смочил запекшиеся губы. Разные бывают снадобья, но вода — первейшее лекарство.
Сидят мои ребята. Снова пересчитываю их, и это тревожная примета. Значит, сдают нервы. Сколько раз можно считать до десяти? Нас столько, сколько пальцев у меня на руках. Мы вырвались из окружения, пришлось рассеяться, но я доведу вас до финиша. Еще немножко — и батальон опять будет батальоном. Доведу и скажу Франеку или «Белому»: «Вот у меня десять пальцев, не потерял ни одного». А «Старик»? Черт побери, не будет десяти…
«Старик» глаз не смыкает, хоть бы разок моргнул. На ветки засмотрелся или на небо? Отдаляется от нас, ускользает потихоньку.
Мне такие незаметные исчезновения не в новинку. Так с «Коротышкой» было в Парчеве, когда он получил пулю у здания полиции. Взвалил я его себе на спину, потащил в сад, крикнул, чтобы принесли бинты. Обойдется, «Коротышка», крови ты потерял немного, еще спляшешь на своей свадьбе. Я перевязываю, а он хоть бы застонал и смотрит не на руки мои, а на пышный куст персидской сирени. Выдюжишь, «Коротышка». В лицо ему заглянул, а его уже нет. Улизнул он, и я заскорузлыми пальцами закрыл ему глаза. И тут подоспел с приказом «Старик»: — Оставляем Парчев, оставляем Парчев… — Ладно, слышу, нечего глотку драть. Парчев и так целых два часа был в наших руках, а кто теперь «Коротышке» могилу выроет?
Сидят ребята. Плечо к плечу. Снова пересчитываю их, и это значит…
— Чертовски в горле пересохло, просто погибаю, — не слишком громко произносит «Краюха», но достаточно внятно, чтобы всем напомнить о воде. — Потерпишь, — говорю я, глядя на «Старика», поскольку он, как никто другой, нуждается хотя бы в капельке воды. — Я схожу в деревню, рядом ведь… — слышу ворчанье «Краюхи». — Я тоже мог бы пойти, но никаких хождений не будет… — говорю я резче, чем собирался. — Потерпите до темноты. Забыл, что ли, о вчерашнем?
Вчера нас встретили пулеметными очередями, едва мы нос высунули из леса. Вчера наткнулись мы на три деревушки уже далеко от железного кольца, которое сомкнулось вокруг батальона под Ромблевом. Далеко? Но в каждой деревушке жандармерия, а в одной даже танки из дивизии СС «Викинг». Ты, браток, судьбу не испытывай, хоть она, несмотря ни на что, и была к нам очень милостива. Фляги пусты? Пусты. Но ведь и в карманах не густо. У кого еще в карманах патроны бренчат?
Ночью накрапывало, и утром мы слизывали с травы остатки влаги, но день вставал солнечный. Хотя и майский, а уж такой солнечный, что через час-другой все начисто высохло. — Может, докопаемся до какого-нибудь ключа? — Тощий Войтек взглянул на меня вопросительно, а я пожал плечами: какая уж тут вода в таких песках? — Попытка не пытка… — Войтек уже торопливо разгребал песок, а потом кинжальный штык вонзил в суглинок. По самую рукоятку.
В Парчеве вкусили мы два часа полнейшей свободы. И отступили, поскольку подтвердились сигналы, что немцы сосредоточивают значительные силы. Разведка наша действовала хорошо, и было ясно, что прут на нас не только грузовики с жандармами, но и крупные фронтовые части… Все-таки тренируешь память. Черт побери, не нужны мне никакие тренировки, и так все вижу как на ладони. И через десять лет буду видеть. Концы отдам — и тоже не забуду. А сейчас как будто тихо, но еще не завершилось то, что так здорово началось в Парчеве. Нас ждут, и кончится все лишь тогда, когда я доложу «Белому»: — Прибыли! — Так доложу: — Прибыли, и только «Старика» пришлось оставить в Дарогуче (или в Козицах, или в Жулкове, не знаю, на каком этапе это случится), иного выхода не было, ему требовался врач и длительный отдых, но я вернусь за ним, так как он вполне заслуживает того, чтобы подышать лесным воздухом вплоть до светлого дня, когда все мы из лесу выйдем. Эх, «Старик», на веточки не поглядывай, в ясное небо не всматривайся: ничего там не высмотришь. Жарко, фляги пусты. А я могу тебя добрым словом взбодрить вместо ключевой водицы. Слушай, пей слова мои. Вспомни — видал ли ты такое когда-нибудь? Ощущал ли в себе такую силу, как пять дней назад? Даже в отступлении мы чувствовали, что сильны. Когда пришел приказ об отходе в Яновские леса, то наши подразделения растянулись на километр. Восемьсот парней, сотня повозок с боеприпасами, провиантом, со всем нашим лесным имуществом. Добрались до Амелина, где предполагался длительный постой, но, едва успел я умыться у колодца, загрохотало, затрещало, словно настоящая линия фронта пролегла поблизости. Бросилась в том направлении сотня наших, остальные ждут. Было условлено, что в случае необходимости двинет из Амелина весь батальон, но связные не появлялись, и мы решили, что поддержки не требуется. Так оно и было. Вернулись наши вечером вместе с советским отрядом капитана Чапиги. Это как раз чапиговцев пытались окружить фрицы, не ожидая, что сами невзначай попадут в окружение. Видишь, какое же это было отступление, если мы могли после такой битвы позволить себе двухдневный отдых в Амелине. И какая неуверенность, если спокойно прождали в амелинском лесочке, пока немцы перегруппировывались для нового удара. Весь день они обстреливали батальон, лезли на наши позиции, а мы — ни шагу назад. Только вечером было приказано оторваться от противника. Отступление? Ладно, пусть будет по-твоему. Два года назад я командовал горсткой гвардейцев, и все наше вооружение составляли три пистолета. Напали на пост «синей» полиции, захватили винтовку и побыстрее смылись. — Победа, победа же, — шептал я, сигая через борозды, как зайчишка. Тебе этого не понять, ты пришел позднее, когда винтовка перестала быть пределом мечтаний. Может, и того не поймешь, что, отступая из-под Амелина, выходя из окружения под Ромблевом или когда мы перебегали, пригнувшись, лесные просеки и песчаные проселки, где ждали нас гнезда станковых пулеметов, я ни минуты не чувствовал себя побежденным. И теперь, с несколькими патронами в диске автомата, шатающийся от усталости и жажды, я — победитель. Как ты, как все те, кто пять дней подряд попадал из огня да в полымя, чтобы на шестой день устроить пекло немцам…
Яма уже была такая глубокая, что руки Войтека погружались в нее по локоть. — Есть вода? — Только сыроватый песок… — ответил Войтек и разжал пальцы, чтобы показать мне пригоршню этого сырого песка. Я вытащил из кармана носовой платок и сказал: — Сыпь сюда… Выгребай до дна, браток, и сыпь.
Войтек взглянул на меня недоуменно, но песка не пожалел. И вдруг мы услыхали нарастающий рокот и так же, как «Старик», принялись разглядывать небо. «Мессер» летел очень низко, покружил над сосняком, потом над полем. И тут из деревни, куда «Краюха» с флягой собирался, взлетели три красные ракеты. Пилот, очевидно, их заметил, набрал высоту и полетел на юг, в сторону Яновских лесов.
— Ох, получил бы я водицы. Напоили бы меня досыта, — проговорил «Краюха», провожая взглядом гаснущие ракеты. А я уже был возле «Старика». Крутил и выжимал узелок с песком, пока на губы раненого не упало несколько темных капель. — Маловато, но все же… — улыбнулся я, и «Старик» сначала старательно облизал губы, а потом тоже улыбнулся.
«Старику» пятнадцать лет. Когда к нам в марте прибился, мы хотели его поживее спровадить домой. Но он вытащил из кармана какую-то записку, подал мне, поскольку я стоял ближе всех. — Что это такое? — Важное письмо, — пояснил парнишка, — разрешение из дома. — Какое еще разрешение? — Посмотрите, там написано… — Трижды я прочел про себя, а затем вслух, убежденный, что все должны послушать. Это было письмо матери партизанам, удостоверяющее, что она согласна, чтобы сын ее к ним присоединился, поскольку нет у нее иного выхода и, даже если она не согласится, он все равно поступит по-своему, так пусть уж это будет с ее согласия и благословения. Сын был хорошим, послушным, пока немцы отца не застрелили, а теперь неслух необузданный и великая злоба им владеет, так уж пусть пан командир обратит на него внимание, ведь от горячности до беды один шаг, и пусть о нем позаботится, поскольку это сын единственный, дитя единственное, а кто-то же должен будет вести хозяйство. Я дочитал письмо, тишина воцарилась почти благоговейная. И все ребята смотрели кто в сторону, кто вверх, кто вниз — песок рассматривали или свои драные сапоги, лишь бы не выдать волнения. Уж так нас жизнь помяла и потрепала, что должны мы быть тверды как камень и не давать волю чувствам. Но твердость наша, видимо, определялась тем, что всеми корнями были мы связаны с миром, где ценится любое чувство и плачут над могилой, ибо иначе не посмеешься у колыбели. — А ты хоть знаешь, к каким попал партизанам? — спросил наконец «Белый», нарушая тишину. — Знаю, к польским… — сказал парнишка и вытянулся по стойке «смирно». — К польским… — повторил я вслед за ним и тут же добавил, чтобы внести полную ясность: — Ты попал, сынок, в Армию Людову. — Так он и остался в моем взводе. Долго раздумывал, когда я велел ему выбрать кличку. Волк? Ястреб? Рысь? — Буду «Стариком»… — заявил он, обнажая в улыбке зубы. Роста он был небольшого, тощий, с виду пятнадцати лет не дашь. Но перестали его окликать: сынок, мальчонка, малец. Появился у нас «Старик».
Ромблев запомни, ибо там получил ты настоящее боевое крещение. Они шли все увереннее, ободренные нашим молчанием. Так близко подпустили их, что капли пота были видны на лицах и хоть пуговицы на мундирах считай. Руки у тебя дрожали, тряслись, я хотел шепнуть: держись, не тебе первому открывать огонь. Но тут ротный выкрикнул команду, грянули дружно все наши пулеметы, и ты с близкого расстояния мог увидеть, как валятся на землю непобедимые, как послушно умирают, как бегут без оглядки, теряя автоматы. Они любят иметь дело с безоружными. На твоего отца набросились впятером, и каждому хотелось урвать частицу победы над ним, хотя достаточно было бы одного выстрела, чтобы покончить с истерзанным человеком. Ты стрелял сосредоточенно, истово, словно разгадал мои мысли. Позади нашей цепи начали рваться мины, осыпая нас осколками и песком. Ты, пожалуй, не слыхал этих разрывов, охватила тебя великая глухота, и я гордился тобой. Стреляй, «Старик», поверь мне, что и твой отец, и все наши убитые только такой отходной и ждут от нас. А ранило тебя вечером, когда бой стихал и только фашистская артиллерия прощупывала наши позиции. — Кажется, задело меня… — удивленный шепот и еще большее удивление в глазах. Ты трогал мокрую, потемневшую на груди рубаху и разглядывал окровавленные пальцы. — Ничего страшного, будет о чем ребятам рассказать в деревне… — А вы видали, как я им врезал? — Уложил с десяток, везло тебе сегодня, «Старик». — Он поддакнул мне кивком. Немного погодя батальон разделился на мелкие группы, ибо только так можно было прорваться сквозь кольцо вражеского окружения.
Вернулись из разведки Войтек и «Налим». Сумерки уже поглотили нас, и мы принялись готовиться к броску через зеленое поле, ставшее черным. «Краюха» поправил носилки, сооруженные из двух жердей и непромокаемого плаща. — «Старик»… — я наклонился над парнишкой. — Еще один рывок, последний решающий рывок — и кончится твое путешествие. Будешь когда-нибудь вспоминать о нем, будешь перебирать день за днем в памяти, чтобы при сравнении стали очевиднее все контрасты. И когда, оглянувшись вспять, увидишь это свое, полное лишений лесное житье, покажется тебе оно самой прекрасной порой твоей жизни. — «Старик» не ответил, и я еще ниже наклонился к нему. — Надо спешить, — торопил «Куница». — Живее, ребятки, каждая минута на счету. — Еще ниже я склонился, к самым его устам полуоткрытым, к широко открытым глазам, к боли его, которая вдруг пронзила меня насквозь. — Ну, живей… — И услышал собственный крик: — Заткнись, куда торопишься? Надо по-человечески похоронить «Старика»…
Руками, прикладами, кинжальными штыками принялись мы песок раскапывать. На опушке, у самой кромки поля, которое завтра утром снова будет зеленым. Этакая ямка, а «Старик» в ней уместился. Начали закапывать, и я подумал, что надо бы вернуть «Старику» письмо, с которым он пришел к нам. Вынул записку из кармана и, немного поколебавшись, снова спрятал. Ведь что-то должно остаться от нашего «Старика», кроме обычной памяти, которая часто бывает куда менее долговечной, чем бумага.
Перевод М. Игнатова.
БЫТЬ СОЛДАТОМ Интервью с генералом армии Войцехом Ярузельским
Р и ш а р д Л и с к о в а ц к и й. Товарищ генерал, вы не могли бы, вспоминая свой боевой путь, начать рассказ с весны 1945 года, когда для солдат 1-й армии Войска Польского, измотанных тяжелыми боями за Померанский вал, Колобжег, наступила передышка. Штаб армии разместился тогда в Грифицах, возле Грифиц расположился и штаб дивизии. Ждали новых приказов, и польский солдат мечтал принять участие в битве за Берлин.
А пока отдыхали, пахали поля. Историки даже дали точные цифры: тогда удалось вспахать и засеять 5306 гектаров.
Но было ли это только временем заслуженного отдыха и полевых работ?
В о й ц е х Я р у з е л ь с к и й. Мне та весна вовсе не представляется сплошным отдыхом. В середине марта штаб армии действительно разместился в Грифицах. Но штаб 5-го полка, в котором я служил, находился значительно ближе к Балтийскому побережью, в местечке Стшежево. Мы должны были действовать в полосе Лукенчин — Вжосово.
Когда я сейчас вспоминаю те места, то в памяти возникают прежде всего тяжелые, жестокие бои. Положение, которое сложилось тогда на этом участке, требовало от очень уже уставших солдат мобилизовать все силы, проявить стойкость.
Р. Л. Пока они не вышли к морю…
В. Я. Пока они туда не вышли. Чтобы четче в этом разобраться, я хотел бы несколько расширить содержание вашего вопроса. Я понимаю, в одной беседе едва ли удастся о многом рассказать. Однако, если говорить о том, как польский солдат вышел к Балтийскому морю, нельзя не упомянуть об изнурительных, кровопролитных боях при прорыве Померанского вала. Эти баталии тесно связаны между собой.
Сначала нужно было проломить Поммернштеллюнг — так немцы назвали эту систему укреплений, — и только после этого можно было развивать наступление и перейти к преследованию противника в направлении моря.
Р. Л. Эту систему укреплений немцы начали строить еще в 1934 году…
В. Я. И с той поры постоянно ее совершенствовали, в особенности тогда, когда начали терпеть поражения на Восточном фронте.
Мы уже имели за плечами долгий боевой путь, большой опыт, но перед такой преградой наши войска оказались впервые. Леса и озера, реки и затопленные участки местности, и среди этого всего железобетонные, хорошо замаскированные огневые точки, бункеры, укрытия. Впрочем, там чуть ли не каждый дом был превращен в крепость. Воспоминания о боевых действиях в районе Мирославца, Вежхова, Боруйска, Жабина до сих пор свежи в моей памяти.
Р. Л. Вы были тогда разведчиком?
В. Я. Я был начальником разведки полка, точнее, помощником начальника штаба полка по разведке, ответственным за организацию разведывательных действий. Были удачные операции, были и неудачные. К сожалению, погибли несколько превосходных разведчиков. Добыть языка было непростой задачей, но добывали…
В ходе боев в районе Боруйска, например, мы установили, что перед нами находится 163-я немецкая пехотная дивизия, которая в начале февраля была переброшена из Финляндии. Мы, таким образом, знали, а это было важно, что имеем дело со свежей, боеспособной и хорошо вооруженной дивизией.
Р. Л. Что конкретно означало — начальник разведки полка?
В. Я. В подчинении начальника разведки полка находились взвод пеших и взвод конных разведчиков. Кроме того, я координировал разведывательные действия, осуществляемые силами стрелковых батальонов. По должности я также имел и штабные обязанности.
Р. Л. Если уж мы заговорили о штабе, давайте поговорим о полке, о вашем 5-м полке…
В. Я. Это прекрасный боевой полк. Свой фронтовой путь я прошел в его рядах. Командовал им полковник Антоний Шабельский — поляк из Советского Союза, опытный офицер. Для нас, молодых, он был образцом солдата. Энергичный, собранный, требовательный, но справедливый, мужественный и очень смелый.
Когда после прорыва основной линии Померанского вала полк продвигался к морю, мы с полковником Шабельским оказались в открытом поле, на далеко выдвинутой позиции. Неожиданно начался сильный пулеметный и минометный обстрел. Стало «горячо». Я посмотрел на своего командира — он даже и бровью не повел. Глядя на него, нельзя было бояться или искать укрытия. Я помню этот момент, возможно, еще и потому, что был ранен осколком, царапнуло возле глаза. Пустяк, но два сантиметра выше — и глаза бы не было…
Р. Л. Пустяк?
В. Я. Безусловно, мелочь. Более достоин упоминания тот редкий факт, что полковник Шабельский командовал 5-м полком с момента его формирования до самого конца, до Эльбы. После войны он какое-то время был командиром 1-й дивизии имени Костюшко.
Р. Л. Возвращаясь к 5-му полку… Можно отметить, что в первой декаде марта 1945 года полк пробивался в северо-западном направлении, к морю?
В. Я. Да, пробивался, это верное определение. Это не был обычный марш, все время происходили боевые стычки. Вокруг нас были немецкие части, разбитые, но не сложившие оружия. Они пробивались на север, на запад, стремились соединиться с более крупными группировками. Противник все еще оставался опасным. Местность ему благоприятствовала, так как по маршруту нашего движения были крупные лесные массивы, топи, озера. Можно сказать, фронт вокруг нас.
Разведчики падали от усталости. Местность, конечно же, была незнакомая. Необходимо было вести непрерывную разведку и уточнять маршруты.
После нескольких дней этого трудного марша мы почти вышли к Балтийскому морю. Однако берег на большом протяжении все еще находился в руках противника, который любой ценой пытался его удержать… Именно тогда, когда мы вышли в район сосредоточения, когда был установлен контакт с действующими в этом районе советскими частями, резко возросла активность гитлеровских войск.
Они все время угрожали правому флангу нашей группировки, наступавшей на Берлин, и стремились расширить коридор для вывода своих войск.
5-й полк оказался в трудном положении. Стшежевко, Стшежево, Вжосово, то есть те населенные пункты, к которым вышли подразделения полка, имели стратегическое значение. Если бы гитлеровцы их заняли, они смогли бы укрепить эту важную часть коридора для вывода своих войск и сохранить проход в направлении острова Волин.
Несколько дней шли изматывающие бои. Здесь мы столкнулись вновь с подразделениями 163-й немецкой пехотной дивизии, кроме того, дивизии «Байернвальде», а также с учебными батальонами люфтваффе.
В двух словах трудно рассказать о накале тех боев, но как-то я просмотрел донесения, которые направлял в те дни в штаб дивизии, и убедился, что память хорошо сохранила подробности тех приморских сражений.
Р. Л. А когда вы вышли на берег моря?
В. Я. 13 марта. Я впервые увидел море. Впечатление было непередаваемое. И при этом радостное сознание, что этот песчаный берег, на котором мы стоим, навсегда останется польским берегом.
Р. Л. И наконец наступила передышка…
В. Я. Не для всех. Район продолжал оставаться очень неспокойным. В окрестных лесах укрывались недобитые гитлеровские группы. В море появлялись вражеские суда и корабли, некоторые из них обстреливали берег. На узком перешейке, к западу от Дзивнувека, немцы создали оборону. Мы пробовали просочиться сквозь нее под прикрытием прибрежных дюн, однако она оказалась плотной, а подступы к ней — густо заминированы. Было трудно. Разведчикам опять подвалило работы, а ночи в эту пору уже были довольно короткие.
Но, действительно, именно в это самое время началась солдатская пахота, начался сев — это исторический факт. Части 1-й армии выделяли специальные команды, которые должны были возделывать брошенную землю.
Р. Л. Я думаю, что к этой работе их никто не принуждал, солдат сам рвался к пахоте…
В. Я. Да, это именно так и происходило. Ратный подвиг польского солдата в этих местах стал военным, политическим и моральным аргументом в пользу нашей западной границы. Немаловажным было и то, что солдат пришел сюда и как сеятель, и как хозяин, пришел на свою землю, и пришел навсегда. Многие солдаты уже тогда думали, что найдут здесь свой дом, и нашли его.
Р. Л. Представляется, что боевые действия на севере, бои на побережье Балтийского моря имели важное значение для хода сражения за Щецин…
В. Я. Совершенно верно. Противник стремился во что бы то ни стало удержать Щецин. Достаточно вспомнить, как яростно гитлеровцы обороняли Домбе, район Грифина, окрестности Медвя. Советские части несколько недель вели кровопролитные бои на подступах к Щецину. В этих боях участвовали и польские артиллеристы.
Расчленение, блокирование и ликвидация прибрежных группировок противника, пресечение водных путей между Щецином и морем лишило оборонявших крепость Щецин надежды, что с севера к ним придет какая бы то ни было помощь.
Р. Л. В начале апреля в 1-ю армию поступил приказ из штаба 1-го Белорусского фронта начать выдвижение из района Грифиц к Одре. В течение нескольких ночей 1-я армия преодолела значительную часть пути. Знал ли уже тогда начальник разведки 5-го полка Войцех Ярузельский, что армия идет на Берлин? И если знал, то что чувствовал?
В. Я. Я знал. Однако не могу сейчас сказать, знали ли об этом все солдаты. Это ведь естественно, что штабы должны иметь свои тайны. Солдаты тем не менее догадывались, что приближается нечто важное.
Тот факт, что мы шли на Берлин, имел, разумеется, большое психологическое и моральное значение. Прежде всего как символический, волнующий акт возмездия. Однако преобладала, пожалуй, обычная человеческая радость, что приближается конец, что это наш последний военный этап.
Ночные марши очень утомительны, за ночь мы проходили несколько десятков километров. Хоть ночи были уже не холодные, но усталость оставалась усталостью. Солдаты иногда засыпали на ходу.
Удручающее впечатление оставляли обезлюдевшие города и деревни. Иногда мы встречали колонны немецких беженцев, которые не успели убежать, точнее говоря, которых гитлеровские власти не успели переправить за Одру. Женщины, дети, старики, инвалиды… Когда мы проходили мимо них, они опускали головы, как бы испытывая чувство вины.
После всего того, что принесла оккупация, трудно было сдержать ненависть к фашистам… Случалось поэтому иногда, что наши солдаты не сдерживали свой гнев, свою ненависть к немцам. Но преобладало сочувствие к этим несчастным, напуганным людям. Бывало, что солдаты делились с ними продовольствием, оказывали помощь.
Р. Л. После этих долгих ночных маршей полк наконец вышел к Одре. Какое впечатление произвела на подпоручика Ярузельского эта широкая водная преграда? Предчувствуя близкое окончание войны, не испытывал ли он страха, что может этого не дождаться?
В. Я. Река была действительно широкая, по-весеннему разлившаяся. Было ли страшно? Хоть я и был молод, фронтовой стаж позволял мне чувствовать себя опытным солдатом. Война — это сверхускоренная школа. В определенный момент приходит психологическая устойчивость и даже, может быть, равнодушие. Это не столько вопрос смелости, а скорее, понимания: что должно быть, то и будет. Просто так нужно, и все. Кроме того, война уже успела научить меня, что, если ты слышишь свист снаряда, он уже не твой, он полетел дальше.
На своем боевом пути 5-й полк потерял почти тысячу человек убитыми, а ранеными значительно больше. Выражаясь языком статистики, можно сказать, что, пока полк дошел до Эльбы, его личный состав сменился почти дважды. При этом воины пополнений быстро вливались в боевой коллектив.
Р. Л. А как проходило пополнение разведки? Ведь тут был обязателен какой-то особый отбор…
В. Я. Я пользовался преимущественным правом выбора. Знакомился с вновь прибывшими солдатами, беседовал с ними. Учитывался интеллектуальный уровень, внешний вид, первое впечатление, а иногда и прошлое человека… Просто нужны были люди активные, задиристые и даже с хитрецой, ценились боевитость, хорошая реакция, способность принимать смелые решения. Разведчик должен обладать определенными психофизическими данными. Опыт тех лет помогает мне и сегодня видеть и оценивать людей без каких-либо упрощений. Надо верить в человека. Человек, особенно молодой, меняется, дело только в том, чтобы менялся он к лучшему.
Р. Л. 5-й полк 2-й дивизии начал 16 апреля 1945 года наступление на Одре, с плацдарма, который уже до того удерживала советская 47-я армия генерала Ф. И. Перхоровича…
В. Я. С крохотного плацдарма, на котором было тесно от скопившихся солдат и боевой техники.
Мы атаковали вдоль Одры в северном направлении, помогая тем самым нашей 1-й дивизии, которая начала наступление, форсируя реку в районе города Секерки.
Помнится сильно пересеченная местность между Одрой и Альте-Одером. Каменные здания, частые рвы, каналы с высокими насыпями — и ни одной высотки, плоско, как стол.
Бои были жаркие. Мы взяли Ной-Лицегерик, затем Ной-Вустров и Альт-Вустров; очень трудное положение сложилось под Альт-Ритцем, на какое-то время мы там застряли.
Р. Л. Это именно там подпоручик Кулеша, который вел группу пленных, решил отправить их дальше без конвоя, под «командованием» немецкого унтера? Когда товарищи спросили Кулешу, не сбегут ли пленные, он ответил, что эти вояки сыты войной по горло…
В. Я. Я лично такого случая не помню, но не исключаю, что так могло быть. В районе, которым мы овладели, уже некуда было бежать. Кроме того, пленные сознавали приближение конца. Вдобавок их «разоружал» тот факт, что «красные» не пытают и не убивают пленных, о чем трубила гитлеровская пропаганда.
С другой стороны, не подлежит сомнению, именно страх, что фашисты будут за свои злодеяния отвечать, усиливал сопротивление немецких частей, находившихся перед нами.
Сейчас, когда на эту отчаянную оборону смотришь с определенного расстояния, видишь ясно, какое имели значение и другие факторы, прежде всего большая политика. Здесь, на Восточном фронте, немцы дрались буквально за каждый метр земли, за каждый ров, здесь бросали в бой последние резервы. В то же время там, на Западном фронте, американцы и англичане после форсирования Рейна и овладения Рурским бассейном входили в глубь рейха, как нож в масло, им почти не оказывали сопротивления. Я не думаю, что необходимы еще комментарии.
Р. Л. Вернемся, однако, на тот участок фронта, где бились до конца. Пока достигли Альте-Одера, понесли большие потери. Именно здесь погиб подпоручик Ришард Кулеша. Один писатель рассказывал об этом так: «Достань у меня из кармана часы, — прошептал Кулеша, — и засеки время, и скажи всем, когда я погиб. Часы показывали 17.05». Так ли все было? Через несколько дней после его смерти подпоручик Войцех Ярузельский отправил семье погибшего письмо. Знал ли он тогда все детали смерти друга?
В. Я. Ришард Кулеша погиб 18 апреля, совсем близко от Альте-Одера. С того времени прошло много лет. Но я всегда с горечью вспоминаю ту минуту, скажу честно, с каким-то ощущением личной потери. Он спустился в подвал передохнуть, был очень усталым, заснул моментально. Я с трудом его разбудил, он как бы что-то предчувствовал… Я сказал ему: «Ришард, пойдешь в 1-й батальон, организуешь разведку. Получше разведай систему обороны на Альте-Одере. Там тяжело». Он погиб, выполняя эту задачу. А про часы — все правда. Я помню фамилию ординарца Ришарда — Зелинский. Зелинский был свидетелем его смерти, он мне все потом рассказал.
Меня очень многое связывало с Кулешей, моим ровесником. Мы познакомились и учились вместе в офицерском училище в Рязани, вместе были направлены в 5-й полк 2-й дивизии имени Генрика Домбровского, в Сельцах на Оке. Попали в один и тот же 3-й батальон, командовали взводами. Были всегда близко друг от друга. Если скажу, что ели из одного котелка, то это не будет большим преувеличением.
Потом наши пути несколько разошлись. Весной 1944 года я был назначен командиром взвода конной разведки, а он остался в батальоне. Только осенью, уже на польской земле, Ришарду доверили командовать пешим разведвзводом, и мы снова оказались вместе.
Вскоре после освобождения Варшавы я принял командование разведкой полка. Наши с ним отношения, однако, неизменно оставались товарищескими, сердечными, это была настоящая дружба. Ришард был интеллигентным, смелым, доброжелательным, непосредственным. Солдаты его любили.
Я знал, что у него есть семья: отец, мать, сестры. То, что я написал им и разделил с ними боль, когда Ришард погиб, было естественным душевным движением. Его личные вещи… да какие там были у нас личные вещи — полевая сумка, разная мелочь… я потом передал его семье.
Всегда, когда бываю в тех местах на Одре, я навещаю его могилу. Все, кто там лежит, мне близки. Это кладбище в городе Секерки охраняет нашу границу так же, как каждый живой солдат, который стоит с оружием на посту на Одре.
Р. Л. А что происходило потом, после прорыва рубежа на Альте-Одере? Где и в какой момент пришла к подпоручику Ярузельскому весть о капитуляции Германии, о конце войны?
В. Я. Чтобы ответить на эти вопросы, хочу вернуться к июлю 1944 года. 1-я армия шла тогда через Люблин. И мы видели Майданек, а позднее — тысячи других следов фашистского варварства. Уже на немецкой земле участвовали в освобождении из лагеря Заксенхаузен заключенных разных национальностей, в том числе немецких антифашистов.
Расскажу теперь об одном из последних, но тяжелых боев на канале Руппинер. Там мы столкнулись с частями группы генерала Штейнера, который шел на помощь окруженному Берлину, причем сумел захватить плацдарм на южном берегу канала. Нам было нелегко. Разведка должна была проявить большую активность. До Эльбы оставалось всего несколько десятков километров, и уже это красноречиво свидетельствует, что до последней минуты война не была для нас легкой…
4 мая полк вышел к Эльбе и находился там три дня. 7 мая началась наша переброска в Польшу. С 8 мая на 9 мая мы были на расстоянии однодневного перехода от Эльбы. Там застал меня конец войны.
Я помню тот ночной фейерверк, ту сумасшедшую канонаду. От огромной радости мы стреляли в воздух, салютовали. Солдаты обнимались. Все понимали, что это конец боевого труда, военных тягот, и была естественная гордость, что дошли мы далеко, куда еще ни один польский солдат в нашей истории не доходил победителем.
Р. Л. Какие личные и солдатские отношения связывают Вас, товарищ генерал, с Щецином, с этим единственным польским городом на западном берегу нижней Одры?
В. Я. К Щецину я испытываю особое чувство. По разным причинам. Прежде всего, с этим городом связан важный этап моего солдатского пути. От боев на побережье Балтийского моря до боев на Одре. Там погибло и лежит в этой земле немало моих товарищей по оружию.
Однако и живые связывают меня с этой землей. В том числе осевшие в этих местах воины, с которыми я вместе сражался, и те, вместе с которыми когда-то ехал в польскую армию. Например, капитан Тадеуш Журавский, командир роты автоматчиков, а затем командир 1-го батальона, тяжело раненный в районе Альте-Одера. У меня там много знакомых.
С Щецином меня связывает также то, что там дислоцируется мой родной 5-й полк. Я рад тому, что это, как и прежде, хороший полк… А о том, насколько он мне близок, говорит и тот факт, что именно перед его строем я сложил с себя обязанности министра национальной обороны.
Что еще связывает меня с Щецином? В течение нескольких лет я был командиром 12-й дивизии и начальником щецинского гарнизона, у меня остались наилучшие воспоминания об этом периоде. Я познакомился со многими замечательными людьми, понял патриотизм щецинцев, почувствовал неповторимую атмосферу этого города.
В шестидесятые годы я был депутатом сейма от Щецинского воеводства, часто встречался с жителями этой земли. Насколько мог, старался быть выразителем интересов Щецина.
Нельзя также не упомянуть о том, что Щецин действительно красивый город, с оригинальной архитектурой, с богатой, разнообразной застройкой, утопает в зелени…
Р. Л. Щецин как раз только что праздновал очередную годовщину своего освобождения…
В. Я. Такие годовщины очень важны, причем надо постоянно помнить о том, что Щецин — кардинальный вопрос для Польши. Он подтверждение нерушимости советско-польского союза и братства по оружию, а также добрососедских отношений с ГДР. Щецин — это ключ к Балтике, а прежде всего это окно Польши, наиболее выдвинутое на запад и широко распахнутое. Мы в Щецине — это значит, что западные и северные земли наши…
Я желаю Щецину, чтобы он и впредь оставался тем польским городом, где вполне ясно понимают высшие государственные интересы. Имеется еще много сложных проблем. Но ведь у нас есть Польша. Социалистическая Польша с границей по Одре и Нисе, с широким выходом к Балтике.
Вел беседу Ришард Лисковацкий.
Еженедельник «Море и земля», 6 мая 1984 г.
Перевод М. Зубкова.
Примечания
1
Перевод А. Эппеля.
(обратно)2
Перец, Ицхак Лейбе (1852—1915) — классик еврейской литературы в Польше.
(обратно)3
Здесь: наступил решающий момент (лат.).
(обратно)4
Отрывок из поэмы «Пан Тадеуш» А. Мицкевича (1798—1855). Пер. С. Марр.
(обратно)5
Перевод Б. Стахеева.
(обратно)6
Имеется в виду польское национально-освободительное восстание 1831 года.
(обратно)7
Перевод Б. Стахеева.
(обратно)8
«Батальоны хлопске» (Крестьянские батальоны) — подпольная военная организация Крестьянской партии в 1941—1945 гг.
(обратно)9
Польская рабочая партия — политическая организация польского пролетариата, создана в 1942 году, в 1948 году объединилась с Польской социалистической парией, образовав ПОРП.
(обратно)10
Народове Силы Збройне (Национальные вооруженные силы) — подпольная военная профашистская организация в 1942—1945 гг.
(обратно)11
Армия Людова (Народная армия) — подпольная военная организация ППР, создана в 1944 г.
(обратно)



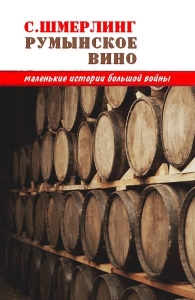

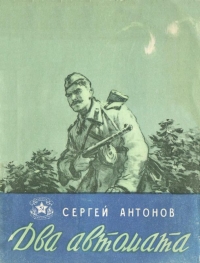



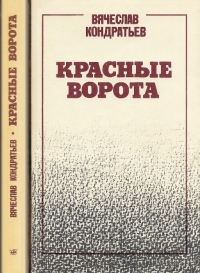
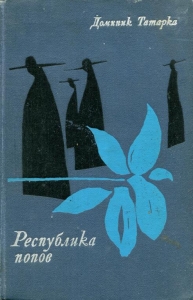
Комментарии к книге «Жизнь вечная», Ришард Лисковацкий
Всего 0 комментариев