Борис Васильев А зори здесь тихие… Повесть В списках не значился Роман Рассказы
От верстальщика
Публикации вошедших в эту книгу произведений Бориса Васильева многократно подвергались литературному редактированию. Вносились изменения различного характера — структурные, лексические, стилистические, синтаксические. Специальной редактуре подвергались издания для детской аудитории.
Это издание кишиневской «Литературы артистикэ» — случай особый. Литературно-редакционные отличия текста в нем от вышедшего несколькими месяцами ранее в издательстве «Художественная литература» сборника идентичного содержания (Васильев Б. Л. А зори здесь тихие… В списках не значился. Рассказы. М.: Худож. лит., 1978) большей частью можно объяснить просто спешкой и небрежностью издательской подготовки.
Некоторые из таких отклонений от текста принятой за эталон (поверочной) публикации издательства «Художественная литература» 1978 г. (на мой взгляд — неоправданные или неудачные, а иногда просто некорректные) в этом электронном издании устранены, причем варианты текста печатного прототипа («Литературы артистикэ») приведены в комментариях к тексту книги. Восстановленные пропуски текста поверочной публикации помещены в квадратные скобки. Прочие редакторские правки печатного прототипа — имеющие, как мне кажется, право на существование,— сохранены и комментариями не сопровождаются.
Аналогично, устранены без сопровождения комментариями несомненные неисправности печатного издания, включая ошибочную орфографию и пунктуацию. При этом сохранены допустимые варианты пунктуации печатного прототипа, отличные от использованных в поверочном издании.
Надеюсь, что в результате получился текст, более близкий к авторскому, а добавленные мной примечания не затруднят восприятие текста читателем.
L.А. Дементьев Военная проза Бориса Васильева
Давно отгремели залпы Великой Отечественной войны. Но о ней продолжают вспоминать, рассказывать, писать. И вспоминают и рассказывают, естественно, по-разному: по-своему, часто о своем. Решить вопрос о том, что и как рассказать о войне, во многих случаях оказывается не так просто. Что же важно в наши дни знать и помнить о войне, о том, «как все было»? О чем обязаны советские люди не забывать и помнить вечно? Что из рассказов о войне способно взволновать ум и сердце нашего современника, нашей молодежи?
В рассказе Бориса Васильева «Ветеран» («Юность», 1973, № 4) выступить с воспоминаниями о войне на вечере в заводском Доме культуры поручено ветерану войны бухгалтеру Алевтине Ивановне Кониковой. Ветеран оказался в крайне затруднительном положении. О чем, о ком и что она расскажет? Дело в том, что Алевтина Ивановна прошла войну бойцом банно-прачечного отряда, а попросту говоря прачкой. Всю войну бойцы этого отряда простояли за корытами… «И чего им нас-то вспоминать, какие мы солдаты,— говорит Алевтина Ивановна.— Я же не на передовой. Я же…»
Надежда была на советы и помощь мужа, человека хорошего и серьезного, бывшего фронтовика, трижды раненного и страстного любителя военных мемуаров, которые он читал, «старательно разбираясь в стратегических планах кампаний». Ее Петр Николаевич действительно помог:
— Кто у тебя командующий был?
— Техник-лейтенант Фомушкин.
— Ну какой там Фомушкин! — усмехнулся муж.— Я тебя серьезно спрашиваю, а Фомушкин твой — это, знаешь, для домашнего употребления. Ты же выступать будешь перед массами. Перед комсомолом, звонкой нашей сменой. Какое им дело до твоего техника? Тут масштаб нужен!
И он порекомендовал жене проштудировать подготовленные для нее книги:
«— Не какая-нибудь там художественная литература: мемуары! Вот на них и опирайся.
— А про себя?
— Что про себя? — не понял Петр Николаевич.
— Про себя рассказывать велели.
— Это как белье стирать?..— усмехнулся он.— Про себя, Аля, рассказывать нам ни к чему, это никому не интересно. Важно в масштабе вопрос поставить. Миссию подчеркнуть важно, понимаешь?»
«— …Значит, так начнешь: „Выполняя свой священный долг, победоносная Советская Армия…“» — советовал муж.
И Алевтина Ивановна начала старательно «штудировать» отложенные мужем мемуары. И все было бы хорошо, если бы не растущее в ней «несогласие» с тем, что в них говорилось… Это была какая-то «иная», не «ее» война — война бойца банно-прачечного отряда. И она, отложив в сторону книги, отказавшись от характеристики «стратегического плана кампании», решила, что расскажет «о своем».
О технике-лейтенанте Фомушкине, который стал «командующим» банно-прачечным отрядом после контузии, превратившей его, сорокалетнего, в старика, у которого непроизвольно дергалась голова и при малейшем волнении тряслись руки, и о том, как добрый «командующий» старался уберечь девушек своего отряда от бед и трудностей.
О том, как боец Лида Паньшина влюбилась в саперного лейтенанта, как отряд выдавал ее замуж («Помирать буду, день этот вспомню, сестрички вы мои!» — с плачем говорила Лида), как через три дня после свадьбы ее молодой муж подорвался на незамеченном фугасе…
О самоотверженном труде бойцов банно-прачечного отряда: «Двести пар заскорузлого от крови и пота обмундирования и горы окровавленных бинтов ждали их на каждом рассвете войны… От кипятка и ядовитого, пронзительно вонючего мыла трескалась и уже не заживала кожа. Ее разъедало горячей пеной… А потом как-то незаметно, исподволь стали исчезать и ногти. И стирать стало не просто больно, но и страшно: а вдруг они, эти ногти, так и не вырастут никогда? И девушки очень расстраивались и плакали…»
Так решила Алевтина Ивановна… Но, оказавшись на трибуне перед лицом зала, наполненного веселыми нарядными девушками, увидев в президиуме торжественных, со всеми орденами фронтовиков, она растерялась и, не узнавая собственного голоса и своих мыслей, неожиданно выкрикнула: «Выполняя свой священный долг, победоносная Советская Армия, сломив ожесточенное сопротивление озверелого врага, вступила в порабощенную фашизмом Европу…» Пришлось Борису Васильеву за Алевтину Ивановну рассказать о «ее войне».
И несмотря на то, что «масштабы» рассказа «Ветеран» ограничены, «миссия» и «стратегический план кампании» в нем не раскрыты, и речь идет всего лишь о бойцах банно-прачечного отряда, их радостях и печалях, победах и поражениях, он производит сильное впечатление и заставляет задуматься. Вероятно, потому, что его «стратегия» несет особый нравственно-психологический характер, его «миссия» заключается в том, чтобы раскрыть истоки массового героизма в народной войне с фашистской Германией, и в этом отношении его масштабы, значение и достоинства неоспоримы. Больше того, «Ветеран» для Б. Васильева — рассказ в известном отношении программный. Рассказать за многих и многих помышлявших и не помышлявших о славе, награжденных и не всегда награжденных, не успевших или не сумевших вспомнить о «своей войне», безвестных и даже «в списках не значившихся» — рядовых солдатах, сержантах, старшинах, еще необстрелянных лейтенантах, часто о женщинах на войне, занимавших «негероические должности»,— в этом одна из особенностей всей военной прозы Васильева, его, можно сказать, литературная позиция. В этом смысле он следует той художественной традиции, которая была обозначена «Звездой» Э. Казакевича и продолжена произведениями Ю. Бондарева, Г. Бакланова, В. Быкова и других советских писателей.
Характерен с этой точки зрения и другой рассказ Бориса Васильева «Старая „Олимпия“» («Юность», 1975, № 6). Он тоже о женщине на войне и тоже воевавшей не на передовой, а в тылу— штабной машинисткой. Семнадцатилетняя Катя пошла в армию добровольцем и мечтала о другом. Но ее не взяли ни в разведку, ни в связь, ни даже в санитарки, а направили в штаб армии и «вместо автомата вручили разбитый „ундервуд“». Она смирилась со своей негероической должностью: кому-то надо было считать портянки, чтобы победить. И она печатала: «Портянок зимних — двенадцать тысяч шестьсот сорок три пары. Рубах нательных теплых… из них первого роста… второго…»
На фронте Катя полюбила. Однако лейтенант — ее избранник — не вернулся с задания. Он отстреливался до последнего патрона, а потом взорвал себя противотанковой гранатой. «Для Кати этот лейтенант навсегда остался тем, кто приходит в девичью жизнь с любовью и уходит из нее, унося эту любовь». Так унесла война и юность и любовь Кати, но не смогла отнять у нее ее самопожертвования, заботы о людях, доброты.
После войны Катю стали называть «Старой „Олимпией“», потому что она работала уже не на разбитом «ундервуде», а на подаренной ей «Олимпии», и на вопрос, сколько экземпляров берет ее машинка — с гордостью отвечала: «— Семь. У меня старая „Олимпия“».
«Если вам надо что-нибудь отпечатать, заходите: Катюша никогда не откажет… Поклонитесь ей, если встретите… А фамилия… Какая разница, какая у нее фамилия? Она Катюша, а это имя много значило для нас. Очень многое.
Поверьте уж мне на слово, молодые…»
Заканчивает свой рассказ Васильев, может быть, чуть-чуть сентиментально, но надо же было ему прямо и открыто сказать о своей симпатии к героине рассказа?
Несомненно, автор «Ветерана» и «Старой «Олимпии» в полной мере обладает даром напрямую обратиться к сердцу читателя, пронзить его состраданием и восхищением, заставить пережить волнение и даже потрясение. А в чувствах разобраться бывает нелегко — чего здесь больше? Печали об отнятой молодости, о несостоявшейся женской судьбе или естественной удовлетворенности от того, что долг исполнен, как бы ни был он скромен и негромок? Потому что и боец банно-прачечного отряда Алевтина Ивановна, и машинистка Катюша самоотверженно воевали за правое дело в том возрасте, который «у всех поколений всегда бывает самым звонким, самым свободным и самым прекрасным, за что и называется юностью».
Сегодня эти и другие рассказы Б. Васильева — независимо от времени их появления в печати и художественной завершенности — можно прочесть как фрагменты, сюжетные заготовки или подходы к одной и той же теме, нашедшей наиболее полное и последовательное воплощение в повести «А зори здесь тихие…», которая появилась в 1969 году и была, как и другие произведения его военной прозы, не случайно напечатана в журнале «Юность».
Повесть как-то сразу и безусловно покорила не только подписчиков «Юности», но и тех читателей, которым пришлось добывать номер журнала, где она была напечатана, согласно летучей, распространившейся с молниеносной быстротой аннотации: «Это надо прочесть». Но и здесь было лишь начало успеха. «Зори» принял к постановке чуткий к общественному мнению Драматический театр на Таганке, создав один из лучших своих спектаклей. Одновременно они вошли в репертуар Центрального театра Советской Армии и многих областных театров. На экраны вышел прекрасный фильм того же названия. Затем герои повести старшина Васков и пять милых девушек в пилотках шагнули на главную оперную сцену страны… В докладе на XXV съезде КПСС Л. И. Брежнев, говоря об успехах нашего искусства, сказал и о том, что «молодое поколение становится сопричастным подвигу его отцов или тех совсем юных девчат, для которых тихие зори стали часом их бессмертия во имя свободы Родины. Таково подлинное искусство».
В чем же секрет успеха повести Бориса Васильева, не гаснущего интереса и — редкий, счастливый случай — всеобщей симпатии к ней?
Конечно же, прежде всего — в поэзии подвига и героизма, которой проникнуты «Зори», и в той нравственной безусловности, с какой изображен в ней смертный бой пяти советских девушек и старшины Васкова с отрядом диверсантов-гитлеровцев.
Никто: ни юные зенитчицы с тихого разъезда номер 171, ни умудренный опытом их командир старшина Васков не предполагали, что, получив задание найти и захватить в плен замеченных в лесу двух фашистских разведчиков, их маленькая «поисковая группа», вооруженная «родимыми, образца 1891 дробь тридцатого года» винтовками, неожиданно натолкнется на шестнадцать с головы до ног вооруженных фашистских головорезов.
«Наступила та таинственная минута,— пишет Васильев,— когда одно событие переходит в другое, когда причина сменяется следствием, когда рождается случай… на войне, где нервы напряжены до предела, где на первый жизненный срез снова выходит первобытный смысл существования — уцелеть,— минута эта делается реальной, физически ощутимой и длинной до бесконечности».
Силы совсем, совсем неравные… Незаметно отойти, отступить и открыть гитлеровским диверсантам дорогу к Кировской железной дороге и Беломорканалу? Или любой ценой, любыми средствами помешать фашистам осуществить их замысел? Отходить и отступить Васкову и его девичьему воинству и в голову не приходит. Они и не выбирают…
И пришлось Рите Осяниной, Жене Комельковой, Соне Гурвич, Лизе Бричкиной, Гале Четвертак сложить свои головы в том карельском лесу. Пусть не все девушки гибнут с оружием в руках, пусть их бой всего лишь «местного значения», повествование перешло за тот рубеж, где все уже мерится самой простой и высокой мерой: жизнь одна и смерть одна, где все они — подлинные героини войны,— встают рядом со своими родными сестрами — Зоей Космодемьянской, Лизой Чайкиной, Любой Шевцовой.
Тяжелые испытания выпали и на долю старшины Васкова. Ему суждено было схоронить всех своих бойцов, превозмочь горе, раны и нечеловеческую усталость и в последней исступленной схватке жестоко отомстить гитлеровцам, а потом еще до конца дней нести на душе тяжесть оттого, что не уберег девчат.
Затаив дыхание, следим мы за передвижением маленького отряда Васкова, почти физически ощущаем опасность и препятствия, подстерегавшие его на каждом шагу, облегченно вздыхаем, когда старшине удается придумать удачный маневр, радуемся ловкости и смелости Жени Комельковой, готовы кричать вслед потерявшей голову Галке Четвертак… Васильев не отпускает нашего внимания ни на минуту и заставляет шаг за шагом пройти за пятью девушками и старшиной — то болотом, то между валунами, то лесной чащей. При этом развитие повести нисколько не тормозится вставными новеллами, приоткрывающими прошлое наших героинь. Васильев столь естественно вводит их в повествование, так смело включает в канву событий, что очень небольшая, в сущности, повесть раздвигает свои границы и дает нам ощущение пространства и времени, достаточное для того, чтобы узнать ее героинь и понять, что они — плоть от плоти своего общества, своей Родины.
Пять совершенно различных девичьих характеров представляет нам писатель. Что, казалось бы, общего между строгой Ритой Осяниной, натурой сильной и чистой, и ребячливой фантазеркой, неуверенной в себе Галкой Четвертак; какая может быть близость между выросшей на лесном кордоне молчаливой Лизой Бричкиной и поклонницей Блока Соней Гурвич, что общего со всеми ними у озорной, дерзкой Женьки Комельковой, «сосланной» на 171-й разъезд после штабного романа? Между тем девчата не просто ладят,— ни тени непонимания между ними, ни тени психологической или какой-либо прочей «несовместимости»! Более того, взбалмошная Комелькова погибает, чувствуя себя победительницей оттого, что запутала фашистов, увела далеко от раненой Осяниной, оставшейся со старшиной Васковым. А Осянина в свою очередь просит Васкова уйти, помочь Женьке. Даже «негероическая» смерть Лизы Бричкиной или Сони Гурвич при всей ее кажущейся случайности связана с самопожертвованием: в одном случае это желание скорей перейти болото и привести подмогу, в другом естественное душевное движение сделать приятное доброму и заботливому старшине — сбегать за оставленным им кисетом.
И старшина Васков, который Блока не читал, которого девушки поначалу считают в его тридцать два года чуть ли не стариком, а подметив его пристрастие к порядку и воинской дисциплине,— служакой, уставным формалистом и придирой, оказался просто незаменимым в их походе и не только потому, что по-солдатски опытен, находчив, но потому, что человечен, умен, проявляет поистине отеческую заботу о девушках. И умирая, Рита Осянина поручает Васкову своего сына, потому что старшина совестлив и надежен. Один из критиков верно заметил, что в Васкове есть что-то от таких образов русской литературы, как Максим Максимыч или капитан Тушин. Но, несомненно, одним из ближайших предшественников Васкова является Василий Теркин.
Конечно, те исключительные обстоятельства, в которых оказались Васков и девушки, неизбежно сближают людей. Но есть в их судьбах и та, подчеркнутая Васильевым общность, перед которой отступает разность воспитания, образования и прочие особенности биографий. Есть то единство отношения к жизни, людям, войне, та общность, которая не требует определений и доказательств и которую иначе не назовешь как народным сознанием, преданностью и любовью к Родине.
Васкову и его девчатам надо «держать позицию», «как ни тяжело, как ни безнадежно — держать». «И такое чувство у него было,— пишет Васильев о Васкове,— словно именно за его спиной вся Россия сошлась, словно именно он, Федот Евграфыч Васков, был сейчас ее последним сынком и защитником. И не было во всем мире больше никого: лишь он, враг да Россия. Только девчат еще слушал каким-то третьим ухом: бьют еще винтовочки или нет. Бьют — значит, живы. Значит, держат свой фронт, свою Россию. Держат!..»
Умирает смертельно раненная Рита Осянина. По самое горло полон печалью Васков, и не может он скрыть от Риты свои невыносимо тяжелые чувства и думы: «Что ответить, когда спросят: что же это вы, мужики, мам наших от пуль защитить не могли!.. Дорогу Кировскую берегли да Беломорский канал? Да там ведь тоже, поди, охрана, там ведь людишек куда больше, чем пятеро девчат да старшина с наганом!
— Не надо,— тихо сказала она.— Родина ведь не с каналов начинается. Совсем не оттуда. А мы ее защищали. Сначала ее, а уж потом канал».
И другое. У каждой из девушек свой «личный счет» к захватчикам, но он связан со «счетом» всей страны. У Риты Осяниной на второй день войны погиб муж, лейтенант-пограничник; но в результате вероломного разбойничьего нападения гитлеровцев на нашу страну уже в первый и во второй дни войны многие наши женщины стали вдовами и многие дети сиротами. На глазах у Жени Комельковой фашисты расстреляли из пулемета всю ее семью; но они подвергли зверскому уничтожению миллионы мирных жителей нашей страны. Судьба родителей еврейки Сони Гурвич, не успевших эвакуироваться из Минска, несомненно была мучительной; но гитлеровцы поставили целью истребление всего еврейского населения. Так «личный счет» девушек из отряда Васкова соединился со «счетом» всего советского народа, свое, индивидуальное оказалось неотделимым от общего, общенародного.
После этого становятся до конца понятны те чувства, с какими Васков и его девушки воюют с гитлеровцами. Конечно, война — дело варварское, жестокое, бесчеловечное. И вся повесть Васильева — от первой и до последней страницы — проникнута этим пониманием и настроением. Героиням его повести — девушкам, рожденным для любви, материнства и мирных забот и трудов,— это известно лучше, чем кому-либо другому. Но что же делать, если враг, напавший на твою родину, отбросив все человеческое, превратился в лютого, страшного зверя, несущего смерть всему живому на твоей родной земле? Разве не прав Васков, думая, что в таком случае по отношению к врагу не существует ни человечности, ни жалости, ни пощады: «Бить надо. Бить, пока в логово не уползет».
Женя Комелькова, защищая Васкова, убила гитлеровца — размозжила ему голову прикладом винтовки. Потом она долго не могла прийти в себя, найти себе место. «Тут одно понять надо: не люди это. Не люди, товарищ боец, не человеки, не звери даже — фашисты. Вот и гляди соответственно»,— говорит ей Васков. И говорит справедливо. В ненависти к фашизму и любви к Родине — истоки героизма советского человека, отсюда начинается его путь к подвигу.
Васков и его девчата выиграли свою войну: гитлеровцы не прошли. Но не сберег старшина своих бойцов, не смог предотвратить их гибели. Все пять девушек навеки остались лежать в краю, где зори тихие-тихие. Горе и печаль переполняют душу их командира. И вместе с ним скорбит читатель повести. И его боль за недоживших и недолюбивших девушек соединяется с болью за все страшные жертвы, принесенные нашим народом на алтарь Отечественной войны.
Б. Васильев не преуменьшает и не смягчает бедствий войны, не уклоняется от изображения ее трагедий, ужасов и тяжелых последствий и не скрывает цены победы. Ему дорога истина, суровая, мужественная правда. Однако всем своим содержанием, всем своим пафосом повесть говорит, что наши жертвы были не напрасны, что принесены они во имя спасения Родины и всего человечества от фашизма, что трагедия, о которой рассказывается в «Зорях»,— трагедия оптимистическая. Из боя в карельских лесах девушки шагнули в наш день, в бессмертие. Они не стояли за ценой, добывая победу, не считали, «кому память, кому слава, кому темная вода». Но сегодня мы знаем: всем память, всем слава.
Во многом успех повести «А зори здесь тихие…» зависит от того, что автор избежал в ней плакатности, ложной патетики, высоких слов, произносимых всуе. Он понимал, что подлинная поэзия подвига и героизма требует простоты, естественности, реализма. Группа Васкова, ее бойцы, их бой с гитлеровцами изображены в повести в естественном переплетении героического и будничного, смешного и возвышенного, радости и горя. Это настоящие живые люди с их натуральными чувствами и невыдуманным поведением.
И даже в исключительных обстоятельствах и крайних ситуациях Б. Васильев не забудет о бытовых мелочах и подробностях. Наоборот! Тут и раскрываются крестьянские, охотничьи, мастеровые таланты Васкова, а вся его «гвардия» в пути моется, стирает, гомонит, как на посиделках… Но быт у Б. Васильева не просто фон, он соотнесен с главной идеей произведения. Быт, как бы хочет сказать писатель, устойчив и вечен, как все человеческое и сама жизнь, как женская природа пятерых бойцов, как редкостное душевное здоровье Васкова. Более того, быт в повести одухотворен и лирически окрашен. Это человечность и мир, противопоставленные всему бесчеловечному, и прежде всего войне с ее жестокостью и жертвами.
Человечность и правда — вот основа «Зорь». Благодаря им в повести соединились поэзия и проза, юмор и драма, лирическая одухотворенность образов и протокольная точность описаний, романтика и реализм. Отсюда и поэтическое своеобразие и очарование повести.
Читатель «Зорь» не может не обратить внимания на особый интерес, который испытывает их автор к тому рубежу в жизни советских людей, который означает их переход от мира к войне. На этой грани, черте, разломе он часто останавливается удивленно и горестно.
Рассказ «Пятница» («Юность», 1970, № 6) войны как бы совсем и не касается. Действие его развивается в праздничный день 22 июня 1941 года… Веселая массовка молодежи одного из московских заводов. Лес, солнечная поляна, песни, танцы, веселье. Три друга: кузнец Федор, заводской поэт Сеня, монтер Костя. Влюбленная пара: Костя и молоденькая библиотекарша Капа. Для них в этот день перестали существовать и пространство и время. Костя говорит Капе: «Капелька!.. Ты мое воскресенье». Капа же, исходя из романа «Робинзон Крузо», объявляет себя «Пятницей». «Я твоя Пятница. Твоя Пятница, слышишь?.. Обними меня. Крепко, крепко!..»
Счастье настолько овладело влюбленными, что они нимало не задумываются над тем, что происходит в близлежащей деревне. «Вой стоял над деревней, бабий вой над покойником, над минувшим счастьем, над прожитой жизнью…» Им было не до этого. Им и в голову не могло прийти, что в это воскресенье — 22 июня 1941 года — началась Отечественная война.
О войне в рассказе сказано совсем немного — в кратком послесловии, или эпилоге. Из него читатель узнает, что Сеня погиб в Освенциме, Федор сложил голову под Севастополем, Костя потерял на войне ногу. У Кости — теперь Константина Ивановича — большая семья: два сына и дочь. Иногда он ездит в Смоленск и там долго молча стоит на площади, на том самом месте, где 17 октября 1942 года гестаповцы повесили партизанскую связную со странной подпольной кличкой «Пятница»… И он о ней никогда не рассказывает. Никому…
А у дочки его редкое имя: Капитолина, Капелька…
Столкновение мирной жизни и «мирных» представлений о войне с крутой и жестокой реальностью войны является одним из главных мотивов и романа Б. Васильева «В списках не значился» («Юность», 1974, №№ 2, 3, 4). В сущности говоря, весь роман — это «роман воспитания», повествование о школе зрелости и мужества, которую за короткий срок героической обороны Брестской крепости проходит девятнадцатилетний лейтенант Николай Плужников.
Хотя в романе описываются всего несколько «мирных» дней лейтенанта Плужникова, но для него все они насыщены важными событиями. Только что Плужников окончил военное училище. Он убежден, что лишь служба в войсках формирует настоящего командира, по своему выбору получает назначение командиром взвода и направляется в одну из частей Особого Западного округа.
О войне у лейтенанта самые ясные и определенные представления. Он уверен, что гитлеровская Германия не посмеет напасть на нашу страну, и любые разговоры об этом считает провокационными. Он нисколько не сомневается, что в противном случае Советская Армия быстро разгромит врага на его собственной территории.
Едва выкроив полдня, чтобы проститься с матерью и сестрой, но успев за это время влюбиться в подругу сестры, Плужников уезжает к месту назначения. Поздно ночью 21 июня 1941 года он прибывает в Брестскую крепость, на следующий день с утра полагает явиться к начальству, зачислиться в списки части и приступить к исполнению своих служебных обязанностей.
Но 22 июня в четыре часа пятнадцать минут утра тяжкий грохот обрушился на Брестскую крепость: гитлеровская Германия предательски напала на Советский Союз, началась Великая Отечественная война, началась оборона Брестской крепости…
То, что Б. Васильев захотел рассказать своим читателям об истории обороны Брестской крепости, весьма естественно. Трагическое и доблестное сопротивление ее защитников — одна из самых ярких и многозначительных страниц Великой Отечественной войны. К тому же до сих пор нельзя сказать, что нам известны все перипетии борьбы, что мы знаем всех ее героев. С этим связано много легенд и устных рассказов. Экспонаты, хранящиеся в Музее обороны крепости — от знамени и оружия ее защитников до их личных вещей,— полны важного и нераскрытого до конца смысла и содержания. Короче говоря, история обороны Брестской крепости представляет огромный интерес для читателей и открывает самые широкие возможности для воображения, чувств и мысли писателя.
Правда, есть изумительная книга С. С. Смирнова «Брестская крепость», но это документальное исследование, которое не выходит за строгие пределы материалов и свидетельств, собранных ее автором в результате долгих, упорных и трудных поисков. Б. Васильев написал об обороне Брестской крепости роман. Героическая эпопея встает перед его читателями в ярких картинах и живых образах художественного произведения.
После трех первых дней яростных боев «дни и ночи обороны крепости слились в единую цепь вылазок и бомбежек, атак, обстрелов, блужданий по подземельям, коротких схваток с врагом и коротких, похожих на обмороки, минут забытья. И постоянного, изнуряющего, не проходящего даже во сне желания пить».
Затем немцам удалось ворваться в крепость и разорвать ее оборону на отдельные, изолированные друг от друга очаги сопротивления. Днем они шаг за шагом превращали крепость в развалины и уничтожали в ней все живое, а ночью развалины оживали вновь. «Израненные, опаленные, измотанные жаждой и боями скелеты в лохмотьях поднимались из-под кирпичей, выползали из подвалов и в штыковых атаках уничтожали тех, кто рисковал оставаться на ночь. И немцы боялись ночей».
А потом оборона ушла в глухие подземелья. Небольшие группки засевших там защитников крепости вели упорную войну с гитлеровцами. «Мы — подразделение Красной Армии. Обыкновенное подразделение, только и всего»,— говорит Плужников трем солдатам и двум женщинам, оказавшимся вместе с ним.
Наконец наступили последние дни и недели обороны крепости, иссякали последние силы ее защитников, сопротивление продолжалось в одиночку. «В первый день нового 1942 года ему (Плужникову.— А. Д.) особенно повезло… он уложил двоих, уложил наповал, из хорошего убежища. Долго бегал по подвалам, уходя от погони, и ушел, потому что мела вьюга и следы его не взяла бы и самая опытная собака…» Так и не сдалась, не пала Брестская крепость. Не взяли ее ни бомбами, ни толом, ни огнеметами. Она просто истекла кровью…
Понятно, что роман о героической обороне Брестской крепости написан Б. Васильевым по-другому, в иной тональности, нежели повесть «А зори здесь тихие…». Ни рассветы, ни закаты, ни дни, ни ночи не были в крепости тихими. Не было быта и будней. Неописуемый по своей ожесточенности бой шел без перерыва. Речь писателя зазвучала сурово, напряженно, нередко возвышенно.
Но какой бы выразительной и впечатляющей ни была картина обороны Брестской крепости, нарисованная Б. Васильевым, все же смысл и пафос его романа «В списках не значился» заключается не только и даже не столько в этом. И чтобы осознать суть произведения, необходимо вернуться к его главному герою, лейтенанту Плужникову.
Он приехал в Брестскую крепость восторженным юношей, полным самых радужных мечтаний о своем будущем и не совсем подготовленным к встрече с войной. А между тем война неожиданно обрушилась на него всей своей тяжестью сразу же по прибытии к месту назначения. Не мудрено, что в первых схватках с гитлеровцами Плужников теряется, упускает из рук командование, и опытные сержанты, старшины, бойцы-пограничники то и дело поправляют его, подсказывают ему. Больше того, в этих схватках он дважды струсил. Оборона Брестской крепости явилась для Плужникова жестокой школой возмужания, духовного роста и воинского уменья. В изображении этого процесса и состоит, на мой взгляд, суть романа «В списках не значился».
Плужников будет и впредь допускать ошибки. Жестокий урок, научивший его отличать подлинную человечность от ложной, получит он, пожалев и отпустив пленного гитлеровца. Уроки подобного рода были суровы, но и влияние их было сильным и действенным. Лейтенант стал наблюдателен, хладнокровен, расчетлив, научился думать и всесторонне оценивать обстановку. В процессе обороны Брестской крепости он станет одним из ее героев, совершит немало подвигов, будет защитником и «хозяином» крепости до весны 1942 года и удостоится в последние минуты своей жизни воинских почестей даже от врага… «Он упал на спину, навзничь, широко раскинув руки, подставив солнцу невидящие, широко открытые глаза. Упал свободным и после жизни, смертию смерть поправ».
Беспримерное самопожертвование и мужество проявили и другие защитники Брестской крепости. Многие их образы нарисованы писателем резкими и запоминающимися красками. И вот что важно: те драматические ситуации, которые изображает Б. Васильев, вовсе не являются надуманными, те слова, которые произносят его герои, никак нельзя назвать риторическими пассажами или декламацией. Напротив: и те и другие естественны и убедительны, ибо они обусловлены особыми обстоятельствами и условиями обороны Брестской крепости и той морально-психологической атмосферой, которая сложилась в осажденной крепости и воодушевляла ее героев. По поводу иного эпизода, изображенного Васильевым, приходилось слышать: «легенда». Да, и легенда. Но разве не была легендарной оборона Брестской крепости? Может показаться — не слишком ли красивы слова Плужникова: «Человека нельзя победить, если он этого не хочет. Убить можно, а победить нельзя». Но история Великой Отечественной войны знает много и еще более «красивых» формул, восклицаний, призывов, и никто не сомневается в их искренности и реальности.
Читая роман «В списках не значился», наглядно и зримо видишь и чувствуешь, как формируются в сознании защитников Брестской крепости те нравственные, духовные предпосылки, которые определяют и объясняют поведение защитников крепости, их мысли и слова и которые сыграли в борьбе за крепость очень большую роль. Защитникам крепости, боровшимся с гитлеровцами разрозненными подразделениями, небольшими группами и даже в одиночку, часто приходилось действовать по собственной инициативе, по велению своей совести и разума, по приказам, отданным самим себе, имеющим нравственный, психологический характер. Здесь, естественно, и вступали в силу, и приобретали большое влияние умонастроения, владевшие и овладевающие защитниками крепости, и общая морально-психологическая атмосфера, сложившаяся и складывающаяся в осажденной крепости.
С этой точки зрения Плужников не случайно выбран Б. Васильевым в герои своего романа. Он в списках не значится, и ему самому приходится решать встающие перед ним в процессе борьбы трудные вопросы. Он и решает их, опираясь как на знания и идейную закалку, полученные еще в военном училище, так и на общую мудрость защитников крепости, на опыт того или иного встреченного в бою старшего лейтенанта, политрука, старшины, сержанта, пограничника. Они воздействуют на него, как он воздействует на них. Так создается та почва, на которой вырастают подвиги и соответствующие им слова.
Вначале была надежда на помощь, и многое определяла воинская дисциплина. «Мне дан приказ держаться»,— говорит Плужников, и его слова воспринимаются как категорическое и неоспоримое требование. Затем от политрука Плужников слышит, что «задача одна: уничтожать живую силу». «Нас двести миллионов,— говорит политрук.— Двести. Глупо, когда ни кого не убил…»
Фельдшер в глухом подвале, куда стаскивали всех безнадежных, утверждает, что приказы его уже не касаются: «Я сам себе пострашнее приказ отдал. Вот если каждый, каждый солдат, понимаешь, сам себе приказ отдаст и выполнит его — сдохнет немец… И война сдохнет». Раненые, безнадежные, умирающие… «Умирали, не срамя,— негромко и ясно сказал молодой голос. И все замолчали, и в молчании этом была суровая гордость людей, не склонивших головы и за той чертой, что отделяет живых от мертвых».
Наконец на последних страницах романа старшина Семишный заставляет Плужникова дать клятву быть верным присяге и никогда ни живым, ни мертвым не отдавать врагу боевого знамени.
Так складывается, развивается, растет героическое сознание защитников Брестской крепости. Становится ясным, что высокая романтика книги Б. Васильева вырастает из реализма, из правды жизни. Неудивительно, что каждый эпизод и ситуация романа, каждый его образ при всей своей необыкновенности и «легендарности» воспринимаются как достоверные, правдивые и имеют реальную основу, опираются на действительность, на факты, о которых сообщают те или иные документальные материалы или свидетельства участников обороны Брестской крепости.
Может показаться, например, что такой эпизод романа, как автоматная очередь Плужникова по роте гитлеровцев, получающих награды, является плодом романтического воображения автора романа. Но вот что рассказывает старшина Звонков, который сражался в крепости до первых чисел августа. «Однажды… около Холмских ворот цитадели была построена во дворе рота гитлеровцев. Вероятно, фашистские солдаты собрались получать награды: перед строем стояло несколько офицеров и один держал в руках коробочки с орденами, а другой читал какой-то приказ. И вдруг позади строя из окон полуразрушенного здания казарм 84-го полка прогремела длинная автоматная очередь. Офицер, читавший приказ, и пять-шесть солдат упали убитыми, а остальные с криками разбежались, беспорядочно стреляя по развалинам» [1].
Можно подумать, например, что такая ситуация, как выход полумертвого Плужникова из подземелья после «переговоров» с посланцем гитлеровцев скрипачом Свицким,— результат творческой фантазии автора романа. Но нет, о подобного рода ситуации рассказывал С. С. Смирнову участник обороны крепости Александр Дурасов. Даже прототипом скрипача Свицкого является реальное лицо — скрипач из брестского ресторана Залман Ставский [2].
Повторяю: и легендарные герои, и легендарные подвиги, изображенные в романе «В списках не значился», отражают подлинную действительность, и Б. Васильев, рисуя их, опирался на реальную историю обороны Брестской крепости. В этом легко убедиться, перечитав «Брестскую крепость» С. С. Смирнова. Можно предположить, что и при создании образа главного героя своего романа лейтенанта Плужникова Б. Васильев исходил из документальных сведений о неизвестном лейтенанте — артиллеристе, который, окончив военное училище, ехал через Брест к первому месту своей службы. Когда Брест неожиданно подвергся нападению гитлеровских захватчиков, он принял на себя командование защитниками вокзала. К сожалению, никто из уцелевших защитников вокзала не знал его фамилии: все звали лейтенанта просто по имени — Николай. По имени назван он и на мраморной плите у входа в Брестский вокзал. Только теперь стала известна и фамилия лейтенанта — Царев [3].
Труднее отделаться от впечатления, что Б. Васильев несколько отступает от реализма на тех страницах своего романа, где рассказывается о любви Плужникова и Мирры. Кажется, что эта романтическая любовь в подземелье как-то неожиданна в его романе и он мог бы обойтись без нее. Но не очевидно ли, что любовь эта является проявлением человечности, противостоящей жестокости войны и расизму гитлеровцев? Великая сила жизни, добра, любви неистребима наперекор всему, что стремится ее уничтожить,— убеждение, которое проходит через все творчество Б. Васильева.
«Может быть, я максималист,— утверждает писатель,— но задачу искусства я вижу в стремлении помочь человеку жить, а не устрашать его или будить в нем какие-то низменные инстинкты. Оно должно делать добро» [4].
Осталось коснуться вопроса о современности военной прозы Б. Васильева и сказать еще несколько слов о том, что написал Б. Васильев о войне и важно ли написанное им для нашего современника. Но что понимать под современностью произведений литературы и искусства? Какие произведения можно считать современными? В 1976 году («Литературная газета», 17 ноября) Б. Васильев беседовал на эту тему с известным артистом М. Ульяновым. Собеседники пришли к выводу, что подлинная современность художественного произведения заключается, конечно, не в его злободневности или тех или иных внешних признаках и приметах времени.
«Понимаете,— сказал Б. Васильев,— вот мы говорим «современность, современность», а я недавно, когда ехал в командировку, взял с собой очень старую книжку — «Дон Кихота». Я вам скажу хрестоматийную вещь — это чудовищно современная книга!»
Если произведение искусства, полагает Б. Васильев, заставляет современных читателей или зрителей думать не только о нем, но смотреть куда-то дальше, вглубь, вызывает у них ряд ассоциаций, помогает им в осмыслении жизни,— оно современно.
С этой точки зрения военная проза самого Васильева безусловно современна. Будь то рассказы о женщинах на войне, повесть о старшине Васкове и его девичьем отряде, роман о защите Брестской крепости и возмужании лейтенанта Плужникова — все эти произведения помогают решать серьезные вопросы современной жизни и порождают многообразные ассоциации, размышления и сопоставления. Они ставят перед читателем или зрителем много насущных и актуальных вопросов: о прошедшей войне, ее значении и жертвах, о необходимости и возможности мира на земле, о человечности подлинной и мнимой, о силе материнства, о людях типа Васкова — их настоящем и будущем и т. д. Современное значение военной прозы Б. Васильева бесспорно.
При этом нельзя не заметить, что все — именно все! — помещенные в настоящем сборнике повести и рассказы Б. Васильева имеют сюжетный и публицистический выход в наш день. Алевтина Ивановна («Ветеран»), Катюша («Старая „Олимпия“»), герой «Пятницы» Константин Иванович, Федот Евграфович Васков — живут сегодня, и не просто живут,— оказывают сильнейшее нравственное влияние на окружающих, на нашу молодежь. Так коротенькое письмо отпускника товарищу в эпилоге «Зорь» ломается на две половины: беспечную («Давай, старик, цыгань отпуск и рви к нам») — до встречи с Васковым и его приемным сыном Альбертом, капитаном Советской Армии, которые привезли мраморную плиту на могилу матери Альберта Риты Осяниной; и серьезную — после встречи («Здесь, оказывается, тоже воевали… Воевали, когда нас с тобой еще не было на свете»). Кончается письмо фразой, вынесенной в заголовок повести: «А зори здесь тихие-тихие». Здесь она звучит, как реквием… В романе «В списках не значился» гибнут, кажется, все основные герои, но тогда автор берет нить, ведущую от военных лет к современности, в свои руки и в эпилоге впрямую утверждает значение событий сорок первого года для современника.
И не являются ли непосредственными преемниками и как бы родными братьями Федота Евграфовича Васкова герои повестей Б. Васильева из современной жизни — капитан волжского катера Иван Трофимович Бурлаков («Иванов катер») и участковый милиционер Семен Митрофанович Ковалев («Последний день»)?
Так многообразны органические связи военной прозы Васильева с современной жизнью и ее запросами. Ощущение «связи времен» и делает «бытовую» прозу Б. Васильева возвышенной и романтичной. Отсюда и наш благодарный интерес к творчеству писателя, столь серьезно и глубоко понимающего социальные задачи.
«Я думаю,— говорит Б. Васильев,— что поскольку искусство родилось у костра, оно должно светить, оно должно греть и оно должно объединять».
А. Д е м е н т ь е вА ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ… Повесть
1
На 171-м разъезде уцелело двенадцать дворов, пожарный сарай да приземистый, длинный пакгауз, выстроенный в начале века из подогнанных валунов. В последнюю бомбежку рухнула водонапорная башня, и поезда перестали здесь останавливаться. Немцы прекратили налеты, но кружили над разъездом ежедневно, и командование на всякий случай держало там две зенитные счетверенки.
Шел май 1942 года. На западе (в сырые ночи оттуда доносило тяжкий гул артиллерии) обе стороны, на два метра врывшись в землю, окончательно завязли в позиционной войне; на востоке немцы день и ночь бомбили канал и мурманскую дорогу; на севере шла ожесточенная борьба за морские пути; на юге продолжал упорную борьбу блокированный Ленинград.
А здесь был курорт. От тишины и безделья солдаты млели, как в парной, а в двенадцати дворах осталось еще достаточно молодух и вдовушек, умевших добывать самогон чуть ли не из комариного писка. Три дня солдаты отсыпались и присматривались; на четвертый начинались чьи-то именины, и над разъездом уже не выветривался липкий запах местного первача.
Комендант разъезда, хмурый старшина Васков, писал рапорты по команде. Когда число их достигало десятка, начальство вкатывало Васкову очередной выговор и сменяло опухший от веселья полувзвод. С неделю после этого комендант кое-как обходился своими силами, а потом все повторялось сначала настолько точно, что старшина в конце концов приладился переписывать прежние рапорта, меняя в них лишь числа да фамилии.
— Чепушиной занимаетесь! — гремел прибывший по последним рапортам майор.— Писанину развели. Не комендант, а писатель какой-то!..
— Шлите непьющих,— упрямо твердил Васков: он побаивался всякого громогласного начальника, но талдычил свое, как пономарь.— Непьющих и это… Чтоб, значит, насчет женского пола.
— Евнухов, что ли?
— Вам виднее,— осторожно говорил старшина.
— Ладно, Васков!..— распаляясь от собственной строгости, сказал майор.— Будут тебе непьющие. И насчет женщин будет как положено. Но гляди, старшина, если ты и с ними не справишься…
— Так точно,— деревянно согласился комендант.
Майор увез не выдержавших искуса зенитчиков, на прощание еще раз пообещав Васкову, что пришлет таких, которые от юбок и самогонки нос будут воротить живее, чем сам старшина. Однако выполнить это обещание оказалось не просто, поскольку за три дня не прибыло ни одного человека.
— Вопрос сложный,— пояснил старшина квартирной своей хозяйке Марии Никифоровне.— Два отделения — это же почти что двадцать человек непьющих. Фронт перетряси, и то — сомневаюсь…
Опасения его, однако, оказались необоснованными, так как уже утром хозяйка сообщила, что зенитчики прибыли. В тоне ее звучало что-то вредное, но старшина со сна не разобрался, а спросил о том, что тревожило:
— С командиром прибыли?
— Не похоже, Федот Евграфыч.
— Слава богу! — Старшина ревниво относился к своему комендантскому положению.— Власть делить — это хуже нету.
— Погодите радоваться,— загадочно улыбнулась хозяйка.
— Радоваться после войны будем,— резонно сказал Федот Евграфович, надел фуражку и вышел.
И оторопел: перед домом стояли две шеренги сонных девчат. Старшина было решил, что спросонок ему померещилось, поморгал, но гимнастерки на бойцах по-прежнему бойко торчали в местах, солдатским уставом не предусмотренных, а из-под пилоток нахально лезли кудри всех цветов и фасонов.
— Товарищ старшина, первое и второе отделения третьего взвода пятой роты Отдельного зенитно-пулеметного батальона прибыли в ваше распоряжение для охраны объекта,— тусклым голосом отрапортовала старшая.— Докладывает помкомвзвода сержант Кирьянова.
— Та-ак,— совсем не по-уставному сказал комендант.— Нашли, значит, непьющих…
Целый день он стучал топором: строил нары в пожарном сарае, поскольку зенитчицы на постой к хозяйкам становиться не согласились. Девушки таскали доски, держали, где велел, и трещали, как сороки. Старшина хмуро отмалчивался: боялся за авторитет.
— Из расположения без моего слова ни ногой,— объявил он, когда все было готово.
— Даже за ягодами? — бойко спросила рыжая. Васков давно уже приметил ее.
— Ягод еще нет,— сказал он.
— А щавель можно собирать? — поинтересовалась Кирьянова.— Нам без приварка трудно, товарищ старшина,— отощаем.
Федот Евграфыч с сомнением повел глазом по туго натянутым гимнастеркам, но разрешил:
— Не дальше речки. Аккурат в пойме прорва его.
На разъезде наступила благодать, но коменданту от этого легче не стало. Зенитчицы оказались девахами шумными и задиристыми, и старшина ежесекундно чувствовал, что попал в гости в собственный дом: боялся ляпнуть не то, сделать не так, а уж о том, чтобы войти куда без стука, не могло теперь быть и речи, и если он забывал когда об этом, сигнальный визг немедленно отбрасывал его на прежние позиции. Пуще всего Федот Евграфыч страшился намеков и шуточек насчет возможных ухаживаний и поэтому всегда ходил, уставясь в землю, словно потерял денежное довольствие за последний месяц.
— Да не бычьтесь вы, Федот Евграфыч,— сказала хозяйка, понаблюдав за его общением с подчиненными.— Они вас промеж себя старичком величают, так что глядите на них соответственно.
Федоту Евграфычу этой весной исполнилось тридцать два, и стариком он себя считать не согласился. Поразмыслив, он пришел к выводу, что все это есть лишь меры, предпринятые хозяйкой для упрочения собственных позиций: она таки растопила лед комендантского сердца в одну из весенних ночей и теперь, естественно, стремилась укрепиться на завоеванных рубежах.
Ночами зенитчицы азартно лупили из всех восьми стволов по пролетающим немецким самолетам, а днем разводили бесконечные постирушки: вокруг пожарного сарая вечно сушились какие-то тряпочки. Подобные украшения старшина считал неуместными и кратко информировал об этом сержанта Кирьянову:
— Демаскирует.
— А есть приказ,— не задумываясь, сказала она.
— Какой приказ?
— Соответствующий. В нем сказано, что военнослужащим женского пола разрешается сушить белье на всех фронтах.
Комендант промолчал: ну их, этих девок, к ляду! Только свяжись — хихикать будут до осени…
Дни стояли теплые, безветренные, и комара народилось такое количество, что без веточки и шагу не ступишь. Но веточка это еще ничего, это еще вполне допустимо для военного человека, а вот то, что вскоре комендант начал на каждом углу хрипеть и кхекать, словно и вправду был стариком,— вот это было совсем уж никуда не годно.
А началось все с того, что жарким майским днем завернул он за пакгауз и обмер: в глаза брызнуло таким неистово белым, тугим да еще восьмикратно помноженным телом, что Васкова аж в жар кинуло: все первое отделение во главе с командиром младшим сержантом Осяниной загорало на казенном брезенте в чем мать родила. И хоть бы завизжали, что ли, для приличия, так нет же: уткнули носы в брезент, затаились, и Федоту Евграфычу пришлось пятиться, как мальчишке из чужого огорода. Вот с того дня и стал он кашлять на каждом углу, будто коклюшный.
А эту Осянину он еще раньше выделил: строга. Не засмеется никогда, только что поведет чуть губами, а глаза по-прежнему серьезными остаются. Странная была Осянина, и поэтому Федот Евграфыч осторожно навел справочки через свою хозяйку, хоть и понимал, что той поручение это совсем не для радости.
— Вдовая она,— поджав губы, через день доложила Мария Никифоровна.— Так что полностью в женском звании состоит: можете игры заигрывать.
Старшина промолчал: бабе все равно не докажешь. Взял топор, пошел во двор: лучше нету для дум времени, как дрова колоть. А дум много накопилось, и следовало их привести в соответствие.
Ну, прежде всего, конечно,— дисциплина. Ладно, не пьют бойцы, с жительницами не любезничают — это все так. А внутри — беспорядок: «Люда, Вера, Катенька — в караул! Катя — разводящая».
Разве это команда? Развод караулов полагается по всей строгости делать, по уставу. А это насмешка полная, это надо порушить, а как? Попробовал он насчет этого со старшей, с Кирьяновой, поговорить, да у нее один ответ:
— А у нас разрешение, товарищ старшина. От командующего. Лично.
Смеются, черти…
— Стараешься, Федот Евграфыч?
Обернулся: соседка во двор заглядывает, Полина Егорова. Самая беспутная из всего населения: именины в прошлом месяце четыре раза справляла.
— Ты не очень-то утруждайся, Федот Евграфыч. Ты теперь один у нас остался, вроде как на племя.
Хохочет. И ворот не застегнут: вывалила на плетень прелести, точно булки на печи.
— Ты теперь по дворам ходить будешь, как пастух. Неделю в одном дворе, неделю — в другом. Такая у нас, у баб, договоренность насчет тебя.
— Ты, Полина Егорова, совесть поимей. Солдатка ты или дамочка какая? Вот и веди соответственно.
— Война, Евграфыч, все спишет. И с солдат, и с солдаток.
Вот ведь петля какая! Выселить надо бы, а как? Где они, гражданские власти? А ему она не подчинена: он этот вопрос с крикуном-майором провентилировал.
Да, дум набралось кубометра на два, не меньше. И с каждой думой совершенно особо разобраться надо. Совершенно особо.
Все-таки большая помеха, что человек он почти что без образования. Ну, писать-читать умеет и счет знает в пределах четырех классов, потому что аккурат в конце этого четвертого у него медведь отца заломал. Вот девкам бы этим смеху было, если б про медведя узнали. Это ж надо: не от газов в мировую, не от клинка в гражданскую, не от кулацкого обреза, не своей смертью даже — медведь заломал. Они, поди, медведя этого в зверинцах только и видели…
Из дремучего угла ты, Федот Васков, в коменданты выполз. А они — не гляди, что рядовые,— наука: упреждение, квадрант, угол сноса. Классов семь, а то и все девять, по разговору видно. От девяти четыре отнять — пять останется. Выходит, он от них на больше отстал, чем сам имеет…
Невеселыми думы были, и от этого рубал Васков дрова с особой яростью. А кого винить? Разве что медведя того невежливого.
Странное дело: до этого он жизнь свою удачливой считал. Ну не то чтоб совсем уж двадцать одно выходило, но жаловаться не стоило. Все-таки он со своими неполными четырьмя классами полковую школу окончил и за десять лет до старшинского звания дослужился. По этой линии ущерба не было, но с других концов, случалось, судьба флажками обкладывала и два раза прямо в упор из всех стволов саданула, но Федот Евграфыч устоял все ж таки. Устоял…
Незадолго перед финской женился он на санитарке из гарнизонного госпиталя. Живая бабенка попалась: все бы ей петь, да плясать, да винцо попивать. Однако мальчонку родила. Игорьком назвали: Игорь Федотыч Васков. Тут финская началась, Васков на фронт уехал, а как вернулся назад с двумя медалями, так его в первый раз и шарахнуло: пока он там в снегах загибался, жена вконец завертелась с полковым ветеринаром и отбыла в южные края. Федот Евграфыч развелся с нею немедля, мальца через суд вытребовал и к матери в деревню отправил. А через год мальчонка его помер, и с той поры Васков улыбнулся-то всего три раза: генералу, что орден ему вручал, хирургу, осколок из плеча вытащившему, да хозяйке своей Марии Никифоровне, за догадливость.
Вот за тот осколок и получил он свой теперешний пост. В пакгаузе имущество кое-какое осталось, часовых не ставили, но, учредив комендантскую должность, поручили ему пакгауз тот блюсти. Трижды в день обходил старшина объект, замки пробовал и в книге, которую сам же завел, делал одну и ту же запись: «Объект осмотрен. Нарушений нет». И время осмотра, конечно.
Спокойно служилось старшине Васкову. Почти до сего дня спокойно. А теперь…
Вздохнул старшина.
2
Из всех довоенных событий Рита Муштакова ярче всего помнила школьный вечер — встречу с героями-пограничниками. И хоть не было на этом вечере Карацупы, а собаку звали совсем не Индус, Рита помнила этот вечер так, словно он только-только окончился и застенчивый лейтенант Осянин все еще шагал рядом по гулким деревянным тротуарам маленького приграничного городка. Лейтенант еще никаким не был героем, в состав делегации попал случайно и ужасно стеснялся.
Рита тоже была не из бойких: сидела в зале, не участвовала ни в приветствиях, ни в самодеятельности, и скорее согласилась бы провалиться сквозь все этажи до крысиного подвала, чем первой заговорить с кем-либо из гостей моложе тридцати. Просто они с лейтенантом Осяниным случайно оказались рядом и сидели, боясь шевельнуться и глядя строго перед собой. А потом школьные затейники организовали игру, и им опять выпало быть вместе. А потом был общий фант: станцевать вальс, и они станцевали. А потом стояли у окна. А потом… Да, потом он пошел ее провожать.
И Рита страшно схитрила: повела его самой дальней дорогой. А он все равно молчал и только курил, каждый раз робко спрашивая у нее разрешения. И от этой робости сердце Риты падало прямо в колени.
Они даже простились не за руку: просто кивнули друг другу и все. Лейтенант уехал на заставу и каждую субботу писал ей очень короткое письмо. А она каждое воскресенье отвечала длинным. Так продолжалось до лета: в июне он приехал в городок на три дня, сказал, что на границе неспокойно, что отпусков больше не будет и поэтому им надо немедленно пойти в загс. Рита нисколько не удивилась, но в загсе сидели бюрократы и отказались регистрировать, потому что до восемнадцати ей не хватало пяти с половиной месяцев. Но они пошли к коменданту города, а от него — к ее родителям и все-таки добились своего.
Рита была первой из их класса, кто вышел замуж. И не за кого-нибудь, а за красного командира, да еще пограничника. И более счастливой девушки на свете просто не могло быть.
На заставе ее сразу выбрали в женский совет и записали во все кружки. Рита училась перевязывать раненых и стрелять, скакать на лошади, метать гранаты и защищаться от газов. Через год она родила мальчика (назвали его Альбертом — Аликом), а еще через год началась война.
В тот первый день она оказалась одной из немногих, кто не растерялся, не ударился в панику. Она вообще была спокойная и рассудительная, но тогда ее спокойствие объяснялось просто: Рита еще в мае отправила Алика к своим родителям и поэтому могла заниматься спасением чужих детей.
Застава держалась семнадцать дней. Днем и ночью Рита слышала далекую стрельбу. Застава жила, а с нею жила и надежда, что муж цел, что пограничники продержатся до прихода армейских частей и вместе с ними ответят ударом на удар: на заставе так любили петь: «Ночь пришла, и тьма границу скрыла, но ее никто не перейдет, и врагу мы не позволим рыло сунуть в наш советский огород…» Но шли дни, а помощи не было, и на семнадцатые сутки застава замолчала.
Риту хотели отправить в тыл, а она просилась в бой. Ее гнали, силой запихивали в теплушки, но настырная жена заместителя начальника заставы старшего лейтенанта Осянина через день снова появлялась в штабе укрепрайона. В конце концов взяли санитаркой, а через полгода послали в полковую зенитную школу.
А старший лейтенант Осянин погиб на второй день войны в утренней контратаке. Рита узнала об этом уже в июле, когда с павшей заставы чудом прорвался сержант-пограничник.
Начальство ценило неулыбчивую вдову героя-пограничника: отмечало в приказах, ставило в пример и поэтому уважило личную просьбу — направить по окончании школы на тот участок, где стояла застава, где погиб муж в яростном штыковом бою. Фронт тут попятился немного: зацепился за озера, прикрылся лесами, влез в землю и замер где-то между бывшей заставой и тем городком, где познакомился когда-то лейтенант Осянин с ученицей девятого «Б»…
Теперь Рита была довольна: она добилась того, чего хотела. Даже гибель мужа отошла куда-то в самый дальний уголок памяти: у нее была работа, обязанности и вполне реальные цели для ненависти. А ненавидеть она научилась тихо и беспощадно, и хоть не удалось пока ее расчету сбить вражеский самолет, но немецкий аэростат прошить ей все-таки удалось. Он вспыхнул, съежился; корректировщик выбросился из корзины и камнем полетел вниз.
— Стреляй, Рита! Стреляй! — кричали зенитчицы.
А Рита ждала, не сводя перекрестия с падающей точки. А когда немец перед самой землей рванул парашют, уже благодаря своего немецкого бога, она плавно нажала гашетку. Очередь из четырех стволов начисто разрезала черную фигуру, девчонки, крича от восторга, целовали ее, а она улыбалась наклеенной улыбкой. Всю ночь ее трясло. Помкомвзвода Кирьянова отпаивала чаем, утешала:
— Пройдет, Ритуха. Я, когда первого убила, чуть не померла, ей-богу. Месяц снился, гад…
Кирьянова была боевой девахой: еще в финскую исползала с санитарной сумкой не один километр передовой, имела орден. Рита уважала ее за характер, но особо не сближалась.
Впрочем, Рита вообще держалась особняком: в отделении у нее были сплошь девчонки-комсомолки. Не то, чтобы младше, нет: просто — зеленые. Не знали они ни любви, ни материнства, ни горя, ни радости, болтали о лейтенантах да поцелуйчиках, а Риту это сейчас раздражало.
— Спать!..— коротко бросала она, выслушав очередное признание.— Еще услышу о глупостях — настоишься на часах вдоволь.
— Зря, Ритуха,— лениво пеняла Кирьянова.— Пусть себе болтают: занятно.
— Пусть влюбляются — слова не скажу. А так, лизаться по углам — этого я не понимаю.
— Пример покажи,— улыбалась Кирьянова.
И Рита сразу замолкала. Она даже представить не могла, что такое может случиться: мужчин для нее не существовало. Один был мужчина — тот, что вел в штыковую поредевшую заставу на втором рассвете войны. Жила, затянутая ремнем. На самую последнюю дырочку затянутая.
Перед маем расчету досталось: два часа вели бой с юркими «мессерами». Немцы заходили с солнца, пикировали на счетверенки, плотно поливая огнем. Убили подносчицу — курносую, некрасивую толстуху, всегда что-то жевавшую втихомолку, легко ранили еще двоих. На похороны прибыл комиссар части, девчонки ревели в голос. Дали салют над могилой, а потом комиссар отозвал Риту в сторону:
— Пополнить отделение нужно.
Рита промолчала.
— У вас здоровый коллектив, Маргарита Степановна. Женщина на фронте, сами знаете,— объект, так сказать, пристального внимания. И есть случаи, когда не выдерживают.
Рита опять промолчала. Комиссар потоптался, закурил, сказал приглушенно:
— Один из штабных командиров — семейный, между прочим,— завел себе, так сказать, подругу. Член Военного совета, узнав, полковника того в оборот взял, а мне приказал подругу эту, так сказать, к делу определить. В хороший коллектив.
— Давайте,— сказала Рита.
Наутро увидела и залюбовалась: высокая, рыжая, белокожая. А глаза детские: зеленые, круглые, как блюдца.
Тот день банным был, и, когда наступило их время, девушки в предбаннике на новенькую, как на чудо, глядели:
— Женька, ты русалка!
— Женька, у тебя кожа прозрачная!
— Женька, с тебя скульптуру лепить!
— Женька, ты же без лифчика ходить можешь!
— Ой, Женька, тебя в музей нужно! Под стекло на черном бархате…
— Несчастная баба! — вздохнула Кирьянова.— Такую фигуру в обмундирование паковать — это ж сдохнуть легче.
— Красивая,— осторожно поправила Рита.— Красивые редко счастливыми бывают.
— На себя намекаешь? — усмехнулась Кирьянова.
И Рита опять замолчала: нет, не выходила у нее дружба с помкомвзвода Кирьяновой. Никак не выходила.
А с Женькой вышла. Как-то сама собой, без подготовки, без прощупывания: взяла Рита и рассказала ей свою жизнь. Укорить хотела отчасти, а отчасти — пример показать и похвастаться. А Женька в ответ не стала ни жалеть, ни сочувствовать. Сказала коротко:
— Значит, и у тебя личный счет имеется.
Сказано было так, что Рита — хоть и знала про полковника досконально — спросила:
— И у тебя тоже?
— А я одна теперь. Маму, сестру, братишку — всех из пулемета уложили.
— Обстрел был?
— Расстрел. Семьи комсостава захватили и — под пулемет. А меня эстонка спрятала в доме напротив, и я видела все. Все! Сестренка последней упала — специально добивали…
— Послушай Женька, а как же полковник? — шепотом спросила Рита.— Как же ты могла, Женька?..
— А вот могла!..— Женька с вызовом тряхнула рыжей шевелюрой.— Сейчас воспитывать начнешь или после отбоя?
Женькина судьба перечеркнула Ритину исключительность, и — странное дело! — Рита словно бы чуть оттаяла, словно бы дрогнула где-то, помягчела. Даже смеялась иногда, даже пела с девчонками, но сама собой была только с Женькой наедине.
Рыжая Комелькова, несмотря на все трагедии, была чрезвычайно общительной и озорной. То на потеху всему отделению лейтенанта какого-нибудь до онемения доведет, то на перерыве под девичьи «ля-ля» цыганочку спляшет по всем правилам, то вдруг роман рассказывать начнет — заслушаешься.
— На сцену бы тебя, Женька! — вздыхала Кирьянова.— Такая баба пропадает!
Так и кончилось Ритино старательно охраняемое одиночество. Женька все перетряхнула. В отделении у них замухрышка одна была, Галя Четвертак. Худющая, востроносая, косички из пакли и грудь плоская, как у мальчишки. Женька ее в бане отскребла, прическу соорудила, гимнастерку подогнала — расцвела Галка. И глазки вдруг засверкали, и улыбка появилась, и грудки, как грибы, выросли. И поскольку Галка эта от Женьки больше и на шаг не отходила, стали они теперь втроем: Рита, Женька и Галка.
Известие о переводе с передовой на объект зенитчицы встретили в штыки. Только Рита промолчала: сбегала в штаб, поглядела карту, сказала:
— Пошлите мое отделение.
Девушки удивились. Женька подняла бунт, но на следующее утро вдруг переменилась: стала за разъезд агитировать. Почему, отчего — никто не понимал, но примолкли: значит, надо, Женьке верили. Разговоры сразу утихли, начали собираться. А как прибыли на разъезд, Рита, Женька и Галка стали вдруг пить чай без сахара.
Через три ночи Рита исчезла из расположения. Скользнула из пожарного сарая, тенью пересекла сонный разъезд и растаяла в мокром от росы ольшанике. По заглохшей лесной дороге выбралась на шоссе и остановила первый грузовик.
— Далеко собралась, красавица? — спросил усатый старшина: ночью в тыл ходили машины за припасами, и сопровождали их люди, далекие от строевой и уставов.
— До города подбросите?
Из кузова уже тянулись руки. Не ожидая разрешения, Рита встала на колесо и вмиг оказалась наверху. Усадили на брезент, набросили ватник.
— Подремли, деваха, часок…
А утром была на месте.
— Лида, Рая — в наряд!
Никто не видел, а Кирьянова узнала: доложили. Ничего не сказала, усмехнулась про себя:
— Завела кого-то, гордячка. Пусть ее, может, оттает…
И Васкову — ни слова. Впрочем, Васкова никто из девушек не боялся, а Рита — меньше всех. Ну, бродит по разъезду пенек замшелый: в запасе двадцать слов, да и те из уставов. Кто же его всерьез-то принимать будет?
Но форма есть форма, а в армии особенно. И форма эта требовала, чтобы о ночных путешествиях Риты не знал никто, кроме Женьки да Галки Четвертак.
Откочевывали в городишко сахар, галеты, пшенный концентрат, а когда и банки с тушенкой. Шальная от удач Рита бегала туда по две-три ночи в неделю: почернела, осунулась. Женька укоризненно шипела в ухо:
— Зарвалась ты, мать! Налетишь на патруль либо командир какой заинтересуется — и сгоришь.
— Молчи, Женька, я везучая!
У самой от счастья глаза светятся: разве с такой серьезно поговоришь? Женька только расстраивалась:
— Ой, гляди, Ритка!
То, что о ее путешествиях Кирьянова знает, Рита быстро догадалась: по взглядам да усмешечкам. Обожгли ее эти усмешечки, словно она и впрямь своего старшего лейтенанта предавала. Потемнела, хотела одернуть — Женька не дала. Уцепилась, уволокла в сторону:
— Пусть, Рита, пусть что хочет думает!
Рита опомнилась: правильно. Пусть любую грязь сочиняет, лишь бы помалкивала, не мешала, Васкову бы не донесла. Занудит, запилит — света не взвидишь. Пример был: двух подружек из первого отделения старшина за рекой поймал. Четыре часа — с обеда до ужина — мораль читал: устав наизусть цитировал, инструкции, наставления. Довел девчонок до третьих слез: не то что за реку — со двора зареклись выходить.
Но Кирьянова пока молчала.
Стояли безветренные белые ночи. Длинные — от зари до зари — сумерки дышали густым настоем зацветающих трав, и зенитчицы до вторых петухов пели песни у пожарного сарая. Рита таилась теперь только от Васкова, исчезала через две ночи на третью вскоре после ужина и возвращалась перед подъемом.
Эти возвращения Рита любила больше всего. Опасность попасться на глаза патрулю была уже позади, и теперь можно было спокойно шлепать босыми ногами по холодной до боли росе, забросив связанные ушками сапоги за спину. Шлепать и думать о свидании, о жалобах матери и о следующей самоволке. И от того, что следующее свидание она может планировать сама, не завися или почти не завися от чужой воли, Рита была счастлива.
Но шла война, распоряжаясь по своему усмотрению человеческими жизнями, и судьбы людей переплетались причудливо и непонятно. И, обманывая коменданта тихого 171-го разъезда, младший сержант Маргарита Осянина и знать не знала, что директива имперской службы СД за № С219/702 с грифом «ТОЛЬКО ДЛЯ КОМАНДОВАНИЯ» уже подписана и принята к исполнению.
3
А зори здесь были тихими-тихими.
Рита шлепала босиком: сапоги раскачивались за спиной. С болот полз плотный туман, холодил ноги, оседал на одежде, и Рита с удовольствием думала, как сядет перед разъездом на знакомый пенек, наденет сухие чулки и обуется. А сейчас торопилась, потому что долго ловила попутную машину. Старшина же Васков вставал ни свет ни заря и сразу же шел щупать замки на пакгаузе. А Рита как раз туда должна была выходить: пенек ее был в двух шагах от бревенчатой стены сарая, за кустами.
До пенька осталось два поворота, потом напрямик через ольшаник. Рита миновала первый и — замерла: на дороге стоял человек.
Он стоял, глядя назад: рослый, в пятнистой плащ-палатке, горбом выпиравшей на спине. В правой руке он держал продолговатый, туго обтянутый ремнями сверток; на груди висел автомат.
Рита шагнула в куст; вздрогнув, он обдал ее росой, но она не почувствовала. Почти не дыша, смотрела сквозь редкую листву на чужого, недвижимо, как во сне, стоявшего на ее пути.
Из лесу вышел второй, чуть пониже, с автоматом на груди и с точно таким же тючком в руке. Они молча пошли прямо на нее, неслышно ступая высокими шнурованными башмаками по росистой траве.
Рита сунула в рот кулак, до боли стиснула его зубами. Только не шевельнуться, не закричать, не броситься напролом через кусты! Они прошли рядом: крайний коснулся плечом ветки, за которой она стояла. Прошли молча, беззвучно, как тени. И скрылись.
Рита обождала — никого. Осторожно выскользнула, перебежала дорогу, нырнула в куст, прислушалась.
Тишина.
Задыхаясь, кинулась напролом: сапоги били по спине. Не таясь, пронеслась по поселку, забарабанила в сонную, наглухо заложенную дверь.
— Товарищ комендант!.. Товарищ старшина!..
Наконец открыли. Васков стоял на пороге — в галифе, тапочках на босу ногу, в нижней бязевой рубахе с завязками. Хлопал сонными глазами.
— Что?
— Немцы в лесу!
— Так…— Федот Евграфыч подозрительно сощурился: не иначе разыгрывают.— Откуда известно?
— Сама видала. Двое. С автоматами, в маскировочных накидках…
Нет, вроде не врет. Глаза испуганные…
— Погоди тут.
Старшина метнулся в дом. Натянул сапоги, накинул гимнастерку второпях, как при пожаре. Хозяйка в одной рубахе сидела на кровати, разинув рот.
— Что ты, Федот Евграфыч?
— Ничего. Вас не касается.
Выскочил на улицу, затягивая ремень с наганом на боку. Осянина стояла на том же месте, по-прежнему держа сапоги за плечом. Старшина машинально глянул на ее ноги: красные, мокрые, к большому пальцу прошлогодний лист прилип. Значит, по лесу босиком шастала, а сапоги за спиной носила: так, стало быть, теперь воюют.
— Команду — в ружье: боевая тревога! Кирьянову ко мне. Бегом!
Бросились в разные стороны: деваха — к пожарному сараю, а он — в будку железнодорожную. К телефону. Только бы связь была!..
— «Сосна», «Сосна»!.. Ах ты, мать честная!.. Либо спят, либо поломка… «Сосна»!.. «Сосна»!..
— «Сосна» слушает.
— Семнадцатый говорит. Давай Третьего. Срочно давай, чепе!
— Даю, не ори. Чепе у него…
В трубке что-то долго сипело, хрюкало, потом далекий голос спросил:
— Ты, Васков? Что там у вас?
— Так точно, товарищ Третий. Немцы в лесу возле расположения. Обнаружены сегодня в количестве двух…
— Кем обнаружены?
— Младшим сержантом Осяниной…
Кирьянова вошла, без пилотки, между прочим. Кивнула, как на вечерке.
— Я тревогу объявил, товарищ Третий. Думаю лес прочесать.
— Погоди чесать, Васков. Тут подумать надо: объект без прикрытия оставим — тоже по головке не погладят. Как они выглядят, немцы твои?
— Говорит, в маскнакидках, с автоматами. Разведка…
— Разведка? А что ей там, у вас, разведывать?.. Как ты с хозяйкой в обнимку спишь?
Вот всегда так, всегда Васков виноват. Все на Васкове отыгрываются.
— Чего молчишь, Васков? О чем думаешь?
— Думаю, надо ловить, товарищ Третий. Пока далеко не ушли.
— Правильно думаешь. Бери пять человек из команды и дуй, пока след не остыл. Кирьянова там?
— Тут, товарищ…
— Дай ей трубку.
Кирьянова говорила коротко: сказала два раза «слушаю» да раз пять поддакнула. Положила трубку, дала отбой:
— Приказано выделить в ваше распоряжение пять человек.
— Ты мне ту давай, которая видела.
— Осянина пойдет старшей.
— Ну, так. Стройте людей.
— Построены, товарищ старшина.
Строй, нечего сказать. У одной волосы, как грива, до пояса, у другой какие-то бумажки в голове. Вояки! Чеши с такими лес, лови немцев с автоматами! А у них тут, между прочим, одни родимые, образца 1891 дробь тридцатого года…
— Вольно!
— Женя, Галя, Лиза…
Сморщился старшина:
— Погодите, Осянина! Немцев идем ловить — не рыбу. Так чтоб хоть стрелять умели, что ли…
— Умеют.
Хотел Васков рукой махнуть, но спохватился:
— Да, вот еще. Может, немецкий кто знает?
— Я знаю.
Писклявый такой голосишко, прямо из строя. Федот Евграфыч вконец расстроился:
— Что — я? Что такое я? Докладывать надо!
— Боец Гурвич.
— Ох-хо-хо! Как по-ихнему — руки вверх?
— Хенде хох.
— Точно,— махнул-таки рукой старшина.— Ну, давай, Гурвич…
Выстроились эти пятеро. Серьезные, как дети, но испуга вроде пока нет.
— Идем на двое суток, так надо считать. Взять сухой паек, патронов… по пять обойм. Подзаправиться… Ну, поесть, значит, плотно. Обуться по-человечески, в порядок себя привести, подготовиться. На все — сорок минут. Р-разойдись!.. Кирьянова и Осянина — со мной.
Пока бойцы завтракали и готовились к походу, старшина увел сержантский состав к себе на совещание. Хозяйка, по счастью, куда-то смоталась, но постель так и не прибрала: две подушки рядышком, полюбовно… Федот Евграфыч угощал сержантов похлебкой и разглядывал старенькую, истертую на сгибах карту-трехверстку.
— Значит, на этой дороге встретила?
— Вот тут.— Палец Осяниной слегка колупнул карту.— А прошли мимо меня, по направлению к шоссе.
— К шоссе?.. А чего ты в лесу в четыре утра делала?
Промолчала Осянина.
— Просто по ночным делам,— не глядя, сказала Кирьянова.
— Ночным!..— Васков разозлился: вот ведь врут! — Для ночных дел я вам самолично нужник поставил. Или не вмещаетесь?
Насупились обе.
— Знаете, товарищ старшина, есть вопросы, на которые женщина отвечать не обязана,— опять сказала Кирьянова.
— Нету здесь женщин! — крикнул комендант и даже слегка пристукнул ладонью по столу.— Нету! Есть бойцы и есть командиры, понятно? Война идет, и покуда она не кончится, все в среднем роде ходить будем…
— То-то у вас до сих пор постелька распахнута, товарищ старшина среднего рода…
Ох, и язва же эта Кирьянова! Одно слово: петля!
— К шоссе, говоришь, пошли?
— По направлению…
— Черта им у шоссе делать: там по обе стороны еще в финскую лес сведен, там их живо прищучат. Нет, товарищи младшие командиры, не к шоссе их тянуло… Да вы хлебайте, хлебайте.
— Там кусты и туман,— сказала Осянина.— Мне казалось…
— Креститься надо было, если казалось,— проворчал комендант.— Тючки, говоришь, у них?
— Да. Вероятно, тяжелые: в правой руке несли. Очень аккуратно упакованы.
Старшина свернул цигарку, закурил, прошелся. Ясно все вдруг для него стало, так ясно, что он даже застеснялся.
— Мыслю я, тол они несли. А если тол, то маршрут у них совсем не на шоссе, а на железку. На Кировскую дорогу, значит.
— До Кировской дороги неблизко,— сказала Кирьянова недоверчиво.
— Зато лесами. А леса здесь погибельные: армия спрятаться может, не то что два человека.
— Если так…— заволновалась Осянина.— Если так, то надо охране на железную дорогу сообщить.
— Кирьянова сообщит,— сказал Васков.— Мой доклад — в двенадцать тридцать ежедневно, позывной «17». Ты ешь, ешь, Осянина. Топать-то весь день придется…
Через сорок минут поисковая группа построилась, но вышли только через полтора часа, потому что старшина был строг и придирчив:
— Разуться всем!..
Так и есть: у половины сапоги на тонком чулке, а у другой половины портянки намотаны, словно шарфики. С такой обувкой много не навоюешь, потому как через три километра ноги эти вояки собьют до кровавых пузырей. Ладно, хоть командир их, младший сержант Осянина, правильно обута. Однако почему подчиненных не учит?..
Сорок минут преподавал, как портянки наматывать. А еще сорок — винтовки чистить заставил. Они в них ладно, если мокриц не развели, а ну как стрелять придется?..
Остаток времени старшина посвятил небольшой лекции, вводящей, по его мнению, бойцов в курс дела:
— Противника не бойтесь. Он по нашим тылам идет, значит, сам боится. Но близко не подпускайте, потому как противник все же мужик здоровый и вооружен специально для ближнего боя. Если уж случится, что рядом он окажется, тогда затаитесь лучше. Только не бегите, упаси бог: в бегущего из автомата попасть — одно удовольствие. Ходите только по двое. В пути не отставать и не разговаривать. Если дорога попадется, как надо действовать?
— Знаем,— сказала рыжая.— Одна — справа, другая — слева.
— Скрытно,— уточнил Федот Евграфыч.— Порядок движения такой будет: впереди — головной дозор в составе младшего сержанта с бойцом. Затем в ста метрах — основное ядро: я…— он оглядел свой отряд,— с переводчицей. В ста метрах за нами — последняя пара. Идти, конечно, не рядом, а на расстоянии видимости. В случае обнаружения противника или чего-то непонятного… Кто по-звериному или там по-птичьему кричать может?
Захихикали, дуры!..
— Я серьезно спрашиваю! В лесу сигналы голосом не подашь: у немца тоже уши есть.
Примолкли.
— Я умею,— робко сказала Гурвич.— По-ослиному: и-а-иа!..
— Ослы здесь не водятся,— с неудовольствием заметил старшина.— Ладно, давайте крякать учиться. Как утки.
Показал, а они засмеялись. Чего им вдруг весело стало, Васков не понял, но и сам улыбки не сдержал.
— Так селезень утицу подзывает,— пояснил он.— Ну-ка, попробуйте.
Крякали с удовольствием. Особенно эта рыжая старалась, Евгения (ох, хороша девка, не приведи бог влюбиться, хороша!). Но лучше всех, понятное дело, у Осяниной получалось: способная, видать. И еще у одной неплохо, у Лизы, что ли. Коренастая, плотная, то ли в плечах, то ли в бедрах — не поймешь, где шире. А голос лихо подделывает. И вообще ничего, такая всегда пригодится: здорова, хоть паши на ней.
Не то что пигалицы городские — Галя Четвертак да Соня Гурвич, переводчица.
— Идем на Вопь-озеро. Глядите сюда.— Столпились у карты, дышали в затылок, в уши: смешно.— Ежели немцы к железке идут, им озера не миновать. А пути короткого они не знают: значит, мы раньше их там будем. До места нам верст двадцать — к обеду придем. И подготовиться успеем, потому как немцам, обходным порядком, да таясь, не менее чем полста отшагать надо. Все понятно, товарищи бойцы?
Посерьезнели его бойцы:
— Понятно…
Им бы телешом загорать да в самолет пулять — вот это война…
— Младшему сержанту Осяниной проверить припас и готовность. Через пятнадцать минут выступаем.
Оставил бойцов: надо было домой забежать. Хозяйке еще до этого поручил сидор собрать, да и захватить кое-чего требовалось. Немцы — вояки злые, это только на карикатурах их пачками бьют. Требовалось подготовиться.
Мария Никифоровна собрала, что велел, даже больше: сала шматок положила да рыбки вяленой. Хотел ругнуть, но передумал: орава-то, что на свадьбе. Сунул в сидор патронов побольше для винтовки и нагана, пару гранат прихватил: мало ли что может случиться!
Хозяйка глядела испуганно, тихо: глаза — на мокром месте. И тянулась, уж так вся тянулась к нему, хоть и не двигалась с места, что Васков не выдержал, руку на голову ее положил:
— Послезавтра вернусь. Либо — крайний срок — в среду.
Заплакала. Эх, бабы, несчастный вы народ. Мужикам война эта — как зайцу курево, а уж вам-то…
Вышел на околицу, оглядел свою «гвардию»: винтовки чуть прикладом по земле не волочатся.
Вздохнул Васков.
— Готовы?
— Готовы,— сказала Рита.
— Заместителем на все время операции назначаю младшего сержанта Осянину. Сигналы напоминаю: два кряка — внимание, вижу противника. Три кряка — все ко мне.
Засмеялись девчонки. А он нарочно так говорил: два кряка, три кряка. Нарочно, чтоб засмеялись, чтоб бодрость появилась.
— Головной дозор, шагом марш!
Двинулись.
Впереди — Осянина с толстухой. Васков обождал, пока они скрылись в кустах, отсчитал про себя до ста, пошел следом. С переводчицей, что под винтовкой, подсумком, скаткой да сидором гнулась, как тростинка… Сзади — Комелькова и Галя Четвертак.
4
За бросок к Вопь-озеру Васков не беспокоился: прямую дорогу туда немцы знать не могли, потому что дорогу эту он открыл сам еще в финскую. На всех картах здесь топи обозначались, и у немцев был один путь: в обход по лесам, а потом к озеру на Синюхину гряду, и миновать гряду эту им было никак невозможно. И как бы ни шли его бойцы, как бы ни чухались, немцам идти все равно дольше. Раньше чем к вечеру они туда не выйдут, а к тому времени он уже успеет перекрыть все ходы-выходы. Положит своих девчат за камни, укроет понадежнее, пальнет разок для бодрости, а там и поговорит. В конце концов одного и прикончить можно, а с немцем один на один Васков схватки не боялся.
Бойцы его шагали бодро и вроде вполне соответственно: смеху и разговоров комендант не обнаружил. Как уж они там наблюдали, про это он знать не мог, но под ноги себе глядел, как при медвежьей облоге, и засек-таки легкий следок с чужими рубчиками. Следок этот тянул на добрый сорок четвертый размер, из чего Федот Евграфыч заключил, что оставил его детина под два метра и весом пудов на шесть с гаком. Конечно, с таким обормотом встречаться девчатам с глазу на глаз, даже если они и вооружены, никак не годилось, но вскоре старшина углядел еще отпечаток и по двум сообразил, что немец топал в обход топи. Все выходило так, как он замыслил.
— Хорошо немчура побегает,— сказал он своей напарнице.— Здорово очень даже побегает — верст на сорок.
Переводчица на это ничего не сказала, потому как сильно умаялась, аж приклад по земле волочился. Старшина несколько раз глянул, урывками ухватывая остренькое, некрасивое, но уж очень серьезное личико ее, подумал жалостливо, что при теперешнем мужском дефиците не видать ей семейной бытности, и спросил неожиданно:
— Тятя с маманей живы у тебя? Или сиротствуешь?
— Сиротствую?..— Она улыбнулась.— Пожалуй, знаете, сиротствую.
— Сама, что ль, не уверена?
— А кто теперь в этом уверен, товарищ старшина?
— Резон…
— В Минске мои родители.— Она подергала тощим плечом, поправляя винтовку.— Я в Москве училась, готовилась к сессии, а тут…
— Известия имеешь?
— Ну, что вы…
— Да…— Федот Евграфыч еще покосился: прикинул, не обидит ли.— Родители еврейской нации?
— Естественно.
— Естественно…— Комендант солидно посопел.— Было бы естественно, так и не спрашивал бы.
Переводчица промолчала. Шлепала по мокрой траве корявыми кирзачами, хмурилась. Вздохнула тихо:
— Может, уйти успели…
Полоснуло Васкова по сердцу от вздоха этого. Ах, заморыш ты воробьиный, по силам ли горе на горбу-то у тебя? Матюкнуться бы сейчас в полную возможность, покрыть бы войну эту в двадцать восемь накатов с переборами. Да заодно и майора того, что девчат в погоню отрядил, прополоскать бы в щелоке. Глядишь, и полегчало бы, а вместо этого надо улыбку изо всех сил к губам прилаживать.
— А ну, боец Гурвич, крякни три раза!
— Зачем это?
— Для проверки боевой готовности. Ну? Забыла, как учил?
Сразу заулыбалась. И глазки живые стали.
— Нет, не забыла!
Кряк, конечно, никакой не получился: баловство одно. Как в театре. Но и головной дозор, и замыкающее звено все-таки сообразили, что к чему: подтянулись. А Осянина просто бегом примчалась — и винтовка в руке:
— Что случилось?
— Коли б что случилось, так вас бы уже архангелы на том свете встречали,— выговорил ей комендант.— Растопалась, понимаешь, как телушка. И хвост трубой.
Обиделась — аж вспыхнула вся, как заря майская. А как иначе: учить-то надо.
— Устали?
— Еще чего!
Рыжая выпалила: за Осянину расстроилась, ясное дело.
— Вот и хорошо,— миролюбиво сказал Федот Евграфыч.— Что в пути заметили? По порядку: младший сержант Осянина.
— Вроде ничего…— Рита замялась.— Ветка на повороте сломана была.
— Молодец, верно. Ну, замыкающие. Боец Комелькова!
— Ничего не заметила, все в порядке.
— С кустов роса сбита,— торопливо сказала вдруг Лиза Бричкина.— Справа еще держится, а слева от дороги сбита.
— Вот глаз! — довольно сказал старшина.— Молодец, красноармеец Бричкина. А еще было на дороге два следа. От немецкого резинового ботинка, что ихние десантники носят. По носкам ежели судить, то держат они вокруг болота. И пусть себе держат, потому что мы болото это возьмем напрямки. Сейчас пятнадцать минут покурить можно, оправиться.
Хихикнули, будто он глупость какую сказал. А это команда такая, в уставе она записана. Васков нахмурился:
— Не реготать! И не разбегаться. Все!..
Показал, куда вещмешки сложить, куда — скатки, куда винтовки составить, и распустил свое воинство. Враз все в кусты шмыгнули, как мыши.
Старшина достал топорик, вырубил в сухостое шесть добрых слег и только после этого закурил, присев у вещей. Вскоре все тут собрались: шушукались, переглядывались.
— Сейчас внимательнее надо быть,— сказал комендант.— Я первым пойду, а вы гуртом за мной, но след в след. Тут слева, справа трясины: маму позвать не успеете. Каждая слегу возьмет и прежде, чем ногу поставить, слегой дрыгву пусть пробует. Вопросы есть?
Промолчали на этот раз: рыжая только головой дернула, но воздержалась. Старшина встал, затоптал во мху окурок.
— Ну, у кого силы много?
— А чего? — неуверенно спросила Лиза Бричкина.
— Боец Бричкина понесет вещмешок переводчицы.
— Зачем? — пискнула Гурвич.
— А затем, что не спрашивают!.. Комелькова!
— Я.
— Взять мешок у красноармейца Четвертак.
— Давай, Четвертачок, заодно и винтовочку…
— Разговорчики! Делать, что велят: личное оружие каждый несет сам…
Кричал и расстраивался: не так, не так надо! Разве горлом сознательности добьешься? До кондрашки доораться можно, а дела от этого не прибудет. Однако разговаривать стали больно. Щебетать. А щебет военному человеку — штык в печенку. Это уж так точно…
— Повторяю, значит, чтоб без ошибки. За мной в затылок. Ногу ставить след в след. Слегой топь…
— Можно вопрос?
Господи, твоя воля! Утерпеть не могут.
— Что вам, боец Комелькова?
— Что такое — слегой? Слегка, что ли?
Дурака валяет рыжая, по глазам видно. Опасные глазищи, как омуты.
— Что у вас в руках?
— Дубина какая-то…
— Вот она и есть слега. Ясно говорю?
— Теперь прояснилось. Даль.
— Какая еще даль?
— Словарь, товарищ старшина. Вроде разговорника.
— Евгения, перестань! — крикнула Осянина.
— Да, маршрут опасный, тут не до шуток. Порядок движения: я — головной. За мной Гурвич, Бричкина, Комелькова, Четвертак. Младший сержант Осянина — замыкающая. Вопросы?
— Глубоко там?
Четвертак интересуется. Ну, понятно: при ее росте и ведро — бочажок.
— Местами будет по… Ну, по это самое. Вам по пояс, значит. Винтовки берегите.
Шагнул с ходу по колено — только трясина чвакнула. Побрел, раскачиваясь, как на пружинном матрасе. Шел, не оглядываясь, по вздохам да испуганному шепоту определяя, как движется отряд.
Сырой, стоялый воздух душно висел над болотом. Цепкие весенние комары тучами вились над разгоряченными телами. Остро пахло прелой травой, гниющими водорослями, болотом.
Всей тяжестью налегая на шесты, девушки с трудом вытягивали ноги из засасывающей холодной топи. Мокрые юбки липли к бедрам, ружейные приклады волочились по грязи. Каждый шаг давался с напряжением, и Васков брел медленно, приноравливаясь к маленькой Гале Четвертак.
Он держал курс на островок, где росли две низкие, исковерканные сыростью сосенки. Комендант не спускал с них глаз, ловя в просвет между кривыми стволами дальнюю сухую березу, потому что и вправо и влево брода уже не было.
— Товарищ старшина!..
А, леший!.. Комендант покрепче вогнал шест, с трудом повернулся: так и есть, растянулись, стали.
— Не стоять! Не стоять, засосет!..
— Товарищ старшина, сапог с ноги снялся!..
Четвертак с самого хвоста кричит. Торчит, как кочка, и юбки не видно. Осянина подобралась, подхватила ее. Тыкают шестом в трясину: сапог, что ли, нащупывают?
— Нашли?
— Нет!..
Комелькова слегу перекинула, качнулась вбок. Хорошо, он заметил вовремя. Заорал, аж жилы на лбу вздулись:
— Куда?! Стоять!..
— Я помочь…
— Стоять! Нет назад пути!
Господи, совсем он с ними запутался: то не стоять, то стоять. Как бы не испугались, в панику не ударились. Паника в трясине — смерть.
— Спокойно, спокойно только! До островка пустяк остался, там передохнем. Нашли сапог?
— Нет!.. Вниз тянет, товарищ старшина!
— Идти надо! Тут зыбко, долго не простоим.
— А сапог как же?
— Да разве найдешь его теперь? Вперед!.. Вперед, за мной!..— повернулся, пошел не оглядываясь.— След в след. Не отставать!..
Это он нарочно кричал, чтоб бодрость появилась. У бойцов от команды бодрость появляется, это он по себе знал. Точно.
Добрели наконец. Он особо за последние метры боялся: там поглубже. Ног уже не вытянешь, телом дрыгву эту проклятую раздвигать приходится. Тут и силы нужны и сноровка. Но обошлось.
У острова, где уже стоять можно было, Васков задержался. Пропустил мимо всю команду свою, помог на твердую землю выбраться.
— Не спешите только. Спокойно. Здесь передохнем.
Девушки выходили на остров, валились на жухлую прошлогоднюю траву. Мокрые, облепленные грязью, задыхающиеся. Четвертак не только сапог, а и портянку болоту подарила: вышла в одном чулке. В дырку большой палец торчит, синий от холода.
— Ну что, товарищи бойцы, умаялись?
Промолчали бойцы. Только Лиза поддакнула:
— Умаялись…
— Ну, отдыхайте покуда. Дальше легче будет: до сухой березы добредем — и шабаш.
— Нам бы помыться,— сказала Рита.
— На той стороне протока чистая, песчаный берег. Хоть купайтесь. Ну, а сушиться, конечно, на ходу придется.
Четвертак вздохнула, спросила несмело:
— А мне как же без сапога?
— А тебе чуню сообразим,— улыбнулся Федот Евграфыч.— Только уж за болотом, не здесь. Потерпишь?
— Потерплю.
— Растрепа ты, Галка,— сердито сказала Комелькова.— Надо было пальцы вверх загибать, когда ногу вытаскиваешь.
— Я загибала, а он все равно слез.
— Холодно, девочки.
— Я мокрая до самых-самых…
— Думаешь, я сухая? Я раз оступилась да как сяду!..
Смеются. Значит, ничего, отходят. Хоть и женский пол, а молодые, силенка какая-никакая, а имеется. Только бы не расхворались: вода — лед…
Федот Евграфыч еще раз затянулся, кинул в болото окурок, встал. Сказал бодро:
— А ну, разбирай слеги, товарищи бойцы. И за мной прежним порядком. Мыться-греться там будем, на бережку.
И шарахнул с корня прямо в бурое месиво.
Этот последний бродок тоже был не приведи господь. Жижа, что овсяный кисель: и ногу не держит, и поплыть не дает. Пока ее распихаешь, чтоб вперед продвинуться, семь потов сойдет.
— Как, товарищи?
Это он для поднятия духа крикнул, не оглядываясь.
— Пиявки тут есть? — задыхаясь, спросила Гурвич.
Она следом за ним шла, уже по проломленному: ей полегче было.
— Нету тут никого. Мертвое место, погибельное.
Слева вспучился пузырь. Лопнул, и разом гулко вздохнуло болото. Кто-то сзади ойкнул испуганно, и Васков пояснил:
— Газ болотный выходит, не бойтесь. Потревожили мы его…— Подумал маленько, добавил: — Старики бают, что аккурат в таких местах хозяин живет, лешак, значит. Сказки, понятное дело…
Молчит его гвардия. Пыхтит, ойкает, задыхается. Но лезут. Упрямо лезут, зло.
Полегче стало: кисель пожиже, дно попрочнее, даже кочки кой-где появились. Старшина нарочно хода не убыстрял, и отряд подтянулся: в затылок шли. К березе почти разом выбрались; дальше лесок начинался, кочки да мшаник. Это уже совсем пустяком выглядело, тем более что почва все повышалась и в конце незаметно переходила в сухой беломошный бор. Тут они загалдели разом, обрадовались и слеги побросали. Однако Федот Евграфыч слеги велел поднять и все к одной приметной сосне прислонить.
— Может, кому сгодится.
А отдыхать не дал ни минуты. Даже босую Галю Четвертак не пожалел:
— Чуть, товарищи красноармейцы, осталось, поднатужьтесь. У протоки отдохнем.
Влезли на взгорбок — сквозь сосенки протока открылась. Чистая, как слеза, в золотых песчаных берегах.
— Ура!..— закричала рыжая Женька.— Пляж, девочки!
Девушки заорали что-то счастливое, кинулись к реке по откосу, на ходу сбрасывая с себя скатки, вещмешки…
— Отставить!..— гаркнул комендант.— Смирно!..
Враз замерли. Смотрят удивленно, даже обиженно.
— Песок!..— сердито продолжал старшина.— А вы в него винтовки суете, вояки. Винтовки к дереву прислонить, понятно? Сидора, скатки — в одно место. На мытье и приборку даю сорок минут. Я за кустами буду на расстоянии звуковой связи. Вы, младший сержант Осянина, за порядок мне отвечаете.
— Есть, товарищ старшина.
— Ну, все. Через сорок минут чтоб все были готовы. Одеты, обуты и — чистые.
Спустился пониже. Выбрал местечко, чтоб и песок был, и вода глубокая, и кусты кругом. Снял амуницию, сапоги, разделся. Где-то неразборчиво переговаривались девушки: только смех да отдельные слова долетали до Васкова, и, может, по этой причине он все время и прислушивался.
Первым делом Федот Евграфыч галифе, портянки да белье выстирал, отжал, сколь мог, и на кусты раскинул для просушки. Потом намылился, повздыхал, потопал по бережку, волю в себе скапливая, да и сиганул с обрыва в омут. Вынырнул — вздохнуть не мог: ледяная вода сердце стиснула. Крикнуть хотелось во всю мочь, но убоялся гвардию свою напугать: покрякал почти что шепотом, без удовольствия, смыл мыло — и на берег. И только уж когда суровым полотенцем растерся докрасна, отдышался, снова прислушиваться стал.
А там гомонили, как на побеседушках: все враз и каждая свое. Только смеялись дружно, да Четвертак радостно выкрикнула:
— Ой, Женечка! Ай, Женечка!
— Только вперед!..— заорала вдруг Комелькова, и старшина услышал, как туго плеснула за кустами вода.
«Ишь ты, купаются…» — уважительно подумал он.
Восторженный визг заглушил все звуки разом: хорошо, немцы далеко были. Сперва в этом визге ничего разобрать было невозможно, а потом Осянина резко крикнула:
— Евгения, на берег!.. Сейчас же!..
Улыбаясь, Федот Евграфыч свернул потолще самокрутку, почикал «катюшей» по кремню, прикурил от затлевшего фитиля и стал неспешно, с удовольствием курить, подставив теплому майскому солнцу голую спину.
За сорок минут, понятное дело, ничего не высохло, но ждать было нельзя, и Васков, поеживаясь, натянул на себя волглые кальсоны и галифе. Портянки, к счастью, запасные имелись, и ноги он вогнал в сапоги сухими. Надел гимнастерку, затянулся ремнем, подхватил вещи. Крикнул зычно:
— Готовы, товарищи бойцы?
— Подождите!..
Ну, так и знал! Федот Евграфыч усмехнулся, покрутил головой и только разинул рот, чтобы шугануть их, как Осянина опять прокричала:
— Идите! Можно!..
Это старшему-то по званию «можно» кричат бойцы. Насмешка какая-то над уставом, если вдуматься. Непорядок.
Но это он так, между прочим подумал, потому что после купания и отдыха настроение у коменданта было прямо первомайское. Тем более что и «гвардия» ждала его в виде аккуратном, чистом и улыбчивом.
— Ну как, товарищи красноармейцы, порядок?
— Порядок, товарищ старшина. Евгения вон купалась у нас.
— Молодец, Комелькова. Не замерзла?
— Так ведь все равно погреть некому…
— Остра! Давайте, товарищи бойцы, перекусим маленько да двинем, пока не засиделись.
Перекусили хлебом с селедкой: сытное старшина пока придерживал. Потом чуню непутевой этой Четвертак соорудили: запасной портянкой обмотали, сверху два шерстяных носка (хозяйки его рукоделие и подарок), да из свежей бересты Федот Евграфыч кузовок для ступни свернул. Подогнал, прикрутил бинтом:
— Ладно ли?
— Очень даже. Спасибо, товарищ старшина.
— Ну, в путь, товарищи бойцы. Нам еще часа полтора ноги глушить. Да и там оглядеться надо, подготовиться, как да где гостей встречать…
Гнал он девчат своих ходко: надо было, чтоб юбки да прочие их вещички на ходу высохли. Но девахи ничего, не сдавались — раскраснелись только.
— А ну, нажмем, товарищи бойцы! За мной, бегом!..
Бежал, пока у самого дыхания хватало. На шаг переходил, давал отдышаться — и снова:
— За мной!.. Бегом!..
Солнце уже клонилось, когда вышли к Вопь-озеру. Тихо плескалось оно о валуны, и сосны уже по-вечернему шумели на берегах. Как ни вглядывался старшина в горизонт, не видно было на воде лодок; как ни внюхивался в шепотливый ветерок, ниоткуда не тянуло дымом. И до войны края эти не очень-то людными были, а теперь и вовсе одичали, словно все: и лесорубы, и охотники, и рыбаки, и смолокуры — все ушли на фронт.
— Тихо-то как…— шепотом сказала звонкая Евгения.— Как во сне.
— От левой косы Синюхина гряда начинается,— пояснил Федот Евграфыч.— С другой стороны эту гряду другое озеро поджимает, Легонтово называется. Монах тут жил когда-то, Легонт прозвищем. Безмолвия искал.
— Безмолвия здесь хватает,— вздохнула Гурвич.
— Немцам один путь: меж этими озерами, через гряду. А там известно что: бараньи лбы да каменья с избу. Вот в них-то мы и должны позицию выбрать: основную и запасную, как тому устав учит. Выберем, поедим, отдохнем и будем ждать. Так, что ли, товарищи красноармейцы?
Примолкли товарищи красноармейцы. Задумались…
5
Сроду Васков чувствовал себя старше, чем был. Не ворочай он в свои четырнадцать за иного женатика — по миру пошла бы семья. Тем более, голодно тогда было, неустройства много. А он единственным в семье мужиком остался — и кормильцем, и поильцем, и добытчиком. Летом крестьянствовал, зимой зверя бил и о том, что людям выходные положены, узнал к двадцати годам. Ну, потом армия: тоже не детский сад… В армии солидность уважают, а он армию уважал. Так и получилось, что и на данном этапе он опять же не помолодел, а, наоборот, старшиной стал. А старшина — старшина и есть: он всегда для бойцов старый. Положено так.
И Федот Евграфыч позабыл о своем возрасте. Одно знал: он старше рядовых и лейтенантов, ровня всем майорам и всегда младше любого полковника. Дело тут не в субординации было — в мироощущении.
Поэтому и на девчат, которыми командовать пришлось, он смотрел словно бы из другого поколения. Словно был он участником гражданской войны и лично чай пил с Василием Ивановичем Чапаевым под городом Лбищенском. И не по выкладкам ума, не по зароку какому-нибудь получилось так, а от естества, от сути его старшинской.
Мысль насчет того, что старше он самого себя, никогда Васкову в голову не приходила. И только ночью этой, тихой да светлой, шевельнулось что-то сомнительное.
Но тогда до ночи еще далеко было, еще позицию выбирали. Бойцы его скакали по каменьям, что козы, и он вдруг заскакал с ними, и у него ловко так вот получалось, что он и сам удивился. А удивившись, нахмурился и стал ходить степенно и на валуны влезать в три приема.
Впрочем, не это главное было. Главное — отличную позицию он выискал. Глубокую, с укрывистыми подходами, с обзором от леса до озера. Глухими бараньими лбами тянулась она вдоль озерного плеса, оставляя для прохода лишь узкую открытую полосу у берега. По этой полосе в случае чего немцам надо было часа три гряду огибать, а он мог напрямки отходить, через камни, и занимать запасную позицию задолго до подхода противника. Ну, это он так, для перестраховки выбрал, потому что с двумя-то диверсантами наверняка мог справиться здесь, у основной.
Выбрав позицию, Федот Евграфыч, как положено, произвел расчет времени. По расчету этому выходило, что немцев ждать оставалось еще часа четыре, и поэтому разрешил он своей команде сготовить горячее из расчета котелок на двоих. Кухарить Лиза Бричкина сама вызвалась: он ей в помощь двух пигалиц выделил и дал указание, чтоб костер был без дыма.
— Замечу дым, вылью в огонь все варево в тот же момент. Ясно говорю?
— Ясно,— упавшим голосом сказала Лиза.
— Нет, не ясно, товарищ боец. А ясно тогда будет, когда у меня топор попросишь да подручных своих пошлешь сухостоя нарубить. И накажи им, чтобы тот рубили, который еще без лишая стоит. Чтоб звонкий был. Тогда дыма не будет, а будет один жар.
Приказ приказом, а для примера сам наломал им сушняк {1}, сам развел костер. Потом, когда с Осяниной на местности занимался, все туда поглядывал, но дыма не было: только воздух дрожал над камнями, но про то знать надо было или глаз иметь наметанный, а у немцев, понятное дело, глаза такого быть не могло.
Пока там тройка эта кашеварила, Васков с младшим сержантом Осяниной и бойцом Комельковой всю гряду излазили. Определили места, сектора обстрела, ориентиры. Расстояние до ориентиров Федот Евграфыч лично парами шагов проверил и занес в стрелковую карточку, как того требовал устав.
К тому времени обедать кликнули. Расселись попарно, как шли, и коменданту котелок достался пополам с бойцом Гурвич. Она, конечно, заскромничала, ложкой уж слишком часто постукивать начала, самое варево ему сбрасывая. Старшина сказал неодобрительно:
— Напрасно стучишь, товарищ переводчик. Я тебе, понимаешь ли, не дролюшка, и нечего мне кусочки подкладывать. Наворачивай, как бойцу положено.
— Я наворачиваю,— улыбнулась она.
— Вижу! Худющая, как весенний грач.
— У меня конституция такая.
— Конституция?.. Вон у Бричкиной такая же конституция, как у нас всех, а — в теле. Есть на что приятно поглядеть…
После обеда чайку напились: Федот Евграфыч еще на марше брусничного листа насобирал, его и заварили. Отдохнули полчасика, и старшина приказал построиться.
— Слушай боевой приказ! — торжественно начал он, хотя где-то внутри сомневался, что поступает правильно насчет этого приказа.— Противник силою до двух вооруженных до зубов фрицев движется в район Вопь-озера с целью тайно пробраться на Кировскую железную дорогу и Беломорско-Балтийский канал имени товарища Сталина. Нашему отряду в количестве шести человек поручено держать оборону Синюхиной гряды, где и захватить противника в плен. Сосед слева — Вопь-озеро, сосед справа — Легонтово озеро…— Старшина помолчал, откашлялся, расстроенно подумал, что приказ, пожалуй, следовало бы сначала написать на бумажке, и продолжал: — Я решил встретить врага на основной позиции и, не открывая огня, предложить ему сдаться. В случае сопротивления одного убить, а второго все ж таки взять живым. На запасной позиции оставить все имущество под охраной бойца Четвертак. Боевые действия начинать только по моей команде. Своими заместителями назначаю младшего сержанта Осянину, а ежели и она выйдет из строя, то бойца Гурвич. Вопросы?
— А почему это меня в запасные? — обиженно спросила Четвертак.
— Несущественный вопрос, товарищ боец. Приказано вам, вот и выполняйте.
— Ты, Галка, наш резерв,— сказала Осянина.
— Вопросов нет, все ясненько,— бодро отозвалась Комелькова.
— А ясненько, так прошу пройти на позицию.
Он развел бойцов по местам, что загодя прикинул вместе с Осяниной, указал каждой ориентиры, еще раз лично предупредил, чтоб лежали, как мыши.
— Чтоб и не шевельнулся никто. Первым я с ними говорить буду.
— По-немецки? — съехидничала Гурвич.
— По-русски! — резко сказал старшина.— А вы переведете, ежели не поймут. Ясно говорю?
Все молчали.
— Ежели вы и в бою так высовываться будете, то санбата поблизости нету. И мамань тоже.
Насчет мамань он напрасно сказал, совсем напрасно. И рассердился поэтому ужасно: ведь всерьез же все будет, не на стрельбище!
— С немцем хорошо издаля воевать. Пока вы свою трехлинеечку передернете, он из вас сито сделает. Поэтому категорически лежать приказываю. Лежать, пока лично «огонь!» не скомандую. А то не погляжу, что женский род…— Тут Федот Евграфыч осекся, махнул рукой.— Все. Кончен инструктаж.
Выделил сектора наблюдения, распределил попарно, чтоб в четыре глаза смотреть. Сам повыше забрался. Биноклем кромку леса обшаривал, пока слеза не прошибла.
Солнце уже совсем за вершины цеплялось, но камень, на котором лежал Васков, еще хранил накопленное тепло. Старшина отложил бинокль и закрыл глаза, чтоб отдохнули. И сразу камень этот теплый плавно качнулся и поплыл куда-то в тишину и покой, и Федот Евграфыч не успел сообразить, что дремлет. Вроде и ветерок чувствовал, и слышал все шорохи, а казалось, что лежит на печи, что забыл дерюжку подстелить и надо бы об этом мамане сказать. И маманю увидел: шуструю, маленькую, что много уж лет спала урывками, кусочками какими-то, будто воруя их у крестьянской своей жизни. Увидел руки, худые до невозможности, с пальцами, которые давно уж не разгибались от сырости и работы. Увидел морщинистое, будто печеное, лицо ее, слезы на жухлых щеках и понял, что доселе плачет маманя над помершим Игорьком, доселе виноватит себя и изводит. Хотел он ласковое ей сказать, да тут вдруг кто-то его за ногу тронул, и он почему-то решил, что это тятька, и испугался до самого сердца. Открыл глаза: Осянина на камень лезет и за ногу его трогает.
— Немцы?..
— Где?..— испуганно откликнулась она.
— Фу, леший… Показалось.
Рита длинно посмотрела на него, улыбнулась:
— Подремлите, Федот Евграфыч. Я шинель вам принесу.
— Что ты, Осянина. Это так, сморило меня. Покурить надо.
Спустился вниз — под скалой Комелькова волосы расчесывает. Распустила — спины не видно. Стала гребенку вести — руки не хватает: перехватывать приходится. А волос густой, мягкий, медью отливает. И руки у нее плавно так ходят, неторопливо, покойно.
— Крашеные, поди? — спросил старшина и испугался, что съязвит сейчас и кончится вот это вот, простое.
— Свои. Растрепанная я?
— Это ничего.
— Вы не думайте, там у меня Лиза Бричкина наблюдает. Она глазастая.
— Ладно, ладно. Оправляйся…
О леший, опять это слово выскочило! Потому ведь из устава оно. Навеки врубленное. Медведь ты, Васков, медведь глухоманный!..
Насупился старшина. Закурил, дымом укутался.
— Товарищ старшина, а вы женаты?
Глянул: сквозь рыжее пламя зеленый глаз проглядывает. Неимоверной силы глаз, как стопятидесятидвухмиллиметровая пушка-гаубица.
— Женатый, боец Комелькова.
Соврал, само собой. Но с такими оно к лучшему. Позиции определяет, кому где стоять.
— А где ваша жена?
— Известно где — дома.
— А дети есть?
— Дети…— вздохнул Федот Евграфыч.— Был мальчонка. Помер. Аккурат перед войной.
— Умер?..
Отбросила назад волосы, глянула — прямо в душу глянула. Прямо в душу. И ничего больше не сказала. Ни утешений, ни шуточек, ни пустых слов. Потому-то Васков не удержался, вздохнул:
— Да, не уберегла маманя…
Сказал и пожалел. Так пожалел, что тут же вскочил, гимнастерку одернул, как на смотру.
— Как там у тебя, Осянина?
— Никого, товарищ старшина.
— Продолжать наблюдение!
И пошел от бойца к бойцу.
Солнце давно уже село, но было светло, словно перед рассветом, и боец Гурвич читала за своим камнем книжку. Бубнила нараспев, точно молитву, и Федот Евграфыч послушал, прежде чем подойти:
Рожденные в года глухие Пути не помнят своего. Мы — дети страшных лет России — Забыть не в силах ничего. Испепеляющие годы! Безумья ль в вас, надежды ль весть? От дней войны, от дней свободы Кровавый отсвет в лицах есть…— Кому читаешь-то? — спросил он, подойдя.
Переводчица смутилась (все ж таки наблюдать приказано было, наблюдать!), отложила книжку, хотела встать. Старшина махнул рукой.
— Кому, спрашиваю, читаешь?
— Никому. Себе.
— А чего ж в голос?
— Так ведь стихи.
— А-а…— Васков не понял. Взял книжку — тонюсенькая, что наставление по гранатомету,— полистал.— Глаза портишь.
— Светло, товарищ старшина.
— Да я вообще… И вот что, ты на камнях-то не сиди. Они остынут скоро, начнут из тебя тепло тянуть, а ты и не заметишь. Ты шинельку подстилай.
— Хорошо, товарищ старшина. Спасибо.
— А в голос все-таки не читай. Ввечеру воздух сырой тут, плотный, а зори здесь тихие, и потому слышно аж за пять верст. И поглядывай. Поглядывай, боец Гурвич.
Ближе к озеру Бричкина располагалась, и еще издали Федот Евграфыч довольно заулыбался: вот толковая девка! Наломала лапнику елового, устелила ложбинку меж камней, шинелью прикрыла: бывалый человек. Даже поинтересовался:
— Откуда будешь, Бричкина?
— С Брянщины, товарищ старшина.
— В колхозе работала?
— Работала. А больше отцу помогала. Он лесник, на кордоне мы жили.
— То-то крякаешь хорошо.
Засмеялась. Любят они смеяться, не отвыкли еще.
— Ничего не заметила?
— Пока тихо.
— Ты все примечай, Бричкина. Кусты не качаются ли, птицы не шебуршатся ли. Человек ты лесной, все понимаешь.
— Понимаю.
— Вот-вот…
Потоптался старшина: вроде все сказал, вроде дал указания, вроде уходить надо, а ноги не шли. Уж больно девка своя-то была, лесная, уж больно устроилась уютно, уж больно теплом от нее тянуло, как от той русской родимой печки, что привиделась ему сегодня в дреме.
— «Лиза, Лиза, Лизавета, что ж не шлешь ты мне привета, что ж ты дроле не поешь, аль твой дроля не пригож»,— с ходу, казенным голосом отбарабанил комендант и пояснил: — Это припевка в наших краях такая.
— А у нас…
— После споем с тобой, Лизавета. Вот выполним боевой приказ и споем.
— Честное слово? — улыбнулась Лиза.
— Ну, сказал ведь.
Старшина вдруг залихватски подмигнул ей, сам же первым смутился, поправил фуражку и пошел. Бричкина крикнула вслед:
— Ну, глядите, товарищ старшина! Обещались!..
Ничего он ей не ответил, но улыбался всю дорогу, пока через гряду на запасную позицию не вышел. Тут он улыбку с лица смахнул и стал искать, куда запряталась боец Четвертак.
А боец Четвертак сидела под скалой на мешках, укутавшись в шинель и сунув руки в рукава. Поднятый воротник прятал ее голову вместе с пилоткой, и между казенных отворотов уныло торчал красный хрящеватый носик.
— Ты чего скукожилась, товарищ боец?
— Холодно…
Протянул руку, а она отпрянула: решила сдуру, что хватать он ее пришел, что ли…
— Да не рвись ты, господи! Лоб давай. Ну?..
Высунула шею. Старшина лоб ее стиснул, прислушался: горит. Горит, лешак тебя задави совсем!
— Жар у тебя, товарищ боец. Чуешь?
Молчит. И глаза печальные, как у телушки: любого обвиноватят. Вот он, сапог, потерянный бойцом, твоя поспешаловка и майский сиверко. Получи в натуре одного небоеспособного — обузу на весь отряд и лично на твою совесть.
Федот Евграфыч сидор свой вытащил, лямки сбросил, нырнул: в укромном местечке наиважнейший его энзе лежал — фляга со спиртом, семьсот пятьдесят граммов, под пробку. Плеснул в кружку.
— Так примешь или разбавить?
— А что это?
— Микстура. Ну, спирт, ну?
Замахала руками, отодвинулась:
— Ой, что вы, что вы…
— Приказываю принять!..— Старшина подумал маленько, разбавил чуть водой.— Пей. И воды сразу.
— Нет, что вы…
— Пей, без разговору!..
— Ну, что вы в самом деле! У меня мама — медицинский работник…
— Нету мамы. Война есть, немцы есть, я есть, старшина Васков. А мамы нету. Мамы у тех будут, кто войну переживет. Ясно говорю?
Выпила, давясь, со слезой пополам. Закашлялась. Федот Евграфыч ее ладонью по спине постукал слегка. Отошла. Слезы ладонью размазала, улыбнулась:
— Голова у меня… побежала!..
— Завтра догонишь.
Лапнику ей приволок. Устелил, шинелью своей покрыл:
— Отдыхай, товарищ боец.
— А вы как же без шинели-то?
— Я здоровый, не боись. Выздоровей только к завтраму. Очень тебя прошу, выздоровей.
Стихло кругом. И леса, и озера, и воздух самый — все на покой отошло, затаилось. За полночь перевалило, завтрашний день начинался, а никаких немцев не было и в помине. Рита то и дело поглядывала на Васкова, а когда одни оказались, спросила:
— Может, зря сидим?
— Может, и зря,— вздохнул старшина.— Однако не думаю. Если ты фрицев тех с пеньками не спутала, конечно.
К этому времени комендант отменил позиционное бдение. Отправил бойцов на запасную позицию, приказал лапнику наломать и спать, пока не подымет. А сам здесь остался, на основной, и Осянина за ним увязалась.
То, что немцы не появлялись, сильно озадачивало Федота Евграфыча. Они ведь и вообще могли здесь не оказаться, могли в другом месте на дорогу нацелиться, могли какое-либо иное задание иметь, а совсем не то, которое он за них определил. Могли уже бед натворить уйму: стрельнуть кого из начальства или взорвать что важное. Поди тогда объясняй трибуналу, почему ты, вместо того, чтобы лес прочесать да немцев прищучить, черт-те куда попер. Бойцов пожалел? Испугался в открытый бой их кинуть? Это не оправдание, если приказ не выполнен. Нет, не оправдание.
— Вы бы поспали пока, товарищ старшина. На зорьке разбужу.
Какой там, к лешему, сон! Даже холода комендант не чувствовал, даром что в одной гимнастерке…
— Погоди ты со сном, Осянина. Будет мне, понимаешь ли, вечный сон, ежели фрицев проворонил.
— А может, они спят сейчас, Федот Евграфыч?
— Спят?
— Ну да. Люди же они. Сами говорили, что Синюхина гряда — единственный удобный проход к железной дороге. А до нее им…
— Погоди, Осянина, погоди! Полста верст, это точно, даже больше. Да по незнакомой местности. Да каждого куста пугаясь… А?.. Так мыслю?
— Так, товарищ старшина.
— А так, то могли они, свободное дело, и отдыхать завалиться. В буреломе где-нито. И спать будут до солнышка. А с солнышком… А?
Рита улыбнулась. И опять посмотрела — длинно, как бабы на ребятню смотрят.
— Вот и вы до солнышка отдохните. Я разбужу.
— Нету мне сна, товарищ Осянина… Маргарита, как по батюшке?
— Зовите просто Ритой, Федот Евграфыч.
— Закурим, товарищ Рита?
— Я не курю.
— Да, насчет того, что и они тоже люди, это я как-то недопонял. Правильно подсказала: отдыхать должны. И ты ступай, Рита. Ступай.
— Я не хочу спать.
— Ну, так приляг пока, ноги вытяни. Гудят с непривычки, небось?
— Ну, у меня как раз хорошая привычка, Федот Евграфыч,— улыбнулась Рита.
Но старшина все-таки уговорил ее, и Рита легла тут же, на будущей передовой, на лапнике, что Лиза Бричкина для себя заготовила. Укрылась шинелью, думала передремать до зари и — заснула. Крепко, без снов, как провалилась. А проснулась, когда старшина за шинель потянул:
— Что?
— Тише! Слышишь?
Рита скинула шинель, одернула юбку, вскочила. Солнце уж оторвалось от горизонта, зарозовели скалы. Выглянула: над дальним лесом с криком перелетали птицы.
— Птицы кричат…
— Сороки!..— тихо смеялся Федот Евграфыч.— Сороки-белобоки шебуршат, Рита. Значит, идет кто-то, беспокоит их. Не иначе — гости. Крой, Осянина, подымай бойцов. Мигом! Но скрытно, чтоб ни-ни!..
Рита убежала.
Старшина залег на свое место — впереди и повыше остальных. Проверил наган, дослал в винтовку патрон. Шарил биноклем по освещенной низким солнцем лесной опушке.
Сороки кружились над кустами, громко трещали, перещелкивались.
Подтянулись бойцы. Молча разошлись по местам, залегли.
Гурвич к нему пробралась:
— Здравствуйте, товарищ старшина.
— Здорово. Как там Четвертак эта?
— Спит. Будить не стали.
— Правильно решили. Будь рядом, для связи. Только не высовывайся.
— Не высунусь,— сказала Гурвич.
Сороки подлетали все ближе и ближе, кое-где уже вздрагивали верхушки кустов, и Федоту Евграфычу показалось даже, будто хрустнул валежник под тяжелой ногой идущего. А потом вроде замерло все, и сороки вроде как-то успокоились, но старшина знал, что на самой опушке, в кустах, сидят люди. Сидят, вглядываясь в озерные берега, в лес на той стороне, в гряду, через которую лежал их путь и где укрывался сейчас и он сам, и его румяные со сна бойцы.
Наступила та таинственная минута, когда одно событие переходит в другое, когда причина сменяется следствием, когда рождается случай. В обычной жизни человек никогда не замечает ее, но на войне, где нервы напряжены до предела, где на первый жизненный срез снова выходит первобытный смысл существования — уцелеть,— минута эта делается реальной, физически ощутимой и длинной до бесконечности.
— Ну, идите же, идите, идите…— беззвучно шептал Федот Евграфыч.
Колыхнулись далекие кусты, и на опушку осторожно выскользнули двое. Они были в пятнистых серо-зеленых накидках, но солнце светило им прямо в лица, и комендант отчетливо видел каждое их движение.
Держа пальцы на спусках автоматов, пригнувшись, легким кошачьим шагом они двинулись к озеру…
Но Васков уже не глядел на них. Не глядел, потому что кусты за их спинами продолжали колыхаться, и оттуда, из глубины, все выходили и выходили серо-зеленые фигуры с автоматами наизготовку.
— Три… пять… восемь… десять…— шепотом считала Гурвич.— Двенадцать… четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать… Шестнадцать, товарищ старшина…
Замерли кусты.
С далеким криком отлетели сороки.
Шестнадцать немцев, озираясь, медленно шли берегом к Синюхиной гряде…
6
Всю свою жизнь Федот Евграфыч выполнял приказания. Выполнял буквально, быстро и с удовольствием, ибо именно в этом пунктуальном исполнении чужой воли видел смысл своего существования. Как исполнителя его ценило начальство, а большего от него и не требовалось. Он был передаточной шестерней огромного, заботливо отлаженного механизма: вертелся и вертел других, не заботясь о том, откуда началось это вращение, куда направлено и чем заканчивается.
А немцы медленно и неуклонно шли берегом Вопь-озера, шли прямо на него и на его бойцов, что лежали сейчас за камнями, прижав, как велено, тугие щеки к холодным прикладам винтовок.
— Шестнадцать, товарищ старшина,— почти беззвучно повторила Гурвич.
— Вижу,— сказал он, не оборачиваясь.— Давай в цепь, Гурвич. Осяниной скажешь, чтоб немедля бойцов на запасную позицию отводила. Скрытно чтоб, скрытно!.. Стой, куда ты?.. Бричкину ко мне пришлешь. Ползком, товарищ переводчик. Теперь покуда что ползком жить будем.
Гурвич уползла, старательно виляя между камней. Комендант хотел что-то придумать, что-то немедленно решить, но в голове было отчаянно пусто, и только одно годами воспитанное желание назойливо тревожило: доложить. Сейчас же, сию секунду доложить по команде, что обстановка изменилась, что своими силами ему уже не заслонить ни Кировской железной дороги, ни канала имени товарища Сталина.
Отряд его начал отход: где-то брякнула винтовка, где-то сорвался камень. Звуки эти физически отдавались в нем, и, хотя немцы были еще далеко и ничего не могли слышать, Федот Евграфыч переживал самый настоящий страх. Эх, пулемет бы сейчас с полным диском и толковым вторым номером! Даже бы и не «дегтярь» — автоматов бы тройку да к ним мужиков посноровистей… Но не было у него ни пулеметов, ни мужиков, а была пятерка смешливых девчат да по пять обойм на винтовку. Оттого-то и обливался по́том старшина Васков в то росистое майское утро.
— Товарищ старшина… Товарищ старшина…
Комендант рукавом старательно вытер пот, только потом обернулся. Глянул {2} в близкие, растопыренные донельзя глаза, подмигнул:
— Веселей дыши, Бричкина. Это ж даже лучше, что шестнадцать их. Поняла?
Почему шестнадцать диверсантов лучше, чем два, старшина объяснять не стал, но Лиза согласно покивала ему и неуверенно улыбнулась.
— Дорогу назад хорошо помнишь?
— Ага, товарищ старшина.
— Гляди: левее фрицев сосняк тянется. Пройдешь его, опушкой держи вдоль озера.
— Там, где вы хворост рубили?
— Молодец, девка! Оттуда иди к протоке. Напрямик, там не собьешься.
— Да знаю я, товарищ…
— Погоди, Лизавета, не гоношись. Главное дело — болото, поняла? Бродок узкий, влево-вправо трясина. Ориентир — береза. От березы прямо на две сосны, что на острове.
— Ага.
— Там отдышись малость, сразу не лезь. С островка целься на обгорелый пень, с которого я в топь сигал. Точно на него цель: он хорошо виден.
— Ага.
— Доложишь Кирьяновой обстановку. Мы тут фрицев покружим маленько, но долго не продержимся, сама понимаешь.
— Ага.
— Винтовку, мешок, скатку — все оставь. Налегке дуй.
— Значит, мне сейчас идти?
— Слегу перед болотом не забудь.
— Ага. Побежала я.
— Дуй, Лизавета батьковна.
Лиза молча покивала, отодвинулась. Прислонила винтовку к камню, стала патронташ с ремня снимать, все время ожидаючи поглядывая на старшину. Но Васков смотрел на немцев и так и не увидел ее растревоженных глаз. Лиза осторожно вздохнула, затянула потуже ремень и, пригнувшись, побежала к сосняку, чуть приволакивая ноги, как это делают все женщины на свете.
Диверсанты были совсем уже близко — можно разглядеть лица,— а Федот Евграфыч, распластавшись, все еще лежал на камнях. Кося глазом на немцев, он смотрел на сосновый лесок, что начинался от гряды и тянулся к опушке. Дважды там качнулись вершинки {3}, но качнулись легко, словно птицей задетые, и он подумал, что правильно сделал, послав именно Лизу Бричкину.
Убедившись, что диверсанты не заметили связного, он поставил винтовку на предохранитель и спустился за камень. Здесь он подхватил оставленное Лизой оружие и прямиком побежал назад, шестым чувством угадывая, куда ставить ногу, чтобы не было слышно топота.
— Товарищ старшина!..
Бросились, как воробьи на коноплю. Даже Четвертак из-под шинели вынырнула. Непорядок, конечно: следовало прикрикнуть, скомандовать, Осяниной указать, что караула не выставила. Он уж и рот раскрыл, и брови по-командирски надвинул, а как в глаза их напряженные заглянул, так и сказал, словно в бригадном стане:
— Плохо, девчата, дело.
Хотел на камень сесть, да Гурвич вдруг задержала, быстро шинельку свою подсунула. Он кивнул ей благодарно, сел, кисет достал. Они рядком перед ним устроились, молча следили, как он цигарку сворачивает. Васков глянул на Четвертак:
— Ну, как ты?
— Ничего.— Улыбка у нее не получилась: губы не слушались.— Я спала хорошо.
— Стало быть, шестнадцать их.— Старшина старался говорить спокойно и поэтому каждое слово ощупывал.— Шестнадцать автоматов — это сила. В лоб такую не остановишь. И не остановить тоже нельзя, а будут они здесь часа через три, так надо считать.
Осянина с Комельковой переглянулись. Гурвич юбку на коленке разглаживала, а Четвертак на него во все глаза смотрела, не моргая. Комендант сейчас все замечал, все видел и слышал, хоть и просто курил, цигарку свою разглядывая.
— Бричкину я в расположение послал,— сказал он погодя.— На помощь можно к ночи рассчитывать, не раньше. А до ночи, ежели в бой ввяжемся, нам не продержаться. Ни на какой позиции не продержаться, потому как у них шестнадцать автоматов.
— Что же, смотреть, как они мимо пройдут? — тихо спросила Осянина.
— Нельзя их тут пропустить, через гряду,— сказал Федот Евграфыч.— Надо с пути сбить. Закружить надо, в обход, вокруг Легонтова озера направить. А как? Просто боем — не удержимся. Вот и выкладывайте соображения.
Больше всего старшина боялся, что поймут они его растерянность. Учуют, нутром своим таинственным учуют и — все тогда. Кончилось превосходство его, кончилась командирская воля, а с нею и доверие к нему. Поэтому он нарочно спокойно говорил, просто, негромко, поэтому и курил так, будто на завалинку к соседям присел. А сам думал, думал, ворочал тяжелыми мозгами, обсасывал все возможности.
Для начала он бойцам позавтракать велел. Они возмутились было, но он одернул и сало из мешка вытащил. Неизвестно, что на них больше подействовало — сало или команда, а только жевать начали бодро. А Федот Евграфыч пожалел, что сгоряча Лизу Бричкину натощак в такую даль отправил.
После завтрака комендант старательно побрился холодной водой. Бритва у него еще отцовская была, самокалочка — мечта, а не бритва,— но все-таки в двух местах порезался. Залепил порезы газетой, да Комелькова из мешка пузырек с одеколоном достала и сама ему эти порезы прижгла.
Все-то он делал спокойно, неторопливо, но время шло, и мысли в его голове шарахались, как мальки на мелководье. Никак он собрать их не мог и все жалел, что нельзя топор взять да порубить дровишек: глядишь, и улеглось бы тогда, ненужное бы отсеялось, и нашел бы он выход из этого положения.
Конечно, не для боя немцы сюда забрались — это он понимал ясно. Шли они глухоманью, осторожно, далеко разбросав дозоры. Для чего? А для того, чтобы противник их обнаружить не мог, чтобы в перестрелку не ввязываться, чтоб вот так же тихо, незаметно просачиваться сквозь возможные заслоны к основной своей цели. Значит, надо, чтобы они его увидели, а он их вроде не заметил?.. Тогда бы, возможное дело, отошли, в другом месте попробовали бы пробраться. А другое место — вокруг Легонтова озера: сутки ходьбы…
Однако кого он им показать может? Четырех девчонок да себя самолично? Ну, задержатся, ну, разведку вышлют, ну, поизучают их, пока не поймут, что в заслоне этом — ровно пятеро. А потом?.. Потом, товарищ старшина Васков, никуда они отходить не станут. Окружат и без выстрела, в пять ножей снимут весь твой отряд. Не дураки же они, в самом-то деле, чтоб от четырех девчат да старшины с наганом в леса шарахаться…
Все эти соображения Федот Евграфыч бойцам выложил — Осяниной, Комельковой и Гурвич; Четвертак, отоспавшись, сама в караул вызвалась. Выложил без утайки и добавил:
— Ежели за час-полтора другого не придумаем, будет, как сказал. Готовьтесь.
Готовьтесь… А что готовьтесь-то? На тот свет разве? Так для этого времени чем меньше, тем лучше…
Ну, он, однако, готовился. Взял из сидора гранату, наган вычистил, финку на камне наточил. Вот и вся подготовка: у девчат и этого занятия не было. Шушукались чего-то, спорили в сторонке. Потом к нему подошли.
— Товарищ старшина, а если бы они лесорубов встретили?
Не понял Васков: каких лесорубов? Где?.. Война ведь, леса пустые стоят, сами видели. Они объяснять взялись, и — сообразил комендант. Сообразил: часть — какая б ни была — границы расположения имеет. Точные границы: и соседи известны, и посты на всех углах. А лесорубы — в лесу они. Побригадно разбрестись могут: ищи их там, в глухоте. Станут их немцы искать? Ну, вряд ли: опасно это. Чуть где проглядишь — и все: засекут, сообщат куда надо. Потому никогда неизвестно, сколько душ лес валит, где они, какая у них связь…
— Ну, девчата, орлы вы у меня!..
Позади запасной позиции речушка протекала, мелкая, но шумливая. За речушкой прямо от воды шел лес — непролазная темь осинников, бурелома, еловых чащоб. В двух шагах здесь человеческий глаз утыкался в живую зеленую стену подлеска, и никакие цейсовские бинокли не могли пробиться сквозь нее, уследить за ее изменчивостью, определить ее глубину. Вот это-то место и имел в соображении Федот Евграфыч, принимая к исполнению девичий план.
В самом центре, чтоб немцы в них уперлись, он Четвертак и Гурвич определил. Велел костры палить подымнее, кричать да аукаться, чтоб лес звенел. А из-за кустов не слишком все же высовываться: ну, мелькать там, показываться, но не очень. И сапоги велел снять. Сапоги, пилотки, ремни — все, что форму определяет.
Судя по местности, немцы могли попробовать обойти эти костры только левее: справа каменные утесы прямо в речку глядели, здесь прохода удобного не было, но чтобы уверенность появилась, он туда Осянину поставил. С тем же приказом: мелькать, шуметь да костер палить. А тот, левый фланг на себя и Комелькову взял: другого прикрытия не было. Тем более, что оттуда весь плес речной проглядывался: в случае, если бы фрицы все ж таки надумали переправляться, он бы двух-трех отсюда свалить успел, чтобы девчата уйти смогли, разбежаться.
Времени мало оставалось, и Васков, усилив караул еще на одного человека, с Осяниной да Комельковой спешно занялся подготовкой. Пока они для костров хворост таскали, он, не таясь (пусть слышат, пусть готовы будут!), топором деревья подрубал. Выбирал повыше, пошумнее, дорубал так, чтоб от толчка свалить, и бежал к следующему. Пот застилал глаза, нестерпимо жалил комар, но старшина, задыхаясь, рубил и рубил, пока с передового секрета Гурвич не прибежала. Замахала с той стороны:
— Идут, товарищ старшина!..
— По местам,— сказал Федот Евграфыч.— По местам, девоньки, только очень вас прошу: поостерегитесь. За деревьями мелькайте, не за кустами. И орите позвончее…
Разбежались его бойцы. Только Гурвич да Четвертак еще на том берегу копошились. Четвертак все никак бинты развязать не могла, которыми чуню ее прикручивали. Старшина подошел:
— Погоди, перенесу.
— Ну, что вы, товарищ…
— Погоди, сказал. Вода — лед, а у тебя хворь еще держится.
Примерился, схватил красноармейца в охапку (пустяк: пуда три, не боле). Она рукой за шею обняла, вдруг краснеть с чего-то надумала. Залилась аж до шеи:
— Как с маленькой вы…
Хотел старшина пошутить с ней — ведь не чурбан нес все-таки,— а сказал совсем другое:
— По сырому не особо бегай там.
Вода почти до колен доставала — холодная, до рези. Впереди Гурвич брела, юбку подобрав. Мелькала худыми ногами, для равновесия размахивая сапогами. Оглянулась:
— Ну и водичка — бр-р!..
И юбку сразу опустила, подолом по воде волоча.
Комендант крикнул сердито:
— Подол подбери!
Остановилась, улыбаясь:
— Не из устава команда, Федот Евграфыч…
Ничего, еще шутят! Это Васкову понравилось, и на свой фланг, где Комелькова уже костры поджигала, он в хорошем настроении прибыл. Заорал что было сил:
— Давай, девки, нажимай веселей!..
Издалека Осянина отозвалась:
— Эге-гей!.. Иван Иваныч, гони подводу!..
Кричали, валили подрубленные деревья, аукались, жгли костры. Старшина тоже иногда покрикивал, чтоб и мужской голос слышался, но чаще, затаившись, сидел в ивняке, зорко всматриваясь в кусты на той стороне.
Долго ничего там уловить было невозможно. Уже и бойцы его кричать устали, уже все деревья, что подрублены были, Осянина с Комельковой свалили, уже и солнце над лесом встало и речку высветило, а кусты с той стороны стояли недвижимо и молчаливо.
— Может, ушли?..— шепнула над ухом Комелькова.
Леший их ведает, может, и ушли. Васков не стереотруба, мог и не заметить, как к берегу они подползали. Они ведь тоже птицы стреляные: в такое дело не пошлют кого ни попадя…
Это он подумал так. А сказал коротко:
— Годи.
И снова в кусты эти, до последнего прутика изученные, глазами впился. Так глядел, что слеза прошибла. Моргнул, протер ладонью и — вздрогнул: почти напротив, через речку, ольшаник затрепетал, раздался, и в прогалине ясно обозначилось заросшее ржавой щетиной молодое лицо.
Федот Евграфыч руку назад протянул, нащупал круглое колено, сжал. Комелькова уха его губами коснулась:
— Вижу…
Еще один мелькнул, пониже. Двое выходили к берегу, без ранцев, налегке. Выставив автоматы, обшаривали глазами голосистый противоположный берег.
Екнуло сердце Васкова: разведка! Значит, решились все-таки прощупать чащу, посчитать лесорубов, найти меж ними щелочку. К черту все летело, весь замысел, все крики, дымы и подрубленные деревья: немцы не испугались. Сейчас переправятся, юркнут в кусты, змеями выползут на девичьи голоса, на костры, на шум. Пересчитают по пальцам, разберутся и… и поймут, что обнаружены.
Федот Евграфыч плавно, ветку боясь шевельнуть, достал наган. Уж этих-то двух он верняком прищучит, еще в воде, на подходе. Конечно, шарахнут [по нему тогда, из всех оставшихся автоматов шарахнут], но девчата, возможное дело, уйти успеют, затаиться. Только бы Комелькову отослать…
Он оглянулся: стоя сзади его {4} на коленях, Евгения зло рвала через голову гимнастерку. Швырнула на землю, вскочила, не таясь.
— Стой!..— шепнул старшина.
— Рая, Вера, идите купаться!..— звонко крикнула Женька и напрямик, ломая кусты, пошла к воде.
Федот Евграфыч зачем-то схватил ее гимнастерку, зачем-то прижал к груди. А пышная Комелькова уже вышла на каменистый, залитый солнцем плес.
Дрогнули ветки напротив, скрывая серо-зеленые фигуры. Евгения неторопливо, подрагивая коленками, стянула юбку, рубашку и, поглаживая руками черные трусики, вдруг высоким, звенящим голосом завела-закричала:
Расцветали яблони и груши, Поплыли туманы над рекой…Ах, хороша она была сейчас, чудо как хороша! Высокая, белотелая, гибкая — в десяти метрах от автоматов. Оборвала песню, шагнула в воду и, вскрикивая, шумно и весело начала плескаться. Брызги сверкали на солнце, скатываясь по упругому, теплому телу, а комендант, не дыша, с ужасом ждал очереди. Вот сейчас, сейчас ударит — и переломится Женька, всплеснет руками и…
Молчали кусты.
— Девчата, айда купаться!..— звонко и радостно кричала Комелькова, танцуя в воде.— Ивана зовите!.. Эй, Ванюша, где ты?..
Федот Евграфыч отбросил ее гимнастерку, сунул в кобуру наган, на четвереньках метнулся вглубь, в чащобу. Схватил топор, отбежал, яростно рубанул сосну.
— Эге-гей, иду!..— заорал он и снова ударил по стволу.— Идем сейчас, погоди!.. Ого-го-го!..
Сроду он так быстро деревьев не сваливал — и откуда сила взялась. Нажал плечом, положил на сухой ельник, чтоб шуму больше было. Задыхаясь, метнулся назад, на то место, откуда наблюдал, выглянул.
Женька уже на берегу стояла — боком к нему и немцам. Спокойно натягивала на себя легкую рубашку, и шелк лип, впечатывался в тело и намокал, становясь почти прозрачным под косыми лучами бьющего из-под леса солнца. Она, конечно, знала об этом, знала и потому неторопливо, плавно изгибалась, разбрасывая по плечам волосы. И опять Васкова до черного ужаса обожгло ожидание очереди, что брызнет сейчас из-за кустов, ударит, изуродует, сломает это буйно-молодое тело.
Сверкнув запретно белым, Женька стащила из-под рубашки мокрые трусики, отжала их и аккуратно разложила на камнях. Села рядом, вытянув ноги, подставив солнцу до земли распущенные волосы.
А тот берег молчал. Молчал, и кусты нигде не шевелились, и Васков, как ни всматривался, не мог понять, там ли еще немцы или уже отошли. Гадать было некогда, и комендант, наскоро скинув гимнастерку, сунул в карман галифе наган и, громко ломая валежник, пошел на берег.
— Ты где тут?..
Хотел весело крикнуть — не вышло, горло сдавило. Вылез из кустов на открытое место — сердце чуть ребра не выламывало от страха. Подошел к Комельковой:
— Из района звонили: сейчас машина придет. Так что одевайся. Хватит загорать.
Проорал для той стороны, а что Комелькова ответила — не расслышал. Он весь туда был сейчас нацелен, на немцев, в кусты. Так был нацелен, что казалось ему — шевельнись листок, и он услышит, уловит, успеет вот за этот валун упасть и наган выдернуть. Но пока вроде ничего там не шевелилось.
Женька потянула его за руку, он сел рядом и вдруг увидел, что она улыбается, а глаза, настежь распахнутые, ужасом полны, как слезами. И ужас этот живой и тяжелый, как ртуть.
— Уходи отсюда, Комелькова,— изо всех сил улыбаясь, сказал Васков.
Она что-то еще говорила, даже смеялась, но Федот Евграфыч ничего не мог слышать. Увести ее, увести за кусты надо было немедля, потому что не мог он больше каждое мгновение считать, когда ее убьют. Но чтоб легко все было, чтоб фрицы проклятые не доперли, что игра все это, что морочат им головы их немецкие, надо было что-то придумать.
— Добром не хочешь — народу тебя покажу! — заорал вдруг старшина и сгреб с камней ее одежонку.— А ну догоняй!..
Женька завизжала, как положено, вскочила, за ним бросилась. Васков сперва по бережку побегал, от нее уворачиваясь, а потом за кусты скользнул и остановился, только когда в лес углубился.
— Одевайся! И хватит с огнем играться! Хватит!..
Сунул, отвернувшись, юбку, а она не взяла, и рука висела в воздухе. Ругнуться хотел, оглянулся — а боец Комелькова, закрывши лицо, скорчившись, сидела на земле, и круглые плечи ее ходуном ходили под узкими ленточками рубашки…
Это потом они хохотали. Потом, когда узнали, что немцы ушли. Хохотали над охрипшей Осяниной, над Гурвич, что юбку прожгла, над чумазой Четвертак, над Женькой, как она фрицев обманывала, над ним, старшиной Васковым. До слез, до изнеможения хохотали, и он смеялся, забыв вдруг, что старшина по званию, а помня только, что провели немцев за нос, лихо провели, озорно, и что теперь немцам этим в страхе и тревоге вокруг Легонтова озера сутки топать.
— Ну, все теперь!..— говорил Федот Евграфыч в перерывах между их весельями.— Теперь все, девчата, теперь им деваться некуда, ежели, конечно, Бричкина вовремя прибежит.
— Прибежит,— сипло сказала Осянина, и все опять принялись хохотать, потому что уж больно смешно сел у нее голос.— Она быстрая.
— Вот и давайте выпьем по маленькой за это дело,— сказал комендант и достал заветную фляжку.— Выпьем, девчата, за ее быстрые ножки да за ваши светлые головы!..
Тут все захлопотали, полотенце на камнях расстелили, стали резать хлеб, сало, рыбу разделывать. И пока они занимались этими бабскими делами, старшина, как положено, сидел в отдалении, курил, ждал, когда к столу покличут, и устало думал, что самое страшное позади…
7
Лиза Бричкина все {5} девятнадцать лет прожила в ощущении завтрашнего дня. Каждое утро ее обжигало нетерпеливое предчувствие ослепительного счастья, и тотчас же выматывающий кашель матери отодвигал это свидание с праздником на завтрашний день. Не убивал, не перечеркивал — отодвигал.
— Помрет у нас мать-то,— строго предупреждал отец.
Пять лет изо дня в день он приветствовал ее этими словами. Лиза шла во двор задавать корм поросенку, овцам, старому казенному мерину. Умывала, переодевала и кормила с ложечки мать. Готовила обед, прибирала в доме, обходила отцовские квадраты и бегала в ближнее сельпо за хлебом. Подружки ее давно кончили школу: кто уехал учиться, кто уже вышел замуж, а Лиза кормила, мыла, скребла и опять кормила. И ждала завтрашнего дня.
Завтрашний этот день никогда не связывался в ее сознании со смертью матери. Она уже с трудом помнила ее здоровой, но в саму Лизу было вложено столько человеческих жизней, что представлению о смерти просто не хватало места.
В отличие от смерти, о которой с такой нудной строгостью напоминал отец, жизнь была понятием реальным и ощутимым. Она скрывалась где-то в сияющем завтра, она пока обходила стороной этот затерянный в лесах кордон, но Лиза знала твердо, что жизнь эта существует, что она предназначена для нее и что миновать ее невозможно, как невозможно не дождаться завтрашнего дня. А ждать Лиза умела.
С четырнадцати лет она начала учиться этому великому женскому искусству. Вырванная из школы болезнью матери, ждала сначала возвращения в класс, потом — свидания с подружками, потом — редких свободных вечеров на пятачке возле клуба, потом…
Потом случилось так, что ей вдруг нечего оказалось ждать. Подружки ее либо еще учились, либо уже работали и жили вдали от нее, в своих интересах, которые со временем она перестала ощущать. Парни, с которыми когда-то так легко и просто можно было потолкаться и посмеяться в клубе перед сеансом, теперь стали чужими и насмешливыми. Лиза начала дичиться, отмалчиваться, обходить сторонкой веселые компании, а потом и вовсе перестала ходить в клуб.
Так уходило ее детство, а вместе с ним и старые друзья. А новых не было, потому что никто, кроме дремучих лесников, не заворачивал на керосиновые отсветы их окошек. И Лизе было горько и страшно, ибо она не знала, что приходит на смену детству. В смятении и тоске прошла глухая зима, а весной отец привез на подводе охотника.
— Пожить у нас хочет,— сказал он дочери.— А только где же у нас? У нас мать помирает.
— Сеновал найдется, наверно?
— Холодно еще,— несмело сказала Лиза.
— Тулуп дадите?..
Отец с гостем долго пили на кухне водку. За дощатой стеной надсадно бухала мать. Лиза бегала в погреб за капустой, жарила яичницу и слушала.
Говорил больше отец. Стаканами вливал в себя водку, пальцами хватал с миски капусту, пихал в волосатый рот и, давясь, говорил и говорил:
— Ты погоди, погоди, мил человек. Жизнь, как лес, прореживать надо, чистить, так выходит? Погоди. Сухостой там, больные стволы, подлесок. Так?
— Чистить надо,— подтвердил гость.— Не прореживать, а чистить. Дурную траву с поля вон.
— Так,— сказал отец.— Так, погоди. Ежели лес, то мы, лесники, понимаем. Тут мы понимаем, ежели это лес. А ежели это жизнь? Ежели теплое, бегает да пишшит?
— Волк, например…
— Волк?..— взъерошился отец.— Волк тебе мешает? А почему мешает? Почему?
— А потому, что у него зубы,— улыбнулся охотник.
— А он что, виноват, что волком родился? Виноват?.. Не-ет, мил человек, это мы его обвиноватили. Сами обвиноватили, а его не спросили. По совести это?
— Ну, знаешь, Петрович, волк и совесть — понятия несовместимые.
— Несовместимые?.. Ну, а волк и заяц — совместимые? Погоди ржать, погоди, мил человек!.. Ладно, приказано считать волков врагами населения. Ладно. Взялись мы за это всенародно и всенародно же перестреляли всех волков во всей России. Всех!.. Что будет?
— Как что будет? — улыбался охотник.— Дичи много будет…
— Мало!..— рявкнул отец и со всего маху хватил волосатым кулаком по гулкой столешнице.— Мало, понятно тебе? Бегать им надо, зверью-то, чтоб в здоровье существовать. Бегать, мил человек, понятно? А чтоб бегать, страх нужен, страх, что тебя сожрать могут. Вот. Конечно, можно жизнь в один цвет пустить. Можно, только зачем? Для спокойствия? Так ведь зайцы зажиреют, обленятся, работать перестанут без волков-то. Что тогда? Своих волков выращивать начнем или из-за границы покупать для страху?
— А тебя, часом, не раскулачили, Иван Петрович? — вдруг тихо спросил гость.
— Чего меня кулачить? — вздохнул лесник.— Прибытку у меня два кулака да жена с дочкой. Невыгодно им меня кулачить.
— Им?..
— Ну, нам!..— Отец плеснул в стаканы, чокнулся.—Я не волк, мил человек, а заяц.— Хватанул остаток из стакана, громыхнул столом, поднимаясь, косматый, как медведь. В дверях остановился.
— Спать пойду. А тебя дочка проводит. Укажет там.
Лиза тихо сидела в углу. Охотник был городским, белозубым, еще молодым, и это смущало. Неотрывно рассматривая его, она вовремя отводила глаза, страшась столкнуться с ним взглядом, боясь, что он заговорит, а она не сможет ответить или ответит глупо.
— Неосторожный у вас отец.
— Он красный партизан,— торопливо сказала она.
— Это мы знаем,— улыбнулся гость и встал.— Ну, ведите меня спать, Лиза.
На сеновале было темно, как в погребе. Лиза остановилась у входа, подумала, забрала у гостя тяжелый казенный тулуп и комковатую подушку.
— Постойте здесь.
По шаткой лестнице поднялась наверх, ощупью разворошила сено, бросила в изголовье подушку. Можно было спускаться звать гостя, но она, настороженно прислушиваясь, все еще ползала в темноте по мягкому прошлогоднему сену, взбивая его и раскладывая поудобнее. В жизни она бы никогда не призналась себе, что ждет скрипа ступенек под его ногами, хочет суетливой и бестолковой встречи в темноте, его дыхания, шепота, даже грубости. Нет, никаких грешных мыслей не приходило ей в голову: просто хотелось, чтобы вдруг в полную мощь забилось сердце, чтобы пообещалось что-то туманное, жаркое, помаячило бы и — исчезло.
Но никто не скрипел лестницей, и Лиза спустилась. Гость курил у входа, и она сердито сказала, чтобы он не вздумал курить на сеновале.
— Я знаю,— сказал он и затоптал окурок.— Спокойной ночи.
И ушел спать. А Лиза побежала в дом убирать посуду. И пока убирала ее, тщательно, куда медленнее обычного вытирая каждую тарелку, опять со страхом и надеждой ожидала стука в окошко. И опять никто не постучал. Лиза задула лампу и пошла к себе, слушая привычный кашель матери и тяжелый храп выпившего отца.
Каждое утро гость исчезал из дома и появлялся только поздним вечером, голодный и усталый. Лиза кормила его, он ел торопливо, но без жадности, и это нравилось ей. Поев, он сразу же шел на сеновал, а Лиза оставалась, потому что стелить постель больше не требовалось.
— Что это вы ничего с охоты не приносите? — сказала она, набравшись храбрости.
— Не везет,— улыбнулся он.
— Исхудали только,— не глядя, продолжала она.— Разве ж это отдых?
— Это прекрасный отдых, Лиза,— вздохнул гость.— К сожалению, и он кончился: завтра уезжаю.
— Завтра?..— упавшим голосом переспросила Лиза.
— Да, утром. Так ничего и не подстрелил. Смешно, правда?
— Смешно,— печально сказала она.
Больше они не говорили, но как только он ушел, Лиза кое-как прибрала на кухне и юркнула во двор. Долго бродила вокруг сарая, слушала, как вздыхает и покашливает {6} гость, грызла пальцы, а потом тихо отворила дверь и быстро, боясь передумать, полезла на сеновал.
— Кто?..— тихо спросил он.
— Я,— сказала Лиза.— Может, постель поправить…
— Не надо,— перебил он.— Иди спать.
Лиза молчала, сидя где-то совсем рядом с ним в душной темноте сеновала. Он слышал ее изо всех сил сдерживаемое дыхание.
— Что, скучно?
— Скучно,— еле слышно сказала она.
— Глупости не стоит делать даже со скуки.
Лизе казалось, что он улыбается. Злилась, ненавидела его и себя и сидела. Она не знала, зачем сидит, как не знала и того, зачем шла сюда. Она почти никогда не плакала, потому что была одинока и привыкла к этому, и теперь ей больше всего на свете хотелось, чтобы ее пожалели. Чтобы говорили ласковые слова, гладили по голове, утешали и — в этом она себе не признавалась,— может быть, даже поцеловали. Но не могла же она сказать, что последний раз ее целовала мама пять лет назад и что этот поцелуй нужен ей сейчас как залог того прекрасного завтрашнего дня, ради которого она жила на земле.
— Иди спать,— сказал он.— Я устал, мне рано ехать.
И зевнул. Длинно, равнодушно, с завыванием. Лиза, кусая губы, метнулась вниз, больно ударилась коленкой и вылетела во двор, с силой хлопнув дверью.
Утром она слышала, как отец запрягал казенного Дымка, как гость прощался с матерью, как скрипели ворота. Лежала, прикидываясь спящей, а из-под закрытых век ползли слезы.
В обед вернулся подвыпивший отец. Со стуком высыпал на стол колючие куски синеватого колотого сахара, сказал с удивлением:
— А он птица, гость-то наш! Сахару велел нам отпустить, во как. А мы его в сельпе-то своем уж год не видали. Целых три кило сахару!..
Потом он замолчал, долго хлопал себя по карманам и из кисета достал измятый клочок бумаги.
— Держи.
«Тебе надо учиться, Лиза. В лесу совсем одичаешь. В августе приезжай: устрою в техникум с общежитием».
Подпись и адрес. И больше ничего — даже привета.
Через месяц умерла мать. Всегда угрюмый, отец теперь совсем озверел, пил втемную, а Лиза по-прежнему ждала завтрашнего дня, покрепче запирая на ночь двери от отцовских дружков. Но отныне этот завтрашний день прочно был связан с августом, и, слушая пьяные крики за стеной, Лиза в тысячный раз перечитывала затертую до дыр записку.
Но началась война, и вместо города Лиза попала на оборонные работы. Все лето рыла окопы и противотанковые укрепления, которые немцы аккуратно обходили, попадала в окружения, выбиралась из них и снова рыла, с каждым разом все дальше и дальше откатываясь на восток. Поздней осенью она оказалась где-то за Валдаем, прилепилась к зенитной части и поэтому бежала сейчас на 171-й разъезд…
Васков понравился Лизе сразу: когда стоял перед их строем, растерянно моргая еще сонными глазами. Понравились его твердое немногословие, крестьянская неторопливость и та особая, мужская основательность, которая воспринимается всеми женщинами как гарантия незыблемости семейного очага. А случилось так, что вышучивать коменданта стали все: это считалось хорошим тоном. Лиза не участвовала в подобных разговорах, но когда всезнающая Кирьянова со смехом объявила, что старшина не устоял перед роскошными прелестями квартирной хозяйки, Лиза вдруг вспыхнула:
— Неправда это!..
— Влюбилась! — торжествующе ахнула Кирьянова.— Втюрилась наша Бричкина, девочки! В душку-военного втюрилась!
— Бедная Лиза! — громко вздохнула Гурвич.
Тут все загалдели, захохотали, а Лиза разревелась и убежала в лес.
Плакала на пеньке, пока ее не отыскала Рита Осянина.
— Ну, чего ты, дурешка? Проще жить надо. Проще, понимаешь?
Но Лиза жила, задыхаясь от застенчивости, а старшина — от службы, и никогда бы им и глазами-то не столкнуться, если бы не этот случай. И поэтому Лиза летела через лес, как на крыльях.
«После споем с тобой, Лизавета,— сказал старшина.— Вот выполним боевой приказ и споем…»
Лиза думала о его словах и улыбалась, стесняясь того могучего темного чувства, что нет-нет да и шевелилось в ней, вспыхивая на упругих щеках. И, думая о нем, она проскочила мимо приметной сосны, а когда у болота вспомнила о слегах, возвращаться уже не хотелось. Здесь достаточно было бурелома, и Лиза быстро выбрала подходящую жердь.
Перед тем как лезть в дряблую жижу, она затаенно прислушалась, а потом деловито сняла с себя юбку. Привязав ее к вершине жерди, заботливо подоткнула гимнастерку под ремень и, подтянув голубые казенные рейтузы, шагнула в болото.
На этот раз никто не шел впереди, расталкивая грязь. Жидкое месиво цеплялось за бедра, волоклось за ней, и Лиза с трудом, задыхаясь и раскачиваясь, продвигалась вперед. Шаг за шагом, цепенея от ледяной воды и не спуская глаз с двух сосенок на островке.
Но не грязь, не холод, не живая, дышащая под ногами почва были ей страшны. Страшным было одиночество, мертвая загробная тишина, повисшая над бурым болотом. Лиза ощущала почти животный ужас, и ужас этот не только не пропадал, а с каждым шагом все больше и больше скапливался в ней, и она дрожала беспомощно и жалко, боясь оглянуться, сделать лишнее движение или хотя бы громко вздохнуть.
Она плохо помнила, как выбралась на островок. Вползла на коленях, ткнулась ничком в прелую траву и заплакала. Всхлипывала, размазывая слезы по толстым щекам, вздрагивая от холода, одиночества и омерзительного страха.
Вскочила — слезы уже не текли. Шмыгая носом, прошла островок, прицелилась, как идти дальше, и, не отдохнув, не собравшись с силами, полезла в топь.
Поначалу было неглубоко, и Лиза успела успокоиться и даже повеселела. Последний кусок оставался, и, каким бы трудным он ни был, дальше шла суша, твердая, родная земля с травой и деревьями. И Лиза уже думала, где бы ей помыться, вспомнила {7} все лужи да бочажки и прикидывала, стоит ли полоскать одежду или уж дотерпеть до разъезда. Там ведь совсем пустяк оставался, дорогу она хорошо запомнила со всеми поворотами и смело рассчитывала за час-полтора добежать до своих.
Идти труднее стало, топь до колен добралась, но теперь с каждым шагом приближался тот берег, и Лиза уже отчетливо, до трещинок, видела пень, с которого старшина тогда в болото сиганул. Смешно сиганул, неуклюже: чуть на ногах устоял.
И Лиза опять стала думать о Васкове и даже заулыбалась. Споют они, обязательно даже споют, когда выполнит комендант боевой приказ и вернется опять на разъезд. Только схитрить придется, схитрить и выманить его вечером в лес. А там… Там посмотрим, кто сильнее: она или квартирная хозяйка, у которой всего-то достоинств, что под одной крышей со старшиной…
Огромный бурый пузырь гулко вспучился перед ней. Это было так неожиданно, так быстро и так близко от нее, что Лиза, не успев вскрикнуть, инстинктивно рванулась в сторону. Всего на шаг в сторону, а ноги сразу потеряли опору, повисли где-то в зыбкой пустоте, и топь мягкими тисками сдавила бедра. Давно копившийся ужас вдруг разом выплеснулся наружу, острой болью отдавшись в сердце. Пытаясь во что бы то ни стало удержаться, выкарабкаться на тропу, Лиза всей тяжестью навалилась на шест. Сухая жердина звонко хрустнула, и Лиза лицом вниз упала в холодную жидкую грязь.
Земли не было. Ноги медленно, страшно медленно тащило вниз, руки без толку гребли топь, и Лиза, задыхаясь, извивалась в жидком месиве. А тропа была где-то совсем рядом: шаг, полшага от нее, но эти полшага уже невозможно было сделать.
— Помогите!.. На помощь!.. Помогите!..
Жуткий одинокий крик долго звенел над равнодушным ржавым болотом. Взлетал к вершинам сосен, путался в молодой {8} листве ольшаника, падал до хрипа и снова из последних сил взлетал к безоблачному майскому небу.
Лиза долго видела это синее прекрасное небо. Хрипя, выплевывала грязь и тянулась, тянулась к нему, тянулась и верила.
Над деревьями медленно всплыло солнце, лучи упали на болото, и Лиза в последний раз увидела его свет — теплый, нестерпимо яркий, как обещание завтрашнего дня. И до последнего мгновения верила, что [это] завтра будет и для нее…
8
Пока хохотали да закусывали (понятное дело, сухим пайком), противник далеко оторвался. Драпанул, проще говоря, от шумного берега, от звонких баб да невидимых мужиков, укрылся в лесах, затаился, и — как не было.
Это Васкову не нравилось. Опыт он имел — не только боевой, а еще и охотничий — и понимал, что врага да медведя с глазу спускать не годится. Леший его ведает, что он там еще напридумал, куда рванется, где оставит секреты. Тут же выходило прямо как на плохой охоте, когда не поймешь, кто за кем охотится: медведь за тобой или ты за медведем. И чтобы такого не случилось, старшина девчат на берегу оставил, а сам с Осяниной произвел поиск.
— Держи за мной, Маргарита. Я стал — ты стала, я лег — ты легла. С немцем в хованки играть — почти как со смертью, так что в ухи вся влезь. В ухи да в глаза.
Сам он впереди держался. От куста к кусту, от скалы к скале. До боли вперед всматривался, ухом к земле приникал, воздух нюхал — весь был взведенный, как граната. Высмотрев все, до звона наслушавшись, чуть рукой шевелил — и Осянина тут же к нему подбиралась. Молча вдвоем слушали, не хрустнет ли где валежник, не заблажит ли дура-сорока, и опять старшина, пригнувшись, тенью скользил вперед, в следующее укрытие, а Рита оставалась на месте, слушая за двоих.
Так прошли они гряду, выбрались на основную позицию, а потом — в соснячок, по которому Бричкина утром, немцев обойдя, к лесу вышла. Все было пока тихо и мирно, словно не существовало в природе никаких диверсантов, но Федот Евграфыч не позволял думать об этом ни себе, ни младшему сержанту.
За соснячком лежал мшистый, весь в валунах пологий берег Легонтова озера. Бор начинался, отступя от него, на взгорбке, и к нему вел корявый березняк да редкие хороводы приземистых елок.
Здесь старшина задержался: биноклем кустарник обшарил, слушал, а потом, привстав, долго нюхал слабый ветерок, что сползал по откосу к озерной глади. Рита, не шевелясь, покорно лежала рядом, с досадой чувствуя, как медленно намокает во мху одежда.
— Чуешь? — тихо спросил Васков и посмеялся словно про себя.— Подвела немца культура: кофею захотел.
— Почему так думаете?
— Дымком тянет, значит, завтракать уселись. Только все ли шестнадцать?..
Подумав, он аккуратно прислонил к сосенке винтовку, подтянул ремень туже некуда, присел.
— Подсчитать их придется, Маргарита, не отбился ли кто. Слушай вот что. Ежели стрельба поднимется — немедля, в ту же секунду уходи. Забирай девчат и уходи, и топайте прямиком на восток, аж до канала. Там насчет немца доложишь, хотя, мыслю я, знать они об этом уже будут, потому как Лизавета Бричкина вот-вот должна до разъезда добежать. Все поняла?
— Нет,— сказала Рита.— А вы?
— Ты это, Осянина, брось,— строго сказал старшина.— Мы тут не по грибы-ягоды ходим. Уж если обнаружат меня, стало быть, живым не выпустят, в том не сомневайся. И потому сразу же уходи. Ясен приказ?
Рита промолчала.
— Что отвечать должна, Осянина?
— Ясен — должна отвечать.
Старшина усмехнулся и, пригнувшись, побежал к ближайшему валуну.
Рита все время смотрела ему вслед, но так и не заметила, когда он исчез: словно растворился вдруг среди серых замшелых валунов. Юбка и рукава гимнастерки промокли насквозь; она отползла назад и села на камень, вслушиваясь в мирный шум леса.
Ждала она почти спокойно, твердо веря, что ничего не может случиться. Все ее воспитание было направлено к тому, чтобы ждать только счастливых концов: сомнение в удаче для ее поколения равнялось почти предательству. Ей случалось, конечно, ощущать и страх и неуверенность, но внутреннее убеждение в благополучном исходе было всегда сильнее реальных обстоятельств.
Но как Рита ни прислушивалась, как ни ожидала, Федот Евграфыч появился неожиданно и беззвучно: чуть дрогнули сосновые лапы. Молча взял винтовку, кивнул ей, нырнул в чащу. Остановился уже в скалах.
— Плохой ты боец, товарищ Осянина. Никудышный боец.
Говорил он не зло, а озабоченно, и Рита улыбнулась:
— Почему?
— Растопырилась на пеньке, что семейная тетерка. А приказано было лежать.
— Мокро там очень, Федот Евграфыч.
— Мокро…— недовольно повторил старшина.— Твое счастье, что кофей они пьют, а то бы враз концы навели.
— Значит, угадали?..
— Я не ворожея, Осянина. Десяток человек пищу принимают — видал их. Двое — в секрете: тоже видал. Остальные, полагать надо, службу с других концов несут. Устроились вроде надолго: носки у костра сушат. Так что самое время нам расположение менять. Я тут по камням полазаю, огляжусь, а ты, Маргарита, дуй за бойцами. И скрытно — сюда. И чтоб смеху — ни-ни!
— Я понимаю.
— Да там я махорку свою сушить выложил: захвати, будь другом. И вещички, само собой.
— Захвачу, Федот Евграфыч.
Пока Осянина за бойцами бегала, Васков все соседние и дальние каменья на животе излазал. Высмотрел, выслушал, вынюхал все, но ни немцев, ни немецкого духу нигде не чуялось, и старшина маленько повеселел. Ведь уж по всем расчетам выходило, что Лиза Бричкина вот-вот до разъезда доберется, доложит, и заплетется вокруг диверсантов невидимая сеть облавы. К вечеру — ну, самое позднее к рассвету! — подойдет подмога, он поставит ее на след и… и отведет своих девчат за скалы. Подальше, чтоб мата не слыхали, потому как без рукопашной тут не обойдется.
И опять он своих бойцов издали определил. Вроде и не шумели, не брякали, не шептались, а — поди ж ты! — комендант за добрую версту точно знал, что идут. То ли пыхтели они здорово от усердия, то ли одеколоном вперед их несло, а только Федот Евграфыч втихаря порадовался, что нет у диверсантов настоящего охотника-промысловика.
Курить до тоски хотелось, потому как третий, поди, час лазал он по скалам да по рощицам, от соблазну кисет на валуне оставив, у девчат. Встретил их, предупредил, чтоб помалкивали, и про кисет спросил. А Осянина только руками всплеснула:
— Забыла, Федот Евграфыч, миленький, забыла!..
Крякнул старшина: ах ты, женский пол беспамятный, леший тебя растряси! Был бы мужской — чего уж проще, загнул бы Васков в семь накатов с переборами и отправил бы растяпу назад за кисетом. А тут улыбку пришлось пристраивать:
— Ну, ничего, ладно уж. Махорка имеется… Сидор-то мой не забыли, случаем?
Сидор был на месте, и не махорки коменданту было жалко, а кисета, потому что кисет этот был подарок, и на нем вышито было: «ДОРОГОМУ ЗАЩИТНИКУ РОДИНЫ!» И не успел он расстройства своего скрыть, как Гурвич назад бросилась.
— Я принесу! Я знаю, где он лежит!..
— Куда, боец Гурвич?.. Товарищ переводчик!..
Какое там: только сапоги затопали…
А топали сапоги потому, что Соня Гурвич доселе никогда их не носила и по неопытности получила в каптерке на два номера больше. Когда сапоги по ноге, они не топают, а стучат: это любой кадровик знает. Но Сонина семья была штатской, сапог там вообще не водилось, и даже Сонин папа не знал, за какие уши {9} их надо тянуть.
На дверях их маленького домика за Немигой висела медная дощечка: «ДОКТОР МЕДИЦИНЫ СОЛОМОН АРОНОВИЧ ГУРВИЧ». И хотя папа был простым участковым врачом, а совсем не доктором медицины, дощечку не снимали, так как ее подарил дедушка и сам привинтил к дверям. Привинтил, потому что его сын стал образованным человеком, и об этом теперь должен был знать весь город Минск.
А еще висела возле дверей ручка от звонка, и ее надо было все время дергать, чтобы звонок звонил. И сквозь все Сонино детство прошел этот тревожный дребезг: днем и ночью, зимой и летом. Папа брал чемоданчик и в любую погоду шел пешком, потому что извозчик стоил дорого. А вернувшись, тихо рассказывал о туберкулезах, ангинах и малярии, и бабушка поила его вишневой наливкой.
У них была очень дружная и очень большая семья: дети, племянники, бабушка, незамужняя мамина сестра, еще какая-то дальняя родственница, и в доме не было кровати, на которой спал бы один человек, а кровать, на которой спали трое, была.
Еще в университете Соня донашивала платья, перешитые из платьев сестер: серые и глухие, как кольчуги. И долго не замечала их тяжести, потому что вместо танцев бегала в читалку и во МХАТ, если удавалось достать билет на галерку. А заметила, сообразив, что очкастый сосед по лекциям совсем не случайно пропадает вместе с ней в читальном зале. Это было уже спустя год, летом. А через пять дней после их единственного и незабываемого вечера в Парке культуры и отдыха имени Горького сосед подарил ей тоненькую книжечку Блока и ушел добровольцем на фронт.
Да, Соня и в университете носила платья, перешитые из платьев сестер. Длинные и тяжелые, как кольчуги…
Недолго, правда, носила: всего год. А потом надела форму. И сапоги — на два номера больше.
В части ее почти не знали: она была незаметной и исполнительной и попала в зенитчицы случайно. Фронт сидел в глухой обороне, переводчиков хватало, а зенитчиц — нет. Вот ее и откомандировали вместе с Женькой Комельковой после того боя с «мессерами». И, наверно, поэтому голос ее услыхал один старшина.
— Вроде Гурвич крикнула?..
Прислушались: тишина висела над грядой, только чуть посвистывал ветер.
— Нет,— сказала Рита.— Показалось.
Далекий, слабый, как вздох, голос больше не слышался, но Васков, напрягшись, все ловил и ловил его, медленно каменея лицом. Странный выкрик этот словно застрял в нем, словно еще звучал, и Федот Евграфыч, холодея, уже догадывался, уже знал, что он означает. Глянул стеклянно, сказал чужим голосом:
— Комелькова, за мной. Остальным здесь ждать.
Васков тенью скользил впереди, и Женька, задыхаясь, еле поспевала за ним. Правда, Федот Евграфыч налегке шел, а она — с винтовкой да еще в юбке, которая на бегу [всегда] оказывается у́же, чем следует. Но главное, Женька столько сил отдавала тишине, что на остальное почти ничего не оставалось.
А старшина весь заостренным был, на тот крик заостренным. Единственный, почти беззвучный крик, который уловил он вдруг, узнал и понял. Слыхал он такие крики, с которыми все отлетает, все растворяется и потому звенит. Внутри звенит, в тебе самом, и звона этого последнего ты уже никогда не забудешь. Словно замораживается он и холодит, сосет, тянет за сердце, и потому так спешил сейчас комендант.
И потому остановился, словно на стену налетел, вдруг остановился, и Женька с разбегу стволом его под лопатку клюнула. А он и не оглянулся даже, а только присел и руку на землю положил — рядом со следом.
Разлапистый след был, с рубчиками.
— Немцы?..— жарко и беззвучно дохнула Женька.
Старшина не ответил. Глядел, слушал, принюхивался, а кулак стиснул так, что косточки побелели. Женька вперед глянула: на осыпи темнели брызги. Васков осторожно поднял камешек: черная густая капля свернулась на нем, как живая. Женька дернула головой, хотела закричать и — задохнулась.
— Неаккуратно,— тихо сказал старшина и повторил: — Неаккуратно…
Бережно положил камешек тот, оглянулся, прикидывая, кто куда шел да кто где стоял. И шагнул за скалу.
В расселине, скорчившись, лежала Гурвич, из-под прожженной юбки косо торчали грубые кирзовые сапоги. Васков потянул ее за ремень, приподнял чуть, чтобы под мышки подхватить, оттащил и положил на спину.
Соня тускло смотрела в небо полузакрытыми глазами, и гимнастерка на груди была густо залита кровью. Федот Евграфыч осторожно расстегнул ее, приник ухом. Слушал, долго слушал, а Женька беззвучно тряслась сзади, кусая кулаки. Потом он выпрямился и бережно расправил на девичьей груди липкую от крови рубашку: две узкие дырочки виднелись на ней. Одна в грудь шла, в левую грудь. Вторая — пониже — в сердце.
— Вот ты почему крикнула,— вздохнул старшина.— Ты потому крикнуть успела, что удар у него был на мужика поставлен. Не дошел он до сердца с первого раза, грудь помешала…
Запахнул ворот, пуговки застегнул — все, до единой. Руки ей сложил, хотел глаза закрыть — не удалось, только веки зря кровью измарал {10}, поднялся.
— Полежи тут покуда, Сонечка.
Судорожно всхлипнула сзади Женька. Старшина свинцово полоснул из-под бровей:
— Некогда трястись, Комелькова.
И, пригнувшись, быстро пошел вперед, чутьем угадывая слабый рубчатый отпечаток…
9
Ждали немцы Соню или она случайно на них напоролась? Бежала без опаски по дважды пройденному пути, торопясь притащить ему, старшине Васкову, махорку ту, трижды клятую. Бежала, радовалась и понять не успела, откуда свалилась на хрупкие плечи потная тяжесть, почему пронзительной, яркой болью рванулось вдруг сердце… Нет, успела. И понять успела и крикнуть, потому что не достал нож до сердца с первого удара: грудь помешала. Высокая грудь была, тугая.
А может, не так все было? Может, ждали они ее? Может, перехитрили диверсанты и девчат неопытных, и его, сверхсрочника, орден имеющего за разведку? Может, не он на них охотится, а они на него? Может, уж высмотрели все, подсчитали, прикинули, когда кто кого кончать будет?
Но не страх — ярость вела сейчас Васкова. Зубами скрипел от той черной, ослепительной ярости и только одного желал: догнать. Догнать, а там разберемся…
— Ты у меня не крикнешь… Нет, не крикнешь…
Слабый след кое-где еще печатался на {11} валунах, и Федот Евграфыч уже точно знал, что немцев было двое. И опять не мог простить себе, опять казнился и маялся, что недоглядел за ними, что понадеялся, будто бродят они по ту сторону костра, а не по эту, и сгубил переводчика своего, с которым вчера еще котелок пополам делил. И кричала в нем эта маета и билась, и только одним успокоиться он сейчас мог — погоней. И думать ни о чем другом не хотел, и на Комелькову не оглядывался.
Женька знала, куда и зачем они бегут. Знала, хоть старшина ничего и не сказал, знала, а страха не было. Все в ней вдруг запеклось и потому не болело и не кровоточило. Словно ждало разрешения, но разрешения этого Женька не давала, а потому ничто теперь не отвлекало ее. Такое уже было однажды, когда эстонка ее прятала. Летом сорок первого, почти год назад…
Васков поднял руку, и она сразу остановилась, всеми силами сдерживая дыхание.
— Отдышись,— еле слышно сказал Федот Евграфыч.— Тут где-то они. Близко где-то.
Женька грузно оперлась на винтовку, рванула ворот. Хотелось вздохнуть громко, всей грудью, а приходилось цедить выдох, как сквозь сито, а сердце от этого никак не хотело успокаиваться.
— Вот они,— сказал старшина.
Он смотрел в узкую щель меж камней. Женька глянула: в редком березняке, что шел от них к лесу, чуть шевелились гибкие вершинки.
— Мимо пройдут,— не оглядываясь, продолжал Васков.— Здесь будь. Как я утицей крикну, шумни чем-либо. Ну, камнем ударь или прикладом, чтобы на тебя они глянули. И обратно замри. Поняла ли?
— Поняла,— сказала Женька.
— Значит, как утицей крикну. Не раньше.
Он глубоко, сильно вздохнул и прыгнул через валун в березняк — наперерез.
Главное дело, надо было успеть с солнца забежать, чтоб в глазах у них рябило. И второе главное дело — на спину прыгнуть. Обрушиться, сбить, ударить и крикнуть не дать. Чтоб — как в воду…
Он хорошее место выбрал: ни обойти его немцы не могли, ни заметить. А себя открывали, потому что перед его секретом проплешина в березняке шла. Конечно, он стрелять отсюда спокойно мог, без промаха, но не уверен был, что выстрелы до основной группы не докатятся, а до поры шум поднимать было невыгодно. Поэтому он сразу наган вновь в кобуру сунул, клапан застегнул, чтоб случаем не выпал, и проверил, легко ли ходит в ножнах финский трофейный нож.
И тут фрицы впервые открыто показались в редком березняке, в весенних, еще кружевных листах. Как и ожидал Федот Евграфыч, их было двое, и впереди шел дюжий детина с автоматом на правом плече. Самое время было их из нагана достать, самое время, но старшина опять отогнал эту мысль, но не потому уже, что выстрелов боялся, а потому, что Соню вспомнил и не мог теперь легкой смертью казнить. Око за око, нож за нож — только так сейчас дело решалось, только так.
Немцы свободно шли, без опаски: задний даже галету грыз, облизывая губы. Старшина определил ширину их шага, просчитал, прикинул, когда с ним поравняются, вынул финку и, когда первый подошел на добрый прыжок, крякнул два раза коротко и часто, как утка. Немцы враз вскинули головы, но тут Комелькова грохнула позади них прикладом о скалу, они резко повернулись на шум, и Васков прыгнул.
Он точно рассчитал прыжок: и мгновение точно выбрано было, и расстояние отмерено — тик в тик. Упал немцу на спину, сжав коленями локти. И не успел фриц тот ни вздохнуть, ни вздрогнуть, как старшина рванул его левой рукой за лоб, задирая голову назад, и полоснул отточенным лезвием по натянутому горлу.
Именно так все задумано было: как барана, чтоб крикнуть не мог, чтоб хрипел только, кровью исходя. И когда он валиться начал, комендант уже спрыгнул с него и метнулся ко второму.
Всего мгновение прошло, одно мгновение: второй немец еще спиной стоял, еще поворачивался. Но то ли [сил] у Васкова на новый {12} прыжок не хватило, то ли промешкал он, а только не достал этого немца ножом. Автомат вышиб, да при этом и собственную финку выронил: в крови она вся была, скользкая, как мыло.
Глупо получилось: вместо боя — драка, кулачки какие-то. Фриц хоть и нормального роста, а цепкий попался, жилистый: никак его Васков согнуть не мог, под себя подмять. Барахтались на мху меж камней и березок, но немец помалкивал покуда: то ли одолеть старшину рассчитывал, то ли просто силы берег.
И опять Федот Евграфыч промашку дал: хотел немца половчее перехватить, а тот выскользнуть умудрился и свой нож из ножен выхватил. И так Васков этого ножа убоялся, столько сил и внимания ему отдал, что немец в конце концов оседлал его, сдавил ножищами и теперь тянулся и тянулся к горлу тусклым {13} кинжальным жалом. Покуда старшина еще держал его руку, покуда оборонялся, но фриц-то сверху давил, всей тяжестью, и долго так продолжаться не могло. Про это и комендант знал и немец —даром, что ли, глаза сузил да ртом щерился.
И обмяк вдруг, как мешок, обмяк, и Федот Евграфыч сперва не понял, не расслышал первого-то удара. А второй расслышал: глухой, как по гнилому стволу. Кровью теплой в лицо брызнуло, и немец стал запрокидываться, перекошенным ртом хватая воздух. Старшина отбросил его, вырвал нож и коротко ударил в сердце.
Только тогда оглянулся: боец Комелькова стояла перед ним, держа винтовку за ствол, как дубину. И приклад той винтовки был в крови.
— Молодец, Комелькова…— в три приема сказал старшина.— Благодарность тебе… объявляю…
Хотел встать и не смог. Только на того, первого, оглянулся: здоров был немец, как бык, здоров. Еще дергался, еще хрипел, еще кровь толчками била из него. А второй уже не шевелился: скорчился перед смертью да так и застыл. Дело было сделано.
— Ну вот, Женя,— тихо сказал Васков.— На двоих, значит, меньше их стало…
Женька вдруг бросила винтовку и, согнувшись, пошла за кусты, шатаясь, как пьяная. Упала там на колени: тошнило ее, выворачивало, и она, всхлипывая, все кого-то звала — маму, что ли…
Старшина встал. Колени еще дрожали, и сосало под ложечкой, но время терять было уже опасно. Он не трогал Комелькову, не окликал, по себе зная, что первая рукопашная всегда ломает человека, переступая через естественный, как жизнь, закон «не убий». Тут привыкнуть надо, душой зачерстветь, и не такие бойцы, как Евгения, а здоровенные мужики тяжко и мучительно страдали, пока на новый лад перекраивалась их совесть. А тут ведь женщина по живой голове прикладом била, баба, мать будущая, в которой самой природой ненависть к убийству заложена. И это тоже Федот Евграфыч немцам в строку вписал, потому что преступили они законы человеческие и тем самым сами вне всяких законов оказались. И потому только гадливость он испытывал, обыскивая еще теплые тела, только гадливость: будто падаль ворочал.
И нашел то, что искал,— в кармане у рослого, что только-только богу душу отдал, хрипеть перестав, кисет. Его, личный, старшины Васкова кисет с вышивкой поверх: «ДОРОГОМУ ЗАЩИТНИКУ РОДИНЫ!» Сжал в кулаке, стиснул: не донесла Соня… Отшвырнул сапогом волосатую руку, путь его перекрестившую, подошел к Женьке. Она все еще на коленях в кустах стояла, давясь и всхлипывая.
— Уйдите…— сказала.
А он ладонь сжатую к лицу ее поднес и растопырил, кисет показывая. Женька сразу голову подняла: узнала.
— Вставай, Женя.
Помог встать. Назад было повел, на полянку, а Женька шаг сделала, остановилась и головой затрясла.
— Брось,— сказал он.— Попереживала и будет. Тут одно понять надо: не люди это. Не люди, товарищ боец, не человеки, не звери даже — фашисты. Вот и гляди соответственно.
Но глядеть Женька не могла, и тут Федот Евграфыч не настаивал. Забрал автоматы, обоймы запасные, хотел фляги взять, да покосился на Комелькову и раздумал. Шут с ними: прибыток не велик, а ей все легче, меньше напоминаний.
Прятать убитых Васков не стал: все равно кровищу всю с поляны не соскребешь. Да и смысла не было: день к вечеру склонялся, вскоре подмога должна была подойти. Времени у немцев мало оставалось, и старшина хотел, чтоб время это они в беспокойстве прожили. Пусть помечутся, пусть погадают, кто дозор их порешил, пусть от каждого шороха, от каждой тени пошарахаются.
У первого же бочажка (благо тут их — что конопушек у рыжей девчоночки) старшина умылся, кое-как рваный ворот на гимнастерке приладил, сказал Евгении:
— Может, ополоснешься?
Помотала головой: нет, не разговоришь ее сейчас, не отвлечешь… Вздохнул старшина:
— Наших сама найдешь или проводить?
— Найду.
— Ступай. И — к Соне приходите. Туда, значит… Может, боишься одна-то?
— Нет.
— С опаской иди все же. Понимать должна.
— Понимаю.
— Ну, ступай. Не мешкайте там, переживать опосля будем.
Разошлись. Федот Евграфыч вслед ей глядел, пока не скрылась: плохо шла. Себя слушала, не противника. Эх, вояки…
Соня тускло глядела в небо полузакрытыми глазами. Старшина опять попытался прикрыть их, и опять у него ничего не вышло. Тогда он расстегнул кармашки на ее гимнастерке и достал оттуда комсомольский билет, справку о курсах переводчиков, два письма и фотографию. На фотографии той множество гражданских было, а кто в центре — не разобрал Васков: здесь аккурат нож ударил. А Соню нашел: сбоку стояла, в платьишке с длинными рукавами и широким воротом: тонкая шея торчала из того ворота, как из хомута. Он припомнил вчерашний разговор, печаль Сонину и с горечью подумал, что даже написать некуда о геройской смерти рядового бойца Софьи Соломоновны Гурвич. Потом послюнил ее платочек, стер с мокрых век кровь и накрыл тем платочком лицо. А документы к себе в карман положил. В левый — рядом с партбилетом. Сел подле и закурил из трижды памятного кисета.
Ярость его прошла, да и боль приутихла; только печалью был полон, по самое горло полон, аж першило там. Теперь подумать можно было, взвесить все, по полочкам разложить и понять, как действовать дальше.
Он не жалел, что прищучил дозорных и тем открыл себя. Сейчас время на него работало, сейчас по всем линиям о них и диверсантах доклады шли, и бойцы, поди, [уже] инструктаж получали, как с фрицами этими проще покончить. Три, ну пусть пять даже часов оставалось драться вчетвером против четырнадцати, а это выдержать можно было. Тем более что сбили они немцев с прямого курса и вокруг Легонтова озера наладили. А вокруг озера сутки топать.
Команда его подошла со всеми пожитками: двое ушло — в разные, правда, концы,— а барахлишко их осталось, и отряд уже обрастать вещичками начал, как та запасливая семья. Галя Четвертак закричала было, затряслась, Соню увидев, но Осянина крикнула зло:
— Без истерик тут!..
И Галя смолкла. Стала на колени возле Сониной головы, тихо плакала. А Рита только дышала тяжело, а глаза сухие были, как уголья.
— Ну, обряжайте,— сказал старшина.
Взял топорик (эх, лопатки не захватил на случай такой!), ушел в камни место для могилки искать. Поискал, потыркался — скалы одни, не подступишься. Правда, яму нашел. Веток нарубил, устелил дно, вернулся.
— Отличница была,— сказала Осянина.— Круглая отличница — и в школе и в университете.
— Да,— сказал старшина.— Стихи читала.
А про себя подумал: не это главное. А главное, что могла нарожать Соня детишек, а те бы — внуков и правнуков, а теперь не будет этой ниточки. Маленькой ниточки в бесконечной пряже человечества, перерезанной ножом…
— Берите,— сказал.
Комелькова с Осяниной за плечи взяли, а Четвертак — за ноги. Понесли, оступаясь и раскачиваясь, и Четвертак все ногой загребала. Неуклюжей ногой, обутой в заново сотворенную чуню. А Федот Евграфыч с Сониной шинелью шел следом.
— Стойте,— сказал он у ямы.— Кладите тут покуда.
Положили у края: голова плохо легла, все набок заваливалась, и Комелькова подсунула сбоку пилотку. А Федот Евграфыч, подумав и похмурившись (ох, не хотел он делать этого, не хотел), буркнул Осяниной, не глядя:
— За ноги ее подержи.
— Зачем?
— Держи, раз велят! Да не здесь — за коленки!..
И сапог с ноги Сониной сдернул.
— Зачем?..— крикнула Осянина.— Не смейте!..
— А затем, что боец босой, вот зачем.
— Нет, нет, нет!..— затряслась Четвертак.
— Не в цацки же играем, девоньки,— вздохнул старшина.— О живых думать нужно: на войне только этот закон. Держи, Осянина. Приказываю, держи.
Сдернул второй сапог, кинул Гале Четвертак.
— Обувайся. И без переживаний давай: немцы ждать не будут.
Спустился в яму, принял Соню, в шинель обернул, уложил. Стал камнями закладывать, что девчата подавали. Работали молча, споро. Вырос бугорок: поверх старшина пилотку положил, камнем ее придавив. А Комелькова — веточку зеленую.
— На карте отметим,— сказал.— После войны — памятник ей.
Сориентировал карту, крестик нанес. Глянул, а Четвертак по-прежнему в чуне стоит.
— Боец Четвертак, в чем дело? Почему не обута?
Затряслась Четвертак:
— Нет!.. Нет!.. Нет, нет! Нельзя так! Вредно! У меня мама — медицинский работник…
— Хватит врать! — крикнула вдруг Осянина.— Хватит! Нет у тебя мамы! И не было. Подкидыш ты, и нечего тут выдумывать!..
Заплакала Галя. Горько, обиженно — словно игрушку у ребенка сломали…
10
— Ну зачем же так, ну зачем? — укоризненно сказала Женька и обняла Четвертак.— Нам без злобы надо, а то остервенеем. Как немцы остервенеем…
Смолчала Осянина…
А Галя действительно была подкидышем, и даже фамилию ей в детском доме дали: Четвертак. Потому что меньше всех ростом вышла, на четверть меньше.
Детдом размещался в бывшем монастыре: с гулких сводов сыпались жирные пепельные мокрицы. Плохо замазанные бородатые лица глядели со стен многочисленных церквей, спешно переделанных под бытовые помещения, а в братских кельях было холодно, как в погребах.
В десять лет Галя стала знаменитой, устроив скандал, которого монастырь не знал со дня основания. Отправившись ночью по своим детским делам, она подняла весь дом отчаянным визгом. Выдернутые из постелей воспитатели нашли ее на полу в полутемном коридоре, и Галя очень толково объяснила, что бородатый старик хотел утащить ее в подземелье.
Создалось «Дело о нападении…», осложненное тем, что в округе не было ни одного бородача. Галю терпеливо расспрашивали приезжие следователи и доморощенные шерлоки холмсы, и случай от разговора к разговору обрастал все новыми подробностями. И только старый завхоз, с которым Галя очень дружила, потому что именно он придумал ей такую звучную фамилию, сумел докопаться, что все это выдумка.
Галю долго дразнили и презирали, а она взяла и сочинила сказку. Правда, сказка была очень похожа на мальчика с пальчик, но, во-первых, вместо мальчика оказалась девочка, а во-вторых, там участвовали бородатые старики и мрачные подземелья.
Слава прошла, как только сказка всем надоела. Галя не стала сочинять новую, но по детдому поползли слухи о зарытых монахами сокровищах. Кладоискательство с эпидемической силой охватило воспитанников, и в короткий срок монастырский двор превратился в песчаный карьер. Не успело руководство справиться с этой напастью, как из подвалов стали появляться призраки в развевающихся белых одеждах. Призраков видели многие, и малыши категорически отказались выходить по ночам со всеми вытекающими отсюда последствиями. Дело приняло размеры бедствия, и воспитатели вынуждены были объявить тайную охоту за ведьмами. И первой же ведьмой, схваченной с поличным в казенной простыне, оказалась Галя Четвертак.
После этого Галя примолкла. Прилежно занималась, возилась с октябрятами и даже согласилась петь в хоре, хотя всю жизнь мечтала о сольных партиях, длинных платьях и всеобщем поклонении. Тут ее настигла первая любовь, а так как она привыкла все окружать таинственностью, то вскоре весь дом был наводнен записками, письмами, слезами и свиданиями. Зачинщице опять дали нагоняй и постарались тут же от нее избавиться, спровадив в библиотечный техникум на повышенную стипендию.
Война застала Галю на третьем курсе, и в первый же понедельник вся их группа в полном составе явилась в военкомат. Группу взяли, а Галю нет, потому что она не подходила под армейские стандарты ни ростом, ни возрастом. Но Галя, не сдаваясь, упорно штурмовала военкома {14} и так беззастенчиво врала, что ошалевший от бессонницы подполковник окончательно запутался и в порядке исключения направил Галю в зенитчицы.
Осуществленная мечта всегда лишена романтики. Реальный мир оказался суровым и жестоким и требовал не героического порыва, а неукоснительного исполнения воинских уставов. Праздничная новизна улетучилась быстро, а будни были совсем не похожи на Галины представления о фронте. Галя растерялась, скисла и тайком плакала по ночам. Но тут появилась Женька, и мир снова завертелся быстро и радостно.
А не врать Галя просто не могла. Собственно, это была не ложь, а желания, выдаваемые за действительность. И появилась на свет мама — медицинский работник, в существование которой Галя почти поверила сама…
Времени потеряли много, и Васков сильно нервничал. Важно было поскорее уйти отсюда, нащупать немцев, сесть им на хвост, а потом пусть убитых дозорных находят. Тогда уже старшина над ними висеть будет, а не наоборот. Висеть, дергать, направлять, куда надо, и… ждать. Ждать, когда наши подойдут, когда облава начнется.
Но… провозились: Соню хоронили, Четвертак уговаривали, а время шло. Федот Евграфыч пока автоматы проверил, винтовки лишние — Бричкиной и Гурвич — в укромное место упрятал, патроны поровну поделил. Спросил у Осяниной:
— Из автомата стреляла когда?
— Из нашего только.
— Ну, держи фрицевский. Освоишь, мыслю я.— Показал ей, как управляться, предупредил: — Длинно не стреляй: вверх задирает. Коротко жаль.
Тронулись, слава тебе… Он впереди шел, Четвертак с Комельковой — основным ядром, а Осянина замыкала. Сторожко шли, без шума, да опять, видно, к себе больше прислушивались, потому что чудом на немцев не нарвались. Чудом, как в сказке.
Счастье, что старшина первым их увидел. Как из-за валуна сунулся, так и увидел: двое в упор на него, а следом — остальные. И опоздай Федот Евграфыч ровно на семь шагов — кончилась бы на этом вся их служба. В две бы хорошие очереди кончилась.
Но семь этих шагов были с его стороны сделаны, и потому все наоборот получилось. И отпрянуть успел, и девчатам махнуть, чтоб рассыпались, и гранату из кармана выхватить. Хорошо, с запалом граната была: шарахнул ею из-за валуна, а когда рвануло, ударил из автомата.
В уставе бой такой встречным называется. А характерно для него то, что противник сил твоих не знает: разведка ты или головной дозор — им это непонятно. И поэтому главное тут — не дать ему опомниться.
Федот Евграфыч, понятное дело, об этом не думал. Это врублено в него было, на всю жизнь врублено, и думал он только, что надо стрелять. А еще думал, где бойцы его: попрятались, залегли или разбежались?
Треск стоял оглушительный, потому что били фрицы в его валун из всех активных автоматов. Лицо ему крошкой каменной иссекло, глаза пылью запорошило, и он почти что не видел ничего: слезы ручьем текли. И утереться времени не было.
Лязгнул затвор его автомата, назад отскочив: патроны кончились. Боялся Васков этого мгновения: на перезарядку секунды шли, а сейчас секунды эти жизнью измерялись. Рванутся немцы на замолчавший автомат, проскочат десяток метров, что разделяли их, и — все тогда. Хана.
Но не сунулись диверсанты. Голов даже не подняли, потому что прижал их второй автомат — Осяниной. Коротко била, прицельно, в упор и дала секундочку старшине. Ту секундочку, за которую потом до гробовой доски положено водкой поить.
Сколько тот бой продолжался, никто потом не помнил. Если обычным временем считать — скоротечный был бой, как и положено встречному бою по уставу. А если прожитым мерить — силой затраченной, напряжением, опасностью,— на добрый пласт жизни тянуло, а кому и на всю жизнь.
Галя Четвертак настолько испугалась, что и выстрелить-то ни разу не смогла. Лежала, спрятав лицо за камнем и уши руками зажав; винтовка в стороне валялась. А Женька быстро опомнилась: била в белый свет, как в копейку. Попала, не попала — это ведь не на стрельбище, целиться некогда.
Два автомата да одна трехлинейка — всего-то огня было, а немцы не выдержали. Не потому, конечно, что испугались: неясность была. И, постреляв маленько, откатились. Без огневого {15} прикрытия, без заслона, просто откатились. В леса, как потом выяснилось.
Враз смолк огонь, только Комелькова еще стреляла, телом вздрагивая при отдаче. Добила обойму, остановилась. Глянула на Васкова, будто вынырнув.
— Все,— вздохнул Васков.
Тишина могильная стояла, аж звон в ушах. Порохом воняло, пылью каменной, гарью. Старшина лицо утер — ладони в крови стали: посекло осколками.
— Задело вас? — шепотом спросила Осянина.
— Нет,— сказал старшина.— Ты поглядывай там, Осянина.
Сунулся из-за камня: не стреляли. Вгляделся: в дальнем березняке, что с лесом смыкался, верхушки подрагивали. Осторожно скользнул вперед, наган в руке зажав. Перебежал, за другим валуном укрылся, снова выглянул: на разбросанном взрывом мху кровь темнела. Много крови, а тел не было: унесли.
Полазав по камням да кусточкам и убедившись, что диверсанты никого в заслоне не оставили, Федот Евграфыч уже спокойно, в рост вернулся к своим. Лицо саднило, а усталость была… будто чугуном прижали. Даже курить не хотелось. Полежать бы, хоть бы десять минут полежать, а подойти не успел — Осянина с вопросом:
— Вы коммунист, товарищ старшина?
— Член партии большевиков…
— Просим быть председателем на комсомольском собрании.
Обалдел Васков:
— Собрании?..
Увидел: опять Четвертак ревет в три ручья. А Комелькова — в копоти пороховой, что цыган,— глазищами сверкает:
— Трусость!..
Вон оно что…
— Собрание — это хорошо,— свирепея, начал Федот Евграфыч.— Это замечательно: собрание! Мероприятие, значит, проведем, осудим товарища Четвертак за проявленную растерянность, протокол напишем… Так?..
Молчали девчата. Даже Галя реветь перестала: слушала, носом шмыгая.
— А фрицы нам на этот протокол свою резолюцию наложат. Годится?.. Не годится. Поэтому как старшина и как коммунист тоже отменяю на данное время все собрания. И докладываю обстановку: немцы в леса ушли. В месте взрыва гранаты крови много: значит, кого-то мы прищучили. Значит, тринадцать их, так надо считать. Это первый вопрос. А второй вопрос — у меня при автомате одна обойма осталась непочатая. А у тебя, Осянина?
— Полторы.
— Вот так. А что до трусости, так ее не было. Трусость, девчата, во втором бою только видна. А это растерянность просто. От неопытности. Верно, боец Четвертак?
— Верно…
— Тогда и слезы и сопли утереть приказываю. Осяниной — вперед выдвинуться и за лесом следить. Остальным бойцам — принимать пищу и отдыхать по мере возможности. Нет вопросов? Исполнять.
Молча поели. Федот Евграфыч совсем есть не хотел, а только сидеть, ноги вытянув, но жевал усердно: силы были нужны. Бойцы его, друг на друга не глядя, ели по-молодому — аж хруст стоял. И то ладно: не раскисли, держатся пока.
Солнце уж низко было, край леса темнеть стал, и старшина беспокоился. Подмога что-то запаздывала, а немцы тем сумраком белесым могли либо опять на него выскочить, либо с боков просочиться в горловине между озерами, либо в леса утечь: ищи их тогда. Следовало опять поиск начинать, опять на хвост им садиться, чтобы знать положение. Следовало, а сил не было.
Да, неладно все пока складывалось, очень неладно. И бойца загубил, и себя обнаружил, и отдых требовался. А подмога все не шла и не шла…
Однако отдыху Васков себе отпустил, пока Осянина не поела. Потом встал, засупонился потуже, сказал хмуро:
— В поиск со мной пойдет боец Четвертак. Здесь Осянина старшая. Задача: следом двигаться на большой дистанции. Ежели выстрелы услышите — затаиться приказываю. Затаиться и ждать, покуда мы не подойдем. Ну, а коли не подойдем — отходить. Скрытно отходите через наши прежние позиции на запад. До первых людей: там доложите.
Конечно, шевельнулась мысль, что не надо бы с Четвертак в такое дело идти, не надо. Тут с Комельковой в самый раз: товарищ проверенный, дважды за один день проверенный — редкий мужик этим похвастать может. Но командир — он ведь не просто военачальник, он еще и воспитателем подчиненных быть обязан. Так в уставе сказано.
А устав старшина Васков уважал. Уважал, знал назубок и выполнял неукоснительно. И поэтому сказал Гале:
— Вещмешок и шинельку здесь оставишь. За мной идти след в след и глядеть, что делаю. И что б ни случилось, молчать. Молчать и про слезы забыть.
Слушая его, Четвертак кивала поспешно и испуганно…
11
Почему немцы уклонились от боя? Уклонились, опытным ухом наверняка оценив огневую мощь (точнее сказать, немощь) противника?
Не праздные это были вопросы, и не из любопытства Васков голову над ними ломал. Врага понимать надо. Всякое действие его, всякое передвижение для тебя яснее ясного быть должно. Только тогда ты за него думать начнешь, когда сообразишь, как сам он думает. Война — это ведь не просто кто кого перестреляет. Война — это кто кого передумает. Устав для того и создан, чтобы голову тебе освободить, чтоб ты вдаль думать мог, на ту сторону, за противника.
Но как ни вертел события Федот Евграфыч, как ни перекладывал, одно выходило: немцы о них ничего не знали. Не знали, значит, те двое, которых порешил он, не дозором были, а разведкой, и фрицы, не ведая о судьбе их, спокойно подтягивались следом. Так выходило, а какую выгоду он из этого всего извлечь мог, пока было непонятно.
Думал старшина, ворочал мозгами, тасовал факты, как карточную колоду, а от дела не отвлекался. Чутко скользил, беззвучно и только что ушами не прядал по неспособности к этому. Но ни звука, ни запаха не дарил ему ветерок, и Васков шел пока без задержек. И девка эта непутевая сзади плелась. Федот Евграфыч часто поглядывал на нее, но замечаний делать не приходилось. Нормально шла, как приказано. Только без легкости, вяло — так это от пережитого, от свинца над головой.
А Галя уж и не помнила об этом свинце. Другое стояло перед глазами: серое, заострившееся лицо Сони, полузакрытые, мертвые глаза ее и затвердевшая от крови гимнастерка. И… две дырочки на груди. Узкие, как лезвие. Она не думала ни о Соне, ни о смерти — она физически, до дурноты ощущала проникающий в ткани нож, слышала хруст разорванной плоти, чувствовала тяжелый запах крови. Она всегда жила в воображаемом мире активнее, чем в действительном, и сейчас хотела бы забыть это, вычеркнуть — и не могла. И это рождало тупой, чугунный ужас, и она шла под гнетом этого ужаса, ничего уже не соображая.
Федот Евграфыч об этом, конечно, не знал. Не знал, что боец его, с кем он жизнь и смерть одинаковыми гирями сейчас взвешивал, уже был убит. Убит, до немцев не дойдя, ни разу по врагу не выстрелив…
Васков поднял руку: вправо уходил след. Легкий, чуть заметный на каменных осыпях, тут, на мшанике, он чернел затянутыми водой провалами. Словно оступились вдруг фрицы, тяжесть неся, и расписались перед ним всей разлапистой ступней.
— Жди,— шепнул старшина.
Прошел вправо, след в стороне оставляя. Пригнул кусты: в ложбинке из-под наспех наваленного хвороста чуть проглядывали тела. Васков осторожно сдвинул сушняк: в яме лицами вниз лежали двое. Федот Евграфыч присел на корточки, всматриваясь: у верхнего в затылке чернело аккуратное, почти без крови отверстие, волосы стриженого затылка курчавились, подпаленные огнем.
— Пристрелили,— определил старшина.— Свои же: в затылок. Раненого добивали: такой, значит, закон…
Плюнул Васков. На мертвых плюнул, хоть и грех этот самый великий из всех. Но ничего к ним не чувствовал, кроме презрения: вне закона они для него были. По ту сторону черты, что человека определяет.
Человека ведь одно от животных отделяет: понимание, что человек он. А коли нет понимания этого — зверь. О двух ногах, о двух руках, и — зверь. Лютый зверь, страшнее страшного. И тогда ничего по отношению к нему не существует: ни человечности, ни жалости, ни пощады. Бить надо. Бить, пока в логово не уползет. И там бить, покуда не вспомнит, что человеком был, покуда не поймет этого.
Еще днем, несколько часов назад, ярость его вела. Простая, как жажда: кровь за кровь. А теперь вдруг отодвинулось все, улеглось, успокоилось даже и… вызрело. В ненависть вызрело, холодную и расчетливую ненависть. Без злобы уже.
— Значит, такой закон?.. Учтем.
И спокойно еще двух вычел: двенадцать осталось. Дюжина.
Вернулся, где Четвертак ждала. Поймал взгляд ее — и словно оборвалось в нем что-то: боится. По-плохому боится, изнутри, а это — хорошо, если не на всю жизнь. Поэтому старшина вмиг всю бодрость свою собрал, заулыбался ей, как дролюшке дорогой, и подмигнул:
— Двоих мы там прищучили, Галя! Двоих — стало быть, двенадцать осталось. А это нам не страшно, товарищ боец. Это нам, считай, пустяки!..
Ничего она в ответ не сказала, не улыбнулась даже. Только глядела, в глаза выскакивая. Мужика в таких случаях разозлить надо: матюкнуть от души или по уху съездить — это Федот Евграфыч из личного опыта знал. А вот с этой как быть — не знал. Не было у него такого опыта, и устав по этому поводу тоже ничего не сообщал.
— Про Павла Корчагина читала когда?
Посмотрела на него Четвертак эта, как на помешанного, но кивнула, и Федот Евграфыч приободрился.
— Читала, значит. А я его, как тебя, видел. Да. Возили нас, отличников боевой и политической, в город Москву. Ну, там Мавзолей смотрели, дворцы всякие, музеи и с ним встречались. Он — не гляди, что пост большой занимает,— простой человек. Сердечный. Усадил нас, чаем угостил: как, мол, ребята, служится?..
— Ну, зачем же вы обманываете, зачем? — тихо сказала Галя.— Паралич разбил Корчагина. И не Корчагин он совсем, а Островский. И не видит он ничего, и не шевелится, и мы ему письма всем техникумом писали.
— Ну, может, другой какой Корчагин?
Совестно стало Васкову, даже в жар кинуло. А тут еще комар наседает. Вечерний комар, особенный.
— Ну, может, ошибся. Не знаю. Только говорили, что…
Хрустнула впереди ветка. Явно хрустнула, под тяжелой ногой, а он даже обрадовался. Сроду он по своей инициативе во врунах не оказывался, позора от подчиненных не хлебал и готов был скорее со всей дюжиной драться, чем укоры от девчонки сопливой терпеть.
— В куст!..— шепнул.— И замри!..
В куст сунуть ее успел, ветки оправить, сам за соседний валун завалился — и вовремя. Глянул: опять двое идут, но осторожно, как по раскаленному, держа автоматы наизготовку. И только старшина подивиться успел, до чего же упорно фрицы по двое шастают, как позади этих двух и левее кусты затрепетали, и он понял, что по обе стороны идут дозоры и что немцы всерьез озадачены и неожиданной встречей, и исчезновением своей разведки.
Но он-то их видел, а они его — нет, и поэтому козырной туз был все-таки у него. Единственный, правда, козырь, но тем больнее мог он им ударить. Только уж спешить здесь было нельзя, никак нельзя, и Федот Евграфыч всем телом в мох впечатывался и даже комаров с потного лба согнать боялся. Пусть крадутся, пусть спину подставят, пусть укажут, куда поиск ведут, а там уж он играть начнет, свой ход сделает. С козырного туза.
Человек в опасности либо совсем ничего не соображает, либо сразу за двоих. И пока один расчет ведет, как дальше поступить, другой об этой минуте заботится: все видит и все замечает. И, думая насчет хода с козырного туза, Васков ни на мгновение диверсантов с глаз не спускал и ни на миг о Четвертак не забывал. Нет, хорошо она укрыта была, надежно, да и немцы вроде стороной ее обходили, так что опасного здесь не предвиделось. Фрицы как бы ломтями местность резали, и они с бойцом аккурат в середину этих ломтей попадали, хоть, правда, и в разные куски. Значит, отсидеться надо было, дышать перестав, раствориться во мхах да кустарничке, а уж потом действовать. Потом соединиться, цели распределить и пугнуть из своей родимой да немецкого автомата.
Судя по всему, фрицы опять тот же путь прощупывали и рано или поздно должны были на Осянину с Комельковой выйти. Конечно, беспокоило это старшину, но не сказать, чтоб слишком: девчата обстрелянными были, соображали что к чему и свободно могли либо затаиться, либо отойти куда подальше. Тем более, что ход свой он планировал на тот момент, когда немцы, пройдя его, окажутся между двух огней.
Диверсанты на прямую вышли, оставляя куст, где Четвертак пряталась, метрах в двадцати левее. Дозоры, что по бокам шли, себя не обнаруживали, но Федот Евграфыч уже знал, где они пройдут. Вроде никто на них нарваться не мог, но старшина все же осторожно снял автомат с предохранителя.
Немцы шли молча, пригнувшись и выставив автоматы. Прикрытые дозорами, они почти не глядели по сторонам, цепко всматриваясь вперед и каждый миг ожидая встречного выстрела. Через несколько шагов они должны были оказаться в створе между Четвертак и Васковым, и с этого мгновения спины их были бы подставлены охотничьему прищуру старшины.
С шумом раздались кусты, и из них порскнула вдруг Галя. Выгнувшись, заломив руки за голову, метнулась через поляну наперерез диверсантам, уже ничего не видя и не соображая.
— А-а-а!..
Коротко ударил автомат. С десятка шагов ударил в тонкую, напряженную в беге спину, и Галя с разлету сунулась лицом в землю, так и не сняв с головы заломленных в ужасе рук. Последний крик ее затерялся в булькающем хрипе, а ноги еще бежали, еще бились, вонзаясь в мох носками Сониных сапог.
Замерло все на поляне. На секунду какую-то замерло, и даже Галины ноги дергались замедленно, точно во сне. И Васков еще недвижимо лежал за своим валуном, не успев даже понять, что все планы его рухнули, что вместо козырного туза на руках оказалась шестерка. И неизвестно, сколько бы он так пролежал и как бы стал действовать дальше, но за спиной его раздался треск и топот, и он догадался, что правый дозорный бежит сюда, на выстрелы, бежит через него.
Соображать некогда было. Не было уже времени, и Федот Евграфыч только главное решил: увести немцев. Увлечь их за собой, заманить, оттянуть от последних своих бойцов. А решив это, не таясь уже, вскочил, шарахнул по двум фигурам, что над Галей склонились, полоснул очередью по топоту в кустах и, пригнувшись, бросился подальше от Синюхиной гряды, к лесу.
Он не видел, попал ли в кого: не до того было. Сейчас сквозь немцев прорваться надо было, себя в целости до леса донести и девчат уберечь. Уж их-то, последних, непременно уберечь он был должен, обязан был перед совестью своей мужской и командирской. Хватит тех, что погибли. По горло хватит, до конца жизни.
Давно старшина так не бегал, как в тот вечер. Метался по кустам, юлил меж валунов, падал, поднимался, снова бежал и снова падал, уходя от пуль, что сшибали листву над головой. Жалил в мелькающие повсюду фигуры короткими очередями и шумел. Кусты ломал, топал, орал до хрипоты, потому что не имел он права отходить, фрицев за собой не увлекая. Приходилось заманивать, с огнем играть.
За одно он почти был спокоен: немцы в кольцо взять его не могли. И местности не знали, и маловато их для этого оставалось, и, главное, хорошо они ту внезапную стычку запомнили, тот встречный бой: с оглядкой бегали. Поэтому злил их, чтоб не оставляли погони, чтоб не опомнились и не поняли, что один он здесь, если строго судить. Один.
Опять же туман помогал: та весна туманистой была. Чуть солнце за горизонт уходило, низины словно дымком подергивались, туман слоился, цеплялся за кусты, и в густом том молоке не то что человек — полк свободно бы спрятался. Васков в любой момент мог в облако это нырнуть — и ищи его! Но беда в том была, что белесые языки эти к озерам ползли, а он, наоборот, к лесу норовил фрицев вывести, поэтому нырял в туман тогда лишь, когда уже совсем невмоготу становилось. А потом опять выныривал: здрасьте, фрицы, я живой…
А в общем, конечно, везло. И в меньших перестрелках, случалось, из человека сито-решето делали, а тут пронесло. Вдосталь в салочки со смертью наигрался, но до леса не один добежал: вся эта компания за ним ввалилась, и тут его автомат щелкнул в последний раз и замолк. Патроны кончились, перезарядить нечем было, и так он старшине руки отмотал, что Федот Евграфыч сунул его под валежник и стал отходить налегке — безоружным.
Тумана здесь не было, а пули в стволы чокали — только щепа летела. Теперь можно было отрываться, теперь о себе подумать самое время настало, но немцы, разъярившись, все-таки взяли его в полукольцо и гнали без передыху, надеясь, видно, прижать к болотам и взять живым. Положение у него такое создалось, что, будь старшина на месте их командира, тоже бы орденов за «языка» не пожалел, отвалил бы хоть пригоршню.
И только он так подумал, только обрадоваться успел, что целить в него вроде не должны, как тут же в руку ударило. В мякоть, пониже локтя, и Федот Евграфыч впопыхах-то не понял, не разобрался, решил, что сук ненароком зацепил, как теплое по кисти потекло. Не сильно, но густо: пуля вену тронула. Похолодел Васков: с дыркой много не навоюешь. Тут осмотреться нужно, рану перевязать, передохнуть, тут сквозь цепь не попрешь, не оторвешься. Одно оставалось: к болотам отходить. Ног не жалея.
Все он вложил в этот бег, без остатка. Сердце уж в глотке где-то булькало, когда к приметной сосне выскочил. Схватил слегу, заметил, шесть их осталось, да размышлять некогда было. Лес трещал под немецкими ногами, звенел немецкими голосами и пел немецкими пулями.
Как через болото до острова брел — начисто из головы выскочило. Опомнился только там, под корявыми сосенками. От холода опомнился: трясло его, било, зубы пересчитывая. И рука ныла. Ломило ее от сырости, что ли…
Сколько времени он тут лежал, Федот Евграфыч вспомнить не мог. Выходило немало, потому что тишина вокруг стояла мертвая: немцы отошли. Туман уплотнился к рассвету, вниз осел, и от мокряди той пробирало Васкова до самой последней косточки. Однако кровь из раны больше не текла. Рука аж до плеча в грязи болотной была, дырку, видать, залепило, и старшина отколупывать ее не стал. Замотал сверху бинтом, что, по счастью, в кармане оказался, и огляделся.
За лесом уже светало, и высоко над болотом небо поигрывало сполохами, отжимая туман к земле. Но здесь, на дне чаши, было как в ледяном молоке, и Федот Евграфыч, трясясь в ознобе, с тоской думал о заветной фляжке. Одно спасение было — прыгать, и он скакал, пока пот не прошиб. К тому времени и туман редеть начал. Можно было и оглядеться.
С немецкой стороны ничего опасного не наблюдалось, как Васков ни вглядывался. Конечно, фрицы и затаиться могли, его назад поджидая, но вероятность этого совсем уж была невелика; по их понятиям, болото непроходимым было, и, значит, старшина Васков давно для них утопленник.
А в нашу сторону, в ту, что к разъезду вела, прямо к Марии Никифоровне, в ту сторону Федот Евграфыч особо не глядел. В той стороне опасностей никаких не было, в той стороне, наоборот, жизнь была: спирта полкружечки, яишенка с салом да ласковая хозяйка. И не глядеть бы ему в ту сторону, отвернуться бы от соблазна, но помощь оттуда что-то не шла и не шла, и поэтому он все-таки туда поглядывал.
Чернело там что-то. Что чернело, не мог старшина разобрать. В миг какой-то даже дойти до пятна этого хотел, посмотреть, но запыхался от подскоков своих и решил отдышаться. А когда отдышался, рассвело уже достаточно, и понял он, что чернеет в болотной топи. Понял и сразу вспомнил, что у приметной сосны осталось шесть вырубленных им слег. Шесть — значит, боец Бричкина полезла в топь эту трижды клятую без опоры…
И осталась от нее армейская юбка. А больше ничего не осталось — даже надежд, что помощь придет…
12
И вспомнил вдруг Васков утро, когда диверсантов считал, что из лесу выходили. Вспомнил шепот Сони у левого плеча, растопыренные глаза Лизы Бричкиной, Четвертак в чуне из бересты. Вспомнил и громко, вслух сказал:
— Не дошла, значит, Бричкина…
Глухо проплыл над болотом хриплый, простуженный голос, и опять все смолкло. Даже комары без звона садились тут, в гиблом этом месте, и старшина, вздохнув, решительно шагнул в болото. Брел к берегу, налегая на слегу, думал о Комельковой и Осяниной, надеялся, что живы. И еще он думал о том, что всего оружия у него — один наган на боку.
Оставь тут диверсанты хоть одного человека — лежать бы старшине Васкову носом в гниль, пока не истлеет. С двух шагов могли его снять, потому что шел он грудью на берег и даже упасть нельзя было, укрыться. Но никого немцы не оставили, и Федот Евграфыч без всяких помех до протоки знакомой добрался, помылся кое-как и напился вволю. А потом листок в кармане отыскал, скрутил из сухого мха цигарку, раздул «катюшу» и закурил. Теперь можно было и подумать.
Выходило, что проиграл он вчера всю свою войну, хоть и выбил верных двадцать пять процентов противника. Проиграл потому, что не смог сдержать немцев, что потерял ровнехонько половину личного состава, что растратил весь боевой запас и остался с одним наганом. Скверно выходило, как ни крути, как ни оправдывайся. А самым скверным было то, что не знал он, в какой стороне искать теперь диверсантов. Горько было Васкову. То ли от голода, то ли от вонючей цигарки, то ли от одиночества и дум, что роились в голове, будто осы. Будто осы: только жалили, а взятка не давали…
Конечно, к своим надо было добираться. Две остались у него девчоночки, зато самые толковые. Втроем они еще силой были, только силе той бить было нечем. Значит, должен был он, как командир, сразу два ответа подготовить: что делать и чем воевать. А для этого одно оставалось: сперва самому обстановку выяснить, немцев найти и оружие добыть.
Вчера в беготне немцы топали, как дома, и следов в лесу было достаточно. Федот Евграфыч шел по ним, как по карте, разбирался что к чему и считал. А по счету этому выходило, что немцев бегало за ним никак не более десяти: то ли кто-то с вещами оставался, то ли он еще кого-то прищучить успел. Но все-таки рассчитывать следовало пока на дюжину, потому что накануне целиться было некогда.
Так, по следам, выбрался он на опушку, откуда опять распахнулось и Вопь-озеро, и Синюхина гряда. Тут Федот Евграфыч ненадолго остановился, чтоб осмотреться, но никого — ни своих, ни чужих — заметить не смог. Покой лежал перед ним, затишье, благодать утренняя, и в благодати этой где-то прятались и немецкие автоматчики, и две русские девчоночки с трехлинейками в обнимку.
Как ни заманчиво было девчат в каменьях тех отыскать, старшина из лесу не высунулся. Нельзя было ему собой рисковать, никак нельзя, потому что при всей горечи и отчаянии побежденным он себя не признавал даже в мыслях, и война для него на этом кончиться не могла. И, наглядевшись на простор и безмятежность, Федот Евграфыч снова нырнул в чащобу и стал пробираться в обход гряды к побережью Легонтова озера.
Тут расчет прост был, как задачка на вычитание. Немцы за ним вчера допоздна бегали, и, хоть ночи белыми были, соваться в неясность им было несподручно. Ждать им следовало до рассвета, а ждать этого рассвета удобнее всего было в лесах у Легонтова озера, чтобы в случае чего отход иметь не в болота. Потому-то и потянул Федот Евграфыч от знакомых каменьев в неизвестные места.
Здесь шел он осторожно, от дерева к дереву, потому что следы вдруг пропали. Но тихо было в лесу, только птицы поигрывали, и по щебету их Федот Евграфыч понимал, что людей поблизости нет.
Так пробирался он долго; стало уже казаться, что зря, что обманулся он в расчетах и ищет теперь диверсантов там, где их нету. Но не было у него сейчас ориентиров, кроме чутья, а чутье подсказывало, что путь выбран правильно. И только он в чутье собственном охотничьем засомневался, только стал, чтоб обдумать все сызнова, взвесить, как впереди заяц выскочил. Вылетел на полянку и, не чуя Васкова, на задние лапки привстал, назад вглядываясь. Вспуганный заяц был, и вспуганный людьми, которых знал мало и потому любопытничал. И старшина, совсем как заяц, уши навострил [и] стал туда же глядеть.
Однако, как он ни вглядывался, как ни слушал, ничего там необыкновенного не обнаруживалось. Уж и заяц в осинник сиганул, и слеза Федота Евграфыча прошибла, а он все стоял и стоял, потому что зайцу этому верил больше, чем своим ушам. И потому тихо-тихо, тенью скользящей двинулся туда, куда этот заяц глядел.
Ничего вначале он не заметил, а потом забурело что-то сквозь кусты. Странное что-то, лишаями кое-где покрытое. Васков шагнул, не дыша, отвел рукой кусты и уперся в древнюю, замшелую стену въехавшей в землю избы.
«Легонтов скит»,— понял старшина.
Скользнул за угол, увидел прогнивший сруб колодца, заросшую травой дорогу и косо висевшую на одной петле входную дверь. Вынул наган и, до звона вслушиваясь, прокрался к входу, глянул на косяк, на ржавую завесу, увидал примятую траву, высохший след на ступеньке и понял, что дверь эту сорвали не более часа назад.
Зачем, спрашивалось? Не из любознательности же немцы дверь в заброшенном скиту выломали, значит, так было нужно. Значит, убежище искали. Может, раненые у них имелись, может, спрятать что требовалось. Иного объяснения старшина не нашел, а потому обратно в кусты попятился, особо внимательно глядя, чтоб след ненароком не оставить. Заполз в чащобу и замер.
И только комары к нему пристрелялись, как где-то сорока заверещала. Потом хрустнула ветка, что-то звякнуло, и из лесу к Легонтову скиту один за другим вышли все двенадцать. Одиннадцать поклажу несли (взрывчатка, определил старшина), а двенадцатый сильно хромал, налегая на палку. Подошли к скиту, сгрузили тючки, и раненый сразу сел на ступеньку. Один начал перетаскивать взрывчатку в избу, а остальные закурили и стали о чем-то говорить, по очереди заглядывая в карту.
Жрали комары Васкова, пили кровушку, а он даже моргнуть боялся. Рядом ведь, в двух шагах от немцев сидел, наган в кулаке тискал, все слова слышал и ничего не понимал. Всего-то знал он восемь фраз из разговорника, да и то если их русский произносил: нараспев.
Но гадать не понадобилось: старший, что в центре стоял и к которому они в планшет заглядывали, рукой махнул, и десятка эта, вскинув автоматы, подалась в лес. И пока она в него втягивалась, тот, что тючки таскал, помог раненому подняться и вволок его в дом.
Наконец-то Васков мог дух перевести и с комарами расправиться. Все теперь прояснилось, и дело решало время: немцы не по ягодки к Синюхиной гряде направлялись. Не желали они, стало быть, вокруг Легонтова озера кренделя выписывать и упорно целились в перемычку. И шли туда сейчас налегке: брешь нащупывать.
Конечно, ничего ему не стоило обогнать их, девчат найти и начать все сначала. Одно держало: оружие. Без него и думать было нечего поперек фрицевского пути становиться.
Два автомата в этой избе сейчас было, за дверью скособоченной. Целых два, богатство, а как взять это богатство, Васков пока не знал. На рожон лезть после бессонной ночи с простреленной рукой расчета не было, и потому Федот Евграфыч, прикинув, откуда ветерок тянет, просто ждал, когда немец из избы вылезет.
И дождался. Вылез диверсант этот с распухшей от комаров рожей на верную свою гибель: пить им там, что ли, захотелось. Вылез осторожно, с автоматом под рукой и двумя флягами у пояса. Долго всматривался, слушал, но отклеился-таки от стены и к колодцу направился. И тогда Васков медленно поднял наган, затаил дыхание, как на соревнованиях, и плавно спустил курок. Треснул выстрел, и немца с силой швырнуло вперед. Старшина для верности еще раз выстрелил в него, хотел было вскочить, да чудом уловил вороненый блеск ствола в щели перекошенной двери и замер. Второй — тот, раненый — прикрывал приятеля своего, все видел, и бежать к колодцу — значило получить пулю.
Похолодел Васков: даст сейчас подбитый этот очередь. Просто так, в воздух: гулкую, тревожную, и все. Вмиг притопают немцы, прочешут лес, и кончилась служба старшины. Второй раз не убежишь…
Только не стрелял что-то этот немец. Ждал чего-то, водил стволом настороженно и не сигналил. Видел, как товарищ его рылом в сруб уперся, еще дергаясь, видел, а на помощь не звал. Ждал… Чего ждал?..
И понял вдруг Васков. Все понял: себя спасает, шкура фашистская. Плевать ему на умирающего, на приказ, на друзей своих, что к озерам ушли: он сейчас только о том думает, чтоб внимание к себе не привлечь. Он невидимого противника до ужаса боится и об одном лишь молится: как бы втихую отлежаться, за бревнами в обхват толщиной.
Да, не героем фриц оказался, когда смерть в глаза заглянула. Совсем не героем, и, поняв это, старшина вздохнул с облегчением.
Сунув наган в кобуру, Федот Евграфыч осторожно отполз назад, быстро обогнул скит и подобрался к колодцу с другой стороны. Как он и рассчитывал, раненый фриц на убитого не глядел, и старшина спокойно подполз к нему, снял автомат, сумку с запасными обоймами с пояса и незамеченным вернулся в лес.
Теперь все от его быстроты зависело, потому что путь он выбрал кружной. Тут уж рисковать приходилось, и он рисковал — и пронесло. Вломился в соснячок, что к гряде вел, и тогда только отдышался.
Здесь свои места были, брюхом исползанные. Здесь где-то девчата его прятались, если не подались на восток. Но хоть и велел он им отходить в случае чего, а не верилось сейчас Федоту Евграфычу, что выполнили они приказ его слово в слово. Не верилось, не хотелось верить.
Тут он передохнул, послушал, не слышно ли где немцев, и осторожно двинулся к Синюхиной гряде путем, по которому сутки назад шел с Осяниной. Тогда все еще живы были. Все, кроме Лизы Бричкиной…
Все-таки отошли они. Недалеко, правда: за речку, где прошлым утром спектакль фрицам устраивали. А Федот Евграфыч про это не подумал и, не найдя их ни в камнях, ни на старых позициях, вышел на берег уже не для поисков, а просто в растерянности. Понял вдруг, что один остался, совсем один, с пробитой рукой, и такая тоска тут на него навалилась, так все в голове спуталось, что к месту этому добрел уже совсем не в себе. И только на колени привстал, чтоб напиться, шепот услышал:
— Федот Евграфыч…
И крик следом:
— Федот Евграфыч!.. Товарищ старшина!..
Голову вздернул, а они через речку бегут. Прямо по воде, юбок не подобрав. Кинулся к ним: тут, в воде, и обнялись. Повисли на нем обе сразу, целуют — грязного, потного, небритого…
— Ну что вы, девчата, что вы!
И сам чуть слезы сдержал. Совсем уж с ресниц свисали: ослаб, видно. Обнял девчат своих за плечи, да так они втроем и пошли на ту сторону. А Комелькова все прижаться норовила, по щеке колючей погладить.
— Эх, девчоночки вы мои, девчоночки! Съели-то хоть кусочек, спали-то хоть вполглазика?
— Не хотелось, товарищ старшина…
— Да какой я вам теперь старшина, сестренки? Я теперь вроде как брат. Вот так Федотом и зовите. Или Федей, как маманя звала…
В кустах у них мешки сложены были, скатки, винтовки. Васков сразу к сидору своему кинулся. Только развязывать стал, Женька спросила:
— А Галка?
Тихо спросила, неуверенно: поняли они уж все. Просто уточнение требовалось. Старшина не ответил. Молча мешок развязал, достал черствый хлеб, сало, фляжку. Налил в три кружки, хлеба наломал, сала нарезал. Роздал бойцам и поднял кружку:
— Погибли наши товарищи смертью храбрых. Четвертак — в перестрелке, а Лиза Бричкина в болоте утопла. Выходит, что с Соней вместе троих мы уже потеряли. Это так. Но ведь зато сутки здесь, в межозерье, противника кружим. Сутки!.. И теперь наш черед сутки выигрывать. А помощи нам не будет, и немцы идут сюда. Так что давайте помянем сестренок наших, а там и бой пора будет принимать. Последний, по всей видимости…
13
Бывает горе — что косматая медведица. Навалится, рвет, терзает — света не взвидишь. А отвалит — и ничего, вроде можно дышать, жить, действовать. Как не было.
А бывает пустячок, оплошность. Мелочь, но за собой мелочь эта такое тянет, что не дай бог никому.
Вот такой пустячок Васков после завтрака обнаружил, когда к бою готовиться стали. Весь сидор свой перетряхнул, по три раза вещь каждую перещупал — нету, пропали.
Запал для второй гранаты и патроны для нагана мелочью были. Но граната без запала — просто кусок железа. Немой кусок, как булыжник.
— Нет у нас теперь артиллерии, девоньки.
С улыбкой сказал, чтоб не расстраивать. А они, дурехи, заулыбались в ответ, засияли.
— Ничего, Федот, отобьемся!
Это Комелькова сказала, чуть на имени споткнувшись. И покраснела. С непривычки, понятное дело, командира трудно по имени называть.
Отстреливаться — три винтаря, два автомата да наган. Не очень-то разгуляешься, как с десятка полоснут. Но, надо полагать, свой лес выручит. Лес да речка.
— Держи, Рита, еще рожок к автомату. Только издаля {16} не стреляй. Через речку из винтовки бей, а автомат прибереги. Как форсировать начнут, он очень даже пригодится. Очень. Поняла ли?
— Поняла, Федот…
И эта запнулась. Усмехнулся Васков:
— Федей, наверно, проще будет. Имечко у меня некруглое, конечно, но уж какое есть…
Все-таки сутки эти даром для немцев не прошли. Втрое они осторожность умножили и поэтому продвигались медленно, за каждый валун заглядывая. Все, что могли, прочесали и появились у берега, когда солнце стояло уже высоко. Все повторялось в точности, только на этот раз лес напротив них не шумел девичьими голосами, а молчал затаенно и угрожающе. И диверсанты угрозу эту почувствовали, долго к воде не совались, хоть и мелькали в кустах на той стороне.
У широкого плеса Федот Евграфыч девчат оставил, лично выбрав им позиции и ориентиры указав. А на себя взял тот мысок, где сутки назад Женька Комелькова собственным телом фрицев остановила. Тут берега почти смыкались, лес по обе стороны от воды начинался, и для форсирования водной преграды лучшего места не было. Именно здесь чаще всего немцы и показывали себя, чтоб вызвать на выстрел какого-либо чересчур уж нервного противника. Но нервных пока не наблюдалось, потому что Васков строго-настрого приказал своим бойцам стрелять лишь тогда, когда фрицы полезут в воду. А до этого — и дышать через раз, чтобы птицы не замолкали.
Все под рукой было, все приготовлено: патроны загодя в каналы стволов досланы и винтовки с предохранителей сняты, чтобы до поры до времени и сорока не затрещала. И старшина почти спокойно на тот берег глядел, только рука проклятая ныла, как застуженный зуб.
А там, на той стороне, все наоборот было: и птицы примолкли, и сорока надрывалась. И все это сейчас Федот Евграфыч примечал, оценивал и по полочкам раскладывал, чтоб поймать тот момент, когда фрицам надоест в гляделки играть.
Но первый выстрел не ему сделать довелось, и хоть ждал его старшина, а все же вздрогнул. Слева он ударил, ниже по течению, а за ним еще и еще. Васков глянул: на плесе немец из воды к берегу на карачках лез, к своим лез, назад, и пули вокруг него щелкали, а не задевали. И фриц бежал на четвереньках, волоча ногу по шумливому галечнику.
Тут ударили автоматы, прикрывая подбитого, и старшина совсем уж было вскочить хотел, к своим кинуться, да удержался. И вовремя: сквозь кусты к берегу той стороны сразу четверо скатились, рассчитывая, видно, под огневым прикрытием речушку перебежать и в лесу исчезнуть. С винтовкой тут ничего поделать было нельзя, потому что затвор после выстрела передернуть времени бы не хватило, и Федот Евграфыч взял автомат. И только нажал крючок — напротив в кустах два огонька полыхнули, и пулевой веер разорвал воздух над его головой.
Одно знал Васков в этом бою: не отступать. Не отдавать немцам ни клочка на этом берегу. Как ни тяжело, как ни безнадежно — держать. Держать эту позицию, а то сомнут — и все тогда. И такое чувство у него было, словно именно за его спиной вся Россия сошлась, словно именно он, Федот Евграфыч Васков, был сейчас ее последним сынком и защитником. И не было во всем мире больше никого: лишь он, враг да Россия.
Только девчат еще слушал каким-то третьим ухом, бьют еще винтовочки или нет. Бьют — значит, живы. Значит, держат свой фронт, свою Россию. Держат!..
И даже когда там гранаты начали рваться, он не испугался. Он уже чувствовал, что вот-вот должна передышка наступить, потому что не могли немцы вести затяжной бой с противником, сил которого не знали. Им тоже оглядеться требовалось, карты свои перетасовать, а уж потом сдавать по новой. Та четверка, что перла прямо на него, тут же и отошла, да так ловко, что он и заметить не успел, подшиб ли кого. Втянулись в кусты, постреляли для острастки и снова замерли, и лишь дымок еще висел над водой.
Несколько минут выиграно было. Счет, правда, сегодня не на минуты должен был бы идти, потому что помощи ниоткуда не предвиделось, но все же куснули они противника, показали зубы, и второй раз он в этом месте так просто не полезет. Он где-то еще попытается щелочку найти: скорее всего, выше по течению, потому что ниже плеса каменные лбы срывались круто в реку. Значит, следовало тотчас же перебежать правее, а тут, на своем месте, на всякий случай оставить кого-либо из девчат…
Не успел Васков своей диспозиции додумать: шаги за спиной помешали. Оглянулся: Комелькова прямиком сквозь кусты ломит.
— Пригнись!..
— Скорее!.. Рита!..
Что с Ритой, не стал Федот Евграфыч спрашивать: по глазам понял. Схватил оружие, раньше Комельковой домчался. Осянина, скорчившись, сидела под сосной, упираясь спиной в ствол. Силилась улыбнуться серыми губами, то и дело облизывая их, а по рукам, накрест зажавшим живот, текла кровь.
— Чем? — только и спросил Васков.
— Граната…
Положил Риту на спину, за руки взял — не хотела принимать, боли боялась. Отстранил мягко и понял, что все… Даже разглядеть было трудно, что там, потому что смешалось все — и кровь, и рваная гимнастерка, и вмятый туда, в живое, солдатский ремень.
— Тряпок! — крикнул.— Белье давай!
Женька трясущимися руками уже рвала свой мешок, уже совала что-то легкое, скользкое…
— Да не шелк! Льняное давай!..
— Нету…
— А, леший!..— метнулся к сидору, начал развязывать. Затянул, как на грех…
— Немцы…— одними губами сказала Рита.— Где немцы?
Женька секунду смотрела на нее в упор, а потом, схватив автомат, кинулась к берегу, уже не оглядываясь.
Старшина достал рубашку с кальсонами, два бинта запасных, вернулся. Рита что-то пыталась сказать — не слушал. Ножом распорол гимнастерку, юбку, белье, кровью набрякшие,— зубы стиснул. Наискось прошел осколок, живот разворотив: сквозь черную кровь вздрагивали сизые внутренности. Наложив сверху рубаху, стал бинтовать.
— Ничего, Рита, ничего… Он поверху прошел: кишки целые. Заживет…
Полоснула от берега очередь. И снова застучало все кругом, посыпалась листва, а Васков бинтовал и бинтовал, и тряпки тут же намокали от крови.
— Иди… туда иди…— с трудом сказала Рита.— Женька там…
Рядом прошла очередь. Не поверху — по ним, прицельно, только не зацепила. Старшина оглянулся, вырвал наган, выстрелил дважды по мелькнувшей фигуре: немцы перешли реку.
А Женькин автомат еще бил где-то, еще огрызался, все дальше и дальше уходя в лес. И Васков понял, что Комелькова, отстреливаясь, уводит сейчас немцев за собой. Уводит, да не всех: еще где-то мелькнул диверсант, и еще раз выстрелил по нему старшина. Надо было уходить, уносить Осянину, потому что немцы кружили рядом и каждая секунда могла оказаться последней.
Он поднял Риту на руки, не слушая, что шепчет она серыми искусанными губами. Хотел винтовку прихватить — не смог и побежал в кусты, чувствуя, что с каждым шагом уходят силы из пробитой, ноющей зубной болью левой руки.
Остались под сосной вещмешки, винтовки, скатки да отброшенное старшиной Женькино белье. Молодое, легкое, кокетливое…
Красивое белье было Женькиной слабостью. От многого она могла отказаться с легкостью, потому что характер ее был весел и улыбчив, но подаренные матерью перед самой войной гарнитуры упорно таскала в армейских вещмешках. Хоть и получала за это постоянные выговоры, наряды вне очереди и прочие солдатские неприятности.
Особенно одна комбинашка была — с ума сойти. Даже Женькин отец фыркнул:
— Ну, Женька, это чересчур. Куда готовишься?
— На вечер! — гордо сказала Женька, хотя и знала, что он имел в виду совсем другое.
Они хорошо друг друга понимали.
— На кабанов пойдешь со мной?
— Не пущу! — пугалась мать.— С ума сошел: девочку на охоту таскать.
— Пусть привыкает! — смеялся отец.— Дочка красного командира ничего не должна бояться.
И Женька ничего не боялась. Скакала на лошадях, стреляла в тире, сидела с отцом в засаде на кабанов, гоняла на отцовском мотоцикле по военному городку. А еще танцевала на вечерах цыганочку и матчиш, пела под гитару и крутила романы с затянутыми в рюмочку лейтенантами. Легко крутила, для забавы, не влюбляясь.
— Женька, совсем ты голову лейтенанту Сергейчуку заморочила. Докладывает мне сегодня: «Товарищ Евг… генерал…»
— Врешь ты все, папка!..
Счастливое было время, веселое, а мать все хмурилась да вздыхала: взрослая девушка, барышня уже, как в старину говорили, а ведет себя… Непонятно ведет: то тир, лошади да мотоцикл, то танцульки до зари, лейтенанты с ведерными букетами, серенады под окнами да письма в стихах.
— Женечка, нельзя же так. Знаешь, что о тебе в городке говорят?
— Пусть болтают, мамочка!
— Говорят, что тебя с полковником Лужиным несколько раз встречали. А ведь у него семья, Женечка. Разве ж можно?..
— Нужен мне Лужин!..— Женька передергивала плечами и убегала.
А Лужин был красив, таинствен и героичен: за Халхин-Гол имел орден Красного Знамени, за финскую — Звездочку. И мать чувствовала, что Женька избегает этих разговоров не просто так. Чувствовала и боялась…
Лужин-то Женьку и подобрал, когда она одна-одинешенька перешла фронт после гибели родных. Подобрал, защитил, пригрел и не то чтобы воспользовался беззащитностью — прилепил ее к себе. Тогда нужна была ей эта опора, нужно было приткнуться, выплакаться, пожаловаться, приласкаться и снова найти себя в этом грозном военном мире. Все было как надо,— Женька не расстраивалась. Она вообще никогда не расстраивалась. Она верила в себя и сейчас, уводя немцев от Осяниной, ни на мгновение не сомневалась, что все кончится благополучно.
И даже когда первая пуля ударила в бок, она просто удивилась. Ведь так глупо, так несуразно и неправдоподобно было умирать в девятнадцать лет…
А немцы ранили ее вслепую, сквозь листву, и она могла бы затаиться, переждать и, может быть, уйти. Но она стреляла, пока были патроны. Стреляла лежа, уже не пытаясь убегать, потому что вместе с кровью уходили и силы. И немцы добили ее в упор, а потом долго смотрели на ее и после смерти гордое и прекрасное лицо…
14
Рита знала, что рана ее смертельна и что умирать она будет долго и трудно. Пока боли почти не было, только все сильнее пекло в животе и хотелось пить. Но пить было нельзя, и Рита просто мочила в лужице тряпочку и прикладывала к губам.
Васков спрятал ее под еловым выворотнем, забросал ветками и ушел. По тому времени еще стреляли, но вскоре все вдруг затихло, и Рита заплакала. Плакала беззвучно, без вздохов, просто по лицу текли слезы: она поняла, что Женьки больше нет…
А потом и слезы пропали. Отступили перед тем огромным, что стояло сейчас перед ней, с чем нужно было разобраться, к чему следовало подготовиться. Холодная черная бездна распахивалась у ее ног, и Рита мужественно и сурово смотрела в нее.
Она не жалела себя, своей жизни и молодости, потому что все время думала о том, что было куда важнее, чем она сама. Сын ее оставался сиротой, оставался совсем один на руках у болезненной матери, и Рита гадала сейчас, как переживет он войну и как потом сложится его жизнь.
Вскоре вернулся Васков. Разбросал ветки, молча сел рядом, обхватив раненую руку и покачиваясь.
— Женя погибла?
Он кивнул. Потом сказал:
— Мешков наших нет. Ни мешков, ни винтовок. Либо с собой унесли, либо спрятали где.
— Женя сразу… умерла?
— Сразу,— сказал он, и она почувствовала, что он говорит неправду.— Они ушли. За взрывчаткой, видно…— Он поймал ее тусклый, все понимающий взгляд, выкрикнул вдруг: — Не победили они нас, понимаешь? Я еще живой, меня еще повалить надо!..
Он замолчал, стиснув зубы, закачался, баюкая руку.
— Болит?
— Здесь у меня болит.— Он ткнул в грудь.— Здесь свербит, Рита. Так свербит!.. Положил ведь я вас, всех пятерых положил, а за что? За десяток фрицев?
— Ну, зачем так… Все же понятно, война.
— Пока война, понятно. А потом, когда мир будет? Будет понятно, почему вам умирать приходилось? Почему я фрицев этих дальше не пустил, почему такое решение принял? Что ответить, когда спросят: что ж это вы, мужики, мам наших от пуль защитить не могли? Что ж это вы со смертью их оженили, а сами целенькие? Дорогу Кировскую берегли да Беломорский канал? Да там ведь тоже, поди, охрана, там ведь людишек куда больше, чем пятеро девчат да старшина с наганом!
— Не надо,— тихо сказала она.— Родина ведь не с каналов начинается. Совсем не оттуда. А мы ее защищали. Сначала ее, а уж потом канал.
— Да…— Васков тяжело вздохнул, помолчал.— Ты полежи покуда, я вокруг погляжу. А то наткнутся — и концы нам.— Он достал наган, зачем-то старательно обтер его рукавом.— Возьми. Два патрона, правда, осталось, но все-таки спокойнее с ним.
— Погоди.— Рита глядела куда-то мимо его лица, в перекрытое ветвями небо.— Помнишь, на немцев я у разъезда наткнулась? Я тогда к маме в город бегала. Сыночек у меня там, три годика. Аликом зовут, Альбертом. Мама больна очень, долго не проживет, а отец мой без вести пропал.
— Не тревожься, Рита, понял я все.
— Спасибо тебе.— Она улыбнулась бесцветными губами.— Просьбу мою последнюю выполнишь?
— Нет,— сказал он.
— Бессмысленно это, все равно ведь умру. Только намучаюсь.
— Я разведку произведу и вернусь. К ночи до своих доберемся.
— Поцелуй меня,— вдруг сказала она.
Он неуклюже наклонился, застенчиво ткнулся губами в лоб.
— Колючий…— еле слышно сказала она, закрыв глаза.— Иди. Завали меня ветками и иди.
По серым, проваленным щекам ее медленно текли слезы. Федот Евграфыч тихо поднялся, аккуратно прикрыл Риту ветками и быстро зашагал к речке, навстречу немцам.
В кармане тяжело покачивалась бесполезная граната. Единственное его оружие…
Он скорее почувствовал, чем расслышал этот слабый, утонувший в ветках выстрел. Замер, вслушиваясь в лесную тишину, а потом, еще боясь поверить, побежал назад, к огромной вывороченной ели.
Рита выстрелила в висок, и крови почти не было. Синие порошинки густо окаймили пулевое отверстие, и Васков почему-то особенно долго смотрел на них. Потом отнес Риту в сторону и начал рыть яму в том месте, где она до этого лежала.
Здесь земля мягкой была, податливой. Рыхлил ее палкой, руками выгребал наружу, рубил корни ножом, быстро вырыл, еще быстрее зарыл и, не дав себе отдыха, пошел туда, где лежала Женя. А рука ныла без удержу, по-дурному ныла, накатами, и Комелькову он схоронил плохо. И все время думал об этом, и жалел, шептал пересыхающими губами:
— Прости, Женечка, прости…
Покачиваясь и оступаясь, он брел через Синюхину гряду навстречу немцам. В руке намертво был зажат наган с последним патроном, и он хотел сейчас только, чтоб немцы скорее повстречались и чтоб он успел свалить еще одного. Потому что сил уже не было. Совсем не было сил — только боль. Во всем теле…
Белые сумерки тихо плыли над прогретыми камнями. Туман уже копился в низинах, ветерок сник, и комары тучей висели над старшиной. А ему чудились в этом белесом мареве его девчата, все пятеро, и он все время шептал что-то и горестно качал головой. А немцев все не было. Не попадались они ему, не стреляли, хотя шел он грузно и открыто и искал этой встречи. Пора было кончать эту войну, пора было ставить точку, и последняя эта точка хранилась в сизом канале его нагана.
У него не было сейчас цели, было только желание. Он не кружил, не искал следов, а шел прямо, как заведенный. А немцев все не было и не было…
Он уже миновал соснячок и шел теперь по лесу, с каждой минутой приближаясь к скиту Легонта, где утром так просто добыл себе оружие. Он не думал, зачем идет именно туда, но безошибочный охотничий инстинкт вел его именно этим путем, и он подчинялся ему. И, подчиняясь только ему, он вдруг замедлил шаги, прислушался и скользнул в кусты.
В сотне метров начиналась поляна с прогнившим колодезным срубом и въехавшей в землю избой. И эту сотню метров Васков прошел беззвучно и невесомо. Он знал, что там враг, знал точно и необъяснимо, как волк знает, откуда выскочит на него заяц.
В кустах у поляны он замер и долго стоял не шевелясь, глазами обшаривая сруб, возле которого уже не было убитого им немца, покосившийся скит, темные кусты по углам. Ничего не было там особенного, ничего не замечалось, но старшина терпеливо ждал. И когда от угла избы чуть проплыло смутное пятно, он не удивился. Он уже знал, что именно там стоит часовой.
Он шел к нему долго, бесконечно долго. Медленно, как во сне, поднимал ногу, невесомо опускал ее на землю и не переступал — переливал тяжесть по капле, чтоб не скрипнула ни одна веточка. В этом странном птичьем танце он обошел поляну и оказался за спиной неподвижного часового. И еще медленнее, еще плавнее двинулся к этой широкой темной спине. Не пошел — поплыл.
И в шаге остановился. Он долго сдерживал дыхание и теперь ждал, пока успокоится сердце. Он давно уже сунул в кобуру наган, держал в правой руке нож и сейчас, чувствуя тяжелый запах чужого тела, медленно, по миллиметру заносил финку для одного-единственного, решающего удара.
И еще копил силы. Их было мало. Очень мало, а левая рука уже ничем не могла помочь.
Он все вложил в этот удар, все, до последней капли. Немец почти не вскрикнул, только странно, тягуче вздохнул и сунулся на колени. Старшина рванул скособоченную дверь, прыжком влетел в избу:
— Хенде хох!..
А они спали. Отсыпались перед последним броском к железке. Только один не спал, в угол метнулся, к оружию, но Васков уловил этот прыжок и почти в упор всадил в немца пулю. Грохот ударил в низкий потолок, немца швырнуло в стену, а старшина забыл вдруг все немецкие слова и только хрипло кричал:
— Лягайт!.. Лягайт!.. Лягайт!..
И ругался черными словами. Самыми черными, какие знал.
…Нет, не крика они испугались, не гранаты, которой размахивал старшина. Просто подумать не могли, в мыслях представить даже, что один он, на много верст один-одинешенек. Не вмещалось это понятие в фашистские их мозги, и потому на пол легли: мордами вниз, как велел. Все четверо легли: пятый, прыткий самый, уж на том свете числился.
И повязали друг друга ремнями, аккуратно повязали, а последнего Федот Евграфыч лично связал. И заплакал. Слезы текли по грязному, небритому лицу, он трясся в ознобе и смеялся сквозь эти слезы, и кричал:
— Что, взяли?.. Взяли, да?.. Пять девчат, пять девочек было всего, всего пятеро!.. А не прошли вы, никуда не прошли и сдохнете здесь, все сдохнете!.. Лично каждого убью, лично, даже если начальство помилует! А там пусть судят меня! Пусть судят!..
А рука ныла, так ныла, что горело все в нем и мысли путались. И потому он особо боялся сознание потерять и цеплялся за него, из последних силенок цеплялся…
Тот, последний путь он уже никогда не мог вспомнить. Колыхались впереди немецкие спины, болтались из стороны в сторону, потому что шатало Васкова, будто в доску пьяного. И ничего он не видел, кроме этих четырех спин, и об одном только думал: успеть выстрелить, если сознание потеряет. А оно на последней паутинке висело, и боль такая во всем теле горела, что рычал он от боли той. Рычал и плакал: обессилел, видно, вконец.
И лишь тогда он сознанию своему оборваться разрешил, когда окликнули их и когда понял он, что навстречу идут свои. Русские…
Эпилог
«…Привет, старик!
Ты там доходишь на работе, а мы ловим рыбешку в непыльном уголке. Правда, комары проклятые донимают, но жизнь все едино райская! Давай, старик, цыгань отпуск и рви к нам. Тут полное безмашинье и безлюдье. Раз в неделю шлепает к нам моторка с хлебушком, а так хоть телешом весь день гуляй. К услугам туристов два шикарных озера с окунями и речка с хариусами. А уж грибов!..
Впрочем, сегодня моторкой приехал какой-то старикан: седой, коренастый, без руки, и с ним капитан-ракетчик. Капитана величают Альбертом Федотычем (представляешь?), а своего старикана он именует посконно и домоткано — тятей. Что-то они тут стали разыскивать — я не вникал…
…Вчера не успел дописать, кончаю утром.
Здесь, оказывается, тоже воевали… Воевали, когда нас с тобой еще не было на свете.
Альберт Федотыч и его отец привезли мраморную плиту. Мы разыскали могилу — она за речкой, в лесу. Отец капитана нашел ее по каким-то своим приметам. Я хотел помочь им донести плиту и — не решился.
А зори здесь тихие-тихие, только сегодня и разглядел».
1969
В СПИСКАХ НЕ ЗНАЧИЛСЯ Роман
Часть первая
1
За всю жизнь Коле Плужникову не встречалось столько приятных неожиданностей, сколько выпало в последние три недели. Приказ о присвоении ему, Николаю Петровичу Плужникову, воинского звания он ждал давно {17}, но вслед за приказом приятные неожиданности посыпались в таком изобилии, что Коля просыпался по ночам от собственного смеха.
После утреннего построения, на котором был зачитан приказ, их сразу же повели в вещевой склад. Нет, не в общий, курсантский, а в тот, заветный, где выдавались немыслимой красоты хромовые сапоги, хрустящие портупеи, негнущиеся кобуры, командирские сумки с гладкими лаковыми планшетками, шинели на пуговицах и гимнастерки из строгой диагонали. А потом все, весь выпуск, бросились к училищным портным, чтобы подогнать обмундирование и в рост и в талию, чтобы влиться в него, как в собственную кожу. И там толкались, возились и так хохотали, что под потолком начал раскачиваться казенный эмалированный абажур.
Вечером сам начальник училища поздравлял каждого с окончанием, вручал «Удостоверение личности командира РККА» и увесистый ТТ. Безусые лейтенанты оглушительно выкрикивали номер пистолета и изо всей силы тискали сухую генеральскую ладонь. А на банкете восторженно качали командиров учебных взводов и порывались свести счеты со старшиной. Впрочем, все обошлось благополучно, и вечер этот — самый прекрасный из всех вечеров — начался и закончился торжественно и красиво.
Почему-то именно в ночь после банкета лейтенант Плужников обнаружил, что он хрустит. Хрустит приятно, громко и мужественно. Хрустит свежей кожей портупеи, необмятым обмундированием, сияющими сапогами. Хрустит весь, как новенький рубль, которого {18} за эту особенность мальчишки тех лет запросто называли «хрустом».
Собственно, все началось несколько раньше. На бал, который последовал после банкета, вчерашние курсанты явились с девушками. А у Коли девушки не было, и он, запинаясь, пригласил библиотекаршу Зою. Зоя озабоченно поджала губы, сказала задумчиво: «Не знаю, не знаю…», но пришла. Они танцевали, и Коля от жгучей застенчивости все говорил и говорил, а так как Зоя работала в библиотеке, то говорил он о русской литературе. Зоя сначала поддакивала, а в конце обидчиво оттопырила неумело накрашенные губы:
— Уж больно вы хрустите, товарищ лейтенант.
На училищном языке это означало, что лейтенант Плужников задается. Тогда Коля так это и понял, а придя в казарму, обнаружил, что хрустит самым натуральным и приятным образом.
— Я хрущу,— не без гордости сообщил он своему другу и соседу по койке.
Они сидели на подоконнике в коридоре второго этажа. Было начало июня, и ночи в училище пахли сиренью, которую никому не разрешалось ломать.
— Хрусти себе на здоровье,— сказал друг.— Только, знаешь, не перед Зойкой: она — дура, Колька. Она жуткая дура и замужем за старшиной из взвода боепитания.
Но Колька слушал вполуха, потому что изучал хруст. И хруст этот очень ему нравился.
На следующий день ребята стали разъезжаться: каждому полагался отпуск. Прощались шумно, обменивались адресами, обещали писать и один за другим исчезали за решетчатыми воротами училища.
А Коле проездные документы почему-то не выдавали (правда, езды было всего ничего: до Москвы). Коля подождал два дня и только собрался идти узнавать, как дневальный закричал издали:
— Лейтенанта Плужникова к комиссару!..
Комиссар, очень похожий на вдруг постаревшего артиста Чиркова, выслушал доклад, пожал руку, указал, куда сесть, и молча предложил папиросы.
— Я не курю,— сказал Коля и начал краснеть: его вообще кидало в жар с легкостью необыкновенной.
— Молодец,— сказал комиссар.— А я, понимаешь, все никак бросить не могу, не хватает у меня силы воли.
И закурил. Коля хотел было посоветовать, как следует закалять волю, но комиссар заговорил вновь:
— Мы знаем вас, лейтенант, как человека исключительно добросовестного и исполнительного. Знаем также, что в Москве у вас мать с сестренкой, что не видели вы их два года и соскучились. И отпуск вам положен.— Он помолчал, вылез из-за стола, прошелся, сосредоточенно глядя под ноги.— Все это мы знаем и все-таки решили обратиться с просьбой именно к вам… Это — не приказ, это — просьба, учтите, Плужников. Приказывать мы вам уже права не имеем…
— Я слушаю, товарищ полковой комиссар.— Коля вдруг решил, что ему предложат идти работать в разведку, и весь напрягся, готовый оглушительно заорать: «Да!..»
— Наше училище расширяется,— сказал комиссар.— Обстановка сложная, в Европе — война, и нам необходимо иметь как можно больше общевойсковых командиров. В связи с этим мы открываем еще две учебные роты. Но штаты их пока не укомплектованы, а имущество уже поступает. Вот мы и просим вас, товарищ Плужников, помочь с этим имуществом разобраться. Принять его, оприходовать…
И Коля Плужников остался в училище на странной должности «куда пошлют». Весь курс его давно разъехался, давно крутил романы, загорал, купался, танцевал, а Коля прилежно считал постельные комплекты, погонные метры портянок и пары яловых сапог. И писал всякие докладные.
Так прошло две недели. Две недели Коля терпеливо, от подъема до отбоя и без выходных, получал, считал и приходовал имущество, ни разу не выйдя за ворота, словно все еще был курсантом и ждал увольнительной от сердитого старшины.
В июне народу в училище осталось мало: почти все уже выехали в лагеря. Обычно Коля ни с кем не встречался, по горло занятый бесконечными подсчетами, ведомостями и актами, но как-то с радостным удивлением обнаружил, что его… приветствуют. Приветствуют по всем правилам армейских уставов, с курсантским шиком выбрасывая ладонь к виску и лихо вскидывая подбородок. Коля изо всех сил старался отвечать с усталой небрежностью, но сердце его сладко замирало в приступе молодого тщеславия.
Вот тогда-то он и начал гулять по вечерам. Заложив руки за спину, шел прямо на группки курсантов, куривших перед сном у входа в казарму. Утомленно глядел строго перед собой, а уши росли и росли, улавливая осторожный шепот:
— Командир…
И, уже зная, что вот-вот ладони упруго взлетят к вискам, старательно хмурил брови, стремясь придать своему круглому, свежему, как французская булка, лицу выражение невероятной озабоченности…
— Здравствуйте, товарищ лейтенант.
Это было на третий вечер: носом к носу — Зоя. В теплых сумерках холодком сверкали белые зубы, а многочисленные оборки шевелились сами собой, потому что никакого ветра не было. И этот живой трепет был особенно пугающим.
— Что-то вас нигде не видно, товарищ лейтенант. И в библиотеку вы больше не приходите…
— Работа.
— Вы при училище оставлены?
— У меня особое задание,— туманно сказал Коля.
Они почему-то уже шли рядом и совсем не в ту сторону. Зоя говорила и говорила, беспрерывно смеясь; он не улавливал смысла, удивляясь, что так покорно идет не в ту сторону. Потом он с беспокойством подумал, не утратило ли его обмундирование романтичного похрустывания, повел плечом, и портупея тотчас же ответила тугим благородным скрипом…
— …Жутко смешно! Мы так смеялись, так смеялись… Да вы не слушаете, товарищ лейтенант.
— Нет, я слушаю. Вы смеялись.
Она остановилась: в темноте вновь блеснули ее зубы. И он уже не видел ничего, кроме этой улыбки.
— Я ведь нравилась вам, да? Ну, скажите, Коля, нравилась?..
— Нет,— шепотом ответил он.— Просто… Не знаю. Вы ведь замужем.
— Замужем?..— Она шумно засмеялась: — Замужем, да? Вам сказали? Ну и что же, что замужем? Я случайно вышла за него, это была ошибка…
Каким-то образом он взял ее за плечи. А может быть, и не брал, а она сама так ловко повела ими, что его руки оказались [вдруг] на ее плечах.
— Между прочим, он уехал,— деловито сказала она.— Если пройти по этой аллейке до забора, а потом вдоль забора до нашего дома, так никто и не заметит. Вы хотите чаю, Коля, правда?..
Он уже хотел чаю, но тут темное пятно двинулось на них из аллейного сумрака, наплыло и сказало:
— Извините.
— Товарищ полковой комиссар! — отчаянно крикнул Коля, бросившись за шагнувшей в сторону фигурой.— Товарищ полковой комиссар, я…
— Товарищ Плужников? Что же это вы девушку оставили? Ай, ай.
— Да, да, конечно.— Коля метнулся назад, сказал торопливо: — Зоя, извините. Дела. Служебные дела.
Что Коля бормотал комиссару, выбираясь из сиреневой аллеи на спокойный простор училищного плаца, он намертво забыл уже через час. Что-то насчет портяночного полотна нестандартной ширины или, кажется, стандартной ширины, но зато не совсем полотна… Комиссар слушал-слушал, а потом спросил:
— Это что же, подруга ваша была?
— Нет, нет, что вы! — испугался Коля.— Что вы, товарищ полковой комиссар, это же Зоя, из библиотеки. Я ей книгу не сдал, вот и…
И замолчал, чувствуя, что краснеет: он очень уважал добродушного пожилого комиссара и врать стеснялся. Впрочем, комиссар заговорил о другом, и Коля кое-как пришел в себя.
— Это хорошо, что документацию вы не запускаете: мелочи в нашей военной жизни играют огромную дисциплинирующую роль. Вот, скажем, гражданский человек иногда может себе кое-что позволить, а мы, кадровые командиры Красной Армии, не можем. Не можем, допустим, пройтись с замужней женщиной, потому что мы на виду, мы обязаны всегда, каждую минуту быть для подчиненных образцом дисциплины. И очень хорошо, что вы это понимаете… Завтра, товарищ Плужников, в одиннадцать тридцать прошу прибыть ко мне. Поговорим о вашей дальнейшей службе, может быть, пройдем к генералу.
— Есть…
— Ну, значит, до завтра.— Комиссар подал руку, задержал, сказал тихо {19}: — А книжку в библиотеку придется вернуть, Коля! Придется!..
Очень, конечно, получилось нехорошо, что пришлось обмануть товарища полкового комиссара, но Коля почему-то не слишком огорчился. В перспективе ожидалось возможное свидание с начальником училища, и вчерашний курсант ждал этого свидания с нетерпением, страхом и трепетом, словно девушка — встречи с первой любовью. Он встал задолго до подъема, надраил до самостоятельного свечения хрустящие сапоги, подшил свежий подворотничок и начистил все пуговицы. В комсоставской столовой — Коля чудовищно гордился, что кормится в этой столовой и лично расплачивается за еду,— он ничего не мог есть, а только выпил три порции компота из сухофруктов. И ровно в одиннадцать прибыл к комиссару.
— А, Плужников, здорово! — Перед дверью комиссарского кабинета сидел лейтенант Горобцов — бывший командир Колиного учебного взвода,— тоже начищенный, выутюженный и затянутый.— Как делишки? Закругляешься с портяночками?
Плужников был человеком обстоятельным и поэтому поведал о своих делах все, втайне удивляясь, почему лейтенант Горобцов не интересуется, что он, Коля, тут делает. И закончил с намеком:
— Вчера товарищ полковой комиссар [меня тоже о делах] расспрашивал. И велел…
— Слушай, Плужников,— понизив голос, вдруг перебил Горобцов.— Если тебя к Величко будут сватать, ты не ходи. Ты ко мне просись, ладно? Мол, давно вместе служим, сработались…
Лейтенант Величко тоже был командиром учебного взвода, но — второго, и вечно спорил с лейтенантом Горобцовым по всем поводам. Коля ничего не понял из того, что сообщил ему Горобцов, но вежливо покивал. А когда раскрыл рот, чтобы попросить разъяснений, распахнулась дверь комиссарского кабинета и вышел сияющий и тоже очень парадный лейтенант Величко.
— Роту дали,— сказал он Горобцову.— Желаю того же!
Горобцов вскочил, привычно одернул гимнастерку, согнав одним движением все складки назад, и вошел в кабинет.
— Привет, Плужников,— сказал Величко и сел рядом.— Ну, как дела в общем и целом? Все сдал и все принял?
— В общем, да.— Коля вновь обстоятельно рассказал о своих делах. Только ничего не успел намекнуть насчет комиссара, потому что нетерпеливый Величко перебил раньше:
— Коля, будут предлагать — просись ко мне. Я там несколько слов сказал, но ты, в общем и целом, просись.
— Куда проситься?
Тут в коридор вышли полковой комиссар и лейтенант Горобцов, и Величко с Колей вскочили. Коля начал было «по вашему приказанию…», но комиссар не дослушал:
— Идем, товарищ Плужников, генерал ждет. Вы свободны, товарищи командиры.
К начальнику училища они прошли не через приемную, где сидел дежурный, а через пустую комнату. В глубине этой комнаты была дверь, в которую комиссар вышел, оставив озадаченного Колю одного.
До сих пор Коля встречался с генералом, когда генерал вручал ему удостоверение и личное оружие, которое так приятно оттягивало бок. Была, правда, еще одна встреча, но Коля о ней вспоминать стеснялся, а генерал навсегда забыл.
Встреча эта состоялась два года назад, когда Коля — еще гражданский, но уже стриженный под машинку — вместе с другими стрижеными только-только прибыл с вокзала в училище. Прямо на плацу они сгрузили чемоданы, и усатый старшина (тот самый, которого они порывались отлупить после банкета) приказал всем идти в баню. Все и пошли — еще без строя, гуртом, громко разговаривая и смеясь,— а Коля замешкался, потому что натер ногу и сидел босиком. Пока он напяливал ботинки, все уже скрылись за углом; Коля вскочил, хотел было кинуться следом, но тут его вдруг окликнули:
— Куда же вы, молодой человек?
Сухонький, небольшого роста генерал сердито смотрел на него.
— Здесь армия, и приказы в ней исполняются беспрекословно. Вам приказано охранять имущество, вот и охраняйте, пока не придет смена или не отменят приказ.
Приказа Коле никто не давал, но Коля уже не сомневался, что приказ этот как бы существовал сам собой. И поэтому, неумело вытянувшись и сдавленно крикнув: «Есть, товарищ генерал!», остался при чемоданах.
А ребята, как на грех, куда-то провалились. Потом выяснилось, что после бани они получили курсантское обмундирование, и старшина повел их в портняжную мастерскую, чтобы каждый подогнал одежду по фигуре. Все это заняло уйму времени, а Коля покорно стоял возле никому не нужных вещей. Стоял и чрезвычайно гордился этим, словно охранял склад с боеприпасами. И никто на него не обращал внимания, пока за вещами не пришли двое хмурых курсантов, получивших внеочередные наряды за вчерашнюю самоволку.
— Не пущу! — закричал Коля.— Не смейте приближаться!..
— Чего? — довольно грубо поинтересовался один из штрафников.— Вот сейчас дам по шее…
— Назад! — воодушевленно заорал Плужников.— Я — часовой! Я приказываю!..
Оружия у него, естественно, не было, но он так вопил, что курсанты на всякий случай решили не связываться. Пошли за старшим по наряду, но Коля и ему не подчинился и потребовал либо смены, либо отмены. А поскольку никакой смены не было и быть не могло, то стали выяснять, кто назначил его на этот пост. Однако Коля в разговоры вступать отказался и шумел до тех пор, пока не явился дежурный по училищу. Красная повязка подействовала, но, сдав пост, Коля не знал, куда идти и что делать. И дежурный тоже не знал, а когда разобрались, баня уже закрылась, и Коле пришлось еще сутки прожить штатским человеком, но зато навлечь на себя мстительный гнев старшины…
И вот сегодня предстояло в третий раз встретиться с генералом. Коля желал этого и отчаянно трусил, потому что верил в таинственные слухи об участии генерала в испанских событиях. А поверив, не мог не бояться глаз, совсем еще недавно видевших настоящих фашистов и настоящие бои.
Наконец-то приоткрылась дверь, и комиссар поманил его пальцем. Коля поспешно одернул гимнастерку, облизнул пересохшие вдруг губы и шагнул за глухие портьеры.
Вход был напротив официального, и Коля оказался за сутулой генеральской спиной. Это несколько смутило его, и доклад он прокричал не столь отчетливо, как надеялся. Генерал выслушал и указал на стул перед столом. Коля сел, положив руки на колени и неестественно выпрямившись. Генерал внимательно поглядел на него, надел очки (Коля чрезвычайно расстроился, увидев эти очки!..) и стал читать какие-то листки, подшитые в красную папку: Коля еще не знал, что именно так выглядит его, лейтенанта Плужникова, «Личное дело».
— Все пятерки — и одна тройка? — удивился генерал.— Отчего же тройка?
— Тройка по матобеспечению,— сказал Коля, густо, как девушка, покраснев.— Я пересдам, товарищ генерал.
— Нет, товарищ лейтенант, поздно уже,— усмехнулся генерал.
— Отличные характеристики со стороны комсомола и со стороны товарищей,— негромко сказал комиссар.
— Угу,— подтвердил генерал, снова погружаясь в чтение.
Комиссар отошел к открытому окну, закурил и улыбнулся Коле, как старому знакомому. Коля в ответ вежливо шевельнул губами и вновь напряженно уставился в генеральскую переносицу.
— А вы, оказывается, отлично стреляете? — спросил генерал.— Призовой, можно сказать, стрелок.
— Честь училища защищал,— подтвердил комиссар.
— Прекрасно.— Генерал закрыл красную папку, отодвинул ее и снял очки.— У нас есть к вам предложение, товарищ лейтенант.
Коля с готовностью подался вперед, не проронив ни слова. После должности уполномоченного по портянкам он уже не надеялся на разведку.
— Мы предлагаем вам остаться при училище командиром учебного взвода,— сказал генерал.— Должность ответственная. Вы какого года?
— Я родился двенадцатого апреля тысяча девятьсот двадцать второго года! — отбарабанил Коля.
Он сказал машинально, потому что лихорадочно соображал, как поступить. Конечно, предлагаемая должность была для вчерашнего выпускника чрезвычайно почетной, но Коля не мог вот так, вдруг вскочить и заорать: «С удовольствием, товарищ генерал!» Не мог потому, что командир — он был твердо убежден в этом — становится настоящим командиром, только послужив в войсках, похлебав с бойцами из одного котелка, научившись командовать ими. А он хотел стать таким командиром и поэтому пошел в общевойсковое училище, когда все бредили авиацией или, на крайний случай, танками.
— Через три года вы будете иметь право поступать в академию,— продолжал генерал.— А судя по всему, вам следует учиться дальше.
— Мы даже предоставим вам право выбора,— улыбнулся комиссар.— Ну, в чью роту хочешь: к Горобцову или к Величко?
— Горобцов ему, наверно, надоел,— усмехнулся генерал.
Коля хотел сказать, что Горобцов совсем ему {20} не надоел, что он отличный командир, но все это ни к чему, потому что он, Николай Плужников, оставаться в училище не собирается. Ему нужна {21} часть, бойцы, потная лямка взводного — все то, что называется коротким словом «служба». Так он хотел сказать, но слова запутались в голове, и Коля вдруг опять начал краснеть.
— Можете закурить, товарищ лейтенант,— сказал генерал, пряча улыбку.— Покурите, обдумайте предложение…
— Не выйдет,— вздохнул полковой комиссар.— Не курит он, вот незадача.
— Не курю,— подтвердил Коля и осторожно прокашлялся.— Товарищ генерал, разрешите?
— Слушаю, слушаю.
— Товарищ генерал, я благодарю вас, конечно, и большое спасибо за доверие. Я понимаю, что это — большая честь для меня, но все-таки разрешите отказаться, товарищ генерал.
— Почему? — Полковой комиссар нахмурился, шагнул от окна.— Что за новости, Плужников?
Генерал молча смотрел на него. Смотрел с явным интересом, и Коля приободрился:
— Я считаю, что каждый командир должен сначала послужить в войсках, товарищ генерал. Так нам говорили в училище, и сам товарищ полковой комиссар на торжественном вечере тоже говорил, что только в войсковой части можно стать настоящим командиром.
Комиссар растерянно кашлянул и вернулся к окну. Генерал по-прежнему смотрел на Колю.
— И поэтому — большое вам, конечно, спасибо, товарищ генерал,— поэтому я очень вас прошу: пожалуйста, направьте меня в часть. В любую часть и на любую должность.
Коля замолчал, и в кабинете возникла пауза. Однако ни генерал, ни комиссар не замечали ее, но Коля чувствовал, как она тянется, и очень смущался.
— Я, конечно, понимаю, товарищ генерал, что…
— А ведь он молодчага, комиссар,— вдруг весело сказал начальник.— Молодчага ты, лейтенант, ей-богу, молодчага!
А комиссар неожиданно рассмеялся и крепко хлопнул Колю по плечу:
— Спасибо за память, Плужников!
И все трое заулыбались так, будто нашли выход из не очень удобного положения.
— Значит, в часть?
— В часть, товарищ генерал.
— Не передумаешь? — Начальник вдруг перешел на «ты» и обращения этого уже не менял.
— Нет.
— И все равно, куда пошлют? — спросил комиссар.— А как же мать, сестренка?.. Отца у него нет, товарищ генерал.
— Знаю.— Генерал спрятал улыбку, смотрел серьезно, барабанил пальцами по красной папке.— Особый Западный устроит, лейтенант?
Коля зарозовел: о службе в особых округах мечтали как о немыслимой удаче.
— Командиром взвода согласен?
— Товарищ генерал!..— Коля вскочил и сразу сел, вспомнив о дисциплине.— Большое, большое спасибо, товарищ генерал!..
— Но с одним условием,— очень серьезно сказал генерал.— Даю тебе, лейтенант, год войсковой практики. А ровно через год я тебя назад затребую, в училище, на должность командира учебного взвода. Согласен?
— Согласен, товарищ генерал. Если прикажете…
— Прикажем, прикажем! — засмеялся комиссар.— Нам такие некурящие страсть как нужны.
— Только есть тут одна неприятность, лейтенант: отпуска у тебя не получается. Максимум в воскресенье ты должен быть в части.
— Да, не придется тебе у мамы в Москве погостить,— улыбнулся комиссар.— Она где там живет?
— На Остоженке… То есть теперь это называется Метростроевская.
— На Остоженке…— вздохнул генерал и, встав, протянул Коле руку: — Ну, счастливо служить, лейтенант. Через год жду, запомни!
— Спасибо, товарищ генерал. До свидания! — прокричал Коля и строевым шагом вышел из кабинета.
В те времена с билетами на поезда было сложно, но комиссар, провожая Колю через таинственную комнату, пообещал билет этот раздобыть. Весь день Коля сдавал дела, бегал с обходным листком, получал в строевом отделе документы. Там его ждала еще одна приятная неожиданность: начальник училища приказом объявлял ему благодарность за выполнение особого задания. А вечером дежурный вручил билет, и Коля Плужников, аккуратно распрощавшись со всеми, отбыл к месту новой службы через город Москву, имея в запасе три дня: до воскресенья…
2
В Москву поезд прибывал утром. До Кропоткинской Коля доехал на метро — самом красивом метро в мире; он всегда помнил об этом и испытывал невероятное чувство гордости, спускаясь под землю. На станции «Дворец Советов» он вышел; напротив поднимался глухой забор, за которым что-то стучало, шипело и грохало. И на этот забор Коля тоже смотрел с огромной гордостью, потому что за ним закладывался фундамент самого высокого здания в мире: Дворца Советов с гигантской статуей Ленина наверху.
Возле дома, откуда он два года назад ушел в училище, Коля остановился. Дом этот — самый обыкновенный многоквартирный московский дом со сводчатыми воротами, глухим двором и множеством кошек,— дом этот был совсем по-особому дорог ему. Здесь он знал каждую лестницу, каждый угол и каждый кирпич в каждом углу. Это был его дом, и если понятие «родина» ощущалось как нечто грандиозное, то дом был попросту самым родным местом на всей земле.
Коля стоял возле дома, улыбался и думал, что там, во дворе, на солнечной стороне, наверняка сидит Матвеевна, вяжет бесконечный чулок и заговаривает со всеми, кто проходит мимо. Он представил, как она остановит его и спросит, куда он идет, чей он и откуда. Он почему-то был уверен, что Матвеевна ни за что его не узнает, и заранее радовался.
И тут из ворот вышли две девушки. На той, которая была чуть повыше, платье было с короткими рукавчиками, но вся разница между девушками на этом и кончалась: они носили одинаковые прически, одинаковые белые носочки и белые прорезиненные туфли. Маленькая мельком глянула на затянутого до невозможности лейтенанта с чемоданом, свернула вслед за подругой, но вдруг замедлила шаг и еще раз оглянулась.
— Вера?..— шепотом спросил Коля.— Верка, чертенок, это ты?..
Визг был слышен у Манежа. Сестра с разбегу бросилась на шею, как в детстве подогнув колени, и он едва устоял: она стала довольно-таки тяжеленькой, эта его сестренка…
— Коля! Колечка! Колька!..
— Какая же ты большая стала, Вера.
— Шестнадцать лет! — с гордостью сказала она.— А ты думал, ты один растешь, да?.. Ой, да ты уже лейтенант! Валюшка, поздравь товарища лейтенанта.
Высокая, улыбаясь, шагнула навстречу:
— Здравствуй, Коля.
Он уткнулся взглядом в обтянутую ситцем грудь. Он отлично помнил двух худющих девчонок, голенастых, как кузнечики. И поспешно отвел глаза:
— Ну, девочки, вас не узнать…
— Ой, нам в школу! — вздохнула Вера.— Сегодня последнее комсомольское, и не пойти просто невозможно.
— Вечером встретимся,— сказала Валя.
Она беззастенчиво разглядывала его удивительно спокойными глазами. От этого Коля смущался и сердился, потому что был старше и по всем законам смущаться должны были девчонки.
— Вечером я уезжаю.
— Куда? — удивилась Вера.
— К новому месту службы,— не без важности сказал он.— Я тут проездом.
— Значит, в обед.— Валя опять поймала его взгляд и улыбнулась.— Я патефон принесу.
— Знаешь, какие у Валюшки пластиночки? Польские, закачаешься!.. Вшистко мни едно, вшистко мни едно…— пропела Вера.— Ну, мы побежали.
— Мама дома?
— Дома!..
Они действительно побежали — налево, к школе: он сам бегал этим путем десять лет. Коля глядел вслед, смотрел, как взлетают волосы, как бьются платья о загорелые икры, и хотел, чтобы девочки оглянулись. И подумал: «Если оглянутся, то…» Он не успел загадать, что тогда будет: высокая вдруг повернулась к нему. Он махнул в ответ и сразу же нагнулся за чемоданом, почувствовав, что начинает краснеть.
«Вот ужас-то,— подумал он с удовольствием.— Ну чего, спрашивается, мне краснеть?..»
Он прошел темный коридор ворот и посмотрел налево, на солнечную сторону двора, но Матвеевны там не было. Это неприятно удивило его, но тут Коля оказался перед собственным подъездом и на одном дыхании влетел на пятый этаж.
Мама совсем не изменилась, и даже халат на ней был тот же, в горошек. Увидев его, она вдруг заплакала:
— Боже, как ты похож на отца!..
Отца Коля помнил смутно: в двадцать шестом тот уехал в Среднюю Азию и — не вернулся. Маму вызывали {22} в Главное политуправление и там рассказали, что комиссар Плужников [был] убит в схватке с басмачами у кишлака Коз Кудук.
Мама кормила его завтраком и беспрерывно говорила. Коля поддакивал, но слушал рассеянно: он все время думал об этой вдруг выросшей Вальке из сорок девятой квартиры и очень хотел, чтобы мама заговорила о ней. Но маму интересовали другие вопросы:
— …А я им говорю: «Боже мой, боже мой, неужели дети должны целый день слушать это громкое радио? У них ведь маленькие уши, и вообще это непедагогично». Мне, конечно, отказали, потому что наряд уже был подписан, и поставили громкоговоритель. Но я пошла в райком и все объяснила…
Мама заведовала детским садом и постоянно пребывала в каких-то странных хлопотах. За два года Коля порядком отвык от всего и теперь бы слушал с удовольствием, но в голове все время вертелась эта Валя-Валентина…
— Да, мама, я Верочку у ворот встретил,— невпопад сказал он, прерывая мать на самом волнующем месте.— Она с этой была… Ну, как ее?.. С Валей…
— Да, они в школу пошли. Хочешь еще кофе?
— Нет, мам, спасибо.— Коля прошелся по комнате, поскрипел в свое удовольствие. Мама опять начала вспоминать что-то детсадовское, но он перебил: — А что, Валя [эта] все еще учится, да?
— Да ты что, Колюшка, Вали не помнишь? Она же не вылезала от нас.— Мама вдруг рассмеялась.— Верочка говорила, что Валюша была в тебя влюблена.
— Глупости это! — сердито закричал Коля.— Глупости!..
— Конечно, глупости,— неожиданно легко согласилась мама.— Тогда она еще девчонкой была, а теперь — настоящая красавица. Наша Верочка тоже хороша, но Валя — просто красавица.
— Ну уж и красавица,— ворчливо сказал он, с трудом скрывая вдруг охватившую его радость.— Обыкновенная девчонка, каких тысячи в нашей стране… Лучше скажи, как Матвеевна себя чувствует? Я вхожу во двор…
— Умерла наша Матвеевна,— вздохнула мама.
— Как так — умерла? — не понял он.
— Люди умирают, Коля,— опять вздохнула мама.— Ты счастливый, ты можешь еще не думать об этом.
И Коля подумал, что он и вправду счастливый, раз встретил возле ворот такую удивительную девушку, а из разговора выяснил, что девушка эта была в него влюблена…
После завтрака Коля отправился на Белорусский вокзал. Нужный ему поезд отходил в семь вечера, что было совершенно невозможно. Коля походил по вокзалу, повздыхал и не очень решительно постучался к дежурному помощнику военного коменданта.
— Попозже? — Дежурный помощник тоже был молод и несолидно подмигивал.— Что, лейтенант, сердечные дела?
— Нет,— опустив голову, сказал Коля.— Мама у меня больна, оказывается. Очень…— Тут он испугался, что может накликать действительную болезнь, и поспешно поправился: — Нет, не очень, не очень…
— Понятно,— опять подмигнул дежурный.— Сейчас поглядим насчет мамы.
Он полистал книгу, потом стал звонить по телефонам, разговаривая вроде бы по другим поводам. Коля терпеливо ждал, рассматривая плакаты о перевозках. Наконец дежурный положил последнюю трубку:
— С пересадкой согласен? Отправление в три минуты первого, поезд Москва — Минск. В Минске — пересадка.
— Согласен,— сказал Коля.— Большое вам спасибо, товарищ старший лейтенант.
Получив билет, он тут же на улице Горького зашел в гастроном и, хмурясь, долго разглядывал вина. Наконец купил шампанского, потому что пил его на выпускном банкете, вишневой наливки, потому что такую наливку делала мама, и мадеру, потому что читал о ней в романе про аристократов.
— Ты сошел с ума! — сердито сказала мама.— Это что же: на каждого по бутылке?
— А!..— Коля беспечно махнул рукой.— Гулять так гулять!
Встреча удалась на славу. Началась она с торжественного обеда, ради которого мама одолжила у соседей еще одну керосинку. Вера вертелась на кухне, но часто врывалась с очередным вопросом:
— А из пулемета ты стрелял?
— Стрелял.
— Из «максима»?
— Из «максима». И из других систем тоже.
— Вот здорово!..— восхищенно ахала Вера.
Коля озабоченно ходил по комнате. Он подшил свежий подворотничок, надраил сапоги и теперь хрустел всеми ремнями. От волнения он совсем не хотел есть, а Валя все не шла и не шла.
— А комнату тебе дадут?
— Дадут, дадут.
— Отдельную?
— Конечно.— Он посмотрел на Верочку снисходительно.— Я ведь строевой командир.
— Мы к тебе приедем,— таинственно зашептала она.— Маму отправим с детским садом на дачу и приедем к тебе…
— Кто это — мы?
Он все понял, и сердце сладко колыхнулось.
— Так кто же такие — мы?
— Неужели не понимаешь? Ну, мы — это мы: я и Валюшка.
Коля покашлял, чтобы спрятать некстати выползшую улыбку, и солидно сказал:
— Пропуск, вероятно, потребуется. Заранее напиши, чтобы с командованием договориться…
— Ой, у меня картошка переварилась!..
Крутнулась на каблуке, раздула куполом платье, хлопнула дверью. Коля только покровительственно усмехнулся. А когда закрылась дверь, совершил вдруг немыслимый прыжок и в полном восторге захрустел ремнями: значит, они сегодня говорили о поездке, значит, уже планировали ее, значит, хотели встретиться с ним, значит… Но что должно было следовать за [этим] последним «значит», Коля не произносил даже про себя.
А потом пришла Валя. К несчастью, мама и Вера все еще возились с обедом, разговор начать было некому, и Коля холодел при мысли, что Валя имеет все основания немедленно отказаться от летней поездки.
— Ты никак не можешь задержаться в Москве?
Коля отрицательно покачал головой.
— Неужели так срочно?
Коля пожал плечами.
— На границе неспокойно, да? — понизив голос, спросила она.
Коля осторожно кивнул, сначала, правда, подумав насчет секретности.
— Папа говорит, что Гитлер стягивает вокруг нас кольцо.
— У нас с Германией договор о ненападении,— хрипло сказал Коля, потому что кивать головой или пожимать плечами было уже невозможно.— Слухи о концентрации немецких войск у наших границ ни на чем не основаны и являются результатом происков англо-французских империалистов.
— Я читала газеты,— с легким неудовольствием сказала Валя.— А папа говорит, что положение очень серьезное.
Валин папа был ответработником, но Коля подозревал, что в душе он немножко паникер. И сказал:
— Надо опасаться провокаций.
— Но ведь фашизм — это же ужасно! Ты видел фильм «Профессор Мамлок»?
— Видел: там Олег Жаков играет. Фашизм — это, конечно, ужасно, а империализм, по-твоему, лучше?
— Как ты думаешь, будет война?
— Конечно,— уверенно сказал он.— Зря, что ли, открыли столько училищ с ускоренной программой? Но это будет быстрая война.
— Ты в этом уверен?
— Уверен. Во-первых, надо учесть пролетариат порабощенных фашизмом и империализмом стран. Во-вторых, пролетариат самой Германии, задавленный Гитлером. В-третьих, международную солидарность трудящихся всего мира. Но самое главное — это решающая мощь нашей Красной Армии. На вражеской территории мы нанесем врагу сокрушительный удар.
— А Финляндия? — вдруг тихо спросила она.
— А что — Финляндия? — Он с трудом скрыл неудовольствие: это все паникер папочка ее настраивает.— В Финляндии была глубоко эшелонированная линия обороны, которую наши войска взломали быстро и решительно. Не понимаю, какие тут могут быть сомнения.
— Если ты считаешь, что сомнений не может быть, значит, их просто нет,— улыбнулась Валя.— Хочешь посмотреть, какие пластинки мне привез папа из Белостока?
Пластинки у Вали были замечательные: польские фокстроты, «Черные глаза», и «Очи черные», и даже танго из «Петера» в исполнении самой Франчески Гааль.
— Говорят, она ослепла! — широко распахнув круглые глаза, говорила Верочка.— Вышла сниматься, посмотрела случайно в самый главный прожектор и сразу ослепла.
Валя скептически улыбалась {23}. Коля тоже сомневался в достоверности этой истории, но в нее почему-то очень хотелось верить.
К этому времени они уже выпили шампанское и наливку, а мадеру только попробовали и забраковали: она оказалась несладкой, и было непонятно, как мог завтракать виконт де Пресси, макая в нее бисквиты.
— Киноартистом быть очень опасно, очень! — продолжала Вера.— Мало того что они скачут на бешеных лошадях и прыгают с поездов: на них очень вредно действует свет. Исключительно вредно!
Верочка собирала фотографии артистов кино. А Коля опять сомневался и опять хотел во все верить. Голова у него слегка кружилась, рядом сидела Валя, и он никак не мог смахнуть с лица улыбку, хоть и подозревал, что она глуповата.
Валя тоже улыбалась: снисходительно, как взрослая. Она была всего на полгода старше Веры, но уже успела перешагнуть через ту черту, за которой вчерашние девчонки превращаются в загадочно молчаливых девушек.
— Верочка хочет быть киноартисткой,— сказала мама.
— Ну и что? — с вызовом выкрикнула Вера и даже осторожно стукнула пухлым кулачком по столу.— Это запрещено, да? Наоборот, это прекрасно, и возле сельскохозяйственной выставки есть такой специальный институт…
— Ну, хорошо, хорошо,— миролюбиво соглашалась мама.— Закончишь десятый класс на пятерки — иди куда хочешь. Было бы желание.
— И талант,— сказала Валя.— Знаешь, какие там экзамены? Выберут какого-нибудь поступающего десятиклассника и заставят тебя с ним целоваться.
— Ну и пусть! Пусть! — весело кричала красная от вина и споров Верочка.— Пусть заставляют! А я так им сыграю, так сыграю, что они все поверят, будто я влюблена. Вот!
— А я бы ни за что не стала целоваться без любви.— Валя всегда говорила негромко, но так, что ее все слушали.— По-моему, это унизительно: целоваться без любви.
— У Чернышевского в «Что делать?»…— начал было Коля.
— Надо же различать! — закричала вдруг Верочка.— Надо же различать, где жизнь, а где — искусство.
— Я не про искусство, я про экзамены. Какое же там искусство?
— А смелость? — задиристо наступала Верочка.— Смелость разве не нужна артисту?
— Господи, какая уж тут смелость,— вздохнула мама и начала убирать со стола.— Девочки, помогите мне, а потом будем танцевать.
Все стали убирать, суетиться, и Коля остался один. Он отошел к окну и сел на диван: тот самый скрипучий диван, на котором спал всю школьную жизнь. Ему очень хотелось вместе со всеми убирать со стола: толкаться, хохотать, хвататься за одну и ту же вилку, но он подавил это желание, ибо куда важнее было невозмутимо сидеть на диване. К тому же из угла можно было незаметно наблюдать за Валей, ловить ее улыбки, взмахи ресниц, редкие взгляды. И он ловил их, а сердце стучало, как паровой молот возле станции метро «Дворец Советов».
В девятнадцать лет Коля ни разу не целовался. Он регулярно ходил в увольнения, смотрел кино, бывал в театре и ел мороженое, если оставались деньги. А вот танцевал плохо, танцплощадки не посещал и поэтому за два года учебы так ни с кем и не познакомился. Кроме библиотекарши Зои.
Но сегодня Коля был рад, что ни с кем не знакомился. То, что было причиной тайных мучений, обернулось вдруг иной стороной, и сейчас, сидя на диване, он уже точно знал, что не знакомился только потому, что на свете существовала Валя. Ради такой девушки стоило страдать, и страдания эти давали ему право гордо и прямо встречать ее осторожный взгляд. И Коля был очень доволен собой.
Потом они опять завели патефон, но уже не для того, чтобы слушать, а чтобы танцевать. И Коля, краснея и сбиваясь, танцевал с Валей, с Верочкой и опять — с Валей.
— Вшистко мни едно, вшистко мни едно…— напевала Верочка, покорно танцуя со стулом.
Коля танцевал молча, потому что никак не мог найти подходящей темы {24} для разговора. А Вале никакой разговор и не требовался, но Коля этого не понимал и чуточку мучился.
— Вообще-то мне должны дать комнату,— покашляв для уверенности, сказал он.— Но если не дадут, я у кого-нибудь сниму.
Валя молчала. Коля старался, чтобы зазор между ними был как можно больше, и чувствовал, что Валина улыбка совсем не похожа на ту, которой ослепила его Зоя в полутьме аллеи. И поэтому, понизив голос и покраснев, добавил:
— А пропуск я закажу. Только заранее напишите.
И опять Валя промолчала, но Коля совсем не расстроился. Он знал, что она все слышит и все понимает, и был счастлив, что она молчит.
Теперь Коля знал точно, что это — любовь. Та самая, о которой он столько читал и с которой до сих пор так и не встретился. Зоя… Тут он вспомнил о Зое, вспомнил почти с ужасом, потому что Валя, которая так понимала его, могла каким-то чудом тоже вспомнить про Зою, и тогда Коле осталось бы только {25} застрелиться. И он стал решительно гнать [прочь] всякие мысли о Зое, а Зоя, нагло потрясая оборками, никак не желала исчезать, и Коля испытывал незнакомое доселе чувство бессильного стыда.
А Валя улыбалась и смотрела мимо него, точно видела там что-то невидимое для всех. И от восхищения Коля делался еще более неуклюжим.
Потом они долго стояли у окна: и мама и Верочка вдруг куда-то исчезли. На самом-то деле они просто мыли на кухне посуду, но сейчас это было все равно что перебраться на другую планету.
— Папа говорил, что там много аистов. Ты видел когда-нибудь аистов?
— Нет.
— Там они живут прямо на крышах домов. Как ласточки. И никто их не обижает, потому что они приносят счастье. Белые, белые аисты… Ты обязательно должен их увидеть.
— Я увижу,— пообещал он.
— Напиши, какие они. Хорошо?
— Напишу.
— Белые, белые аисты…
Он взял ее за руку, испугался этой дерзости, хотел тотчас же отпустить и — не смог. И боялся, что она отдернет ее или что-нибудь скажет. Но Валя молчала. А когда сказала, не отдернула руки:
— Если бы ты ехал на юг, на север или даже на восток…
— Я счастливый. Мне достался Особый округ. Знаешь, какая это удача?
Она ничего не ответила. Только вздохнула.
— Я буду ждать,— тихо сказал он.— Я очень, очень буду ждать.
Он осторожно погладил ее руку, а потом вдруг быстро прижал к щеке. Ладонь показалась ему прохладной. Очень хотелось спросить, будет ли Валя тосковать, но спросить Коля так и не решился. А потом влетела Верочка, затарахтела с порога что-то про Зою Федорову, и Коля незаметно отпустил Валину руку.
В одиннадцать мама решительно выгнала его на вокзал. Коля наскоро и как-то несерьезно простился с нею, потому что девочки [уже] потащили его чемодан вниз. И мама почему-то вдруг заплакала — тихо, улыбаясь,— а он не замечал ее слез и все рвался поскорее уйти.
— Пиши, сынок. Пожалуйста, пиши аккуратно.
— Ладно, мам. Как приеду, сразу же напишу.
— Не забывай…
Коля в последний раз прикоснулся губами к уже поседевшему виску, скользнул за дверь и через три ступеньки понесся вниз.
Поезд отошел только в половине первого. Коля боялся, что девочки опоздают на метро, но еще больше боялся, что они уйдут, и поэтому все время говорил одно и то же:
— Ну, идите же. Опоздаете.
А они ни за что не хотели уходить. А когда засвистел кондуктор и поезд тронулся, Валя вдруг первая шагнула к нему. Но он так ждал этого и так рванулся навстречу, что они стукнулись носами и смущенно отпрянули друг от друга. А Верочка кричала: «Колька, опоздаешь!..» — и совала ему сверток с мамиными пирожками. Он наскоро чмокнул сестру в щеку, схватил сверток и вскочил на подножку. И все время смотрел, как медленно отплывают назад две девичьи фигурки в легких светлых платьях…
3
Коля впервые ехал в дальние страны. До сих пор путешествия ограничивались городом, где находилось училище, но даже двенадцать часов езды не шли ни в какое сравнение с маршрутом, которым двигался он в ту знойную июньскую субботу. И это было так интересно и так важно, что Коля не отходил от окна, а когда уж совсем обессилел и присел на полку, кто-то крикнул:
— Аисты! Смотрите, аисты!..
Все бросились к окнам, но Коля замешкался и аистов не увидел. Впрочем, он не огорчался, потому что если аисты появились, значит, рано или поздно, а он их обязательно увидит. И напишет в Москву, какие они, эти белые, белые аисты…
Это было уже за Негорелым — за старой границей: теперь они ехали по Западной Белоруссии. Поезд часто останавливался на маленьких станциях, где всегда было много людей. Белые рубахи мешались с черными лапсердаками, соломенные брыли — с касторовыми котелками, темные хустки — со светлыми платьями. Коля выходил на остановках, но от вагона не отрывался, оглушенный звонкой смесью белорусского, еврейского, русского, польского, литовского, украинского и еще бог весть каких языков и наречий.
— Ну, кагал! — удивлялся смешливый старший лейтенант, ехавший на соседней полке.— Тут, Коля, часы надо покупать. Ребята говорили, что часов здесь — вагон, и все дешевые.
Но и старший лейтенант тоже далеко не отлучался: нырял в толпу, что-то выяснял, размахивая руками, и тут же возвращался.
— Тут, брат, такая Европа, что враз ухайдакают.
— Агентура,— соглашался Коля.
— А хрен их знает,— аполитично говорил старший лейтенант и, передохнув, снова кидался в гущу.— Часы! Тик-так! Мозер!..
Мамины пирожки были съедены со старшим лейтенантом; в ответ он до отвала накормил Колю украинской домашней колбасой. Но разговор у них не клеился, потому что старший лейтенант склонен был обсуждать только одну тему:
— А талия у нее, Коля, ну, рюмочка!..
Коля начинал ерзать. Старший лейтенант, закатывая глаза, упивался воспоминаниями. К счастью, в Барановичах он сошел, прокричав на прощанье:
— Насчет часов не теряйся, лейтенант! Часы — это вещь!..
Вместе со старшим лейтенантом исчезла и домашняя колбаса, а мамины пирожки уже были уничтожены. Поезд, как на грех, долго стоял в Барановичах, и Коля вместо аистов стал подумывать о хорошем обеде. Наконец мимо тяжко прогрохотал бесконечный товарный состав.
— В Германию,— сказал пожилой капитан.— Немцам день и ночь хлебушек гоним и гоним. Это как понимать прикажете?
— Не знаю,— растерялся Коля.— У нас ведь договор с Германией.
— Совершенно верно,— тотчас же согласился капитан.— Вы абсолютно правильно рассуждаете, товарищ лейтенант.
Вслед за товарняком потянулись и они, и дальше ехали быстрее. Стоянки сократились, проводники не советовали выходить из вагонов, и на всем пути Коля запомнил только одну станцию: Жабинка. Следующим был Брест.
Вокзал в Бресте оказался деревянным, а народу в нем толпилось столько, что Коля растерялся. Проще всего было, конечно, спросить, как найти нужную ему часть, но из соображений секретности Коля доверял только лицам официальным и поэтому битый час простоял в очереди к дежурному помощнику коменданта.
— В крепость,— сказал помощник, глянув на командировочное предписание.— По Каштановой прямо и упрешься.
Коля вылез из очереди и ощутил вдруг такой яростный голод, что вместо Каштановой улицы стал разыскивать столовую. Но столовых не было, и он, потоптавшись, пошел к вокзальному ресторану. И только хотел войти, как дверь распахнулась и вышел коренастый лейтенант.
— Черт жирный, жандармская морда, весь стол один занял. И не попросишь ведь: иностранец!
— Кто?
— Жандарм немецкий, кто же еще! Тут женщины с ребятишками на полу сидят, а он один за столиком пиво жрет. Персона!
— Настоящий жандарм? — поразился Коля.— А можно посмотреть?
Лейтенант неуверенно пожал плечами:
— Попробуй. Стой, куда же ты с чемоданом?
Коля оставил чемодан, одернул гимнастерку, как перед входом в генеральский кабинет, и с замиранием сердца скользнул за тяжелую дверь.
И сразу увидел немца. Настоящего, живого немца в мундире с бляхой, в непривычно высоких, точно из жести сапогах. Он сидел, развалясь на стуле, и самодовольно постукивал ногой. Столик был уставлен пивными бутылками, но жандарм пил не из стакана, а из пол-литровой кружки, выливая в нее сразу всю бутылку. На красной роже топорщились жесткие усики, смоченные пивной пеной.
Изо всех сил кося глазами, Коля четыре раза продефилировал мимо немца. Это было совершенно необыкновенное, из ряда вон выходящее событие: в шаге от него сидел человек из того мира, из порабощенной Гитлером Германии. Коле очень хотелось знать, о чем он думает, попав из фашистской империи в страну социализма, но на лице представителя угнетенного человечества не читалось ничего, кроме тупого самодовольства.
— Насмотрелся? — спросил лейтенант, охранявший Колин чемодан.
— Ногой постукивает,— почему-то шепотом сказал Коля.— А на груди — бляха.
— Фашист,— сказал лейтенант.— Слушай, друг, ты есть хочешь? Ребята сказали, тут недалеко ресторан «Беларусь»: может, поужинаем по-людски? Тебя как зовут-то?
— Коля.
— Тезки, значит. Ну, сдавай чемодан, и айда разлагаться. Там, говорят, скрипач мировой: «Черные глаза» играет, как бог…
В камере хранения тоже оказалась очередь, и Коля поволок чемодан с собой, решив прямо оттуда пройти в крепость. Лейтенант Николай о крепости ничего не знал, так как в Бресте у него была пересадка, но утешил:
— В ресторане наверняка кого-нибудь из наших встретим. Сегодня — суббота.
По узкому пешеходному мостику они пересекли многочисленные железнодорожные пути, занятые составами, и сразу оказались в городе. Три улицы расходились от ступенек мостика, и лейтенанты неуверенно затоптались.
— Ресторан «Беларусь» не знаю,— с сильным акцентом и весьма раздраженно сказал прохожий.
Коля спрашивать не решался, и переговоры вел лейтенант Николай.
— Должны знать: там какой-то скрипач знаменитый.
— Так то ж пан Свицкий! — заулыбался прохожий.— О, Рувим Свицкий — великий скрипач. Вы можете иметь свое мнение, но оно неверное. Это так. А ресторан — прямо. Улица Стыцкевича.
Улица Стыцкевича оказалась Комсомольской. В густой зелени прятались маленькие домишки.
— А я Сумское зенитно-артиллерийское закончил,— сказал Николай, когда Коля поведал ему свою историю.— Вот как смешно получается: оба только что кончили, оба — Николаи…
Он вдруг замолчал: в тишине послышались далекие звуки скрипки. Лейтенанты остановились.
— Мирово дает! Топаем точно, Коля!
Скрипка слышалась из открытых окон двухэтажного здания с вывеской «Ресторан „Беларусь“». Они поднялись на второй этаж, сдали в крохотной раздевалке головные уборы и чемодан и вошли в небольшой зальчик. Против входа помещалась буфетная стойка, а в левом углу — небольшой оркестр. Скрипач — длиннорукий, странно подмаргивающий — только кончил играть, и переполненный зал шумно аплодировал ему.
— А наших-то тут маловато,— негромко сказал Николай.
Они задержались в дверях, оглушенные аплодисментами и возгласами. Из глубины зала к ним поспешно пробирался полный гражданин в черном лоснящемся пиджаке:
— Прошу панов офицеров пожаловать. Сюда прошу, сюда.
Он ловко провел их мимо скученных столов и разгоряченных посетителей. За кафельной печкой оказался свободный столик, и лейтенанты сели, с молодым любопытством оглядывая чуждую им обстановку.
— Почему он нас офицерами называет? — с неудовольствием шипел Коля.— Офицер, да еще — пан! Буржуйство какое-то…
— Пусть хоть горшком зовет, лишь бы в печь не совал,— усмехнулся лейтенант Николай.— Здесь, Коля, люди еще темные.
Пока гражданин в черном принимал заказ, Коля с удивлением вслушивался в говор зала, стараясь уловить хоть одну понятную фразу. Но говорили здесь на языках неизвестных, и это очень смущало его. Он хотел было поделиться с товарищем, как вдруг за спиной послышался странно звучащий, но несомненно русский разговор:
— Я извиняюсь, я очень извиняюсь, но я не могу себе представить, чтобы такие штаны ходили по улицам.
— Вот он выполняет на сто пятьдесят процентов таких штанов и получил за это почетное знамя.
Коля обернулся: за соседним столиком сидели трое пожилых мужчин. Один из них перехватил Колин взгляд и улыбнулся:
— Здравствуйте, товарищ командир. Мы обсуждаем производственный план.
— Здравствуйте,— смутившись, сказал Коля.
— Вы из России? — спросил приветливый сосед и, не дожидаясь ответа, продолжал: — Ну, я понимаю: мода. Мода — это бедствие, это — кошмар, это — землетрясение, но это естественно, правда? Но шить сто пар плохих штанов вместо полсотни хороших и за это получать почетное знамя — я извиняюсь. Я очень извиняюсь. Вы согласны, молодой товарищ командир?
— Да,— сказал Коля.— То есть, конечно, только…
— А скажите, пожалуйста,— спросил второй,— что у вас говорят про германцев?
— Про германцев? Ничего. То есть у нас с Германией мир…
— Да,— вздохнули за соседним столом.— То, что германцы придут в Варшаву, было ясно каждому еврею, если он не круглый идиот. Но они не придут в Москву.
— Что вы, что вы!..
За соседним столом все враз заговорили на непонятном языке. Коля вежливо послушал, ничего не понял и отвернулся.
— По-русски понимают,— шепотом сообщил он.
— Я тут водочки сообразил,— сказал лейтенант Николай.— Выпьем, Коля, за встречу?
Коля хотел сказать, что не пьет, но как-то так получилось, что вспомнил он о другой встрече. И рассказал лейтенанту Николаю про Валю и Верочку, но больше, конечно, про Валю.
— А что ты думаешь, может, и приедет,— сказал Николай.— Только сюда пропуск нужен.
— Я попрошу.
— Разрешите присоединиться?
Возле стола оказался рослый лейтенант-танкист. Пожал руки, представился:
— Андрей. В военкомат прибыл за приписниками, да в пути застрял. Придется до понедельника ждать…
Он говорил что-то еще, но длиннорукий поднял скрипку, и маленький зальчик замер.
Коля не знал, что исполнял нескладный длиннорукий, странно подмаргивающий человек. Он не думал, хорошо это или плохо, а просто слушал, чувствуя, как подкатывает к горлу комок. Он бы не стеснялся сейчас слез, но скрипач останавливался как раз там, где вот-вот должны были хлынуть эти слезы, и Коля только осторожно вздыхал и улыбался.
— Вам нравится? — тихо спросил пожилой с соседнего столика.
— Очень!
— Это наш Рувимчик. Рувим Свицкий — лучшего скрипача нет и никогда не было в городе Бресте. Если Рувим играет на свадьбе, то невеста обязательно будет счастливой. А если он играет на похоронах…
Коля так и не узнал, что происходит, когда Свицкий играет на похоронах, потому что на них зашикали. Пожилой покивал, послушал, а потом зашептал Коле в самое ухо:
— Пожалуйста, запомните это имя: Рувим Свицкий. Самоучка Рувим Свицкий с золотыми пальцами, золотыми ушами и золотым сердцем…
Коля долго хлопал. Принесли закуску, лейтенант Николай наполнил рюмки, сказал, понизив голос:
— Музыка — это хорошо. Но ты сюда послушай.
Коля вопросительно посмотрел на подсевшего к ним танкиста.
— Вчера летчикам отпуска отменили,— тихо сказал Андрей.— А пограничники говорят, что каждую ночь за Бугом моторы ревут. Танки, тягачи.
— Веселый разговор.— Николай поднял рюмку.— За встречу.
Они выпили. Коля поспешно начал закусывать, спросил с набитым ртом:
— Возможны провокации?
— Месяц назад с той стороны архиепископ перешел,— тихо продолжал Андрей.— Говорит, немцы готовят войну.
— Но ведь ТАСС официально заявил…
— Тихо, Коля, тихо,— улыбнулся Николай.— ТАСС — в Москве. А здесь Брест.
Подали ужин, и они накинулись на него, позабыв про немцев и ТАСС, про границу и архиепископа, которому Коля никак не мог верить, потому что архиепископ был все-таки служителем культа.
Потом опять играл скрипач. Коля переставал жевать, слушал, неистово хлопал в ладоши. Соседи слушали тоже, но больше шепотом толковали о слухах, о странных шумах по ночам, о частых нарушениях границы немецкими летчиками.
— А сбивать нельзя: приказ. Вот и вертимся…
— Как играет!..— восторгался Коля.
— Да, играет классно. Что-то зреет, ребята. А что? Вопрос.
— Ничего, ответ тоже будет,— улыбнулся Николай и поднял рюмку: — За ответ на любой вопрос, товарищи лейтенанты!..
Стемнело, в зале зажгли свет. Накал был неровным, лампочки слабо мигали, и по стенам метались тени. Лейтенанты съели все, что было заказано, и теперь Николай расплачивался с гражданином в черном:
— Сегодня, ребята, угощаю я.
— Ты в крепость нацелился? — спросил Андрей.— Не советую, Коля: темно и далеко. Пошли лучше со мной в военкомат: там переночуешь.
— Зачем же в военкомат? — сказал лейтенант Николай.— Топаем на вокзал, Коля.
— Нет, нет. Я сегодняшним числом в часть должен прибыть.
— Зря, лейтенант,— вздохнул Андрей.— С чемоданом, ночью, через весь город…
— У меня — оружие,— сказал Коля.
Вероятно, они уговорили бы его: Коля уже и сам начал колебаться, несмотря на оружие. Вероятно, уговорили бы, и тогда Коля ночевал бы либо на вокзале, либо в военкомате, но тут пожилой с соседнего столика подошел к ним:
— Множество извинений, товарищи красные командиры, множество извинений. Этому молодому человеку очень понравился наш Рувим Свицкий. Рувим сейчас ужинает, но я имел с ним разговор, и он сказал, что хочет сыграть специально для вас, товарищ молодой командир…
И Коля никуда не пошел. Коля остался ждать, когда скрипач сыграет что-то специально для него. А лейтенанты ушли, потому что им [еще] надо было устроиться с ночлегом. Они крепко пожали ему руку, улыбнулись на прощанье и шагнули в ночь: Андрей — в военкомат на улицу Дзержинского, а лейтенант Николай — на переполненный Брестский вокзал. Шагнули в самую короткую ночь, как в вечность.
Народу в ресторане становилось все меньше, в распахнутые окна вплывал густой, безветренный вечер: одноэтажный Брест отходил ко сну. Обезлюдели под линейку застроенные улицы, гасли огни в затененных сиренью и жасмином окнах, и только редкие дрожкачи погромыхивали колясками по гулким мостовым. Тихий город медленно погружался в тихую ночь — самую тихую и самую короткую ночь в году…
У Коли немного кружилась голова, и все вокруг казалось прекрасным: и затухающий ресторанный шум, и теплый сумрак, вползавший в окна, и таинственный город за этими окнами, и ожидание нескладного скрипача, который собирался играть специально для него, лейтенанта Плужникова. Было, правда, одно обстоятельство, несколько осложнявшее ожидание: Коля никак не мог понять, должен ли он платить деньги за то, что музыкант будет играть, но, поразмыслив, решил, что за добрые дела денег не платят.
— Здравствуйте, товарищ командир.
Скрипач подошел бесшумно, и Коля вскочил, смутившись и забормотав что-то необязательное.
— Исаак сказал, что вы из России и что вам понравилась моя скрипка.
Длиннорукий держал в руке смычок и скрипку и странно подмаргивал. Вглядевшись, Коля понял причину: левый глаз Свицкого был подернут белесой пленкой.
— Я знаю, что нравится русским командирам.— Скрипач цепко зажал инструмент острым подбородком и поднял смычок.
И скрипка запела, затосковала, и зал снова замер, боясь неосторожным звуком оскорбить нескладного музыканта с бельмом на глазу. А Коля стоял рядом, смотрел, как дрожат на грифе тонкие пальцы, и опять хотел плакать и опять не мог, потому что Свицкий не позволял появляться этим слезам. И Коля только осторожно вздыхал и улыбался.
Свицкий сыграл «Черные глаза», и «Очи черные», и еще две мелодии, которые Коля слышал впервые. Последняя была особенно грозной и торжественной.
— Мендельсон,— сказал Свицкий.— Вы хорошо слушаете. Спасибо.
— У меня нет слов…
— Кали ласка. Вы не в крепость?
— Да,— запнувшись, признался Коля.— Каштановая улица…
— Надо брать дрожкача.— Свицкий улыбнулся.— По-вашему, извозчик. Если хотите, могу проводить: моя племянница тоже едет в крепость.
Свицкий уложил скрипку, а Коля взял чемодан в пустом гардеробе, и они вышли. На улицах никого не было.
— Прошу налево,— сказал Свицкий, когда они дошли до угла.— Миррочка — это моя племянница — уже год работает поваром в столовой для командиров. У нее — талант, настоящий талант. Она будет изумительной хозяйкой, наша Миррочка…
Внезапно погас свет: редкие фонари, окна в домах, отсветы железнодорожной станции. Весь город погрузился во мрак.
— Очень странно,— сказал Свицкий.— Что мы имеем? Кажется, двенадцать?
— Может быть, авария?
— Очень странно,— повторил Свицкий.— Знаете, я вам скажу прямо: как пришли восточники… То есть советские, ваши. Да, с той поры как вы пришли, мы отвыкли от темноты. Мы отвыкли от темноты и от безработицы тоже. Это удивительно, что в нашем городе нет больше безработных, а ведь их нет! И люди стали праздновать свадьбы, и всем вдруг понадобился Рувим Свицкий!..— Он тихо посмеялся.— Это прекрасно, когда у музыкантов много работы, если, конечно, они играют не на похоронах. А музыкантов теперь у нас будет достаточно, потому что в Бресте открыли и музыкальную школу, и музыкальное училище. И это очень и очень правильно. Говорят, что мы, евреи, музыкальный народ. Да, мы — такой народ; станешь музыкальным, если сотни лет прислушиваешься, по какой улице топают солдатские сапоги и не ваша ли дочь зовет на помощь в соседнем переулке. Нет, нет, я не хочу гневить бога: кажется, нам повезло. Кажется, дождички действительно пошли по четвергам, и евреи вдруг почувствовали себя людьми. Ах, как это прекрасно: чувствовать себя людьми! А еврейские спины никак не хотят разгибаться, а еврейские глаза никак не хотят хохотать — ужасно! Ужасно, когда маленькие дети рождаются с печальными глазами. Помните, я играл вам Мендельсона? Он говорит как раз об этом: о детских глазах, в которых всегда печаль. Это нельзя объяснить словами, это можно рассказать только скрипкой…
Вспыхнули уличные фонари, отсветы станции, редкие окна в домах.
— Наверно, была авария,— сказал Коля.— А сейчас починили.
— А вот и пан Глузняк. Добрый вечер, пан Глузняк! Как заработок?
— Какой заработок в городе Бресте, пан Свицкий? В этом городе все берегут свое здоровье и ходят только пешком…
Мужчины заговорили на неизвестном языке, а Коля оказался возле извозчичьей пролетки. В пролетке кто-то сидел, но свет далекого фонаря сглаживал очертания, и Коля не мог понять, кто же это сидит.
— Миррочка, деточка, познакомься с товарищем командиром.
Смутная фигура в пролетке неуклюже шевельнулась. Коля поспешно закивал, представился:
— Лейтенант Плужников. Николай.
— Товарищ командир впервые в нашем городе. Будь доброй хозяйкой, девочка, и покажи что-нибудь гостю.
— Покажем,— сказал извозчик.— Ночь сегодня добрая, и спешить нам некуда. Счастливых снов, пан Свицкий.
— Веселых поездок, пан Глузняк.— Свицкий протянул Коле цепкую длиннопалую руку: — До свидания, товарищ командир. Мы обязательно увидимся еще с вами, правда?
— Обязательно, товарищ Свицкий. Спасибо вам.
— Кали ласка. Миррочка, деточка, загляни завтра к нам.
— Хорошо.— Голос прозвучал робко и растерянно.
Дрожкач поставил чемодан в пролетку, полез на козлы. Коля еще раз кивнул Свицкому, встал на ступеньку: девичья фигура окончательно вжалась в угол. Он сел, утонув в пружинах, и пролетка тронулась, покачиваясь на брусчатой мостовой. Коля хотел помахать скрипачу, но сиденье было низким, борта высокими, а горизонт перекрыт широкой спиной извозчика.
— Куда же мы? — тихо спросила вдруг девушка из угла.
— Тебя просили что-нибудь показать гостю? — не оборачиваясь, спросил дрожкач.— Ну, а что можно показать гостю в нашем, я извиняюсь, городе Брест-Литовске? Крепость? Таки он в нее едет. Канал? Таки он его увидит завтра при свете. А что еще есть в городе Брест-Литовске?
— Он, наверно, старинный? — как можно увесистее спросил Коля.
— Ну, если судить по количеству евреев, то он таки ровесник Иерусалима (в углу робко пискнули от смеха). Вот Миррочке весело, и она смеется. А когда мне весело, я почему-то просто перестаю плакать. Так, может быть, люди делятся не на русских, евреев, поляков, германцев, а на тех, кому очень весело, просто весело и не очень весело, а? Что вы скажете на эту мысль, пан офицер?
Коля хотел сказать, что он, во-первых, никакой не пан, а во-вторых, не офицер, а командир Красной Армии, но не успел, так как пролетка внезапно остановилась.
— Когда в городе нечего показывать, что показывают тогда? — спросил дрожкач, слезая с козел.— Тогда гостю показывают какой-нибудь столб и говорят, что он знаменитый. Вот и покажи столб гостю, Миррочка.
— Ой! — чуть слышно вздохнули в углу.— Я?.. А может быть вы, дядя Михась?
— У меня другая забота.— Извозчик прошел к лошади.— Ну, старушка, побегаем с тобой эту ночку, а уж завтра отдохнем…
Девушка встала, неуклюже шагнула к ступеньке; пролетка заколыхалась, но Коля успел схватить Мирру за руку и поддержать.
— Спасибо.— Мирра еще ниже опустила голову.— Идемте.
Ничего не понимая, он вылез следом. Перекресток был пустынен. Коля на всякий случай погладил кобуру и оглянулся на девушку: заметно прихрамывая, она шла к ограде, что тянулась вдоль тротуара.
— Вот,— сказала она.
Коля подошел: возле ограды стоял приземистый каменный столб.
— Что это?
— Не знаю.— Она говорила с акцентом и стеснялась.— Тут написано про границу крепости. Но сейчас темно.
— Да, сейчас темно.
От смущения они чрезвычайно внимательно рассматривали ничем не примечательный камень. Коля ощупал его, сказал с уважением:
— Старинный.
Они опять замолчали. И дружно, с облегчением вздохнули, когда дрожкач окликнул:
— Пан офицер, прошу!
Прихрамывая, девушка пошла к коляске. Коля держался позади, но возле ступеньки догадался подать руку. Извозчик уже сидел на козлах.
— Теперь в крепость, пан офицер?
— Никакой я не пан! — сердито сказал Коля, плюхнувшись в продавленные пружины.— Я — товарищ, понимаете? Товарищ лейтенант, а совсем не пан. Вот.
— Не пан? — Дрожкач дернул вожжи, причмокнул, и лошадка неспешно затрусила по брусчатке.— Коли вы сидите сзади и каждую секунду можете меня стукнуть по спине, то конечно же, вы — пан. Вот я сижу сзади лошади, и для нее — тоже пан, потому что я могу стукнуть ее по спине. И так устроен весь мир: пан сидит за паном…
Теперь они ехали по крупному булыжнику, коляску раскачивало, и спорить было невозможно. Коля болтался на продавленном сиденье, придерживая ногой чемодан и всеми силами стараясь удержаться в своем углу.
— Каштановая,— сказала девушка. Ее тоже трясло, но она легче справлялась с этим.— Уже близко.
За железнодорожным переездом улица расползлась вширь, дома стали редкими, а фонарей здесь не было вовсе. Правда, ночь стояла светлая, и лошадка легко трусила по знакомой дороге.
Коля с нетерпением ожидал увидеть нечто вроде кремля. Но впереди зачернело что-то бесформенное, и дрожкач остановил лошадь.
— Приехали, пан офицер.
Пока девушка вылезала из пролетки, Коля судорожно сунул извозчику пятерку.
— Вы очень богаты, пан офицер? Может быть, у вас именье или вы печатаете деньги на кухне?
— Зачем?
— Днем я беру сорок копеек в этот конец. Но ночью, да еще с вас, я возьму целый рубль. Так дайте его мне, и будьте себе здоровы.
Миррочка, отойдя, ждала, когда он расплатится. Коля, смущаясь, запихал пятерку в карман, долго искал рубль, бормоча:
— Конечно, конечно. Да. Извините, сейчас.
Наконец рубль был найден. Коля еще раз поблагодарил дрожкача, взял чемодан и подошел к девушке:
— Куда тут?
— Здесь КПП.— Она указала на будку у дороги.— Надо показать документы.
— А разве это уже крепость?
— Да. Перейдем мост через обводной канал, и будут Северные ворота.
— Крепость! — Коля тихо рассмеялся.— Я ведь думал — стены да башни. А она, оказывается, вон какая, эта самая Брестская крепость…
4
На контрольно-пропускном пункте Колю задержали: постовой не хотел пропускать по командировочному предписанию! А девушку пропустили, и поэтому Коля был особенно настойчив:
— Зовите дежурного.
— Так спит он, товарищ лейтенант.
— Я сказал, зовите дежурного!
Наконец явился заспанный сержант. Долго читал Колины документы, зевал, свихивая челюсти.
— Припозднились вы, товарищ лейтенант.
— Дела,— туманно пояснил Коля.
— Вам ведь на остров надо…
— Я проведу,— тихо сказала девушка.
— А кто это — я? — Сержант посветил фонариком: так, для шика.— Это ты, Миррочка? Дежурить заступаешь?
— Да.
— Ну, ты — человек нашенский. Веди прямо в казарму триста тридцать третьего полка: там есть комнаты для командировочных.
— Мне в свой полк надо,— солидно сказал Коля.
— Утром разберетесь,— зевнул сержант {26}.— Утро вечера мудренее…
Миновав длинные и низкие сводчатые ворота, они попали в крепость: за ее первый, внешний обвод, ограниченный каналами и крутыми валами, уже буйно заросшими кустарником. Было тихо, только где-то словно из-под земли глухо бубнил заспанный басок да мирно всхрапывали кони. В полумраке виднелись повозки, палатки, машины, тюки прессованного сена. Справа туманно вырисовывалась батарея полковых минометов.
— Тихо,— шепотом сказал Коля.— И нет никого.
— Так ночь.— Она, вероятно, улыбнулась.— И потом, почти все уже переехали в лагеря. Видите огоньки? Это дома комсостава. Мне там комнату обещали, а то очень далеко из города ходить.
Она приволакивала ногу, но старалась идти легко и не отставать. Занятый осмотром спящей крепости, Коля часто убегал вперед, и она, догоняя, мучительно задыхалась. Он резко сбавил прыть, солидно поинтересовался:
— Как тут вообще с жильем? Командиров обеспечивают, не знаете?
— Многие снимают.
— Это трудно?
— Нет.— Она сбоку посмотрела на него: — У вас семья?
— Нет, нет.— Коля помолчал.— Просто для работы, знаете…
— В городе я могу найти вам комнату.
— Спасибо. Время, конечно, терпит…
Она вдруг остановилась, нагнула куст:
— Сирень. Уже отцвела, а все еще пахнет.
Коля поставил чемодан, честно сунул лицо в запыленную листву. Но листва ничем хорошим не пахла, и он сказал дипломатично:
— Много здесь зелени.
— Очень. Сирень, жасмин, акация…
Она явно не торопилась, и Коля сообразил, что идти ей трудно, что она устала и сейчас отдыхает. Было очень тихо и очень тепло, и чуть кружилась голова, и он с удовольствием подумал, что и ему пока некуда спешить, потому что в списках он еще не значится.
— А что в Москве о войне слышно? — понизив голос, спросила она.
— О войне? О какой войне?
— У нас все говорят, что скоро начнется война. Вот-вот,— очень серьезно продолжала девушка.— Люди покупают соль и спички, и вообще всякие товары, и в лавках почти пусто. А западники… Ну, те, которые к нам с запада пришли, от немцев бежали… Они говорят, что и в тридцать девятом так было.
— Как так — тоже?
— Пропали соль и спички.
— Чепуха какая-то! — с неудовольствием сказал Коля.— Ну, при чем здесь соль, скажите пожалуйста? Ну, при чем?
— Не знаю. Только без соли вы супа не сварите.
— Суп! — презрительно сказал он.— Это пусть немцы запасаются солью для своих супов. А мы… Мы будем бить врага на его территории.
— А враги об этом знают?
— Узнают! — Коле не понравилась ее ирония: люди здесь казались ему подозрительными.— Сказать вам, как это называется? Провокационные разговоры, вот как.
— Господи.— Она вздохнула.— Пусть они как угодно называются, лишь бы войны не было.
— Не бойтесь. Во-первых, у нас с Германией заключен Пакт о ненападении. А во-вторых, вы явно недооцениваете нашу мощь. Знаете, какая у нас техника? Я, конечно, не могу выдавать военных тайн, но вы, кажется, допущены к секретной работе…
— Я к супам допущена.
— Это не важно,— веско сказал он.— Важно, что вы допущены в расположение воинских частей. И вы, наверно, сами видели наши танки…
— А здесь нет никаких танков. Есть несколько броневичков, и все.
— Ну, зачем же вы мне это говорите? — Коля поморщился.— Вы же меня не знаете и все-таки сообщаете совершенно секретные сведения о наличии…
— Да про это наличие весь город знает.
— И очень жаль!
— И немцы тоже.
— А почему вы думаете, что они знают?
— А потому что!..— Она махнула рукой.— Вам приятно считать других дураками? Ну, считайте себе. Но если вы хоть раз подумаете, что за кордоном не такие уж дураки, так лучше сразу бегите в лавочку и покупайте спички на всю зарплату.
— Ну, знаете…
Коле не хотелось продолжать этот опасный разговор. Он рассеянно оглянулся, постарался зевнуть, спросил равнодушно:
— Это что за домик?
— Санчасть. Если вы отдохнули…
— Я?! — От возмущения его кинуло в жар.
— Я же видела, что вы еле тащите свои вещи.
— Ну, знаете,— еще раз с чувством сказал Коля и поднял чемодан.— Куда идти?
— Приготовьте документы: перед мостом еще один КПП.
Они молча пошли вперед. Кусты стали гуще: выкрашенная в белую краску кайма кирпичного тротуара ярко светилась в темноте. Повеяло свежестью, Коля понял, что они подходят к реке, но подумал об этом как-то вскользь, потому что целиком был занят другими мыслями.
Ему очень не нравилась осведомленность этой хромоножки. Она была наблюдательна, не глупа, остра на язык: с этим он готов был смириться. Но ее осведомленность о наличии в крепости бронетанковых сил, о передислокации частей в лагеря, даже о спичках и соли не могла быть случайной. Чем больше Коля думал об этом, тем все более убеждался, что и встреча с нею, и путешествие по городу, и длинные отвлекающие разговоры — все не случайно. Он припомнил свое появление в ресторане, странную беседу о штанах за соседним столом, Свицкого, играющего лично для него, и с ужасом понял, что за ним следили, что его специально выделили из их лейтенантской троицы. Выделили, заговорили, усыпили бдительность скрипкой, подсунули какую-то девчонку, и теперь… Теперь он идет за нею неизвестно куда, как баран. А кругом — тьма, и тишина, и кусты, и, может быть, это вообще не Брестская крепость, тем более что никаких стен и башен он так и не заметил.
Докопавшись до этого открытия, Коля судорожно передернул плечами, и портупея тотчас же приветливо скрипнула в ответ. И этот тихий скрип, который мог слышать только сам Коля, несколько успокоил его. Но все же на всякий случай он перекинул чемодан в левую руку, а правой осторожно расстегнул клапан кобуры.
«Что ж, пусть ведут,— с горькой гордостью подумал он.— Придется подороже продать свою жизнь, и только…»
— Стой! Пропуск!
«Вот оно…» — подумал Коля, с тяжким грохотом роняя чемодан.
— Добрый вечер, это я, Мирра. А лейтенант со мной. Он приезжий: вам не звонили с того КПП?
— Документы, товарищ лейтенант.
Слабый луч света упал на Колю. Коля прикрыл левой рукой глаза, пригнулся, а правая рука сама собой скользнула к кобуре…
— Ложись! — заорали от КПП.— Ложись, стреляю! Дежурный, ко мне! Сержант! Тревога!..
Постовой у контрольно-пропускного пункта орал, свистел, щелкал затвором. Кто-то уже шумно бежал по мосту, и Коля на всякий случай лег носом в пыль, как полагалось.
— Да свой он! Свой! — кричала Миррочка.
— Он наган цапает, товарищ сержант! Я его окликнул, а он — цапает!
— Посвети-ка.— Луч скользнул по лежавшему на животе Коле, и другой — сержантский — голос скомандовал: — Встать! Сдать оружие!..
— Свой я! — крикнул Коля, поднимаясь.— Лейтенант я, понятно? Прибыл к месту службы. Вот документы, вот командировка.
— А чего ж за наган цапался, если свой?
— Да почесался я! — кричал Коля.— Почесался, и все! А он кричит «ложись»!
— Он правильно действовал, товарищ лейтенант,— сказал сержант, разглядывая Колины документы.— Неделю назад часового у кладбища зарезали: вот какие тут дела.
— Да знаю я,— сердито сказал Коля.— Только зачем же сразу? Что, почесаться нельзя, что ли?..
Миррочка не выдержала первой. Она приседала, всплескивала руками, попискивала, вытирала слезы. За нею басом захохотал сержант, завсхлипывал постовой, и Коля засмеялся тоже, потому что все получилось очень глупо и очень смешно.
— Я же почесался! Почесался только!..
Надраенные сапоги, до предела подтянутые брюки, выутюженная гимнастерка — все было в мельчайшей дорожной пыли. Пыль оказалась даже на носу и на круглых Колиных щеках, потому что он прижимался ими к земле поочередно.
— Не отряхивайтесь! — крикнула девушка, когда Коля, отсмеявшись, попытался было очистить гимнастерку.— Пыль только вобьете. Надо щеткой.
— А где я ее ночью возьму?
— Найдем! — весело сказала Миррочка.— Ну, можно нам идти?
— Идите,— сказал сержант {27}.— Ты, правда, почисти его, Миррочка, а то ребята в казарме от смеха попадают.
— Почищу,— сказала она.— А какие кинокартины показывали?
— У пограничников — «Последнюю ночь», а в полку — «Валерия Чкалова».
— Мировой фильм!..— сказал постовой.— Там Чкалов под мостом на самолете — вжик, и все!..
— Жалко, я не видала. Ну, счастливо вам додежурить.
Коля поднял чемодан, кивнул веселым постовым и вслед за девушкой взошел на мост.
— Это что, Буг?
— Нет, это Мухавец.
— А-а…
Они прошли мост, миновали Трехарочные ворота и свернули направо, вдоль приземистого двухэтажного здания.
— Кольцевая казарма,— сказала Мирра.
Сквозь распахнутые настежь окна доносилось сонное дыхание сотен людей. В казармах за толстыми кирпичными стенами горело дежурное освещение, и Коля видел двухъярусные койки, спящих бойцов, аккуратно сложенную одежду и грубые ботинки, выстроенные строго по линейке.
«Вот и мой взвод где-то здесь спит,— думал он.— И скоро я буду приходить по ночам и проверять…»
Кое-где лампочки освещали склоненные над книгами стриженые головы дневальных, пирамиды с оружием или безусого лейтенанта, засидевшегося до рассвета над мудреной четвертой главой «Краткого курса истории ВКП(б)».
«Вот и я так же буду сидеть,— думал Коля.— Готовиться к занятиям, писать письма…»
— Это какой полк? — спросил он.
— Господи, куда же это я вас веду? — вдруг тихо засмеялась девушка.— Кругом! За мной шагом марш, товарищ лейтенант.
Коля затоптался, не очень поняв, шутит она или командует им всерьез.
— Зачем?
— Вас сначала почистить надо, выбить и выколотить.
После истории у предмостного контрольно-пропускного пункта она окончательно перестала стесняться и уже покрикивала. Впрочем, Коля не обижался, считая, что когда смешно, то надо обязательно смеяться.
— А где вы меня собираетесь выколачивать?
— Следуйте за мной, товарищ лейтенант.
Они свернули с тропинки, идущей вдоль кольцевой казармы. Справа виднелась церковь, за нею еще какие-то здания; где-то негромко переговаривались бойцы, где-то совсем рядом фыркали и вздыхали лошади. Резко запахло бензином, сеном, конским потом, и Коля приободрился, почувствовав наконец настоящие воинские запахи.
— В столовую идем, что ли? — как можно независимее спросил он, припомнив, что девушка специализируется на супах.
— Разве такого грязнулю в столовую пустят? — весело спросила она.— Нет, мы сначала в склад зайдем, и тетя Христя из вас пыль выбьет. Ну, а потом, может быть, и чайком угостит.
— Нет уж, спасибо,— солидно сказал Коля.— Мне к дежурному по полку надо: я обязательно должен прибыть сегодняшним числом.
— Так сегодняшним и прибудете: суббота уж два часа как кончилась.
— Не важно. Важно до утра, понимаете? Всякий день с утра начинается.
— А вот у меня не всякий. Осторожно, ступеньки. И пригнитесь, пожалуйста.
Вслед за девушкой он стал спускаться куда-то под землю по крутой и узкой лестнице. За массивной дверью, которую открыла Мирра, лестница освещалась слабой лампочкой, и Коля с удивлением оглядывал низкий, сводчатый потолок, кирпичные стены и тяжелые каменные ступени.
— Подземный ход?
— Склад.— Мирра распахнула еще одну дверь, крикнула: — Здравствуйте, тетя Христя! Я гостя веду!..
И отступила, пропуская Колю вперед. Но Коля затоптался, спросил нерешительно:
— Сюда, значит?
— Сюда, сюда. Да не бойтесь же вы!
— Я не боюсь,— серьезно сказал Коля.
Он вошел в обширное, плохо освещенное помещение, придавленное тяжелым сводчатым потолком. Три слабенькие лампочки с трудом рассеивали подвальный сумрак, и Коля видел только ближайшую стену с узкими, как бойницы, отдушинами под самым потолком. В склепе этом было прохладно, но сухо: кирпичный пол кое-где покрывал мелкий речной песок.
— Вот и мы, тетя Христя! — громко сказала Мирра, закрывая дверь.— Здравствуйте, Анна Петровна! Здравствуйте, Степан Матвеич! Здравствуйте, люди!
Голос ее гулко проплыл под сводами каземата и не заглох, а как бы растаял.
— Здравствуйте,— сказал Коля.
Глаза немного привыкли к полумраку, и он различил двух женщин — толстую и не очень толстую — и усатого старшину, присевшего на корточки перед железной печуркой.
— А, щебетуха пришла,— усмехнулся усатый.
Женщины сидели за большим столом, заваленным мешками, пакетами, консервными банками, пачками чая. Они что-то сверяли по бумажкам и никак не отреагировали на их появление. И старшина не вытянулся, как полагалось при появлении старшего по званию, а спокойно ковырялся с печкой, заталкивая в нее обломки ящиков. На печурке стоял огромный жестяной чайник.
— Здравствуйте, здравствуйте! — Мирра обняла женщин за плечи и по очереди поцеловала.— Уже все получили?
— Я тебе когда велела приходить? — строго спросила толстая.— Я тебе к восьми велела приходить, а ты к рассвету являешься и совсем не спишь.
— Ай, тетя Христя, не ругайтесь. Я еще отосплюсь.
— Командира где-то подцепила,— не без удовольствия отметила та, что была помоложе: Анна Петровна.— Какого полка, товарищ лейтенант?
— Я в списках еще не значусь,— солидно сказал Коля.— Только что прибыл…
— И уже испачкался,— весело перебила девушка.— Упал на ровном месте.
— Бывает,— благодушно сказал старшина.
Он чиркнул спичкой, и в печурке загудело пламя.
— Щеточку бы,— вздохнул Коля.
— Здорово извалялся,— сердито проворчала тетя Христя.— А пыль наша въедлива особо.
— Выручай его, Миррочка,— улыбнулась Анна Петровна.— Из-за тебя, видно, он на ровном месте падал.
Люди здесь были своими и поэтому разговаривали легко, не боясь задеть собеседника. Коля почувствовал это сразу, но пока еще стеснялся и отмалчивался. Тем временем Мирра разыскала щетку, вымыла ее под висевшим в углу рукомойником и совсем по-взрослому сказала:
— Пойдем уж чиститься, горе… чье-то.
— Я сам! — поспешно сказал он.— Сам, слышите?
Но девушка, припадая на левую ногу, невозмутимо шла к дверям, и Коля, недовольно вздохнув, поплелся следом.
— Во, обратала! — с удовольствием отметил старшина Степан Матвеевич.— Правильно, щебетуха: с нашим братом только так и надо.
Несмотря на протесты, Мирра энергично вычистила его, сухо командуя: «Руки!», «Повернитесь!», «Не вертитесь!» Коля сначала спорил, а потом примолк, поняв, что сопротивление бессмысленно. Покорно поднимал руки, вертелся или, наоборот, не вертелся, сердито скрывая раздражение. Нет, он не обижался на эту девчонку за то, что она в данный момент не без удовольствия вертела им, как хотела. Но прорывавшиеся в ее тоне нотки, явно покровительственные, выводили его из равновесия. Мало того, что он был минимум на три года старше ее,— он был командиром, полновластным распорядителем судеб целого взвода, а девчонка вела себя так, будто не он, а она была этим командиром, и Коля очень обижался.
— И не вздыхайте! Я же из вас пыль выколачиваю, а вы вздыхаете. А это вредно.
— Вредно,— не без значения подтвердил он.— Ох и вредно!
Светало, когда они той же крутой {28} лестницей спустились в склад. На столе остался только хлеб, сахар да кружки, и все сидели вокруг и неторопливо разговаривали, ожидая, когда же наконец закипит огромный жестяной чайник. Кроме женщин и усатого старшины, здесь оказалось еще двое: хмурый старший сержант и молоденький, смешно остриженный под машинку красноармеец. Красноармеец все время отчаянно зевал, а старший сержант сердито рассказывал:
— Ребята в кино пошли, а меня начбой хватает. Стой, говорит, Федорчук, дело, говорит, до тебя. Что, думаю, за дело? А дело вон какое: разряди, говорит, Федорчук, все диски, выбей, говорит, из лент все патроны, перетри, говорит, их начисто, наложи смазку и снова набей. Во! Тут на целую роту три дня без перекура занятий. А я — один: две руки, одна башка. Помощь, говорю, мне. И дают мне в помощь вот этого петуха, Васю Волкова, первогодка стриженого. А что он умеет? Он спать умеет, пальцы себе киянкой отшибать умеет, а больше ничего он пока не умеет. Верно говорю, Волков?
В ответ боец Вася Волков со вкусом зевнул, почмокал толстыми губами и неожиданно улыбнулся:
— Спать охота.
— Спать! — с неудовольствием сказал Федорчук.— Спать у маменьки будешь. А у меня ты, Васятка, будешь патроны из пулеметных лент выколачивать аж до подъема. Понял? Вот чайку сейчас попьем и обратно заступим в наряд. Христина Яновна, ты нам сегодня заварочки не пожалей.
— Деготь налью,— сказала тетя Христя, высыпая в кипящий чайник целый кубик заварки.— Сейчас настоится, и перекусим. Куда это вы, товарищ лейтенант?
— Спасибо,— сказал Коля.— Мне в полк надо, к дежурному.
— Успеется,— сказала Анна Петровна.— Служба от вас не убежит.
— Нет, нет.— Коля упрямо помотал головой.— Я и так опоздал: в субботу должен был прибыть, а сейчас уже воскресенье.
— Сейчас и не суббота, и не воскресенье, а тихая ночь,— сказал Степан Матвеевич.— А ночью и дежурным подремать положено.
— Садитесь лучше к столу, товарищ лейтенант,— улыбнулась Анна Петровна.— Чайку попьем, познакомимся. Откуда будете-то?
— Из Москвы.— Коля немного помялся и сел к столу.
— Из Москвы,— с уважением протянул Федорчук.— Ну, как там?
— Что?
— Ну, вообще.
— Хорошеет,— серьезно сказал Коля.
— А как с промтоварами? — поинтересовалась Анна Петровна.— Здесь с промтоварами очень просто. Вы это учтите, товарищ лейтенант.
— А ему-то зачем промтовары? — улыбнулась Мирра, садясь за стол.— Ему наши промтовары ни к чему.
— Ну, как сказать,— покачал головой Степан Матвеевич.— Костюм бостоновый справить — большое дело. Серьезное дело.
— Гражданского не люблю,— сказал Коля.— И потом, меня государство обеспечивает полностью.
— Обеспечивает,— неизвестно почему вздохнула тетя Христя.— Ремнями оно вас обеспечивает: все в сбруе ходите.
Сонный красноармеец Вася перебрался от печурки к столу. Сел напротив, глядел в упор, часто моргая. Коля все время встречал его взгляд и, хмурясь, отводил глаза. А молоденький боец ничего не стеснялся и разглядывал лейтенанта серьезно и досконально, как ребенок.
Неторопливый рассвет нехотя вползал в подземелье сквозь узкие отдушины. Накапливаясь под сводчатым потолком, медленно раздвигал тьму, но она не рассеивалась, а тяжело оседала в углах. Желтые лампочки совсем затерялись в белесом полумраке. Старшина выключил их, но темнота была еще густой и недоброй, и женщины запротестовали:
— Темно!
— Экономить надо энергию,— проворчал Степан Матвеевич, вновь зажигая свет.
— Сегодня свет в городе погас,— сказал Коля.— Наверно, авария.
— Возможное дело,— лениво согласился старшина.— У нас своя подстанция.
— А я люблю, когда темно,— призналась Мирра.— Когда темно — не страшно.
— Наоборот! — сказал Коля, но тут же спохватился.— То есть, конечно, я не о страхе. Это всякие мистические представления насчет темноты.
Вася Волков снова очень громко и очень сладко зевнул, а Федорчук сказал с той же недовольной гримасой:
— Темнота — ворам удобство. Воровать да грабить — для того и ночь.
— И еще кой для чего,— улыбнулась Анна Петровна.
— Ха! — Федорчук зажал смешок, покосился на Мирру.— Точно, Анна Петровна. И это, стало быть, воруем, так понимать надо?
— Не воруем,— солидно сказал старшина.— Прячем.
— Доброе дело не прячут,— непримиримо проворчал Федорчук.
— От сглазу,— веско сказала тетя Христя, заглядывая в чайник.— От сглазу и доброе дело подальше прячут. И правильно делают. Готов наш чаек, берите сахар.
Анна Петровна раздала по куску колючего синеватого сахара, который Коля положил в кружку, а остальные стали дробить на более мелкие части. Степан Матвеевич принес чайник, разлил кипяток.
— Берите хлебушко,— сказала тетя Христя.— Выпечка сегодня удалась, не переквасили.
— Чур, мне горбушку! — быстро сказала Мирра.
Завладев горбушкой, она победоносно посмотрела на Колю. Но Коля был выше этих детских забав и поэтому лишь покровительственно улыбнулся. Анна Петровна покосилась на них и тоже улыбнулась, но как бы про себя, и Коле это не понравилось.
«Будто я за ней бегаю,— обиженно подумал он про Мирру.— И чего все выдумывают?..»
— А маргаринчику нет у тебя, хозяюшка? — спросил Федорчук.— Одним хлебушком сил не напасешь…
— Поглядим. Может, и есть.
Тетя Христя прошла в серую глубину подвала; все ждали ее и к чаю не притрагивались. Боец Вася Волков, получив кружку в руки, зевнул в последний раз и окончательно проснулся.
— Да вы пейте, пейте,— сказала из глубины тетя Христя.— Пока тут найдешь…
За узкими щелями отдушин холодно полоснуло голубоватое пламя. Колыхнулись лампочки над потолком.
— Гроза, что ли? — удивилась Анна Петровна.
Тяжкий грохот обрушился на землю. Вмиг погас свет, но сквозь отдушины в подвал то и дело врывались ослепительные вспышки. Вздрогнули стены каземата, с потолка сыпалась штукатурка, и сквозь оглушительный вой и рев все яснее и яснее прорывались раскатистые взрывы тяжелых снарядов.
А они молчали. Молчали, сидя на своих местах, машинально стряхивая с волос сыпавшуюся с потолка пыль. В зеленом свете, врывавшемся в подвал, лица казались бледными и напряженными, словно все старательно прислушивались к чему-то, уже навеки заглушенному тугим ревом артиллерийской канонады.
— Склад! — вдруг закричал Федорчук, вскакивая.— Склад боепитания взорвался! Точно говорю! Лампу я там оставил! Лампу!..
Рвануло где-то совсем рядом. Затрещала массивная дверь, сам собой сдвинулся стол, рухнула штукатурка с потолка. Желтый удушливый дым пополз в отдушины.
— Война! — крикнул Степан Матвеевич.— Война это, товарищи, война!
Коля вскочил, опрокинув кружку. Чай пролился на так старательно вычищенные брюки, но он не заметил.
— Стой, лейтенант! — Старшина на ходу схватил его.— Куда?
— Пустите! — кричал Коля, вырываясь.— Пустите меня! Пустите! Я в полк должен! В полк! Я же в списках еще не значусь! В списках не значусь, понимаете?!
Оттолкнув старшину, он рванул засыпанную обломками кирпича дверь, боком протиснулся на лестницу и побежал наверх по неудобным стертым ступеням. Под ногами громко хрустела штукатурка.
Наружную дверь смело взрывной волной, и Коля видел оранжевые сполохи пожаров. Узкий коридор уже заволакивало дымом, пылью и тошнотворным запахом взрывчатки. Тяжко вздрагивал каземат, все вокруг выло и стонало, и было 22 июня 1941 года: четыре часа пятнадцать минут по московскому времени…
Часть вторая
1
Когда Плужников выбежал наверх — в самый центр незнакомой, полыхающей крепости,— артиллерийский обстрел продолжался, но в ритме его наступило какое-то замедление: немцы начали переносить огневой вал за внешние обводы. Снаряды еще продолжали падать, но падали уже не бессистемно, а по строго запланированным квадратам, и поэтому Плужников успел оглядеться.
Кругом все горело. Горела кольцевая казарма, дома возле церкви, гаражи на берегу Мухавца. Горели машины на стоянках, будки и временные строения, магазины, склады, овощехранилища — горело все, что могло гореть, а что не могло — горело тоже, и в реве пламени, в грохоте взрывов и скрежете горящего железа метались полуголые люди.
И еще кричали лошади. Кричали где-то совсем рядом, у коновязи, за спиной Плужникова, и этот необычный, неживотный крик заглушал сейчас все остальное: даже то жуткое, нечеловеческое, что изредка доносилось из горящих гаражей. Там, в промасленных и пробензиненных помещениях с крепкими решетками на окнах, в этот час заживо сгорали люди.
Плужников не знал крепости. Они с девушкой шли в темноте, а теперь эта крепость предстала перед ним в снарядных всплесках, дыму и пламени. Вглядевшись, он с трудом определил Трехарочные ворота и решил бежать к ним, потому что дежурный по КПП должен был обязательно запомнить его и объяснить, куда теперь являться. А явиться куда-то, кому-то доложить было просто необходимо.
И Плужников побежал к воротам, прыгая через воронки и завалы земли и кирпича и прикрывая затылок обеими руками. Именно затылок: было невыносимо представить себе, что в его аккуратно подстриженный и такой беззащитный затылок каждое мгновение может вонзиться иззубренный и раскаленный осколок снаряда. И поэтому он бежал неуклюже, балансируя телом, странно сцепив руки на затылке и спотыкаясь.
Он не расслышал тугого снарядного рева: рев этот пришел позже. Он всей спиной почувствовал приближение чего-то беспощадного и, не снимая рук с затылка, лицом вниз упал в ближайшую воронку. В считанные мгновения до взрыва он руками, ногами, всем телом, как краб, зарывался в сухой неподатливый песок. А потом опять не расслышал разрыва, а почувствовал, что его вдруг со страшной силой вдавило в песок, вдавило настолько, что он не мог вздохнуть, а лишь корчился под этим гнетом, задыхаясь, хватая воздух и не находя его во вдруг наступившей тьме. А затем что-то грузное, но вполне реальное навалилось на спину, окончательно пригасив и попытки глотнуть воздуха, и остатки в клочья разорванного сознания.
Но очнулся он быстро: он был здоров и яростно хотел жить. Очнулся с тягучей головной болью, горечью в груди и почти в полной тишине. Вначале он — еще смутно, еще приходя в себя,— подумал, что обстрел кончился, но потом сообразил, что просто ничего не слышит. И это совсем не испугало его; он вылез из-под завалившего его песка и сел, все время сплевывая кровь и противно хрустевший на зубах песок.
«Взрыв,— старательно подумал он, с трудом разыскивая слова.— Должно быть, тот склад завалило. И старшину, и девчонку ту с хромой ногой…»
Думал он об этом тяжело и равнодушно, как о чем-то очень далеком и во времени и в пространстве, пытался вспомнить, куда и зачем он бежал, но голова еще не слушалась. И он просто сидел на дне воронки, однообразно раскачиваясь, сплевывал окровавленный песок и никак не мог понять, зачем и почему он тут сидит.
В воронке ядовито воняло взрывчаткой. Плужников лениво подумал, что надо бы вылезти наверх, что там он скорее отдышится и придет в себя, но двигаться мучительно не хотелось. И он, хрипя натруженной грудью, глотал эту тошнотворную вонь, при каждом вздохе ощущая неприятную горечь. И опять не услышал, а почувствовал, как кто-то скатился на дно за его спиной. Шея не ворочалась, и повернуться пришлось всем телом.
На откосе сидел парнишка в синей майке, черных трусах и пилотке. По щеке у него текла кровь; он все время вытирал ее, удивленно глядел на ладонь и вытирал снова.
— Немцы в клубе,— сказал он.
Плужников половину понял по губам, половину расслышал.
— Немцы?
— Точно.— Боец говорил спокойно: его занимала только кровь, что медленно сползала по щеке.— По мне жахнули. С автомата.
— Много их?
— А кто считал? По мне один жахнул, и то я щеку побил.
— Пулей?
— Не. Упал я.
Они разговаривали спокойно, будто все это была игра и мальчишка с соседнего двора ловко выстрелил из рогатки. Плужников пытался осознать себя, почувствовать свои собственные руки и ноги, спрашивал, думая о другом, и лишь ответы ловил напряженно, потому что никак не мог понять, слышит он или просто догадывается, о чем говорит этот парнишка с расцарапанной щекой.
— Кондакова убило. Он слева бежал и упал сразу {29}. Задергался и ногами забил, как припадочный. И киргиза того, что дневалил вчера, тоже убили. Того раньше.
Боец говорил что-то еще, но Плужников вдруг перестал его слушать. Нет, теперь он слышал почти все — и ржание покалеченных лошадей у коновязи, и взрывы, и рев пожаров, и далекую стрельбу,— он все слышал и поэтому успокоился и перестал слушать. Он переварил в себе и понял самое главное из того, что успел наговорить ему этот красноармеец: немцы ворвались в крепость, и это означало, что война действительно началась.
— …А из него кишки торчат. И вроде — дышат. Сами собой дышат, ей-богу!..
Голос разговорчивого паренька ворвался на мгновение, и Плужников — теперь он уже контролировал себя — тут же выключил это бормотание. Представился, назвал полк, куда был направлен, спросил, как до него добраться.
— Подстрелят,— сказал боец.— Раз они в клубе — это в церкви бывшей, значит,— так обязательно жахнут. Из автоматов. Оттуда им все — как на ладошке.
— А вы куда бежали?
— За боеприпасом. Нас с Кондаковым в склад боепитания послали, а его убило.
— Кто послал?
— Командир какой-то. Все перепуталось, не поймешь, где твой командир, где чужой. Бегали мы сперва много.
— Куда приказано было доставить боеприпасы?
— Так ведь в клубе немцы. В клубе,— неторопливо и доброжелательно, точно ребенку, объяснил боец.— Куда ни приказывали, а не пробежать. Как жахнут…
Он любил это слово и произносил его особенно впечатляюще: в слове слышалось жужжанье. Но Плужникова больше всего интересовал сейчас склад боепитания, где он надеялся раздобыть автомат, самозарядку или, на худой конец, обычную трехлинейку с достаточным количеством патронов. Оружие давало не только возможность действовать, не только стрелять по врагу, засевшему в самом центре крепости,— оружие обеспечивало личную свободу, и он хотел заполучить его как можно скорее.
— Где склад боепитания?
— Кондаков знал,— нехотя сказал боец.
Кровь по щеке больше не текла — видно, засохла, но он все время бережно ощупывал грязными пальцами глубокую ссадину.
— Черт! — рассердился Плужников.— Ну, где он может быть, этот склад? Слева от нас или справа? Где? Ведь если немцы проникли в крепость, они же на нас могут наткнуться, это вы соображаете? Из пистолета не отстреляешься.
Последний довод заметно озадачил парнишку: он перестал ковырять коросту на щеке, тревожно и осмысленно глянул на лейтенанта.
— Вроде слева. Как бежали, так он справа был. Или — нет: Кондаков-то слева бежал. Погодите, гляну, где он лежит.
Повернувшись на живот, он ловко пополз наверх. На краю воронки оглянулся, став вдруг очень серьезным, и, сняв пилотку, осторожно высунул наружу стриженную под машинку голову.
— Вон Кондаков,— не оглядываясь, приглушенно сообщил он.— Не дергается больше, все. А до склада мы чуток только не добежали: вижу его. И вроде он не разбомбленный.
Оступаясь — ему очень не хотелось ползти при этом молоденьком красноармейце,— Плужников поднялся на откос, лег рядом с бойцом и выглянул: неподалеку действительно лежал убитый в гимнастерке и галифе, но без сапог и пилотки. Темная голова отчетливо виднелась на белом песке. Это был первый убитый, которого видел Плужников, и жуткое любопытство невольно притягивало к нему. И поэтому молчал он долго.
— Вот тебе и Кондаков,— вздохнул боец.— Конфеты любил, ириски. А жаден был — хлебца не выпросишь.
— Так. Где склад? — спросил Плужников, с усилием отрываясь от убитого Кондакова, который был когда-то жадным и очень любил ириски.
— А вон бугорок вроде. Видите? Только вход где в него, это не знаю.
Недалеко от склада за изрытой снарядами, изломанной зеленью виднелось массивное здание, и Плужников понял, что это и есть клуб, в котором, по словам бойца, уже засели немцы. Оттуда слышались короткие автоматные очереди, но куда они били, Плужников понять не мог.
— По Белому дворцу садют,— сказал боец.— Левей гляньте. Инженерное управление.
Плужников глянул: за низкой оградой, окружавшей двухэтажное, уже меченное снарядами здание, лежали люди. Он отчетливо видел огоньки их частых беспорядочных выстрелов.
— По моей команде бежим до…— Он запнулся, но продолжил: — До Кондакова. Там падаем, даже если немцы не откроют огня. Поняли? Внимание. Приготовились. Вперед!
Он бежал в рост, не пригибаясь, не столько потому, что голова его еще кружилась, а чтобы не выглядеть трусом в глазах этого перепуганного парнишки в синей майке. На одном дыхании он домчался до убитого, но не остановился, как сам же приказывал, а побежал дальше, к оружейному складу. И, только добежав до него, вдруг испугался, что вот сейчас-то его и убьют. Но тут, громко дыша, притопал боец, и Плужников поспешно отогнал от себя страх и даже улыбнулся этому смешному стриженому красноармейцу:
— Чего пыхтишь?
Боец ничего не ответил, но тоже улыбнулся, и обе эти улыбки были похожи друг на друга как две капли воды.
Они трижды обошли земляной бугор, но нигде не нашли ничего похожего на вход. Все вокруг было уже взрыто и вздыблено, и то ли вход завалило при обстреле, то ли боец что-то напутал, то ли мертвый Кондаков бежал совсем не в ту сторону, а только Плужников понял, что вновь остался с одним пистолетом, променяв удобную дальнюю воронку на почти оголенное место рядом с церковью. Он с тоской оглянулся на низкую ограду Белого дворца, на беспорядочные огоньки выстрелов: там были свои, и Плужникову нестерпимо захотелось к ним.
— К нашим бежим,— не глядя, сказал он.— Как скажу «три». Готов?
— Готов,— вздохнул боец.— А они в лоб жахнут: как раз сюда целят-то.
— Не жахнут,— не очень уверенно ответил Плужников.— Свои же мы, красные.
Он так и сказал «красные». Как в детстве, когда играл во дворе в Чапаева, но Чапаевым его никто не признавал, и ему всегда приходилось довольствоваться ролью командира эскадрона Жихарева.
По его команде они снова побежали, прыгая через воронки и через убитых, не ложась и не пригибаясь. Бежали навстречу огонькам, и Плужников все время кричал «свои!», но оттуда все стреляли и стреляли, и несколько раз он отчетливо слышал негромкий пулевой посвист. И опять им повезло: они добежали до ограды, перемахнули через нее и, задыхаясь, упали на землю уже в безопасности и среди своих. А злой старший лейтенант в старательно застегнутой, но очень грязной гимнастерке сердито кричал:
— Перебежками надо, понятно? Перебежками!..
Отдышавшись, Плужников хотел доложить, но старший лейтенант доклада слушать не стал, а послал его на левый фланг жиденькой обороны с приказом вести особое наблюдение в сторону Тереспольских ворот: он был убежден, что немцы прорвались оттуда. Очень коротко ознакомив Плужникова с обстановкой и не ответив ни на один из вопросов, старший лейтенант хмуро добавил:
— Винтовку у сержанта заберешь. И следи за воротами, понял? Нам бы только до своих продержаться.
До каких «своих» надеялся продержаться старший лейтенант и откуда они должны были появиться, Плужников расспрашивать не стал. Он сам верил, что свои вот-вот подойдут и все образуется само собой. Надо только держаться. Просто отстреливаться, и все.
Явившись на левый фланг, Плужников не нашел там никакого сержанта: угол здания медленно горел, неохотно выбрасывая из дыма огненные языки, а возле ограды лежали полуодетые бойцы и два пограничника с ручным пулеметом Дегтярева.
— Почему пожар не ликвидируете? — сердито спросил Плужников.
Ему никто не ответил: все напряженно глядели в сторону ворот с высокой водонапорной башней. Плужников понял несвоевременность указаний, спросил у пулеметчиков о сержанте. Старший коротко кивнул:
— Там.
Небольшого роста человек ничком лежал на земле, широко разбросав ноги в стоптанных сапогах. Чернявая голова его лбом упиралась в прицельную планку винтовки и только тяжело закачалась, когда Плужников тронул сержанта за плечо.
— Товарищ сержант…
— Убитый он,— сказал пограничник.
Плужников сразу отдернул руку, беспомощно оглянулся, но никто сейчас не обращал на него внимания. Не решаясь вновь притронуться к мертвецу, он потянул винтовку за ствол, но убитый по-прежнему цепко держался за нее, а Плужников все дергал и дергал, и круглая чернявая голова тупо вздрагивала, стукаясь лбом о прицельную планку.
— Опять бегут,— сказал кто-то.— Это с восемьдесят четвертого ребята.
— Музыканты это,— сказал второй.— Они над воротами…
Со стороны клуба послышалось несколько коротких сухих очередей. Плужников не знал, куда стреляют, но сразу же упал рядом с убитым сержантом, продолжая упорно выворачивать из его мертвых рук трехлинейку. Убитый некоторое время волочился за нею, но потом мертвые пальцы вдруг разжались, и Плужников, схватив винтовку, пополз в дальний угол ограды, не решаясь оглянуться.
У Тереспольских ворот металось несколько бойцов: один нес ярко начищенную трубу, и на ней временами остро вспыхивали солнечные зайчики. Немцы стреляли скупо, и музыканты то падали, то вновь вскакивали и продолжали метаться. У коновязи бились и храпели лошади, и Плужников больше смотрел на них, а когда опять глянул в сторону ворот, то музыканты уже куда-то подевались, унеся с собой веселый солнечный зайчик.
— Вот с восемьдесят четвертого! — крикнул пограничник, который был первым номером у пулемета.— К нам, что ли?
От кольцевых казарм правильными перебежками продвигались красноармейцы. Не растерянные музыканты, а бойцы с оружием, и немецкие автоматчики сразу усилили огонь.
Рядом резко застучал «дегтярь»: пограничники короткими очередями били по костелу, прикрывая товарищей.
— Огонь! — закричал Плужников.
Он кричал для себя, потому что команда была ему необходима. Но, скомандовав, он так и не смог выстрелить: в сержантской винтовке патронов не оказалось, и Плужников только без толку щелкал курком, лихорадочно передергивая затвор.
— Вели диски набить, лейтенант! — закричал второй номер — рослый брюнет со значком ворошиловского стрелка на гимнастерке.— Диски кончаются!
Плужников побежал к дому мимо редкой цепочки бойцов. Старшего лейтенанта нигде не было видно, и он, волоча винтовку, долго суетился возле горящего здания.
— Патроны! Где патроны?
— В подвале спроси,— сказал полуголый сержант с забинтованной головой.— Хлопцы оттуда цинки таскали.
Тяжелый смрадный дым медленно сползал в подвалы. Кашляя и вытирая слезы, Плужников ощупью спустился по крутым стертым ступеням, с трудом разглядел в полумраке раненых и спросил:
— Патроны где?
— Кончились,— сказал вдруг женский голос из темноты.— Что наверху слышно?
Плужникову очень хотелось увидеть, кому принадлежит этот голос, но, как он ни вглядывался, ничего разобрать не смог.
— К нам из казарм прорываются,— сказал он.— Из восемьдесят четвертого, что ли. Старшего лейтенанта не видали?
— Пройдите сюда. Осторожнее: люди на полу.
У стены лежал старший лейтенант в испачканной гимнастерке, разорванной до пояса. Кое-как перебинтованная грудь его чуть вздымалась, и при каждом вздохе выступала розовая пена на белых, стянутых в нитку губах. Плужников опустился подле него на колени, позвал:
— Товарищ старший лейтенант. Товарищ…
— Уже не дозоветесь,— сказал все тот же голос.— Наши-то скоро из города подойдут, ничего не слышно?
— Подойдут,— сказал Плужников, вставая.— Должны подойти.— Он еще раз оглянулся, смутно различил темную фигуру и тихо добавил: — Пожар наверху. Уходите отсюда.
— Куда? Здесь — раненые.
— Опасно оставаться.
Женщина промолчала. Подавленный не столько отсутствием патронов, сколько смертью командира, Плужников выбрался из задымленного подвала. В подъезде уже невозможно было стоять: над головой занимались перекрытия. У входа на ступеньках по-прежнему сидел сержант, неторопливо, по-домашнему сворачивая цигарку.
— Надо бы из подвала раненых вынести,— сказал Плужников.— Огонь вход отрежет. И женщина там.
— Надо,— спокойно согласился сержант.— А куда? Кругом горит.
— Ну, не знаю. Куда-нибудь…
— Не вертись,— вдруг перебил сержант.— Старшего лейтенанта аккурат тут стукнуло, где ты стоишь.
Плужников поспешно вышел. Во дворе приутихла стрельба, слышались неразборчивые голоса. Плужников вспомнил о патронах, хотел было опять вернуться к сержанту, расспросить, но раздумал и, волоча пустую винтовку, побежал к людям.
Они толпились за углом вокруг черноволосого замполитрука. Черноволосый говорил решительно и зло, и все с видимым облегчением слушали его резкий голос.
— …По моей команде. Не останавливаться, не отвлекаться. Только вперед! Ворваться в клуб и ликвидировать автоматчиков врага. Задача ясна?
— Ясна! — с привычной бодростью отозвались бойцы.
— А ликвидировать чем? — хмуро спросил немолодой, видно из приписников, боец в синей майке.— Винтовки без штыков, а у меня так и вовсе нету.
— Зубами рви! — громко сказал замполитрук.— Кирпич вон захвати: зачем глупые вопросы? Главное — всем вместе, дружно, с громким «ура!». И не ложиться! Бежать и бежать прямо в клуб.
— Как в кино! — сказал круглоголовый, как мальчишка, боец.
Все засмеялись, и Плужников засмеялся тоже. И не потому, что круглоголовый боец сказал что-то уж очень смешное, а потому, что все сейчас испытывали нетерпеливое волнение, знали задачу и видели перед собой человека, который брал на себя самое трудное: принимать решения за всех.
— У кого нет винтовок, вооружиться лопатами, камнями, палками — всем, чем можно проломить фашисту голову.
— Она у него в каске! — опять крикнул круглоголовый: он числился ротным шутником.
— Значит, бей сильней! — улыбнулся замполитрук.— Бей, как хороший хозяин грабителя бьет. Пять минут на сбор оружия. В атаку идти всем! Кто останется — дезертир…— Тут он замолчал, заметив Плужникова. И спросил: — Какого полка, товарищ лейтенант?
— Я в списках не значусь. Вот командировочное…
— Документы потом. Полковой комиссар приказал мне лично возглавить атаку.
— Конечно, конечно! — торопливо согласился Плужников.— Я — в вашем полном распоряжении…
— Возьмите на себя окна,— подумав, сказал замполитрук.— Десять человек — в распоряжение лейтенанта!
Из толпы вразнобой вышли десятеро: оба пограничника, хмурый приписник, ротный острослов, сержант с забинтованной головой, молоденький боец в трусах и майке с расцарапанной щекой, еще кто-то, кого Плужников не успел приметить. Они молча стояли перед ним, ожидая указаний или распоряжений, а он не знал, что им сказать. Старший пограничник держал на плече «дегтярь», будто дубину: ствол еще не остыл, и пограничник все время перебирал по нему пальцами, словно играл на дудке. Сержант курил цигарку, а приписник, жадно поглядывая, шептал:
— Оставь маленько, товарищ сержант. Разок, а?
— Значит, окна,— сказал Плужников.— Там стекла?
— Стекла все повылетали,— сказал сержант и дал приписнику окурок.— Тебя как зовут-то?
— Фамилия — Прижнюк,— сказал тот, жадно затягиваясь.
— Эх, гранатку бы! — вздохнул смуглый пограничник.
— Да, вооружиться всем,— спохватился Плужников.— Ну, кто что найдет. Только быстро.
Солдаты разошлись, остались только пограничники, потому что у старшего был «дегтярь», а младший уже раздобыл где-то старый кавалерийский клинок.
— Не думал не гадал,— усмехнулся старший.— Меня сегодня Ленка ждет. В семь вечера, представляешь?
— Никуда Ленка не денется,— сказал второй.— Еще нацелуешься.
— Вопрос: когда…
Постепенно подходили бойцы, вооруженные кто саперной лопаткой, а кто и выломанным из ограды железным прутом. Винтовка, которая досталась Плужникову после убитого, тоже была без штыка, но он вспомнил о пистолете и отдал винтовку бойцу с расцарапанной щекой.
— Не надо,— сказал боец и показал саперную лопатку.— Я ее на камне наточил, может, автомат добуду.
— Без штанов, а тоже — автомат,— сказал старший пограничник.— Голову сбереги, и то ладно.
Винтовку взял Прижнюк. Повертел ее в руках, как дубину, проворчал:
— Годится.
— Как окна поделим? — спросил пограничник с пулеметом.— Мое первое или ваше?
— Первое — мое,— торопливо сказал Плужников, потому что внутренне был убежден, что первое — число счастливое.— Мое первое…
— Готовы? — крикнул замполитрук.— Как только наши откроют огонь, я дам команду.
Прошло еще несколько томительных, как часы, минут. Плужников стоял за углом горящего здания, покашливая от дыма. Ладони потели, он то и дело перекладывал пистолет из руки в руку и вытирал их о гимнастерку. За плечом жарко и нетерпеливо дышал пограничник с пулеметом.
— Ну, чего тянут?
— Тихо,— сказал Плужников.— Обычная атака…
Атака была настоящей, и ему стало неудобно за мальчишеские слова. Но никто сейчас уже не обращал внимания ни на слова, ни на никому не известного лейтенанта. Слышалось только учащенное дыхание, редкое позвякивание железа, рев пламени за кирпичной стеной да частая стрельба по всему периметру кольцевых казарм. И еще — гул сражения в Бресте. Гул, который Плужников слушал почти с восторгом: там были свои, там громили немцев, оттуда должна была вот-вот прийти помощь.
Как ни ловил Плужников близких выстрелов, а застали они его врасплох, и он инстинктивно рванулся из-за угла, но пограничник схватил за плечо, потому что команды еще не было. Плужников выглянул, увидел частые вспышки выстрелов из окон казарм, веера ответных очередей из костела, и в этот миг замполитрук закричал сорвавшимся голосом:
— Вперед! За родину!..
— Вперед! — закричал Плужников, бросаясь к ограде.
Он бежал, не видя дороги и крича «ура!», пока хватало сил. «Ура!» получалось коротким, но он вновь глотал воздух широко разинутым ртом и вновь выдыхал его в тягучем крике. Пули свистели над головой, взбивали пыль у ног, резали еще уцелевший кустарник, но он одним из первых добежал до стены костела и прижался к ней, потому что из окна били и били частые очереди. Где-то рядом кричали сорванными, напряженными голосами, что-то звенело, и не переставая вспарывали воздух автоматные очереди.
— Окно! — крикнул пограничник.— Окно, мать вашу!..
Оттолкнув Плужникова, он бросился к оконному проему, тонко, по-мальчишечьи взвизгнул и упал грудью на подоконник. Плужников дважды выстрелил в оскаленный вспышками сумрак костела, прыгнул на мокрую, вздрагивающую спину пограничника и, перекатившись через него, свалился на кирпичный пол. По волосам обжигающе ударило очередью, он выстрелил еще раз и на четвереньках побежал к стене. Рядом упал кто-то из бойцов, что тоже прыгал через мертвого пограничника. Плужникова больно ударили по голове сапогом, но он сумел вскочить и прижаться спиной к кирпичам.
Со света казалось, что в костеле темно. В сумраке и кирпичной пыли, хрипя и яростно матерясь, дрались врукопашную, ломали друг другу спины, душили, рвали зубами, выдавливали глаза, раздирали рты, кромсали ножами, били лопатами, кирпичами, прикладами. Кто плакал, кто кричал, кто стонал, а кто ругался — разобрать уже было невозможно. Плужников видел только широко оскаленные рты и слышал только протяжный звериный рев.
Все это пронеслось перед ним во мгновение, как моментальная фотография, потому что в следующее мгновение он оторвался от стены и кинулся в глубину, где еще вспыхивали короткие веера очередей. Он не решался стрелять издалека, потому что между ним и вспышками то появлялись, то исчезали фигуры. Он оттолкнул кого-то, кажется, своего, выстрелил в близкое ощеренное чужое лицо, споткнулся, упал на клубок тел, катавшихся по полу, бил тяжелым ТТ по стриженому затылку, и затылок этот дергался все медленнее, все безвольнее, а когда совсем перестал дергаться, самого Плужникова с такой силой ударили по голове, что на какое-то время он потерял сознание и сунулся лицом в раздробленный им же самим немецкий, недавно подстриженный затылок.
Очнувшись, он не нащупал пистолета, а встать не смог и опять на четвереньках пополз к стене, размазывая по лицу чужую кровь. Голова не хотела держаться прямо, клонилась, и он уговаривал себя не терять сознания, смутно соображая, что растопчут. Он почти добрался до стены, как кто-то схватил его за сапог и потащил назад, под ноги надсадно хрипящих солдат. Он извернулся, увидел широкое, залитое кровью лицо, остро торчащие остатки зубов в раздробленной челюсти, кровавую слюну, распухший, вывалившийся язык и закричал. Он кричал тонко, визгливо, а немец, улыбаясь мертвой улыбкой, все волок его к себе и волок, и Плужников вдруг с поразительной ясностью понял, что это — смерть, и сразу вспотел, и продолжал визжать, а немец все тащил его и тащил, медленно и неуклонно, как во сне. И совсем как во сне у Плужникова не было сил, а был только липкий, черный, лишающий рассудка страх.
Кто-то упал на него и пополз от головы к ногам, к немцу, упираясь босой ногой в подбородок лейтенанта. И Плужников почувствовал, как немец отпустил его ногу и как странно подпрыгивает на его животе полуголый маленький боец. Это было больно, но уже не страшно, и Плужников кое-как вылез из-под бойца и увидел, что боец этот — с расцарапанной щекой,— стоя на коленях, бьет и бьет полотном саперной лопатки по шее немца и что лопатка эта с каждым ударом все глубже и глубже входит в тело, и немец судорожно корчится на полу.
Бой кончился, затихали последние стоны, последние крики и последняя ругань: немцы, не выдержав, бежали из костела, а кто не смог убежать, доходил сейчас на окровавленном кирпичном полу.
— Вы живой, товарищ лейтенант? А я лопаткой его, лопаткой! Хак! Хак! Как мамане телушку!
Плужников сидел у стены, с трудом приходя в себя. Ломило голову, тошнота волнами подступала к горлу, и он все время глотал, а слюны не было, и сухие колючие спазмы сжимали гортань. Он понимал, что бой закончился, что сам он уцелел и, кажется, даже не ранен, но не испытывал сейчас ничего, кроме тошноты и усталости. А маленький боец говорил и говорил, захлебываясь от восторга:
— Я ему жилу перерубил. Жилу подрезал, как телку. Тут, на шее, место такое…
— Пистолет,— с трудом сказал Плужников: ему было неприятно это восторженное оживление.— Пистолет мой…
— Найдем! А меня и не зацепил никто. Я верткий. Я, знаешь…
— Мой пистолет,— упрямо повторил Плужников.— Он в удостоверении записан. Личное оружие.
— А я автомат раздобыл! А пограничник говорил: без штанов, мол. А сам — убитый, а я — с автоматом.
— Лейтенант! — позвали откуда-то из глубины забитого пылью костела.— Лейтенант живой, никто не видал?
— Живой я.— Плужников поднялся, шагнул и сел на пол.— Голова только. Сейчас пройдет.
Он поискал, на что можно опереться, и нащупал немецкий автомат. Поднял, с усилием передернул затвор: выпал тускло блеснувший патрон. Плужников поставил автомат на предохранитель, оперся на него и кое-как встал на ноги.
К нему шел черноволосый замполитрук. Гимнастерки на замполитруке не было, белая, залитая кровью рубашка была надета поверх свежих бинтов.
— Ранило вас? — спросил Плужников.
— Немец спину кинжалом порезал,— сказал черноволосый.— Вам тоже досталось?
— Прикладом по голове, что ли. Или душили. Не помню.
— Глотните.— Замполитрук протянул фляжку.— Бойцы с убитого немца сняли.
Непослушными пальцами Плужников отвинтил пробку, глотнул. Теплая вонючая водка перехватила дыхание, и он тотчас же вернул фляжку.
— Водка.
— Хороши вояки? — спросил замполитрук, вешая фляжку на брючный пояс.— Полковому комиссару покажу. Кстати, как мне доложить о вас?
Плужников показал документы. Замполитрук внимательно просмотрел их, вернул:
— Вам придется остаться здесь. Комиссар сказал, что костел — ключ обороны цитадели. Я пришлю станковый пулемет.
— И воды. Пожалуйста, пришлите воды.
— Не обещаю: вода нужна пулеметам, а до берега не доберешься.— Замполитрук оглянулся, увидел молоденького бойца с расцарапанной щекой.— Товарищ боец, соберите все фляжки и лично сдайте их лейтенанту.
— Есть собрать фляжки.
— Минуточку. И оденьтесь: в трусах воевать не очень удобно.
— Есть.
Боец бегом кинулся выполнять приказания: сил у него хватало. А замполитрук сказал Плужникову:
— Воду берегите. И прикажите всем надеть каски: немецкие, наши — какие найдут.
— Хорошо. Это правильно: осколки.
— Кирпичи страшней,— улыбнулся замполитрук.— Ну, счастливо, товарищ лейтенант. Раненых мы заберем.
Замполитрук пожал руку и ушел, а Плужников тут же сел на пол, потому что в голове опять все поплыло: и костел, и замполитрук с изрезанной ножом спиной, и убитые на полу. Он качнулся, закрыл глаза, мягко повалился на бок и вдруг ясно-ясно увидел широкое лицо, оскал изломанных зубов и кровавые слюни, капающие из раздробленной челюсти.
— Черт возьми!
Огромным усилием он заставил себя сесть и вновь открыть глаза. Все по-прежнему дрожало и плыло, но в этой неверной зыби он все-таки выделил знакомого бойца: тот шел к нему, брякая фляжками.
«А все-таки я — смелый,— подумал вдруг Плужников.— Я ходил в настоящую атаку и, кажется, кого-то убил. Есть что рассказать Вале…»
— Вроде две с водой.— Боец протянул фляжку.
Плужников пил долго и медленно, смакуя каждый глоток. Он помнил о совете замполитрука {30} беречь воду, но оторваться от фляжки не смог и отдал ее, когда осталось на донышке.
— Вы два раза мне жизнь спасли. Как ваша фамилия?
— Сальников я.— Молоденький боец засмущался.— Сальников Петр. У нас вся деревня — Сальниковы.
— Я доложу о вас командованию, товарищ Сальников.
Сальников был уже одет в гимнастерку с чужого плеча, широченные галифе и короткие немецкие сапоги. Все это было ему велико, висело мешком, но он не унывал:
— Не в складе ведь.
— С погибших? — брезгливо спросил Плужников.
— Они не обидятся!
Голова почти перестала кружиться: осталась только тошнота и противная слабость. Плужников поднялся, с горечью обнаружил, что гимнастерка его залита кровью, а воротник разорван. Он кое-как оправил ее, подтянул портупею и, повесив на грудь трофейный автомат, пошел к дверному пролому.
Здесь толпились бойцы, обсуждая подробности боя. Хмурый приписник и круглоголовый остряк были легко ранены, сержант в порыжевшей от засохшей крови рубахе сидел на обломках и курил, усмехаясь, но не поддерживая разговора.
— Досталось вам, товарищ лейтенант?
— На то и бой,— строго сказал Плужников.
— Бой — для победы,— усмехнулся сержант.— А досталось тем, кто без цели бежал. Я в финской участвовал и знаю, что говорю. В рукопашной нельзя кого ни попадя, кто под руку подвернулся. Тут, когда еще на сближение идешь, надо цель выбрать. Того, с кем сцепишься. Ну, по силам, конечно. Приглядел, и рвись прямо к нему, не отвлекайся. Тогда и шишек будет поменьше.
— Пустые разговоры,— сердито сказал Плужников: сержант сейчас очень напомнил ему училищного старшину и этим не понравился.— Надо оружие собрать…
— Собрано уже,— опять усмехнулся сержант.— Долго отдыхали…
— Воздух! — крикнул круглоголовый боец.— Штук двадцать бомбовозов!
— Ховайтесь, хлопцы,— сказал сержант, старательно притушив окурок.— Сейчас дадут нам жизни.
— Наблюдателю остаться! — крикнул Плужников, приглядываясь, куда бы спрятаться.— Они могут снова…
— Станкач волокут! — снова закричал тот же боец.— Сюда…
— Каски! — вспомнил Плужников.— Каски надеть всем!..
Нарастающий свист первых бомб заглушил слова. Рвануло где-то близко, с потолка посыпалась штукатурка, и горячая волна подняла с пола кирпичную пыль. Схватив чью-то каску, Плужников метнулся к стене, присел. Бойцы побежали в глубину костела, а Сальников, покрутившись, сунулся в тесную нишу рядом с Плужниковым, лихорадочно натягивая на голову тесную немецкую каску. Вокруг все грохотало и качалось.
— В укрытие! — кричал Плужников сержанту, все еще лежавшему у дверного пролома.— В укрытие, слышите?..
Удушливая волна ударила в разинутый рот. Плужников мучительно закашлялся, протер запорошенные пылью глаза. От взрывов тяжело вздрагивала земля, ходуном ходили толстые стены костела.
— Сержант!.. Сержант, в укрытие!..
— Пулемет!..— надсадно прокричал сержант.— Пулемет бросили! От дурни!..
Пригнувшись, он бросился из костела под бомбежку. Плужников хотел закричать, и снова тугая вонючая волна горячего воздуха перехватила дыхание. Задыхаясь, он осторожно выглянул.
Низко пригнувшись, сержант бежал среди взрывов и пыли. Грудью падал в воронки, на миг скрываясь, выныривал и снова бежал. Плужников видел, как он добрался до лежащего на боку станкового пулемета, как стащил его вниз, в воронку, но тут вновь где-то совсем близко разорвалась бомба. Плужников поспешно присел, а когда отзвенели осколки, выглянул снова, но уже ничего не мог разобрать в сплошной завесе дыма и пыли.
— Накрыло! — кричал Сальников, и Плужников скорее угадывал, чем слышал его слова.— По нем жахнуло! Одни пуговицы остались!..
Новая серия бомб просвистела над головой, ударила, качнув могучие стены костела. Плужников упал на пол, скорчился, зажимая уши. Протяжный свист и грохот тяжко давили на плечи, рядом вздрагивал Сальников.
Вдруг стало тихо, только медленно рассасывался противный звон в ушах. Тяжело ревели моторы низко круживших бомбардировщиков, но ни взрывов, ни надсаживающего душу свиста бомб больше не слышалось. Плужников поправил сползающую на лоб каску и осмотрелся.
Сквозь дым и пыль кровавым пятном просвечивало солнце. И больше Плужников ничего не увидел, даже контуров ближних зданий. Рядом, толкаясь, пристраивался Сальников.
— Повзрывали все, что ли?
— Все взорвать не могли.— Плужников тряс головой, чтобы унять застрявший в ушах звон.— Долго бомбили, не знаешь?
— Долго,— сказал Сальников.— Бомбят всегда долго. Глядите: сержант!
В тяжелой завесе дыма и пыли показался сержант: он катил пулемет. За ним бежал боец, волоча коробки с лентами.
— Целы? — спросил Плужников, когда сержант, тяжело дыша, вкатил пулемет в костел.
— Мы-то целы,— сказал сержант.— А одного дурня убило. Разве ж можно — под бомбами…
— Хороший был пулеметчик,— вздохнул боец, что нес ленты.
— Товарищ лейтенант! — гулко окликнули из глубины.— Тут гражданские!
К ним шли бойцы и среди них — три женщины. Молодая была в белом, сильно испачканном кирпичной пылью лифчике, и Плужников, нахмурившись, сразу отвел глаза.
— Кто такие? Откуда?
— Здешние мы, здешние,— торопливо закивала старшая.— Как стрелять начали, так мы сюда.
— Они говорят, немцы в подвалах,— сказал смуглый пограничник — тот, что был вторым номером у ручного пулемета.— Вроде мимо них пробежали. Надо бы подвалы осмотреть, а?
— Правильно,— согласился Плужников и посмотрел на сержанта, что стоял на коленях возле станкового пулемета.
— Ступайте,— сказал сержант, не оглядываясь.— Мне пулеметик почистить треба.
— Ага.— Плужников потоптался, добавил неуверенно: — Остаетесь тут за меня.
— Вы в темноту-то не очень суйтесь,— сказал сержант.— Шуруйте гранатами.
— Взять гранаты.— Плужников поднял лежавшую у стены ручную гранату с непривычно длинной ручкой.— Шесть человек — за мной.
Бойцы молча разобрали сложенные у стены гранаты. Плужников снова покосился на женщину в испачканном лифчике, снова отвел глаза и сказал:
— Укройтесь чем-нибудь. Сквозняк.
Женщины смотрели испуганными глазами и молчали. Круглоголовый остряк сказал:
— Там на столе — скатерка красная. Может, дать ей?
И побежал за скатеркой, не дожидаясь приказа.
— Ведите в подвалы,— сказал Плужников пограничнику.
Лестница была темной, узкой и настолько крутой, что Плужников то и дело оступался, всякий раз хватаясь за плечи идущего впереди пограничника. Пограничник недовольно поводил плечами, но молчал.
С каждым шагом все тише доносился рев немецких бомбардировщиков, и частые выстрелы, что начались сразу после бомбежки в районе Тереспольских ворот. И чем тише звучали эти далекие шумы, тем все отчетливее и звонче делался грохот их сапог.
— Шумим больно,— тихо сказал Сальников.— А они как жахнут на шум…
— Тут они и сидели, женщины эти,— сказал пограничник, останавливаясь.— Дальше я не ходил.
— Тише,— сказал Плужников.— Послушаем.
Все замерли, придержав дыхание. Где-то далеко-далеко звучали выстрелы, и звуки их были здесь совсем не страшными, как в кино. Глаза постепенно привыкали к мраку: медленно прорисовывались темные своды, черные провалы ведущих куда-то коридоров, светлые пятна отдушин под самым потолком.
— Сколько тут проходов? — шепотом спросил Плужников.
— Вроде три.
— Идите прямо. Еще двое — левым коридором, я — правым. Один боец останется у выхода. Сальников, за мной.
Плужников с бойцом долго бродили по сводчатому, бесконечному подвалу. Останавливались, слушали, но ничего не было слышно, кроме собственного учащенного дыхания.
— Интересно, есть здесь крысы? — как можно проще, чтобы боец не заподозрил, что он их побаивается, спросил Плужников.
— Наверняка,— шепотом сказал Сальников.— Боюсь я темноты, товарищ лейтенант.
Плужников и сам пугался темноты, но признаться в этом не решался даже самому себе. Это был непонятный страх: не перед внезапной встречей с хорошо укрытым врагом и не перед неожиданной очередью из мрака. Просто в темноте ему все время мерещились непонятные ужасы вроде крыс, гигантских пауков и хрустящих под ногами скелетов, бродил он впотьмах с огромным внутренним напряжением и поэтому, пройдя еще немного, не без облегчения решил:
— Показалось им. Возвращаемся.
Круглоголовый у лестницы доложил, что одна группа уже поднялась наверх, никого не обнаружив, а пограничник еще не вернулся.
— Скажите, чтоб выходили.
Чем выше он поднимался, тем все отчетливее слышались взрывы. Перед самым выходом стояли женщины: наверху опять бомбили.
Плужников переждал бомбежку. Когда взрывы стали затихать, снизу поднялись бойцы.
— Ход там какой-то,— сказал пограничник.— Темень — жуткое дело.
— Немцев не видели?
— Я же говорю: темень. Гранату туда швырнул: вроде никто не закричал.
— Показалось бабам с испугу,— сказал круглоголовый.
— Женщинам,— строго поправил Плужников.— Баб на свете нет, запомните это.
Резко застучал станковый пулемет у входа. Плужников бросился вперед.
Полуголый сержант строчил из пулемета, рядом лежал боец, подавая ленту. Пули сшибали кирпичную крошку, поднимали пыль перед пулеметным стволом, цокали в щит. Плужников упал подле, подполз.
— Немцы?
— Окна! — ощерясь, кричал сержант.— Держи окна!..
Плужников бросился назад. Бойцы уже расположились перед окнами, и ему досталось то, через которое он прыгал в костел. Мертвый пограничник свешивался поперек подоконника: голова его уперлась Плужникову в живот, когда он выглянул из окна.
Серо-зеленые фигуры бежали к костелу, прижав автоматы к животам и стреляя на бегу. Плужников, торопясь, сбросил предохранитель, дал длинную очередь: автомат забился в руках, как живой, задираясь в небо.
«Задирает,— сообразил он.— Надо короче. Короче».
Он стрелял и стрелял, а фигуры все бежали и бежали, и ему казалось, что они бегут прямо на него. Пули били в кирпичи, в мертвого пограничника, и загустевшая чужая кровь брызгала в лицо. Но утереться было некогда: он размазал эту кровь, только когда отвалился за стену, чтобы перезарядить автомат.
А потом все стихло, и немцы больше не бежали. Но он не успел оглянуться, не успел спросить, как там, у входа, и есть ли еще патроны, как опять тяжко загудело небо, и надсадный свист бомб разорвал продымленный и пропыленный воздух.
Так прошел день. При бомбежках Плужников уже никуда не бегал, а ложился тут же, у сводчатого окна, и мертвая голова пограничника раскачивалась над ним после каждого взрыва. А когда бомбежка кончалась, Плужников поднимался и стрелял по бегущим на него фигурам. Он уже не чувствовал ни страха, ни времени: звенело в заложенных ушах, муторно першило в пересохшем горле и с непривычки сводило руки от бьющегося немецкого автомата.
И только когда стемнело, стало тихо. Немцы отбомбились в последний раз, «юнкерсы» с ревом пронеслись в прощальном круге над горящими задымленными развалинами, и никто больше не бежал к костелу. На изрытом взрывами дворе валялись серо-зеленые фигуры: двое еще шевелились, еще куда-то ползли в пыли, но Плужников не стал по ним стрелять. Это были раненые, и воинская честь не допускала их убийства. Он смотрел, как они ползут, как подгибаются у них руки, и спокойно удивлялся, что нет в нем ни сочувствия, ни даже любопытства. Ничего нет, кроме тупой, безнадежной усталости.
Хотелось просто лечь на пол и закрыть глаза. Хоть на минуту. Но он не мог позволить себе даже этой минуты: надо было узнать, сколько их осталось в живых, и где-то раздобыть патроны. Он поставил автомат на предохранитель и, пошатываясь, побрел к входному проему.
— Живы? — спросил сержант: он сидел у стены, вытянув ноги.— Это хорошо. А патронов больше нет.
— Сколько людей? — спросил Плужников, тяжело опустившись рядом.
— Целехоньких — пятеро, раненых — двое. Один вроде в грудь.
— А пограничник?
— Дружка, сказал, пойдет хоронить.
Медленно подходили бойцы: почерневшие, притихшие, с ввалившимися глазами. Сальников потянулся к фляжкам:
— Горит все.
— Оставь,— сказал сержант.— В пулемет.
— Так патронов нет.
— Достанем.
Сальников сел рядом с Плужниковым, облизал сухие, запекшиеся губы:
— А если я к Бугу сбегаю?
— Не сбегаешь,— сказал сержант.— Немцы отсеки у Тереспольских ворот заняли.
Подошел пограничник. Молча сел у стены, молча взял протянутый сержантом окурок.
— Схоронил?
— Схоронил,— вздохнул пограничник.— И никто не узнает {31}, где могилка моя.
Все молчали, и молчание это было тяжелым, как свинец. Плужников подумал, что нужны патроны, вода, связь с командованием крепости, но подумал как-то отрешенно: просто отметил про себя. А сказал совсем другое:
— Что-то наши запаздывают.
— Кто? — спросил пограничник.
— Ну, армия. Есть же здесь наша армия?
Ему никто не ответил. Только потом сержант сказал:
— Может, ночью прорвутся. Или, скорее всего, к утру.
И все молчаливо согласились, что армейские части прорвутся к ним на выручку именно к утру. Все-таки это был какой-то временной рубеж, грань между ночью и днем, срок, которого хотелось ждать и которого так нетерпеливо ждали.
— Патроны…— Плужников заставил себя говорить.— Где можно достать патронов? Кто знает склад?
— В казарме знаю,— сказал сержант.— Все равно туда идти надо: говорят, в восемьдесят четвертом полку есть комиссар.
— Спросите у него указаний,— с надеждой сказал Плужников.— И насчет патронов, конечно.
— Это — само собой,— сказал сержант, тяжело поднимаясь.— Идем со мной, Прижнюк.
Грохнул где-то взрыв, ударила автоматная очередь. Сержант и приписник растаяли в пыльном сумраке.
— Воды надо,— маясь и все время облизывая губы, вздохнул Сальников.— Ну, позвольте попробовать к Бугу пробраться, товарищ лейтенант. Или — к Мухавцу.
— Далеко это?
— По прямой — рядом,— усмехнулся пограничник.— Только по прямой теперь не побегаешь. А вода нужна.
— Ну, попробуйте.— Плужников вдруг подумал, что никакой он не командир, что все вопросы за него решает либо сержант, либо этот смуглый пограничник, но подумал спокойно, потому что обижаться или расстраиваться означало тратить силы, которых не было.— Только, пожалуйста, осторожнее.
— Есть! — оживился Сальников.— Может, я немецкую воду выпью, а в их посуду наберу?
— А если не наберешь? — спросил круглоголовый шутник, легко раненный в предплечье.
— Возьмите пустые фляжки. Водку вылить.
— Не всю,— сказал пограничник.— Одну оставь раны обрабатывать. И не бренчи там.
— Не брякну,— заверил Сальников, цепляя на пояс фляжки.— Ну, пошел я, а? Пить больно хочется.
И он исчез, растворившись среди воронок. Немцы лениво постреливали из орудий: редко бухали взрывы.
— Видать, чай немец пьет,— сказал круглоголовый боец.— А вчера еще кино показывали. Вот смехота-то.
Непонятно было, то ли он говорил про вчерашнюю кинокартину, которую смотрел в этом же костеле, то ли про немцев, которые, по его мнению, пили сейчас чай, но всем стало вдруг больно оттого, что вчера уже прошло, а завтра снова начнется война. И Плужникову тоже стало больно, но он прогнал все воспоминания, что лезли в голову, и заставил себя встать.
— Надо бы убитых куда-нибудь, а? В угол, что ли.
— Надо немцев пощупать,— сказал пограничник.— Как, товарищ лейтенант?
Плужников понимал, что ему не следует уходить из костела, но мальчишеское любопытство вновь шевельнулось в нем. Захотелось вблизи, своими глазами увидеть тех, кто бежал на его очереди и кто лежал сейчас в пыли перед костелом. Увидеть, запомнить, а потом рассказать Вале, Верочке и маме.
— Пойдемте вместе.
Он перезарядил автомат и с сильно забившимся сердцем выскользнул вслед за пограничником на изрытый крепостной двор.
Пыль еще не успела осесть, щекотала ноздри, мешала смотреть. Мелкая, как прах, забивалась под веки, вызывая зуд, и Плужников все время моргал и часто тер рукой слезящиеся глаза.
— Автоматы не берите,— шептал пограничник.— Рожки берите да гранаты.
Убитых было много. Сначала Плужников старался не касаться их, ворочал за ремни, но вскоре привык. Он уже набил полную пазуху автоматными обоймами, напихал в карманы гранат. Пора было возвращаться, но его неудержимо тянуло к каждому следующему убитому, точно именно у него он мог найти что-то очень нужное, прямо-таки необходимое позарез. Он уже притерпелся к тошнотворному запаху взрывчатки, перемазался в чужой крови, что так щедро лилась сегодня на эту пыльную развороченную землю.
— Офицер,— чуть слышно сказал пограничник.— Документы захватить?
— Захватите…
Совсем рядом послышался стон, и он сразу примолк. Стон повторился: протяжный, мучительно болезненный. Плужников привстал, всматриваясь.
— Куда?
— Раненый.
Он подался вперед, и тотчас же по глазам ослепительно ударила вспышка, и пуля резко щелкнула по каске. Плужников ничком упал на землю, в ужасе щупая глаза: ему показалось, что они вытекли, потому что он сразу перестал видеть.
— А, гад!
Оттолкнув Плужникова, пограничник скатился в воронку. Донеслись тяжелые, жутко глохнувшие в живом теле удары, нечеловеческий, сорвавшийся в хрип выкрик.
— Не смейте! — крикнул Плужников, с трудом разлепив залитые слезами глаза.
Перед затуманенным взглядом возникло потное, дергающееся лицо.
— Не сметь?.. Дружка моего кончили — не сметь? В тебя пальнули — тоже не сметь? Сопля ты, лейтенант: они нас весь день мордуют, а мы — не сметь?..
Он неуклюже перевалился к Плужникову. Помолчал, тяжело дыша.
— Кончил я его. Не ранило?
— В каску и — рикошет. До сих пор звенит.
— Идти можешь?
— Круги перед глазами.
Близко раздался взрыв. Оба влипли в землю, по плечам застучал песок.
— На крик бьет, что ли?
Опять взревел снаряд, они еще раз приникли, а потом вскочили и побежали к костелу. Пограничник впереди: Плужников сквозь слезы с трудом угадывал его спину. Нестерпимо жгло глаза.
Сержант уже вернулся. Вместе с Прижнюком они принесли четыре цинки с патронами и теперь набивали ленты. Ночью приказано было собрать оружие, наладить связь, перевести женщин и детей в глубокие подвалы.
— Наши бабы в казармы триста тридцать третьего полка перебежали,— сказал сержант.
Плужников хотел сделать замечание насчет баб, но воздержался. Спросил только:
— Нам конкретно что приказано?
— Наше дело ясное: костел. Обещали людей прислать. После поверки.
— Из города ничего не слышно? — спросил круглоголовый боец.— Будет помощь?
— Ждут,— лаконично ответил сержант.
По тому, как он это сказал, Плужников понял, что комиссар из 84-го полка никакой помощи не ждет. У него сразу ослабели колени, заныло в низу живота, и он сел, где стоял: на пол, рядом с сержантом.
— Пожуй хлебца.— Сержант достал ломоть.— Хлебец мысли оттягивает, товарищ лейтенант.
Есть Плужникову не хотелось, но он машинально взял хлеб, машинально начал жевать. Последний раз он ел в ресторане… Нет, перед самым началом он пил чай в каком-то складе вместе с хромоножкой. И склад, и тех двух женщин, и хромоножку, и бойцов — всех засыпало первым залпом. Где-то совсем рядом, совсем недалеко от костела. А ему повезло, он выскочил. Ему повезло…
Вернулся Сальников, увешанный фляжками, как новогодняя елка. Сказал радостно:
— Напился вволюшку! Налетайте, ребята.
— Сперва пулемету,— сказал сержант.
Он аккуратно, стараясь не ронять капель, долил водой пулеметный кожух, сказал Плужникову, что напиваться от пуза надо бы запретить. Плужников равнодушно согласился, сержант лично выделил каждому по три глотка и бережно упрятал фляжки.
— Жахают там, страшное дело! — с удовольствием рассказывал Сальников.— Ракету пустят и — жах! жах! Многих поубивало.
После рукопашного боя и удачной вылазки за водой страх его окончательно прошел. Он был сейчас оживлен, даже весел, и Плужникова это злило.
— Сходите к соседям,— сказал он.— Доложите, что костел мы держим. Может, патронов дадут.
— Гранат,— сказал пограничник.— Немецкие — дерьмо.
— И гранат, конечно.
Через час пришли десять бойцов. Плужников хотел проинструктировать их, расставить возле окон, договориться о сигналах, но из обожженных глаз продолжали течь слезы, сил не было, и он попросил пограничника. А сам на минуту прилег на пол и заснул, как провалился.
Так кончился первый день его войны, и он, скорчившись на грязном полу костела, не знал и не мог знать, сколько их будет впереди. И бойцы, вповалку спавшие рядом и дежурившие у входа, тоже не знали и не могли знать, сколько дней отпущено каждому из них. Они жили единой жизнью, но смерть у каждого была своя.
2
Смерть у каждого была своя, и на следующий день первым узнал об этом круглоголовый ротный весельчак, легко раненный в руку. Он потерял много крови, его все время клонило ко сну, и, чтобы никто не мешал выспаться, он забрался подальше, к входу в подвалы.
Рассвет оборвался артиллерийской канонадой. Вновь застонала земля, закачались стены костела, посыпалась штукатурка, битые кирпичи. Сержант втащил пулемет под своды, все забились в углы.
Обстрел еще не кончился, когда над крепостью появились бомбардировщики. Свист бомб рвал тяжелую пыль, взрывы сотрясали костел. Плужников лежал в оконной нише, зажав уши. В широко разинутый рот било горячей пылью. Он не расслышал, он почувствовал крик. Истошный, нечеловеческий крик, прорвавшийся сквозь вой, свист и грохот. Оглянулся — в пыльном сумраке бежал круглоголовый:
— Немцы-и-и!..
Пронзительный выдох оборвался автоматной очередью, коротко и раскатисто прогремевшей под {32} сводами. Плужников увидел, как круглоголовый с разбегу упал лицом на камни, как в пыли замерцали вспышки, и тоже закричал:
— Немцы-и-и!..
Невидимые за пылью автоматчики в упор били по лежавшим бойцам. Кто-то кричал, кто-то метнулся к выходу прямо под бомбежку, кто-то, сообразив, уже стрелял в непроницаемую глубину костела. Автоматные пули крошили кирпич, чиркали об пол, свистели над головой, а Плужников, зажав уши, все еще лежал под стеной, придавив телом собственный автомат.
— Бежим!..
Кто-то — кажется, Сальников — тряс за плечо:
— Бежим, товарищ лейтенант!..
Вслед за Сальниковым Плужников выпрыгнул в окно, упал, на карачках перебежал в воронку, глотая пыль широко разинутым ртом. Самолеты низко кружили над крепостью, расстреливая из пулеметов все живое. Из костела доносились автоматные очереди, крики, взрывы гранат.
— В подвал надо! — кричал Сальников.— В подвал!..
Плужников смутно соображал, что нельзя бегать под обстрелом, но страх перед автоматчиками, что громили сейчас его бойцов в задымленном костеле, был так велик, что он вскочил и помчался за юрким Сальниковым. Падал, полз по песку, глотал пыль и вонючий, еще не растаявший в воронках дым и снова бежал.
Он не помнил, как добрался до черной дыры, как ввалился внутрь. Пришел в себя уже на полу: двое бойцов в драных гимнастерках трясли за плечи:
— Командир пришел, слышите? Командир!
Напротив стоял коренастый темноволосый старший лейтенант с орденом на пропыленной, в потных потеках гимнастерке. Плужников с трудом поднялся, доложил, кто он и каким образом здесь очутился.
— Значит, немцы заняли клуб?
— С тыла, товарищ старший лейтенант. Они в подвалах прятались, что ли. А тут во время бомбежки…
— Почему не осмотрели подвалы вчера? Ваш связной,— старший лейтенант кивнул на Сальникова, замершего у стены,— доложил, что вы закрепились в костеле.
Плужников промолчал. Безотчетный страх уже оставил его, и теперь он ясно сознавал, что нарушил свой долг, что, поддавшись панике, бросил бойцов и трусливо бежал с позиции, которую было приказано держать во что бы то ни стало. Он вдруг перестал слышать старшего лейтенанта: его бросило в жар.
— Виноват.
— Это не вина, это — преступление,— жестко сказал старший лейтенант.— Я обязан расстрелять вас, но у меня мало боеприпасов.
— Я искуплю.— Плужников хотел сказать громко, но дыхание перехватило, и сказал он шепотом: — Я искуплю.
Внезапно все прекратилось: грохот разрывов, снарядный вой, пулеметная трескотня. Еще били где-то одиночные винтовки, еще трещало пламя на верхних этажах дома, но бой затих, и тишина эта была пугающа и непонятна.
— Может, наши подходят? — неуверенно спросил боец.— Может, кончилось?..
— Хитрят, сволочи,— сказал старший лейтенант.— Усилить наблюдение!
Боец убежал. Все молчали, и в этом молчании Плужников расслышал тихий плач ребенка и мягкие голоса женщин где-то в глубинах подвала.
— Я искуплю, товарищ старший лейтенант,— поспешно повторил он.— Я сейчас же…
Глухой, усиленный репродукторами голос заглушил его слова. Голос — нерусский, старательно выговаривающий слова,— звучал где-то снаружи, над задымленными развалинами, но в плотном воздухе разносился далеко, и его слышали сейчас во всех подвалах и казематах:
— Немецкое командование предлагает прекратить бессмысленное сопротивление. Крепость окружена, Красная Армия разгромлена, доблестные немецкие войска штурмуют столицу Белоруссии город Минск. Ваше сопротивление потеряло всякий тактический смысл. Даем час на размышление. В случае отказа все вы будете уничтожены, а крепость сметена с лица земли.
Глухой голос дважды повторил обращение. Дважды, размеренно и четко выговаривая каждое слово. И все в подвале, замерев, слушали этот голос и дружно вздохнули, когда он замолк и репродукторы донесли мерное постукивание метронома.
— За водой,— сказал старший лейтенант молоденькому бойцу, почти мальчишке, что все время молча стоял с ним рядом, колюче поглядывая на Плужникова.— Только смотри, Петя.
— Я осторожно.
— Разрешите мне,— умоляюще попросил Плужников.— Позвольте, товарищ старший лейтенант. Я принесу воду. Сколько понадобится.
— Ваша задача — отбить клуб,— сухо сказал старший лейтенант.— По всей видимости, через час немцы начнут обстрел: вы прорветесь к клубу во время обстрела и любой ценой выбьете оттуда немцев. Любой ценой!
Отчеканив {33} последнюю фразу, старший лейтенант ушел, не слушая сбивчивых и ненужных заверений. Плужников виновато вздохнул и огляделся: в сводчатом отсеке подвала под глубоким окном сидели Сальников и легко раненный рослый приписник. Плужников с трудом припомнил его фамилию: Прижнюк.
— Соберите наших,— сказал он и сел, чувствуя противную слабость в коленях.
Сальников и Прижнюк нашли в подвалах еще четверых. Все разместились в одном отсеке, шепотом переговариваясь. Где-то в глубине подвала по-прежнему тихо плакал ребенок, и этот робкий плач был для Плужникова страшнее всякой пытки.
Он сидел на полу, не шевелясь, угрюмо думая, что совершил самое страшное: предал товарищей. Он не искал оправданий, не жалел себя: он стремился понять, почему это произошло.
«Нет, я струсил не сейчас,— думал он.— Я струсил во вчерашней атаке. После нее я потерял себя, упустил из рук командование. Я думал о том, что буду рассказывать. Не о том, как буду воевать, а что буду рассказывать…»
Подошли два пограничника с ручным пулеметом:
— Прикрывать вас приказано.
Плужников молча кивнул. Пограничники возились с пулеметом, проверяли диски, а он с тоской думал, что с шестью бойцами ему ни за что не выбить немцев из костела, а попросить помощи не решался.
«Лучше умру,— тихо повторял он про себя.— Лучше умру».
Он почему-то упорно избегал слова «убьют», а говорил — «умру». Словно надеялся погибнуть от простуды.
— Гранат-то у нас — всего две,— сказал Прижнюк, ни к кому не обращаясь.
— Принесут,— сказал один из пограничников.— Так не бросят: свои же ребята.
Потом пришло еще человек пятнадцать. Рыжий старший сержант с эмблемами артиллериста доложил, что люди присланы в помощь. Вместе с ним Плужников развел бойцов по отсекам, расположил перед оконными нишами.
Все было готово, а немецкий метроном продолжал стучать, неторопливо отсчитывая секунды. Плужников все время слышал этот отсчет, пытался заглушить его в себе, сосредоточиться на атаке, но громкое тиканье назойливо лезло в уши.
Вскоре подошел старший лейтенант. Проверил готовность, лично расставил бойцов. Плужникова он не замечал, хотя Плужников старательно вертелся рядом. Потом вдруг сказал:
— Атаковать днем невозможно. Согласны, лейтенант?
Плужников растерялся, не нашел слов {34} и неуверенно кивнул.
— Но немцы тоже считают, что это невозможно, и ждут атаки ночью. Вот почему мы будем атаковать днем. Главное, не ложиться, каким бы сильным ни казался огонь. Автоматы бьют рассеянно, оценили это?
— Оценил.
— Даю вам возможность искупить свою вину.
Плужников хотел заверить усталого старшего лейтенанта, что скорее умрет, но слов не нашел и снова кивнул.
— Я знаю, что вы хотели сказать, и верю вам.— На замкнутом лице старшего лейтенанта впервые показалось что-то вроде улыбки.— Пойдемте к бойцам.
Старший лейтенант прошел по всем отсекам, из которых готовилась атака, повторив в каждом то, что уже сказал Плужникову: автоматы бьют рассеянно, немцы не ожидают атаки, главное — не ложиться, а бежать и бежать к костелу, под его стены.
— Осталось пять минут на размышление! — громко сказал глухой голос диктора.
— Значит, вы пойдете через четыре минуты,— сказал старший лейтенант, достав карманные часы.— Атака по моей команде и без всякой стрельбы. Тихо и внезапно: это — наше оружие.
Он поглядел на Плужникова, и, поняв этот взгляд, Плужников прошел к подвальному окну. Окно было высоко, подоконник скошен, и вылезать из него было трудно. Но красноармейцы уже передавали кирпичи и строили ступени. Плужников влез на ступени, перевел автомат на боевой взвод и изготовился. Кто-то протянул ему две гранаты, он сунул их за ремень ручками вниз.
— Вперед! — громко крикнул старший лейтенант.— Быстро!
Плужников рванулся, кирпичи разъехались, но он все же выскочил из окна и, не оглядываясь, побежал вперед к такой далекой сейчас стене костела.
Он бежал молча и, как ему казалось, в полном одиночестве. Сердце с такой силой колотилось в груди, что он не слышал за спиной топота, а оглянуться не было времени.
«Не стреляйте. Не стреляйте. Не стреляйте!..» — кричал он про себя.
Плужников не знал, стучит ли еще метроном или немцы уже спешно вгоняют снаряды в казенники орудий, но пока по нему, бегущему через перепаханный снарядами двор, не стрелял никто. Только бил в лицо горячий ветер, пропахший дымом, порохом и кровью.
Прямо перед ним метнулась из воронки фигура, и Плужников чуть не упал, но узнал пограничника: того, что ночью спас его, добив раненого автоматчика. Видно, пограничник тоже удрал из костела, но до подвалов не добрался и отлеживался в воронке, а теперь бежал впереди атакующих. И Плужников только успел порадоваться, что пограничник жив, как тишину разорвало десятком очередей и над головой взвизгнули пули: немцы открыли огонь.
Сзади кто-то закричал. Плужников хотел упасть и упал бы, но пограничник по-прежнему несся впереди огромными скачками и пока был жив. И Плужников подумал, что пули эти — не его, и не упал, а, втянув голову в плечи, закричал:
— Ура-а!..
И на едином выдохе, на протяжном «а-а!..» добежал до стены, вжался в простенок и оглянулся.
Только трое упали: один — не шевелясь, а двое еще корчились в пыли. Остальные уже ворвались в мертвое пространство: пограничник стоял у соседнего простенка и кричал:
— Гранаты! Кидай гранаты!..
Плужников вырвал из-за пояса гранату, швырнул в окно — прямо в яркий огонек строчившего автомата. Грохнул взрыв, и он тут же рванулся в вонючий клуб гранатного взрыва. Ударился лодыжкой о выщербленный осколками подоконник, упал на пол, но успел откатиться, и пограничник тяжело шлепнулся рядом. Кругом грохотали взрывы, в дыму и пыли мелькали вспышки выстрелов, пули дробили стены. Плужников, сидя на полу, бил по вспышкам короткими очередями.
— На хоры уходят! На хоры! Выше бей! Выше! — кричал пограничник.
Немцы откатились наверх, на хоры: огоньки автоматов сверкали оттуда. Плужников вскинул автомат, дал длинную очередь, и одна из вспышек разом погасла, точно захлебнулась, а затвор, дернувшись, отскочил назад.
— Да бей же, лейтенант! Бей!
Плужников лихорадочно шарил по карманам: рожков не было. Тогда он выхватил последнюю гранату и побежал в густой сумрак навстречу бившим очередям. Пули ударили возле ног, по сапогам больно стегануло кирпичной крошкой. Плужников размахнулся, как на ученье, бросил гранату и упал. Гулко грохнул взрыв.
— Толково, лейтенант,— сказал пограничник, помогая ему подняться.— Ребята на хоры ворвались. Добьют без нас: деваться немцу некуда.
Сверху доносились крики, хриплая ругань, звон металла, тупые удары: немцев добивали в рукопашной. Плужников огляделся: в задымленном сумраке смутно угадывались пробегавшие красноармейцы, трупы на полу, разбросанное оружие.
— Проверь подвалы и поставь у выхода часового,— сказал Плужников и сам удивился, до чего просто прозвучала команда: вчера еще он не умел так разговаривать.
Пограничник ушел. Плужников подобрал с пола автомат, рывком перевернул ближайшего убитого немца, сорвал с пояса сумки с рожками и пошел к выходу.
И остановился, не доходя: у выхода по-прежнему стоял их пулемет, а на нем, лицом вниз, крепко обняв щит, лежал сержант. Шесть запекшихся дырок чернело на спине, выгнутой в предсмертном рывке.
— Не ушел,— сказал подошедший Сальников.
— Не отдал,— вздохнул Плужников.— Не то что мы с тобой.
— Знаете, если я вдруг испугаюсь, то все тогда. А если не вдруг, то ничего. Отхожу.
— Надо его похоронить, Сальников.
— А где? Тут камней метра на три.
— Во дворе, в воронке.
Тугой гул, нарастая, приближался к ним, сметая все звуки. Не сговариваясь, оба бросились к оконным нишам, упали на пол. И тотчас же волна взметнула пыль, вздрогнули стены, и взрывы тяжело загрохотали во дворе крепости.
— После налета пойдут в атаку! — кричал Плужников, не слыша собственного голоса.— Я прикрою вход! А ты — окна! Окна, Сальников, окна-а!..
Оглушительный взрыв раздался рядом, закачались стены, посыпались кирпичи. Взрывной волной перевернуло пулемет, отбросив мертвого сержанта. Вмиг все заволокло дымом и гарью, нечем стало дышать. Кашляя и задыхаясь, Плужников бросился к пулемету, на четвереньках отволок его к стене.
— Окна, Сальников!..
Сальников ничком лежал на полу, заткнув уши. Плужников тряс его, дергал, бил ногой, но боец только плотнее прижимался к кирпичам.
— Окна-а!..
Снова грохнуло рядом, с дверного свода посыпались кирпичи. Раздался еще один взрыв, еще и еще, и заваленный кирпичами Плужников уже перестал считать их: все слилось в единый оглушающий грохот.
Никто не помнил, сколько часов продолжался обстрел. А когда затихло и они выползли из-под обломков, низкий гул повис в воздухе, и на крепость с неудержимым, выматывающим воем начали пикировать бомбардировщики. И опять они вжались в стены, опять застонала земля, опять посыпались кирпичи и закачался, грозя обвалом, костел, сложенный триста лет назад. И нечем было дышать среди пыли, дыма, смрада и гари, и давно уже не было сил. Сознание меркло, и только тело еще тупо, без боли воспринимало удары и взрывы.
«Живой,— смутно думал Плужников в плотной тишине, наглухо заложившей уши.— Я живой».
Шевелиться не хотелось, хотя он чувствовал тяжесть наваленных на спину кирпичей. Нестерпимо болела голова, ломало все тело: каждая кость кричала о своей боли. Язык стал сухим и огромным: он занимал весь рот и жег нёбо.
— Немцы!..
Это донеслось издалека, точно с той стороны обступившей его тишины. Но он уловил смысл, попробовал встать. С шумом посыпались кирпичи, он с трудом выбрался из-под них, открыл забитые пылью глаза.
Пограничник, торопясь, устанавливал пулемет: кожух был смят, прицельная планка погнута. Рядом незнакомый боец рылся в кирпичах, вытаскивая пулеметные ленты. Плужников встал, его качнуло, но он все же сумел сделать несколько шагов и рухнул на колени возле пулемета.
— Пусти. Сам.
— Немцы!
По искаженному лицу пограничника текла кровь. Плужников слабо оттолкнул его, повторив:
— Сам. Окна — тебе.
Лег за пулемет, намертво вцепившись ослабевшими пальцами в рукоятки. Пограничника уже не было: рядом лежал боец, вталкивая в патронник ленту. Плужников откинул крышку, поправил ленту и увидел немцев: они бежали прямо на него сквозь густую пелену дыма и пыли.
— Стреляй! — кричал боец.— Стреляй же!
— Сейчас,— бормотал Плужников, ловя сквозь прорезь щита бегущих.— Сейчас. Сил нет…
Он боялся, что не сможет надавить на гашетку: пальцы дрожали и подламывались. Но гашетка подалась, пулемет забился в руках, взметнув перед костелом широкий веер пыли. Плужников приподнял ствол и выпустил длинную очередь в набегавшие темные фигуры.
Времени больше не было. Возникали из дымной завесы темные фигуры, Плужников нажимал гашетку и бил, пока они не исчезали. В перерывах рылся в обломках, вытаскивал помятые цинки, лихорадочно, в кровь сбивая пальцы, набивал ленты. И снова стрелял по набегавшим волнам автоматчиков.
Весь день немцы не давали вздохнуть. Атаки сменялись обстрелами, обстрелы — бомбежкой, бомбежка — очередной атакой. Плужников хватал пулемет, волок его к стене, а когда налет кончался, тащил обратно и стрелял: оглохший, полуослепший, ничего не соображающий. Второй номер погиб под сорвавшейся со свода глыбой, долго и страшно кричал, но была атака, и Плужников не мог оставить пулемет. Кожух то ли распаялся, то ли его продырявило осколком: пар бил из пулемета, как из самовара, а Плужников, обжигаясь, таскал его от пролома к стене и обратно и стрелял, думая только о том, что вот-вот кончатся патроны. Он не знал, сколько бойцов осталось в костеле, но кончил стрелять, когда намертво перекосило патрон. Тогда он вспомнил про автомат, полоснул очередью по немцам и, спотыкаясь о камни и трупы, побежал в темную глубину костела.
Он не добежал до подвалов: снаружи вспыхнула беспорядочная стрельба, хриплое сорванное «Ура!» Плужников понял, что подошли свои, и, качаясь, побрел к выходу, волоча автомат за собой. Кто-то кинулся к нему, что-то говорил, но он, с трудом выдавив из пересохшего горла: «Пить…», упал и уже ничего не видел и не слышал.
Очнулся он от воды. Открыл глаза, увидел фляжку, потянулся к ней, глотнул еще и еще и разобрал, что поит его Сальников: в темноте белела свежая повязка на голове.
— Ты живой, Сальников?
— Живой,— серьезно подтвердил боец.— Я же вам ленты подтаскивал, когда парня того придавило. А вы меня к окнам послали.
Плужников помнил темные фигуры немцев в сплошной пыли, помнил грохот и страшные крики придавленного глыбой второго номера. Помнил раскаленный пулемет, который нестерпимо жег его руки. А больше ничего вспомнить не мог и спросил:
— Отбили костел?
— Спасибо, ребята помогли. Во фланг немцам ударили.
— А вода? Откуда вода?
— Так вы же пить просили. Ну, я и сходил. Страшно: светло, как днем. Там-то меня и зацепило маленько, но семь фляг донес.
— Не надо больше пить,— сам себе приказал Плужников и завинтил фляжку.— Сколько нас?
— Прижнюк у подвала стоит, мы с вами да пограничник.
— Цел пограничник? — Плужников вдруг хрипло засмеялся.— Цел, значит? Цел?
— Кирпичом бровь рассекло, а так и не ранило: везучий. Тепленьких обшаривает. Ну, немцев: много их тут, во дворе.
Плужников, пошатываясь, прошел к выходу, где валялся его искалеченный пулемет. Во дворе стояла ночь, но было светло от пожаров и многочисленных ракет, мертвым светом заливавших притихшую крепость. Немцы изредка швыряли мины: они рвались звонко и коротко.
— Сержанта схоронили?
— Засыпало его. Один каблук торчит.
Из-под груды кирпичей торчал стоптанный солдатский башмак. Плужников вспомнил вдруг, что сержант ходил в сапогах, и, значит, под кирпичами лежал тот боец, которого придавило рухнувшим сводом, но промолчал. Сел на обломок, вспомнил, что почти двое суток ничего не ел, и сказал об этом. Сальников принес немецкие галеты, и они стали неторопливо жевать их, глядя на освещенный крепостной двор.
— А все-таки мы сегодня тоже не отдали,— сказал Плужников.— Значит, мы тоже можем не отдавать, да, Сальников?
— Конечно, можем,— подтвердил Сальников.
Вернулся пограничник, притащив набитую автоматными рожками гимнастерку. Сказал вдруг:
— Запомни мой адрес, лейтенант: Гомель, улица Карла Маркса, сто двенадцать, квартира девять. Денищик Владимир.
— А я смоленский,— сказал Сальников.— Из-под Духовщины.
— Уходить отсюда придется,— сказал пограничник после того, как они обменялись адресами.— Вчетвером не отобьемся.
— Не уйду,— сказал Плужников.
— Глупо, лейтенант.
— Не уйду,— повторил Плужников и вздохнул.— Пока приказа не получу, никуда не уйду.
Он хотел сказать о долге, которого не выполнил сегодня утром, о сержанте, не отдавшем пулемет, о родине, где — конечно же! — принимают сейчас все меры, чтобы спасти их. Хотел, но ничего не сказал: все слова показались ему слишком маленькими и незначительными в эту вторую ночь войны.
— Врут немцы насчет Минска, правда? — спросил Сальников.— Не может быть, чтобы допустили их так далеко. Громят, наверно.
— Громят,— согласился пограничник.— Только фронта что-то не слышно.
Они невольно прислушались, но, кроме редких минных разрывов да пулеметных очередей, ничего не было слышно: грозное дыхание фронта откатилось далеко на восток.
— Значит, одни,— тихо сказал пограничник.— А ты говоришь: не уйду. А тут пулемет нужен.
Плужников и сам понимал, что без пулемета им не отбить следующей атаки. Но пулемета у него не было, а о том, чтобы уйти отсюда, он не хотел думать. Он помнил колючие глаза черноволосого старшего лейтенанта с орденом на груди, тоскливый, запуганный плач ребенка, женщин в подвале и вернуться туда без приказа уже не мог. И отпустить тоже никого не мог и поэтому сказал:
— Всем спать. Я подежурю.
Сальников тут же свернулся в клубок, а пограничник отказался, пояснив, что отоспался в воронке. Ушел в глубину костела, долго пропадал (Плужников уже начал беспокоиться), вернулся с Прижнюком и еще тремя: у рыжего старшего сержанта с артиллерийскими петлицами была задета голова. Он все тряс ею и прислушивался:
— Будто вода в ушах.
— Пованивают соседи,— сказал пограничник.
Плужников сообразил, что он говорит о трупах, что до сих пор валялись в костеле. Приказал убрать. Бойцы ушли, остался один артиллерист. Потряхивая контуженной головой, сидел у стены на полу, тупо глядя в одну точку. Потом сказал:
— А у меня жена есть. Родить в августе должна.
— Она здесь? — спросил Плужников, сразу вспомнив женщин в подвалах.
— Не, у матери. На Волге.— Он помолчал.— Как думаешь, придут наши?
— Придут. Не могут не прийти. О нас не забудут, не беспокойся.
— Сила у него,— вздохнул артиллерист.— Сегодня в атаку перли — жуткое дело.
— У нас тоже сила.
Старший сержант промолчал. Повздыхал, потряс головой:
— Может, в подвалы сходить?
— Скажите, что пулемета нет. Может, дадут.
— У них у самих не густо,— сказал артиллерист, уходя.
Немцы по-прежнему бросали ракеты. Вспыхивая, они медленно опускались на парашютах, освещая притихшую крепость. Изредка падали мины, с берегов доносились пулеметные очереди. Мучительно борясь со сном, Плужников, нахохлившись, сидел у пролома. Рядом мирно посапывал Сальников.
«А все-таки я — счастливый,— подумал вдруг Плужников.— До сих пор не задело».
Подумав так, он испугался, что накличет беду, стал поспешно внушать себе, что ему очень не повезло, но внутренняя убежденность, что его, лейтенанта Плужникова, невозможно, немыслимо убить, была сильнее всяких заклинаний. Ему было всего девятнадцать лет и два месяца, и он твердо верил в собственное бессмертие.
Вернулся пограничник с бойцами, доложил, что убитых из костела вытащили. Плужников молча покивал: говорить не было сил.
— Приляг, лейтенант.
Плужников хотел отказаться, качнул головой, сполз по стене на битые кирпичи и мгновенно заснул, подложив кулак под гладкую мальчишескую щеку.
…Он плыл куда-то на лодке, и волны перехлестывали через борт, и он пил холодную, необыкновенно вкусную воду, сколько хотел. А на корме в белом ослепительном платье сидела Валя и смеялась. И он смеялся во сне…
— Лейтенант!
Плужников открыл глаза, увидел Денищика, Прижнюка, Сальникова, еще каких-то бойцов и сел.
— Нам в подвалы приказано.
— Почему — в подвалы?
— Сменяют. Шило на мыло.
У входного пролома распоряжался незнакомый молодой лейтенант. Бойцы устанавливали станковый пулемет, складывали из кирпичей бруствер. Лейтенант представился, передал приказ:
— В распоряжение Потапова. Подвалы под костелом проверил?
— Некогда было проверять. Поставь на всякий случай часового с гранатами: там узкая лестница. И смотри за окнами.
— Ага. Ну, счастливо.
— Счастливо. Я своих бойцов заберу. Их трое всего: сдружились.
— Думаешь, там легче будет? У них знаешь какая теперь тактика? Втихаря к окнам подползают и забрасывают гранатами. Между прочим, учти: их гранаты срабатывают с запозданием секунды на три. Если рядом упадет, свободно можешь успеть перебросить обратно. Наши так делают.
— Учту. Спасибо.
— Да, вода у вас есть?
— Сальников, у нас есть вода?
— Пять фляжек,— с неудовольствием сказал Сальников.— Пить вам тут некогда будет.
— А нам не пить, нам — в пулеметы.
— Забирайте,— сказал Плужников.— Отдай им фляжки, Сальников, и пошли.
Вчетвером они осторожно выскользнули из костела: Денищик шел впереди. Чуть светало, и по-прежнему лениво, вразнобой падали мины.
— Через часок-полтора начнут утюжить,— сказал Сальников, сладко зевнув.— Хорошо, еще немец передых дает.
— Он ночей боится,— улыбнулся Плужников.
— Ничего он не боится,— зло сказал пограничник, не оглядываясь.— С комфортом воюют, гады: восемь часов рабочий день.
— А разве у немцев рабочий день — восемь часов? — усомнился Плужников.— У них же фашизм.
— Фашизм — это точно.
— А зачем я в солдаты сейчас пошел? — вдруг сказал Прижнюк.— Мне воинский начальник говорит: хочешь — сейчас иди, хочешь — осенью. А я говорю: сейчас…
Короткая очередь вспорола предутреннюю тишину. Все упали, скатившись в воронку. Огня больше не было.
— Может, свои? — шепотом спросил Прижнюк.— Может, наши ползают, а?
— На голос бил,— еле слышно отозвался Денищик.— Какие тебе, к черту, свои…
Он замолчал, и все опять настороженно прислушались. Плужникову показалось, что где-то совсем рядом слабо звякнуло железо. Он сжал пограничнику локоть:
— Слышишь?
Денищик надел каску на автомат, приподнял над краем воронки. Никто не стрелял, и он опустил каску:
— Погляжу. Лежите пока.
Он бесшумно выполз из воронки, пропал за гребнем. Сальников передвинулся вплотную, зашипел в ухо:
— Вот тебе и восемь часов. Зря мы воду оставили, товарищ лейтенант. Пусть сами…
— Да свои это,— упрямо повторил Прижнюк.— Видать, оружие собирают.
Что-то упало на край воронки, скатилось по песку, стукнув по каске. Плужников повернул голову: перед ним лежала ручная граната с длинной ручкой.
В какой-то миг ему показалось, что он слышит ее шипение. Он успел подумать, что это — конец, успел ощутить острую боль в сердце, успел вспомнить что-то милое-милое — маму или Верочку,— но все это заняло лишь долю секунды. И не успела эта секунда истечь, как он схватил гранату за горячий набалдашник и швырнул ее в темноту. Грохнул взрыв, их осыпало песком, и тотчас же раздался отчаянный крик Денищика:
— Немцы! Бегите, ребята! Бегите!..
Предрассветную тишь рванули автоматные очереди. Они били со всех сторон: путь к костелу и подвалам 333-го полка был отрезан.
— Сюда! — крикнул пограничник.
Плужников успел заметить, откуда раздался крик, пригнувшись, кинулся к Денищику. Огоньки автоматных очередей стягивали кольцо. Плужников скатился в воронку, из которой, прикрывая их, коротко бил пограничник. Следом ввалился Сальников.
— Где Прижнюк?
— Убило его! — кричал Сальников, отстреливаясь.— Убило!
Немцы огнем прижимали их к земле, стягивая кольцо.
— Бегите до следующей воронки! — кричал Денищик.— Потом меня прикроете! Скорее, лейтенант! Скорее!..
Стрельба усилилась: из костела по вспышкам бил пулемет, стреляли из подвалов 333-го полка, из развалин левее. Плужников перебежал в следующую воронку, упал, торопливо открыл огонь, стараясь не попасть в темную фигуру бегущего на него Денищика. У Сальникова заело автомат.
Прикрывая друг друга, они перебежками добрались до каких-то пустынных развалин, и немцы отстали. Постреляв немного, замолчали, растаяв в предрассветном сумраке. Можно было отдышаться.
— Вот это напоролись,— сказал Денищик, сидя на обломках и тяжело переводя дыхание.— Рванул я стометровку сегодня почище чемпиона мира.
— Повезло! — вдруг захохотал Сальников.— Обратно же повезло!
— Молчать! — оборвал Плужников.— Лучше автомат разбери, чтоб не заедал следующий раз.
Обиженно примолкнув, Сальников разбирал автомат. Плужникову стало неудобно за этот окрик, но он боялся, что радостное хвастовство в конце концов накличет на них беду. Кроме того, его очень беспокоило, что теперь они отрезаны от своих.
— Осмотрите помещение,— сказал он.— Я понаблюдаю.
Стрельба кончилась, только по берегам еще стучали редкие очереди. В незнакомых развалинах пахло гарью, бензином и чем-то тошнотно-приторным, чего Плужников не мог определить. Слабый предрассветный ветерок нес запах разлагавшихся трупов; его мутило от этого запаха.
«Надо перебираться,— думал он.— Только куда?»
— Гаражи,— сказал, вернувшись, Денищик.— В соседнем блоке ребята сгорели: страшно смотреть. И подвалов нет.
— Ни подвалов, ни водички,— вздохнул Сальников.— А ты говорил — восемь часов. Эх, страж родины!
— Немцы близко?
— Вроде на том берегу, за Мухавцом. Справа — казармы какие-то. Может, перебежим, пока тихо?
Светало, когда они перебрались на другую сторону развалин. Здания тут были снесены прямыми попаданиями: громоздились горы битого кирпича. За ними угадывалась река и темнели кусты противоположного берега.
— Там немцы,— сказал Денищик.— Колечко у нас тесное, лейтенант. Может, рванем отсюда следующей ночью?
— А приказ? Есть такой приказ, чтобы оставить крепость?
— Это уже не крепость, это — мешок. Осталось завязать потуже — и не выберемся.
— Мне дали приказ держаться. А приказа бежать мне никто не давал. И тебе тоже.
— А самостоятельно соображать ты после контузии разучился?
— В армии исполняют приказ, а не соображают, как бы удрать подальше.
— А ты объясни мне этот приказ! Я не пешка, я понимать должен, для какой стратегии я тут по кирпичам ползаю. Кому они нужны? Фронта уж сутки как не слыхать. Где наши сейчас, знаешь?
— Знаю,— сказал Плужников.— Там, где надо.
— Ох, пешки! Вот потому-то нас и бьют, лейтенант. И бить будут, пока…
— Мы бьем! — закричал вдруг Плужников.— Это мы бьем их, понятно? Это они по кирпичам ползают, понятно? А мы… Мы… Это наши кирпичи, наши! Под ними советские люди лежат. Товарищи наши лежат, а ты… Паникер ты!
— А ну поосторожнее, лейтенант! За такое слово я и на звание не посмотрю: как дам между глаз…
— Свои! — радостно удивился Сальников.— Саперы наши, глядите!
Возле уцелевшей стены казармы суетилось человек восемь. Плужников хотел вскочить, но пограничник придержал его:
— В сапогах они.
— Ну и что?
— В немецких: видишь, голенища короткие?
— Я тоже в немецких,— сказал Сальников.— Колодка у них неудобная.
— А наши саперы в обмотках ходили,— сказал Денищик.— А эти — сплошь в сапогах. Так что спешить погодим.
— Да чего ты боишься? — возмутился Сальников.— Форма наша…
— Форму надеть — три минуты делов. Обождите здесь.
Пригнувшись, Денищик перебежал к остаткам стены, ловко взобрался наверх, к разбитому оконному проему.
— Наши это ребята, ясно же,— недовольно ворчал Сальников.— У них, поди, водичка есть: Мухавец рядом.
Пограничник негромко свистнул. Приказав нетерпеливому Сальникову лежать, Плужников влез к пограничнику.
— Ну, гляди.— Денищик отодвинулся, освобождая место.
Сверху хорошо был виден противоположный берег Мухавца, позиции на валу, немецкие солдаты, мелькавшие в кустах у самого берега.
— А по саперам они, между прочим, не стреляют,— тихо сказал пограничник.— Почему?
— Да,— вздохнул Плужников.— Пошли вниз, тут заметить могут.
Они вернулись к Сальникову. Тот лежал, как приказано, но изо всех сил вытягивал шею, чтобы дальше видеть.
— Ну? Чего насмотрели?
— Немцы это.
— Брось! — не поверил Сальников.— А как же форма?
— А ты не форме верь, а содержанию,— усмехнулся пограничник.— Они, гады, взрывчатку под стены кладут. Шуганем их, лейтенант? Наши ведь за стенами-то.
— Шугануть бы следовало,— задумчиво сказал Плужников.— А куда отходить будем?
— Так кто же из нас о бегстве думает: ты или я?
— Дурак ты! — рассердился Плужников.— Они нас тут запросто минами забросают: крыши-то нет.
— Соображаешь,— одобрительно сказал пограничник.
Плужников огляделся. В грудах битого кирпича укрыться от мин было невозможно, а уцелевшие кое-где стены обещали рухнуть при первой хорошей бомбежке. Принимать же бой без удобных отходов было равносильно самоубийству: немцы обрушивали лавину огня на очаги сопротивления. Это Плужников знал по собственному опыту.
— А если вперед? — предложил Сальников.— В той казарме — наши. Прямо к ним, а?
— Вперед! — насмешливо передразнил пограничник.— Тоже, стратег нашелся.
— А может, и правда — вперед? — сказал Плужников.— Подползти, забросать гранатами и — одним рывком к казарме. А там — подвалы.
Пограничник нехотя согласился: его пугала атака на глазах у противника. Здесь требовалась особая осторожность, и поэтому ползли они долго. Продвигались только по очереди: пока один ужом скользил между обломков, двое следили за немцами, готовые прикрыть его огнем.
Немецкие саперы, занятые устройством фугасов под уцелевшей стеной казармы, не смотрели по сторонам. То ли были убеждены, что никого, кроме них, здесь нет, то ли очень надеялись на наблюдателей с той стороны Мухавца. Они уже заложили взрывчатку и аккуратно прокладывали шнуры, когда из ближайшей воронки одновременно вылетели три гранаты.
Уцелевших в упор добили из автоматов. Все было сделано быстро и внезапно: с той стороны Мухавца не прозвучало ни одного выстрела.
— Взрывчатку! — кричал Плужников, лихорадочно обрывая шнуры.— Доставай взрывчатку!
Денищик и Сальников успели вытащить пакеты, когда немцы, опомнившись, открыли ураганный огонь. Пули дробно стучали о кирпичи. Они бросились за угол, но здесь уже с визгом рвались мины. Оглушенные и полуослепшие, они скатились в дыру. В черный провал подвала.
— Обратно живы! — Сальников возбужденно смеялся.— Я же говорил! Я же говорил!..
— Нога.— Плужников потрогал разорванное голенище: рука была в крови.— Бинт есть?
— Глубоко? — обеспокоенно спросил Денищик.
— Кажется, нет. Поверху осколок.
Пограничник оторвал лоскут от пропотевшей нижней рубахи:
— Перетяни потуже.
Плужников стащил сапог, задрал штанину. Из рваной раны обильно текла кровь. Он подложил под лоскут грязный носовой платок, крепко перевязал. Повязка сразу набухла, но кровь больше не шла.
— Заживет, как на собаке,— сказал Денищик.
Подошел Сальников. Сказал озадаченно:
— Тут выхода нет. Только этот отсек.
— Не может быть.
— Точно. Все стены проверил.
— Ловко будет, когда они фугас рванут,— невесело усмехнулся Денищик.— Братская могила на трех человек.
Они еще раз обошли подвальный отсек, старательно обшаривая каждый метр. У противоположной стены кирпичи лежали навалом, точно рухнув со свода, и они начали торопливо разбирать их. Наверху слышался рев пикирующих бомбардировщиков, грохот: немцы начали утреннюю бомбежку. Гремело над самой головой, дрожали стены, но они продолжали растаскивать кирпичи: в каменном мешке иного выхода не было.
Это был слабый шанс, и на сей раз он выпал не им: убрав последние обломки, они обнаружили плотный кирпичный пол — этот отсек подвала не имел второго выхода. А оставаться здесь было невозможно: немцы подбирались вплотную, и если бы обнаружили их, то двух гранат, брошенных в пролом, было бы вполне достаточно. Уходить следовало немедленно.
— Надо, пока бомбят! — кричал пограничник.— Автоматчиков тогда нету!
Грохот заглушал слова. Взрывы гнали в окно пыль, раскаленный воздух, тяжелый смрад взрывчатки и гниющих трупов. Пот разъедал глаза, ручьями тек по телу. Нестерпимо хотелось пить.
Бомбежка кончилась, отчетливо слышался вой бомбардировщиков и частая стрельба. Отбомбившись, самолеты продолжали кружить над крепостью, расстреливая ее из пушек и пулеметов.
— Идем! — кричал Денищик, стоя у пролома.— Они в стороне кружат. Идем, ребята, пока опять не отрезали!
Он кинулся в пролом, выглянул и тут же отпрянул, чуть не сбив Плужникова:
— Немцы.
Они прижались к стене. Рев самолетов затихал, яснее звучала ружейная стрельба. И все же они уловили сквозь нее и шаги, и чужой говор: они уже научились выбирать из оглушающего грохота то, что непосредственно угрожало им.
Темная фигура на миг заслонила пролом: кто-то осторожно заглянул в каменный мешок и тотчас же отпрянул. Плужников беззвучно снял автомат с предохранителя. Сердце билось так сильно, что он боялся, как бы немцы не услыхали этот стук.
Вновь, совсем рядом, раздались голоса. В пролом влетела граната, ударилась о дальнюю стенку подвала, но они успели упасть на пол, и раздался взрыв. Тут, в тесном подземелье, он был болезненно резок. В стены застучали осколки, вонючий дым близкого разрыва опалил лицо.
Плужников не успел ни испугаться, ни обрадоваться, что осколки прошли выше. Немцы были рядом, в двух шагах, и он не смел даже спросить товарищей, не задело ли кого. Надо было лежать, лежать, не шевелясь, безропотно ожидая очередных гранат.
Но гранат немцы больше не кидали. Поговорив, пошли дальше, к следующему подвальному отсеку. Шаги удалялись, глухо донесся гранатный взрыв: немцы проверяли соседние помещения.
— Целы? — еле слышно спросил Плужников.
— Целы,— отозвался Денищик.— Замри, лейтенант.
Весь день они пролежали в этом подвале. Весь день до темноты, боясь шевельнуться, не решаясь вздохнуть, потому что немцы ходили рядом: настороженным слухом они ловили их непонятный говор. От постоянного напряжения мучительно сводило мускулы.
Они не знали, что происходит наверху. Отчетливо слышалась стрельба, дважды противник обращался с предложением сложить оружие, давая часовые передышки. Но они не смогли воспользоваться и ими: немцы заняли этот участок казарм.
Рискнули выползти ночью, хотя эта ночь была беспокойнее предыдущих. Немцы прочно блокировали берега, ярко освещали крепость ракетами и не прекращали минный обстрел. То и дело слышались глухие взрывы: немецкие саперы методически рвали фугасами стены, потолки и перекрытия, расчищая путь своим штурмовым группам.
Денищик вызвался в разведку. Долго не возвращался: Сальников уже шипел, что надо тикать. Но близких выстрелов не слышалось, а Плужников не мог поверить, что пограничник сдастся без боя, и поэтому ждал.
Наконец послышался шорох, в проломе появилась голова:
— Ползите. Тихо: немец рядом.
Снаружи было душно, отчетливо доносился сладковатый трупный запах, и пересохшее горло все время сжимали судорожные рвотные спазмы. Плужников старался дышать ртом.
Повсюду слышались немецкие голоса, стук ломов и кирок: саперы проламывали проходы в стенах, подводили фугасы. Пришлось долго ползти по обломкам, замирая при каждом взлете ракеты.
В глубокой яме, куда наконец ввалились они, нестерпимо воняло: на дне лежали вспухшие на трехдневной жаре, развороченные взрывами трупы. Но здесь можно было передохнуть, оглядеться и решить, что делать дальше.
— Обратно в костел надо,— горячо убеждал Сальников.— Там стены — ого! А водичку я достану. Под носом проползу, а достану.
— Костел — мышеловка,— упрямился пограничник.— Немцы по ночам до стен добираются: окружат и — хана. Надо в подвалы: там народу побольше.
— А водички поменьше! Ты день в воронке дрых, а я там сидел: раненым по столовой ложке водичку отпускают, как лекарство. А здоровые лапу сосут. А я без водички…
Плужников слушал эти пререкания, думая о другом. Весь день они пролежали в двух шагах от немцев, и он собственными глазами увидел, что противник действительно изменил тактику. Саперы упорно долбили стены, закладывали фугасы, подрывали перекрытия. Немцы грызли оборону, как крысы: об этом следовало доложить немедленно. Он поделился этими соображениями с бойцами. Сальников сразу заскучал:
— Мое дело маленькое.
— Как бы свои не подстрелили,— озабоченно сказал Денищик.— Напоремся в темноте. А крикнуть — немцы минами забросают.
— Надо через казарму,— сказал Плужников.— Не могут же все подвалы быть изолированными.
— Еле уползли, теперь — обратно,— недовольно ворчал Сальников.— Лучше в костел, товарищ лейтенант.
— Завтра в костел,— сказал Плужников.— Надо сперва саперов пугнуть.
— Это мысль, лейтенант,— поддержал пограничник.— Шуранем немчуру и — к своим.
Но шурануть саперов не удалось. Под Плужниковым осыпались кирпичи, когда он вскочил: подвела задетая осколком нога. Он упал, и тут же прицельная очередь автомата разнесла кирпич возле его головы.
Им так и не удалось прорваться к своим, но все же они перебежали к кольцевым казармам на берегу Мухавца. Этот участок казался вымершим, в оконных проемах не было видно ни своих, ни чужих. Но раздумывать было некогда, и они вскочили в ближайший черный пролом подвала. Вскочили, прижались к стенам: немецкие сапоги протопали поверху.
— Долго совещались,— сказал Денищик, когда все стихло.
Никто не успел ответить. В темноте клацнул затвор, и хриплый голос спросил:
— Кто? Стреляю!
— Свои! — громко сказал Плужников.— Кто тут?
— Свои? — Из темноты говорили с трудом, в паузах слышалось тяжелое дыхание.— Откуда?
— С улицы,— резко сказал Денищик.— Нашел время допрашивать: немцы наверху. Ты где тут?
— Не подходить, стреляю! Сколько вас?
— Вот чумовой! — возмутился Сальников.— Ну, трое нас, трое. А вас?
— Один — ко мне, остальным не двигаться.
— Один иду,— сказал Плужников.— Не стреляйте.
Растопырив руки, чтобы не наткнуться в темноте, он ушел в черную глубину подвала.
— Жрать хочу,— шепотом признался Сальников.— Супцу бы сейчас.
Денищик достал плитку шоколада, отломил четвертую часть:
— Держи.
— Откуда взял?
— Одолжил,— усмехнулся пограничник.
— То-то несладкий он.
Вернулся Плужников. Сказал тихо:
— Политрук из четыреста пятьдесят пятого полка. Ноги у него перебиты, вторые сутки лежит.
— Один?
— Товарища вчера убило. Говорит, над ним — дыра на первый этаж. А там к нашим пробраться можно. Только рассвета ждать придется: темно очень.
— Обождем. Пожуй, лейтенант.
— Шоколад, что ли? А политруку?
— Есть и политруку.
— Пошли. Сальников, останешься наблюдать.
У противоположной стены лежал человек: они определили его по прерывистому дыханию и тяжелому запаху крови. Присели рядом. Плужников рассказал, как дрались в костеле, как ушли оттуда, нарвались на немцев и отлеживались потом в каменном отсеке.
— Отлеживались, значит? Молодцы, ребята: кто-то воюет, а мы — отлеживаемся?
Политрук говорил с трудом. Дыхание было коротким, и у него уже не было сил вздохнуть полной грудью.
— Ну и перебили бы нас там,— сказал Плужников.— Пара гранат, и все дела.
— Гранат испугался?
— Глупо погибать неохота.
— Глупо? Если убил хоть одного, смерть уже оправдана. Нас двести миллионов. Двести! Глупо, когда никого не убил.
— Там очень невыгодная позиция.
— Позиция… У нас одна позиция: не давать им покоя. Чтоб стрелял каждый камень. Знаешь, что они по радио нам кричат?
— Слыхали.
— Слыхали, да не анализировали. Сначала они просто предлагали сдаваться. Запугивали: сметем с лица земли. Потом — «стреляйте комиссаров и коммунистов и переходите к нам». А вчера вечером — новая песня: «доблестные защитники крепости». Обещают райскую жизнь всем, кто сложит оружие, даже комиссарам и коммунистам. Почему их агитация повернулась на сто восемьдесят градусов? Потому, что мы стреляем. Стреляем, а не отлеживаемся.
— Ну, мы сдаваться не собираемся,— сказал Денищик.
— Верю. Верю, потому и говорю. Задача одна: уничтожать живую силу. Очень простая задача.
Политрук говорил что-то еще, а Плужников опять плыл в лодке, и опять через борт плескалась вода, и опять он пил эту воду и никак не мог напиться. И опять на корме сидела Валя в таком ослепительном платье, что у Плужникова слезились глаза. И наверно, поэтому он не смеялся во сне…
Растолкали его, когда рассвело, и он сразу увидел политрука: невероятно худого, заросшего щетиной, среди которой все время двигались искусанные в кровь тонкие губы. На изможденном, покрытом грязью и копотью лице жили только глаза: острые, немигающие, пристально упершиеся в него.
— Выспался?
Возраста у политрука уже не было.
Втроем они втащили раненого сквозь пролом на первый этаж покинутой казармы. Здесь стояли двухъярусные койки, покрытые голыми досками: сенники и постельное белье защитники унесли с собой. На полу валялись стреляные гильзы, битый кирпич, обрывки заскорузлого, в засохшей крови, обмундирования. Разбитые прямой наводкой простенки зияли провалами.
Политрука уложили на койку, хотели сделать перевязку, но так и не решились отодрать намертво присохшие бинты. От ран шел тяжелый запах.
— Уходите,— сказал политрук.— Оставьте гранату и уходите.
— А вы? — спросил пограничник.
— А я немцев подожду. Граната да шесть патронов в пистолете: будет чем встретить.
Канонада оборвалась — резко, будто вдруг выключили все звуки. И сразу зазвучал знакомый, усиленный динамиками голос:
— Доблестные защитники крепости! Немецкое командование призывает вас прекратить бессмысленное сопротивление. Красная Армия разбита…
— Врешь, сволочь! — крикнул Денищик.— Брешешь, жаба фашистская!
— Войну не перекричишь.— Политрук чуть усмехнулся.— Она выстрел слышит, а голос — нет. Не горячись.
Иссушающая жара плыла над крепостью, и в этой жаре вспухали и сами собой шевелились трупы. Тяжелый, густо насыщенный пылью и запахом разложения пороховой дым сползал в подвалы. И дети уже не плакали, потому что в сухих глазах давно не было слез.
— Всем, кто в течение получаса выйдет из подвалов без оружия, немецкое командование гарантирует жизнь и свободу по окончании войны. Вспомните о своих семьях, о невестах, женах, матерях. Они ждут вас, солдаты!
Голос замолчал, и молчала крепость. Она молчала тяжело и грозно, измотанная круглосуточными боями, жаждой, бомбежками, голодом. И это молчание было единственным ответом на очередной ультиматум противника.
— О матерях вспомнили,— сказал политрук.— Значит, не ожидал немец такого поворота.
Степь да степь кругом, Путь далек лежит…Чисто и ясно зазвучала в раскаленном воздухе песня. Родная русская песня о великих просторах и великой тоске. От неожиданности у Плужникова перехватило дыхание, и он изо всех сил стиснул зубы, чтобы сдержать нахлынувшие вдруг слезы. А сильный голос вольно вел песню, и крепость слушала ее, беззвучно рыдая у закопченных амбразур.
— Не могу-у!..— Сальников упал на пол, вздрагивая, бил кулаками по кирпичам.— Не могу! Мама, маманя песню эту…
— Молчать! — крикнул политрук.— Они же на это и бьют, сволочи! На это, на слезы наши!..
Сальников замолчал. Музыка еще звучала, но сквозь нее Плужников уловил вдруг странный протяжный гул. Прислушался, не смог разобрать слов, но понял: где-то под развалинами хриплыми, пересохшими глотками нестройно и страшно пели «Интернационал». И поняв это, он встал.
Это есть наш последний и решительный бой…—из последних сил запел политрук. Хрипя, он кричал слова гимна, и слезы текли по изможденному лицу, покрытому копотью и пылью. И тогда Плужников запел тоже, а вслед за ним и пограничник. И Сальников поднялся с пола и встал рядом, плечом к плечу, и тоже запел «Интернационал».
Никто не даст нам избавленья, Ни бог, ни царь и не герой…Они пели громко, так громко, как не пели никогда в жизни. Они кричали свой гимн, и этот гимн был ответом сразу на все немецкие предложения. Слезы ползли по грязным лицам, но они не стеснялись этих слез, потому что это были другие слезы. Не те, на которые рассчитывало немецкое командование.
3
Спотыкаясь, Плужников медленно брел по бесконечному, заваленному битым кирпичом подвалу. Часто останавливался, вглядываясь в непроглядную темень, долго облизывал сухим языком затвердевшие, стянутые давней коростой губы. За третьим поворотом должен был появиться крохотный лучик: он сам принес заросшему по брови иссохшему фельдшеру десяток свечей, найденных в развалинах столовой. Иногда падал, всякий раз испуганно хватаясь за фляжку, в которой было сейчас самое дорогое, что он мог раздобыть: полстакана мутной вонючей воды. Вода эта булькала при каждом шаге, и он все время чувствовал, как она булькает и переливается, мучительно хотел пить и мучительно сознавал, что на эту воду он не имеет права.
Чтобы отвлечься, забыть про воду, что булькала у бедра, он считал дни. Он отчетливо помнил только три первые дня обороны, а потом дни и ночи сливались в единую цепь вылазок и бомбежек, атак, обстрелов, блужданий по подземельям, коротких схваток с врагом и коротких, похожих на обмороки минут забытья. И постоянного, изнуряющего, не проходящего даже во сне желания пить.
Они еще возились с политруком, стараясь поудобнее устроить его, когда откуда-то появились немцы. Политрук закричал, чтобы они бежали, и они побежали через разгромленные комнаты, где вместо окон зияли разорванные снарядами дыры. Сзади прозвучало несколько выстрелов и грохнул взрыв: политрук принял последний бой, выиграв для них секунды, и они опять ушли, сумев в тот же день пробраться к своим через чердачные перекрытия. И Сальников опять радовался, что им повезло.
Они пришли к своим, и не было ни воды, ни патронов: только пять ящиков гранат без взрывателей. И по ночам они ходили к немцам и в узких каменных мешках, хрипя и ругаясь, били этих немцев прикладами и гранатами без взрывателей, кололи штыками и кинжалами, а днем отражали атаки тем оружием, какое смогли захватить. И ползали за водой под фиолетовым светом ракет, раздвигая осклизлые трупы. А потом те, кто остался в живых, ползли назад, сжимая в зубах дужку котелка и уже не опуская головы. И кому не везло, тот падал лицом в котелок и, может быть, перед смертью успевал напиться воды. Но им везло, и пить они не имели права.
А днем — от зари до зари — бомбежки сменяли обстрелы и обстрелы — бомбежки. И если вдруг смолкал грохот, значит, опять чужой механический голос предлагал прекратить сопротивление, опять давал час или полчаса на раздумье, опять выматывал душу до боли знакомыми песнями. И они молча слушали эти песни и тихий плач умирающих от жажды детей.
Потом пришел приказ о прорыве, и им подкинули патронов и даже взрывателей для гранат. Они — все трое — атаковали по мосту и уже добежали до половины, когда немцы в упор, с двадцати шагов, ударили шестью пулеметами. И ему опять повезло, потому что он успел прыгнуть через перила в Мухавец, вволю напиться воды и выбраться к своим. А потом опять пошел на этот мост, потому что там остался Володька Денищик. Пограничник из Гомеля, Карла Маркса, сто двенадцать, квартира девять. А Сальников опять уцелел и, дергаясь, кричал потом в каземате:
— Обратно повезло, вот! Кто-то за меня богу молится, ребята! Видно, бабуня моя в церковь зачастила!
Только когда все это было? До или после того, как приняли решение отправить в плен женщин и детей? Они выползали из щелей на залитый солнцем двор: худые, грязные, полуголые, давно изорвавшие платья на бинты. Дети не могли идти, и женщины несли их, бережно обходя неубранные трупы и вглядываясь в каждый, потому что именно этот — уже после смерти искореженный осколками, чудовищно распухший и неузнаваемый — мог быть мужем, отцом или братом. И крепость замерла у бойниц, не стесняясь слез, и немцы впервые спокойно и открыто стояли на берегах.
Когда это было — до или после их неудачной попытки вырваться из кольца? До или после? Плужников очень хотел вспомнить и — не мог. Никак не мог.
Плужников рассчитывал увидеть слабый отблеск свечи, но еще не видя его, еще не дойдя до поворота, услышал стон. Несмотря на оглушающие бомбежки и постоянный звон в ушах, слух его работал пока исправно, да и стон, что донесся до него — протяжный, хриплый, уже даже и не стон, а рев,— был громок и отчетлив. Кричал обожженный боец: накануне немцы сбрасывали с самолетов бочки с бензином, и горячая жидкость ударила в красноармейца. Плужников сам относил его в подвал, потому что оказался рядом, и его тоже обожгло, но не сильно, а боец уже тогда начал кричать и, видно, кричал до сих пор.
Но крик этот не был одиноким. Чем ближе подходил Плужников к глухому и далекому подвалу, куда стаскивали всех безнадежных, тем все сильнее и сильнее становились стоны. Здесь лежали умирающие — с распоротыми животами, оторванными конечностями, проломленными черепами,— а единственным лекарством была немецкая водка да руки тихого фельдшера, на котором кожа от жажды и голода давно висела тяжелыми слоновьими складками. Отсюда уже не выходили: отсюда выносили тех, кто уже успокоился, а в последнее время перестали и выносить, потому что не было уже ни людей, ни сил, ни времени.
— Воды не принес?
Фельдшер спрашивал не для себя: здесь, в подвале, заполненном умирающими и мертвыми вперемежку, глоток воды был почти преступлением. И фельдшер, медленно и мучительно умирая от жажды, не пил никогда.
— Нет,— солгал Плужников.— Водка это.
Он сам добыл эту воду во время утренней бомбежки. Дополз до берега, оглохнув от взрывов и звона бивших в каску осколков. Он зачерпнул не глядя, сколько мог, он сам не сделал ни глотка из этой фляжки: он нес ее, единственную драгоценность, Денищику и поэтому солгал.
— Живой он,— сказал фельдшер.
Сидя у входа подле ящика, на котором чадила свеча, он неторопливо рвал на длинные полосы грязное, заскорузлое обмундирование: тем, кто жив, еще нужно было делать перевязки.
Плужников дал ему три немецкие сигареты. Фельдшер жадно схватил их и все никак не мог прикурить, попадая мимо пламени: дрожали руки, да и сам он качался из стороны в сторону, уже не замечая этого.
Свеча едва горела в спертом, густо насыщенном тлением, болью и страданием воздухе. Огонек ее то замирал, обнажая раскаленный фитилек, то вдруг выравнивался, взлетая ввысь, снова съеживался, но — жил. Жил и не хотел умирать. И, глядя на него, Плужников почему-то подумал о крепости. И сказал:
— Приказано уходить. Кто как сможет.
— Прощаться зашел? — Фельдшер медленно, словно каждое движение причиняло боль, повернулся, глянул мертвыми, ничего уже не выражающими глазами.— Им не говори. Не надо.
— Я понимаю.
— Понимаешь? — Фельдшер кивал.— Ничего ты не понимаешь. Ничего. Понимал бы — мне бы не сказал.
— Приказ и тебя касается.
— А их? — Фельдшер кивнул в стонущую мглу подвала.— Их что, кирпичами завалим? Даже и пристрелить нечем. Пристрелить нечем, это ты понимаешь? Вот они меня касаются. А приказы… Приказы уже не касаются: я сам себе пострашнее приказ отдал.— Он замолчал, глаза его странно, всего на мгновение, на миг один блеснули.— Вот если каждый, каждый солдат, понимаешь, сам себе приказ отдаст и выполнит его — сдохнет немец. Сдохнет! И война сдохнет. Кончится война. Вот тогда она и кончится.
И замолчал, скорчился, высасывая сигаретный дым сухим, проваленным ртом. Плужников молча постоял возле, достал из кармана недогрызенный сухарь, положил его рядом со свечой и медленно пошел в подвальный сумрак, перешагивая через стонущих и уже навеки замолчавших.
Денищик лежал с закрытыми глазами, и перевязанная грязным, пропитанным кровью тряпьем грудь его судорожно, толчками приподнималась при каждом вздохе. Плужников хотел сесть, но рядом, плечом к плечу, лежали другие раненые, и он смог только опуститься на корточки. Это было трудно, потому что у него давно уже болела отбитая кирпичами спина.
— Соседа отодвинь,— не открывая глаз, сказал Денищик.— Он вчера еще помер.
Плужников с трудом повернул на бок окоченевшее тело — напряженно вытянутая рука тупо, как палка, ударилась о каменный пол,— сел рядом. Осторожно, страшась привлечь внимание, отцепил от пояса фляжку. Денищик потянулся к ней и — отстранился:
— А сам?
— Я — целый.
Она все-таки булькнула, эта фляжка, и сразу в подвальной мгле зашевелились люди. Кто-то уже полз к ним, полз через еще живых и уже мертвых, кто-то уже хватал Плужникова за плечи, тянул, тряс, бил. Согнувшись, телом прикрывая пограничника, Плужников торопливо шептал:
— Пей. Пей, Володя. Пей.
А подвал шевелился, стонал, выл, полз к воде, протянув из тьмы десятки исхудалых рук, страшных в неживой уже цепкости. И хрипел единым страшным выдохом:
— Воды-ы!..
— Нету воды! — громко крикнул Плужников.— Нету воды, братцы, товарищи, нету!
— Воды-ы!..— хрипели пересохшие глотки, и кто-то уже плакал, кто-то ругался, и чьи-то руки по-прежнему рвали Плужникова за плечи, за портупею, за перепревшую от пота гимнастерку.
— Ночью принесу, товарищи! — кричал Плужников.— Ночью, сейчас головы не поднимешь! Да пей же, Володька, пей!..
Замер на миг подвал, и в наступившей тишине все слушали, как трудно глотает пограничник. Пустая фляжка со стуком упала на пол, и снова кто-то заплакал, забился, закричал.
— Значит, завтра помру,— вдруг сказал Денищик, и в слабой улыбке чуть блеснули зубы.— Думал, сегодня, а теперь — завтра. А до войны я в Осводе работал. Целыми днями в воде. Река быстрая у нас, далеко сносит. Бывало, наглотаешься…— Он помолчал.— Значит, завтра… Сейчас что, ночь или день?
— День,— сказал Плужников.— Немцы опять уговаривают.
— Уговаривают? — Денищик хрипло засмеялся.— Уговаривают, значит? Сто раз убили и всё — уговаривают? Мертвых уговаривают! Значит, не зря мы тут, а?..— Он вдруг приподнялся на локтях, крикнул в темноту: — Не кляните за глоток, ребята! Ровно глоточек был, делить нечего. Уговаривают нас, слышали? Опять упрашивают…
Он трудно закашлялся, изо рта булькающими пузырями пошла кровь. В подвале примолкли, только по-прежнему тягуче выл обожженный боец. Кто-то сказал из тьмы:
— Ты прости нас, браток. Прости. Что там, наверху?
— Наверху? — переспросил Плужников, лихорадочно соображая, как ответить.— Держимся. Патронов достали. Да, утром наши «ястребки» прилетали. Девять штук! Три круга над нами сделали. Значит, знают про нас, знают! Может, разведку делали, прорыв готовят…
Не было никаких самолетов, никто не готовил прорыва и никто не знал, что на крайнем западе страны, далеко в немецком тылу, живой человеческой кровью истекает старая крепость. Но Плужников врал, искренне веря, что знают, что помнят, что придут. Когда-нибудь.
— Наши придут,— сказал он, чувствуя, как в горле щекочут слезы, и боясь, что люди в подвале почувствуют их и все поймут.— Наши обязательно придут и пойдут дальше. И в Берлин придут, и повесят Гитлера на самом высоком столбе.
— Повесить мало,— тихо сказал кто-то.— Водички бы ему не давать недели две.
— В кипятке его сварить…
— Про чаи отставить,— сказал тот, что просил прощения.— Продержись до своих, браток. Обязательно продержись. Уцелей. И скажешь им: тут, мол, ребята…— Он замолчал, подыскивая то самое, то единственное слово, которое {35} мертвые оставляют живым.
— Умирали не срамя,— негромко и ясно сказал молодой голос.
И все замолчали, и в молчании этом была суровая гордость людей, не склонивших головы и за той чертой, что отделяет живых от мертвых. И Плужников молчал вместе со всеми, не чувствуя слез, что медленно ползли по грязному, заросшему первой щетиной лицу.
— Коля.— Денищик теребил его за рукав.— Я ни о чем не прошу: патроны дороги. Только выведи меня отсюда, Коля. Ты не думай, я сам дойду, я чувствую, что дойду. Я завтра помру, сил хватит. Только помоги мне маленько, а? Я солнышко хочу увидеть, Коля.
— Нет. Там бомбят все время. Да и не дойдешь ты.
— Дойду,— тихо сказал пограничник.— Ты должен мне, Коля. Не хотел говорить, а сейчас скажу. В тебя пули шли, лейтенант, в тебя, Коля, твой это свинец. Так что сведи меня к свету. И все. Даже воды не попрошу. А сил у меня хватит. Сил хватит, ты не думай. Дойду. Увидеть хочу, понимаешь? День свой увидеть.
Плужников с трудом поднял пограничника. Денищик, еле сдерживая стоны, хватался руками, наваливался, тяжело, со свистом дыша сквозь стиснутые зубы. Но, встав на ноги, пошел к выходу сам: Плужников лишь поддерживал его, когда надо было перешагивать через лежавших на полу бойцов.
Фельдшер сидел в той же позе, все так же механически, аккуратно разрывая на полосы одежду погибших. Все так же чадно горела свеча, словно задыхаясь в смрадном воздухе гниения и смерти, и все так же лежал подле нее нетронутый кусок ржавого армейского сухаря.
Они брели медленно, с частыми остановками. Денищик дышал громко и часто, в простреленной груди что-то клокотало и булькало, он то и дело вытирал с губ розовую пену неуверенной, дрожащей рукой. На остановках Плужников усаживал его. Денищик приваливался к стене, закрывал глаза и молчал: берег силы. Раз только спросил:
— Сальников живой?
— Живой.
— Он везучий.— Пограничник сказал это без зависти: просто отметил факт.— И все за водой ходит?
— Ходит.— Плужников помолчал, раздумывая, стоит ли говорить.— Слушай, Володя, приказ нам всем: разбегаться. Кто куда.
— Как?
— Мелкими группами уходить из крепости. В леса.
— Понятно.— Денищик медленно вздохнул.— Прощай, значит, старушка. Ну, правильно: здесь как в мешке.
— Считаешь, правильно?
Денищик долго молчал. Крохотная слеза медленно выкатилась из-под ресниц и пропала где-то в глубоком провале густо заросшей щеки.
— С Сальниковым иди, Коля.
Плужников молча кивнул, соглашаясь. Хотел было сказать, что если бы не те пулеметы на мосту, то пошел бы он только с ним, с Володькой Денищиком, и — не сказал.
Он оставил Денищика в пустом каземате. Уложил на кирпичный пол лицом к узкой отдушине, сквозь которую виднелось серое, задымленное небо.
— Шинель не захватили. Там у фельдшера валялась, я видел.
— Не надо.
— Я сверху принесу. Пока тихо.
— Ну, принеси.
Плужников в последний раз заглянул в уже чужие, уже отрешенные глаза пограничника и вышел из каземата. Оставалось завернуть за угол и по разбитой, заваленной обломками лестнице подняться в первый этаж. Там еще держались те, кто был способен стрелять, кого собрал после ночной атаки не знакомый Плужникову капитан-артиллерист.
Он не дошел до поворота, когда наверху, над самой головой, раздался грохот. По плечам, по каске застучала штукатурка, и тугая взрывная волна, ударившись в стену за углом, вынесла на него пыль и удушливый смрад немецкого тола.
Еще сыпались кирпичи, с треском рушились перекрытия, но Плужников уже нырнул в вонючий, пропыленный дым и, спотыкаясь, полез через завал. Где-то уже били автоматы, в угарных клубах взрывов вспыхивали нестерпимо яркие огоньки выстрелов. Чья-то рука, вынырнув из сумрака, рванула его за портупею, втащив в оконную нишу, и Плужников совсем близко увидел грязное, искаженное яростью лицо Сальникова:
— Подорвали, гады! Стену подорвали!
— Где капитан? — Плужников вырвался.— Капитана не видел?
Сальников, надсадно крича, бил злыми короткими очередями в развороченное окно. Там, в дыму и пыли, мелькали серые фигуры, сверкали огоньки очередей. Плужников метнулся в задымленный первый этаж, споткнулся о тело — еще дышащее, еще ползущее, еще волочившее за собой перебитые ноги в распустившихся окровавленных обмотках. Упал, запутавшись в этих обмотках, а когда вскочил — разглядел капитана. Он сидел у стены, крепко зажмурившись, и по его обожженному кроваво-красному лицу ручьями текли слезы.
— Не вижу! — строго и обиженно кричал он.— Почему не вижу? Почему? Где лейтенант?
— Здесь я.— Плужников стоял на коленях перед ослепшим командиром: опаленное лицо казалось непомерно раздутым, сгоревшая борода курчавилась пепельными завитками.— Здесь, товарищ капитан, перед вами.
— Патроны, лейтенант! Где хочешь, достань патронов! Я не вижу, не вижу, ни черта не вижу!..
— Достану,— сказал Плужников.
— Стой! Положи меня за пулемет. Положи за пулемет!..
Он шарил вокруг, ища Плужникова. Плужников схватил эти дрожавшие, суетливые руки, почему-то прижал к груди.
— Вот он — я. Вот он.
— Все,— вдруг тихо и спокойно сказал капитан, ощупывая его.— Нету моих глазынек. Нету. Патроны. Где хочешь. Приказываю достать.
Он высвободился, коснулся пальцами голого, мокрого от слез лица. Потом правая рука его привычно скользнула к кобуре.
— Ты еще здесь, лейтенант?
— Здесь.
— Документы мои зароешь.— Капитан достал пистолет, на ощупь сбросил предохранитель, и рука его больше не дрожала.— А пистолет возьми: семь патронов останется.
Он поднял пистолет, несколько раз косо, вслепую потыкал им в голову.
— Товарищ капитан! — крикнул Плужников.
— Не сметь!..
Капитан сунул ствол в рот и нажал курок. Выстрел показался Плужникову оглушительным, простреленная голова тупо ударилась о стену, капитан мучительно выгнулся и сполз на пол.
— Готов.
Плужников оглянулся: рядом стоял сержант.
— Отбили,— сказал сержант.— А доложить не успел. Жалко.
Только сейчас Плужников расслышал, что стрельбы нет. Пыль медленно оседала, виднелись развороченные окна, пролом стены и бойцы возле этого пролома.
— Три диска осталось,— сказал сержант.— Еще раз подорвут — и амба.
— Я достану патроны.
Плужников вынул тяжелый ТТ из еще теплой руки капитана, положил в карман. Сказал, вставая:
— Документы его зароешь, он просил. А патроны я принесу. Сегодня же.
И пошел к оконной нише, возле которой расстался с везучим Сальниковым.
В нише никого не было, и Плужников устало опустился на кирпичи. Он не попал под взрыв, не отбивал немецкой атаки, но чувствовал себя разбитым. Впрочем, чувство это давно уже не покидало его: он был много раз оглушен, засыпан, отравлен дымом и порохом, и даже та пустяковая рана на ноге, что затянулась на молодом теле сама собой, часто тревожила его внезапной, отдававшей в колено болью. Ныли отбитые кирпичами почки, мутило от постоянного голода, жажды, недосыпания и липкого трупного запаха, которым была пропитана каждая складка его одежды. Он давно уже привык думать только об опасности, только о том, как отбить атаку, как достать воду, патроны, еду, и уже разучился вспоминать что-либо. И даже сейчас, в эту короткую минуту затишья, он думал не о себе, не о капитане, что застрелился на его глазах, не о Денищике, что умирал на голом полу каземата,— он думал, где достать патронов. Патронов и гранат, без которых нельзя было прорваться из окруженной крепости.
Сальников вернулся через окно: от немцев. Бросил на землю три автоматные обоймы, сказал:
— Вот гады немцы: без фляжек в атаку ходят.
— Слушай, Сальников, ты тот, первый день помнишь? Ты вроде за патронами тогда бежал. Вроде склад какой-то…
— Кондаков тот склад знал. А мы с тобой искали и не нашли.
— Мы тогда дураками были.
— Теперь поумнели? — Сальников вздохнул.— Искать пойдем?
— Пойдем,— сказал Плужников.— У сержанта три диска к пулемету осталось.
— При солнышке?
— Ночью не найдем.
— Пишите письма,— усмехнулся Сальников.— С приветом к вам.
Плужников промолчал. Сальников порылся в карманах, вытащил пригоршню грязных изломанных галет. Они долго, словно дряхлые старцы, жевали эти галеты: в сухих ртах с трудом ворочались шершавые языки.
— Водички ба…— привычно вздохнул Сальников.
— Поди шинель разыщи,— сказал Плужников.— Володька на голом полу лежит. Зайдем к нему, а потом — двинем. На солнышко.
— К черту в зубы, к волку в пасть,— проворчал Сальников, уходя.
Он скоро приволок шинель — прожженную, с бурым пятном засохшей крови на спине. Молча поделили автоматные обоймы и полезли вниз по осыпающимся кирпичам в черную дыру подземелья.
Денищик был еще жив: лежал не шевелясь, глядя тускнеющими глазами в серый клочок неба. В черной цыганской бороде запеклась кровь. Он посмотрел на них отрешенно и снова уставился в окно.
— Не узнает,— сказал Сальников.
— Везучий,— с трудом сказал пограничник.— Ты — везучий. Хорошо.
— В бане сейчас хорошо,— улыбнулся Сальников.— И тепло, и водичка.
— Не носи. Воду не носи. Зря. К утру помру.
Он сказал это так просто и спокойно, что они не стали разуверять его. Он действительно умирал, ясно осознавал это, не отчаивался, а хотел только смотреть в небо. И они поняли, что высшее милосердие — это оставить Денищика одного. Наедине с самим собой и с небом. Они подсунули под него шинель, пожали вялую, уже холодную руку и ушли. За патронами для живых.
Немцы уже ворвались в цитадель, расчленив оборону на изолированные очаги сопротивления. Днем они упорно продвигались по запутанному лабиринту кольцевых казарм, стремясь оставить за собою развалины, а ночью развалины эти — подорванные саперами, взметенные прицельной бомбежкой и добела выжженные огнеметами — оживали вновь. Израненные, опаленные, измотанные жаждой и боями скелеты в лохмотьях поднимались из-под кирпичей, выползали из подземелий и в штыковых атаках уничтожали тех, кто рисковал оставаться на ночь. И немцы боялись ночей.
Но Плужников с Сальниковым шли за патронами днем. Ползли, царапая щеки о кирпичи, глотая пыль, задыхаясь в тяжком трупном запахе, напряженными спинами каждое мгновение ожидая автоматных очередей. Каждый миг здесь был последним, и каждое неосторожное движение могло приблизить этот миг. И поэтому они переползали понемногу, по нескольку шагов и только по очереди, а перед тем, как ползти, долго и напряженно вслушивались. Крепость сотрясалась от взрывов, автоматного треска и рева пламени, но здесь, где ползли они, было пока тихо.
Спасали воронки: на дне можно было отдышаться, прийти в себя, накопить силы для очередного шага вперед. Шага, который следовало проползти, ощущая каждый миллиметр.
В ту воронку, со дна которой так и не выветрился удушливый запах взрывчатки, Сальников сполз вторым. Плужников уже сидел на песке, сбросив нагретую солнцем каску.
— Женюсь,— прохрипел Сальников, сев рядом.— Если живой выберусь, непременно женюсь. Дурак был, что не женился. Мне, понимаешь, сватали…
Резкая тень упала на лицо, и Плужников, еще ничего не поняв, успел только удивиться, откуда она взялась, эта тень.
— Хальт!
Тугая автоматная очередь рванула воздух над головами: на откосе стоял немец. Стоял в двух шагах, и Плужников, медленно поднимаясь, с удивительной четкостью видел засученные по локоть руки {36}, серо-зеленый, в кирпичной пыли мундир, расстегнутый у ворота на две пуговицы, и черную дыру автомата, пронзительно глядевшую прямо в сердце. Они оба медленно встали, а их автоматы остались лежать у ног, на дне воронки. И так же медленно, точно во сне, подняли вверх руки.
А немец стоял над ними, нацелив автомат, стоял и улыбался, молодой, сытый, чисто выбритый. Сейчас он должен был чуть надавить на спусковой крючок, обжигающая струя ударила бы в грудь, и они навеки остались бы здесь, в этой воронке. И Плужников уже чувствовал эти пули, чувствовал, как они, ломая кости и разбрызгивая кровь, вонзаются в его тело. Сердце забилось отчаянно быстро, а горло сдавило сухим обручем, и он громко, судорожно икнул, нелепо дернув головой.
А немец расхохотался. Смех его был громким, уверенным: смех победителя. Он снял левую руку с автомата и указательным пальцем поманил их к себе. И они, не отрывая напряженных, немигающих глаз от автоматного дула, покорно полезли наверх, оступаясь и мешая друг другу. А немец все хохотал и все манил их из воронки указательным пальцем.
— Сейчас,— задыхаясь, бормотал Сальников.— Сейчас, сейчас.
Он обогнал Плужникова и, уже высунувшись по пояс из воронки, упал вдруг грудью на край и, схватив немца за ноги, с силой рванул на себя. Длинная автоматная очередь ударила в небо, немец и Сальников скатились вниз, и Плужников услышал отчаянный крик:
— Беги, лейтенант! Беги! Беги! Беги!
И еще — топот. Плужников выскочил на гребень, увидал немцев, что спешили на крик, и побежал. Очереди прижимали к земле, крошили кирпич у ног, а он бежал, перепрыгивая через трупы и бросаясь из стороны в сторону. И съежившаяся, согнутая в три погибели собственная спина казалась ему сейчас непомерно огромной, разбухшей, заслонявшей его самого уже не от немцев, не от пуль — от жизни.
Пули ложились то справа, то слева, то спереди, и Плужников, широко разинутым ртом хватая обжигающий воздух, тоже бросался то вправо, то влево, уже ничего не видя, кроме фонтанчиков, что взбивали эти пули. А немцы и не думали бежать за ним, а, надрываясь от хохота, гоняли по кругу автоматными очередями. И этот оборванный, грязный, задыхающийся человек бежал, падал, полз, плакал и снова бежал, загнанно утыкаясь в невидимые стены пулевых вееров. Они не спешили прекращать развлечение и старались стрелять так, чтобы не попасть в Плужникова, чтобы охота продлилась подольше, чтобы было что порассказать тем, кто не видел этой потехи.
А двое других неторопливо и обстоятельно били в воронке Сальникова. Он давно уже перестал кричать, а только хрипел, а они размеренно, как молотобойцы, били и били прикладами. Изо рта и ушей Сальникова текла кровь, а он корчился и все пытался прикрыть голову непослушными руками.
Пулевой круг медленно сужался, но Плужников все еще метался в нем, все еще не верил, что кружится на пятачке, все еще на что-то надеялся. Пистолет, что он сунул в карман, стукал по ноге, он все время чувствовал его, но не было, не хватало того мгновения, когда можно было бы выхватить его. Не было этого мгновения, не было воздуха, не было сил и не было выхода. Был конец. Конец службы и конец жизни лейтенанта Николая Плужникова.
Они сами загнали его на этот обломок кирпичной стены, одиноко торчавший из развороченной земли. Плужников упал за него, спасаясь от очереди, что раздробила кирпичи в сантиметре от сапога. Упал, укрылся, на какую-то секунду прекратилась стрельба, и за эту секунду он успел увидеть дыру. Она вела вниз, под стену, в черноту и неизвестность, и он, не раздумывая, пополз в нее, пополз со всей скоростью, на какую только был способен, извиваясь телом, в кровь обдирая пальцы, локти, колени. Щель резко заворачивала вправо, и он успел скользнуть за поворот и, вдруг потеряв опору, полетел куда-то, растопырив руки. И, падая, услышал над головой взрыв. Вслед за ним немцы швырнули в дыру гранату, и граната эта, ударившись о стену, взорвалась за поворотом, упруго встряхнув прохладную тишину подземелья.
Плужников упал на заваленный песком и штукатуркой кирпичный пол, но удачно, на руки. Не разбился, только от сотрясения из носа обильно пошла кровь. Размазывая ее по лицу, по гимнастерке, он лежал не шевелясь, по уже отработанной привычке на слух определяя опасность. Он изо всех сил сдерживал дыхание, но сердце по-прежнему бешено колотилось в груди, дышать приходилось часто и бурно, несмотря на все его старания. И, еще не отдышавшись, он достал пистолет и поудобнее улегся на холодном полу.
И почти тотчас же услышал шаги. Кто-то шел к нему, осторожно ступая; только чуть поскрипывал песок. Напряженно вглядываясь в густой сумрак, Плужников поднял пистолет; в нем все дрожало, и он держал этот пистолет двумя руками. Глаза его уже привыкли к темноте, и он еще издалека уловил смутные фигуры: шли двое.
— Стой! — негромко скомандовал он, когда они приблизились.— Кто идет?
Фигуры замерли, а затем одна дернулась, поплыла вперед прямо на вздрагивающую мушку его пистолета.
— Стреляю!
— Да свои мы, свои, товарищ! — радостно и торопливо закричал тот, что шел на него.— Федорчук, запали паклю, осветись!
Чиркнула спичка. Дымный свет факела выхватил из резко сгустившейся тьмы заросшее бородой лицо, армейский бушлат, расстегнутый воротник гимнастерки с тремя ало вздрогнувшими треугольничками на черных артиллерийских петлицах.
— Свои мы, свои, дорогой! — кричал первый.— Засыпало нас аж в первые залпы. Сами выкапывались, ходы рыли, думали… думали… думали…
Дрожащий свет факела вдруг оторвался, поплыл, закружился, заиграл ослепительными, веселыми брызгами. Пистолет с мягким стуком выпал из ослабевших рук, и Плужников потерял сознание.
Он пришел в себя в полной тишине, и эта непривычная мирная тишина испугала его. Сердце вдруг вновь бешено заколотилось в груди; все еще не открывая глаз, он с ужасом подумал, что оглох, оглох полностью, навсегда, и, мучительно напрягаясь, ловил, искал, ждал знакомых звуков: грохота взрывов, пулеметного треска, сухих автоматных очередей. Но услышал тихий женский голос, почти шепот:
— Очнулся, тетя Христя.
Он открыл глаза, увидел блики огня на размытых мраком, уходящих ввысь сводах и круглое девичье лицо: черная прядь волос выглядывала из-под неправдоподобно белой, сказочно чистой косынки. Осторожно шевельнул руками — они были свободны, не связаны,— ощупал ими край деревянной скамьи, на которой лежал, и сразу сел.
— Где я?
От резкого движения в глазах поплыло слабо освещенное подземелье, бородатые мужчины и два женских лица: молодое, что было совсем рядом, и постарше, порыхлее,— в глубине, у стола. Лица эти двоились, размывались, а он суетливо шарил руками по лавке, по карманам, по липкой от крови гимнастерке. Шарил и не находил оружия.
— Выпейте воды.
Молодая протягивала жестяную кружку. Он недоверчиво взял, недоверчиво глотнул: вода была мутной, на зубах хрустел песок, но это была первая вода за истекшие сутки, и он жадно, захлебываясь, выпил кружку до дна. И сразу перестало кружиться подземелье, огни, людские лица. Он ясно увидел большой стол, на котором горели три плошки, чайник на этом столе, посуду, прикрытую чистой тряпочкой, и пятерых: троих мужчин и двух женщин. Все пятеро, улыбаясь, глядели сейчас на него; у пожилой по щекам текли слезы, она вытирала их, всхлипывала, но — улыбалась. Что-то знакомое, далекое как сон, померещилось ему, но он не стал припоминать, а сказал требовательно и сухо:
— Пистолет. Мой пистолет.
— Вот он.— Молодая поспешно схватила пистолет, лежавший на столе, протянула ему.— Не узнаете, товарищ лейтенант?
Он молча схватил пистолет, выщелкнул обойму, проверил, есть ли патроны. Патроны были, он ударом вогнал обойму в рукоятку и сразу успокоился.
— Не узнаете? Помните, в субботу — ту, перед войной,— мы в крепость пришли. Вы упали еще. У КПП. Я — Мирра, помните?
— Да, да.
Он все припомнил. Девушку-хромоножку и женщин с детьми, что в полной тишине шли через развороченную крепость в немецкий плен, первый залп, и первую встречу с Сальниковым, и отчаянный, последний крик Сальникова: «Беги, лейтенант, беги!..» Он вспомнил ослепшего капитана и Денищика в пустом каземате, цену глотка воды и страшный подвал, забитый умирающими. Ему что-то весело, возбужденно, перебивая друг друга, рассказывали все пятеро, но он ничего сейчас не слышал.
— Сытые? — шепотом спросил он, и от этого звенящего шепота все вдруг замолчали.— Сытые, чистые, целые?.. А там, там братья ваши, товарищи ваши, там, над головой, мертвые лежат, неубранные, землей не засыпанные. И мы — мертвые! Мертвые бой ведем, давно уж сто раз убитые, немцев руками голыми душим. Воду, воду детям не давали,— пулеметам. Дети от жажды с ума сходили, а мы — пулеметам! Только пулеметам! Чтоб стреляли! Чтоб немцев, немцев не пустить!.. А вы отсиживались?..— Он вдруг вскочил.— Сволочи! Расстреляю! За трусость, за предательство! Я теперь право имею! Я право такое имею: именем тех, что наверху лежат! Их именем!..
Он кричал, кричал в полный голос и трясся, как в ознобе, а они молчали. Только при последних словах старший сержант Федорчук отступил в темноту, и там, в темноте, коротко лязгнул затвор автомата.
— Ты нас не сволочи.
Рыхлая фигура качнулась навстречу, полные руки ласково и властно обняли его. Плужников хотел рвануться, но коснулся плечом мягкой материнской груди, прижался к ней заросшей окровавленной щекой и заплакал. Он плакал громко, навзрыд, а ласковые руки гладили его по плечам, и тихий, спокойный, совсем как у мамы, голос шептал:
— Успокойся, сынок, успокойся. Вот ты и вернулся. Домой вернулся, целым вернулся. Отдохни, а там и решать будем. Отдохни, сыночек.
«Вот я и вернулся,— устало подумал Плужников.— Вернулся…»
Часть третья
1
Склад, в котором на рассвете 22 июня пили чай старшина Степан Матвеевич, старший сержант Федорчук, красноармеец Вася Волков и три женщины, накрыло тяжелым снарядом в первые минуты артподготовки. Снаряд разорвался над входом, перекрытия выдержали, но лестницу завалило, отрезав единственный путь наверх — путь к спасению, как тогда считали они. Плужников помнил этот снаряд: взрывная волна швырнула его в свежую воронку, куда потом, когда он уже очухался, ввалился Сальников. Но для него этот снаряд разорвался сзади, а для них — впереди, и пути их надолго разошлись.
Вся война для них, заживо замурованных в глухом каземате, шла теперь наверху. От нее ходуном ходили старые, метровой кладки, стены, склад заваливало новыми пластами песка и битых кирпичей, отдушины обвалились. Они были отрезаны от своих и от всего мира, но у них была еда, а воду уже на второй день они добыли из колодца. Мужчины, взломав пол, вырыли его, и за сутки там скапливалось до двух котелков. Было что есть, что пить и что делать: они во все стороны наугад долбили стены, надеясь прорыть ход на поверхность или проникнуть в соседние подземелья. Ходы эти заваливало при очередных бомбежках, и они рыли снова и однажды пробились в запутанный лабиринт подземных коридоров, тупиков и глухих казематов. Оттуда пробрались в оружейный склад, выход из которого тоже был замурован прямым попаданием, и в дальний отсек, откуда вверх вела узкая дыра.
Впервые за много дней они поднялись наверх: заживо погребенные неистово стремились к свободе, воздуху, своим. Один за другим они выползали из подземелья — все шестеро — и замирали, не решаясь сделать шаг от той щели, что, как им казалось, вела к жизни и спасению.
Крепость еще жила. Кое-где у кольцевых казарм, на той стороне Мухавца и за костелом еще стреляли, еще что-то горело и рушилось. Но здесь, в центре, этой ночью было тихо. И неузнаваемо. И не было ни своих, ни воздуха, ни свободы.
— Хана,— прохрипел Федорчук.
Тетя Христя плакала, по-крестьянски собирая слезы в уголок головного платка. Мирра прижалась к ней: от трупного смрада ее душили спазмы. И только Анна Петровна, сухо глянув горящими даже в темноте глазами, молча пошла через двор.
— Аня! — окликнул Степан Матвеевич.— Куда ты, Аня?
— Дети.— Она на секунду обернулась.— Дети там. Мои дети.
Анна Петровна ушла, а они, растерянные и подавленные, вернулись в подземелье.
— Разведка нужна,— сказал старшина.— Куда идти, где они, наши?
— Куда разведку-то, куда? — вздохнул Федорчук.— Немцы кругом.
А мать шла, спотыкаясь о трупы, сухими, уже тронутыми безумием глазами вглядываясь в фиолетовый отблеск ракет. И никто не окликнул ее и не остановил, потому что шла она по участку, уже оставленному нашими, уже взорванному немецкими саперами и вздыбленному многодневной бомбежкой. Она миновала Трехарочные ворота и взошла на мост — еще скользкий от крови, еще заваленный трупами — и упала здесь, среди своих, в трех местах простреленная случайной очередью. Упала, как шла: прямая и строгая, протянув руки к детям, которых давно уже не было в живых.
Но об этом никто не знал. Ни оставшиеся в подземельях, ни тем более лейтенант Плужников.
Опомнившись, он потребовал патронов. И когда через проломы в стенах, через подземный лаз его провели в склад — тот склад, куда в первые часы войны бежал Сальников,— и он увидел новенькие, тусклые от смазки ППШ, полные диски и запечатанные, нетронутые цинки, он с трудом удержал слезы. То оружие, за которое столько ночей они платили жизнями своих товарищей, лежало сейчас перед ним, и большего счастья он не ждал и не хотел. Он всех заставил чистить оружие, снимать смазку, готовить к бою, и все лихорадочно протирали стволы и затворы, зараженные его яростной энергией.
К вечеру все было готово: автоматы, запасные диски, цинки с патронами. Все было перенесено в тупик под щелью, где днем лежал он, задыхаясь, не веря в собственное спасение и слушая шаги. Всех мужчин он забирал с собой: каждый, кроме оружия и патронов, нес по фляжке воды из колодца Степана Матвеевича. Женщины оставались здесь.
— Вернемся,— сказал Плужников.
Он разговаривал коротко и зло, и они молча подчинялись ему. Кто — с уважением и готовностью, кто — со страхом, кто — с плохо скрытым неудовольствием, но возражать никто не осмеливался. Уж очень страшен был этот черный от голода и бессонницы заросший лейтенант в изодранной, окровавленной гимнастерке.
Только раз старшина негромко вмешался:
— Убери все. Сухарь ему и кипятку стакан.
Это когда сердобольная тетя Христя выволокла на дощатый стол все, что берегла на черный день. Голодные спазмы сжали горло Плужникова, и он пошел к этому столу, протянув руки. Пошел, чтобы все съесть, все, что видит, чтобы набить живот до отказа, чтобы наконец-то заглушить судороги, от которых он не раз катался по земле, грызя рукав, чтобы не кричать. Но старшина твердо взял его за руки, загородил стол.
— Убирай, Яновна. Нельзя вам, товарищ лейтенант. Помрете. Теперь Понемногу надо. Живот надо заново приучать.
Плужников сдержался. Проглотил судорожный ком, увидел круглые, полные слез глаза Мирры, попробовал улыбнуться, понял, что улыбаться разучился, и отвернулся.
Еще до вылазки к своим, как только стемнело, он вместе с молоденьким, испуганно-молчаливым бойцом Васей Волковым осторожно выполз из щели. Долго лежал, вслушиваясь в далекую стрельбу, ловил звуки шагов, разговор, лязг оружия. Но здесь было тихо.
— За мной. И не спеши: слушай сначала.
Они облазали все воронки, проверили каждый завал, ощупали каждый труп. Сальникова не было.
— Живой,— с облегчением сказал Плужников, когда они спустились к своим.— В плен увели: наших убитых они не закапывают.
Все же он чувствовал себя виноватым: виноватым не по разуму, а по совести. Он воевал не первый день и уже хорошо понял, что у войны свои законы, своя мораль, и то, что в мирной жизни считается недопустимым, в бою бывает просто необходимостью. Но, понимая, что он не мог спасти Сальникова, что он должен был, обязан был — не перед собой, нет! — перед теми, кто послал его в этот поиск,— попытаться уйти и ушел, Плужников очень боялся найти Сальникова мертвым. А немцы увели его в плен, и, значит, оставался еще шанс, что везучий, неунывающий Сальников выживет, выкрутится, а может быть, и убежит. За дни и ночи нескончаемых боев из перепуганного парнишки с расцарапанной щекой он вырос в отчаянного, умного, хитрого и изворотливого бойца. И Плужников вздохнул облегченно:
— Живой.
Они натаскали в тупичок под щелью много оружия и боеприпасов: прорыв следовало обеспечить неожиданной для противника огневой мощью. Все перенести к своим за раз было не под силу, и Плужников рассчитывал вернуться в эту же ночь. Поэтому он и сказал женщинам, что вернется, но чем ближе подступало время вылазки, тем все больше Плужников начинал нервничать. Оставалось решить еще один вопрос, решить безотлагательно, но как подступиться к нему, Плужников не знал.
Женщин нельзя было брать с собой на прорыв: слишком опасной и трудной даже для обстрелянных бойцов была эта задача. Но нельзя было и оставлять их здесь на произвол судьбы, и Плужников все время мучительно искал выход. Но как он ни прикидывал, выход был один.
— Вы останетесь здесь,— сказал он, стараясь не встречаться взглядом с девушкой.— Завтра днем — у немцев с четырнадцати до шестнадцати обед, самое тихое время,— завтра выйдете наверх с белыми тряпками. И сдадитесь в плен.
— В плен? — тихо и недоверчиво спросила Мирра.
— Еще чего выдумал! — не дав ему ответить, громко и возмущенно сказала тетя Христя.— В плен — еще чего выдумал! Да кому я, старуха, в плену-то этом нужна? А девочка? — Она обняла Мирру, прижала к себе.— С сухой-то ножкой, на деревяшке?.. Да будет тебе, товарищ лейтенант, выдумывать, будет!
— Не дойду я,— еле слышно сказала Мирра, и Плужников почему-то сразу понял, что говорит она не о пути до немцев, а о том пути, каким погонят ее эти немцы в плен.
Поэтому он сразу не нашелся, что возразить, и угрюмо молчал, соглашаясь и не соглашаясь с доводами женщин.
— Ишь чего выдумал! — иным тоном, теперь уже словно удивляясь, продолжала тетя Христя.— Негодное твое решение, хоть ты и командир. Вовсе негодное.
— Нельзя вам тут оставаться,— неуверенно сказал он.— И был приказ командования, все женщины ушли…
— Так они вам обузой были, потому и ушли! И я уйду, коли почувствую, что в тягость. А сейчас-то, сейчас, сынок, кому мы тут с Миррочкой помешаем в норе-то нашей? Да никому, воюйте себе на здоровье! А у нас и место есть и еда, и никому мы не в обузу, и отсидимся тут, покуда наши не вернутся.
Плужников молчал. Он не хотел говорить, что немцы каждый день сообщают о взятии все новых и новых городов, о боях под Москвой и Ленинградом, о разгроме Красной Армии. Он не верил немецким речам, но он уже давно не слышал и грохота наших орудий.
— Девчонка-то жидовочка,— вдруг сказал Федорчук.— Жидовочка да калека: прихлопнут они ее как пить дать.
— Не смейте так говорить! — крикнул Плужников.— Это их слово, их! Фашистское это слово!
— Тут не в слове дело,— вздохнул старшина.— Слово, конечно, нехорошее, а только Федорчук правду говорит. Не любят они еврейской нации.
— Знаю! — резко оборвал Плужников.— Понял. Все. Останетесь. Может, они войска из крепости выведут, тогда уходите. Уж как-нибудь.
Он принял решение, но был им недоволен. И чем больше думал об этом, тем все больше внутренне протестовал, но предложить что-либо другое не мог. Поэтому он хмуро отдал команду, хмуро пообещал вернуться за боеприпасами, хмуро полез наверх вслед за посланным в разведку тихим Васей Волковым.
Волков был пареньком исполнительным, но всем земным радостям предпочитал сон и использовал для него любые возможности. Пережив ужас в первые минуты войны — ужас заживо погребенного,— он все же сумел подавить его в себе, но стал еще незаметнее и еще исполнительнее. Он решил во всем полагаться на старших и внезапное появление лейтенанта встретил с огромным облегчением. Он плохо понимал, на что сердится этот грязный, оборванный, худой командир, но твердо был убежден, что отныне именно этот командир отвечает за его, Волкова, жизнь.
Он старательно исполнил все, что было приказано: тихо выбрался наверх, послушал, огляделся, никого не обнаружил и начал деятельно вытаскивать из дыры оружие и боеприпасы.
А немецкие автоматчики прошли рядом. Они не заметили Волкова, а он, заметив их, не проследил, куда они направлялись, и даже не доложил, потому что это выходило за рамки того задания, которое он получил. Немцы не интересовались их убежищем, шли куда-то по своим делам, и их путь был свободен. И пока он вытаскивал из узкого лаза цинки и автоматы, пока все выбрались на поверхность, немцы уже прошли, и Плужников, как ни вслушивался, ничего подозрительного не обнаружил. Где-то стреляли, где-то бросали мины, где-то ярко светили ракетами, но развороченный центр цитадели был пустынен.
— Волков со мной, старшина и сержант — замыкающие. Быстро вперед.
Пригнувшись, они двинулись к темным далеким развалинам, где еще держались свои, где умирал Денищик, где у сержанта оставалось три диска к «дегтярю». И в этот момент в развалинах ярко полыхнуло белое пламя, донесся грохот и вслед за ним короткие и сухие автоматные очереди.
— Подорвали! — крикнул Плужников.— Немцы стену подорвали!
На голос ударил пулемет, трассы пронзили черное небо. Волков упал, выронив цинки, а Плужников, что-то крича, бежал навстречу цветным пулеметным нитям. Старшина догнал его, сбил с ног, навалился:
— Тихо, товарищ лейтенант, тихо! Опомнись!
— Пусти! Там ребята, там патронов нет, там раненые…
— Куда пустить-то, куда?
— Пусти!..
Плужников бился, стараясь высвободиться из-под тяжелого, сильного тела. Но Степан Матвеевич держал крепко и отпустил только тогда, когда Плужников перестал рваться.
— Поздно уже, товарищ лейтенант,— вздохнул он.— Поздно. Послушай.
Бой в развалинах затихал. Кое-где редко били еще немецкие автоматы: то ли простреливали темные отсеки, то ли добивали защитников, но ответного огня не было, как Плужников ни вслушивался. И пулемет, что стрелял в темноте на его голос, тоже замолчал, и Плужников понял, что не успел, что не выполнил последнего приказа.
Он все еще лежал на земле, все еще надеясь, все еще вслушиваясь в теперь уже совсем редкие очереди. Он не знал, что делать, куда идти, где искать своих. И старшина молча лежал рядом и тоже не знал, куда идти и что делать.
— Обходят.— Федорчук подергал старшину.— Отрежут еще. Убили этого, что ли?
— Помоги.
Плужников не протестовал. Молча спустился в подземелье, молча лег. Ему что-то говорили, успокаивали, укладывали поудобнее, поили чаем. Он покорно поворачивался, поднимался, ложился, пил, что давали,— и молчал. Даже когда девушка, укрывая его шинелью, сказала:
— Это ваша шинель, товарищ лейтенант. Ваша, помните?
Да, это была его шинель. Новенькая, с золочеными командирскими пуговицами, подогнанная по фигуре. Шинель, которой он так гордился и которую ни разу не надевал. Он узнал ее сразу, но ничего не сказал: ему было уже все равно.
Он не знал, сколько суток лежит вот так, без слов, дум и движения, и не хотел знать. Днем и ночью в подземелье стояла могильная тишина, днем и ночью тускло светили жировые плошки, днем и ночью за желтым чадным светом дежурила темнота, вязкая и непроницаемая, как смерть. И Плужников неотрывно смотрел в нее. Смотрел в ту смерть, в которой был виновен.
С удивительной ясностью он видел сейчас их всех. Всех, кто, прикрывая его, бросался вперед, бросался не колеблясь, не раздумывая, движимый чем-то непонятным, непостижимым для него. И Плужников не пытался сейчас понять, почему все они — все погибшие по его вине — поступали именно так: он просто заново пропускал их перед своими глазами, просто вглядывался. Вглядывался неторопливо, внимательно и беспощадно.
Он замешкался тогда у сводчатого окна костела, из которого нестерпимо ярко били автоматные очереди. Нет, не потому, что растерялся, не потому, что собирался с силами: это было его окно, вот и вся причина. Это было его окно, он сам еще до атаки выбрал его, но в его окно, в его бьющую навстречу смерть кинулся не он, а тот рослый пограничник с неостывшим ручным пулеметом. И потом — уже мертвый — он продолжал прикрывать Плужникова от пуль, и его загустевшая кровь била Плужникову в лицо как напоминание.
А наутро он бежал из костела. Бежал, бросив сержанта с перевязанной головой. А сержант этот остался, хотя был у самого пролома. Он мог уйти и — не ушел, не отступил, не затаился, и Плужников добежал тогда до подвалов только потому, что сержант остался в костеле. Так же как Володька Денищик, грудью прикрывший его в ночной атаке на мосту. Так же как Сальников, сваливший немца тогда, когда Плужников уже сдался, уже не думал о сопротивлении, уже икал от страха, покорно задрав в небо обе руки. Так же как те, кому он обещал патроны и не принес их вовремя.
Он недвижимо лежал на скамье под собственной шинелью, ел, когда давали, пил, когда подносили кружку ко рту. И молчал, не отвечая на вопросы. И даже не думал: просто считал долги.
Он остался в живых только потому, что кто-то погибал за него. Он сделал это открытие, не понимая, что это — закон войны. Простой и необходимый, как смерть: если ты уцелел, значит, кто-то погиб за тебя. Но он открывал этот закон не отвлеченно, не путем умозаключений: он открывал его на собственном опыте, и для него это был не вопрос совести, а вопрос жизни.
— Тронулся лейтенантик,— говорил Федорчук, мало заботясь, слышит его Плужников или нет.— Ну, чего будем делать? Самим надо думать, старшина.
Старшина молчал, но Федорчук уже действовал. И первым делом старательно заложил кирпичами ту единственную щель, которая вела наверх. Он хотел жить, а не воевать. Просто — жить. Жить, пока есть жратва и это глухое, не известное немцам подземелье.
— Ослаб он,— вздыхал старшина.— Ослаб лейтенант наш. Ты корми его помаленьку, Яновна.
Тетя Христя кормила, плача от жалости, а Степан Матвеевич, дав этот совет, сам в него не верил, сам понимал, что ослаб лейтенант не телом, а сломлен, и как тут быть — не знал.
И только Мирра знала, что ей делать: ей надо было, необходимо было вернуть к жизни этого человека, заставить его говорить, действовать, улыбаться. Ради этого она притащила ему шинель, о которой давно забыли все. И ради этого она в одиночестве, ничего никому не объясняя, терпеливо разбирала рухнувшие с дверного свода кирпичи.
— Ну, чего ты там грохочешь? — ворчал Федорчук.— Обвалов давно не было, соскучилась? Тихо жить надо.
Она молча продолжала копаться и на третий день с торжеством вытащила из-под обломков грязный, покореженный чемодан. Тот, который так упорно и долго искала.
— Вот! — радостно сказала она, притащив его к столу.— Я помнила, что он у дверей стоял.
— Вон чего ты искала,— вздохнула тетя Христя.— Ах, девка, девка, не ко времени сердечко твое вздрогнуло.
— Сердцу, как говорится, не прикажешь, а только — зря,— сказал Степан Матвеевич.— Ему бы забыть все впору: и так слишком много помнит.
— Рубаха лишняя не помешает,— сказал Федорчук.— Ну, неси, чего стоишь? Может, улыбнется, хотя и сомневаюсь.
Плужников не улыбнулся. Неторопливо осмотрел все, что перед отъездом уложила мать: белье, пару летнего обмундирования, фотографии. Закрыл кривую, продавленную крышку.
— Это — ваши вещи. Ваши,— тихо сказала Мирра.
— Я помню.
И отвернулся к стене.
— Все,— вздохнул Федорчук.— Теперь уж точно — все. Кончился паренек.
И выругался длинно и забористо. И никто его не одернул.
— Ну что, старшина, делать будем? Решать надо: в этой могиле лежать или в другой какой?
— Чего решать? — неуверенно сказала тетя Христя.— Решено уж: дождемся.
— Чего? — закричал Федорчук.— Чего дождемся-то? Смерти? Зимы? Немцев? Чего, спрашиваю?
— Красной Армии дождемся,— сказала Мирра.
— Красной?..— насмешливо переспросил Федорчук.— Дура! Вот она, твоя Красная Армия: без памяти лежит. Все! Поражение ей! Поражение ей, понятно это?
Он кричал, чтобы все слышали, и все слышали, но молчали. И Плужников тоже слышал и тоже молчал. Он уже все решил, все продумал и теперь терпеливо ждал, когда все заснут. Он научился ждать.
Когда все стихло, когда захрапел старшина, а из трех плошек две погасили на ночь, Плужников поднялся. Долго сидел, прислушиваясь к дыханию спящих и ожидая, когда перестанет кружиться голова. Потом сунул в карман пистолет, бесшумно прошел к полке, где лежали заготовленные старшиной факелы, взял один и, не зажигая, ощупью направился к лазу, что вел в подземные коридоры. Он плохо знал их и без света не надеялся выбраться.
Он ничем не брякнул, не скрипнул, он умел бесшумно двигаться в темноте и был уверен, что никто не проснется и не помешает ему. Он обдумал все обстоятельно, он все взвесил, под всем подвел черту, и тот итог, который получил он под этой чертой, означал его неисполненный долг. И лишь одного не мог он учесть: человека, который уже много ночей спал вполглаза, прислушиваясь к его дыханию так же, как он прислушивался сегодня к дыханию других.
Через узкий лаз Плужников выбрался в коридор и запалил факел: отсюда свет его уже не мог проникнуть в каземат, где спали люди. Держа факел над головой, он медленно шел по коридорам, разгоняя крыс. Странно, что они до сих пор все еще пугали его, и поэтому он не гасил факела, хотя уже сориентировался и знал, куда идти.
Он пришел в тупичок, куда ввалился, спасаясь от немцев: здесь до сих пор лежали патронные цинки. Он поднял факел, осветил его, но дыра оказалась плотно забитой кирпичами. Пошатал: кирпичи не поддавались. Тогда он укрепил факел в обломках и стал раскачивать эти кирпичи двумя руками. Ему удалось выбить несколько штук, но остальные сидели намертво: Федорчук потрудился на славу.
Выяснив, что вход завален прочно, Плужников прекратил бессмысленные попытки. Ему очень не хотелось делать то, что он решил, здесь, в подземелье, потому что тут жили эти люди. Они могли неверно истолковать его решение, посчитать это результатом слабости или умственного расстройства, и это было ему неприятно. Он предпочитал бы просто исчезнуть. Исчезнуть без объяснений, уйти в никуда, но его лишили этой возможности. Значит, им придется думать, что захотят, придется обсуждать его смерть, придется возиться с его телом. Придется, потому что заваленный выход нисколько не поколебал его в справедливости того приговора, который он сам вынес себе.
Подумав так, он достал пистолет, передернул затвор, мгновение помешкал, не зная, куда лучше стрелять, и поднес к груди: все-таки ему не хотелось валяться здесь с раздробленным черепом. Левой рукой он нащупал сердце: оно билось часто, но ровно, почти спокойно. Он убрал ладонь и поднял пистолет, стараясь, чтобы ствол точно уперся в сердце…
— Коля!..
Если бы она крикнула любое другое слово — даже тем же самым голосом, звонким от страха. Любое иное слово — и он бы нажал на спуск. Но то, что крикнула она, было оттуда, из того мира, где был мир, а здесь, здесь не было и не могло быть женщины, которая вот так страшно и призывно кричала бы его имя. И он невольно опустил руку, опустил, чтобы глянуть, кто это кричит. Опустил всего на секунду, но она, волоча ногу, успела добежать.
— Коля! Коля, не надо! Колечка, милый!
Ноги не удержали ее, и она упала, изо всех сил вцепившись в руку, в которой он держал пистолет. Она прижималась мокрым от слез лицом к его руке, целовала грязный, пропахший порохом и смертью рукав гимнастерки, она вжимала его руку в собственную грудь, вжимала, забыв о стыдливости, инстинктивно чувствуя, что там, в девичьем упругом тепле, он не нажмет на курок.
— Брось его. Брось. Я не отпущу. Тогда стреляй сначала в меня. Стреляй в меня.
Густой желтый свет пропитанной салом пакли освещал их. Горбатые тени метались по сводам, уходившим во мглу, и Плужников слышал, как бьется ее сердце.
— Зачем ты здесь? — с тоской спросил он.
Мирра впервые подняла лицо: свет факела дробился в слезах.
— Ты — Красная Армия,— сказала она.— Ты — моя Красная Армия. Как же ты можешь? Как же ты можешь бросить меня? За что?
Его не смутила красивость ее слов: смутило другое. Оказывается, кто-то нуждался в нем, кому-то он был еще нужен. Нужен как защитник, как друг, как товарищ.
— Отпусти руку.
— Сначала брось пистолет.
— Он на боевом взводе. Может быть выстрел.
Плужников помог Мирре встать. Она поднялась, но по-прежнему стояла вплотную, готовая каждую секунду перехватить его руку. Он усмехнулся, поставил пистолет на предохранитель, спустил курок и сунул пистолет в карман. И взял факел.
— Пойдем?
Она шла рядом, держась за руку. Возле лаза остановилась:
— Я никому не скажу. Даже тете Христе.
Он молча погладил ее по голове. Как маленькую. И загасил факел в песке.
— Спокойной ночи! — шепнула Мирра, ныряя в лаз.
Следом за нею Плужников пролез в каземат, где по-прежнему мощно храпел старшина и чадила плошка. Прошел к своей скамье, укрылся шинелью, хотел подумать, как быть дальше, и — заснул. Крепко и спокойно.
Утром Плужников встал вместе со всеми. Убрал все со скамьи, на которой столько суток пролежал, глядя в одну точку.
— На поправку повернуло, товарищ лейтенант? — недоверчиво улыбаясь, спросил старшина.
— Вода найдется? Кружки три хотя бы.
— Есть вода, есть! — засуетился Степан Матвеевич.
— Польете мне, Волков.— Плужников впервые за много дней содрал с себя перепревшую гимнастерку, надетую на голое тело: майка давно пошла на бинты. Вынул из продавленного чемодана смену белья, мыло, полотенце.— Мирра, пришей мне подворотничок к летней гимнастерке.
Вылез в подземный ход, долго, старательно мылся, все время думая, что тратит воду, и впервые сознательно не жалея этой воды. Вернулся и так же молча, тщательно и неумело побрился новенькой бритвой, купленной в училищном военторге не по надобности, а про запас. Растер одеколоном худое, изрезанное непривычной бритвой лицо, надел гимнастерку, что подала Мирра, туго затянулся ремнем. Сел к столу — худая мальчишеская шея торчала из воротника, ставшего непомерно широким.
— Докладывайте.
Переглянулись. Старшина спросил неуверенно:
— Что докладывать?
— Все.— Плужников говорил жестко и коротко: рубил.— Где наши, где противник.
— Так это…— Старшина замялся.— Противник известно где: наверху. А наши… Наши неизвестно.
— Почему неизвестно?
— Известно, где наши,— угрюмо сказал Федорчук.— Внизу. Немцы наверху, а наши — внизу.
Плужников не обратил внимания на его слова. Он говорил со старшиной, как со своим заместителем, и всячески подчеркивал это.
— Почему не знаете, где наши?
Степан Матвеевич виновато вздохнул:
— Разведку не производили.
— Догадываюсь. Я спрашиваю, почему?
— Да ведь как сказать. Болели вы. А мы выход заложили.
— Кто заложил?
Старшина промолчал. Тетя Христя хотела что-то пояснить, но Мирра остановила ее.
— Я спрашиваю, кто заложил?
— Ну, я! — громко сказал Федорчук.
— Не понял.
— Я.
— Еще раз не понял,— тем же тоном сказал Плужников, не глядя на старшего сержанта.
— Старший сержант Федорчук.
— Так вот, товарищ старший сержант, через час доложите мне, что путь наверх свободен.
— Днем работать не буду.
— Через час доложите об исполнении,— повторил Плужников.— А слова «не буду», «не хочу» или «не могу» приказываю забыть. Забыть до конца войны. Мы — подразделение Красной Армии. Обыкновенное подразделение, только и всего.
Еще час назад, проснувшись, он не знал, что скажет, но понимал, что говорить обязан. Он нарочно оттягивал эту минуту — минуту, которая должна была либо все поставить по своим местам, либо лишить его права командовать этими людьми. Поэтому он и затеял умывание, переодевание, бритье: он думал и готовился к этому разговору. Готовился продолжать войну, и в нем уже не было ни сомнений, ни колебаний. Все осталось там, во вчерашнем дне, пережить который ему было суждено.
2
В тот день Федорчук выполнил приказание Плужникова: путь наверх стал свободен. В ночь они провели тщательнейшую разведку двумя парами: Плужников шел с красноармейцем Волковым, Федорчук — со старшиной. Крепость еще жила, еще огрызалась редкими вспышками перестрелок, но перестрелки эти вспыхивали далеко от них, за Мухавцом, и наладить с кем-либо связь не удалось. Обе группы вернулись, не встретив ни своих, ни чужих.
— Одни побитые,— вздыхал Степан Матвеевич.— Много побито нашего брата. Ой, много!
Плужников повторил поиск днем. Он не очень рассчитывал на связь со своими, понимая, что разрозненные группы уцелевших защитников отошли в глухие подземелья. Но он должен был найти немцев, определить их расположение, связь, способы передвижения по разгромленной крепости. Должен был, иначе их прекрасная и сверхнадежная позиция оказывалась {37} попросту бессмысленной.
Он сам ходил в эту разведку. Добрался до Тереспольских ворот, сутки прятался в соседних развалинах. Немцы входили в крепость именно через эти ворота: регулярно, каждое утро, в одно и то же время. И вечером столь же аккуратно уходили, оставив усиленные караулы. Судя по всему, тактика их изменилась: они уже не стремились атаковать {38}, а, обнаружив очаги сопротивления, блокировали их и вызывали огнеметчиков. Да и ростом эти немцы выглядели пониже тех, с кем до сих пор сталкивался Плужников, и автоматов у них было явно поменьше: карабины стали более обычным оружием.
— Либо я вырос, либо немцы съежились,— невесело пошутил Плужников вечером.— Что-то в них изменилось, а вот что — не пойму. Завтра с вами пойдем, Степан Матвеевич. Хочу, чтобы вы тоже поглядели.
Вместе со старшиной они затемно перебрались в обгоревшие и разгромленные коробки казарм 84-го полка: Степан Матвеевич хорошо знал эти казармы. Заранее расположились почти с удобствами. Плужников наблюдал за берегами Буга, старшина — за внутренним участком крепости возле Холмских ворот.
Утро было ясным и тихим: лишь иногда лихорадочная стрельба вспыхивала вдруг где-то на Кобринском укреплении, возле внешних валов. Внезапно вспыхивала, столь же внезапно прекращалась, и Плужников никак не мог понять, то ли немцы на всякий случай постреливают по казематам, то ли где-то еще держатся последние группы защитников крепости.
— Товарищ лейтенант! — напряженным шепотом окликнул старшина.
Плужников перебрался к нему, выглянул: совсем рядом строилась шеренга немецких автоматчиков. И вид их, и оружие, и манера вести себя — манера бывалых солдат, которым многое прощается,— все было вполне обычным. Немцы не съежились, не стали меньше, они оставались такими же, какими на всю жизнь запомнил их лейтенант Плужников.
Три офицера приближались к шеренге. Прозвучала короткая команда, строй вытянулся, командир доложил шедшему первым: высокому и немолодому, видимо, старшему. Старший принял рапорт и медленно пошел вдоль замершего строя. Следом шли офицеры; один держал коробочки, которые старший вручал вышагивающим из строя солдатам.
— Ордена выдает,— сообразил Плужников.— Награды на поле боя. Ах ты, сволочь ты немецкая, я тебе покажу награды…
Он забыл сейчас, что не один, что вышел не для боя, что развалины казарм за спиной — очень неудобная позиция. Он помнил сейчас тех, за кого получали кресты эти рослые парни, замершие в парадном строю. Вспомнил убитых, умерших от ран, сошедших с ума. Вспомнил и поднял автомат.
Короткие очереди ударили почти в упор, с десятка шагов. Упал старший офицер, выдававший награды, упали оба его ассистента, кто-то из только что награжденных. Но ордена эти парни получали недаром: растерянность их была мгновенной, и не успела смолкнуть очередь Плужникова, как строй рассыпался, укрылся и ударил по развалинам из всех автоматов.
Если бы не старшина, они бы не ушли тогда живыми: немцы рассвирепели, никого не боялись и быстро замкнули кольцо. Но Степан Матвеевич знал эти помещения еще по мирной жизни и сумел вывести Плужникова. Воспользовавшись стрельбой, беготней и сумятицей, они пробрались через двор и юркнули в свою дыру, когда немецкие автоматчики еще простреливали каждый закуток в развалинах казарм.
— Не изменился немец.— Плужников попытался засмеяться, но из пересохшего горла вырвался хрип, и он сразу перестал улыбаться.— Если бы не вы, старшина, мне бы пришлось туго.
— Про ту дверь в полку только старшины знали,— вздохнул Степан Матвеевич.— Вот она, значит, и пригодилась.
Он с трудом стащил сапог: портянка набухла от крови. Тетя Христя закричала, замахала руками.
— Пустяк, Яновна,— сказал старшина.— Мясо зацепило, чувствую. А кость цела. Кость цела, это главное: дырка зарастет.
— Ну, и зачем это? — раздраженно спросил Федорчук.— Постреляли, побегали — а зачем? Что, война от этого скорее кончится, что ли? Мы скорее кончимся, а не война. Война, она в свой час завершится, а вот мы…
Он замолчал, и все тогда промолчали. Промолчали потому, что были полны победного торжества и боевого азарта, и спорить с угрюмым старшим сержантом попросту не хотелось.
А на четвертые сутки Федорчук пропал. Он очень не хотел идти в секрет, волынил, и Плужникову пришлось прикрикнуть.
— Ладно, иду, иду,— проворчал старший сержант.— Нужны эти наблюдения, как…
В секреты уходили на весь день: от темна до темна. Плужников хотел знать о противнике все, что мог, прежде чем переходить к боевым действиям. Федорчук ушел на рассвете, не вернулся ни вечером, ни ночью, и обеспокоенный Плужников решил искать невесть куда сгинувшего старшего сержанта.
— Автомат оставь,— сказал он Волкову.— Возьми карабин.
Сам он шел с автоматом, но именно в эту вылазку впервые приказал напарнику взять карабин. Он не верил ни в какие предчувствия, но приказал так и не пожалел потом, хотя ползать с винтовкой было неудобно, и Плужников все время шипел на покорного Волкова, чтобы он не брякал и не высовывал ее где попало. Но сердился Плужников совсем не из-за винтовки, а из-за того, что никаких следов сержанта Федорчука им так и не удалось обнаружить.
Светало, когда они проникли в полуразрушенную башню над Тереспольскими воротами. Судя по прежним наблюдениям, немцы избегали на нее подниматься, и Плужников рассчитывал спокойно оглядеться с высоты и, может быть, где-нибудь да обнаружить старшего сержанта. Живого, раненого или мертвого, но — обнаружить и успокоиться, потому что неизвестность была хуже всего.
Приказав Волкову держать под наблюдением противоположный берег и мост через Буг, Плужников тщательно осматривал изрытый воронками крепостной двор. В нем по-прежнему валялось множество неубранных трупов, и Плужников подолгу всматривался в каждый, пытаясь издалека определить, не Федорчук ли это. Но Федорчука пока нигде не было видно, и трупы были старыми, уже заметно тронутыми тлением.
— Немцы…
Волков выдохнул это слово так тихо, что Плужников понял его потому лишь, что сам все время ждал этих немцев. Он осторожно перебрался на другую сторону и выглянул.
Немцы — человек десять — стояли на противоположном берегу, у моста. Стояли свободно: галдели, смеялись, размахивали {39} руками, глядя куда-то на этот берег. Плужников вытянул шею, скосил глаза, заглянул вниз, почти под корень башни, и увидел то, о чем думал и что так боялся увидеть.
От башни к немцам по мосту шел Федорчук. Шел, подняв руки, и белые марлевые тряпочки колыхались в его кулаках в такт грузным, уверенным шагам. Он шел в плен так спокойно, так обдуманно и неторопливо, словно возвращался домой после тяжелой и нудной работы. Все его существо излучало такую преданную готовность служить, что немцы без слов поняли его и ждали с шуточками и смехом, и винтовки их мирно висели за плечами.
— Товарищ Федорчук,— удивленно сказал Волков.— Товарищ старший сержант…
— Товарищ?..— Плужников, не глядя, требовательно протянул руку: — Винтовку.
Волков привычно засуетился, но замер вдруг. И глотнул гулко.
— Зачем?
— Винтовку! Живо!
Федорчук уже подходил к немцам, и Плужников торопился. Он хорошо стрелял, но именно сейчас, когда никак нельзя было промахиваться, он чересчур резко рванул спуск. Чересчур резко, потому что Федорчук уже миновал мост, и до немцев ему оставалось четыре шага.
Пуля ударила в землю позади старшего сержанта. То ли немцы не слыхали одиночного выстрела, то ли просто не обратили на него внимания, но поведение их не изменилось. А для Федорчука этот прогремевший за спиной выстрел был его выстрелом: выстрелом, которого ждала его широкая, вмиг вдруг взмокшая спина, туго обтянутая гимнастеркой. Услышав его, он прыгнул в сторону, упал, на четвереньках кинулся к немцам, а немцы, гогоча и веселясь, пятились от него, а он то припадал к земле, то метался, то полз, то поднимался на колени и тянул к немцам руки с зажатыми в кулаках белыми марлевыми тряпками.
Вторая пуля нашла его на коленях. Он сунулся вперед, он еще корчился, еще полз, еще кричал что-то дико и непонятно. И немцы еще ничего не успели понять, еще хохотали, потешаясь над здоровенным мужиком, которому так хотелось жить. Никто ничего не успел сообразить, потому что три следующих выстрела Плужников сделал, как на училищных соревнованиях по скоростной стрельбе.
Немцы открыли беспорядочный ответный огонь, когда Плужников и растерянный Волков уже были внизу, в пустых разрушенных казематах. Где-то над головой взорвалось несколько мин. Волков попытался было забиться в щель, но Плужников поднял его, и они снова куда-то бежали, падали, ползли и успели пересечь двор и завалиться в воронку за подбитым броневичком.
— Вот так,— задыхаясь, сказал Плужников.— Гад он. Гадина. Предатель.
Волков глядел на него круглыми, перепуганными глазами и кивал поспешно и непонимающе. А Плужников все говорил и говорил, повторяя одно и то же:
— Предатель. Гадина. С платочком шел, видел? Чистенькие нашел марлечки, у тети Христи, наверно, стащил. За жизнь свою поганую все бы продал, все. И нас бы с тобой продал. Гадюка. С платочком, а? {40} Видел? Ты видел, как он шел, Волков? Он спокойненько шел, обдуманно.
Ему хотелось выговориться, просто произносить слова. Он убивал врагов и никогда не чувствовал потребности объяснять это. А сейчас не мог молчать. Он не чувствовал угрызений совести, застрелив человека, с которым не один раз сидел за общим столом. Наоборот, он ощущал злое, радостное возбуждение и поэтому говорил и говорил.
А красноармеец первого года службы Вася Волков, призванный в армию в мае сорок первого, покорно кивая, слушал его, не слыша ни единого слова. Он ни разу не был в боях, и для него даже немецкие солдаты еще оставались людьми, в которых нельзя стрелять, по крайней мере пока не прикажут. И первая смерть, которую он увидел, была смертью человека, с которым он, Вася Волков, прожил столько дней — самых страшных дней в своей короткой, тихой и покойной жизни. Именно этого человека он знал ближе всех, потому что еще до войны они служили в одном полку и спали в одном каземате. Этот человек ворчливо учил его оружейному делу, поил чаем с сахаром и позволял немножко поспать во время скучных армейских нарядов.
А сейчас этот человек лежал на том берегу, лежал ничком, зарывшись лицом в землю и вытянув вперед руки с зажатыми кусками марли. Волкову не хотелось плохо думать о Федорчуке, хотя он и не понимал, зачем старший сержант шел к немцам. Волков считал, что у старшего сержанта Федорчука могли быть свои причины для такого поступка, и причины эти следовало узнать, прежде чем стрелять в спину. Но этот лейтенант — худой, страшный и непонятный,— этот чужой лейтенант не хотел ни в чем разбираться. С самого начала, как он появился у них, он начал угрожать, пугать расстрелом, размахивать оружием.
Думая так, Волков не испытывал ничего, кроме одиночества, и одиночество это было мучительным и неестественным. Оно мешало Волкову почувствовать себя человеком и бойцом, оно непреодолимой стеной вставало между ним и Плужниковым. И Волков уже боялся своего командира, не понимал его и потому не верил.
Немцы появились в крепости, пройдя через Тереспольские ворота: много, до взвода. Вышли строем, но тут же рассыпались, прочесывая примыкающие к Тереспольским воротам отсеки кольцевых казарм: вскоре оттуда стали доноситься взрывы гранат и тугие выдохи огнеметных залпов. Но Плужников не успел порадоваться, что противник ищет его совсем не в той стороне, потому что из тех же ворот вышел еще один немецкий отряд. Вышел, тут же развернулся в цепь и направился к развалинам казарм 333-го полка. И там тоже загрохотали взрывы и тяжко заухали огнеметы.
Именно этот немецкий отряд должен был рано или поздно выйти на них. Надо было немедленно отходить, но не к своим, не к дыре, ведущей в подземелья, потому что этот участок двора легко просматривался противником. Отходить следовало в глубину, в развалины казарм за костелом.
Плужников обстоятельно растолковал бойцу, куда и как следует отходить. Волков выслушал все с молчаливой покорностью, ни о чем не переспросил, ничего не уточнил, даже не кивнул. Это не понравилось Плужникову, но он не стал терять время на расспросы. Боец был без оружия (его винтовку сам же Плужников бросил еще там, в башне), чувствовал себя неуютно и, наверно, побаивался. И чтобы ободрить его, Плужников подмигнул и даже улыбнулся, но и подмигивание и улыбка вышли такими натянутыми, что могли напугать и более отважного, чем Волков.
— Ладно, добудем тебе оружие,— хмуро буркнул Плужников, поспешно перестав улыбаться.— Пошел вперед. До следующей воронки.
Короткими перебежками они миновали открытое пространство и скрылись в развалинах. Здесь было почти безопасно, можно было передохнуть и осмотреться.
— Здесь не найдут, не бойся.
Плужников опять попытался улыбнуться, а Волков опять промолчал. Он вообще был молчаливым, и поэтому Плужников не удивился, но почему-то вдруг вспомнил о Сальникове. И вздохнул.
Где-то за развалинами — не сзади, где остались немецкие поисковые группы, а впереди, где никаких немцев не должно было быть,— послышался шум, неясные голоса, шаги. Судя по звукам, людей там было много, они не скрывались и уже поэтому не могли быть своими. Скорее всего, сюда двигался еще какой-то немецкий отряд, и Плужников насторожился, пытаясь понять, куда он направляется. Однако люди нигде не появлялись, а неясный шум, гул голосов и шарканье продолжались, не приближаясь, но и не удаляясь от них.
— Сиди здесь,— сказал Плужников.— Сиди и не высовывайся, пока я не вернусь.
И опять Волков промолчал. И опять глянул странными напряженными глазами.
— Жди,— повторил Плужников, поймав этот взгляд.
Он осторожно крался через развалины. Пробирался по кирпичным осыпям, не сдвинув ни одного обломка, перебегал открытые места, часто останавливался, замирая и вслушиваясь. Он шел на странные шумы, и шумы эти теперь приближались, делались все яснее, и Плужников уже догадывался, кто бродит там, по ту сторону развалин. Догадывался, но еще сам не решался поверить.
Последние метры он прополз, обдирая колени об острые грани кирпичных осколков и закаменевшей штукатурки. Выискал убежище, заполз, перевел автомат на боевой взвод и выглянул.
На крепостном дворе работали люди. Стаскивали в глубокие воронки полуразложившиеся трупы, засыпали их обломками кирпичей, песком. Не осмотрев, не собирая документов, не сняв медальонов. Неторопливо, устало и равнодушно. И, еще не заметив охраны, Плужников понял, что это — пленные. Он сообразил это еще на бегу, но почему-то не решался поверить в собственную догадку, боялся в упор, воочию, в трех шагах увидеть своих, советских, в знакомой, родной форме. Советских, но уже не своих, уже отдаленных от него, кадрового лейтенанта Красной Армии Плужникова, зловещим словом «ПЛЕН».
Он долго следил за ними. Смотрел, как они работают: безостановочно и равнодушно, как автоматы. Смотрел, как ходят: ссутулившись, шаркая ногами, точно втрое вдруг постарев. Смотрел, как они тупо глядят перед собой, не пытаясь даже сориентироваться, определиться, понять, где находятся. Смотрел, как лениво поглядывает на них немногочисленная охрана. Смотрел и никак не мог понять, почему эти пленные не разбегаются, не пытаются уйти, скрыться, вновь обрести свободу. Плужников не находил этому объяснений и даже подумал, что немцы делают пленным какие-то уколы, которые и превращают вчерашних активных бойцов в тупых исполнителей, уже не мечтающих о свободе и оружии. Это предположение хоть как-то примиряло его с тем, что он видел собственными глазами и что так противоречило его личным представлениям о чести и гордости советского человека.
Объяснив для себя странную пассивность и странное послушание пленных, Плужников стал смотреть на них несколько по-другому. Он уже жалел их, сочувствовал им, как жалеют и сочувствуют тяжело заболевшим. Он подумал о Сальникове, поискал его среди тех, кто работал, не нашел и — обрадовался. Он не знал, жив ли Сальников или уже погиб, но здесь его не было, и, значит, в покорного исполнителя его не превратили. Но какой-то другой знакомый — крупный, медлительный и старательный — здесь был, и Плужников, приметив его, все время мучительно напрягал память, пытаясь вспомнить, кто же это такой.
А рослый пленный, как назло, ходил рядом, в двух шагах от Плужникова, огромной совковой лопатой подгребая кирпичную крошку. Ходил рядом, царапал своей лопатой возле самого уха и все никак не поворачивался лицом…
Впрочем, Плужников и так узнал его. Узнал {41}, вдруг припомнив и бои в костеле, и ночной уход оттуда, и фамилию этого бойца. Вспомнил, что боец этот был приписником, из местных, что жалел, добровольно пойдя на армейскую службу в мае вместо октября, и что Сальников утверждал тогда, что он погиб в той внезапной ночной перестрелке. Все это Плужников вспомнил очень ясно и, дождавшись, когда боец вновь подошел к его норе, позвал:
— Прижнюк!
Вздрогнула и еще ниже согнулась широкая спина. И замерла испуганно и покорно.
— Это я, Прижнюк, лейтенант Плужников. Помнишь, в костеле?
Пленный не поворачивался, ничем не показывал, что слышит голос своего бывшего командира. Просто согнулся над лопатой, подставив широкую покорную спину, туго обтянутую грязной изодранной гимнастеркой. Эта спина была сейчас полна ожидания: так напряглась она, так выгнулась, так замерла. И Плужников понял вдруг, что Прижнюк с ужасом ждет выстрела и что спина его — огромная и незащищенная спина — стала сутулой и покорной именно потому, что уже давно и привычно каждое мгновение ждала выстрела.
— Ты Сальникова видел? Сальникова в плену встречал? Отвечай, нет тут никого.
— В лазарете он.
— Где?
— В лазарете лагерном.
— Болен, что ли?
Прижнюк промолчал.
— Что с ним? Почему он в лазарете?
— Товарищ командир, товарищ командир…— воровато оглянувшись, зашептал вдруг Прижнюк.— Не губите, товарищ командир, богом прошу, не губите вы меня. Нам, которые работают хорошо, которые стараются, нам послабление будет. А которые местные, тех домой отпустят, обещали, что непременно домой…
— Ладно, не причитай,— зло перебил Плужников.— Служи им, зарабатывай свободу, беги домой — все равно не человек ты. Но одну штуку ты сделаешь, Прижнюк. Сделаешь, или пристрелю тебя сейчас к чертовой матери.
— Не губите…— В голосе пленного звучали рыдания, но Плужников уже подавил в себе жалость к этому человеку.
— Сделаешь, спрашиваю? Или — или, я не шучу.
— Ну, что могу я, что? Подневольный я.
— Пистолет Сальникову передашь. Передашь и скажешь, пусть на работу в крепость просится. Понял?
Прижнюк молчал.
— Если не передашь, смотри. Под землей найду, Прижнюк. Держи.
Размахнувшись, Плужников перебросил пистолет прямо на лопату Прижнюка. И как только звякнул этот пистолет о лопату, Прижнюк вдруг метнулся в сторону и побежал, громко крича:
— Сюда! Сюда, человек тут! Господин немец, сюда! Лейтенант тут, лейтенант советский!
Это было так неожиданно, что на какое-то мгновение Плужников растерялся. А когда опомнился, Прижнюк уже выбежал из сектора его обстрела, к норе, грохоча подкованными сапогами, бежала лагерная охрана, и первый сигнальный выстрел уже ударил в воздух.
Отступать назад, туда, где прятался безоружный и напуганный Волков, было невозможно, и Плужников бросился в другую сторону. Он не пытался отстреливаться, потому что немцев было много, он хотел оторваться от преследования, забиться в глухой каземат и отлежаться там до темноты. А ночью отыскать Волкова и вернуться к своим.
Ему легко удалось уйти: немцы не очень-то стремились в темные подвалы, да и беготня по развалинам их тоже не устраивала. Постреляли вдогонку, покричали, пустили ракету, но ракету эту Плужников увидел уже из надежного подвала.
Теперь было время подумать. Но и здесь, в чуткой темноте подземелья, Плужников не мог думать ни о расстрелянном им Федорчуке, ни о растерянном Волкове, ни о покорном, уже согнутом Прижнюке. Он не мог думать о них не потому, что не хотел, а потому, что неотступно думал совсем о другом и куда более важном: о немцах.
Он опять не узнал их сегодня. Не узнал в них сильных, самоуверенных, до наглости отчаянных молодых парней, упрямых в атаках, цепких в преследовании, упорных в рукопашном бою. Нет, те немцы, с которыми он до этого дрался, не выпустили бы его живым после крика Прижнюка. Те немцы не стояли бы в открытую на берегу, поджидая, когда к ним подойдет поднявший руки красноармеец. И не хохотали бы после первого выстрела. И уж наверняка не позволили бы им с Волковым безнаказанно улизнуть после расстрела перебежчика.
Те немцы, эти немцы… Еще ничего не зная, он уже сам предполагал разницу между немцами периода штурма крепости и немцами сегодняшнего дня. По всей вероятности, те активные, «штурмовые» немцы выведены из крепости, а их место заняли немцы другого склада, другого боевого почерка. Они не склонны проявлять инициативу, не любят риска и откровенно побаиваются темных стреляющих подземелий.
Сделав такой вывод, Плужников не только повеселел, но и определенным образом обнаглел. Вновь созданная им концепция требовала опытной проверки, и Плужников сознательно сделал то, на что никогда бы не решился прежде: пошел к выходу в рост, не скрываясь и нарочно грохоча сапогами.
Так он и вышел из подвала: только автомат держал под рукой на боевом взводе. Немцев у входа не оказалось, что лишний раз подтверждало его догадку и значительно упрощало их положение. Теперь следовало подумать, посоветоваться со старшиной и выработать {42} новую тактику сопротивления. Новую тактику их личной войны с фашистской Германией.
Думая об этом, Плужников далеко обошел пленных — за развалинами по-прежнему слышалось унылое шарканье — и подошел к месту, где оставил Волкова, с другой стороны. Места эти были ему знакомы, он научился быстро и точно ориентироваться в развалинах и сразу вышел к наклонной кирпичной глыбе, под которой спрятал Волкова. Глыба была там же, но самого Волкова ни под ней, ни подле нее не оказалось.
Не веря глазам, Плужников ощупал эту глыбу, излазил соседние развалины, заглянул в каждый каземат, рискнул даже несколько раз окликнуть пропавшего молодого необстрелянного бойца со странными, почти немигающими глазами, но отыскать его так и не смог. Волков исчез необъяснимо и таинственно, не оставив после себя ни клочка одежды, ни капли крови, ни крика и ни вздоха.
3
— Стало быть, снял ты Федорчука,— вздохнул Степан Матвеевич.— А парнишку жалко. Пропадет парнишка, товарищ лейтенант, больно уж с детства он напуганный.
Тихого Васю Волкова вспомнили еще несколько раз, а о Федорчуке больше не говорили. Словно не было его, словно не ел он за этим столом и не спал в соседнем углу. Только Мирра спросила, когда остались одни:
— Застрелил?..
Она с запинкой, с трудом произнесла это слово. Оно было чужим, не из того обихода, который сложился в ее семье. Там говорили о детях и хлебе, о работе и усталости, о дровах и о картошке. И еще — о болезнях, которых всегда хватало.
— Застрелил?
Плужников кивнул. Он понимал, что она спрашивает, жалея его, а не Федорчука. Жалея и ужасаясь тяжести совершенного, хотя сам он не чувствовал никакой тяжести: только усталость.
— Боже мой! — вздохнула Мирра.— Боже мой, твои дети сходят с ума!
Она сказала это по-взрослому, горько и спокойно. И так же по-взрослому спокойно притянула к себе его голову и трижды поцеловала: в лоб и в оба глаза.
— Я возьму твое горе, я возьму твои болезни, я возьму твои несчастья.
Так говорила ее мама, когда заболевал кто-либо из детей. А детей было много, очень много вечно голодных детей, и мама не знала ни своего горя, ни своих болезней: ей хватало чужих хвороб и чужого горя. Но всех своих девочек она учила сначала думать не о своих бедах. И Миррочку тоже, хотя всегда вздыхала при этом:
— А тебе век за чужих болеть: своих не будет, доченька.
Мирра с детства свыклась с мыслью, что ей суждено идти в няньки к более счастливым сестрам. Свыклась и уже не горевала, потому что ее особое положение — положение увечной, на которую никто не позарится,— тоже имело свои преимущества и прежде всего — свободу.
А тетя Христя все бродила по подвалу и пересчитывала изгрызенные крысами сухари. И шептала при этом:
— Двоих нету. Двоих нету. Двоих нету.
В последнее время она ходила с трудом. В подземельях было прохладно, у тети Христи отекли ноги, да и сама она без солнца, движения и свежего воздуха стала рыхлой, плохо спала и задыхалась. Она чувствовала, что здоровье ее вдруг надломилось, понимала, что с каждым днем ей будет все хуже и хуже, и втайне решила уйти. И плакала по ночам, жалея не себя, а девушку, которая вскоре должна была остаться одна. Без материнской руки и женского совета.
Она и сама была одинокой. Трое ее детей померли еще во младенчестве, муж уехал на заработки, да так и сгинул, дом отобрали за долги, и тетя Христя, спасаясь от голода, перебралась в Брест. Служила в прислугах, перебивалась кое-как, пока не пришла Красная Армия. Эта Красная Армия — веселая, щедрая и добрая — впервые в жизни дала тете Христе постоянную работу, достаток, товарищей и комнату по уплотнению.
— То — божье войско,— важно поясняла {43} тетя Христя непривычно тихому брестскому рынку.— Молитесь, панове.
Сама она давно не молилась не потому, что не верила, а потому, что обиделась. Обиделась на великую несправедливость, лишившую ее детей и мужа, и разом прекратила всякое общение с небесами. И даже сейчас, когда ей было очень плохо, она изо всех сил сдерживала себя, хотя очень хотелось помолиться и за Красную Армию, и за молоденького лейтенанта, и за девочку, которую так жестоко обидел ее собственный еврейский бог. Она была переполнена этими мыслями, внутренней борьбой и ожиданием близкого конца. И все делала по многолетней привычке к труду и порядку, не прислушиваясь более к разговорам в каземате.
— Считаете, другой немец пришел?
От постоянного холода у старшины нестерпимо ныла простреленная нога. Она распухла и горела непрестанно, но об этом Степан Матвеевич никому не говорил. Он упрямо верил в собственное здоровье, а поскольку кость у него была цела, то дырка обязана была зарасти сама собой.
— А почему они за мной не побежали? — размышлял Плужников.— Всегда бегали, а тут — выпустили. Почему?
— А могли и не менять немцев,— сказал старшина, подумав.— Могли приказ им такой дать, чтоб в подвалы не совались.
— Могли,— вздохнул Плужников.— Только я знать должен. Все о них знать.
Передохнув, он опять выскользнул наверх искать таинственно пропавшего Волкова. Вновь ползал, задыхаясь от пыли, трупного смрада, звал, вслушивался. Ответа не было.
Встреча произошла неожиданно. Два немца, мирно разговаривая, вышли на него из-за уцелевшей стены. Карабины висели за плечами, но даже если бы они держали их в руках, Плужников и тогда успел бы выстрелить первым. Он уже выработал в себе молниеносную реакцию, и только она до сих пор спасала его.
А второго немца спасла случайность, которая раньше стоила бы Плужникову жизни. Его автомат выпустил короткую очередь, первый немец рухнул на кирпичи, и патрон перекосило при подаче. Пока Плужников судорожно дергал затвор, второй немец мог бы давно прикончить его или убежать, но вместо этого он упал на колени. И покорно ждал, пока Плужников вышибет застрявший патрон.
Солнце давно уже село, но было еще светло: эти немцы припозднились что-то сегодня и не успели вовремя покинуть мертвый, перепаханный снарядами [крепостной] двор. Не успели, и теперь один уже {44} перестал вздрагивать, а второй стоял перед Плужниковым на коленях, склонив голову. И молчал.
И Плужников молчал тоже. Он уже понял, что не сможет застрелить ставшего на колени противника, но что-то мешало ему вдруг повернуться и исчезнуть в развалинах. Мешал все тот же вопрос, который занимал его не меньше, чем пропавший боец: почему немцы стали такими, как вот этот, послушно рухнувший на колени. Он не считал свою войну законченной, и поэтому ему необходимо было знать о враге все. А ответ — не предположения, не домыслы, а точный, реальный ответ! — ответ этот стоял сейчас перед ним, ожидая смерти.
— Комм,— сказал он, указав автоматом, куда следовало идти.
Немец что-то говорил по дороге, часто оглядываясь, но Плужникову некогда было припоминать немецкие слова. Он гнал пленного к дыре кратчайшим путем, ожидая стрельбы, преследования, окриков. И немец, пригнувшись, рысил впереди, затравленно втянув голову в узкие штатские плечи.
Так они перебежали через двор, пробрались в подземелья, и немец первым влез в тускло освещенный каземат. И здесь вдруг замолчал, увидев бородатого старшину и двух женщин у длинного дощатого стола. И они тоже молчали, удивленно глядя на сутулого, насмерть перепуганного и далеко не молодого врага.
— «Языка» добыл,— сказал Плужников и с мальчишеским торжеством поглядел на Мирру.— Вот сейчас все загадки и выясним, Степан Матвеевич.
Немец опять заговорил громким плачущим голосом, захлебываясь и глотая слова. Протягивая вперед дрожавшие руки, показывая ладони то старшине, то Плужникову.
— Ничего не понимаю,— растерянно сказал Плужников.— Тарахтит.
— Рабочий он,— сообразил старшина.— Видите, руки показывает?
— Лянгзам,— сказал Плужников.— Битте, лянгзам.
Он напряженно припоминал немецкие фразы, но вспоминались только отдельные слова. Немец поспешно покивал, выговорил несколько фраз медленно и старательно, но вдруг, всхлипнув, вновь сорвался на лихорадочную скороговорку.
— Испуганный человек,— вздохнула тетя Христя.— Дрожмя дрожит.
— Он говорит, что он не солдат,— сказала вдруг Мирра.— Он — охранник.
— Понимаешь по-ихнему? — удивился Степан Матвеевич.
— Немножечко.
— То есть как так — не солдат? — нахмурился Плужников.— А что он в нашей крепости делает?
— Нихт зольдат! — закричал немец.— Нихт зольдат, нихт вермахт!
— Дела,— озадаченно протянул старшина.— Может, он наших пленных охраняет?
Мирра перевела вопрос. Немец слушал, часто кивая, и разразился длинной тирадой, как только она замолчала.
— Пленных охраняют другие,— не очень уверенно переводила девушка.— Им приказано охранять входы и выходы из крепости. Они — караульная команда. Он — настоящий немец, а крепость штурмовали австрияки из сорок пятой дивизии, земляки самого фюрера. А он — рабочий, мобилизован в апреле…
— Я же говорил, что рабочий! — с удовольствием отметил старшина.
— Как же он — рабочий, пролетарий,— как он мог против нас…— Плужников замолчал, махнул рукой.— Ладно, об этом не спрашивай. Спроси, есть ли в крепости боевые части или их уже отвели.
— А как по-немецки боевые части?
— Ну, не знаю… Спроси, есть ли солдаты?
Медленно, подбирая слова, Мирра начала переводить. Немец слушал, от старания свесив голову. Несколько раз уточнил, что-то переспросив, а потом опять зачастил, затараторил, то тыча себе в грудь, то изображая автоматчика: «ту-ту-ту!..»
— В крепости остались настоящие солдаты: саперы, автоматчики, огнеметчики. Их вызывают, когда обнаруживают русских: таков приказ. Но он — не солдат, он — караульная служба, он ни разу не стрелял по людям.
Немец опять что-то затараторил, замахал руками. Потом вдруг торжественно погрозил пальцем Христине Яновне и неторопливо, важно достал из кармана [мятого мундира] черный пакет, склеенный из автомобильной резины. Вытащил из пакета четыре фотографии и положил на стол.
— Дети,— вздохнула тетя Христя.— Детишек своих кажет.
— Киндер! — крикнул немец.— Майн киндер! Драй!
И гордо тыкал пальцем в неказистую узкую грудь: руки его больше не дрожали.
Мирра и тетя Христя рассматривали фотографии, расспрашивали пленного о чем-то важном, по-женски бестолково подробном и добром. О детях, булочках, здоровье, школьных отметках, простудах, завтраках, курточках. Мужчины сидели в стороне и думали, что будет потом, когда придется кончить этот добрососедский разговор. И старшина сказал, не глядя:
— Придется вам, товарищ лейтенант: мне с ногой трудно. А отпустить опасно: дорогу к нам знает.
Плужников кивнул. Сердце его вдруг заныло, заныло тяжело и безнадежно, и он впервые остро пожалел, что не пристрелил этого немца сразу, как только перезарядил автомат. Мысль эта вызвала в нем физическую дурноту: даже сейчас он не годился в палачи.
— Ты уж извини,— виновато сказал старшина.— Нога, понимаешь…
— Понимаю, понимаю! — слишком торопливо перебил Плужников.— Патрон у меня перекосило…
Он резко оборвал, поднялся, взял автомат:
— Комм!
Даже при чадном свете жировиков было видно, как посерел немец. Посерел, ссутулился еще больше и стал суетливо собирать фотографии. А руки не слушались, дрожали, пальцы не гнулись, и фотографии все время выскальзывали на стол.
— Форвертс! — крикнул Плужников, взводя автомат.
Он чувствовал, что еще мгновение — и решимость оставит его. Он уже не мог смотреть на эти суетливые, дрожащие руки.
— Форвертс!
Немец, пошатываясь, постоял у стола и медленно пошел к лазу.
— Карточки свои забыл! — всполошилась тетя Христя.— Обожди.
Переваливаясь на распухших ногах, она догнала немца и сама затолкала фотографии в карман его мундира. Немец стоял, покачиваясь, тупо глядя перед собой.
— Комм! — Плужников толкнул пленного дулом автомата.
Они оба знали, что им предстоит. Немец брел, тяжело волоча ноги, трясущимися руками все обирая и обирая полы мятого мундира. Спина его вдруг начала потеть, по мундиру поползло темное пятно, и дурнотный запах смертного пота шлейфом волочился сзади.
А Плужникову предстояло убить его. Вывести наверх и в упор шарахнуть из автомата в эту вдруг вспотевшую сутулую спину. Спину, которая прикрывала троих детей. Конечно же, этот немец не хотел воевать, конечно же, не своей охотой забрел он в эти страшные развалины, пропахшие дымом, копотью и человеческой гнилью. Конечно, нет. Плужников все это понимал и, понимая, беспощадно гнал вперед:
— Шнель! Шнель!
Не оборачиваясь, он знал, что Мирра идет следом, припадая на больную ногу. Идет, чтобы ему не было трудно одному, когда он выполнит то, что обязан выполнить. Он сделает это наверху, вернется сюда и здесь, в темноте, они встретятся. Хорошо, что в темноте: он не увидит ее глаз. Она просто что-нибудь скажет ему. Что-нибудь, чтобы не было так муторно на душе.
— Ну, лезь же ты!
Немец никак не мог пролезть в дыру. Ослабевшие руки срывались с кирпичей, он скатывался назад, на Плужникова, сопя и всхлипывая. От него дурно пахло: даже Плужников, притерпевшийся к вони, с трудом выносил этот запах — запах смерти в еще живом существе.
— Лезь!..
Он все-таки выпихнул его наверх. Немец сделал шаг, ноги его подломились, и он упал на колени. Плужников ткнул его дулом автомата, немец мягко перевалился на бок и, скорчившись, замер.
Мирра стояла в подземелье, смотрела на уже не видимую в темноте дыру и с ужасом ждала выстрела. А выстрелов все не было и не было.
В дыре зашуршало, и сверху спрыгнул Плужников. И сразу почувствовал, что она стоит рядом.
— Знаешь, оказывается, я не могу выстрелить в человека.
Прохладные руки нащупали его голову, притянули к себе. Щекой он ощутил ее щеку: она была мокрой от слез.
— За что нам это? За что, ну за что? Что мы сделали плохого? Мы же сделать ничего еще не успели, ничего!
Она плакала, прижимаясь к нему лицом. Плужников неумело погладил ее худенькие плечи.
— Ну, что ты, сестренка? Зачем?
— Я боялась. Боялась, что ты застрелишь этого старика.— Она вдруг крепко обняла его, несколько раз торопливо поцеловала.— Спасибо тебе, спасибо, спасибо. А им не говори: пусть это будет наша тайна. Ну, как будто ты для меня это сделал, ладно?
Он хотел сказать, что действительно сделал это для нее, но не сказал, потому что он не застрелил этого немца все-таки для себя. Для своей совести, которая хотела остаться чистой, несмотря ни на что.
— Они не спросят.
Они и вправду ни о чем не спросили, и все пошло так, как шло до этого вечера. Только за столом теперь стало просторнее, а спали они по-прежнему по своим углам: тетя Христя вдвоем с девушкой, старшина — на досках, а Плужников — на скамье.
И эту ночь тетя Христя не спала. Слушала, как стонет во сне старшина, как страшно скрипит зубами молодой лейтенант, как пищат и топочут в темноте крысы, как беззвучно вздыхает Мирра. Слушала, а слезы текли и текли, и тетя Христя давно уже не вытирала их, потому что левая рука ее очень болела и плохо слушалась, а на правой спала девушка. Слезы текли и капали со щек, и старый ватник стал уже мокрым.
Болели ноги, спина, руки, но больше всего болело сердце, и тетя Христя думала сейчас, что скоро умрет, умрет там, наверху, и непременно при солнце. Непременно при солнце, потому что ей очень хотелось согреться. А для того чтобы увидеть это солнце, ей следовало уходить, пока есть еще силы, пока она одна, без чужой помощи сможет выбраться наверх. И она решила, что завтра непременно попробует, есть ли у нее еще силы, и не пора ли ей, пока не поздно, уходить.
С этой мыслью она и забылась, уже в полусне поцеловав черную девичью голову, что столько ночей пролежала на ее руке. А утром встала и еще до завтрака с трудом пролезла сквозь лаз в подземный коридор.
Здесь горел факел. Лейтенант Плужников умывался — благо воды теперь хватало,— и Мирра поливала ему. Она лила понемножку и совсем не туда, куда он просил: Плужников сердился, а девушка смеялась.
— Куда вы, тетя Христя?
— А к дыре, к дыре,— торопливо пояснила она.— Подышать хочу.
— Может, проводить вас? — спросила Миррочка.
— Что ты, не надо. Мой своего лейтенанта.
— Да она балуется! — сердито сказал Плужников.
И они опять засмеялись, а тетя Христя, опираясь на стену, медленно пошла к дыре, осторожно ступая распухшими ногами. Однако шла она сама, силы еще были, и это очень радовало тетю Христю.
«Может, не сегодня уйду. Может, еще денечек погожу, может, еще поживу маленько».
Тетя Христя была уже возле самой дыры, но шум наверху услыхала первой не она, а Плужников. Он услыхал этот непонятный шум, насторожился и, еще ничего не поняв, толкнул девушку в лаз:
— Скорее!
Мирра нырнула в каземат, не спрашивая и не медля: она уже привыкла слушаться. А Плужников, напряженно ловя этот посторонний шум, успел только крикнуть:
— Тетя Христя, назад!
Гулко ухнуло в дыре, и тугая волна горячего воздуха ударила Плужникова в грудь. Он задохнулся, упал, мучительно хватая воздух разинутым ртом, успел нащупать дыру и нырнуть туда. Нестерпимо ярко вспыхнуло пламя, и огненный смерч ворвался в подземелье, на миг осветив кирпичные своды, убегающих крыс, присыпанные пылью и песком полы и замершую фигуру тети Христи. А в следующее мгновение раздался страшный, нечеловеческий крик, и объятая пламенем тетя Христя бросилась бежать по коридору. Уже пахло горелым человеческим мясом, а тетя Христя еще бежала, еще кричала, еще звала на помощь. Бежала, уже сгорев в тысячеградусной струе огнемета. И вдруг рухнула, точно растаяв, и стало тихо, только сверху капали оплавленные крошки кирпича. Редко, как кровь.
Даже в каземате пахло горелым. Степан Матвеевич заложил лаз кирпичом, забил старыми ватниками, но горелым все равно пахло. Горелым человеческим мясом.
Откричавшись, Мирра примолкла в углу. Изредка ее начинала бить дрожь; тогда она поднималась и ходила по каземату, стараясь не приближаться к мужчинам. Сейчас она отчужденно смотрела на них, словно они были по другую сторону невидимого барьера. Вероятно, этот барьер существовал и прежде, но тогда между его сторонами, между нею и мужчинами было передаточное звено: тетя Христя. Тетя Христя согревала ее ночами, тетя Христя кормила ее за столом, тетя Христя ворчливо учила ее ничего не бояться, даже крыс, и по ночам отгоняла их от нее, и Мирра спала спокойно. Тетя Христя помогала ей одеваться, по утрам пристегивать протез, умываться и ухаживать за собой. Тетя Христя грубовато прогоняла мужчин, когда это было необходимо, и за ее широкой и доброй спиной Мирра жила без стеснения.
Теперь не было этой спины. Теперь Мирра была одна и впервые ощутила тот невидимый барьер, что отделял ее от мужчин. Теперь она была беспомощна, и ужас от сознания этой физической беспомощности всей тяжестью обрушился на ее худенькие плечи.
— Значит, засекли они нас,— вздохнул Степан Матвеевич.— Как ни береглись, как ни хоронились.
— Я виноват! — Плужников вскочил, заметался по каземату.— Я, один я! Я вчера…
Он замолчал, наткнувшись на Мирру. Она не смотрела на него, она вся была погружена в себя, в свои мысли, и ничего для нее не существовало сейчас, кроме этих мыслей. Но для Плужникова существовала и она, и ее вчерашняя благодарность, и тот крик «Коля!..», который остановил когда-то его на том самом месте, где лежал теперь пепел тети Христи. Для него уже существовала их общая тайна, ее шепот, дыхание которого он почувствовал на своей щеке. И поэтому он не стал признаваться, что отпустил вчера немца, который утром привел огнеметчиков. Это признание уже ничего не могло исправить.
— А в чем ты виноват, лейтенант?
До сих пор Степан Матвеевич редко обращался к Плужникову с той простотой, которая диктовалась и разницей в возрасте, и их положением. Он всегда подчеркнуто признавал его командиром и разговаривал так, как этого требовал устав. Но сегодня уже не было устава, а было двое молодых людей и усталый взрослый человек с заживо гниющей ногой.
— В чем же ты виноват?
— Я пришел, и начались несчастья. И тетя Христя, и Волков, и даже этот… сволочь эта. Все из-за меня. Жили же вы до меня спокойно.
— Спокойно и крысы живут. Вон сколько их в спокойствии нашем развелось. Не с того ты конца виноватых ищешь, лейтенант. А я вот, например, тебе благодарен. Если б не ты — немца бы ни одного так [бы] и не убил. А так вроде убил. Убил, а? Там, у Холмских ворот?
У Холмских ворот старшина никого не убил: единственная очередь, которую успел он выпустить, была слишком длинной, и все пули ушли в небо. Но ему очень хотелось в это верить, и Плужников подтвердил:
— Двоих, по-моему.
— За двоих не скажу, а один точно упал. Точно. Вот за него тебе и спасибо, лейтенант. Значит, и я могу их убивать. Значит, не зря я тут…
В этот день они не выходили из своего каземата. Не то что они боялись немцев — немцы вряд ли рискнули бы лезть в подземелья — просто не могли они в этот день увидеть то, что оставила огнеметная струя.
— Завтра пойдем,— сказал старшина.— Завтра сил у меня еще хватит. Ах, Яновна, Яновна, опоздать бы тебе к дыре той… Значит, через Тереспольские ворота они в крепость входят?
— Через Тереспольские. А что?
— Так. Для сведения.
Старшина помолчал, искоса поглядывая на Мирру. Потом подошел, взял за руку, потянул к скамье:
— Сядь-ка.
Мирра послушно села. Она весь день думала о тете Христе и о своей беспомощности и устала от этих дум.
— Ты возле меня спать будешь.
Мирра резко выпрямилась:
— Зачем еще?
— Да ты не пугайся, дочка.— Степан Матвеевич невесело усмехнулся.— Старый я. Старый да больной и все равно ночью не сплю. Вот и буду от тебя крыс отгонять, как Яновна отгоняла.
Мирра низко опустила голову, повернулась, ткнулась лбом. Старшина обнял ее, сказал, понизив голос:
— Да и поговорить нам с тобой надо, когда лейтенант уснет. Скоро ты одна с ним останешься. Не спорь, знаю, что говорю.
В эту ночь другие слезы текли на старый ватник, служивший изголовьем. Старшина говорил и говорил, Мирра долго плакала, а потом, обессилев, уснула. И Степан Матвеевич к утру задремал тоже, обняв доверчивые девичьи плечи.
Забылся он ненадолго: передремал, обманул усталость и уже на ясную голову еще раз спокойно и основательно обдумал весь тот путь, который предстояло ему сегодня пройти. Все уже было решено, решено осознанно, без сомнений и колебаний, и старшина просто уточнял детали. А потом осторожно, чтобы не разбудить Мирру, встал и, достав гранаты, начал вязать связки.
— Что взрывать собираетесь? — спросил Плужников, застав его за этим занятием.
— Найду.— Степан Матвеевич покосился на спящую девушку, понизил голос: — Ты не обижай ее, Николай.
Плужникова знобило. Он кутался в шинель и зевал.
— Не понимаю.
— Не обижай,— строго повторил старшина.— Она маленькая еще. И больная, это тоже понимать надо. И одну не оставляй: если уходить надумаешь, так о ней сперва вспомни. Вместе из крепости выбирайтесь: пропадет девчонка одна.
— А вы… Вы что?
— Заражение у меня, Николай. Пока силы есть, пока ноги держат, наверх выберусь. Помирать, так с музыкой.
— Степан Матвеевич…
— Все, товарищ лейтенант, отвоевался старшина. И приказания твои теперь недействительны: теперь мои приказания главней. И вот тебе мой последний приказ: девочку сбереги и сам уцелей. Выживи. Назло им — выживи. За всех нас.
Он поднялся, сунул за пазуху связки и, тяжело припадая на распухшую, словно залившую сапог ногу, пошел к лазу. Плужников что-то говорил, убеждал, но старшина не слушал его: главное было сказано. Разобрал кирпичи в лазе.
— Так, говоришь, через Тереспольские они в крепость входят? Ну, прощай, сынок. Живите!
И вылез. Из раскрытого лаза несло горелым смрадом.
— Утро доброе.
Мирра сидела на постели, кутаясь в бушлат. Плужников молча стоял у лаза.
— Чем это пахнет так…
Она увидела черный провал открытого лаза и замолчала. Плужников вдруг схватил автомат:
— Я наверх. К дыре не подходи!
— Коля!
Это был совсем другой вскрик: растерянный, беспомощный. Плужников остановился:
— Старшина ушел. Взял гранаты и ушел. Я догоню.
— Догоним.— Она торопливо копошилась в углу.— Только — вместе.
— Да куда тебе…— Плужников запнулся.
— Я знаю, что я хромая,— тихо сказала Мирра.— Но это от рождения, что же делать. И я боюсь тут одна. Очень боюсь. Я не смогу тут одна, я лучше сама вылезу.
— Идем.
Он запалил факел, и они вылезли из каземата. В липком, густом смраде нечем было дышать. Крысы возились у груды обгорелых костей, и это было все, что осталось от тети Христи.
— Не смотри,— сказал Плужников.— Вернемся, зарою.
Кирпичи в дыре были оплавлены вчерашним залпом огнемета. Плужников вылез первым, огляделся, помог выбраться Мирре. Она лезла с трудом, неумело, срываясь на скользких, оплавленных кирпичах. Он подтащил ее к самому выходу и на всякий случай придержал:
— Подожди.
Еще раз осмотрелся: солнце еще не появилось, и вероятность встречи с немцами была невелика, но Плужников не хотел рисковать.
— Вылезай.
Она замешкалась. Плужников оглянулся, чтобы поторопить ее, увидел вдруг худенькое, очень бледное лицо и два огромных глаза, которые смотрели на него испуганно и напряженно. И молчал: он впервые видел ее при свете дня.
— Вот ты какая, оказывается.
Мирра потупила глаза, вылезла и села на кирпичи, заботливо обтянув платьем колени. Она поглядывала на него, потому что тоже впервые видела его не в чадном пламени коптилок, но поглядывала украдкой, искоса, каждый раз, как заслонки, приподнимая длинные ресницы.
Вероятно, в мирные дни среди других девушек он бы просто не заметил ее. Она вообще была незаметной — заметными были только большие печальные глаза да ресницы,— но здесь сейчас не было никого прекраснее ее.
— Так вот ты какая, оказывается.
— Ну, такая,— сердито сказала она.— Не смотри на меня, пожалуйста. Не смотри, а то я опять залезу в дырку.
— Ладно.— Он улыбнулся.— Я не буду, только ты слушайся.
Плужников пробрался к обломку стены, выглянул: ни старшины, ни немцев не было на пустом развороченном дворе.
— Иди сюда.
Мирра, оступаясь на кирпичах, подошла. Он обнял ее за плечи, пригнул голову.
— Спрячься. Видишь ворота с башней? Это Тереспольские.
— Я знаю.
— Что-то он про них меня спрашивал…
Мирра ничего не сказала. Оглядываясь, она узнавала и не узнавала знакомой крепости. Здание комендатуры лежало в развалинах, мрачно темнела разбитая коробка костела, а от каштанов, что росли вокруг, остались одни стволы. И никого, ни одной живой души не было на всем белом свете.
— Как страшно,— вздохнула она.— Там, под землей, все-таки кажется, что наверху еще кто-то есть. Кто-то живой.
— Наверняка есть,— сказал он.— Не мы одни такие везучие. Где-то есть, иначе стрельбы не было бы, а она случается. Где-то есть, и я найду где.
— Найди,— тихо попросила она.— Пожалуйста, найди.
— Немцы,— сказал он.— Спокойно. Только не высовывайся.
Из Тереспольских ворот вышел патруль: трое немцев появились из темного провала ворот, постояли, неторопливо пошли вдоль казарм к Холмским воротам. Откуда-то издалека донеслась отрывистая песня: словно ее не пели, а выкрикивали доброй полусотней глоток. Песня делалась все громче. Плужников уже слышал топот и понял, что немецкий отряд с песней входит сейчас под арку Тереспольских ворот.
— А где же Степан Матвеевич? — обеспокоенно спросила Мирра.
Плужников не ответил. Голова немецкой колонны показалась в воротах: они шли по трое, громко выкрикивая песню. И в этот момент темная фигура сорвалась сверху, с разбитой башни. Мелькнула в воздухе, упав прямо на шагающих немцев, и мощный взрыв двух связок гранат рванул утреннюю тишину.
— Вот Степан Матвеевич! — крикнул Плужников.— Вот он, Мирра! Вот он!..
Часть четвертая
1
Весь день они молча просидели в каземате. Они не просто молчали, они всячески избегали друг друга, насколько это было возможно в подземелье. Если один оказывался у стола, второй отходил в угол, а если и садился за стол, то — подальше, на противоположный конец. Они не решались смотреть друг на друга и больше всего боялись, что руки их случайно встретятся в темноте.
После гибели старшины Мирра ни за что не хотела уходить под землю. Она кричала и плакала, а встревоженные взрывом немцы вновь прочесывали развалины, забрасывая подвалы гранатами и прожигая огнеметными залпами. Их много сбежалось во двор, они расползлись по всем направлениям и с минуты на минуту могли выйти на них, а она кричала и билась на обломках кирпичей, и Плужников никак не мог ее успокоить. Ему уже казалось, что он слышит крики немцев, топот их сапог, лязг их оружия, и тогда он схватил Мирру в охапку и потащил к дыре.
— Пусти.— Она вдруг перестала биться.— Сейчас же пусти. Слышишь?
— Нет.
Она оказалась очень легкой, но сердце его неистово забилось от этой гибкой и теплой ноши. Лицо ее было совсем близко, он видел слезы на ее щеках, чувствовал ее дыхание и, боясь прижать к себе, нес на вытянутых руках. А она в упор смотрела на него, и в ее глубоких темных глазах был молчаливый и не понятный для него страх.
— Пусти,— еще раз тихо попросила она.— Пожалуйста.
Плужников опустил ее только возле дыры. Оглянулся в последний раз, действительно услышал отчетливый шорох шагов, шепнул:
— Лезь.
Мирра замешкалась, и он вовремя вспомнил о ее протезе, понял, что она не сможет спрыгнуть на пол там, под землей, и остановил:
— Я первым.
— Нет! — испугалась она.— Нет, нет!
— Не бойся, успеем!
Он скользнул в дыру, спрыгнул на пол, позвал:
— Иди! Скорее!
Мирра сорвалась на скользких кирпичах, но Плужников подхватил ее, на секунду прижал к себе. Она покорно замерла, уткнувшись лицом в его плечо, а потом вдруг рванулась, оттолкнула его и быстро пошла по коридору, волоча ногу. А он остался в темноте у дыры, но слушал не шумы наверху, а гулкий стук собственного сердца. А когда вернулся в каземат, уже не решался заговорить. Хотел этих разговоров, удивлялся сам себе и — не заговаривал. И прятал глаза. И все время чувствовал, что она — здесь, рядом, и что, кроме их двоих, нет никого во всем мире.
Противоречивые чувства странно переплетались сейчас в нем. Горечь от гибели тети Христи и Степана Матвеевича и тихая радость, что рядом — хрупкая и беззащитная девушка; ненависть к немцам и странное, незнакомое ощущение девичьего тепла; упрямое желание уничтожать врага и тревожное сознание ответственности за чужую жизнь — все это жило в его душе в полной гармонии как единое целое. Он никогда еще не ощущал себя таким сильным и таким смелым, и лишь одного он не мог сейчас: не мог протянуть руку и коснуться девушки. Очень хотел этого и — не мог.
— Ешь,— тихо сказала она.
Наверное, наверху уже зашло солнце. Они промолчали и проголодали весь этот день. Наконец Мирра сама достала еду и сказала первое слово. Но ели они все-таки на разных концах стола.
— Ты ложись, я не буду спать.
— Я тоже не буду,— поспешно сказала она.
— Почему?
— Так.
— Крыс боишься? Не бойся, я их буду отгонять.
— Ты каждую ночь решил не спать? — Мирра вздохнула.— Не беспокойся, я уже привыкла.
— Завтра я разведаю дорогу и отведу тебя в город.
— А сам?
— А сам вернусь. Здесь — оружие, патроны. Есть чем воевать.
— Воевать…— Она опять вздохнула.— Один против всех? Ну, и что ты можешь сделать один?
— Победить.
Плужников сказал это вдруг, не раздумывая, и сам удивился, что сказал именно так. И повторил упрямо:
— Победить. Потому что человека нельзя победить, если он этого не хочет. Убить можно, а победить нельзя. А фашисты — не люди, значит, я должен победить.
— Запутался! — Она неуверенно засмеялась и тут же испуганно оборвала смех: таким неуместным показался он в этом темном, мрачном и чадном каземате.
— А ведь это правда, что человека нельзя победить,— медленно повторил Плужников.— Разве они победили Степана Матвеевича? Или Володьку Денищика? Или того фельдшера в подвале: помнишь, я рассказывал тебе? Нет, они их только убили. Они их только убили, понимаешь? Всего-навсего убили.
— Этого достаточно.
— Нет, я не о том. Вот Прижнюка они действительно убили, навсегда убили, хоть он и живой. А человека победить невозможно, даже убив. Человек выше смерти. Выше.
Плужников замолчал, и Мирра тоже молчала, понимая, что говорил он не для нее, а — для себя, и гордясь им. Гордясь и пугаясь одновременно, потому что единственным выходом, который он себе оставлял, была гибель. Он сам сейчас убеждался в этом, он приговаривал себя к ней искренне и взволнованно, и, подчиняясь непонятному ей самой приказу, Мирра встала, подошла к нему и обняла за плечи. Она хотела быть рядом в эту минуту, хотела разделить его судьбу, хотела быть вместе и инстинктивно чувствовала, что быть вместе — это просто прикоснуться к нему.
Но Плужников вдруг отстранил ее, встал и отошел на другой конец стола. И сказал чужим голосом:
— Завтра разведаю дорогу, а послезавтра ты уйдешь.
Но Мирра и слышала и не слышала эти слова. Все в ней разом оборвалось, потому что его поведение вновь напомнило ей, что она — калека и что он не забывает и не может этого забыть. Чувство страшного одиночества снова обрушилось на нее, она опустилась на скамью и заплакала горько, по-детски уронив голову на руки.
— Ты что это? — удивленно спросил Плужников.— Почему ты плачешь?
— Оставь меня,— громко всхлипнув, сказала она.— Оставь и иди куда хочешь. Только не надо меня жалеть. Не надо, не надо!
Он неуверенно подошел к ней, постоял, неумело погладил по голове. Как маленькую.
— Не трогай меня! — Мирра резко встала, сбросив его руку.— Я не виновата, что оказалась здесь, не виновата, что осталась жива, не виновата, что у меня хромая нога. Я ни в чем не виновата, и не смей меня жалеть!
Оттолкнув его, она прошла в свой угол и ничком упала на постель. Плужников постоял, послушал, как она всхлипывает, а потом взял бушлат старшины и накрыл ее плечи. Она резко повела ими и сбросила бушлат, и он снова накрыл ее, а она снова сбросила, и он снова накрыл. И Мирра больше уже не сбрасывала бушлата, а, жалобно всхлипнув, съежилась под ним и затихла. Плужников улыбнулся, отошел к столу и сел. Послушал, как тихо дышит пригревшаяся Мирра, достал из полевой сумки схему крепости, которую по его просьбе начертил как-то Степан Матвеевич, и принялся внимательно изучать ее, соображая, как провести завтрашнюю разведку. И не заметил, как уронил голову на стол.
— Ты прости меня,— сказала утром Мирра.
— За что?
— Ну, за все. Что ревела и говорила глупости. Больше не буду.
— Будешь,— улыбнулся он.— Обязательно будешь, потому что ты еще маленькая.
Нежность, которая прозвучала в его голосе, теплом отозвалась в ней, захлестнула, вызвала ответную нежность. Она уже подняла руку, чтобы протянуть ему, чтобы прикоснуться и приласкаться, потому что сердце ее уже изнемогало без этой простой, мимолетной, ни к чему не обязывающей ласки. Но она опять сдержала себя и отвернулась, и он тоже отвернулся и нахмурился. А потом он ушел, и она опять тихо заплакала, жалея его и себя и мучаясь от этой жалости.
То ли немцев напугал вчерашний взрыв, то ли они к чему-то готовились, но суетились сегодня куда больше обычного. Возле Тереспольских ворот велись работы по расчистке территории, повсюду ходили усиленные патрули, а пленных, к которым Плужников уже привык, не было ни видно, ни слышно. У Трехарочных тоже что-то делали, оттуда долетал шум моторов, и Плужников решил пробраться в северо-западную часть цитадели: посмотреть, нельзя ли там переправиться через Мухавец и уйти за внешние обводы.
Он не имел права рисковать и поэтому шел осторожно, избегая открытых мест. Кое-где даже полз, несмотря на то, что патрулей видно не было. Он не хотел сегодня ввязываться в перестрелку и беготню, он хотел только высмотреть щель, сквозь которую ночью можно было бы проскользнуть. Проскользнуть, вырваться из крепости, добраться до первых людей и оставить у них девушку.
Плужников ясно понимал, что старшина был прав, завещав ему сделать это во что бы то ни стало. Понимал, делал для этого все от него зависящее, но втайне боялся даже думать о том времени, когда останется один. Совсем один в развороченной крепости. Конечно, он мог бы уйти вместе с Миррой, раздобыть гражданскую одежду, попытаться ускользнуть в леса, где почти наверняка остались отбившиеся от своих частей бойцы и командиры Красной Армии. И это не было бы ни дезертирством, ни изменой приказу: он не значился ни в каких списках, он был свободным человеком, но именно эта свобода и заставляла его самостоятельно принимать то решение, которое было наиболее целесообразным с военной точки зрения. А с военной точки зрения самым разумным было оставаться в крепости, где были боеприпасы, еда и убежище. Здесь он мог воевать, а не бегать по лесам, которых не знал.
Наконец он достиг подвалов и пробирался сейчас по ним, стараясь выйти за излучину Мухавца. Там немцы, тракторы которых грохотали у Трехарочных ворот, не могли его видеть, и он надеялся подобраться к самой воде и, может быть, переправиться на другую сторону. А пока шел бесконечными подвалами, в которые проникало достаточно света сквозь многочисленные проломы и дыры.
— Стой!
Плужников замер. Окрик прозвучал так неожиданно, что он даже не сообразил, что скомандовали-то ему на чистом русском языке. Но прежде чем он успел сообразить, в грудь его уперся автомат.
— Бросай оружие.
— Ребята…— От волнения Плужников всхлипнул.— Ребята, свои, милые…
— Мы-то милые, а ты какой?
— Свой я, ребята, свой! Лейтенант Плужников…
Остановили его на переходе в тяжелом подвальном сумраке, куда шагнул он со света и где пока ничего не видел, кроме неясной фигуры впереди. И еще кто-то стоял сзади в нише, но того он вообще не видел, а только чувствовал, что там кто-то стоит.
— Лейтенант, говоришь? А ну, шагай к свету, лейтенант.
— Шагаю, шагаю! — радостно сказал Плужников.— Сколько вас тут, ребята?
— Сейчас посчитаем.
Их было двое: заросших по самые брови, в рваных, грязных ватниках. Представились:
— Сержант Небогатов.
— Ефрейтор Климков.
— Какие планы, лейтенант? — спросил Небогатов после короткого знакомства.— Наши планы — рвать в Беловежскую пущу. Давно бы туда ушли, да патронов нет: я тебя на голом нахальстве останавливал.
— Ну, для страховочки я за спиной стоял,— хмуро усмехнулся Климков.— А у меня — ножичек гитлеровский.
На ремне у него висел длинный немецкий кинжал в черных кожаных ножнах.
— Вместе рвать будем.— От радости, что встретил своих, Плужников сразу забыл о своем решении сражаться в крепости до конца.— Патроны есть, ребята, чего-чего, а патронов хватает. И еда имеется, консервы…
— Консервы? — недоверчиво переспросил ефрейтор.— Шикарно живешь, лейтенант.
— Веди сперва к консервам,— усмехнулся сержант Небогатов.— Уж и не помню, когда ели-то в последний раз. Так, грызем чего-то, как крысы.
Плужников провел их в свое подземелье кратчайшим путем. Показал дыру, малоприметную для непосвященных, рассказал об огнеметной атаке и гибели тети Христи. А про немца, что навел на них огнеметчиков, рассказывать не стал: объяснять этим ожесточенным, черным от голода и усталости людям, почему он отпустил тогда пленного, было бессмысленно.
— Мирра! — еще в подземелье закричал Плужников.— Мирра, это мы, не бойся!
— Какая еще Мирра? — насторожился сержант.
Он первым пролез в каземат, и не успел еще Плужников с ефрейтором пробраться следом, как он уже удивленно кричал:
— Миррочка, ты ли это? Глазам не верю!
— Небогатов?..— ахнула Мирра.— Толя Небогатов? Живой?
— Дохлый, Мирра! — смеялся сержант.— Копченый, сушеный и вяленый!
Светясь {45} от радости, Мирра тащила на стол все, что припрятала. Плужников хотел было запретить есть все подряд, но сержант заверил, что норму они знают. Небогатов был очень оживлен, шутил с Миррой, а ефрейтор помалкивал, посматривая на девушку настороженно и, как показалось Плужникову, недружелюбно.
— Житье тебе тут, лейтенант, прямо как беловежскому зубру.
Плужников не поддержал этого разговора. Ефрейтор помолчал, а потом, когда Мирра отошла от стола, спросил угрюмо:
— Она что, тоже с нами пойдет?
— Конечно! — с вызовом сказал Плужников.— Она хорошая девчонка, смелая. Только крыс боится!
Но Климков не намерен был сводить разговор к шутке. Переглянулся {46} с Небогатовым, и, по тому, как сержант опустил глаза, Плужников понял, что в этой паре первенство определяется не воинскими званиями.
— Хромая она.
— Ну, и что? Не настолько уж она…
Плужников запнулся. Отрицать хромоту Мирры было бессмысленно, но даже если бы она была абсолютно здорова, хмурый ефрейтор и тогда бы отказался взять ее с собой: это Плужников сообразил сразу.
— Я и сам собирался довести ее до первых домов…
— До первой пули! — жестоко перебил Климков.— Где дома, там и немцы. Нам обходить дома нужно, да подальше, а не переть к ним в военной форме.
— Странный разговор! Не оставлять же ее, правда?
— Пусть сама выбирается. Только после нас, а то на первом же допросе продаст ни за понюшку. Чего молчишь, сержант?
— Брать с собой нельзя,— нехотя сказал Небогатов.
— А бросать можно? Я тебя спрашиваю, сержант: бросать можно?
В гулком пустом подвале далеко разносились звуки, и Мирра слышала каждое слово. Тем более, что теперь они уже не сдерживались, забыли о ней, словно решали сейчас не ее судьбу, а что-то куда более важное для них. Но для Мирры самым важным была сейчас не ее судьба, хотя сердце ее замирало от ужаса при одной мысли, что они могут уйти, оставив ее тут. И, несмотря на весь этот ужас, самым важным для нее было, что ответит Плужников на все эти аргументы. Съежившись в самом дальнем углу каземата, где крысы давно уже не боялись ни шумов, ни людей, Мирра слушала теперь только его, воспринимала только его слова, потому что то предательство, на которое его толкали, было для нее куда страшнее собственной судьбы.
— Ну, ты сам посуди, лейтенант, куда нам такая обуза? — приглушенно говорил Небогатов.— За внешним обводом — поле, там по-пластунски километра два ползти придется. Сможет она ползти?
— С хромой-то ногой! — вставил ефрейтор.
— О чем вы говорите! — громко сказал Плужников, уже с трудом сдерживая гнев.— О себе вы все время говорите, только о себе! О своей шкуре! А о ней? О ней подумать вы способны?
— Тут думай не думай…
— Нет, будем думать! Обязаны думать!
— Не подойдешь ты к домам,— со вздохом сказал сержант.— Ну, никак не подойдешь, понимаешь? Совались мы, пробовали: везде патрули, везде охрана. Что ночью, что днем. До сих пор оцепление вокруг крепости держат, до сих пор нашего брата вылавливают, а ты говоришь: думать.
— Мы — Красная Армия,— тихо сказал Плужников.— Мы — Красная Армия, это вы понимаете?
— Красная Армия?..— Ефрейтор громко рассмеялся.— Ты еще комсомол вспомни, лейтенант!
— А я его не забывал! — крикнул Плужников.— Вот он, билет, здесь, на сердце! Я его вместе с жизнью отдам, только вместе с жизнью!
— Нету больше Красной Армии! — заорал Климков, и непрочное пламя коптилок забилось, заметалось над столом.— Нету Красной Армии, нету никакого комсомола! Нету!
— Молчать!
Стало вдруг тихо. Небогатов усмехнулся:
— Командуешь?
— Не командую, а приказываю,— сдерживаясь, негромко сказал Плужников.— Как старший по званию. Приказываю провести разведку, найти возможность пробраться в город и доставить туда девушку. А потом будем думать о собственной шкуре.
— Такой, значит, разговор? — продолжая улыбаться, спросил Небогатов.— А если не подчинимся? Доложишь по команде? Рапорт напишешь?
— Подожди, Толя,— перебил Климков.— Глупо ссориться: нужны ведь друг другу.
— А мы не ссоримся…
— Ближайшая задача: переправить Мирру в город. Все остальное — потом.
— Не пойму, кто ты: дурак или контуженый?
— Тихо, Толя! — Ефрейтор перегнулся через стол.— На кой хрен тебе эта калека, лейтенант? Была бы деваха стоящая, я бы еще понял: жалко товар. А эту колченогую…
Заросшее лицо было совсем рядом, и Плужников коротко, не замахиваясь, ударил его кулаком. Ефрейтор отпрянул, рука его метнулась к рукоятке кинжала. Плужников схватил автомат, рывком взвел затвор:
— Руки на стол!
Ефрейтор медленно отпустил рукоять, сел, положил перед собой большие жилистые руки. Плужников знал, что диски их автоматов пусты, но их было двое, а он — один.
— Сволочь,— тяжело дыша, сказал Климков.— Дерьмо ты, лейтенант. Окопался тут с бабой… Войну пережидаешь?
— Выходи по одному через лаз,— резко скомандовал Плужников.— Предупреждаю, что не шучу: автомат у меня заряжен.
Он повел стволом в сторону заваленного выхода, коротко нажал на спуск. Сухие выстрелы оглушительно прогремели в каземате. Небогатов и Климков встали.
— Мы не можем уйти без оружия,— тихо сказал Небогатов.
— Берите свои автоматы.
Они молча подняли пустые ППШ. Климков первым подошел к лазу, потоптался, хотел что-то сказать, но не сказал и вылез из каземата.
— Выход наверх — направо, в самом конце,— сказал Плужников сержанту.
Сержант молча кивнул. Он стоял у самого лаза, но уходить пока медлил.
— Ну, чего застрял? Кончились наши разговоры.
— Ты обещал патронов, лейтенант. Дай патронов, и мы этой же ночью уйдем из крепости.
Плужников молчал.
— Будь человеком, лейтенант,— умоляюще сказал Небогатов.— Мы же сдохнем здесь без патронов.
Плужников прошел в темноту, ногой придвинул к сержанту непочатую цинку. Металл нестерпимо резко проскрипел по кирпичному полу.
— Спасибо.— Небогатов поднял ящик.— Мы уйдем этой ночью, слово даю. А только ты все равно дурак, лейтенант.
И нырнул в лаз.
Плужников машинально поставил автомат на предохранитель, сунул его на обычное место — он всегда оставлял его возле лаза, вернулся к столу и тяжело опустился на скамью. Он не думал, что Климков и Небогатов, зарядив в подземелье оружие, ворвутся в каземат, но на душе его было тяжело. Недавняя и такая яркая радость от неожиданной встречи сменилась тупым отчаянием, и переход этот был столь внезапен, что Плужников вдруг словно обессилел. Словно эти двое украли, вырвали из него и унесли с собой часть его веры, и эта потеря была ощутима до ноющей физической боли. Гнев его прошел, осталась смутная, гнетущая пустота и эта ноющая боль в сердце.
Кто-то порывисто вздохнул. Он поднял голову: рядом стояла Мирра.
— Ушли,— вздохнул он.— Я патронов им дал. Хотят этой ночью из крепости вырваться.
— Я не могу стать на колени,— дрожащим, словно натянутым голосом вдруг сказала она.— Я не могу стать на колени, потому что у меня протез. Но я стану, когда сниму его. Я стану на колени, я…
Рыдания перехватили горло, и она замолчала. Стояла рядом, тиская у груди руки, кусала прыгающие губы, а по лицу текли слезы. Он протянул руку, чтобы вытереть их, а она схватила эту руку и начала исступленно целовать ее. Он испуганно рванулся, но она не отпустила, а крепко, двумя руками прижала к груди. Как тогда, в подземелье, только тогда эта его рука держала взведенный пистолет.
— Я боялась, я так боялась.
— Что уйду с ними?
— Нет, не это самое страшное. Я боялась услышать, что ты — не такой.
— Какой — не такой?
— Не тот, кого я люблю. Молчи, пожалуйста, молчи! Я помню, какая я, не думай, что я могу забыть это. Меня всю жизнь жалели: и дети и взрослые — все жалели! Но когда жалеют, отдают половину, понимаешь? А ты, ты остался из-за меня, ты прогнал этих, ты не бросил меня, не оставил тут, не отправил к немцам, как они тебе предлагали! Я же слышала все, каждое слово слышала!
Она крепко прижимала к груди его руку, плакала и говорила, говорила, дрожа, как в ознобе. Все вдруг рухнуло для нее: и привычная настороженная пугливость, и робость, и застенчивость. Горячая благодарность словно растопила все оковы, искреннее чувство любви и нежности затопило ее, заставив забыть обо всем, и она спешила рассказать ему об этом, излить всю себя, ни на что не рассчитывая и ни на что не надеясь.
— Я же никогда, никогда в жизни и помечтать-то не смела, что могу полюбить! Мне же с детства, с самого детства все-все только одно и твердили, что я — калека, что я несчастная, что я не такая, как остальные девочки. Даже мама об этом говорила, потому что жалела меня и хотела, чтобы я привыкла к тому, что я — такая, привыкла и не страдала бы больше. И я уже привыкла, совсем привыкла, и поэтому с девочками не дружила, а только с мальчишками. Девочки ведь про любовь всегда говорят и планы всякие строят, а я что могла построить, о чем помечтать? Я, может быть, глупости сейчас говорю и даже наверное глупости, но ты ведь все понимаешь, правда? Я просто не могу молчать, я боюсь замолчать, потому что тогда, когда я замолчу, начнешь говорить ты и скажешь, что я — дура набитая, что нашла время влюбляться. А разве мы виноваты, что время такое, разве мы виноваты? Я боюсь замолчать, Коля, а у меня уже нет сил говорить. Сил нет, а я боюсь, боюсь в тишине остаться, боюсь того, что ты скажешь сейчас…
Плужников обнял ее, нежно и бережно поцеловал в дрожавшие распухшие губы. И почувствовал кровь.
— Это я губы грызла, чтобы не закричать. Когда они уговаривали тебя.
— Больно?
— Меня никто никогда не целовал. А наверху — война. А я такая счастливая, такая счастливая, что у меня сердце сейчас разорвется.— Мирра прильнула к нему, говорила еле слышно, почти беззвучно.— Ты больше не сиди по ночам за столом, ладно? Ты ложись, а я рядом сяду и всю ночь буду отгонять от тебя крыс. Всю ночь и всю жизнь, Коля, какая нам осталась…
2
Теперь они говорили и говорили и никак не могли наговориться. Лежали рядом, укрывшись шинелью и бушлатами, согреваясь одним теплом, и сердца их бились одинаково бурно и одинаково устало.
— А твоя сестра похожа на тебя?
— Наверно, нет. Она похожа на маму, а я — на отца.
— Значит, у тебя был красивый папа. А это очень важно.
— Почему?
— Счастливый внук всегда бывает похожим на деда.
— А счастливая внучка?
— Тоже. Скажи… Только — честно, слышишь? Обязательно честно.
— Честное слово.
— Честное-честное-пречестное?
— Честное-пречестное.
Она помолчала, повозилась, поплотнее укрыла его.
— Твоя мама очень огорчится, когда увидит меня?
По тому, как робко, приглушенно прозвучали эти слова, он понял, как важен для нее ответ. И еще крепче обнял ее.
— Моя мама будет очень любить тебя. Очень.
— Ты обещал говорить честно.
— Я говорю честно. Они будут очень любить тебя. И мама и Верочка.
— Может быть, в Москве мне сделают настоящий протез, и я научусь танцевать.
— В Москве мы покажем тебя самому лучшему врачу. Самому лучшему. Может быть…
— Нет. Ничего не может быть. Может быть только протез.
— Сделаем протез. Самый лучший. Такой, что никто и не догадается, что у тебя больная нога.
— Какой ты худенький.— Она нежно провела рукой по его заросшей щеке.— Знаешь, мы не сразу поедем в Москву. Мы сначала поживем в Бресте, и моя мама немножечко тебя растолстит. А я буду кормить тебя морковкой.
— Я похож на кролика?
— Морковка очень полезна. Очень, потому что мама говорила, что в ней есть железо. И когда ты растолстеешь, мы поедем в Москву. Я увижу Красную площадь и Кремль. И Мавзолей.
— И метро.
— И метро. И еще мы обязательно пойдем в театр. Я никогда не была в настоящем театре. К нам приезжал театр из Минска, но это все равно не настоящий театр, потому что он съехал со своего места. Понимаешь?
— Ну конечно. Мы все посмотрим в Москве. Все-все. А потом уедем.
— В Брест?
— Куда пошлют. Ты не забыла, что твой муж — кадровый командир Красной Армии?
— Муж…— Она тихо, радостно засмеялась.— Как будто я сплю и вижу сон. Обними меня, муж мой. Крепко-крепко.
И снова не было ни тьмы, ни подвала, ни крыс, что пищали в углах. И снова не было войны, а было {47} двое. Двое на Земле: Мужчина и Женщина.
— Ты когда-нибудь видела аистов?
— Аистов? Каких аистов?
— Говорят, они белые-белые.
— Не знаю. В городе нет аистов, а больше я нигде не была. Почему ты вдруг спросил о них?
— Так. Вспомнил.
— Тебе не холодно?
— Нет. А тебе?
— Нет, нет. Знаешь, почему я спросила? Степан Матвеевич в ту, последнюю ночь сказал мне, что ты застыл.
— Как застыл?
— Застыл от войны, от горя, от крови. Он говорил, что мужчины стынут на войне, стынут внутри, понимаешь? Он говорил, что в них стынет кровь, и только женщина может тогда отогреть. А я не знала, что я — женщина и тоже могу кого-то отогреть… Я отогрела тебя? Хоть немножечко?
— Я боюсь растаять.
— Ну, ты смеешься.
— Нет, я говорю правду: я боюсь растаять возле тебя. А поверху ходят немцы, по нашей с тобой крепости. Знаешь, они что-то замышляют: начали расчищать площадку возле Тереспольских ворот. И сейчас мы встанем, и я пойду наверх.
— Коля, милый, не надо. Еще день, один только денечек без страха за тебя.
— Нет, Миррочка, надо. Надо, а то они и вправду решат, что стали хозяевами в нашей крепости.
— Значит, мне опять считать секунды и гадать, вернешься ты или…
— Я вернусь. Я просто ухожу на работу. Ведь уходят же мужья на работу, правда? Вот и я тоже. Просто у меня такая работа.
Еще не успев подняться наверх, Плужников услышал рев двигателей и почувствовал, как дрожит земля: трактора стаскивали к Тереспольским воротам крупнокалиберные крепостные орудия. Опять множество немцев вертелось вокруг, и Плужников поначалу решил не рисковать и вернуться. Но немцы были заняты своими делами, и он все-таки двинулся в дальние развалины. Там можно было надеяться встретить одинокий патруль, а на большее он и не мог сейчас рассчитывать.
Прошлый раз он ходил левее: его тогда интересовал берег за поворотом Мухавца. Но сейчас он уже не думал о том, что должен расстаться с Миррой,— сейчас сама мысль эта была для него ужасна,— и поэтому он свернул вправо, в подвалы, через которые мог подобраться к Трехарочным воротам. Там все время сновали немцы, и именно там он мог напомнить им, кто хозяин этой крепости.
Теперь он шел осторожно: куда осторожнее, чем тогда, когда уперся грудью в автомат Небогатова. Он не боялся столкнуться с немцами в подземельях, но они могли бродить поверху, могли услышать его шаги или увидеть его самого сквозь многочисленные проломы. Он перебегал открытые места, а в темных нишах подолгу останавливался, настороженно вслушиваясь.
Он услышал близкие шаркающие шаги именно в одной из таких глухих беспросветных ниш. Кто-то шел прямо на него, шел медленно, старчески волоча ноги, не пытаясь приглушить шум. Плужников беззвучно сбросил автомат с предохранителя и весь напрягся, ожидая того, кто так беззаботно топал по подвалам, достаточно светлым от бесчисленных дыр и проломов. Вскоре совсем близко тяжело вздохнули и сказали тихо и озабоченно:
— Озяб я. Озяб.
Плужников готов был шагнуть из ниши, потому что сказано это было так по-русски, что никаких сомнений уже не могло оставаться. Но он не успел шагнуть, как неизвестный вдруг запел. Запел жалобным детским голосом бессмысленно и тупо:
Васька-савраска, Шурка-каурка, Ванька-буланка, Сенька-гнедой…Плужников замер. Что-то страшное и беспросветно безнадежное было в этом пении. А неизвестный снова и снова уныло тянул одно и то же:
Васька-савраска, Шурка-каурка, Ванька-буланка, Сенька-гнедой…Послышался шум осыпавшихся кирпичей, тяжелое дыхание, и неизвестный певец попал в луч света, совсем рядом с Плужниковым, выйдя из-за поворота. И Плужников узнал его, узнал сразу, несмотря на длинные, свалявшиеся, красные от кирпичной пыли волосы. Узнал и шагнул навстречу:
— Волков? Вася Волков?
Волков замолчал. Стоял перед ним, пошатываясь, тупо глядя безумными отсутствующими глазами.
— Волков, да очнись же! Это я, Плужников! Лейтенант Плужников!
Шурка-каурка…
— Вася, это же я, я!
Васька-савраска…— Да очнись же ты, Волков, очнись! — Плужников схватил его за грудь, встряхнул.— Это я, я, лейтенант Плужников, твой командир!
Что-то осмысленное вспыхнуло на миг в безумных глазах Волкова. Как он попал сюда, в эти подвалы? Что ел, где спал, как до сих пор не наткнулся на немцев? Все это только промелькнуло в голове Плужникова; спросил он о другом:
— Ты почему ушел тогда, Волков?
Спросил и замолчал, потому что ответа не требовалось. Дикий необъяснимый ужас, который увидел он в глазах Волкова, был этим ответом: Волков уходил от страха, и этот животный, безграничный и уже неподвластный воле страх олицетворялся для Волкова в нем, в лейтенанте Плужникове.
— Вася, успокойся. Вася…
Волков вдруг с силой оттолкнул Плужникова и, задыхаясь и тонко вереща от страха, быстро полез через пролом на залитый солнцем берег Мухавца. Плужников ударился спиной о стену, упал, а когда вскочил, Волкова в подвале не было. Он уже выбрался наверх, задохнулся солнцем и простором, забыл о Плужникове и снова затянул то единственное, что хранил еще его воспаленный разум:
Васька-савраска, Шурка-каурка…Плужников рванулся к пролому и даже не расслышал, а каким-то звериным шестым чувством почуял топот чужих сапог. Успел прижаться к стене, и сапоги эти прогрохотали над его головой.
Шурка-каурка…— Хальт! Цурюк!
Ванька-буланка…Ударил выстрел, но оглушительнее этого выстрела был детский жалобный крик Волкова. Плужников взлетел по осыпающимся кирпичам, выглянул в пролом, увидел три фигуры, склонившиеся над упавшим, но еще живым, еще стонущим Волковым, и нажал на спуск.
Он не разобрал, попал ли в кого — хотелось думать, что попал! — смотреть было некогда. Промчался по подвалам, выскочил во внутреннее окно, переполз в соседние развалины. Где-то недалеко всполошенно бегали немцы, гулко прогремели в подвалах автоматные очереди, ударило несколько взрывов. Но Плужников опять ушел, затерявшись в развалинах. Отдышался в глубокой дальней воронке, ужом переполз открытый участок и нырнул в свою дыру.
Он не хотел рассказывать Мирре о встрече с Волковым: ей хватало горя. Поэтому он долго — дольше обычного — стоял у дыры, слушал шумы наверху и ждал, когда окончательно придет в себя не столько после беготни по развалинам, сколько после этой встречи. Он вспоминал последний осмысленный и полный нечеловеческого ужаса взгляд Волкова, понимал, что Волков испугался его — не человека вообще, а именно его, лейтенанта Плужникова,— но не чувствовал за собой никакой вины. Ему было жаль так глупо погибшего парнишку, только и всего. Война уже научила его своей логике.
Успокоившись, Плужников тихо двинулся к лазу, в темноте безошибочно определяя дорогу. Нащупал лаз, беззвучно нырнул в него и — замер: впереди, в тускло освещенном каземате, тихонько звучал тонкий девичий голос:
Очаровательные глазки, Очаровали вы меня, В вас столько жизни, столько ласки, В вас столько неги и огня…Контраст с тем пением, которое он совсем недавно слышал в другом подвале, пением, которое так трагически оборвалось, и этим — задумчивым, нежным, девичьим — был слишком велик даже для него. Тупая, безнадежная боль вдруг намертво сжала сердце, и он с трудом сдержался, чтобы не застонать.
Я опущусь на дно морское, Я поднимусь под облака, Я дам тебе все, все земное — Лишь только ты люби меня…Человек, который пел сейчас эту песню, был счастлив. Был очень счастлив. Именно это открытие тупой болью стиснуло сердце Плужникова. Война все выворачивала наизнанку: даже их первую любовь.
Он осторожно влез в каземат и привалился к стене, прижимая к себе автомат, чтобы не брякнуть им, не спугнуть песню. Слушал, сдерживая тяжелый хрип отравленной взрывчаткой, забитой мокротой груди, мучительно хотел чего-то и не понимал, чего же. А потом понял, что хочет заплакать, и — улыбнулся. Слез не было.
Все-таки он звякнул автоматом, и она сразу замолчала. Он шагнул к столу, и Мирра нежно потянулась к нему, потянулась вся — доверчиво, тепло и наивно.
— Сейчас я тебя покормлю.— Она прошла в темноту, к стеллажам.— Знаешь, эти противные крысы съели все сухари. Осталось совсем немножечко.
— Откуда ты знаешь эту песню?
— Меня научил дядя Рувим: его к Первому мая премировали патефоном с пластинками. Он — замечательный скрипач…— Она засмеялась: — Зачем же я тебе рассказываю? Ты же знаешь дядю Рувима.
— Знаю?
— Конечно, знаешь.— Мирра притащила еду и теперь накрывала на стол. Это был целый ритуал, которым она дорожила.— Если бы не он, мы бы никогда не узнали друг друга. Никогда, представляешь, какой ужас? Боже мой, от чего иногда зависит счастье… Если бы не музыка, которая так тебе понравилась тогда…
— Если бы я тогда не захотел есть,— усмехнулся он.
— Или если бы вдруг сел на другой поезд.
— А я и сел на другой поезд,— сказал Плужников, помолчав и припомнив то бесконечно далекое, что было где-то в начале его пути к этому полутемному каземату.— А знаешь, почему я сел на другой поезд?
— Почему? — Она уселась напротив, уперев подбородок в ладони и приготовившись слушать.
— Я был влюблен. Целых тридцать шесть часов.
И он рассказал ей о Вале и о своих белых снах, когда так мучительно хотелось пить. Мирра выслушала его рассказ и вздохнула.
— Должно быть, эта Валя — очень хорошая девушка.
— Почему ты так решила?
— Потому что она была в тебя влюблена,— сказала Мирра, полагая, что этой характеристики вполне достаточно.— А чем же я тебя буду кормить завтра? Когда в доме нет мака — это еще не голод. Голод, когда нет хлеба.
— Хлеба? — Плужников достал вычерченную старшиной схему.— Ты не помнишь, где была пекарня?
— Пекарня — за Мухавцом. А вот здесь был продсклад и столовая.— Мирра показала на кольцевые казармы, что шли по берегу Мухавца.— Я ходила туда с тетей Христей.
— Вот где он брал еду…— задумчиво сказал Плужников.
— Кто?
Плужников думал о Волкове, которого встретил как раз там, где Мирра указала склад и столовую. Но он не стал говорить о нем, а объяснил по-другому:
— Я о сержанте вспомнил. О Небогатове.
И Мирра не стала расспрашивать.
Жизнь состояла из маленьких радостей: как-то еще при жизни тети Христи Плужников нашел пилотку, в отворот которой была воткнута иголка с длинной черной ниткой, и женщины целый день тогда радовались этой нитке. С той поры он тащил в каземат все, что удавалось найти: расческу и пуговицы, кусок шпагата и мятый котелок. Ему нравилось искать и находить эти полезные мелочи, и задача найти хлеб даже обрадовала его.
Однако в ближайшие дни он не мог заняться этими поисками: уж очень много немцев бродило теперь по крепости. Они волокли на расчищенную возле Тереспольских ворот площадку наши тяжелые орудия, захваченные в укрепрайонах, патрулировали по всем дорогам, прочесывали развалины, выжигая огнеметами и забрасывая гранатами особо подозрительные и темные казематы. Как-то Плужников издалека видел, как из развалин, лежавших в восточной части цитадели, которую он не знал и поэтому не посещал, немцы вывели троих без оружия — заросших бородами, в изодранном обмундировании. Это были свои, советские, и Плужников до физической боли, до отчаяния пожалел, что ни разу так и не сходил в этот район крепости.
— Никакого хлеба,— категорически заявила Мирра, узнав, что немцы после короткого затишья снова начали усиленно прочесывать развалины.— Обойдемся.
— Придется обойтись,— сказал Плужников.— Но поглядеть я все-таки вылезу: интересно, что это они так заметались.
— Обещай, что будешь осторожен.
— Обещаю.
— Нет, ты поклянись! — сердито сказала она.— Скажи: чтоб я так жива была.
— Ну, клянусь.
— Нет, ты скажи!
— Чтоб ты так жива была,— послушно сказал он, поцеловал ее и, взяв автомат, выбрался наверх.
В этот день немцев заметно лихорадило. Отряды их маршировали по дорогам, повсюду виднелись патрули, а возле Тереспольских ворот их собралось особенно много. Плужников и в самом деле никуда не мог двинуться от своей дыры, хотел было возвращаться, но в последний момент решил пробраться в костел. Если бы это ему удалось, он мог бы залезть повыше и оттуда наверняка разглядел бы, что затевает противник.
Полз он долго и осторожно, терпеливо отлеживаясь в воронках. Полз, как не ползал уже давно, скользил по земле, обдирая локти и колени, царапая щеки о кирпичные обломки. Где-то совсем рядом бродили немцы, он слышал их голоса, стук их сапог и лязг оружия. Он только чуть приподнимал голову, чтобы оглядеться и не потерять направления, и, даже добравшись до костела, не вбежал в него, а вполз и замер, забившись в ближайшую нишу.
Тяжелый смрад от неубранных трупов слоился в костеле. Зажав нос и с трудом удерживая судорожные спазмы, Плужников огляделся. Глаза его уже привыкли к сумраку — они вообще теперь легче привыкали к полутьме, чем к свету,— и он разглядел разбитый станковый пулемет у входа и семь трупов вокруг: почти все они были с зелеными петличками пограничников на гимнастерках. Видно, держались ребята до последнего патрона, потому что вокруг них не было ничего, кроме стреляных гильз и пустых коробок из-под лент. А пулемет стоял на том же самом месте, где когда-то стоял его пулемет, только пролом стал еще более широким.
Все это Плужников заметил сразу и, не задерживаясь, пошел в глубину. Его мутило от тяжкого вязкого запаха, спазмы сжимали горло, и временами ему казалось, что он вот-вот потеряет сознание. Он добрался до заваленной обломками лестницы и полез наверх. На площадке лежало еще два полуразложившихся трупа, он миновал их, не задерживаясь и поднимаясь все выше и выше.
Так он взобрался на самый верх: здесь дул ветерок, он смог отдышаться и передохнуть. Теперь следовало по карнизу пройти к разбитому окну: из него должен был открываться вид на южную часть цитадели и Тереспольские ворота.
По счастью, он не успел двинуться с места, когда внизу, в темном колодце костела, раздались гулкие шаги. Плужников замер, вжимаясь в стену: позиция была неудобной, он не мог ни лечь, ни укрыться, и если бы немцы — а в том, что в костел вошел немецкий патруль, у него не было ни малейшего сомнения,— если бы немцы поднялись по лестнице только на один поворот, они бы в упор увидели его. Увидели в положении, в котором он физически не мог принять бой.
Снизу раскатисто и гулко доносились голоса: слов разобрать было невозможно, да Плужников и не пытался понять, о чем говорят немцы. Он стоял, затаив дыхание, замерев в неудобной позе, слушал только шаги и никак не мог понять, приближаются они к нему или все еще топают у входа. Голоса продолжали что-то бубнить, чиркнула зажигалка, запах паленой тряпки медленно всплыл к Плужникову. Он не понял сначала, зачем немцы жгут тряпки, а когда сообразил, невероятное напряжение вдруг отпустило его: немцы палили тряпки, чтобы отбить трупный смрад, и вряд ли намеревались пробираться в глубину костела, где смрад этот был особенно тяжким, густым и физически липким. Шаги смолкли, приглушенно звучали только голоса: видно, патрульные расположились у входа, решив зачем-то охранять этот мертвый, пустой костел. Плужников осторожно перевел дыхание и огляделся.
Карниз был узок, засыпан битой штукатуркой и осколками кирпичей, но у Плужникова уже не оставалось выхода. Он не мог больше торчать здесь, в конце лестницы, где не эти, так другие, более выносливые или более старательные немцы рано или поздно обнаружили бы его. А там, в глубокой оконной нише, он мог укрыться и увидеть то, ради чего рисковал сегодня жизнью.
Мучительно долго Плужников пробирался по карнизу. Цеплялся пальцами за щели и выбоины, всем телом вжимался в стенку, балансируя над глубоким провалом. Дважды из-под его ног с шумом осыпалась штукатурка, он замирал, но внизу по-прежнему глухо бубнили голоса. Наконец он добрался до оконной ниши, устроился там и только после этого осторожно выглянул наружу.
Он увидел изломанный гребень кольцевых казарм, ленту Буга за ним, разрушенные здания на том берегу. Дорогу, которая вела от моста возле Тереспольских ворот, сами эти ворота и площадку перед ними, сплошь уставленную тяжелыми артиллерийскими системами. И на дороге и на площадке возле вытянутых в нитку орудий было множество немцев, только на дороге они были построены по обеим сторонам, вдоль обочин, образуя коридор, а на площадке выдерживали правильное каре, и в центре этого каре стояло несколько фигур, вероятно, офицеров. Это строгое построение было непохоже на то, когда раздавали кресты, и которое они разогнали вместе со старшиной. Это было куда эффектнее и торжественнее, и Плужников никак не мог понять, для чего немцам понадобился весь этот парад.
Откуда-то донеслась музыка: он не видел, где стоял оркестр, но разобрал, что играют марш. На дороге, в коридоре, образованном солдатскими шеренгами, показались две фигуры: одна из них была в темном плаще, вторая — покрупнее первой и потолще — в странном полувоенном костюме. Следом за этими двумя в некотором отдалении шло еще несколько человек, в которых Плужников определил генералов или еще каких-то высших чинов. А те, что шли впереди, на генералов не были похожи, но почести, которые оказывались им, музыка, игравшая в честь их прибытия,— все это убеждало его, что немцы принимают здесь, в его крепости, каких-то очень важных гостей.
Ох, как нужна была ему сейчас винтовка! Простая трехлинейка, пусть без оптического прицела! Он хорошо стрелял и даже если бы не попал на таком расстоянии в одного из этих гостей, то все равно бы напугал их, расстроил парад, испортил бы им праздник и еще раз напомнил, что крепость не их, а его, что она не сдана врагу и продолжает воевать. Но винтовки у него не было, а затевать стрельбу из автомата на таком расстоянии было бессмысленно. И он только шепотом выругал себя за несообразительность, стукнул кулаком по кирпичам и продолжал наблюдать.
Фигуры исчезли из его поля зрения, перекрытые разрушенной башней Тереспольских ворот. А миновав башню, появились снова: уже в крепости, [в] четком четырехугольнике, образованном замершими солдатами. Музыка смолкла, один из офицеров, печатая шаг, пошел навстречу прибывшим и отдал рапорт. Плужников не слышал этого рапорта, но видел, как взлетели руки в фашистском приветствии. Гости приняли рапорт, обошли солдатский строй, а затем отошли к выстроенным в линию артиллерийским системам. Они стали внимательно осматривать их, а рапортовавший офицер почтительно давал пояснения.
Плужников не знал и никогда не узнал, кто посетил Брестскую крепость в конце лета сорок первого года. Не знал, иначе выпустил бы весь диск в сторону фашистского парада. Не знал, что видит сейчас уменьшенную расстоянием крохотную фигурку того, чей личный приказ обрушил 22 июня в три часа пятнадцать минут по местному времени первый залп на эту самую крепость. Не знал, что видит перед собой фюрера Германии Адольфа Гитлера и дуче итальянских фашистов Бенито Муссолини.
3
Много дней Плужников разбирал кирпичи. Каждый кирпич приходилось осторожно брать в руки и еще бережнее класть. Не только потому, что боялся привлечь шумом патрули — после того парада, свидетелем которого он оказался, немцев в крепости стало значительно меньше,— а потому, что шум этот мешал ему, мог заглушить чужие шаги, голоса, звон амуниции. Работая, он ни на мгновение не переставал напряженно вслушиваться и, подняв кирпич, некоторое время держал его на весу, прежде чем положить. Он перекопал множество развалин, но пока не находил ничего, кроме трупов и разбитого оружия. Ничего похожего ни на склад, ни на столовую, а у них давно кончились сухари, кончались концентраты, оставалось совсем мало сахара, а мясные консервы Мирра уже ела с трудом. И поэтому он упорно, каждый день перекладывал с места на место эти проклятые кирпичи.
Ранняя осень началась с затяжных дождей. Дожди были мелкими и почти беззвучными, но за день ватник промокал насквозь, а высушить его было негде. Правда, он раздобыл еще четыре ватника. Мирра строго следила, чтобы он не забывал менять их, но сырость, которую он приносил с собой ежедневно, уже поселилась в каземате и незаметно, день ото дня, все росла и росла, и теперь он чистил оружие два раза в сутки.
А немцев все-таки стало значительно меньше. Правда, днем они по-прежнему патрулировали по крепости, но в развалины, как правило, не заглядывали, а те двое, что как-то нарушили это правило, уже никому ничего не могли рассказать: Плужников снял их одной очередью. Тогда ему пришлось изрядно побегать, потому что немцы всполошились и бросились прочесывать развалины, но он отлежался в глухом каземате, а ночью вернулся к Мирре.
— Не стреляй,— умоляюще шептала она, нежно лаская его, усталого, измученного.— Если бы ты только знал, как я боюсь за тебя. Как я боюсь!
Появились в крепости и гражданские: они прибывали целыми группами, даже с лошадьми. Разбирали завалы, вывозили трупы и кирпичи. Плужников сам видел, как они расчищали костел, как грузили на телеги то, что осталось от тех семерых пограничников. Он попытался было наладить с ними контакт, но немцы охраняли их бдительно и постоянно торчали рядом. Судя по всему, это были колхозники, согнанные из соседних деревень. А за Белым дворцом, откуда он шел когда-то в свою первую атаку, он обнаружил однажды группу женщин. Их тоже стерегли: они отбирали целый кирпич и складывали его рядами вдоль дороги. Под вечер пришли машины, женщины погрузили кирпич, машины уехали, а женщин построили в колонну и под конвоем погнали к воротам. На следующее утро они опять появились и снова принялись разбирать кирпичи. Он наблюдал за ними целый день, но выяснил только, что у них есть получасовой перерыв на обед. А поговорить с ними, окликнуть, подать какой-либо сигнал о себе он так и не смог, хотя хотел этого и целый день ловил такую возможность. Мирра очень волновалась тогда:
— Может быть, они из города? Ах, если бы передать маме, что я жива!
Но он не сумел ничего передать ни мужчинам, ни женщинам и оставил пустые попытки. Сначала надо было найти хлеб.
Он уже глубоко залез в вырытую им же самим яму, высоко обложился кирпичами и теперь работал медленно, не только прислушиваясь, но и часто выглядывая поверх кирпичей, чтобы не нарваться на какую-либо неожиданность. Он теперь и мерз быстро, и уставал быстро, а задыхаться стал часто, да и сердце само по себе вдруг меняло привычный ритм и начинало стучать, выламывая ребра. Тогда он прекращал работу и ложился, терпеливо ожидая, когда все войдет в норму.
Еще сквозь обломки кирпичей он заметил что-то круглое, какие-то коробочки. Торопливо докопался до них, но почти все эти коробочки оказались раздавленными: белый порошок просыпался из них по земле. Он осторожно взял щепотку этого порошка, понюхал. И вздрогнул: душистый сладковатый запах принес вдруг далекие воспоминания о матери.
— Пудра,— улыбнулась Мирра, когда он принес ей единственную уцелевшую коробочку.— Неужели на свете есть еще женщины, которые пудрятся, красят губы, завивают волосы? Может быть, и мне в первый раз в жизни напудрить нос?
— Там много. Хватит и на лоб и на щеки.
— Много? — Она нахмурилась, что-то старательно припоминая.— Подожди, подожди. В столовой был ларек военторга. Был, был, я помню. Значит, где-то рядом склад. Где-то совсем рядом.
Он рыл в этом месте с ожесточением, порой забывая об опасности. Рыл, задыхаясь, ломая ногти, в кровь разбивая пальцы. Отбрасывал в сторону какие-то черепки, битые бутылки, обломки ящиков. И где-то под кирпичами, еще не видя, нащупал грубую ткань мешковины.
До глубокой ночи на ощупь он отрывал {48} этот мешок. Дважды осыпались кирпичи, заваливая его работу, и дважды он методически, не позволяя себе удариться в безрассудное отчаяние, заново откапывал мешок, по одному снимая кирпичи. И наконец сумел вытащить его — целым, старательно завязанным. Кинжалом разрезал бечевку, сунул руку и нащупал толстые шершавые квадраты стандартных армейских сухарей.
Небо было низко закрыто тучами, в яме стояла темень. Он вытащил сухарь, поднес к лицу: не видя, ощутил запах — густой дух ржаного хлеба. Он жадно вдыхал его, не чувствуя, что весь дрожит, дрожит не от холода, а от счастья. Он лизнул этот сухарь, уловил влажную соленую точечку, не понял, лизнул снова и только тогда сообразил, что на корявый армейский сухарь капают его слезы. Слезы, от которых он отвык настолько, что перестал их ощущать.
Весь следующий день они грызли эти сухари, и это был едва ли не самый радостный день в их жизни. И Плужников был счастлив, что смог доставить Мирре эту радость. Последнее время он частенько заставал ее в слезах. Она тут же начинала улыбаться, пыталась шутить, но он видел, что с ней происходит что-то неладное. Мирра никогда не жаловалась, всегда была спокойна, даже весела, а по ночам, когда он засыпал, нежно ласкала его, задыхаясь от слез, любви и отчаяния. Плужников подозревал, что виной тому однообразная еда, потому что замечал, как она иной раз с трудом скрывает тошноту. Он хотел бы отыскать для нее что-либо иное, чем консервы, но не знал где, и не знал что.
— Ну, а если помечтать? Давай вообразим, что я — волшебник.
— А ты и есть волшебник,— сказала она.— Ты сделал меня счастливой, а кто же меня мог сделать счастливой, кроме волшебника?
— Вот и загадай волшебнику желание. Ну, чего бы тебе хотелось? Пусть это будет самое невозможное.
— Фаршированной щуки. И большой соленый огурец.
В нем мелькнула одна шальная мысль, но он не стал ничего объяснять Мирре. А на следующее утро взял четыре сухаря и собрался наверх раньше обычного: еще в темноте.
— Не ходи сегодня,— робко попросила Мирра.— Пожалуйста, не ходи.
— Выходной кончился,— попробовал отшутиться Плужников.
— Не ходи,— с непонятной тоской повторила она.— Побудь со мной, я так мало вижу тебя.
— Все равно не увидишь, даже если останусь.
Они экономили жир и зажигали теперь только одну плошку. Густая черная мгла плотно обступала их со всех сторон: они давно уже жили ощупью.
— И хорошо, что ты меня не видишь,— вздохнула Мирра.— Я сейчас страшная-страшная.
— Ты — самая красивая,— сказал он, поцеловал ее и вышел.
Чуть светало, когда Плужников выбрался наверх. Постоял, прислушался, ничего не расслышал, кроме монотонно моросящего дождя, и осторожно двинулся к Белому дворцу. Благополучно миновал дорогу и через кирпичные завалы пробрался в глубокие подземелья.
Кажется, где-то здесь в первые часы войны прятали раненых. Здесь умирал старший лейтенант, в чью смерть ему когда-то так не хотелось верить. Трупы из подвала уже вытащили, но стойкий запах смерти еще держался тут, еще витал в темноте, и Плужников шел осторожно, словно боялся наткнуться на того, кто лежал здесь с первых часов войны. Он искал бойницу, укрытую от чужих глаз, но удобную для наблюдения. Дыры, проломы и щели во множестве серели в густом подвальном мраке. Он выбрал ту, которая устраивала его, сел на кирпичи, поставил рядом автомат и приготовился к долгому ожиданию.
Странно: он был вообще-то человеком нетерпеливым, порывистым, но постоянные опасности быстро выработали в нем привычку ждать. Ждать, почти не шевелясь, застыв в животной неподвижности. Он вспомнил, как когда-то — давным-давно, еще до войны — ждал, когда его примет начальник училища. Вспомнил свое молодое нетерпение, надраенные сапоги, уютную мягкую, чистую гимнастерку. «Через год вызовем вас в училище…» Через год! С той поры миновала целая вечность, а вот когда закончится год… Вечность оказалась короче, чем календарное время, потому что вечность ощущают, а время надо прожить.
И еще он думал о маме и Верочке. Он знал, что немцы ворвались в глубину России, но ни на секунду не допускал мысли о том, что они могут взять Москву. Они могли прорваться за Минск, могли даже вести бои где-то возле Смоленска, но сама возможность их появления под Москвой была абсурдна. Он представлял, что Красная Армия продолжает вести ожесточенные бои, перемалывая фашистские дивизии, был убежден, что перемелет и пойдет вперед и где-нибудь к весне вернется сюда, в Брестскую крепость. До весны была еще целая вечность, но он твердо рассчитывал дожить. Дожить, встретить своих, доложить, что крепость не сдана, отправить Мирру к маме в Москву и вместе с Красной Армией идти дальше. На запад, в Германию.
Наконец-то он услышал шаги: не солдатские — четкие, словно собранные воедино, а гражданские — шаркающие, словно рассыпанные. Выглянул: к Белому дворцу медленно приближалась колонна женщин. Трое охранников шли впереди, четверо сзади и по трое с каждой стороны этой нестройной, шаркающей колонны. Только у первых и замыкающих он разглядел автоматы, а те конвоиры, что шли по бокам, были вооружены винтовками. Издалека винтовки эти показались ему несуразно длинными, но когда колонна приблизилась, он разглядел, что это — наши винтовки с примкнутыми четырехгранными штыками. Разглядел и понял, что женщин стерегут не только немцы, но и дошедшие до немцев федорчуки.
Прозвучала команда, колонна остановилась. Затем конвоиры разошлись по постам, а женщины направились к развалинам, прямо на него, и Плужников отпрянул в темноту. Негромко переговариваясь, женщины отдыхали перед началом работы: кто присел на кирпичи, кто переобувался, кто перевязывал платок. Плужников видел их совсем близко, видел, как стекают по ватникам и пальто струйки дождя, видел их низко повязанные платками лица, слышал голоса, но так и не мог определить, какого возраста эти женщины и кто они. Все лица казались ему одинаково утомленными, одинаково озабоченными, а кроме отрывочных русских фраз, слышались и белорусские, и какие-то иные, совсем непонятные: то ли польские, то ли еврейские. Сейчас Плужников мог окликнуть их, даже поговорить, потому что охраны поблизости не было, но сегодня он не хотел рисковать. Он отложил это до следующего раза, до того времени, когда изучит этот подвал и найдет безопасные пути отхода.
Светлое пятно его бойницы вдруг стало темным. Сначала он не понял, что произошло, и качнулся назад, еще глубже, уходя во мрак. Но бойница опять просветлела, хотя и изменила свои очертания. Он вгляделся: в нише лежал узелок. Обычный женский узелок из головного платка, связанного концами: кто-то из женщин сунул его сюда, в подвальное окошко, в защищенное от тусклого осеннего дождя место.
Он осторожно взял узелок, когда женщины начали разбирать кирпич. Развязал платок, развязал и чистую белую тряпочку, которая оказалась под ним, и беззвучно рассмеялся: никогда еще ему так не везло. Никогда. Шесть варенных в мундире картофелин, луковица и щепотка соли лежали в этом узелке.
Плужников с благодарностью посмотрел на унылые, согбенные фигуры женщин, мокнувших на бесконечном осеннем дожде. Какая-то из них, сама не знаяоб этом, сделала сегодня самый дорогой для него подарок. Он подумал, положил в платок три армейских сухаря, завязал, как было, четыре конца и поставил в нишу, на место. А тряпочку с картошкой и луковицей спрятал за пазуху и ушел в самый дальний, глухой отсек подвала. И до ночи сидел там, грыз сухарь и думал, как обрадуется сегодня Мирра.
— Ты действительно волшебник?
Он рассказал ей о подвалах Белого дворца, о женщинах, об узелке. Мирра слушала и ела картошку, но ела как-то не так, как ему хотелось. Словно что-то мешало ей радоваться этой картошке, словно она все время тревожно думала о чем-то ином.
— Ты как будто не рада?
— Нет, что ты. Спасибо. Ешь свою долю.
— Это — тебе, не спорь. Я могу жевать все, а тебя тошнит, я вижу.
— Глупый,— с какой-то странной болью выдохнула она.— Боже мой, какой ты еще глупенький у меня.
Она приникла к нему, уткнулась в грудь лбом, тихо заплакала. Слезы капали в недоеденную картошку.
— Что с тобой, Миррочка? Да что же с тобой?
Мирра подняла голову, долго, очень долго смотрела на него. Тусклый свет падал на ее лицо, он видел огромные, полные тоски глаза: в слезах дрожал робкий фитилек коптилки.
— Миррочка…
— Мы должны расстаться,— тихо, словно через силу, сказала она.— Родной мой, муж мой, мой единственный, мы должны расстаться с тобой.
— Расстаться? — Он ничего не понимал.— Как расстаться? Почему расстаться? Зачем? Ты заболела? Ну, не молчи же, не молчи, отвечай!
— У нас будет маленький.
— Маленький? Как маленький?..
Эта новость обрушилась на него вдруг, как стена, и, еще ничего не поняв, ничего не осознав, он почувствовал страх. Лишающий разума леденящий страх одиночества.
— Видишь, я нормальная женщина.— Странная и неуместная нотка гордости прозвучала в голосе Мирры.— Я — нормальная женщина, и случилось то, что должно было случиться. Вероятно, это — счастье, даже наверное это — огромное счастье, но за счастье надо платить.
— Не уходи,— с тупым отчаянием сказал он.— Только не уходи.
Он не думал, что говорит: в нем кричало отчаяние. Мирра медленно покачала головой:
— Нельзя.
— Да, да, я понимаю, понимаю.
Он уже отстранялся от нее, он уже погружался в свое одиночество. Она придвинулась еще ближе, прильнула к нему, гладила по заросшим впалым щекам, целовала: он сидел, не шевелясь, словно окаменев.
Так они сидели долго. Мирра ничего не объясняла, ничего не доказывала, понимая, что он тоже должен свыкнуться с этим, как свыклась она. А Плужникову хотелось кричать, хотелось вылезти наверх, хотелось выпустить в немцев все снаряженные диски, хотелось погибнуть, потому что боль, которую он испытывал сейчас, была страшнее смерти. Но он сидел и терпеливо ждал, когда все пройдет. Он знал, что все пройдет: он уже мог вынести все, что возможно, и что невозможно мог вынести тоже.
Наконец он вздохнул и шевельнулся. Мирра ждала этого вздоха и сразу заговорила тихим, печальным голосом, словно уже прощаясь навсегда:
— Если бы не маленький, если бы не он, Коля, я бы никогда не оставила тебя. Я думала, что так и будет, что я умру немножечко раньше, чем ты, и умру счастливой. Ты — моя жизнь, мое солнышко, моя радость, все — ты, ты все, что у меня есть. Но маленький должен родиться, Коленька, должен: он ни в чем не виноват перед людьми. И должен родиться здоровеньким, обязательно здоровеньким, а здесь… Здесь я каждую секунду чувствую, как убывают его силы. Его силы, Коля, уже не мои, а его! Каждой женщине бог дает немножечко счастья и очень много долга. Я была счастлива. Я была так счастлива, как не может быть счастлива никакая другая женщина во всем мире, потому что это счастье дал мне ты, ты один и только мне одной. Дал вопреки войне, вопреки моей судьбе, вопреки всему на свете! Я знаю, что тебе тяжелее, чем мне: ты остаешься один, а я уношу с собою кусочек твоего будущего. Я знаю, что сейчас идут самые страшные часы нашей жизни, но мы должны, мы обязаны пережить их, чтобы жил он, наш маленький. Ты не беспокойся, я уже все продумала. Ты только поможешь мне пробраться к этим женщинам, а уж они выведут меня из крепости.
— А там?
— Там — мама, не беспокойся! Там — мама и родственники. Столько родственников, сколько у евреев, не бывает ни у кого на свете.
— Женщин водят строем.
— Кто заметит лишнюю бабу? Не беспокойся, милый, все будет хорошо! Все будет хорошо, и в дамки выйдут пешки, и будет шум и гам, и будут сны к деньгам, и дождички пойдут по четвергам. Так говорит дядя Михась: помнишь, он вез нас когда-то в крепость? Мы еще смотрели столб на дороге, и там я впервые наткнулась на твою руку…
Она говорила, улыбаясь изо всех сил, а из глаз неудержимо катились слезы. Они капали на руку Плужникову, а он никак не мог заплакать, потому что его собственные последние слезы упали на ржавый армейский сухарь, и больше слез уже не осталось. И вероятно, поэтому его пекло внутри, будто сердце обложили горящими угольями.
— Ты должна идти,— сказал он.— Ты должна добраться до своей мамы и вырастить сына. И если только я останусь в живых…
— Коля!
— Если я останусь в живых, я найду вас,— строго повторил он.— А если нет… Ты расскажешь ему о нас. О всех нас, кто остался тут под камнями.
— Он будет молиться на эти камни.
— Молиться не надо. Надо просто помнить.
Они вышли в темноте и благополучно добрались до развалин Белого дворца, хотя Мирре это было трудно. Она очень ослабела, отвыкла ходить, да и дорога была не для ее протеза. Местами Плужников нес ее на руках, и ему было не тяжело: таким исхудалым и легким было это родное, теплое тело. И там, в подвале, когда он уже разведал выход и показал ей, откуда он будет смотреть на нее в последний раз, он усадил ее на колени, укутал и не отпускал уже до конца. Здесь они в последний раз попрощались, и Мирра осторожно вышла из подвала.
Она была в ватнике, как многие женщины, так же, как они, повязана платком, и на нее действительно никто не обратил внимания. Все молча занимались делом, и она тоже начала работать.
— Ну, чего ты тут мучаешься? — ворчливо спросила какая-то женщина.— Нога, что ли, болит?
А вторая вздохнула горько:
— Господи, и хромушку взяли, изверги. Ты поменьше ходи. Поди вон кирпич складывай.
Кирпич складывали у дороги, и Мирре не хотелось уходить туда, потому что это было далеко от Плужникова. Но она не стала спорить, втайне радуясь, что женщины считают ее своей. Стараясь хромать как можно незаметнее, она отошла, куда велели, и стала укладывать целые кирпичи друг на друга.
Плужников видел, как она шла к дороге и укладывала там кирпичи. А потом поле зрения перекрыли другие женщины, он потерял Мирру, нашел снова и снова потерял и больше уже не мог определить, где она. Не мог, но все смотрел и смотрел, приходя в отчаяние, что больше не увидит ее, и не подозревая, что судьба на сей раз уберегла его от самого жестокого и самого страшного.
Вечерело, когда появились конвоиры. До этого Мирра видела их лишь в отдалении: они либо грелись у костра, либо жались к уцелевшим стенам. Сейчас они появились и забегали: здоровые, продрогшие от безделья.
— Становись! Быстрее, быстрее, бабы!
Старшими были немцы, но они не торопились уходить от костра, а колонну строили старательные охранники в серо-зеленых бушлатах, вооруженные винтовками с примкнутыми штыками. Они исполнительно суетились вокруг медленно строившихся женщин, отдавая команды на русском языке.
— Разберись по четыре!
Мирра старалась забраться в середину колонны, но женщины, выстраиваясь по четверкам, невольно выталкивали ее, и вскоре она оказалась на левом фланге. Мирра с отчаянием вновь полезла в толпу, а ей устало и ворчливо говорили, что она не из этой четверки, и снова отодвигали туда, где никаких четверок не было, а была она одна.
— Почему толкотня? — сердито закричал рослый конвоир: он и старался больше всех, и кричал чаще, чем остальные.— Разобраться по своим четверкам! Живо, бабы, живо!
— Мы разобрались,— сказал чей-то недовольный голос.— Да тут одна лишняя оказалась.
— Какая лишняя? Откуда лишняя? Не может быть лишних. Разберись получше!
— Да вот…
Сердце Мирры забилось стремительно и отчаянно. Конвоир шел вдоль строя, приближался к ней, и она заулыбалась ему из последних сил.
— Ты откуда взялась? — удивленно спросил конвоир, остановившись против нее.
— Из города. Не узнаете, что ли?
— Из города?
— Ну, пойдемте же, пойдемте! — с отчаянием выкрикнула Мирра, думая сейчас только о том, что Плужников все видит.— Пойдемте, разве на ходу нельзя выяснить?
— Правда, идти пора! — недовольно зашумели женщины.— Весь день на холоду! И чего к девчонке пристал: не убыль ведь, а прибыль!
— Прибыль?..— озадаченно повторил конвоир.— Прибыль, значит? А откуда ты взялась тут, прибыль?
Он вдруг схватил ее за ватник, рванул на себя: Мирра едва устояла на ногах.
— Подвальчиком пахнет? Подвальчиком?.. Господин обер-ефрейтор! Ах, зараза, ах, стерва, выползла на божий свет? Господин обер-ефрейтор!
— Пойдемте,— задыхаясь, бормотала Мирра, а он тряс сильной рукой за ватник, и голова ее беспомощно болталась из стороны в сторону.— Пойдемте. Прошу вас. Пожалуйста…
— Откуда взялась? Откуда?
Он вдруг оставил ее и шустро побежал навстречу пожилому неторопливому немцу, что шел к ним от головы колонны. И Мирра, постояв секунду, тут же пошла за ним, потому что строй прикрывал ее от Плужникова.
— Вот она, господин обер-ефрейтор. Вот она, лишняя. Из подвалов, видать, вылезла.
Мирра уже не слышала, о чем он еще говорил. Она видела только мелкое, незначительное лицо немолодого обер-ефрейтора, и это такое обычное усталое лицо было для нее пугающе знакомым. Она еще боялась признаться в этом самой себе, она еще верила во что-то, равное чуду, но чуда не было, а немец был. И не этот — с красным замерзшим носом,— а тот, трясущийся, перепуганный, дрожащими руками перебиравший фотографии собственных детей.
— Юде! — закричал немец, уткнув в нее худой, узловатый палец.— Юде! Бункер! Юде! Бункер!
— Ну, чего к девчонке привязались? — кричали женщины, а конвоиры бегали вдоль строя, угрожающе покачивая штыками.— Идти пора, застыли! Девчонку-то оставьте, наша она! Да нет, не наша! Наша… Не наша…
— Юде! Бункер! Юде! Бункер! — выкрикивал немец, пятясь, потому что Мирра шла прямо на него, уже ничего не видя и не слыша. Шла, движимая лишь одним желанием уйти подальше от той бойницы.
Кажется, женщин все-таки повели, а может быть, и не повели, а ей только показалось, потому что в ушах ее стоял звон, сквозь который прорывалось лишь два страшных слова: «Юде!», «Бункер!», «Юде!», «Бункер!». Сердце ее то сжималось, замирая в предчувствии чего-то страшного, то начинало бешено биться, и тогда ей не хватало воздуха. Она ловила его широко разинутым ртом и шла, шла, шла вперед, все дальше оттесняя немца.
И даже когда ее ударили — ударили прикладом, с размаху, со всей мужской злобой,— она не почувствовала боли. Она почувствовала толчок в спину, от которого странно дернулась голова и рот сразу наполнился чем-то густым и соленым. Но и после этого удара она продолжала идти, почему-то не решаясь выплюнуть кровь, и казалось, не было силы, способной остановить ее сейчас. А удары все сыпались и сыпались на ее плечи, она все ниже и ниже сгибалась под этими ударами, инстинктивно защищая живот, но думая уже не о том, кто жил в ней, а о том, кто навсегда оставался сзади, и из последних сил стремясь уберечь его. И когда ее все-таки свалили, она, уже теряя сознание, еще упорно ползла вперед, неудобно волоча закрепленную в протезе ногу.
Она еще ползла, когда ее дважды проткнули штыком, и эта двойная пронзительная боль была первой и последней болью, которую она почувствовала и приняла всем своим хрупким и таким еще теплым телом. Яркий свет полыхнул перед ее крепко зажмуренными глазами, и в этом беспощадном свете она увидела вдруг, что у нее уже никогда не будет ни маленького, ни мужа, ни самой жизни. Она хотела закричать, напрягаясь в последнем животном усилии, но вместо крика из горла хлынула густая и вязкая кровь.
Уже теряя сознание, уже плывя в липком и холодном предсмертном ужасе, она еще слышала удары, что сыпались на ее плечи, голову, спину. Но ее не били, а — еще живую, торопясь,— заваливали кирпичом в неглубокой воронке за оградой Белого дворца.
Низкие тучи, что столько дней висели над самой землей, лопнули, разошлись, в прогалину выглянуло бледное небо, и далекий отсвет давно закатившегося солнца нехотя высветлил кое-как выровненную дорогу, угол разбитого здания, кусок разрушенной ограды и наспех заваленную воронку. Высветлил и исчез, и небо вновь затянуло серыми, осенними тучами.
Часть пятая
1
Он опять потерял счет дням. Лежал в черном, как небытие, мраке, слушал, как крысы грызут остатки сухарей, и не было сил ни на то, чтобы встать и перепрятать эти сухари, ни на то, чтобы вспомнить, какое сегодня число. Он не знал, сколько дней провалялся без пищи и воды, забравшись под все шинели, ватники и бушлаты. Когда вернулось сознание, с трудом дополз до воды, пил, впадал в странное забытье, приходил в себя и снова пил. А потом добрался до стола, нашел сахар и сухари, что еще не успели сожрать крысы, горстями ел этот сахар и грыз сухари, хотя есть совсем не хотелось. Ел, насилуя себя, потому что болезнь отступила и теперь надо было подниматься на ноги.
Он потерял счет дням и поэтому не удивился, когда увидел снег. Стояла глубокая ночь, в черном небе горели звезды, а крепость была белой. Он сидел у своей дыры, кутаясь в бушлат, жадно дышал чистым морозным воздухом и тихо радовался, что жив.
Вернулся почти здоровым, только шатало от слабости. Вскипятил на толовых шашках целый котелок воды, вывернул туда банку тушенки, впервые с аппетитом поел и завалился под все свои бушлаты. Теперь он опять верил в свои силы, опять вел счет дням и ночам и только никак не мог сообразить, какое сегодня число.
Весь следующий день он чистил оружие и набивал диски. Он давно не обходил своего участка, давно не охотился за патрулями и готовился к вылазке, испытывая нетерпеливый и радостный азарт. Он был жив и по-прежнему ощущал себя хозяином притихшей под снегом Брестской крепости.
Но, кроме этой основной задачи, существовала задача более узкая и более личная. Он думал о ней, словно втайне от самого себя, словно в нарушение отданного торжественного приказа, будто кто-то здесь мог проверить, как он исполняет этот приказ. Но он жил так, будто высокий поверяющий постоянно находился рядом, постоянно контролировал его и проверял, и поэтому то, что он задумал, он задумал как бы в обход этого инспектора, задумал самовольно и уходил исполнять это тайное желание словно в самоволку от самого себя.
Он вдруг решил найти, обязательно, непременно найти свой собственный пистолет. Не оружие вообще, а именно тот, номер которого был записан в его удостоверении. Свое первое личное оружие, полученное перед строем в день окончания училища и потерянное в первой рукопашной. Сейчас он особенно хорошо помнил эту первую рукопашную, потому что тот страшный немец с выбитой нижней челюстью являлся к нему в бреду, снова тянул его за ногу, снова улыбался мертвым оскалом, а Сальников все не приходил и не приходил, и в бреду ему казалось, что он не придет уже никогда и никогда не избавит его от этого кошмара. И, просыпаясь в холодном поту, он особенно старательно вспоминал именно первый день: встречу с Сальниковым и Денищиком, первую атаку и первый бой. И то, как постыдно потерял он выданный лично ему пистолет.
Он добрался до костела без приключений, но, привычно оглянувшись перед тем как исчезнуть в его пустоте, был неприятно поражен открытием, грозившим самыми тяжелыми последствиями. Хотя снега выпало мало и он старался идти по кирпичам, за ним все-таки тянулся след, и уничтожить этот след он уже не мог. Уничтожить этот след мог только снегопад, но небо, как назло, было чистым. Теперь он уже не радовался, что забрался в костел, но возвращаться было еще опаснее: след оставался следом. Поколебавшись, он решил все же передневать в костеле и пробраться в свой каземат уже в темноте, надеясь, что — может быть! — к утру выпадет снег и прикроет все натоптанные им дорожки.
Свежий запах зимы хорошо выветрил все закоулки: он не чувствовал уже того смрада, что когда-то спас его, задержав немцев у входа. Правда, тогда ему дотемна пришлось сидеть наверху, в оконной нише: уже давно закончился парад, гости удалились, а солдат увели. Он пробирался по карнизу в полной тьме, чудом не сорвался, но все сошло благополучно. Тогда сошло, но теперь веселый, радостный снег был союзником его врагов.
Он все время думал об этом, с тревогой прислушиваясь к звонкой утренней тишине. В морозном воздухе звуки стали чище: до него доносились и шум машин, и свежие скрипы снега, и голоса немецких солдат, которые кидались снежками у Трехарочных ворот. Поначалу все это настораживало его, но время шло, и он постепенно все больше и больше приглядывался к тому, что хранил костел для него одного. И чем больше он приглядывался, тем все неумолимее, все плотнее обступали его тени тех, кого уже не было, кто оставался только в его воспоминаниях.
Он сразу нашел окно, через которое в первый раз прыгал в костел. Именно это: то, второе, он даже не искал. Но это окно своей первой атаки он выбрал сам, сам струсил перед ним, и пограничнику пришлось заплатить жизнью за эту трусость. Такое не забывается: он не был трусом и поэтому помнил все. Даже загустевшую кровь, которая била в него, когда предназначенные ему пули попадали в уже мертвого пограничника.
Но это было потом. Потом, а тогда он ввалился в задымленный костел, кого-то бил, в кого-то стрелял, и где-то здесь его схватил за ногу тот страшный немец с раздробленной челюстью. А до этого он потерял пистолет… До этого или после? Нет, до: его ударили прикладом, он отлетел в сторону, а когда очухался, пистолета уже не было. Значит, все случилось где-то здесь, на этих квадратных метрах пола, заваленного сейчас штукатуркой, битым кирпичом и позеленевшими стреляными гильзами.
Он бродил по костелу, ногой ворочая кирпичи. Пустые рожки автоматов, обрывки пулеметных лент, раздавленные фляги, винтовки с разбитыми ложами и расщепленными прикладами, ржавые диски от ручных пулеметов — мусор войны лежал перед ним. Он трогал этот хлам, весь наполненный голосами, уже отзвучавшими навеки, голосами, которые он бережно хранил в себе. А он и не знал, что хранит их, что они все еще звучат в нем. Он думал, что он один, в немом одиночестве, но немота прорвалась, и одиночество отступило, и он понял вдруг, что прошлое — его собственность, его достояние и его гордость. И что одиночества нет, потому что есть оно, это прошлое. Самая горькая и самая звонкая доля его жизни.
— Смерти нет,— вслух сказал он.— И все-таки смерти нет, ребята.
Негромкий голос его странно прозвучал в пустом костеле. Проплыл по холодному воздуху, мягко оттолкнулся от стен, взмыл к разбитому куполу. Он замер, прислушиваясь, словно провожая этот звук собственного голоса, и тут же уловил какой-то шум, что чуть доносился снаружи. Еще не поняв его, еще не оценив, он метнулся к оконной нише, вжался в нее и осторожно выглянул. И в тот же миг прошлое перестало существовать: немцы тихо оцепляли костел.
Они еще не замкнули кольцо и — может быть, нарочно, а может, второпях — оставили ему единственную щель: через пустырь к развалинам Белого дворца. Темная фигура на снегу среди ясного дня: шансов выскочить почти не было. Но он и не взвешивал шансы, он хотел жить, а если и умереть, то — свободным. И выпрыгнул из окна.
Он бежал, не оглядываясь, не пригибаясь: ему нельзя было терять мгновений. Где-то на полпути услыхал крики и выстрелы, но не упал, а бежал и бежал, и пули вспарывали снег у его ног. Он влетел в развалины и, не задерживаясь, бежал все дальше, все глубже, натыкаясь на стены, потому что ничего не видел после яркого снега. Бежал, пока хватало сил, и упал вдруг, сразу, потому что сил этих больше в нем не было, и не было воздуха, и ничего не было, кроме бешено стучавшего сердца.
Но отдышаться не пришлось. Где-то гулко зазвучали голоса, затопали сапоги — еще далеко, но уже в подвалах, под сводами. Он с трудом поднялся и, шатаясь, побежал во тьму и глубину, не думая куда, а желая лишь уйти от этих голосов и этого топота.
Он не знал этих подземелий. Он отложил их исследование, а потом заболел и с той поры, как проводил Мирру, не был здесь ни разу. И бежал сейчас вслепую, натыкаясь на тупики и завалы и все время слыша за собой топот преследователей.
Видно, немцы совсем не боялись его, уверены были, что он один, и спокойно прочесывали подвалы.
За очередным поворотом он разглядел пролом и бросился к нему. Надо было уходить отсюда, надо было во что бы то ни стало прорываться в развалины кольцевых казарм, потому что казармы немцы оцепить не могли. Но тот, свой, знакомый ему участок казарм был уже отрезан, и, выскочив из пролома, он побежал в противоположную сторону, в дальний юго-восточный район цитадели.
Видно, немцы не ожидали, что он рискнет еще раз бежать по открытому месту: он успел миновать почти весь двор, прежде чем в спину ударили выстрелы. И опять он не падал, не петлял, а бежал по прямой, не пригибаясь, словно нарочно искал смерти. И опять смерть пощадила его: немцы вдруг перестали стрелять, закричали, и тогда он увидел, что вдоль казарм наперерез бегут люди. Бегут, не стреляя, надеясь взять живым.
Все-таки он первым достиг широкого пролома и скрылся в нем. Первым потому, что спасал свою жизнь и свободу и, спасая их, выиграл эту минуту. Минуту, которой хватило, чтобы оглядеться и понять, что дальнейшее бегство бессмысленно. Он метнулся к пролому, вскинул автомат и несколько раз коротко нажал спуск. Ствол плясал в обессиленных руках, он, конечно, ни в кого не попал, но немцы сразу рассыпались и залегли. Он выждал, когда они откроют ответный огонь, дал несколько очередей и, сунув опустевший автомат к стене, под кирпичи, бросился в соседнее помещение.
Это была конюшня: ни гарь, ни мороз не отбили стойкого лошадиного запаха. Большая куча сухого навоза лежала в углу, у стены, и он, не раздумывая, стал зарываться в нее, лихорадочно разгребая верхний, смерзшийся слой. Снаружи еще стучали выстрелы, а он, как крот, рыл и рыл, все глубже уходя в кучу. И замер только тогда, когда услышал голоса и шаги в соседнем помещении.
Они долго искали его, обшаривая ближние отсеки: голоса то удалялись, то начинали звучать совсем рядом. Он не шевелился, придерживая дыхание, хотя это было сейчас самым трудным: натруженное сердце никак не могло успокоиться. Лежал, весь в поту от слабости и страха, потому что любая шальная очередь по куче означала для него гибель. Даже случайное любопытство могло обнаружить его, но немцам пока не приходило в голову, что он никуда отсюда не ушел.
Не приходило, но пришло, когда все их поиски ни к чему не привели. Он слышал, что они собрались здесь, рядом, о чем-то громко переговариваясь между собой. Он услышал шаги над самой головой, всем телом вжался в кучу, и кто-то тяжелый медленно и увесисто прошелся по его спине. Потом он уловил странный, похожий на шипенье звук, не понял и тут же почувствовал боль: острие штыка прошло вдоль бока, срывая с ребер кожу. Почувствовал и похолодел: немцы сейчас выдернут этот штык, увидят кровь, и все кончится. Но штык взмыл вверх, снова вонзился в кучу в сантиметре от его плеча, снова взмыл и снова вонзился, и тяжесть, что стояла на его спине, вдруг отступила, он услышал грузные шаги и понял, что немец, коловший его штыком, сошел на пол конюшни.
Даже когда затихли шаги и смолкли голоса, он не позволил себе шевелиться. Саднила рана на боку, он чувствовал, что из нее сочится кровь, что постепенно немеют, становятся чужими затекшие руки и ноги, и все-таки не шевелился. Верил, боялся верить и верил снова, что спасен, что еще раз выскочил, но рисковать не хотел и, теряя сознание, терпел эту немоту, что постепенно завладевала телом. Терпел, минутами проваливаясь в небытие, воскресая из него и вновь проваливаясь. Он настолько одеревенел, что не чувствовал, сочится ли еще кровь или уже свернулась, временами думал, что может застыть и уже никогда не вылезет из этой кучи, но не вылезал, пока не стемнело.
Он с трудом выбрался наружу. Долго колотил руками, чтобы вернуть им тепло и гибкость, растирал ноги. Кровь из раны больше не шла, рубашка присохла, и он не стал разглядывать, что там: перевязывать было некому и нечем. Встал, сделал несколько шагов и поспешно сел: ноги не слушались, а в одеревеневших мышцах началась такая боль, что он грыз рукав, чтобы не закричать. А надо было идти, надо было добираться до своего каземата, залезть в него и сидеть, пока не пойдет снег.
Он заставил себя встать, хотя ноги по-прежнему не слушались его, а боль хоть и притихла, но вся не прошла. Шатаясь, добрел до выхода, нашел за кирпичами свой автомат и, не выходя, сменил диск. Он не всегда брал с собой запасные диски, но сегодня взял и снова был с оружием. Он даже вытряхнул из первого диска патроны — всего-то восемь штук — и сунул их в карман, а диск положил за кирпичи, где прятал автомат.
Его счастье, что на штыке не было крови. Либо она еще не успела запачкать лезвие, либо лезвие это само очистилось от крови, пока его вытаскивали. Как бы там ни было, а ему здорово повезло, и поэтому он улыбался, хотя каждый шаг стоил сейчас мучительных усилий.
Но он шел домой, и только это давало ему силы. Шел к себе домой, где была еда и вода, толовые шашки и теплые бушлаты и где до сих пор все так напоминало о Мирре.
Он не переставал думать о ней, даже когда валялся в бреду. В последний раз он видел ее у дороги: она клала кирпичи. Потом он потерял ее, но знал, что она — там, среди женщин, которые приняли ее как свою. Он видел, как их почему-то долго строили, пытался и в строю разглядеть Мирру, но было уже темно, фигуры женщин расплывались в сумерках, и он никак не мог угадать, где она стоит, но думал, что догадалась влезть в середину. А потом колонну увели, двор опустел; он выждал немного и тоже отправился к себе. И всю дорогу печаль и радость боролись в нем, но радость, что Мирре удалось выскользнуть из крепости, все-таки побеждала. Он и сейчас еще радовался этому, потому что больше никаких радостей у него не было: только те, что уже прошли.
Он вдруг остановился, ничего не понимая: он не узнавал местности. Не узнавал своего участка крепости, где, как ему казалось, знал каждый камень. Но этих камней он не знал: перед ним лежали чистые, не запорошенные снегом кирпичи. Лежали в беспорядке, широко разбросанные взрывом.
А дыры, что вела в каземат, не было. Не было ни дыры, ни каземата, ни оружия, ни еды: все было погребено под вывороченными кирпичами. Вся, вся его прошлая жизнь и все надежды на будущую.
Снег предал не только его, но и его убежище: немцы нашли дыру. Нашли и взорвали, а он даже не слышал этого взрыва. И всего-то осталось у него: автомат с полным диском, восемь патронов в кармане, бушлат на плечах да два сухаря в этом бушлате. И больше ничего, и колени его вдруг ослабели, и он грузно осел на кирпичи. И долго сидел так, не шевелясь, думая, что же еще у него осталось.
А еще у него осталось яростное желание выжить, мертвая крепость и ненависть. И поэтому он встал и пошел назад, в подвалы кольцевых казарм.
2
Ночь он передремал на холодном полу глухого отсека. Мерз, ходил, снова садился и снова дремал, пока озноб не поднимал его на ноги. Надо было искать убежище, еду, оружие, одежду. Он надеялся что-нибудь найти и, едва рассвело, поднялся и пошел по незнакомым ему подвалам.
Теперь он подбирал все то, на что прежде не обращал внимания: манерку с остатками ружейного масла, старый ватник с обгоревшим рукавом, патроны. Он подбирал все патроны, какие попадались: наши и немецкие. Тщательно протирал, прятал в разные карманы — калибр к калибру — и считал. Теперь патроны шли на счет и он заранее поставил автомат на одиночную стрельбу.
Одна находка обрадовала его, как когда-то сухари,— впрочем, сухари обрадовали бы его сейчас не меньше. Он разыскал тульскую самозарядку СВТ с полным магазином. Он разобрал ее, смазал, собрал снова, пощелкал затвором. Боек бил, как у новой, только он не был убежден, сработает ли полуавтоматика: самозарядка долго валялась под кирпичами, а нрав у нее был капризным — он знал это по училищу. Но это можно было проверить только в бою: он заново набил магазин и дослал патрон. И ради такого праздника съел последний сухарь: первый он изгрыз еще ночью.
Он возился с винтовкой в незнакомом подвале: в узкий пролом проникал свет хмурого зимнего дня. А когда дожевал последнюю крошку сухаря, услыхал голоса. Далекие, чужие и непонятные. Подошел к пролому, выглянул: невдалеке стояли трое. Один особо выделялся и ростом и сложением.
Ему почему-то показалось, что он знает этого рослого парня в серо-зеленом бушлате. Нет, он понимал, что не знает его и не может знать: просто он вдруг ощутил давящую тяжесть на плечах, ту тяжесть, что чувствовал вчера, когда лежал в куче сухого навоза. И винтовка у рослого была непомерно длинной, с примкнутым четырехгранным штыком.
При взгляде на этот сизый холодный штык он вновь ощутил рану на боку: тупо заныло надломленное ребро. Так вот почему на штыке не оказалось крови: он нанес ему колотую рану, а та капелька, что повисла на его острие, впиталась в бушлат. И все вчерашнее счастье заключалось, оказывается, в том, что кололи его не немецким, кинжальным, а своим, родным, четырехгранным, и свой штык не удержал его крови, не выдал, не донес о нем немцам. Штык ни в чем не был виноват перед ним: виноваты были руки, что повернули этот штык против него.
Он поднял самозарядку: хорошо, что он нашел ее именно сегодня, вот она и пригодилась. Если не подведет: все-таки она очень капризна, эта СВТ. Он прищурил глаз, ловя на мушку рослого, что стоял к нему спиной. Прищурил, и фигура вдруг расплылась в пятно, теряя очертания. Он протер глаза, прицелился снова, и снова рослый утратил резкость. С ним никогда не случалось такого, зрение его всегда было отличным, и все же он сразу все понял: он терял зрение, и больше всего терял как раз в правом глазу.
Он не позволил себе расстраиваться. Он просто открыл второй глаз и стал целиться, корректируя мушку обоими глазами. Это было непривычно, но все же он подвел ствол туда, куда хотел, и плавно надавил спуск. И одновременно с грохотом выстрела увидел, как рослого швырнуло вперед, как, вскинув руки, он падает на кирпичи. Он еще раз нажал на спусковой крючок, но автоматика отказала, и второго выстрела не последовало. А перезаряжать было некогда: надо было уходить. Он плохо знал эти подвалы.
Он шел быстро, но часто останавливался, приглядываясь к отсекам и переходам. Где-то сзади слышались голоса, ударило несколько очередей. Немцы преследовали его, но в подвалах он надеялся уйти, если сам не заскочит в тупик, в глухой, не имеющий другого выхода отсек. Тогда придется принимать бой, и бой этот будет его последним боем. Один раз он уже вскочил в такой каземат, но вовремя успел сообразить и убраться оттуда и теперь предпочитал не спешить. Тем более, что немцы продвигались по подвалам медленно, стараясь либо высветить, либо обстрелять все темные ниши и норы.
И все-таки надо было искать место, где можно было бы отлежаться: уходить бесконечно он не мог, и в конце концов немцы где-нибудь зажали бы его. И он искал такое место, особенно старательно ощупывая стены в темных переходах. Искал какой-либо лаз, дыру, пролом, сквозь которые можно было бы выбраться назад, или, отлежавшись, пропустить немцев и уйти в те отсеки, которые они уже проверили, осветили и простреляли.
Дыру, которую он нашел только потому, что искал, обнаружить было трудно. Она была расположена вровень с полом сразу за уступом подвальной стены в переходе настолько коротком, что никому бы не пришло в голову, что здесь может быть еще какой-то выход. Лаз был узким, шел горизонтально, но заворачивал под прямым углом в метре от прохода: ему пришлось лечь на бок, чтобы вползти куда-то, где было темно как в могиле и как в могиле тихо. Он не знал размеров отсека, куда заполз, но сразу же повернулся лицом к дыре и выставил автомат. Это была удобная нора: он оценил ее, еще ничего не проверив, только по хитро прорытому ходу. Здесь почти не слышались немецкие голоса, и песок, на котором он сейчас лежал, был мягким и даже теплым, и все это было ему на руку, все пока было удачей.
Топот сапог ударами отдавался в песке, и он всем телом ощущал эти удары. Вот сейчас передовые подходят к темному переходу: из-за толщи песка глухо донеслась очередь. Стрельнули и сейчас должны бежать дальше, в соседний отсек. Пробежали. Пробежали, не задерживаясь в коротком переходе.
Топот немецких сапог замирал в его теле: удары ощущались все слабее, все отдаленнее. Он облегченно вздохнул и поставил автомат на предохранитель.
— Пронесло гадов?
Он резко повернулся: голос звучал из темноты. Хриплый, задыхающийся. Сердце его забилось в бешеном ритме:
— Кто?
— А ты-то кто?
— Свой!
— Ну, а я еще больше свой. Сколько вас?
— Один.
— Последний?
— Не считал. Да где ты тут?
— Обожди, свет зажгу. Свечей мало осталось, берегу, но ради такого случая…
Чиркнула спичка, вырвав из мрака худую, длиннопалую руку, клок черной, с густой проседью, бороды. Рука поднесла спичку к стоявшему на ящике огарку, и, когда разгорелся огонь, он увидел живой скелет в ватнике, туго затянутом ремнем. Увидел отросшие до плеч полуседые волосы, лихорадочно блестевшие глаза и руку, которая тянулась к нему. И бросился к этой руке.
— Погоди, браток. Погоди, не тискай. И ноги у меня болят, и целоваться мы разучились. Дай руку свою, родной ты мой землячок, советский ты мой солдат. Руку дай. Вот так. И замри, а я погляжу на тебя. Что, не взяли нас гады, а? Ни автоматами, ни толом, ни огнеметами. Не взяли, не взяли!..
Худой, обессиленный человек хрипло, торжествующе смеялся, а слезы текли по бороде. Смеялся, дрожал и все говорил и говорил:
— Ты прости, браток, прости, родной, что слезу пускаю. Я право такое имею. Я три недели человека не видел, голоса не слышал, сам с собой уж разговаривать начал. Да и ослаб маленько, это есть, это, как говорится, при мне. Так что наговорюсь сперва, нагляжусь на тебя, а потом знакомиться начнем. Но сперва нагляжусь. Как же ты уцелел, братишка ты мой родной, какие муки вынес, как стерпел-то все?
— Стерпел,— сказал он, жалея, что не может заплакать от счастья, как плакал этот седобородый.— Значит, один ты?
— Поначалу много было. Нору эту нашли, ход прорыли. Потом — четверо. А три недели назад последний не вернулся. Вот с той поры и лежу тут. Ноги у меня отнялись, понимаешь? На коленях-то еще ползаю кое-как, а ходить не могу. Отходился.
— Кто будешь?
— Думал об этом. Думал, кто я теперь есть. Как назваться, если немцы найдут, а застрелиться не успею. И думал так сказать: русский солдат я. Русский солдат мне звание, русский солдат мне фамилия. Считаешь, правильно надумал?
— Для немцев — правильно. А я-то свой, лейтенант Плужников.
— Какого полка?
— В списках не значился,— усмехнулся Плужников.— Что, моя очередь рассказывать?
— Выходит, твоя.
Плужников рассказал о себе — без подробностей и без утайки. Раненый, так и не пожелавший пока представиться, слушал не перебивая, по-прежнему держа его за руку. И по тому, как слабело пожатие, Плужников чувствовал, что сил у его нового товарища осталось совсем немного.
— Теперь можно и познакомиться,— сказал раненый, когда Плужников закончил рассказ.— Старшина Семишный. Из Могилева.
Семишный был ранен давно: пуля задела позвоночник, и ноги постепенно отмирали. Он уже не мог шевелить ими, но еще кое-как ползал. И если начинал стонать, то только во сне, а так терпел и даже улыбался. Товарищи его уходили и не возвращались, а он жил и упорно, с неистовым ожесточением цеплялся за эту жизнь. У него было немного еды, патроны, а вода кончилась три дня назад. Плужников ночью притащил два ведра снега.
— Ты зарядку делай, лейтенант,— сказал Семишный на следующее утро.— Нам с тобой распускать себя не годится: одни остались, без санчасти.
Сам он делал зарядку три раза в день. Сидя, гнулся, разводил руки, пока не начинал задыхаться.
— Да, похоже, что одни мы с тобой,— вздохнул Плужников.— Знаешь, если бы каждый сам себе приказ отдал и выполнил бы его — война бы еще летом кончилась. Здесь, у границы.
— Считаешь, мы одни с тобой такие красивые? — усмехнулся старшина.— Нет, браток, не верю я в это. Не верю, не могу поверить. Сколько верст до Москвы, знаешь? Тыща. И на каждой версте такие же, как мы с тобой лежат. Не лучше и не хуже. И насчет приказа ошибаешься, браток. Не свой приказ выполнять надо, а — присягу. А что есть присяга? Присяга есть клятва на знамени.— Он вдруг посуровел и кончил жестко, почти зло: — Перекусил? Вот и ступай присягу исполнять. Убьешь немца — возвращайся. За каждого гада два дня отпуска даю: такой у меня закон.
Плужников начал собираться. Старшина следил за ним, и глаза его странно блестели в робком пламени свечи.
— Что ж не спрашиваешь, почему тобой командую?
— А ты — начальник гарнизона,— усмехнулся Плужников.
— Право я такое имею,— тихо и очень веско сказал Семишный.— Имею право на смерть вас посылать. Ступай.
И задул свечу.
В этот раз он не выполнил приказа старшины: немцы ходили далеко, а стрелять просто так, не наверняка он не хотел. Он явно стал хуже видеть и, беря на прицел далекие фигуры, понимал, что попасть в них уже не сможет. Оставалось надеяться на случайное столкновение лоб в лоб.
Однако на этом отрезке кольцевых казарм ему так и не удалось никого встретить. Немцы держались в другом районе, а за ними смутно виднелось множество каких-то темных фигур. Он подумал, что это женщины, те самые, с которыми Мирра вышла из крепости, и решил подобраться поближе. Может быть, удалось бы кого-нибудь окликнуть, с кем-нибудь поговорить, узнать о Мирре и передать ей, что он — жив и здоров.
Он перебежал в соседние развалины, выбрался на противоположную сторону, но дальше лежало открытое пространство, и днем по снегу он не рискнул пересекать его. Он хотел уже возвращаться, но увидел заваленную обломками лестницу, ведущую вниз, в подвалы, и решил спуститься туда. Все-таки за ним от кольцевых казарм до этих развалин тянулся след, и на всякий случай надо было позаботиться о возможном укрытии.
Он с трудом пробрался по загроможденной кирпичами лестнице, с трудом протиснулся вниз, в подземный коридор. Пол здесь тоже был сплошь усеян кирпичами с рухнувшего свода, идти приходилось согнувшись. Вскоре он вообще уперся в завал и повернул обратно, торопясь выбраться, пока немцы не засекли его след. Было почти темно, он пробирался, ощупывая рукой стену, и вдруг ощутил пустоту: вправо вел ход. Он пролез в него, сделал несколько шагов, завернул за угол и увидел сухой каземат: сверху в узкую щель проникал свет. Он огляделся: каземат был пуст, только у стены прямо против бойницы на шинели лежал иссохший труп в изорванном и грязном обмундировании.
Он присел на корточки, вглядываясь в останки, некогда бывшие человеком. На черепе еще сохранились волосы, густая черная борода покоилась на полуистлевшей гимнастерке. Сквозь разорванный ворот он увидел тряпье, туго намотанное на груди, и понял, что солдат умер здесь от ран, умер, глядя на клочок серого неба в узкой прорези бойницы. Стараясь не прикасаться, он пошарил вокруг в поисках оружия или патронов, но ничего не нашел. Видно, человек этот умер тогда, когда наверху еще были те, кому нужны были его патроны.
Он хотел было встать и уйти, но под скелетом лежала шинель. Вполне еще годная шинель, которая могла сослужить службу живым: старшина Семишный мерз в норе да и самому Плужникову было холодно спать под одним бушлатом. С минуту он еще поколебался, не решаясь тронуть останки, но шинель оставалась шинелью, и мертвому была не нужна.
— Прости, браток.
Он взялся за полу, приподнял шинель и мягко вытащил ее из-под останков солдата.
Он встряхнул шинель, пытаясь выбить въевшийся трупный запах, растянул ее на руках и увидел рыжее пятно давно засохшей крови. Хотел сложить шинель, снова посмотрел на рыжее пятно, опустил руки и медленно обвел глазами каземат. Он вдруг узнал и его, и шинель, и труп в углу, и остатки черной бороды. И сказал дрогнувшим голосом:
— Здравствуй, Володька.
Постоял, аккуратно прикрыл шинелью то, что осталось от Володьки Денищика, придавил края кирпичами и вышел из каземата.
— Мертвым не холодно,— сказал Семишный, когда Плужников рассказал ему о находке.— Мертвым не холодно, лейтенант.
Сам он мерз под всеми шинелями и бушлатами, и непонятно было, порицает он Плужникова или одобряет. Он относился к смерти спокойно и о себе говорил, что не мерзнет, а — умирает.
— Смерть меня по кускам берет, Коля. Холодная она штука, шинелью ее не согреешь.
С каждым днем у него все больше мертвели ноги. Он уже не мог ползать, с трудом сидел, но зарядки свои продолжал упорно и фанатично. Он не желал сдаваться, с боем отдавая смерти каждый миллиметр своего тела.
— Стонать начну — разбуди. Не буду просыпаться — пристрели.
— Ты что это, старшина?
— А то, что я даже мертвым к немцам попасть права не имею. Слишком много радости им будет.
— Этой радости им хватает,— вздохнул Плужников.
— Этой радости они не видели! — Семишный вдруг рванул лейтенанта к себе.— Святого не отдавай. Сдохни, а не отдавай.
— Ничего не понимаю. Чего — святого?
— Придет время — скажу. А до времени слушай меня, как бога. Не своим именем говорю это, верь. Отдохнул? Автомат в руки и — наверх. Наверх, лейтенант! Чтоб знали: крепость жива. Чтоб и мертвых боялись. Чтобы детям, внукам и правнукам своим заказали в Россию соваться!
Плужников подозревал, что старшина балансирует на грани безумия. Вспышки яростного ожесточения все чаще овладевали им, и тогда он беспощадно гнал лейтенанта наружу. Плужников не спорил: в нем давно уже ничего не было, кроме ненависти, но ненависть эта в отличие от ненависти Семишного была холодной и расчетливой.
В первый день нового, 1942 года ему особенно повезло. То ли немцы с новогоднего похмелья утратили осторожность, то ли прибыли новые, не приученные еще остерегаться черных бездонных дыр мертвой крепости, а только он уложил двоих, уложил наповал, из хорошего убежища. Долго бегал по подвалам, уходя от погони, и ушел, потому что мела вьюга, и следы его не взяла бы и самая опытная собака.
Он увел погоню подальше от норы: почти к Холмским воротам. Тут немцы окончательно потеряли след, покричали, побегали, постреляли и ушли ни с чем. А он до вечера отлежался в глухой нише и пошел к себе: доложить старшине, что еще двоих можно списать на тот свет.
Он очень хотел обрадовать старшину, потому что тот сильно сдал за последние дни. Часто впадал в забытье, кричал криком от непереносимой боли, а придя в себя, дрожал в смертном ознобе, и пот каплями застывал на лбу. И только неистовая воля удерживала еще остатки жизни в уже омертвевшем теле.
— Видно, не дожить мне,— с глубокой тоской сказал он, придя в себя после очередного приступа.— Видно, тебе придется.
— Что придется?
— Помирать буду — скажу. Что, война кончилась?
— Не похоже.
— А чего сидишь? Патроны есть?
— Есть,— сказал Плужников, уходя в это метельное новогоднее утро.
А сейчас был вечер, и он спешил обрадовать умирающего. Но еще на переходе, еще не добравшись до лаза, услышал глухие стоны. Видно, кричал Семишный во весь голос, и даже толщи песка не могли заглушить его криков.
Плужников, торопясь, нырнул в лаз, в кромешной тьме нашарил последний огарок свечи, зажег. Он не окликал Семишного, понимая, что это — конец, что опять уходит из его жизни близкий и дорогой человек. Достал тряпку, вытер со лба старшины пот и застыл подле. Ему уже было все равно, услышат немцы эти крики или не услышат. Он устал провожать людей, устал сражаться и устал жить.
Семишный замолчал сам. Замолчал вдруг, оборвав крик, и Плужников подумал, что это — конец. Но старшина открыл глаза:
— Я кричал?
— Кричал.
— Почему не разбудил? — Плужников промолчал, и Семишный вздохнул.— Понятно. Себя жалел? А имеешь ты право себя жалеть? Кто мы такие, чтобы себя жалеть, когда по матери нашей чужие сапоги…
Семишный говорил с трудом, задыхаясь, уже неясно выговаривая слова. Смерть докатилась до горла, руки уже не двигались, и жили только глаза.
— Мы честно выполняли долг свой, себя не щадя. И до конца так, до конца. Не позволяй убивать себя раньше, чем умрешь. Только так. Только так, солдат. Смертию смерть поправ. Только так.
— Сил нету, Семишный,— тихо сказал Плужников.— Сил больше нету.
— Сил нету? Сейчас будут. Сейчас дам тебе силы. Расстегни меня. Грудь расстегни. Ватник, гимнастерку — все. Расстегнул? Сунь руку. Ну? Чуешь силу? Чуешь?
Плужников расстегнул ватник и гимнастерку, неуверенно, ничего не понимая, сунул руку за пазуху старшины. И ощутил грубыми обмороженными пальцами холодный, скользкий, тяжелый на ощупь шелк знамени.
— С первого дня на себе ношу.— Голос старшины дрогнул, но он сдержал душившие его рыдания.— Знамя полка на мне, лейтенант. Его именем приказывал тебе. Его именем сам жил, смерть гнал до последнего. Теперь твой черед. Умри, но немцам не отдавай. Не твоя это честь и не моя — родины нашей это честь. Не запятнай, лейтенант.
— Не запятнаю.
— Повторяй: клянусь…
— Клянусь,— сказал Плужников.
— …никогда, ни живым, ни мертвым…
— Ни живым, ни мертвым…
— …не отдавать врагу боевого знамени…
— Боевого знамени…
— …моей родины Союза Советских Социалистических Республик.
— Моей родины Союза Советских Социалистических Республик,— повторил Плужников и, став на колени, поцеловал шелк на холодной груди старшины.
— Когда помру, на себя наденешь,— сказал Семишный.— А раньше не трожь. С ним жил, с ним и помереть хочу.
Они помолчали, и молчание это было торжественным и печальным. Потом Плужников сказал:
— Двоих я сегодня убил. Метель на дворе, удобно.
— Не сдали мы крепость,— тихо сказал старшина.— Не сдали.
— Не сдали,— подтвердил Плужников.— И не сдам.
Через час старшина Семишный умер. Умер, не сказав больше ни единого слова, и Плужников еще долго сидел рядом, думая, что он жив, а он уже был мертвым.
Он снял со старшины знамя, разделся до пояса и обмотал знамя вокруг себя. Холодный шелк вскоре согрелся, и он все время чувствовал его особую, волнующую теплоту. Все время — и когда хоронил Семишного, и потом, когда лежал на его постели, укрывшись всеми бушлатами.
Он лежал и спокойно думал, что ничего уже не боится — ни немцев, ни смерти, ни холода. Он уже не ощущал своего «я», он ощущал нечто большее: свою личность. Свою личность, ставшую звеном между прошлым и будущим его родины, частица которой грела его грудь благородным шелком знамени. И спокойно сознавал, что никому и никогда не будет важно, как именно звали эту личность, где и как она жила, кого любила и как погибала. Важным было одно: важным было, чтобы звено, связывающее прошлое и будущее в единую цепь времени, было прочным. И твердо знал, что звено это — прочно и вечно.
А поверху мела метель. Белым ковром укрывала землянки и тропы, заносила притихшие деревни и пепелища, металась по пустым улицам обезлюдевших городов.
Но уже горели партизанские костры, и на их свет, укрываясь метелью, пробирались те, кто не считал себя побежденным, как не считал себя побежденным он. И немцы жались к домам и дорогам, страшась темноты, метели и этого непонятного народа.
Еще не было Хатыни и еще не погиб в Белоруссии каждый четвертый. Но этот каждый четвертый уже стрелял. Стрелял, и эта земля становилась для фашистской армии адом. И преддверием этого ада была Брестская крепость.
Метель мела от Бреста до Москвы. Мела, заметая немецкие трупы и подбитую технику. И другие лейтенанты поднимали в атаку роты и, ломая врага, вели их на запад. К нему, к непокоренному сыну непокоренной Родины…
3
Ранним апрельским утром бывший скрипач и бывший человек Рувим Свицкий, низко склонив голову, быстро шел по грязной, разъезженной колесами и гусеницами обочине дороги. Навстречу сплошным потоком двигались немецкие машины, и веселое солнце играло в ветровых стеклах.
Но Свицкий не видел этого солнца. Он не смел поднять глаз, потому что на спине и груди его тускло желтела [большая] шестиконечная звезда: знак, что любой встречный может ударить его, обругать, а то и пристрелить на краю переполненного водой кювета. Звезда эта горела на нем, как проклятье, давила, как смертная тяжесть, и глаза скрипача давно потухли, несуразно длинные руки покорно висели по швам, а сутулая спина ссутулилась еще больше, каждую секунду ожидая удара, тычка или пули.
Теперь он жил в гетто вместе с тысячами других евреев и уже не играл на скрипке, а пилил дрова в лагере для военнопленных. Тонкие пальцы его огрубели, руки стали дрожать, и музыка давно уже отзвучала в его душе. Он каждое утро торопливо бежал на работу и каждый вечер торопливо спешил назад.
Рядом резко затормозила машина. Его большие чуткие уши безошибочно определили, что машина была легковой, но он не смотрел на нее. Смотреть было запрещено, слушать — тоже, и поэтому он продолжал идти, продолжал месить грязь разбитыми башмаками.
— Юде!
Он послушно повернулся, сдернул с головы шапку и сдвинул каблуки. Из открытой дверцы машины высунулся немецкий майор.
— Говоришь по-русски?
— Так точно, господин майор.
— Садись.
Свицкий покорно сел на краешек заднего сиденья. Здесь уже сидел кто-то: Свицкий не решался посмотреть, но уголком глаза определил, что это — генерал, и сжался, стараясь занять как можно меньше места.
Ехали быстро. Свицкий не поднимал головы, глядя в пол, но все же уловил, что машина свернула на Каштановую улицу, и понял, что его везут в крепость. И почему-то испугался еще больше, хотя больше пугаться было, казалось, уже невозможно. Испугался, съежился и не шевельнулся даже тогда, когда машина остановилась.
— Выходи!
Свицкий поспешно вылез. Черный генеральский «хорьх» стоял среди развалин. В этих развалинах он успел разглядеть дыру, ведущую вниз, немецких солдат, оцепивших эту дыру, и два накрытых накидками тела, лежащие поодаль. Из-под накидок торчали грубые немецкие сапоги. А еще дальше — за этими развалинами, за оцеплением, за телами убитых — женщины разбирали кирпич; охрана, позабыв о них, смотрела сейчас сюда, на черный «хорьх».
Прозвучала команда, солдаты вытянулись, и молодой лейтенант подошел к генералу с рапортом. Он докладывал громко, и из доклада Свицкий понял, что внизу, в подземелье, находится русский солдат: утром он застрелил двух патрульных, но погоне удалось загнать его в каземат, из которого нет второго выхода. Генерал принял рапорт, что-то тихо сказал майору.
— Юде!
Свицкий сдернул шапку. Он уже понял, что от него требуется.
— Там, в подвале, сидит русский фанатик. Спустишься и уговоришь его добровольно сложить оружие. Если останешься с ним — вас сожгут огнеметами, если выйдешь без него — будешь расстрелян. Дайте ему фонарь.
Оступаясь и падая, Свицкий медленно спускался во тьму по кирпичной осыпи. Свет постепенно мерк, но вскоре осыпь кончилась: начался заваленный кирпичом коридор. Свицкий зажег фонарь, и тотчас из темноты раздался глухой голос:
— Стой! Стреляю!
— Не стреляйте! — закричал Свицкий, остановившись.— Я — не немец! Пожалуйста, не стреляйте! Они послали меня!
— Освети лицо.
Свицкий покорно повернул фонарь, моргая подслеповатыми глазами в ярком луче.
— Иди прямо. Свети только под ноги.
— Не стреляйте,— умоляюще говорил Свицкий, медленно пробираясь по коридору.— Они послали сказать, чтобы вы выходили. Они сожгут вас огнем, а меня расстреляют, если вы откажетесь…
Он замолчал, вдруг ясно ощутив тяжелое дыхание где-то совсем рядом.
— Погаси фонарь.
Свицкий нащупал кнопку. Свет погас, густая тьма обступила его со всех сторон.
— Кто ты?
— Кто я? Я — еврей.
— Переводчик?
— Какая разница? — тяжело вздохнул Свицкий.— Какая разница, кто я? Я забыл, что я — еврей, но мне напомнили об этом. И теперь я — еврей. Я — просто еврей, и только. И они сожгут вас огнем, а меня расстреляют.
— Они загнали меня в ловушку,— с горечью сказал голос.— Я стал плохо видеть на свету, и они загнали меня в ловушку.
— Их много.
— У меня все равно нет патронов. Где наши? Ты что-нибудь слышал, где наши?
— Понимаете, ходят слухи.— Свицкий понизил голос до шепота.— Ходят хорошие слухи, что германцев разбили под Москвой. Очень сильно разбили.
— А Москва наша? Немцы не брали Москву?
— Нет, нет, что вы! Это я знаю совершенно точно. Их разбили под Москвой. Под Москвой, понимаете?
В темноте неожиданно рассмеялись. Смех был хриплым и торжествующим, и Свицкому стало не по себе от этого смеха.
— Теперь я могу выйти. Теперь я должен выйти и в последний раз посмотреть им в глаза. Помоги мне, товарищ.
— Товарищ! — Странный, булькающий звук вырвался из горла Свицкого.— Вы сказали — товарищ?.. Боже мой, я думал, что никогда уже не услышу этого слова!
— Помоги мне. У меня что-то с ногами. Они плохо слушаются. Я обопрусь на твое плечо.
Костлявая рука сжала плечо скрипача, и Свицкий ощутил на щеке частое прерывистое дыхание.
— Пойдем. Не зажигай свет: я вижу в темноте.
Они медленно шли по коридору. По дыханию Свицкий понимал, что каждый шаг давался неизвестному с мучительным трудом.
— Скажешь нашим…— тихо сказал неизвестный,— Скажешь нашим, когда они вернутся, что я спрятал…— Он вдруг замолчал.— Нет, ты скажешь им, что крепости я не сдал. Пусть ищут. Пусть как следует ищут во всех казематах. Крепость не пала. Крепость не пала: она просто истекла кровью. Я — последняя ее капля… Какое сегодня число?
— Двенадцатое апреля.
— Двадцать лет.— Неизвестный усмехнулся.— А я просчитался на целых семь дней…
— Какие двадцать лет?
Неизвестный не ответил, и весь путь наверх они проделали молча. С трудом поднялись по осыпи, вылезли из дыры, и здесь неизвестный отпустил плечо Свицкого, выпрямился и скрестил руки на груди. Скрипач поспешно отступил в сторону, оглянулся и впервые увидел, кого он вывел из глухого каземата.
У входа в подвал стоял невероятно худой, уже не имевший возраста человек. Он был без шапки, длинные седые волосы касались плеч. Кирпичная пыль въелась в перетянутый ремнем ватник, сквозь дыры на брюках виднелись голые, распухшие, покрытые давно засохшей кровью колени. Из разбитых, с отвалившимися головками сапог торчали чудовищно раздутые черные отмороженные пальцы. Он стоял, строго выпрямившись, высоко вскинув голову, и, не отрываясь, смотрел на солнце ослепшими глазами. И из этих немигающих пристальных глаз неудержимо текли слезы.
И все молчали. Молчали солдаты и офицеры, молчал генерал. Молчали бросившие работу женщины вдалеке, и охрана их тоже молчала, и все смотрели сейчас на эту фигуру, строгую и неподвижную, как памятник. Потом генерал что-то негромко сказал.
— Назовите ваше звание и фамилию,— перевел Свицкий.
— Я — русский солдат.
Голос прозвучал хрипло и громко, куда громче, чем требовалось: этот человек долго прожил в молчании и уже плохо управлял своим голосом. Свицкий перевел ответ, и генерал снова что-то спросил.
— Господин генерал настоятельно просит вас сообщить свое звание и фамилию…
Голос Свицкого задрожал, сорвался на всхлип, и он заплакал и плакал, уже не переставая, дрожащими руками размазывая слезы по впалым щекам.
Неизвестный вдруг медленно повернул голову, и в генерала уперся его немигающий взгляд. И густая борода чуть дрогнула в странной торжествующей насмешке:
— Что, генерал, теперь вы знаете, сколько шагов в русской версте?
Это были последние его слова. Свицкий переводил еще какие-то генеральские вопросы, но неизвестный молчал, по-прежнему глядя на солнце, которого не видел.
Подъехала санитарная машина, из нее поспешно выскочили врач и два санитара с носилками. Генерал кивнул, врач и санитары бросились к неизвестному. Санитары раскинули носилки, а врач что-то сказал, но неизвестный молча отстранил его и пошел к машине.
Он шел строго и прямо, ничего не видя, но точно ориентируясь по звуку работавшего мотора. И все стояли на своих местах, и он шел один, с трудом переставляя распухшие, обмороженные ноги.
И вдруг немецкий лейтенант звонко и напряженно, как на параде, выкрикнул команду, и солдаты, щелкнув каблуками, четко вскинули оружие «на караул». И немецкий генерал, чуть помедлив, поднес руку к фуражке.
А он, качаясь, медленно шел сквозь строй врагов, отдававших ему сейчас высшие воинские почести. Но он не видел этих почестей, а если бы и видел, ему было бы уже все равно. Он был выше всех мыслимых почестей, выше славы, выше жизни и выше смерти.
Страшно, в голос, как по покойнику, закричали, завыли бабы. Одна за другой они падали на колени в холодную апрельскую грязь. Рыдая, протягивали руки и кланялись до земли ему, последнему защитнику так и не покорившейся крепости.
А он брел к работающему мотору, спотыкаясь и оступаясь, медленно передвигая ноги. Подогнулась и оторвалась подошва сапога, и за босой ногой тянулся теперь легкий кровавый след. Но он шел и шел, шел гордо и упрямо, как жил, и упал только тогда, когда дошел.
Возле машины.
Он упал на спину, навзничь, широко раскинув руки, подставив солнцу невидящие, широко открытые глаза. Упал свободным и после жизни, смертию смерть поправ.
Эпилог
На крайнем западе нашей страны стоит Брестская крепость. Совсем недалеко от Москвы: меньше суток идет поезд. И не только туристы — все, кто едет за рубеж или возвращается на родину, обязательно приходят в крепость.
Здесь громко не говорят: слишком оглушающими были дни сорок первого года и слишком многое помнят эти камни. Сдержанные экскурсоводы сопровождают группы по местам боев, и вы можете спуститься в подвалы 333-го полка, прикоснуться к оплавленным огнеметами кирпичам, пройти к Тереспольским и Холмским воротам или молча постоять под сводами бывшего костела.
Не спешите. Вспомните. И поклонитесь.
А в музее вам покажут оружие, которое когда-то стреляло, и солдатские башмаки, которые кто-то торопливо зашнуровывал ранним утром 22 июня. Вам покажут личные вещи защитников и расскажут, как сходили с ума от жажды, отдавая воду детям и пулеметам. И вы непременно остановитесь возле знамени — единственного знамени, которое пока нашли. Но знамена ищут. Ищут, потому что крепость не сдалась и немцы не захватили здесь ни одного боевого стяга.
Крепость не пала. Крепость истекла кровью.
Историки не любят легенд, но вам непременно расскажут о неизвестном защитнике, которого немцам удалось взять только на десятом месяце войны. На десятом, в апреле 1942 года. Почти год сражался этот человек. Год боев в неизвестности, без соседей слева и справа, без приказов и тылов, без смены и писем из дома. Время не донесло ни его имени, ни звания, но мы знаем, что это был русский солдат.
Много, очень много экспонатов хранит музей крепости. Эти экспонаты не умещаются на стендах и в экспозициях: большая часть их лежит в запасниках. И если вам удастся заглянуть в эти запасники, вы увидите маленький деревянный протез с остатком женской туфельки. Его нашли в воронке недалеко от ограды Белого дворца — так называли защитники крепости здание инженерного управления.
Каждый год 22 июня Брестская крепость торжественно и печально отмечает начало войны. Приезжают уцелевшие защитники, возлагаются венки, замирает почетный караул.
Каждый год 22 июня самым ранним поездом приезжает в Брест старая женщина. Она не спешит уходить с шумного вокзала и ни разу не была в крепости. Она выходит на площадь, где у входа в вокзал висит мраморная плита:
С 22 ИЮНЯ ПО 2-Е ИЮЛЯ 1941 ГОДА
ПОД РУКОВОДСТВОМ ЛЕЙТЕНАНТА НИКОЛАЯ
(фамилия неизвестна)
И СТАРШИНЫ ПАВЛА БАСНЕВА
ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ И ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКИ
ГЕРОИЧЕСКИ ОБОРОНЯЛИ ВОКЗАЛ.
Целый день старая женщина читает эту надпись. Стоит возле нее, точно в почетном карауле. Уходит. Приносит цветы. И снова стоит, и снова читает. Читает одно имя. Семь букв:
«НИКОЛАЙ»
Шумный вокзал живет привычной жизнью. Приходят и уходят поезда, дикторы объявляют, что люди не должны забывать билеты, гремит музыка, смеются люди. И возле мраморной доски тихо стоит старая женщина.
Не надо ей ничего объяснять: не так уж важно, где лежат наши сыновья. Важно только то, за что они погибли.
1974
РАССКАЗЫ
Пятница
Кровать стояла у окна, но спать пришлось головой к дверям, потому что Костя постригся наголо, а рама не закрывалась с 1 мая до 7 ноября: накануне международного праздника трудящихся Федя собственноручно обрывал шпингалеты.
— Все, слабаки, лафа кончилась. Закаляйтесь!
В комнате их жило трое: Костя, Федор и Сенечка Филин. Месяц назад Сенечка влюбился, описал это в стихах и отволок их в заводскую многотиражку. Стихи взяли, а Сенечке вдруг разонравилась собственная фамилия.
— Понимаешь, не тот звук. Вот Лермонтов — это звук. Или Некрасов. Или, скажем, через тире. Лебедев — Кумач. Просто и революционно.
— Вот и ты давай революционно, через тире,— говорил Федя, приседая с двухпудовыми гирями на плечах.
— Думал,— расстроенно вздыхал Семен.— Филин — Пурпурный? Филин — Аврорин? Филин — Красный?
— Краснов,— предложил Костя.— Коротко и ясно.
— Смеетесь все…
Неделю Сеня ходил сам не свой: кокал в столовке стаканы, выпустил кислород из баллона при сварке и прожег выходные штаны. А ночью вдруг заорал:
— Нашел!.. Ребята, нашел!..
Костя не очень переполошился, но Федор был из беспризорников, и синяк Семену достался. Зато стихи вышли в свет с гордой подписью:«Ф и л и н – К и н о в а р ь». Правда, радость оказалась недолговечной, потому что девчата вмиг переиначили революционный довесок в обидного «киновраля», но Сеня все же не очень огорчался.
Честно говоря, до этих стихов Сеня Филин имел другую программу: он собирался учиться на массовика-затейника и деятельно организовывал вечера с фокусами, беседы с играми и балы с научными загадками. Но, став Филиным-Киноварем, с удивительной быстротой сменил природную живость на поэтическую задумчивость и начал пропадать по ночам.
А Федор был человек самостоятельный: работал в кузнице, выжимал гири и носил тельняшку, хотя ни разу в жизни не видел моря. А главное, у него была цель: он хотел стать чемпионом. Сначала чемпионом завода, потом — района, потом — Москвы, а уж потом… Вот что будет потом, Федя представлял себе весьма туманно, но все равно никому не могло прийти в голову называть его Киновралем. Ломовиком, правда, звали, но Ломовик — это ж все-таки прозвище…
Вот какие парни жили вместе с Костей. А сам Костя существовал без всякого плана, и кто он, этот Костя, так никто на заводе толком и не знал. Ну, парень. Ну, монтерит. Ну, током однажды треснуло, еле откачали. Ну, что еще? Еще взносы платит аккуратно.
И даже когда Костя вдруг постригся под нулевку, на это не обратили внимания. Только Федор спросил:
— Для гигиены?
— Я в армию иду,— сказал Костя.— В понедельник с вещами приказано.
Конечно, постричься можно было и позже, но Костя хитрил. Он хотел поразить своим боевым видом некие серые глаза, но глаза не поражались, и Костина голова понапрасну мерзла по утрам.
Из-за этого он и проснулся в тот день ни свет ни заря. Повздыхал, повертелся, хотел было запихать голову под подушку, но тут в комнату вошел Сеня Филин-Киноварь и сообщил:
— Заря над миром мировая, о чем не думал никогда я!..
— Который час? — с тоской спросил Костя.
— Четыре.— Сеня явно был в ударе.— Рассвет пылает над Кремлем…
Тут он споткнулся о забытую Федором гирю и долго скакал на одной ноге. Потом угомонился и сел на кровать к Косте.
— А я знаю, почему ты не спишь.
— Голова босиком, вот и не сплю.
— Врешь! — Сеня засмеялся.— О Капочке думаешь, да?
— Какой Капочке, какой?.. Пошел ты!..
— Спать! — хмуро сказал вдруг Федор.— А то как дам гирей по башке…
В комнате сразу стало тихо. Костя попытался было нырнуть под одеяло, но Сеня не позволил. Зашипел в ухо:
— Массовка сегодня. Не забыл?
— Никуда я не поеду.
— Поедешь! Поедешь, потому что тебя Капа ждать будет.
— Ну, зачем, зачем врать-то?
— Будет! — Сеня тихо засмеялся.— Мне Катюша моя сказала. Сидит твоя Капочка у окошечка и звезды считает.
— Врешь ты все, Киновраль несчастный!..
Сенечка хохотал, возился, пока Федор не встал и не перебросил его на соседнюю кровать. Там Сеня завернулся в одеяло и сразу уснул, потому что до выезда на массовку время еще было. И Федор заснул, погрозив на прощание могучим кулаком, а вот Костин сон куда-то пропал.
После того как Костя побывал под высоким напряжением, в нем пробудился интерес к физике, который и привел его в заводскую библиотеку. За столом в библиотеке худенькая девушка застенчиво подняла на Костю большие спокойные глаза.
— «Кавказский пленник» есть? — посторонним голосом спросил Костя.
— У нас техническая библиотека. А вам нужно…
Костя уже знал, что ему нужно: глядеть в эти глаза и слушать этот голос. Но в нем не было ни Сенечкиной бестолковой настойчивости, ни Фединой тяжеловесной самоуверенности, и поэтому Костя молчал, когда встречался с Капой. А встречался он с нею часто, потому что Сеня вскорости влюбился в Капочкину подружку, и на первых порах они всюду ходили вчетвером. Но на этих встречах Капочка болтала со всеми, кроме Кости, и выходили одни страдания. И Костя однажды осмелел и пригласил Капочку в клуб. Там они долго стояли в углу: Капа говорила всем, что очень устала, а Костя ждал медленного танца, потому что от волнения никак не мог уловить ритм. Наконец заиграли что-то унылое. Костя, не дыша, взял Капочку за руки и тут же наступил на блестящие туфельки. В первый раз Капочка только испуганно улыбнулась, а в четвертый раз вдруг вырвалась и убежала. А Костя остался посреди зала, и танцующие толкали его со всех сторон.
И вот сегодня, в воскресенье, в шесть утра Капочка ждала его. Правда, Сеню недаром прозвали Киновралем, но в таком серьезном вопросе он просто не имел права обманывать. А, с другой стороны, Костя никак не мог понять, почему она тогда убежала, и поэтому вздыхал и ворочался, пока в половине шестого не прозвенел будильник…
Завком расстарался и добыл два грузовика и большой автобус. В автобус посадили девчат, ребята набились в открытые машины, и колонна тронулась в путь. Ехали по еще спящей воскресной Москве, во все горло орали песни, и редкие милиционеры сердито грозили вслед. И Костя орал до хрипоты, потому что в сумятице у заводской проходной успел заметить, как оглядывалась Капочка, усаживаясь в автобус.
— Главное — инициатива,— поучал Федор в перерыве между песнями.— Сперва про звезды наворачивай, про мироздание. Большую Медведицу знаешь?
— Так ведь день,— сказал Костя.— Какая тебе Медведица?
— Ну, насчет стран света. Знаешь, с какой стороны муравейник строить полагается?
— Да что ж она, муравьиха, что ли? — рассердился вдруг Семен.— Спрячь ты свою эрудицию, пожалуйста! Девушке что нужно? Чувства ей нужны. Чувства, Костя, понял? Ты вздыхай больше. Вздыхай, цветы нюхай. А если спросит, почему грустный, отвечай: «Так…»
— А я про что говорю? — обиделся Федор.— И я про то же. Про чувства. Рассеянным стань.
— Как это? — удивился Костя.
— Ну, бормочи невпопад. А еще лучше потеряй что-нибудь. Расческу, например.
— Стихи,— мечтательно сказал Сенечка.— Основное — стихи. Выучил?
— Выучил,— вздохнул Костя.— Одеяло убежало, улетела простыня, и подушка, как лягушка, ускакала от меня.
— Да…— сказали ребята.
Они очень грустно спели веселую песню, а потом Костя сказал:
— Я чего боюсь? Я боюсь, что не нужна ей такая голова.
Федор внимательно осмотрел круглую Костину голову, пощупал, похмурился:
— Уши торчат. Будто ты слон.
Тут они вдруг заулыбались и весело запели очень грустную песню.
Грузовики легко обогнали тяжелый автобус, и, когда девушки въехали на поляну, там уже вовсю развернулась массовка: играла музыка, летал мяч, и Федор демонстрировал поклонникам искусство выжимания тяжестей, подбрасывая захваченные из дома гири. Поэтому девичий автобус встречали двое: галантный Сеня, чудом не угодивший под колесо, и Костя во втором эшелоне. Разглядев из-за куста Капочку, Костя заорал что-то и ринулся в центр поляны, где любители перепасовывали мяч. Там он быстро сколотил две команды и стал играть с таким рвением, что пришел в себя, только наткнувшись на Катю.
— У папы было три сына: старший, средний и футболист.— Катенька была особой энергичной.— Так вот, я интересуюсь, ты до конца футболист или еще есть надежда?
— А что? — спросил Костя и покраснел от такого глупого вопроса.
Катя презрительно повела плечами и пошла. Костя откинул мяч, крикнул, что выбывает, и двинулся следом. Они свернула в кусты и остановились возле Капочки и Сени Киноваря.
— Центр-форвард в масштабе один к одному,— сказала Катя.— За мной, Филин: нам еще завтрак организовать нужно.
Косте очень хотелось крикнуть: «Не уходите!» — но Сеня с такой готовностью поспешил за Катей, а Капа так равнодушно смотрела в сторону, что Костя промолчал. И молчал долго.
— В июне будут грозы,— говорила Капа на ходу.— Вообще самый грозовой месяц — июль, но в этом году все будет раньше, я читала в «Огоньке».
Они трижды обогнули поляну. Шли аккуратно, по периметру, не вылезая на открытые места, но и не забиваясь в кусты. Капочка толковала про осадки, розу ветров и влияние Гольфстрима на климат Подмосковья, а Костя слушал, как гулко стучит его сердце, и боялся, что Капочка услышит этот стук. Но она говорила и говорила, и Костя не догадывался, что она тоже боится. Он вдруг оглох и ослеп, и слышал только, как журчит ее голос, и видел только, как бьется трава о ее колени. А вокруг играла музыка, орали ребята, в кустах целовались парочки, но это все было сейчас нереальным, призрачным и ненужным.
— Голова у вас не закружилась? — сердито спросила Катя, встретив их на пятом круге.— Иногда полезно ходить по прямой.
— По прямой? — переспросил Костя и опять покраснел от собственной глупости.
— Вот именно! — отрезала Катя.— Топайте в лес и без букета не возвращайтесь. Это тебя касается, подружка.
Капочка молча покивала. А Сеня перехватил Костю и сунул ему свои часы:
— Отправление ровно в шесть вечера…
— Зачем?..— перепугался Костя.— Зачем мне часы?
— Чтобы не заблудиться,— вредно сказала Катя.— Умеешь определять, где юг, а где север?
— Я умею,— не глядя сказала Капа.
И первой пошла прямо сквозь кусты…
В лесу было сыро. Солнце путалось в листве, холодный воздух еще цепко держался под елями, и оголтелые июньские комары кусали Костину голову. Он стеснялся чесаться и терпел. Капочка сорвала ветку и хлестала ею по голым ногам. Это был действенный способ, но бить хворостиной по собственной голове было унизительно. Костя изредка как бы в задумчивости проводил ладонью ото лба к затылку: башка зудела неимоверно.
— Зачем же ты постригся? — с материнской ноткой спросила вдруг Капочка.— Вот теперь напрасно мучаешься. Ведь мучаешься, правда?
Она повернулась, и Костя близко увидел ее спокойные глаза: серые, с рыжими блестками. Он никогда еще не видел их в такой пугающей близости, судорожно глотнул и сознался:
— Кусаются.
— А почему ты кепку не надел?
— Из моей кепки Федор Ломовик настольную лампу сделал.
— О господи,— совсем уже по-взрослому вздохнула Капа.— Ты пока похлопай себя, а я колпак сделаю: у меня вчерашняя «Комсомолка» есть.
Пока Костя хлопал, она быстро сложила из газеты большой кораблик. Костя нагнулся, чтобы она надела этот кораблик на его многострадальную голову, но Капочка сначала ласково погладила ее, чтобы побыстрее заживали комариные укусы.
— Плюшевый…— Она вздохнула.— Две макушки, значит, у тебя будут две жены.
— Нет! — закричал Костя.— Ни за что!..
— Примета,— важно сказала она.— И зачем ты только постригся?
— Я в армию иду,— тихо сказал он.— В понедельник к двум в военкомат.
— У нас же бронированный завод.
— Я добровольно.
— Молодец.— Капочка еще раз погладила его и надела колпак. И вздохнула.— Это ты правильно решил.
И, опять не оглядываясь, пошла вперед, похлопывая прутиком по ногам. Он глядел на эти белые ноги, видел, как легко топчут они цветы, и умилялся. Сам он сорвал три хилых стебелька, тискал их в кулаке и лихорадочно соображал, о чем бы завести разговор. Но в голове было гулко, как в колодце.
— В летчики попросишься? — спросила она.
— Нет.— Он догнал ее, шагал рядом.— Меня в связь берут: я ведь монтер.
— Смотри, опять током треснет.
— Не треснет: там напряжение слабое.
— Три года! — сказала она.— Все-таки это ужас как долго. У тебя мама есть?
— Есть. Они с отцом под Москвой живут, в Софрино.
— А у меня только тетка.— Капочка вдруг поджала губы и липким голосом сказала: «Ну, куда, куда ты за платье хватаешься? Приличная девушка сначала одевает ноги…» — Она засмеялась.— А что мне ноги-то одевать? Сунула в тапочки — вот и готово.
— Здорово ты тетку изобразила! — восхищенно сказал Костя.— Она мизинцы оттопыривает, да?
— Все она оттопыривает,— вздохнула Капа.— Вообще-то она, конечно, заботится обо мне. Только… только она ужас какая жадная. И все велит считать и записывать. Купила спичек и — записывает. А уж про вещи и говорить нечего. Я, знаешь, как тогда наревелась?
— Когда? — со страхом спросил Костя.
— После танца. Я ведь ее туфли надела. У меня нет на каблучке, вот я и надела. А ты их оттоптал, Собакевич.
— Капочка…
Они остановились. Капа как-то боком, как птица, глянула на него, спросила вдруг:
— Какая же я девушка: приличная или не очень?
— Капочка, ты…— Костя задохнулся от восторга и волнения.— Ты…
— Цветы собираешь? — Она улыбнулась.— Торопишься?
— Нет, что ты! Я думал…
— Думать сегодня буду я,— тихо и как-то особенно серьезно сказала она.
И, не ожидая ответа, зашагала в лес. А Костя, бросив цветы, покорно шел следом…
Они вырвались из комариной низины, и теперь вокруг них щелкали птицы, жужжали шмели и звенела тугая листва. Пахло разогретыми соснами и земляникой, и Капочка, присев, уже собирала в ладошку редкие ягоды. Потом сказала:
— Закрой глаза, открой рот.
Костя крепко зажмурился, и она высыпала ему в рот землянику.
— Вкусно?
Он чуть коснулся губами ее сладкой земляничной ладони. Сердце грохотало, заглушая птичьи голоса, хотелось прикоснуться, прижаться хоть на мгновение к ее губам, но он не смел. Он испытывал почти священный трепет и, случайно касаясь ее платья, поспешно отдергивал руку.
— Ты хотел бы стать Робинзоном?
Он с трудом расслышал, что она спросила. Глянул, словно вынырнув:
— Нет.
— Почему же нет?
— Капиталист он. Идеология капитализма, все себе да себе.
— Так ведь не было же больше никого!..
— А Пятница? Зачем он Пятницу слугой сделал?
— Слугой…— Капа подозрительно заглянула в его глаза.— Неужели для тебя это главное в Робинзоне Крузо?
— Нет вообще-то…— Костя хмурился, думал. Потом сказал: — Главное, человек не может один. Без общества, без коллектива, без…— Он запнулся.— Без друга. Ты не согласна?
— Вот ты какой…— удивленно протянула Капа и, неуловимым движением подобрав платье, опустилась на траву.— Ты, оказывается, и спорить умеешь?
— Если нужно…— Костя сел рядом, позаботившись о дистанции.— С Федей приходится.
— А с Сенечкой Киновралем?
— А зачем с ним спорить? Он в стихах весь. В стихах да в Кате.
— В стихах да в Кате…— повторила Капа.— Катя счастливая, правда?
— Не знаю. Федор говорит, что счастья вообще нет, потому что счастье — это миг.
— А ты как думаешь?
— По-моему, миг — это счастье для пауков. Слопал муху — вот и все счастье. А для человека…
До сих пор он говорил не поднимая головы, а тут вдруг поднял. Поднял и увидел ее глаза: серые, с рыжими блестками… И сразу пересохло во рту, гулко загудело в ушах, и он, уже не соображая, неуклюже, по-телячьи ткнулся лбом в ее колени…
— Эй, ребятки, бычков не видали тут?
Костя рванулся в сторону, перелетел через куст, вскочил, часто моргая и задыхаясь. А Капа и не шевельнулась: одернув платье, невозмутимо поправляла прическу.
— Бычков, спрашиваю, не встречали?
Проморгавшись, Костя обнаружил маленького замшелого деда-опенка: в мятых штанах, сатиновой рубахе и нелепой соломенной шляпе с огромными полями. У деда были хитрые выцветшие глазки, плешивая бороденка и корявые, растоптанные ступни.
— Каких бычков?..— с трудом спросил наконец Костя.
— Колхозных. Вчерась на ферму не заявились, вот сегодня меня и послали искать заместо воскресного чина-почина. Два бурых, один пегий…
— Не знаю,— сказал Костя.
— А вскочил, будто своровал чего.— Дед хитро посмотрел на невозмутимую Капочку.— А может, своровал!
— Он, дедушка, не грабитель,— ласково улыбнулась Капа.— Он в армию завтра идет.
— Полезное дело.— Дед уселся на соседнюю кочку и достал кисет.— Сам служил, полезное дело. Табачком балуешься?
— Я не курю.
— Ну, закуришь еще. Жизнь, она длинная, в ней обязательно даже закуришь. От тоски.
— В нашей жизни нет никакой тоски,— недружелюбно сказал Костя.
— А она не в жизни, тоска-то. Она в человеке заводится. И ежели ты не вор,— тут дед опять хитро покосился на девушку,— то может тоска та в тебе завертеться, и станешь ты ее дымом от себя выживать. Вот так-то.— Он поднялся.— Ну, счастливо вам, парочка,— барашек да ярочка.
— Спасибо.— Капа встала.— А что значит счастливой быть?
— Ну, тебе, значит, жизнь перелить в сынка или в доченьку. А стриженому твоему — вырастить их да на ноги поставить.
— А вам?
— А мое счастье — помереть в одночасье,— улыбнулся дед и шустро затопал через поляну.
— Дедушка!..
Капа догнала его, о чем-то потолковала, долго махала вслед. Потом вернулась с ломтем ржаного хлеба, густо посыпанным солью. Она отломила от ломтя маленький кусочек, а остальное протянула Косте.
— И лучше не спорь. Ешь и не спорь со мной.
Костя был голоден и не спорил. Только дожевывая этот необыкновенно вкусный хлеб, проворчал непримиримо:
— А насчет счастья он неправду говорил, дед этот. Неправильное у него представление о счастье, частное какое-то.
— Как у Робинзона Крузо? — не без ехидства спросила Капа.
— В общем, да,— сказал Костя.— Зачем он жил, Робинзон этот?
— Как зачем? Чтобы выжить.
— Значит, есть, пить, спать? Так для этого и те бычки живут, которых дед искал. А я — человек, мне этого мало.
— А что же тебе надо?
— Не знаю.— Костя вздохнул.— Может, это еще понять нужно? И, может, человеческое счастье в том и состоит, чтобы понять, для чего на свете живешь?
— Может быть…— Капа тоже вздохнула.— А я знаю дорогу в деревню.
— А зачем нам в деревню?
— За молоком,— неопределенно сказала она.— Сколько времени?
— Двенадцать часов без четверти.
— Вот видишь.— Она опять вздохнула.— Кажется, нам пора.
Мир стал тускнеть, наливаться свинцом, и даже сосны вдруг зашумели тревожно. Костя огляделся. С запада шла низкая черная туча.
— Гроза,— сказала Капа.— Все равно придется идти в деревню.
Костя промолчал. Она подождала ответа, вздохнула и пошла вперед: вниз, к невидимой речке. А он послушно шел следом…
Сосновый лес незаметно перешел в сырой осинник, сквозь кусты блеснула медленная и запутанная лесная речка. Они спустились к воде и нашли кладку: два неошкуренных березовых ствола. Капа сняла тапочки, первая осторожно ступила на скользкие бревна.
— А знаешь, зачем я у дедушки хлеб выпросила? — вдруг спросила она.— Есть такая примета: если поесть от одного куска…
Босая нога скользнула с гладкой березы, Капочка взмахнула руками и, ахнув, полетела вниз. Костя прыгнул следом: ему было по пояс, но Капа падала боком и угодила под воду с головой. Костя подхватил ее, мокрую, испуганную, жалкую. Схватил, прижал к груди и замер, боясь, что она рванется, оттолкнет… Но она молчала, и он долго стоял в воде, бережно держа ее невесомое тело.
— Тапочки!..— вдруг крикнула она.— Я же тапочки утопила!..
Они бестолково бросились к берегу, завязли в осоке, упали.
— Может, они еще плавают?
Костя побежал, шурша мокрыми штанинами. Метался по берегу, распугивая лягушек,— тапочек нигде не было. Так и вернулся ни с чем, а Капа еще издали закричала:
— Не подходи!..
Сквозь листву смутно белело что-то. Потом над кустами взлетели руки, и Капа спросила:
— Ну, где ты там?
Костя подошел: она наспех одергивала кое-как отжатое платье.
— Утонули.
— Знаешь, я платье порвала,— тихо сказала она.— Вот.
Повернулась, чуть выставив ногу: на мгновение мелькнуло голое бедро и сразу исчезло.
— Не расстраивайся…
Тут он вспомнил про часы. Поболтал: в корпусе хлюпала вода.
— Стоят.
— Господи, какая я нескладеха! — с досадой воскликнула она.— Ты один в деревню пойдешь.
— Почему один?
— Я заявлюсь в рваном платье и босиком, да? Ты выпросишь иголку и ниток. Белых! И узнаешь, как нам до своих добраться.
— Ты здесь ждать будешь?
— Здесь меня комары сожрут: они обожают мокрых. Иди вперед.
— Почему?
— Господи, какой ты глупый! Да потому что я страшная, вот почему. И смотреть тебе не на что.
Костя хотел сказать, что смотреть ему есть на что, но не решился. С темного неба тяжело упали первые капли.
— Дождика нам еще не хватало,— вздохнула Капочка.— Ох, какая же я телема!
— Кто?
— [Не оборачивайся! Телема — значит, нескладеха.]Так меня тетка величает.
Они миновали кусты, и справа показался полуразрушенный сарай. Костя добежал до него, открыл скрипучую дверь, заглянул.
— Иди сюда!
В сарае еще недавно хранили сено. Костя сгреб остатки в одно место, взбил, сказал не глядя:
— Грейся. Я мигом…
Низкие тучи метались по небу, но дождь все никак не мог разойтись. Часто грохотал гром, желтые молнии вспарывали пыльный небосвод, а капли падали редко, словно прицеливались, куда ударить.
Костя бежал к деревне, а невесть откуда взявшийся ветер бил в лицо, прижимал к телу мокрую одежду. Луга кончились, по обе стороны проселка, чуть прибитого робким дождем, тянулись поля, гибкая рожь стлалась под ветром. За полями совсем близко виднелись первые крыши. Костя взбежал на бугор, за которым шли огороды, и… И остановился.
Вой стоял над деревней, бабий вой над покойником, над минувшим счастьем, над прожитой жизнью. Пронзительный плач метался со двора во двор, из избы в избу, и не было в нем ни просвета, ни передышки, как в том низком, свинцовом небе, из которого хлынул наконец ливень. И Костя мок под ливнем и не смел войти в эту деревню, в этот страшный, кладбищенский плач, древний, как сама гроза.
Вымокнув до нитки, Костя пошел назад, подгоняемый чужим стонущим горем. Добрел до сарая, проскользнул в скрипучую дверь и чуть не заорал, увидев что-то белое, что мерно качалось под перекладиной. Но тут сверкнула молния, и он успел заметить, что на палочке болтается Капино платье.
— Промок? — тихо спросила она из угла.
— Я не принес ниток,— вздохнул он.— Там несчастье какое-то в деревне: воют все разом, будто в каждой избе по покойнику.
— Ты простудишься,— сказала она.— Сейчас же все сними, слышишь? Я отвернусь.
Костя покорно стянул липнувшую к телу рубашку и брюки, отжал, раскинул на загородке. Снаружи по-прежнему лил дождь, сквозь дырявую крышу капало, и Костя, поеживаясь, все выбирал посуше местечко…
— Ну где же ты? — шепотом спросила Капа.— Ты же простудишься так. Иди сюда: в сене тепло…
Он не помнил, как сделал эти четыре шага. Шел, как слепой, вытянув руки, наткнулся на Капочку, упал рядом.
— Мокрый,— озабоченно сказала она.— И вытереть-то тебя нечем. Ближе ложись, я тебя сеном укрою.
Как пахли ее волосы! Сеном и дождем, солнцем и земляникой, женским телом и сосновой смолой. Не смея прикоснуться, Костя держал руки по швам, боясь шевельнуться, боясь спугнуть, боясь оскорбить эту немыслимую щедрость…
— Обними меня…
Неужели ночь сменяет день только потому, что земля вращается? Неужели все льды Арктики нельзя растопить теплом одного-единственного человеческого сердца? Неужели есть на земле рыдающие деревни и черные грозы? И неужели может быть на свете вторая, третья, десятая любовь?..
— Я люблю тебя. Слышишь? Я люблю тебя!..
— Говори. Говори, что ты любишь меня. Говори.
— Я люблю тебя.
Он чувствовал себя взрослым, могучим, готовым сделать все, что прикажет эта единственная во всем мире женщина.
— Меня нельзя любить,— вдруг сказала она.— Разве можно любить девушку с таким длиннющим именем — Капитолина?
— Капелька!..— Он зарылся лицом в ее волосы.— Я знаю, что такое счастье, Капелька. Счастье — это ты.
— Неправда! — Она радостно засмеялась.— Сам на дедушку накричал…
— Счастье — это ты,— убежденно повторил он. Знаешь, каждый из нас в юности высаживается на необитаемый остров. Каждый из нас строит свой собственный дом и сажает свой собственный хлеб. У кого-то этот дом течет, а хлеб получается горьким, но это не беда. Главное, что все мы Робинзоны и все ждем свою Пятницу. И когда приходит она…
— Вы делаете ее слугой.
— Нет, Капелька! Я дождался тебя в воскресенье, значит, ты не Пятница. Ты мое воскресенье.
— Я твоя Пятница. Твоя Пятница, слышишь!.. Обними меня. Крепко, крепко!..
— Завтра мы пойдем в загс…
— Зачем?
— Разве мы не муж и жена?
— Мы муж и жена. Но лучше ты спроси меня об этом ровно через три года.
— Но почему, Капелька?
— Надо уметь ждать, Костик. Считать дни и часы, мечтать о встрече, писать письма и все время думать друг о друге. И я хочу ждать. Хочу плакать в подушку, хочу мечтать о тебе. Наверно, это и есть счастье: уметь мечтать и верить в свою мечту.
— Я люблю тебя. Слышишь? Я просто люблю тебя.
— Какой сегодня удивительный день!..
Разве существует время? Нет. Остановились все часы, и только два огромных человеческих сердца грохочут сейчас во всей вселенной…
— Я люблю тебя.
Разве существует пространство? Нет. Оно до отказа заполнено тобой. Твоими глазами. Твоей улыбкой.
— Я люблю тебя…
— У нас будут дети. Трое: девочка и два мальчика.
— Хорошо бы близнецы…
— Глупый! Это, знаешь, как редко случается?.. Ужас!.. Но ты не бойся: я крепкая.
— Ты красивая. Ты очень красивая.
— Что ты! Я телема. Это просто счастье во мне светится. Как лампочка.
— Пусть дети будут похожи на тебя.
— Мальчики — на меня, а девочка — на тебя: есть такая примета. И еще: первой обязательно должна родиться девочка.
— Почему?
— Она будет мне помогать.
— А как мы ее {49} назовем?
— О, это нельзя решать заранее! Есть имена весенние, а есть осенние, и все зависит от того, когда человек рождается.
— У тебя весеннее имя, Капелька…
Гроза давно прошла, тучи разогнал ветер, и над миром опять светило огромное и равнодушное солнце. А в деревне все еще плакали женщины, бились о твердую землю, рвали на себе волосы. И в старом сарае на охапке прошлогоднего сена сидели двое: стриженый парнишка и большеглазая худенькая девочка…
А времени действительно не было: часы Сени Киноваря остановились на трех минутах первого в воскресенье 22 июня 1941 года…
В этот день, ровно в четыре утра, мой сосед, скрипя протезом, неторопливо спускается во двор. Когда он проходит мимо дворников, они, оставив работу, почтительно приподнимают кепки. Он садится на скамейку у детских качелей и закуривает. А над Москвой тихо всплывает заря.
Константин Иванович, угрюмо нахохлившись, разглядывает папиросу и вспоминает тех, кто никогда не увидит ни зари, ни заката.
И дворники тоже вспоминают. Вспоминают своих поэтов и своих кузнецов…
У Константина Ивановича большая семья: два сына и дочь, только сыновья родились первыми. Один раз всей семьей они были в Польше и медленно прошли весь Освенцим — от ворот до печей — тем самым путем, которым прошел его когда-то заводской поэт Семен Филин-Киноварь. А однажды они заехали в Севастополь: постояли у обелиска, на котором пятым сверху значится старшина Федор Ломов. Нет, московский кузнец не зря носил тельняшку.
А вот в Смоленск Константин Иванович всегда приезжает один. Он копит отгулы, чтобы раз в году выйти на огромную пустую площадь. Ветер гоняет рыжие кленовые листья, треплет седые волосы Константина Ивановича. Но он стоит долго и одиноко, стоит не шевелясь. Стоит на том самом месте, где 17 октября 1942 года гестаповцы повесили партизанскую связную со странной подпольной кличкой «Пятница»…
И о ней он никогда не рассказывает. Никому…
А потом по асфальту звонко стучат каблучки.
— Папка, я пошла!..
Константин Иванович машет рукой. Мне всегда кажется, что он шепчет вслед этим веселым [звонким] каблучкам:
— Возвращайся счастливой, дочка. Пожалуйста, возвращайся счастливой!..
У его девочки редкое и очень длинное имя: Капитолина. Капелька…
1973
Старая «Олимпия»
В нашем переулке никогда не появляется интуристовский автобус. Маршруты проходят рядом — по широкой, прямой улице, подмявшей под себя тихие поленовские дворики. Здесь, у сверкающих неоном бесконечных витрин, тормозят машины и туристы степенно разминают ноги. Зрачки аппаратов привычно обшаривают монументальные фасады, гид торопливо и бесстрастно перечисляет квадратные метры стекла, тонны бетона и кубы пространства, и автобус трогается.
Когда в моей комнате открыто окно, я слышу вздохи автобуса, шелест дверей, монотонный голос гида. Мой дом — за спиной ультрасовременного проспекта. Когда прокладывали магистраль, снесли деревянные дома и построили панельные; наш дом уцелел чудом. Правда, он каменный, трехэтажный, и три его этажа равны пяти современным.
Мы живем на самом верху — там, где нелепо торчит единственный балкон. А попасть к нам можно только со двора по узкой лестнице со стертыми каменными ступенями. Она ведет под крышу. Здесь площадка и дверь, обитая старым войлоком. На косяке — звонок, а под ним — табличка с семью фамилиями.
Когда-то в школе учитель истории показал нам план Москвы конца восемнадцатого столетия, и я нашел на том плане наш дом. Он сгорел во время великого московского пожара, но фундамент остался. После урока мы спускались в подвал и нюхали стены: они пахли порохом 1812 года.
За стеной моей комнаты день и ночь стучит машинка. В нашей квартире не принято ворчать по этому поводу: работа есть работа. И когда в коридоре раздается один никому не адресованный звонок, дверь открывает тот, кто оказался ближе.
— К машинистке? Вторая дверь налево.
Посетитель исчезает за указанной дверью, и если задержаться в коридоре, то почти всегда услышишь один и тот же диалог:
— Ваша машинка берет пять экземпляров?
— Семь. У меня хорошая машинка. У меня старая «Олимпия».
Итальянский фильм «Рим, 11 часов» она любила больше всех фильмов. Это был фильм о машинистках, а значит, о ней. Она смотрела его двадцать восемь раз и знала наизусть:
«— О, вы прямо пулемет!..
— Старый пулемет, синьор…»
Слезы текли по ее лицу, и она очень стеснялась, потому что в зрительном зале больше никто не плакал. Она торопливо вытирала глаза скомканным платочком, кусала губы, но слезы все равно текли и текли и мешали смотреть. От слез затуманивались очки, их приходилось снимать, а фильм не ждал, фильм шел дальше, и тогда она плакала без очков.
— Семь экземпляров. У меня старая «Олимпия».
Она говорила с печальной гордостью. Она гордилась своей машинкой и считала старой не ее, а себя. И все во дворе называли ее «Старой Олимпией». Разумеется, за глаза…
— Катька, война-а!.. С немцами, Катька! Ур-ра!..
Это кричал я. Мне было тогда тринадцать, но я до сих пор не могу простить себе того идиотского восторга. Я плясал на темных кирпичах нашего двора, а из всех окон на меня молча смотрели темные, неподвижные лица жильцов. А я орал и бесновался, потому что ее окно было закрыто.
— Катька, Киев бомбили!..
Окно распахнулось, и Катя почти по пояс высунулась наружу. Она была без кофточки и прикрывала руками голые плечи.
— Ты дурак, да?
Я обиделся и замолчал. Я был тайно влюблен в Катю, а она упорно считала меня младенцем. Накануне у нее был выпускной вечер, и она целовалась впервые в жизни.
…Через две недели провожали вчерашних десятиклассников. Ломкая колонна неторопливо вытягивалась из школьного двора, а по обе стороны стояли люди. Мальчишки кричали и махали платками, взрослые молчали. Колонна двинулась по переулку, сворачивая на Арбат, к Смоленской, провожающие шли по тротуарам, а девушки, надевшие в этот день свои лучшие платья, в драгоценных туфельках семенили по мостовой. В конце Арбата стали отставать знакомые, потом друзья, но девушки шли до конца, до Киевского вокзала, до ворот, дальше которых никого не пускали. И стояли у этих ворот тихо и обреченно, пока ребят не погрузили в эшелоны.
На другой день я не узнал Кати. Она разговаривала теперь негромко и коротко, улыбалась мельком, ходила строгой и важной. И подружки ее, собираясь, уже не хохотали, не прыгали через три ступеньки, и голоса их не звенели больше во дворе. Тогда я думал, что расстались они с любовью, и даже злорадствовал, но теперь понял, что в тот день расстались они с юностью. Она ушла из их жизни ломкой колонной вчерашних десятиклассников, отстучала подошвами по арбатскому асфальту, и хмурые сторожа со скрипом закрыли за нею тяжелые ворота киевского грузового двора. Закрыли навсегда.
…Осенью вслед за юностью ушла и Катя. Ее долго не хотели брать, потому что ей было только семнадцать, но Катя добилась своего. Утром постучала в нашу комнату.
— Ну, до свидания,— сказала она мне и подала руку, как взрослому.— Смотри, маленьких не обижай!
Ее долго целовали плачущие женщины, совали на дорогу припрятанные шоколадки. Катя что-то говорила, улыбалась, и глаза у нее были сухие. А я стоял в углу и молчал: кажется, именно в то утро я начал понимать, что такое война.
Семнадцать лет и хрупкость все-таки подвели Катю: ее не взяли ни в разведку, ни в связь, ни даже в санитарки. Ее направили в штаб армии и вместо автомата вручили разбитый «ундервуд».
— Портянок зимних — двадцать тысяч [шестьсот] сорок три пары. Рубах нательных теплых… из них первого роста… второго… Напечатала, Катюша?
Лысый, страдающий аритмией начальник вещевого довольствия подполковник Глухов был ее первым «полководцем». Он научил ее печатать на машинке и подшивать документы, познакомил с армейским бытом, защищал, наставлял и берег:
— Если кто приставать будет, сразу мне говори.
Катя краснела, прятала глаза. К ней еще никто никогда не приставал, а теоретические познания были невелики. Спала она вместе с другими женщинами, они были старше ее и тоже берегли и наставляли.
— Главное, тех, которые с усами, бойся. Усатые насчет юбок хорошо соображают, учти. И бей сразу по физиономии.
Катя послушно кивала, но бить было некого. Молодых в штабе армии не держали, старшие же с удовольствием опекали ее, дарили редкие сласти, перешивали по росту одежду. Даже ошалевший от бессонницы командующий, взлета бровей которого боялись пуще бомбежки, остановил как-то на улице:
— Сколько лет?
— Я доброволец,— испуганно сказала Катя.
— Доброволец! — усмехнулся командующий.— Савельев!
Щеголеватый адъютант метнулся от машины:
— Слушаю вас, товарищ генерал!
— Посылку не всю слопал?
— Никак нет, товарищ командующий. Не трогал.
— Отдай девчушке.
— Сейчас?
— Ну?..
— Слушаюсь! — Адъютант кинулся в избу скользя на утоптанном снегу хромовыми, в обтяжку, сапогами.
— Так сколько же все-таки лет? — допытывался генерал.
— Девятнадцать! — отчаянно соврала Катя и покраснела.
— Нехорошо старику врать,— укоризненно сказал командующий.
— Я не вру,— тихо сказала Катя.— То есть… немножко!
— Ну?
— Семнадцать с четвертью,— честно призналась Катя.
— Довоевались,— вздохнул командующий и сел в машину.
Из дома с грохотом вылетел адъютант с фанерным ящичком. Отдал ящичек Кате, скользя, побежал к машине. Катя неудобно держала ящичек на вытянутых руках и с опаской глядела вслед, потому что адъютант был с усами.
В посылке оказался урюк, и вечером женщины пили в землянке чай. Катины слезы капали на урюк, сладкое мешалось с соленым: машину с командующим и щеголеватым адъютантом накрыло случайным снарядом.
— Кальсон байковых… Чего потупилась, Катюша? Кальсоны — спасители наши: морозы под сорок…
Тяжелая рука ложилась на плечо. Сначала Катя ежилась под этой рукой, но потом поняла, что ложится она, защищая. От этого открытия жить сразу стало проще; Катя ничего уже не опасалась и вечерами, если не было работы, громко распевала песни.
— Чего, Катюша, краснеешь?
Катя не могла объяснить, почему краснеет. Краснела от резкого окрика, от пристального взгляда, шуток, соленых анекдотов, мата ездовых и собственной, крепнувшей на пшенном {50} концентрате фигуры.
— Ох, грудочки! — кричала перед сном озорная официантка военторговской столовой.— Ох, мука чья-то растет! Ох, грудочки, что груздочки!
Катя сердилась, пряталась под одеяло. Женщины добродушно смеялись.
В армейском тылу было тихо: наступающие части ушли далеко вперед. Зимой самолеты летали редко, а к весне Катя настолько освоилась, что совсем перестала пугаться. Как только начинали стучать зенитки, накрывала свой «ундервуд», шла в щель и терпеливо пережидала бомбежку.
Она смирилась со своей негероической должностью: кому-то надо было считать портянки, чтобы победить. И она с такой яростью печатала ведомости, инструкции и докладные, что молодой майор, приехавший с фронта ругаться из-за маскхалатов, распахнул дверь в ее каморку.
— Это что за пулемет?
— Образца двадцать четвертого,— улыбнулся Глухов.
Вечером майор явился с трофейным шоколадом и бутылкой. Женщины пили спирт и опасно шутили, а Катя, краснея, грызла шоколад. Майор сверкал новеньким орденом и, рассказывая, глядел в глаза. У Кати стучало сердце.
— Нет, Катенька, не для вас эта бухгалтерия,— говорил майор, поскрипывая тугими ремнями.— Война кончится, и вспомнить будет нечего. А в разведке я вам через недельку орденок обеспечу.
Появись этот майор на два месяца раньше, Катя, не раздумывая, сбежала бы с ним, хоть и понимала, что не отвертеться ей от этих уверенных рук. А сейчас только сердце щемило от возможности в любое мгновение глянуть особо и получить этого майора целиком — от хромовых сапог до чуть светящейся лысины.
— Ну, босиком вы тоже не много навоюете.
Это так Глухов говорил, когда она просилась на передовую. А теперь и сама знала, сколько натруженных рук, голодных глаз и бессонных ночей стоит за каждой солдатской спиной. И считала, что она на месте.
Женщины шутили, строили глазки, но за Катей присматривали строго: дурочка еще, необстрелянная. И все-таки не углядели: выманил ее разведчик в темноту. Схватил в углу, шептал жарко; Катя не соображала. Прижимала руки к груди, вертела головой: он тыкался губами в щеки, в шею. Пролез под руки, стиснул грудь; Катя чуть не вскрикнула. Выворачивалась молча и не так чтоб очень сердито, и он вдоволь нашарился по натянутой гимнастерке. Пуговки расстегивать начал, но Катя вырвалась и убежала.
А ночью не спала: металась. Одеяло сбрасывала, вертелась, подушку тискала так, что болели руки: «Дура, дура несчастная, ну чего испугалась, чего? Вот дуреха-то, настоящая дуреха ты, Катька!..»
Наутро майор уехал, и снова поплелись дни, одинаковые, как шинели. И не для кого даже по двору пробежать, потому что кругом одни старики. Лет под сорок…
А через пять дней у деревни Ольховки, про которую так любили петь в женской землянке, прорвались немецкие мотоциклисты. Вылетали один за другим из-за разбитой церкви, и веселая официантка, первой увидев их, крикнула что-то озорное. И первая же упала, наискось прошитая очередью.
Два часа отстреливались. На счастье, стены в штабной избе срублены были хозяйственным мужиком: с расчетом на правнуков. Держали они и пули и осколки, а вплотную немцы подойти так и не смогли, потому что боеприпасов хватало и лупили в мотоциклистов все, кто только мог.
Катя тоже стреляла. Била, крепко зажмуриваясь перед каждым выстрелом и все время забывая прижимать приклад к плечу,— оно потом распухло, Катя долго не могла печатать… Впрочем, диктовать было некому: подполковник Глухов умер у нее на руках. Смотрел в упор уже уходящими глазами, силился сказать что-то и не сказал. Только кровь пузырилась на губах.
За этот двухчасовой бестолковый и яростный бой начальство всех представило к наградам. Через месяц, красная от гордости и смущения, Катюша получила из рук члена Военного совета первую солдатскую медаль «За боевые заслуги».
А потом ревела в землянке. В голос ревела: слезы текли по крутым щекам и капали на новенькую медаль. Жалела Глухова, беспутную официантку и себя. Почему-то очень жалела себя. До боли…
Вместо подполковника Глухова, похороненного в одной братской могиле с разбитной официанткой и еще двенадцатью работниками штаба, пришел капитан Дворцов. Высокий, седой, длиннорукий. Может быть, потому длиннорукий, что рука у него была всего одна, и Катя все время видела только ее, эту одну несуразно длинную сиротливую руку.
— Ты, что ли, моя команда?
— Я.— Она встала, вдруг чего-то испугавшись, словно в комнату вошел не однорукий, весь в шрамах и орденах капитан, а ее собственная судьба.
— Как называть прикажешь?
— Катя. То есть…
— Катя так Катя.— Он тяжело плюхнулся на жалобно заскрипевший стул.— Была пулеметная точка, досталась пулеметная дочка. Ну, волоки ведомости, вводи в курс. Чего уставилась: калек не видела, что ли?
Катя опустила глаза, закусила губу, достала папки. Он листал ведомости, мучительно морщась, точно глотал касторку.
— Дожил ты, Дворцов. Хлопцы там глотки фрицам грызут, а ты портяночки считаешь, мать твою в перемать…
— Не ругайтесь,— до жара покраснев, тихо сказала Катя.— Пожалуйста.
— Что?..— Дворцов удивленно посмотрел на нее.— Уши ватой заложи, пока не привыкнешь.
— Я заложу.— Катя очень боялась, что он увидит слезы в ее глазах.— Заложу, но никогда не привыкну. И вы поэтому все-таки не ругайтесь.
Дворцов фыркнул, но промолчал и сердито уткнулся в бумаги. На следующий день Катя притащила целый ворох ваты и, как только Дворцов вошел, демонстративно законопатила уши.
— Ладно,— хмуро сказал он.— Перестань дурить, я не буду ругаться!
Он и в самом деле никогда при ней больше не ругался, а вот нечаянное прозвище «пулеметная дочка» так и осталось за Катей. И она, вероятно, даже {51} гордилась бы этим прозвищем, если бы не та откровенная насмешка, которую чувствовала всегда, когда эти слова произносил капитан Дворцов.
Так началось состояние «холодной войны». Катя очень страдала, ощущая непонятную в своей откровенности недоброжелательность нового начальника. Она не пыталась понравиться, уже перешагнув за детский рубеж, но еще не обретя женской независимой уверенности. Она стала вдруг какой-то неуверенной, скованной и крайне неуклюжей: отвечала невпопад, делала глупейшие ошибки и все роняла. И плакала по ночам без всякой причины.
— Влюбилась наша Катюша,— вздыхали женщины.— Надо же!
Катя сердилась, яростно отнекивалась, даже кричала на старших. Она была убеждена, что ненавидит своего капитана. Так ненавидит, что не может на него смотреть. И сидела, уставившись в истертую клавиатуру потрепанной машинки.
А он и не разговаривал с нею. Даже не диктовал: просто клал на стол написанное от руки, сухо пояснив:
— Сегодня к вечеру. В пяти экземплярах.
И она печатала, не поднимая глаз, не обращая внимания на входящих {52} в комнату. Словно ее не было здесь. Словно она уже была и не она, а простой придаток к пишущей машинке.
— Костя, ты ли это? Болтали, что тебя на куски разнесло!..
— Сашка, друг!
Катя никогда не слыхала таких интонаций у капитана Дворцова. Даже не предполагала, что он способен радоваться, как все люди. И поэтому впервые за много дней оторвалась от машинки.
Дворцов хлопал по плечам, по спине, бил кулаком в грудь коренастого незнакомого полковника. Полковник хохотал, хлопал в ответ Дворцова: только ордена звенели. Потом они угомонились, присели, закурили. Катя делала вид, что считывает отпечатанную справку, но уши ее были там, у стола начальника.
— Значит, уцелел, старый черт! Ну, рад, рад до смерти! Где Лена, где парнишка твой?
Пауза была очень маленькой, почти неуловимой, но Катя почувствовала ее. Почувствовала и, еще не слыша ответа, уже поняла, каким он будет.
— Одной бомбой, Саша. И Лену и Юру — одной бомбой.
— Что ты, Костя…
— Одной бомбой, Сашка,— спокойно и строго повторил Дворцов.— А я, видишь, живой. Смешно, да? Под танком побывал, а живой. Вот какие пончики, как говорил наш начальник штаба.
— Ты точно знаешь, Костя? Может…
— Ничего, Сашка, уже быть не может: в той машине майор Крестов ехал. Помнишь Крестова? Рыбу ловить любил… Вот. Ему стопу оторвало {53}, а их — в куски. Мне сам Крестов все и рассказал: мы с ним в госпитале встретились.
Полковник говорил что-то необязательное, Катя не слышала. Да и Дворцов тоже не слушал {54}. Поднял вдруг голову, усмехнулся.
— Слушай, полковник, если я тебе сейчас морду набью, меня в штрафбат отправят? Не могу я тут, понимаешь?.. Жить не могу!
Полковник встал, прошелся, посмотрел на Катю, как на печку, вернулся к Дворцову:
— Пиши рапорт на имя командующего. Все изложи: про Ленку, про сына, про танк, который тебя пропахал. Я сам командующему передам: он меня знает, думаю, простит уставное нарушение.
Вечером капитан Дворцов пришел в избу, где жили женщины. Положил на стол банку тушенки и полную флягу.
— Помяните моих… Поревите, если сможете.— Пошел к дверям, остановился, достал из сумки толстую плитку американского шоколада: — Держи, пулеметная дочка.
И ушел. Катя рассказала, что знала о погибшей семье Дворцова. И женщины пили сырец, плакали и пели.
И опять Катя плакала всю ночь, но теперь это были иные слезы. Она уже не думала о себе и жалела не себя. Впервые в своей короткой жизни она жалела чужого мужчину, жалела не за то, что он — калека, а жалела вообще, как умеют жалеть русские бабы. И в этой щемящей жалости рождалась и крепла уверенность, что именно она, Катя, должна спасти его от тоски, горя и одиночества, именно она должна вернуть ему счастье и радость. И она уже знала, что надо сделать для этого, и тоже впервые в жизни не стеснялась своих мечтаний. Наоборот, именно с ними, с этими грешными женскими мыслями, она становилась сильной, спокойной и мудрой, как самая настоящая женщина.
Но отчаянно смелой Катюша была только в мечтах, по ночам. А днем краснела, прятала глаза и стучала не по тем буквам на своем «ундервуде».
Мужество нашло Катю, когда в нем уже не было нужды, потому что капитан Дворцов вдруг повеселел. Он вошел в комнату, скрипучим голосом и весьма немузыкально напевая песню, которую так любили именно в их армии:
День и ночь стучит колесами вагон, День и ночь идет на запад эшелон. В том вагоне фотографию твою Из кармана гимнастерки достаю. Ты, я знаю, измениться не могла, Ты, я верю, все такая ж, как была.Катя смотрела на него разинув рот.
— Ну, Катя, вместе! — весело крикнул он.
Атака ночная, Граната ручная, Сплошной нескончаемый бой. Я верю, тебя вспоминая, родная, Что скоро я встречусь с тобой.И Катюша запела тоже. Сначала тихо, неуверенно, а потом во весь голос, как во времена подполковника Глухова. А когда они дружно и старательно допели песню до конца, капитан Дворцов сказал, улыбаясь от уха до уха:
— Разрешили, Катерина! Разрешили, чуешь!..
— Что разрешили? — еще продолжая по инерции улыбаться, но уже все поняв, спросила Катя, и сердце ее застучало стремительно и больно.
— «На позицию девушка провожала бойца…» — Капитан обнял стул единственной рукой и провальсировал по комнате.— Назначен ПНШ-1 {55} в действующий стрелковый полк. Завтра за мной заедет Сашка, и… прощай, пулеметная дочка!
— Завтра?..
— Завтра, Катерина, завтра!
Катя вдруг встала. Какие-то очень важные и почти секретные бумаги посыпались на пол, но она уже ничего не видела и не хотела видеть. Она видела только его, опаленного изнутри и перепаханного снаружи. Видела его и шла к нему, натыкаясь на пронумерованные и оприходованные штабные стулья.
— Ты что это, солдат?
Капитан схватил за плечо, больно сжал и не позволил сделать того последнего шага, за которым уже не было ничего, а лишь его грудь. Его грудь, к которой она до боли хотела прижаться, тело, в которое она мечтала перелить свое тепло, свой жар молодого, глупого и безоглядного в этой глупости девичьего тела. А он сказал: «Солдат». Не «Катя», не «девочка», даже не «дочка». «Солдат». И Катя с такой быстротой закрыла ладонями свое пылающее лицо, словно сама себе давала пощечины.
— Это еще не любовь, солдат,— тихо сказал Дворцов, все еще цепко держа ее в отдалении длинной единственной рукой.— Это жалость. А мне жалость ни к чему, я от жалости сам себя жалеть начну. А на мне — крест. И в прошлом и в будущем.
— Уйдите,— тихо сказала Катя, по-прежнему пряча лицо в ладонях.— Пожалуйста, уйдите отсюда.
— Прощай, солдат! — Дворцов крепко встряхнул ее за плечо.— Любовь и на войне — золото: береги его. Для хорошего парня сбереги!
Это был горький урок, и горечь рассасывалась медленно. И, наверно, поэтому сменивший капитана Дворцова майор Мельник — тоже раненый, но не утративший желания приволокнуться, так ничего и не добился. Катя была строга, грустна и неприступна, была вся в прошлом, в своей неудачливой любви к однорукому капитану, и это прошлое спасло ее любовь в незамутненной неприкосновенности еще [на] целый год войны.
Через год она взорвалась в Кате, эта зажатая девичеством и гимнастеркой жажда любить. Взорвалась в объятиях такого же молодого, как и она, лейтенанта с седыми висками, обожженным лицом и горькой мужской складкой между сгоревших бровей. Взорвалась в светлом, как храм, березняке, и птичий гомон заглушил Катин девичий вскрик. И Катя до сих пор помнила этот гомон и этот вскрик, до сих пор улыбалась им, улыбалась тихо и печально, осторожно, кончиками пальцев снимая с ресниц слезинки.
Лейтенант был горяч и настойчив. Катя смущенно и сбивчиво втолковывала ему про смятую юбку, про людские глаза, про стыд, а он молча вел ее мимо этих глаз к помощнику по разведке. Почти силой втащил в избу.
— Это моя жена, товарищ полковник. Прошу официально оформить брак.
— Выйди,— помолчав, сказал полковник Кате.
— Нет.— Лейтенант сжал ее руку.— Говорите при ней все, что хотели.
— Хорошо.— Полковник опять помолчал.— Сначала — война, потом — семья.
— Одно другому не помешает.
— Не помешает, если вернешься с задания…
Он не вернулся с задания. Полковник рассказал Кате, что лейтенант отстреливался до последнего патрона и взорвал себя противотанковой гранатой: поиск сложился неудачно. Но для Кати этот лейтенант навсегда остался тем, кто приходит в девичью жизнь с любовью и уходит из нее, унося эту любовь. И с того звонкого майского дня она писала в анкетах, что муж ее погиб на войне…
Ах, как стучит за стеной машинка! Как пулемет…
— Понимаете, это очень срочно. Девяносто страниц. Я опоздал со сроками.
— Я сделаю, не беспокойтесь.
Катя сделает. Будет стучать всю ночь, а утром пойдет на работу. И там тоже будет стучать, и там тоже будут просить поскорее, и она скажет, что успеет. И успеет все сделать, не успев пообедать…
…Победу Катя встретила в Германии. Три дня она пела и плакала, плясала и стреляла в чужое, наконец-таки затихшее небо, опьяненная немыслимым счастьем. Это счастье было так велико, что притупило даже ту страшную боль, которая жила в ней с марта сорок пятого. Тогда, в марте, она получила письмо, где сообщалось, что отец ее был убит в январе под Варшавой, а мать умерла месяц спустя. Это письмо писал я сразу после похорон на нашей коммунальной кухне. Поседевшие соседки тихо звякали стаканами, готовя суровые военные поминки, а я мучительно искал, чем бы заменить слово «смерть».
Летом Катя вернулась в пустую комнату. Мы — вся квартира — сидели за ее столом, пили привезенное ею вино и закусывали американской колбасой из последнего Катиного пайка. И я был единственным мужчиной за этим столом, потому что все остальные наши мужчины, отцы, мужья и сыновья, все наши семь звонков остались в братских могилах войны.
Катя очень хотела учиться. Мы тогда много говорили об этом. Все женщины дружно уговаривали ее идти на дневной факультет и ни о чем не думать, кроме учебы.
— Ты же у нас одна вернулась, Катюша. Уж как-нибудь и прокормим и оденем — только учись.
— Спасибо! — Катя улыбалась, смахивая слезы.— Спасибо, родные вы мои!
Она выросла из всех платьев и долго ходила в военной форме, весело звеня медалями. Бегала в МГУ, узнавала о конкурсе на филологический, навещала подруг и осиротевших матерей одноклассников.
И еще искала родственников. Упорно искала, писала письма, делала запросы, ходила, хлопотала, выясняла. И нашла.
— Знаешь, я поступила на работу.
— Как на работу? А МГУ?
— МГУ? Не получается МГУ.
Было около двенадцати. Я только вернулся с занятий, так как работал днем, а учился вечером. И Катя вышла на кухню, услышав, что я брякаю посудой.
— У моей двоюродной сестры муж пропал без вести. В мае сорок второго, под Харьковом. А у нее трое: двойняшки как раз в сорок втором и родились. Хорошие такие двойняшки.
Помню, я уговаривал ее, с жаром доказывал, что она заслужила право подумать и о себе, что нельзя предавать мечту, что… Что мог еще доказывать семнадцатилетний фрезеровщик с завода «Динамо»? Катя слушала молча, иногда поглядывая на меня, и почему-то с благодарностью. А потом сказала:
— Они картошку поштучно делят.
И ушла работать в машбюро. По специальности. И на работу Катюша продолжала ходить в старой солдатской форме. Только медали больше не брякали, потому что она сняла их уже на второй день.
— Там вдовы одни, в машбюро нашем. Зачем напоминать?
Первое платье мы подарили ей на день рождения. Мы думали, что она обрадуется, а Катя заплакала. Она плакала так громко, так отчаянно, так безнадежно, что мы и не пытались ее утешать. Мы как-то сразу поняли, что наша Катюша, которой в этот день исполнился двадцать один год, с чем-то прощается.
Катиной зарплаты никак не могло хватить на две семьи, и никакие сверхурочные тут не помогали. Но помог случай, и случай этот Катя считала самым большим своим счастьем. Кроме тех трех часов в березовой роще.
Звонок был длинным, вызывающе веселым, и дверь открыл я. На площадке стоял полковник, держа в правой руке странный и, видимо, тяжелый чемодан. Левый рукав был аккуратно засунут в карман шинели. Он ничего не успел спросить, как за моей спиной вскрикнула Катя, и я посторонился:
— Здравствуй, пулеметная дочка,— тихо сказал полковник.— Здравствуй, родная, здравствуй!
Я забрал лимитки у всех соседей и в Смоленском гастрономе купил две бутылки коньяку и самый красивый торт: на большее не хватило. А когда прибежал, перед Катей на столике стояла новенькая пишущая машинка «Олимпия».
Мы всей квартирой пили коньяк, вспоминали тех, кто не вернулся, и громко пели вместе с Катей и Дворцовым:
День и ночь идут жестокие бои…Допели песню, и Дворцов заторопился:
— Извини, Катюша, через час — поезд. Я ведь проездом: в Сибирь нацелился.
— Как проездом?..— Катюша встала.— Почему проездом?
— К жене.— Полковник улыбнулся смущенно и чуть виновато.
— Жива?! — крикнула Катя. И столько радости было в этом крике, столько счастья!..
— Нет,— вздохнул Дворцов.— Влюбился, понимаешь, в переводчицу. Девчонку мне родила…
Дворцов уехал, а подарок остался, и теперь Катюша брала работу на дом. Я написал объявления, и мы с ней расклеили их по столбам: «ПЕЧАТАЮ НА МАШИНКЕ».
Катя печатала не просто быстро, она печатала очень грамотно и непременно считывала текст, и ее работы не нуждались в правке. У нее появилось много заказчиков, но она никому не отказывала, отказывая себе. И не просто в отдыхе или в развлечениях, а в личной жизни, в своей женской судьбе. Она словно приняла ее, эту неустроенную судьбу, такой, как она сложилась, не споря с ней, не пытаясь сопротивляться, но и не горюя. Только смеяться стала все реже, а редкие новые платья постепенно темнели, пока окончательно не превратились в черные. С белоснежными и очень строгими воротничками.
Впрочем, тут была еще одна причина.
…Тогда она печатала рукопись какого-то заезжего начинающего сценариста. Отдавая работу, часть которой была отпечатана, а часть написана от руки, сценарист стеснялся, беспрерывно курил и повторял:
— Понимаете, все это, конечно, чепуха, не стоит внимания, но просит студия. А в общем, чепуха. Не читайте, если можно.
«Мистер Тутс,— улыбнулась про себя Катя: она очень любила Диккенса.— Милый мистер Тутс». И сказала:
— Как же я буду печатать, не читая?
— Да, конечно, конечно,— покорно согласился он.— Только вы не вникайте.
— Тогда я наделаю ошибок.
— Тоже верно.— Он вздохнул и прикурил новую сигарету.— Ничего, что я курю? Просто мне очень не хочется, чтобы вы подумали, будто я графоман.
Как только «Тутс» ушел, Катя села читать сценарий. Она с трудом продиралась сквозь бисерный почерк сценариста, но ей понравилось. А печатая, вдруг споткнулась на середине.
— Ты не спишь?
Было два часа, я только заснул, но поднялся. Катя вошла с рукописью, странно улыбаясь. Она словно открыла что-то, но робела, не веря в собственную догадку.
— Скажи, если ты — девушка и очень любишь одного человека…
Я хотел спать, не был девушкой, сидел в одних трусах и мерз, потому что именно зимой у нас топили плохо. Но я поднатужился и спросил по делу:
— Люблю-то стоящего парня?
— В том-то и дело! — У Кати, как в юности, сверкнули глаза. К тому времени зрение ее уже стало сдавать из-за бесконечных ночных работ, и глаза теряли блеск. Но очков Катюша еще стеснялась.— В том-то все и дело! Просто он тебя еще не любит. Еще, понимаешь? И поэтому случайно обидел. А тут у него сплошные неприятности с какой-то шахтой, и все от него отвернулись. Все! Он один-одинешенек, и ему плохо. Что ты сделаешь?
— Черт его знает… Впрочем, я — влюбленная девица? Тогда приду к этому парню, и плевать мне на его шахту…
— Но он же тебя обидел.
— Ну и что? Ему же плохо…
— Вот! — с торжеством сказала Катя.— А автор про это забыл. А когда любишь, даже когда просто влюбишься, то все отдашь. Все, понимаешь? Все отдашь и все простишь. С радостью!
Она не стала дальше печатать, а утром позвонила «мистеру Тутсу». Было воскресенье, «Тутс» быстренько прибежал, и они о чем-то долго спорили за стенкой. Потом Катюша влетела ко мне:
— Согласился!
Катя всю ночь печатала исправленный вариант, а через неделю сценарист заявился с букетом и вином:
— Приняли! И особенно, знаете, что хвалили? Ваш эпизод!
— Ну, что вы! Я…
— Ваш эпизод, не спорьте! И если бы не вы… Словом, приглашаю вас на просмотр…
— Мне одного билета мало,— улыбнулась Катя.— У нас в квартире семь звонков.
Они пили вино, «Тутс» шутил, и Катюша была счастлива. И чем темнее становилось за окном, тем все оживленнее делалась Катя, и сердце ее стучало так, как не стучало уже давно. С войны.
А он совсем не торопился уходить, сбегал еще и за шампанским и ловко рассказывал смешные истории. Катя хохотала, боялась, что он уйдет, и боялась, что останется, боялась его и боялась себя.
— Ох, как поздно! — спохватился он в первом часу.— Пожалуй, меня к друзьям-то и не пустят. Может, мне к соседу вашему попроситься? Он, кажется, один…
— Зачем же? — сказала Катя, с ужасом услышав, как спокойно звучит ее голос.— Я вам постелю на диване.
Она постелила две постели, но проснулись они в одной. Как всякая женщина, Катюша знала, что так оно и будет, и, как всякая женщина, верила, что утром случится что-то очень важное, а если и не случится, то хоть бы прозвучит.
Но утром ничего не прозвучало. «Мистер Тутс» был суетлив и очень торопился по своим делам. И в этой суетливости было что-то невыносимо оскорбительное.
Больше он никогда не появлялся и не звонил… Катя упорно старалась думать о другом, о светлом, но горечь росла, помимо ее желания и воли. И тогда она впервые во всеуслышание назвала свою машинку «старой „Олимпией“» с той интонацией, которая осталась навсегда. И стала носить очки.
А фильм она все-таки посмотрела. Правда, не премьеру, потому что билетов ей никто не прислал. Сцена, которую она придумала, была, но от этого горечь, засевшая в ней, словно всплыла наружу, и на картине той плакала она одна, хотя финал был оптимистическим и жизнеутверждающим, как и положено в кино.
И больше решительно ничего не случилось в ее жизни. Сын двоюродной сестры окончил институт и уехал, а двойняшки весело вышли замуж. Они никогда не бывают у нас, но Катя озабоченно говорит, что второй трудно живется, и зарабатывает ей ночами на кооперативную квартиру.
— Семь экземпляров. У меня хорошая машинка. У меня старая «Олимпия».
Если вам надо что-нибудь отпечатать, заходите: Катюша никогда не откажет. Наш дом за спиной ультрасовременных гигантов из стекла и бетона. Поднимитесь на самый верх по узкой лестнице со стертыми каменными ступенями и сразу увидите дверь, на косяке которой — табличка с семью фамилиями, и только одна из этих фамилий с мужским окончанием. Моя. Только одна, потому что из нашего дома, подвалы которого до сих пор пахнут порохом 1812 года, а стены — горечью сорок первого, мужчины уходили навсегда.
А фамилия… Какая разница, какая у нее фамилия? Она — К а т ю ш а, а это имя очень многое значило для нас. Очень многое.
Поверьте уж мне на слово, молодые…
1975
Ветеран
— Алевтина Ивановна, что же это вы свои факты скрываете? Нехорошо!
Старший бухгалтер отдела сбыта Алевтина Ивановна Коникова — пятидесятилетняя, в меру полненькая и еще не утратившая инстинктивного желания нравиться,— удивленно смотрела на секретаря комсомольской организации фабрики. Секретарь был юношески самоуверен, горласт и глядел с победоносным торжеством.
— Я ничего не скрыла,— начала она, лихорадочно припоминая все анкеты, когда-либо заполненные ею.— Я всегда…
— Да вы же, оказывается, ветеран!
Алевтина Ивановна неудержимо начала краснеть. Краснела она по-девичьи, заливая краской лицо и шею, и сердилась при этом, но сейчас улыбалась мучительно заискивающей улыбкой. И встала.
— Ну что вы, какой же я…
— Знаем, знаем, факты проверены! — прокричал комсорг, наслаждаясь собственной осведомленностью.— Скромность, конечно, украшает, но в год, когда вся наша страна…
Комсорга несло, сотрудницы перешептывались: Алевтина Ивановна чувствовала их взгляды, смущалась еще больше, что-то бормотала, виновато оправдываясь, что она была не на фронте.
— Ну, зачем же… Я же не на передовой. Я же…
— Вы — ветеран! — сияя искренней радостью, твердо перебил комсорг.— Ну, намучился я, пока вскрыл… У нас на фабрике при наличии поголовного большинства женщин вы, Алевтина Ивановна, клад! Завтра выступаете.
— Завтра? — перепугалась Алевтина Ивановна.— Как завтра? Почему завтра?
— Мероприятие завтра в семь во Дворце культуры. Уже объявление пишут: «Воспоминания о войне». Пока!
Комсорг ушел, Алевтина Ивановна опустилась на стул и горько заплакала. Сотрудницы всполошились, побежали за водой, валерьянкой и главбухом. И главбух пришел раньше, чем притащили валерьянку. Он тоже был женщиной, этот главбух в строгих очках, ему не требовались ни факты, ни логика, и одновременный рассказ всех присутствующих позволил принять единственно правильное решение:
— Идите домой, Алевтина Ивановна.
— Как же…— выпив наконец-таки доставленную валерьянку, всхлипнула Коникова.— Отчет ведь.
— И завтра тоже можете не приходить: я договорюсь с дирекцией. Успокойтесь и подготовьтесь: у вас ответственное выступление.
И Алевтина Ивановна пошла домой. Впрочем, не сразу домой, а сначала в магазин, потому что у нее была семья, которую надо кормить. И, стоя в привычной очереди, занимаясь привычными делами, она как-то сама собой успокоилась и пришла домой хоть и взволнованной, но без того страха, который вдруг обрушился на нее при известии, что она — ветеран Великой Отечественной войны и что завтра ей предстоит выступать в самом большом зале Дворца культуры.
Она готовила обед, кормила прибежавшую из школы младшую дочь, слушала ее новости, даже что-то отвечала ей, а сама с необычайным упорством думала об одном. О том, что завтра выйдет на залитую ослепительным светом сцену, на которой доселе никогда не была, а видела только заезжих артистов, президиум в дни торжеств да участников местной самодеятельности. Думала о том мгновении, когда окажется перед затихшим залом, наполненным ткачихами, которые много лет знали ее и которых знала она. И этот знакомый зал будет напряженно ждать, что же она скажет, будет смотреть на нее, сдерживая дыхание, будет видеть в ней уже не старшего бухгалтера Алевтину Ивановну Коникову, а полномочного представителя тех, кто победил, и тех, кто не увидел победы. И этот момент появления перед людскими глазами занимал ее сейчас куда больше того, о чем нужно было бы подумать и к чему следовало серьезно подготовиться: что же она скажет?
Правда, тут Алевтина Ивановна немножко успокаивала сама себя. Она очень верила собственному мужу — человеку серьезному, непьющему, прошедшему фронт, трижды раненному и все-таки взявшему Берлин. Он кропотливо собирал библиотечку военных мемуаров, читал только их, а художественную литературу считал выдумкой, не стоящей внимания. И Алевтина Ивановна твердо верила: уж он-то знает, как и о чем следует выступить, и напишет все, что полагается.
Но сегодня он что-то задерживался, ее Петр Николаевич. Алевтина Ивановна переделала все домашние дела, отправила дочку погулять, дождалась, когда она вернется, выслушала очередные секреты и усадила за уроки, а мужа все не было. Она мыкалась по квартире, пыталась написать письмо сыну, но дальше слов: «Здравствуй, дорогой сыночек!» — так ничего и не написала. И снова бродила, то вдруг хватаясь за очередное женское занятие, то вновь бросая его.
Следует сказать, что Алевтина Ивановна твердо считала себя очень счастливой женщиной. Настолько счастливой, что подчас ужасалась, оценивая размеры собственного женского счастья и не ощущая за собой ровно ничего необыкновенного: ни красоты, ни утонченного обаяния, ни больших знаний, ни каких бы то ни было талантов. Порой ей становилось отчаянно страшно за свое счастье, но то был добрый страх: он не пугал, а [лишь] как бы увеличивал цену того, что у нее дружная семья, любящий муж, хорошие дети, работа и уважение окружающих. И она всю жизнь старалась изо всех сил и дома, и в семье, и на работе. Старалась оправдать и эту любовь, и эту дружбу, и это уважение. И однажды, допустив ошибку в какой-то особо важной бумаге, терзалась так, что чуть не угодила в больницу. И люди давно привыкли и к ее старательности, и к ее безотказности.
— Бригаду в колхоз? Поручите Кониковой.
Коникова ехала без всяких разговоров, и никто не сомневался, что порученные ей девчонки-ткачихи, оторванные от привычного труда на очередной картофельный аврал, сделают все точно и в срок. Сделают не потому, что Алевтина Ивановна проймет их юное легкомыслие какими-то особыми словами, а потому, что сама не уйдет с поля, пока задание не будет выполнено. Дотемна, так дотемна, до ночи, так до ночи.
— Поручите Кониковой. Коникова не подведет.
Коникова никогда не подводила, а вот завтра могла подвести. Она чувствовала, что могла, не знала, что следует предпринять во избежание этого позора, и все сегодня валилось у нее из рук. И ждала она своего Петра Николаевича, как спасения.
Петр Николаевич пришел поздно: дочь уже спала, а по телевизору кончились передачи. Пришел усталый и хмурый, долго мылся в ванной, громко и сердито фыркал. Это было особое его фырканье, и Алевтина Ивановна знала, что расспрашивать о причинах плохого настроения, а тем паче высказывать какие-либо свои неприятности не следует. Следует ждать, когда сам заговорит: мужчина был с норовом.
Заговорил Петр Николаевич, закурив после ужина. Курил он только на кухне, обязательно открывая форточку: берег некурящих. А в этот вечер про форточку забыл, и Алевтина Ивановна открыла ее сама.
— Видишь, до чего довели? — с укором сказал он.— А все — главный. Я ему говорю, что обрывов не избежать: станки изношены, люфты уж никакими прокладками не выберешь. Я сегодня полторы смены без обеда ковырялся, аж внутри все дрожит. Тут не только про форточку забудешь, тут дом родной не найдешь.
— Сделал? — спросила она.
Спросила нарочно: знала, что все он распрекрасно отладил, проверил и проследил, как работает. Ее Петр Николаевич был редчайшим мастером-наладчиком, надеждой руководства, «доктором», как его называли в цехах. И спрашивала она только для того, чтобы он улыбнулся и чуточку похвастался.
— Спрашиваешь! — Он действительно улыбнулся.— Дело знаем, не волнуйтесь. В лучшем виде, как говорится: не зря фабричный хлеб едим.
Теперь, когда он пришел в свое обычное дружелюбно-улыбчивое состояние, можно было рассказывать о своих заботах. И Алевтина Ивановна, волнуясь и говоря поэтому массу лишних слов, поведала о посещении комсорга и о своем предстоящем выступлении во Дворце культуры.
— Дело серьезное,— сказал муж, и Алевтина Ивановна увидела знакомую складочку меж строго сдвинутых бровей. И обрадовалась.
Складочка эта — а его лицо она знала куда лучше, чем он сам,— так вот, эта особая мужская складочка появлялась тогда, когда мастеровой человек, наладчик высочайшего класса Петр Николаевич Коников всерьез, так сказать, на полную мощность включался в иную, непрофессиональную сферу деятельности. С этой складочкой он читал мемуары советских полководцев, старательно разбираясь в стратегических планах кампаний; с этой складочкой долго и мучительно писал брошюру о наладке станков, а также свои собственные выступления, потому что тоже был ветераном и даже почетным членом одной пионерской дружины. Теперь эта складочка возникла из-за нее, и Алевтине Ивановне стало не просто тепло на душе, но и покойно.
— Вот и о тебе вспомнили,— улыбнулся он, проходя в комнату.
— Ох, Петя, не надо бы всего этого,— вздохнула она.— И чего им нас-то вспоминать, какие мы солдаты?
— Все правильно,— строго сказал муж.— На войне у каждого — свое дело, не все же из винтовок лупили.
Петр Николаевич неторопливо надел очки и прошел к заветной полке, где любовно были собраны дорогие его сердцу книги. Ласково провел ладонью по суперобложкам, подумал, припоминая. И не припомнил.
— Кто у тебя командующим-то был?
— Техник-лейтенант Фомушкин.
— Ну, какой там Фомушкин! — усмехнулся муж.— Я тебя серьезно спрашиваю, а Фомушкин твой — это, знаешь, для домашнего употребления. Ты же выступать будешь перед массами. Перед комсомолом, звонкой нашей сменой. Какое им дело до твоего техника? Тут масштаб нужен! Толбухин, точно?
Она кивнула немного расстроенно и тут же улыбнулась, чтобы скрыть это расстройство. Но Петр Николаевич на нее уже не глядел, а отбирал с полки то, что имело касательство к Четвертому Украинскому фронту.
А расстроилась Алевтина Ивановна из-за его пренебрежительного отношения к ее «командующему», технику-лейтенанту Фомушкину. Расстроилась, потому что сразу вспомнила этого Фомушкина, когда-то наглухо засыпанного в окопе и откопанного благодаря великой фронтовой случайности. После этой контузии у него непроизвольно дергалась голова и при малейшем волнении дрожали руки. Все девочки отряда знали об этом и изо всех сил старались уберечь своего «командующего» от неприятностей. Не потому, что жалели — на войне этого чувства ни у кого надолго не хватит,— а потому, что техник-лейтенант был в два раза старше любой из своих подчиненных и всегда упорно твердил одно:
— Вы, девчата, мне все говорите, все свои секреты. У меня дочке двадцать лет, и я все про вашего брата знаю. Требую не стесняться.
Но они все-таки были девчонками, стеснялись, мучились из-за этого и болели, и руки техника-лейтенанта Фомушкина дрожали все сильнее и сильнее.
— Какую основную стратегическую задачу решал Четвертый Украинский фронт под командованием маршала Советского Союза Федора Ивановича Толбухина? — опять сдвинув брови, начал муж, и Алевтина Ивановна тотчас же постаралась изгнать из своей памяти дрожащие, как у старика, руки своего командира.— Ну, первый этап войны мы отложим: ты ведь в сорок третьем на фронт пришла?
— В сорок третьем. В апреле.
— Значит, главное — второй этап,— важно сказал Петр Николаевич.— Он и вообще важнее, и ты — прямая участница. А второй этап — это интернациональная помощь порабощенным фашизмом странам. Освобождение Румынии, братской Болгарии и боевое взаимодействие с югославскими партизанами. Ты где войну закончила? В Белграде? Значит, сходится, этим и завершишь. Про освободительную миссию поняла? Завтра проштудируешь.— Он уважительно погладил стопочку отложенных книг.— Тут я тебе материал подготовил. Не какая-нибудь там художественная литература: мемуары! Вот на них и опирайся.
— А про себя?
— Что про себя? — не понял Петр Николаевич.
— Про себя рассказывать велели.
— Это как белье стирать? — усмехнулся он.— Стирать они и без тебя умеют.— Но чтоб сгладить слишком уж явную насмешку, добавил серьезно: — Про себя, Аля, рассказывать нам ни к чему, это никому не интересно. Важно в масштабе вопрос поставить. Миссию подчеркнуть важно, понимаешь?
Алевтина Ивановна покивала, соглашаясь. Она верила мужу: он и выступал часто, и знал больше, и читал книги. А сама Алевтина Ивановна, относясь к литературе с великим уважением, читала редко и мало, чаще обходясь телевизором да семейными походами в кинотеатр «Ткачиха». И времени на чтение у нее не хватало, да и потребности особой она в нем не испытывала. Книга требовала сосредоточенности и времени, а телевизор можно было смотреть, штопая дочке колготки.
Но следующий день ей дали не для отдыха и не для домашних дел, а для работы, для того, чтобы она готовилась. Это было сродни привычным поручениям, вроде картошки, родительских собраний или занятий с молодыми ткачихами в кружке художественной вышивки, которой она очень увлекалась. Да и Петр Николаевич советовал ознакомиться с мемуарами, и поэтому она, проводив мужа на работу, а дочку в школу, не стала дописывать начатое письмо служившему в армии сыну, а разыскав чистую дочкину тетрадь, села к столу и начала читать отложенные мужем книги.
Она читала очень старательно, хотела понять и запомнить, выписывая для этого целые абзацы в тетрадку. Это был нелегкий труд, но она бы справилась с ним — она и не с такими трудностями справлялась,— она бы справилась, если бы не все растущее в ней несогласие с тем, о чем говорилось в книгах.
Там рассказывали о коварных замыслах противника и о хитроумных контрпланах наших штабов. О разведданных и передислокации войск, об удобстве рокадных дорог и значении танковых соединений при прорыве глубокоэшелонированной обороны противника, о транспорте и снабжении, о донесениях снизу и о докладах наверх, о политике союзников на Балканах и об использовании личного резерва командующего фронтом в критические моменты гигантских сражений.
Это была какая-то иная, не ее война. Алевтина Ивановна вспомнила усталость, от которой тошнило во сне, вшей на мертвых и на живых, тяжкий запах переполненных братских могил, вспомнила обугленных танкистов в сгоревших танках, двадцатилетних лейтенантов с седыми прядями в аккуратных прическах, надсадный вой пикирующих бомбардировщиков и искалеченные молодые тела: мужские и женские. Изодранные осколками, пробитые пулями, исколотые штыками, изрезанные кинжалами. И еще — своего «командующего» — сорокалетнего техника-лейтенанта с дергающейся головой и дрожащими, как у старика, руками. «Только вы не стесняйтесь, девчата, все мне говорите. Вы же тяжести таскаете и в сырости все время, в пару. Если болезни какие, не скрывайте, очень прошу. Боюсь, покалечитесь — рожать не сможете».
Алевтина Ивановна всю войну прошла бойцом банно-прачечного отряда, а попросту говоря — прачкой. Двести пар заскорузлого от крови и пота обмундирования и горы окровавленных бинтов ждали их на каждом рассвете войны. Двести пар были нормой, а бинты шли сверх всякой нормы и в первую очередь, потому что их не хватало. И с рассвета и дотемна бойцы банно-прачечного отряда гнулись над корытами и кипящими баками. В пару не видны были ни руки, ни лица, и это было хорошо, потому что заодно не видно было и слез, капавших прямо в мыльную пену, прожигая в ней дорожки до самого кипятка. И только техник-лейтенант Фомушкин знал об этих слезах. И вздыхал.
— В войну соль дорожает, а слезы дешевеют. Вот какие дела, девчата.
От кипятка и ядовитого, пронзительно вонючего мыла трескалась и уже не заживала кожа. Ее разъедало горячей пеной, и девушки всегда старались прятать от мужских глаз [свои] красные, распухшие, покрытые язвами руки.
А потом как-то незаметно, исподволь стали исчезать и ногти. И стирать стало не просто больно, но и страшно: а вдруг они, эти ногти, так и не вырастут никогда! И девушки очень расстраивались и плакали теперь не только от боли и усталости, но и от страха. Вернуться с фронта с лапами вместо рук: что это за женщина без коготков? И опять Фомушкин обо всем догадался, ничего не сказал, а утром на лошади привез военврача. Она посмотрела:
— Все у вас вырастет, не бойтесь, девочки. Все хорошо будет, только бы война эта проклятая кончилась поскорее.
А потом врача — беспрерывно курившую, суровую женщину — через неделю технику-лейтенанту пришлось потревожить снова: у двух девочек {56} вдруг нарушения обнаружились. Сначала внимания не обратили, а потом то же самое еще с несколькими произошло, и тогда уж струсили по-настоящему. Без ногтей вернуться — это хоть и некрасиво, да куда ни шло: война и не такое с людьми делает. Но вернуться не женщинами, а неизвестно кем, средним родом каким-то, замуж не выйти, детей не иметь — это уж было совсем невозможно. А к тому шло.
— Баки очень тяжелые,— сказала военврач.— Нельзя вам такие тяжести поднимать, девочки милые.
— Так,— сказал Фомушкин, и руки у него задрожали.— Не стирать, пока не вернусь. Приказываю.
Залез было с докторшей на подводу, но спрыгнул. Выволок баки, достал старый наган и лично прострелил днища. Всем шести бакам. Пошвырял дырявые на подводу и отбыл.
К вечеру только вернулся. Дергался больше прежнего, но привез другие бачки. Поменьше калибром, девять штук.
Вот после этого и ходил он за девичьими согнутыми спинами и молил, как дочерей:
— Не стесняйтесь вы меня, девчата, правду говорите, ради Христа. Не прощу себе, если покалечитесь.
Алевтина Ивановна давно уже не видела строчек в лежавшей перед нею книге. Обваренные паром лица, распухшие руки да красная от крови мыльная пена, в которой отмокало поступавшее из медсанбатов обмундирование, все настойчивее, все четче и яснее возвращались из далекого далека, из того далека, что у всех поколений всегда бывает самым звонким, самым свободным и самым прекрасным, за что и называется юностью.
Прибежала из школы дочь, что-то болтала об уроках, о подружках, об этом длинном дураке Сережке, но Алевтина Ивановна, поддакивая, не слушала ее. А отправив гулять, снова села за стол, за раскрытую книгу, снова честно пыталась читать, и снова строчки поплыли перед глазами…
— Девочки, еще бинтов двадцать два мешка привезли. Это срочно, девочки: в медсанбатах перевязывать нечем,— сказала младший сержант Самойленко.
Двадцать два часа тогда за корытами и простояли, двадцать два — почти сутки. И ели тут же, среди щелока и мыла, в едком пару, сидя на грудах бинтов, ломких от крови и гноя. Ели медленно и молча, как старушки, ложки качались в руках, а жевать не было сил: глотали нежеваное. И падали на эти же бинты, теряя сознание или засыпая на десять минут, снова вставали и снова склонялись над корытами. И казалось, что нет уже никаких сил и никаких желаний: только спать, спать, спать.
Но одно желание было всегда — желание нравиться, и мечта, что когда-нибудь и для них придет оно, девичье счастье, в скрипящих сапогах, с таким знакомым, с таким привычным запахом пороха, пота и крови. Придет — они молились за это счастье, они верили в него и ждали его как награду за труд, за страх, за боль и за то еще, что несмотря ни на что, вопреки всему на свете они оставались теми, кем были: женщинами.
Именно об этом ей особенно хотелось рассказать молодым ткачихам. Ей казалось, что эти молодые девчонки не выдерживают первых испытаний, что слишком многое прощают, слишком легко подчиняются, слишком суетятся, спешат жить, хватая и отдавая по кусочкам то, что отдают и получают целиком, торжественно и серьезно. Она хотела рассказать, как назло всему тогда на войне, женщины старались быть женственными, как ночами, с ног валясь, перешивали солдатские гимнастерки, как единственное зеркало — большое, правда, случайно доставшееся,— от бомбежек берегли, укутывая одеялами да еще и сверху ложась; как руки от мужчин прятали, чтоб не коснулись ненароком те мужчины их распухших, шершавых, изъязвленных лап, как…
Алевтина Ивановна улыбнулась и смахнула слезу, вспомнив дружное девичье отчаяние, когда им вместо чулок выдали трикотажные офицерские кальсоны. Все было забыто перед этой чудовищной несправедливостью, перед этим официальным отрицанием их женского естества. Ревели и бунтовали, и хотели даже делегацию к самому высокому начальству посылать, да Леночка Агафонова выручила. Живая девчонка была, выдумщица и хохотушка; убило ее потом. Весной сорок пятого.
Пока они там спорили, возмущались, кричали и плакали, Лена деловито надела кальсоны, походила перед бесценным зеркалом, разглядывая себя со всех сторон, что-то подтянула, подобрала, прикинула и крикнула торжествующе:
— Рейтузики!
Тут же переделала верх, вставила резинку, снизу штрипки пришила, чтобы кальсоны, как чулки, натянуты были, лишнее вдоль всей ноги в аккуратные швы подобрала, и вышло то, что надо. Да еще и со швом, очень модным в те времена.
— Вот, девочки, глядите.— Прошлась, затянутая, как гусар.— Красота! Даже сапоги надевать не хочется. Эх, туфельки бы сейчас! Хоть самые завалящие…
— А цвет?
— А лук на что?
Выварили в луковой кожуре, надели — даже гордые связистки обзавидовались. Им, связисткам, чулочки с пояском выдавали, как положено, только этот пояс с резинками на казенном языке вещевого довольствия назывался очень уж некрасиво и неделикатно: «пояс-держатель». Армия точность любит.
Вот так они тогда колготки изобрели — эту непременную принадлежность каждой сегодняшней девчонки. Так что и радости и открытия тоже были, не только пот, кровь да слезы.
Да, были и радости. Правда, мало, не для всех, зато за других радоваться умели. От всей души. И чужую радость берегли и гордились ею, как своей собственной, а может, и больше.
— Девочки, влюбилась я, кажется…— сказала самая младшая и тихая Лидочка Паньшина, когда спать вповалку укладывались.
Сразу трескотня утихла. Кто лежал — из-под одеял вынырнул, кто раздевался — раздеваться перестал: все на Лиду смотрели.
— Кажется? Или влюбилась? — строго спросила младший сержант Самойленко.
— Ой, не знаю. Ничего не знаю, девочки.
Лидочка сидела на нарах в бязевой солдатской рубахе, глядела в пространство, как в завтрашний день, и улыбалась.
— Это уж не кажется, а вполне точно,— вздохнула Лена.— Кто он?
— Лейтенант. Мост разминирует, что немцы взорвать не успели.
— Сапер, значит,— сказала Самойленко.— Ясно. Завтра чтоб здесь был. Предъявишь, а там решим. Спать! Спать без разговоров, в пять — подъем, в пять тридцать — свидание с корытами! Все!
Лейтенант был молод: мальчишеская шея по-гусиному торчала из гимнастерки. Вырвался всего на полчаса, смущался, робел и очень старался помочь. Помочь, а не понравиться.
— Годится,— сказала Лена.— Крути роман, подружка!
— Он меня в девять на берегу ждать будет,— замирая от счастья, сказала Лида.
— Никаких романов и никаких берегов,— отрезала Самойленко.— По внешнему виду замечаний не имеем, а внутренний еще надо выяснить. Приведешь на беседу.
— Ой, Тоня…
— Не Тоня, а младший сержант! — одернула Самойленко.— Беседовать буду я, комсорг и…— она подумала,— и Фомушкин, если сочтет нужным.
Лида немного поплакала, но лейтенант явился как штык. И предстал перед техником-лейтенантом Фомушкиным, младшим сержантом Самойленко и комсоргом, которую тогда звали Алей, а ныне — Алевтиной Ивановной.
Лейтенант стоял перед высокими собеседователями с полной серьезностью и готовностью отвечать. Лиду подружки увели на берег, где пугали примерами мужского коварства. Для профилактики.
— Тут такое дело,— начал Фомушкин, листая потрепанную тетрадку, чтобы не было заметно, как дрожат руки.— Тут, понимаешь, армия, у бойца ни мамы нету, ни батьки — только мы, его товарищи.
— Я понимаю,— сказал лейтенант.
— А девушке ошибаться нельзя, она за свою ошибку всю жизнь расплачиваться будет. Вот ты сапер?
— Сапер.
— Нельзя тебе ошибаться?
— Нельзя.
— Вот и ей тоже,— с торжеством отметил Фомушкин.— Значит, вам двоим ошибаться никак нельзя.
— Нет,— улыбнулся лейтенант.— А мы и не ошибаемся.
— Уверен? — Самойленко строго сдвинула брови.
— Уверен,— кивнул лейтенант.
— Тогда доложи, кто ты есть по мирному состоянию, где родители и как думаешь жизнь строить,— строго сказал техник-лейтенант Фомушкин.
Все доложил тогда лейтенант: и что мать — учительница в Москве, и что отец в ополчении в сорок первом погиб, и адрес домашний (его Фомушкин аккуратно в тетрадку занес), и как думал жизнь строить. А думал он завтра же подать командованию рапорт с просьбой разрешить ему жениться, поскольку согласие от невесты уже имелось.
— Рапорт мне покажешь,— сказал Фомушкин и протянул руку.— Ну, как говорится, поздравляю, и беги-ка ты сейчас к бойцу Лидии Паньшиной. Она тебя, паренек, поди, заждалась.
— Увольнение ей до подъема,— подобрев, объявила Самойленко.— Целуйтесь на полную катушку за всех за нас.
— Поздравляю,— сказала тогда Алевтина Ивановна.— Лидочка наша — замечательная комсомолка, вот увидите.
— Спасибо,— говорил лейтенант.— Большое спасибо.
Он вышел очень счастливым, но получил невесту не сразу, потому что красную от счастья и смущения Лидочку одевали всем отрядом.
— Юбочка сидит отлично.
— Пройдись, Лидочка.
— Стоп, стоп, стоп! Надень мои сапоги. У твоих голенища широкие: некрасиво.
— Гимнастерку надо на вытачках подобрать.
— Это зачем же?
— Чтоб грудь смотрелась.
— Это в темноте-то?
— Ну, все равно лучше, когда она подчеркнута.
— Думаешь, он смотреть собирается?
— Не думаю, конечно, но сначала должен полюбоваться.
— Нет, я знаю, что нужно! — закричала вдруг Лена.— Знаю, знаю, дура я несчастная, что раньше не сообразила!
И достала прекрасную, как сон, шелковую комбинацию. И шла по рукам эта комбинация, и девушки нежно гладили ее и передавали дальше: невесте.
— Что ты! Что ты! — испугалась Лида.— Это же такое чудо, это же тебе самой нужно, это же взять невозможно, Леночка!
— Надевай, говорю!
— Зачем? Ну, зачем же…
— А затем, что расстегнет он тебя…
— Ни за что,— твердо сказала Лида, и все заулыбались.
— Ну, сама расстегнешься,— усмехнулась Лена.— Надевай, а то силой наденем.
— Пошла я,— сказала Лида, одетая, причесанная и придирчиво осмотренная со всех сторон.
— Иди,— сказала младший сержант Самойленко и поцеловала бойца.— Заждался твой-то: четвертую папиросу курит.
— Пошла я,— тихо повторила Лида, топчась в дверях.— Пошла.— Вдруг повернулась к ним, всплеснула руками: — Помирать буду, день этот вспомню, сестрички вы мои!..
С плачем выбежала, и все примолкли. Молча улыбались, молча слезы смахивали, молча постели стелили.
— Завтра ей до обеда — спать,— сказала Самойленко.— Значит, норму ее на всех разделим, по справедливости.
А лейтенант все-таки ошибся, и через три дня разнесло его на куски незамеченным фугасом. Лида Паньшина отвоевалась, но замуж так и не вышла: то ли сапера своего забыть не смогла, то ли другие девушки за это время подросли — помоложе и покрасивее…
Петр Николаевич на полчаса раньше с работы прибежал: волновался за нее. Заглянул в комнату:
— Проштудировала?
Алевтина Ивановна с трудом вырвалась из прошлого, из повыбитой и окровавленной юности своей, улыбнулась:
— Проштудировала.
— Планчик составила или в голове держать думаешь?
— В голове,— сказала она.— Не выскочит.
— Значит, так начнешь: «Выполняя свой священный долг, победоносная Красная Армия…»
— Нет, Петя, я не так начну,— вздохнула Алевтина Ивановна.— Я совсем по-другому начну, я уже все вспомнила.
— Да? — озадаченно переспросил он.— Ну, гляди, мать…
Пообедали. Потом Алевтина Ивановна переоделась в самое нарядное платье, что надевала три раза в год по самым великим праздникам. Завязала мужу галстук — он так и не научился завязывать его, зато ремнем, если случалось, даже во сне затянуться мог на самую последнюю дырочку,— они торжественно, под руку пошли во Дворец культуры. Принаряженные ткачихи спешили со всех сторон: замужние — непременно с мужьями под ручку, а незамужние — стайками, и стаек тех было куда больше.
Между колонн Дворца культуры висел большой щит, на котором художник очень красиво написал, что сегодня в 19.00 ветеран Великой Отечественной войны Алевтина Ивановна Коникова поделится своими фронтовыми воспоминаниями.
— Волнуешься? — спросил муж, прижав ее локоть.
— Волнуюсь,— шепнула она.— Но ты не беспокойся.
Она знала, о чем будет рассказывать. О сорокалетнем старике Фомушкине, который и по долгу и по совести считал их дочерьми; о неунывающей хохотушке Леночке Агафоновой, навеки оставшейся в югославской земле; о суровом и справедливом младшем сержанте Самойленко, вырастившей трех сирот на крохотную зарплату управдома; о Лиде Паньшиной, которой до сих пор снится разорванный на куски саперный лейтенант, и еще о многих-многих ровесницах тех, кто будет сидеть перед нею в светлом и просторном зале.
И она увидела этот зал со сцены. Огромный зал, переполненный веселыми, нарядными, красивыми девчонками. Увидела их свежие, никогда не знавшие ни голода, ни страха лица, их улыбки, наряды, сверхмодные прически. Увидела в президиуме директора и секретаря партбюро — они что-то говорили ей и долго жали руку. Увидела торжественных, со всеми орденами фронтовиков — увидела все разом, вдруг. С трудом расслышала собственную фамилию и пошла к трибуне сквозь аплодисменты, как сквозь туман. Встала в тесном трибунном загончике, погладила ладонями отполированные локтями предыдущих ораторов дубовые панели и, с ужасом понимая, что она так и не сможет сказать того, о чем думала, о чем плакала и что вспоминала, вдруг отчаянно выкрикнула в переполненный зал начало своей речи:
— Выполняя свой священный долг, победоносная Советская Армия, сломив ожесточенное сопротивление озверелого врага, вступила в порабощенную фашизмом Европу…
1976
Примечания
1
С. С. С м и р н о в. Собр. соч. в 3-х тт., т. 1. М., «Молодая гвардия», 1973. С. 279—280.
(обратно)2
Т а м ж е. С. 281—284.
(обратно)3
С. С. С м и р н о в. Собр. соч. в 3-х тт., т. 1. С. 263.
(обратно)4
«Литературная газета», 1976, 17 ноября. Диалог Б. Васильева и М. Ульянова.
(обратно)Комментарии верстальщика
1
Так в печатном прототипе («Лит. артистикэ») и в поверочном издании: Васильев Б. Л. А зори здесь тихие… В списках не значился. Рассказы. М.: Худож. лит., 1978. (Следовало бы, как в др. изд.: сушняка или сушняку.)
(обратно)2
Глянул.— В печ. прототипе: Глядя. Здесь и далее прокомментированные исправления в электронной версии книги внесены по указанному выше поверочному изд.
(обратно)3
вершинки.— В печ. прототипе: вершины.
(обратно)4
его.— Так в печ. прототипе и в поверочном изд.; следовало бы: него.
(обратно)5
все.— В печ. прототипе: уже.
(обратно)6
покашливает.— В печ. прототипе: подкашливает.
(обратно)7
вспомнила.— Так в печ. прототипе и в поверочном изд.; следовало бы, как в др. изд.: вспоминала (ср. ниже: …и прикидывала).
(обратно)8
молодой.— В печ. прототипе: молочной.
(обратно)9
уши.— В печ. прототипе: ухи.
(обратно)10
измарал.— В печ. прототипе: измазал.
(обратно)11
на.— В печ. прототипе: в.
(обратно)12
новый.— В печ. прототипе: первый.
(обратно)13
тусклым.— В печ. прототипе: тяжелым.
(обратно)14
военкома.— В печ. прототипе: военкомат.
(обратно)15
огневого.— В печ. прототипе: боевого.
(обратно)16
издаля.— Так и в некоторых др. изд.; в печ. прототипе: издали.
(обратно)17
Приказ… он ждал давно.— Так в печ. прототипе и в поверочном изд.; следовало бы, как в некоторых др. изд.: Приказа… он ждал давно.
(обратно)18
которого.— Так в печ. прототипе и в поверочном изд.; следовало бы: который.
(обратно)19
…сказал тихо…— В печ. прототипе: …тихо сказал…
(обратно)20
…совсем ему…— В печ. прототипе: …ему совсем…
(обратно)21
нужна.— В печ. прототипе: нужны.
(обратно)22
вызвали.— В печ. прототипе: вызывали.
(обратно)23
улыбалась.— В печ. прототипе: улыбнулась.
(обратно)24
…подходящей темы…— В печ. прототипе: тему.
(обратно)25
…осталось бы только…— В печ. прототипе: …только осталось бы…
(обратно)26
сержант.— В печ. прототипе ошибочно: старшина; ср. выше: товарищ сержант, сержантский голос.
(обратно)27
сержант.— В печ. прототипе ошибочно: старшина (см. предыдущий комментарий).
(обратно)28
крутой.— В печ. прототипе ошибочно: круглой. Исправлено по поверочному изд.
(обратно)29
…слева бежал и упал сразу.— В печ. прототипе смысловая ошибка: …сперва бежал и упал сразу. Исправлено по поверочному изд.
(обратно)30
замполитрука.— В печ. прототипе ошибочно: политрука (ср. неоднократно выше). Исправлено по поверочному изд.
(обратно)31
узнает.— В печ. прототипе: знает.
(обратно)32
под.— В печ. прототипе смысловая ошибка: над. Исправлено по поверочному изд.
(обратно)33
Отчеканив.— В печ. прототипе ошибочно: Окончив.
(обратно)34
…не нашел слов…— В печ. прототипе смысловая ошибка: …но не нашел слов… Исправлено по поверочному изд.
(обратно)35
которое.— В печ. прототипе: которые.
(обратно)36
…засученные по локоть руки…— Лингвистическая ошибка, унаследованная из поверочного изд.; следует: …засученные по локоть рукава… Исправлена в ряде более поздних изданий, напр. : Васильев Б. Л. А зори здесь тихие… ; В списках не значился. М.: Вече, 2010.
(обратно)37
оказывалась.— В печ. прототипе смысловая ошибка: оказалась. Исправлено по поверочному изд.
(обратно)38
…тактика их изменилась: они уже не стремились атаковать…— В печ. прототипе смысловая ошибка: …тактика не изменилась: они уже не стремились атаковать… Исправлено по поверочному изд.
(обратно)39
размахивали.— В печ. прототипе: размахивая.
(обратно)40
…белые марлевые тряпочки колыхались в его кулаках… ~ С платочком шел, видел? Чистенькие нашел марлечки… ~ С платочком, а? — Эта несогласованность по ед./мн. ч., унаследованная из поверочного изд., может быть оправдана эмоциональностью прямой речи, однако присутствует, с видоизменениями, и в других авторских редакциях,— например, в изд.: Васильев Б. Л. А зори здесь тихие… ; В списках не значился. М.: Дет. лит., 2014 и указанном выше изд-ва «Вече»: …платочком… ~ платочками.
(обратно)41
Узнал.— В печ. прототипе: Узнав.
(обратно)42
выработать.— В печ. прототипе: выбрать.
(обратно)43
поясняла.— В печ. прототипе: пояснила.
(обратно)44
…один уже…— В печ. прототипе: …уже один…
(обратно)45
Светясь.— В печ. прототипе: Смеясь.
(обратно)46
Переглянулся.— В печ. прототипе смысловая ошибка: Переглянувшись. Исправлено по поверочному изд.
(обратно)47
было.— Нарушение правил согласования, унаследованное из поверочного изд.; следует: были,— как в указанных выше изданиях.
(обратно)48
отрывал.— В печ. прототипе: открывал.
(обратно)49
ее.— В поверочном изд.: их.
(обратно)50
пшенном.— В печ. прототипе: пшеничном.
(обратно)51
даже.— В печ. прототипе ошибочно: так и.
(обратно)52
входящих.— В поверочном изд: входивших.
(обратно)53
оторвало.— В печ. прототипе: оборвало.
(обратно)54
…Катя не слышала. Да и Дворцов тоже не слушал.— Это нарушение лексической сочетаемости унаследовано из поверочного изд., но отсутствует в первой публикации (Юность. 1975. № 6): …не слушала …тоже не слушал (оба не сосредоточивались на слышимом).
(обратно)55
ПНШ-1 — первый помощник начальника штаба. В печ. прототипе ошибочно: НПШ-1.
(обратно)56
девочек.— В печ. прототипе: девушек.
(обратно)


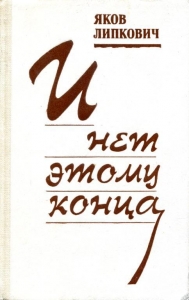





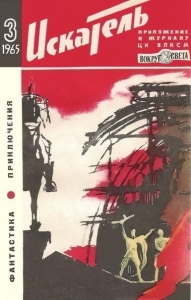
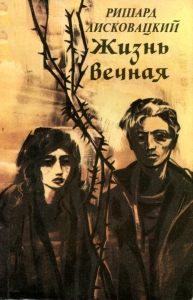
Комментарии к книге «А зори здесь тихие… В списках не значился. Рассказы», Борис Львович Васильев
Всего 0 комментариев