Михаил Белозёров На высоте птичьего полёта
Он мёртв. Его никто не знает. Но мы ещё на полпути, И слава мёртвых окрыляет Тех, кто решил вперёд идти. Константин СимоновНашему большому другу — Ларисе Синичкиной.
Глава 1. Выздоровление
В январе шестнадцатого я выполз, прихрамывая, на высокую балюстраду реабилитационного центра ГБУ, что на «Достоевской», с осколком в лёгких, с флешкой нового романа в кармане и с абсолютной уверенностью, что теперь-то мне конец — не может судьба так долго благоволить одному человеку.
Мои бесконечно верные Репины стоически ждали меня внизу, и я махнул им аптечной палкой, демонстрируя, что моя левая уже работает и что я уже способен на геройский поступок, то бишь проскакать на одной ножке по запорошенной снегом лестнице и не переломать себе кости окончательно и бесповоротно.
Я с опаской вдохнул морозный воздух, с недоверием посмотрел на бледно-голубое небо в росчерках перистых облаков и, хотя это было кощунством к прошлому, ощутил счастливое головокружение, после чего долго откашливался. Сказались полдюжины операций и полугодичное пребывание в закрытых помещениях. Потом я храбро пересчитал все пятьдесят три ступени, делая на каждой полуминутную остановку, чтобы отдышаться, и, наконец, очутился внизу. Сердце моё бешено колотилось, в голове трубил небесный хор, а ноги предательски подкашивались.
— Ну как… рыба?.. — вызывающе бодро поинтересовался Валентин Репин, изучая моё лицо, по которому катился пот слабости, но обниматься не полез, а сочувственно ткнул растопыренную пятерню, демонстрируя опасение сломать мне запястье своим рукопожатием альпиниста.
Видно, я был совсем плох. Да и то правда, при росте метр девяносто пять я весил не больше пятидесяти шести килограммов, и меня спокойно могло унести порывом ветра.
— Что?.. — переспросил я из-за давней контузии, полученной под Саур-Могилой. — А-а-а… — однако, по его лицу сообразил, о чём он. — Вроде ничего. — И не узнал своего голоса, потому что отвык его слышать вне помещении: был он глухим и трубным, как глас архангела, хотя и с камушками в осадке, и в этом качестве отражал моё нынешнее душевное состояние кризиса духа, ведь часто смысл происходящего заключается только в контрасте.
— Мишаня, тут Жанна Брынская тебе кое-что подарить хочет…
Именно с таким грудным прононсом он всегда отзывался о своей жене, почти как о намоленной иконе: «Моя Жанна Брынская!»; и я давно принял их на веру, то бишь перестал удивляться.
Его красавица-жена, этническая полька, с лицом, усыпанным солнечными веснушками, радостно привстала на цыпочки; совсем близко, сверху вниз, я увидел прекрасный карий глаз; и осторожно чмокнула меня куда-то в челюсть, куда дотянулась, а потом величественно, как и все её манеры, развернула просто-таки огромный мохеровый свитер, потому что я был одет в то, в чём меня доставил спецборт: в старую, заштопанную куртку-ветровку и брюки. В четырнадцатом, в разгар боёв в донецком аэропорту, Валентин Репин экипировал пять человек, в том числе и меня, армейской формой. Жаль, что я не оправдал его доверия. Война в Донбассе — это испытание совести народа, и он прекрасно его выдержал.
Я оставил постылое больничное одеяло, в котором выполз, на лавочке для медсёстры Верочки Пичугиной, которая с безнадёжно-тихой грустью провожала меня взглядом с балюстрады, натянул этот необычайно тёплый свитер, пахнущий домом, и впервые за шесть месяцев невольно засмеялся, отметив краем сознания, во-первых, сам факт предательского смеха, а во-вторых, и ещё то немаловажное, что человеку, в общем-то, не так уж много надо — всего лишь любви и участия.
— Всё! Поехали, поехали! А то замёрзнем, — необычайно деликатно выразился Валентин Репин, обращаясь больше с упрёком к любимой жене, нежели ко мне, и, мы погрузившись в машину, осторожно повезли моё измученное тело по рождественской Москве в Королёво. Прощай, реабилитационный центр, выглянул я в окно, единственно, пожалев, что так и не поцеловал на прощание Верочку Пичугину, которая, кажется, была в меня тихо влюблена и, если втыкала иглу в вену, то с крайней деликатностью и с чрезвычайной нежностью, а уж ватку прикладывала — одно удовольствие.
Москва была вся в праздниках и блистала новогодним убранством. Там, в окопах, мы молились на эту Москву, пусть сыто-барскую, пусть насмешливую, пусть равнодушную, не признающую нас ни под каким соусом, но всё равно нашу Москву, вечную Москву, настоящую Москву, преданную Москву, представляя её чем-то единственно ценным в этом мире, дальше которой отступать было некуда — даже когда мокли под дождями, даже когда тряслись и глохли под обстрелами, даже когда не спали, не ели сутками, умирали на госпитальных койках или в лапах врага. Человек обязательно должен во что-то верить. И я верил, и мои товарищи по оружию тоже верили, иначе напрасно гибнуть не имело никого смысла, а надо было сдаться на милость укрофашистам, разбежаться по степям и дубравам и выть от бессилия на луну и звёзды.
Мне было тридцать семь, я был одинок и гол как сокол, мою жену Наташу и мою дочь Варю убила мина в июле позапрошлого года, (я просто знал, что так нужно думать, иначе можно сойти с ума), в мою квартиру на Университетской влетел снаряд, и возвращаться в Донецк было некуда. Редакция на Киевском проспекте, в которой я служил, выгорела дотла, и боец из меня теперь был аховый, как сказал главврач Сударенко: «До первой же пробежки, осколок шевельнётся, перережет лёгочную артерию, и в три секунды истечёшь кровью». Я видел на снимке этот осколок, величиной с пять рублей, с рваными краями, как шестёренка у часов, и чужеродный человеческой плоти по сути. Мне предстояла по поводу этого ещё одна операция, но вначале надо было восстановить силы, потраченные войной, однообразным питанием, а главное — нервами.
— Коньячок, надеюсь, тебе можно? — обернулся Валентин Репин с двусмысленной ухмылкой вечного фигляра.
Я обожал его за эту улыбку, которая говорила, что по версии Валентина Репина в мире всё прочно и незыблемо, как небесный свод, и будет так до скончания веков, и после — тоже. Конечно, Репины не знали всей правды; правда заключалась в том, что человек во второй половине жизни рано или поздно попадает в ловушку под названием безысходность со всеми вытекающими для души последствиями. Со мной это произошло раньше, чем с ними. Однако я не спешил их разочаровывать, пусть они дозреют, как хлебная закваска, всё равно деваться некуда.
— Можно, — ответил я, оберегая свой исколотый зад от ухабов на дороге и неожиданно возвращаясь к тому тлеющему ощущению выздоравливающего человека, который успел подзабыть.
Нервы были ни к чёрту! Они провисли, как бельевые верёвки, и любое воспоминание приводило их в смятение, и не только потому что меня едва не убил «замок», я не спал, как все нормальные люди, мне раз за разом, как кошмар, снился Калинин, позывной Болт, с окровавленной культей, я тащил его по минному полю, на его губах пузырилась кровь, а над нами свистели пули; мне снился человек, ни фамилии, ни позывного которого я не знал. Он вдохновлено показывал мне позицию. Вдруг голова у него вспухла, как красный шарик, и я оказался обрызганным кровью и мозгами с ног до головы. Больше всего испугался человек, который отвечал за мою безопасность, Ефрем Набатников, позывной Юз, замкомроты — «замок», рубаха-парень, готовый и в огонь и в воду, и просто страшно, неимоверно везучий, как чёрт, но осенью пятнадцатого почему-то прикрывшийся мною от мины. С тех пор меня рвало непредсказуемо, в любом месте, абсолютно без видимых причин, и люди смотрели нам меня, как на алкоголика, а у меня всего лишь непроизвольно облегчался желудок, поэтому я ел, как птичка, чтобы никого не пугать и не смущать.
Ефрем Набатников, позывной Юз, заорал срывающимся голосом: «За мной!», и мы побежали в тыл, а по нашим позициям ударила артиллерия и ещё парочка крупнокалиберных пулемётов. С тех времён я знаю, что такое быть виноватым в чьей-то смерти. Я назвал того человека Томом Клэнси, потому что, когда мы пришли в землянку, он читал книгу именно этого автора, «Охота за «Красным октябрём»». Больше я о нём ничего не ведал; был он подслеповатым, очкастым, с седой щёточкой усов, и когда говорил, чувствовалось, что у него вставная челюсть. В начале войны в ополчение брали всех умеющих мало-мальски стрелять, и не умеющих — тоже. Я хотел о нём написать, но Ефрем Набатников сказал, что у него даже нет списка добровольцев, люди приходят и уходят, когда им заблагорассудится. «Это и есть гражданская война, — сказал он с тем выражением, когда констатируют неудобный факт, но деваться некуда. — Ты не пиши об этом, не надо…» «Почему?!» «Ну а что ты напишешь? Мол, старик пришёл и умер от шведской разрывной пули?» «Так и напишу», — упёрся я. «Ну как знаешь, — покривился он, словно от кислого. — Мне известно, что у него никого нет, что он разведён, а жена с детьми в Италии». «Откуда?» «Рассказывал по пьянке. Знаю, что сын у него — мелкий воришка, а жена три раза делала аборты от разных мужиков. Так что смерть для него даже подарок». Действительно, подумал я, писать не о чем, миллионы людей мучаются и корячатся точно так же. Мужику даже повезло — умер моментально, ничего не поняв.
Я забывался лишь на рассвете в короткой передышке, загнанный кошмарами, до утреннего градусника. Выздоровление моё становилось всё более эфемерным, и мои бесконечно терпеливые Репины, дабы не закапывать меня на ближайшем погосте, мудро решили забрать к себе и выходить, как бездомную собаку. Денег им на жизнь вечно не хватало, а тут ещё иждивенец свалился на голову. Я знал, что Валентин имел долгий разговор с главврачом Борисенко, и примерно догадывался о его содержании: мол, кормить и ещё раз кормить, и никаких отрицательных эмоций, только положительные, тепло и внимание, а если женщину, то исключительно жалостливую, но не слезливую и, тем паче, не крикливую, душевную, проникновенную, мягкую и покладистую. Ну а где ты такую возьмёшь? Сейчас такие не родятся.
Все каким-то необычайно хитрым путём возжелали ублажить мой посттравматический синдром, как будто он был маленьким, пушистым котенком, а не монстром, дремавшим до поры до времени у меня в голове. Фонд, за счёт которого меня патронировали, благополучно испустил дух, и я не представлял, где возьму деньги для ближайшей операции.
Однако всё это относилось к будущему, которое могло и не наступить, поэтому я нарочно сделал большой глоток дагестанского «Лезгинка», дабы погасить в себе дремлющее чудовище, и живительная влага растеклась по моим жилам. Я дал себе слово жить одним днём, одним часом, одной минутой, только так можно было спасаться от мыслей о прошлом, оно сделалось опасным, как неразорвавшаяся мина, терзало меня в моменты забвения и не давало себя обмануть, потому что всегда и везде было многократно сильнее, чем я.
— Ну и правильно, — согласился Валентин Репин, заметив мой испуг, только он, надеюсь, не понял, к чему он относился.
— Мы тебе здесь невесту нашли, — с ходу взяла быка за рога Жанна Брынская, внимательно следя за дорогой и заслуживая ироничный взгляд Валентина Репина, который, должно быть, хотел сказать, что хорошая новость, как ложка дёгтя, подаётся к обеду, но никак не раньше. — Аллой зовут, моя институтская подруга.
Её прекрасные карие глаза вопросительно скользнули по моему отражению в зеркале.
— Вот этого мне только не хватало, — среагировал я, избегая ответной реакции, потому что оттуда на меня глядело костистое, осунувшееся лицо измождённого человека, который, в отличие от Репиных, не питал никаких иллюзий насчёт своего будущего, разве что утешался мыслью вернуться в окоп и подохнуть в нём, но даже это отныне было роскошью, поскольку для войны он стал непригоден.
— Зря, старик, зря, — покровительственно сказал Валентин Репин, — женщина для того и создана, чтобы опекать и холить! Правда, Жанна Брынская?! — с вызовом спросил у жены, поправляя свои огромные роговые очки, которые делали его похожим на бронтозавра.
В тот же вечер я их ему сбил, в попытке с кем-то сразиться, оставив на переносице Валентина Репина багровую ссадину; пить надо меньше, каялся я поутру, прекрасно осознавая, что в последней стадии опьянения алкоголь действует на меня неадекватно.
— Правда, Валик, правда, — согласилась Жанна Брынская с тем долготерпением, которое свойственно мудрым жёнам, и мы застряли в пробке. — Миш, — обратилась ко мне Жанна Брынская, — а чего ты теряешь? Тебя же под венец не тащат. — она по-свойски мне подмигнула, хорошо хоть Валик не заметил. — Познакомитесь, поболтаете, может, понравитесь друг другу.
Они словно забыли о моих: Наташке Крыловой и о дочке Варе, которые для меня никуда не делись. И я простил их за короткую память, не скажешь же им, что я самый дрянной беглец от прошлого, которое не отпускает, которое вцепилось, как самолов, и держит, как швартовый канат, что оно мечет в меня стрелы воспоминаний и одаривает такими снами-кошмарами, от которых хочется повеситься. Просто они хотели мне помочь. Это было часть их заговора с главврачом. А ещё они были моими друзьями из того самого ужасного прошлого.
— Предпочитаю мужчин! — заявил я, ни капли не моргнув глазом.
— Мужчин?! Но почему?! — чуть ли не плюнули они мне в лицо, как две кобры; а Жанна Брынская ещё в праведном гневе ударила и по тормозам, чем вызвала цепную реакцию позади нас.
— Потому что с мужчинами можно пить, курить и сквернословить, — разочаровал я их.
— А-а-а… поэтому… — То-то я их огорошил, а потом — рассмешил.
— Старый солдат не знает слов любви? — иронически осведомилась Жанна Брынская, вопрошающе вскинув жгуче-польские брови.
— Ты посмотри на меня… — угрюмо возразил я, глядя на свои тощие, как стручки, колени, на руки, торчащие, словно две куриные лапки, из обшлагов куртки, хотя причина, конечно же, была не в этом, — какой из меня жених?!
Коньяк сделал своё дело, язык у меня развязался, обычно я не слишком болтлив, полагая, что в этом мире, всё уже сказано.
— А чего?.. — удивлённо обернулась Жанна Брынская, перестав разглядывать меня в зеркало заднего вида. — Ты ещё ничего. Правда, Валик?
Она происходила из древней польской шляхты, умела делать неприступное выражение лица, была заведующей аптекой, что на Циолковского, в которой торговала не только лекарствами и пробиотиками, но и из-под полы — ведьмиными снадобьями, и жила совершенно в ином мире, чаще всего в интернете и ещё где-нибудь, где нет войны, боли и душевных потерь, любила своего мужа-изверга и наслаждалась столичной жизнью, выращивая целлулоидные антуриумы и бонсай, и слава богу! Такие женщины, мечта любого нормального мужчины (слава богу, я был ненормальным), живут долго и счастливо, одаривая всех вокруг светом небесной радости.
— Правда, рыба, — с ехидным прононсом согласился Валентин Репин. — Были бы кости, а мясо нарастет, — со смешком уточнил он, будто не верил ни во что святое, а только — в великую ипохондрию и великие горы, и мы помчались дальше.
Женщины меня давно не прельщали. С женщинами у меня были сплошные проблемы. И я невольно вспомнил, как тогда, когда считающий себя ещё журналистом, пять суток выбирался из окружения и как к нам прибилась испуганная женщина, с которой мы грелись по ночам, прижимаясь друг к другу, потому что костёр нельзя было разжигать, и как я был безмерно ей благодарен за нежданно подаренную нежность. Эта нежность долго жила во мне, как огонёк в степи. Однако в госпиталь, где я лежал с ранением в бедро, эта женщина, с зелёными глазами, так и не пришла.
Так вот, она мне показалась олицетворением той самой женственности и безмерного терпения, ведь обычной пошлости, которой полно в сытой, размеренной жизни, между нами не было даже намёком. Наверное, в этом была виновата война и обострённое чувство неизбежной гибели — стоило укрофашистам отрезать нас от Лисичанска, мы бы пропали. Кстати, она единственная меня не бросила: все ушли, а она осталась, и мы кое-как доковыляли, попав один раз в изрядную передрягу. Эта передряга мне периодически снилась: я впервые убил человека, глядя ему в лицо, до этого я стрелял только по фигуркам в степи и не соотносил их со смертью, а здесь — глядя в лицо. Я не был спецназовцем, я не был омоновцем, я даже не был добровольцем, я был случайным прохожим, забежавшим на войну по служебной надобности. Пулю, застрявшую в боку, под ребром, я выковырял самостоятельно, она мешала мне идти; с ногой оказалось хуже, потому что я не мог дотянуться, а попутчики мои были для этого дела абсолютно негодными, взглянув на рану, они падали замертво, требуя задаток в виде спирта, мата и подзатыльников.
Звали женщину Ника Кострова, и я до сих пор ломаю голову, почему она не пришла хотя бы проведать? Неужели я ошибся в ней, я не знаю; я уже давно живу без претензий к этому миру.
Меня привезли, подняли на седьмой этаж и водворили в отдельную комнату с ликами Божьей Матери на стенах и красными антуриумами на подоконниках. Здесь было тихо и спокойно; впервые за полгода я почувствовал себя человеком, меня даже перестало тошнить.
Прежде чем залезть в ванную и привести свои мощи в божеский вид, я, испросив у Валентина Репина разрешения, сел за его компьютер и разослал во все редакции современной прозы роман об актёре Андрее Панине, которого обожал и который единственный не давал мне сдохнуть на госпитальной койке.
Мне нравились его настоящая, а не лакированная харизматичность киношных мальчиков с московских подмостков. Достаточно было взглянуть на его лицо со шрамами, на неоднократно перебитый нос, на сломанные уши и деформированные кулаки, чтобы поверить в него без остатка, а главное — в нём было то мужество, которое редко встречается в жизни — способность идти до конца; можно сказать, что я кое-чему у него научился, например, не мечтать о пустопорожнем, а заниматься делом. Я писал роман-надрыв в перерывал между операциями; мне снилось, что я подбираюсь к чему-то большему-большему, но никак не могу ухватит его. Я уже знал, что всё подлинное — трудно, поэтому вложил в этот роман всю душу, а ещё я понял — зреть в корень — это смерть, пусть отсроченная, но всё равно смерть, но деваться было неуда.
После этого я позволил накормить себя «до пуза». Потом я спал, потом снова спал, потом ещё раз спал, и только глубоким вечером мы пили водку и вспоминали всех тех, кого уже не было с нами. Кажется, началась суббота, и Валентину Репину не надо было утром топать на работы.
Работал он, кстати, на «Мосфильме», вторым перфекционистским режиссёром, снимал рекламные ролики и клипы, но мечтал о большом кино, и рвал на мелкие клочки все хорошие книги от безысходности.
— Мне уже сорок три! — кричал он запале. — Какой ужас!!! А я всё ещё на побегушках, и никакого просвета! — рыдал он над своей тайной после третьего стакана водки.
— Да… старик, не повезло тебе, — сетовал я, но ничем помочь ему не мог, разве что слопать его порцию жирного гуляша, которым в тот вечер так и не наелся.
Уловив мою иронию, он цедил, сжав зубы:
— Всё равно я буду снимать!
Порой он, как маленький, тыкал в экран и дико кричал: «Это я, я, я!» Вначале мы с Жанной Брынской прибегали смотреть и радовались вместе с ним, а потом — через раз, потом — перестали, надоело.
— Это переходный возраст, — догадался я, глядя на Жанну Брынскую, которая тихо осуждала Валентина Репина за горячность.
— Миша, это не переходный возраст, это старость! — Жанна Брынская пребольно дёрнула мужа за рукав.
И я знал, что свою работу он обожает и завидует мне чёрной завистью: мол, воевал, получил ранение, хоть какое-то развлечение, стал героем и всё такое прочее, не менее историческо-романтическое, только забывал, что я едва не сдох. А на эту самую проклятую войну его не пускала Жанна Брынская. На мой же взгляд, мог бы сбегать в качестве хоть первого, хоть второго режиссёра, а потом снять фильм, потому что об этой войне явно умалчивала киношная и литературная элита Москвы. То ли она её не понимала, то ли её просто не интересовала, а, может, то и другое вместе взятое. Некоторые, правда, заявлялись с одной единственной целью — попиариться на крови Донбасса с прицелом, ни много ни мало, на президентство вслед за Путиным, ну да Бог-то им судья.
А бандеровцы убивали нас за то, что мы думали и говорили по-русски.
* * *
В отличие от больницы, где еда была не лучше, чем конский пот, теперь меня откармливали, словно бройлера: куриные потрошки, бульончики, пышные булочки со страусиными яйцами и разнообразнейшими паштетами, котлетки, рагу, нежнейший ростбиф, все виды шницелей, отбивные, узбекский плов, разумеется, холодец, водка, коньяк, пиво и прочее, и прочее, и прочее не менее вкусное и сытное. Жанна Брынская крутилась как белка в колесе, истощая семейных бюджет не хуже мировой войны. Правда, иногда филонила за компьютером, и тогда из ресторана приносили первое, второе и третье, а на закуску — огромную пиццу, которую мы с Валентином Репиным уминали в два счёта под пиво и хвалу его жене.
Обычно Жанна Брынская заглядывала ко мне в комнату и спрашивала:
— Миша, бульончик будешь?
— Какой?
— Куриный.
— А с чем?
— С чесночными пампушками.
— Буду! — вскакивал я.
У меня был отменный аппетит, я всё время что-то жевал и решил, что попал в рай, и даже стал дремать по ночам, дабы не оставлять шансов кошмарам, которые таились где-то на периферии сознания. Порой они крутились, как документальное кино, с любого места. Например, мы оставляем Степановку, я оглядываюсь на человеке, который бежит ровно за мной; я стреляю и вижу, что попадаю: пули рвут на нём одежду, а он не падает, потому что в броннике и потому что обколотый вусмерть, а дважды убить уже нельзя, но я всё равно стреляю и стреляю, а он всё не падает и не падает, а только хищно ухмыляется.
А ещё Жанна Брынская по утрам поила меня настойкой болиголова. «Я знаю, что я делаю!» — авторитетно заявила она в ответ на мои возмущения: а не отправят ли меня нарочно с помощью алкалоида кониина к праотцам. К моему удивлению, я начал семимильными шагами продвигаться к поправке: кровоподтёки от капельниц на моих руках быстренько сошли, синяки под глазами побледнели, контузия моя нехотя отступила, я даже лучше стал слышать, и всё больше походил на человека, у которого даже волосы стали расти гуще и скрывали шрамы. Я постригся под «полубокс» в ближайшей цирюльне, и походка моя с аптечной палкой сделалась твёрже и уверенней. Меня исподволь перестало тошнить, и я воспрянул духом. Продавщицы в соседнем супермаркете почему-то стали бледнеть и краснеть, глядя на мои мощи. А одна бедняжечка, на личной карточке которой значилось имя «Татьяна Мукосей», даже трижды мило сообщала, что свободна после семи. «У вас в горле перекатываются голодные камушки», — поведала она зачарованно, глядя мне в глаза. Дважды я замечал её у подъезда дома, где жил, и стал ходить, озираясь. В Донецке я не привык к подобным знакам внимания и не знал, что нравлюсь женщинам до такой степени, чтобы бегать за мной собачонкой, ведь моя жена уверяла меня в обратном: «С твоим рубильником и голодным подбородком ты годишься разве что в зоопарк!» Должно быть, москвички были другого мнения, или им некуда было деваться при такой скученности и дефиците мужского внимания, вот они и кидались на отработанный материал вроде меня.
А потом они всё испортили: привели Аллу и устроили банкет с шампанским и брызгами. Спешите, братцы, спешите, подумал я и заподозрил, что меня хотят сбагрить с рук. Хотя, конечно же, это было не так; Репины мои были самыми бескорыстными людьми, которых я знал в жизни, их мучила ностальгия по прошлому. Есть такая болезнь — неизбывная любовь к прошлому, я тоже исподтишка страдаю ею, когда мне делать нечего. Люди такого склада, а их надо уметь разглядеть, становятся настоящими друзьями, стоит только попасть в их обойму.
Звонок в дверь и мышиную возню в прихожей я, естественно, пропустил мимо ушей: мало ли кто ходит к моим друзьям на правах гостей. Жанна Брынская, как обычно, позвала обедать, и я в предвкушении вкусностей и с бурчанием в животе, способным разбудить медведя в берлоге, оторвался наконец от Валикиного ноутбука, на котором барабанил с утра до вечера, выбежал из «своего» обиталища опять же в Валикином коротковатом и маловатом халате, в Валикиных походных шельварах и Валикиных же тапочках на босую ногу. К своему конфузу, я обнаружил на кухне шикарную шатенку, до странности похожую на мою жену, если бы не одна деталь: глаза у моей жены были карими, а у шатенки — синие, как циферблаты моих часов. Мне так и захотелось позвать её по имени — Наташка, хотя такая шикарная женщина могла прийти к кому угодно, но только не ко мне. Наверное, там, в темноте коридора, прячется ещё кто-то, решил я, сейчас он выйдет и покажет мне средний палец. Разумеется, я помнил, что они меня желали с кем-то познакомить, но не ожидал, что это произойдёт так быстро. А самое главное, морально не подготовили к экспромту.
— Здрасте… — растерялся я и убрался, чтобы напялить единственный парадно-выходной костюм, то бишь свою зелёную униформу.
— Алла, это Михаил, — представила меня Жанна Брынская, когда я вернулся, чтобы засвидетельствовать своё почтение.
— Миша, это Алла Потёмкина, — мы тебя о ней говорили.
Лицо Жанны Брынской выражало искреннее участие в моей судьбе.
— Очень приятно, — выдавил я из себя.
Сорок шестой размер, такой же, как и у моей Наташки, безошибочно определил я, рост метр шестьдесят три, грудь — третьего размера, только брови густые, новомодные. У Наташки — тонкие и длинные. Маникюр розовый, ухоженный, неброский, со вкусом, тоже такой же, как у моей жены. И духи выдержанные в холодном аромате. А абрис скул голодный и стремительный, словно нацеленный куда-то во вне.
В общем, всё, что я любил в прошлой жизни, а в настоящей — относился с большим сомнением, подозревая в дешёвой имитации, ибо был убежден, что в жизни ничего не повторяется, кроме моих кошмаров. Казалось, Алла Потёмкина, с её манерами красивой женщины, всё поняла, сжала кулаки и густо покраснела.
Валентин Репин быстренько замял образовавшуюся неловкость:
— Ну, рыбы… за знакомство!
И мы выпили: мы с Валентином — водку, а женщины — какую-то кислятину. В общем, Репины очень и очень постарались: Алла походила на мою жену как две капли воды. Я так и сказал, закусывая:
— Вы очень похожи на мою Наташу.
— А что в этом плохого? — занервничала Жанна Брынская, аж подпрыгнув из-за моей бестактности, и сноп молний полетел в мою сторону, как в сериале «Властелин колец».
— Ничего, — пожал я плечами.
Тогда она смутилась.
— Простите, я не знала…
Быстрый взгляд в сторону Жанны Брынской значил, что её, действительно, не предупредили.
Жанна Брынская тоже покраснела, что чрезвычайно шло к её волосам, цвета тёмной меди. Она их по старинке укладывала волнами.
— Ну что? Когда-то же надо начинать. Ты лучше ешь! — подсунула мне котлетку величиной с утюг и в отместку полила её сливовым соусом, чтобы я не болтая лишнего, а трескал за обе щёки.
Я не сказал им, что мы поколение, которому брошен вызови и что моё место там, в Донбассе, а не здесь; кто его знает, наверное, они просто рассмеялись бы мне в лицо, потому что ничего не поняли бы от своей размеренной, городской жизни, просто я им нужен был, чтобы утвердиться в ней ещё сильнее и запрезирать меня, неудачника и калеку.
С минуту я пожирал содержимое моей тарелки, как голодный неандерталец, который неделю бегал за лосем по лесу. А очнулся только тогда, когда понял, что все зачарованно смотрят на меня, особенно — Валентин Репин, потому что давно держал навесу рюмку водки и ждал, когда я насыщусь. Никогда в жизни я так много и вкусно не ел, как в те дни.
Они были сытыми и упитанными горожанами, спящими в чистых, тёплых, уютных постелях. Им трудно было понять, каково это иметь половину своего природного веса, не доедать весь предыдущий год и носиться по полям и весям с автоматов руках. Я часто потом встречал у москвичей этот оценивающий взгляд. Они, верно, думали, что ты испытываешь, когда в тебя стреляют в опор, но почему-то не попадают, или когда рядом громоподобно взрывается мина и всё окрест осыпает градом осколков, но в тебя почему-то не попадает ни один осколок, или когда ты притаскиваешь с нейтралки раненого товарища, а он уже мёртв, или когда ты ешь рядом с мёртвым товарищем, потому что надо есть. Многие спрашивали меня об этом, однако, я ни разу в своих рассказал не добился достоверной точности, чтобы меня правильно поняли, трудно было передать то, что передать невозможно, поэтому я перестал правдиво отвечать на подобные вопросы, отделываясь односложными фразами типа: «Было жутко, но не страшно». Самое удивительное, что мне верили из-за опасения повредиться в рассудке, потому что это была не та, «старая», война, о которой все всё знали из хроники, а совсем «свежая», число славянская, с умножающимся ожесточением, и она могла прийти в любой дом, дотянуться даже сюда, в Москву. Никто этого не понимал, кроме меня и нескольких тысяч людей, сидящих в окопах на западной фронте.
— Простите, — устыдился я. — Я всё время голоден, — и отложил вилку.
Я месяцами ел прогорклую овсяную кашу и полусырую картошку без соли, теперь набирал упущенное, и ожидание моё было оправдано. «У вас типичное окопное истощение», — сказала мне монументальная врачиха, пальпируя мой тощий живот на третий день госпитализации, и плотоядно глядела на меня как на экспонат для диссертации.
— Это… рыба… ешь, ешь! — с прононсом поиздевался за всех Валентин Репин. — Ты не гляди, что мы здесь зажрались! Мы свои, только притворяемся равнодушными!
Валик один меня понимал, он не был исконным москвичом, он был с Урала и знал, что за МКАДом тоже есть жизнь.
— Здоровый мужской аппетит, — возразила Алла Потёмкина таким покровительственным тоном, словно взяла меня под опеку. — Вы же воевали?!
А вот этого не надо! — едва не запротестовал я. Не надо списывать на мои болячки.
Они сделали из меня страдальца. А я не хотел им быть. На страдальцах потом отыгрываются по полной за то, что они не оправдывают твоего доверия, выскальзывают из сетей сочувствия и становятся равным тебе. А это раздражает. А ещё я вспомнил Нику Кострову. И задал себе избитый вопрос: «Куда ты пропала?» И сам ответил себе: «Потому что такие женщины всегда замужем». Я подумал, что Ника Кострова более цельная, чем я себе представлял, оттого и пренебрегла мной.
— Ещё бы, накормить такого мужчину, — поддакнула Жанна Брынская, намекая на мой рост и костистость.
А Валик вежливо напомнил:
— Рука затекла…
Я спохватился: мы выпили ещё и ещё; и я наконец расслабился. Мне даже стала нравиться Алла Потёмкина, хотя я не доверял ей. С какой стати она, такая красивая, умная и, должно быть, состоявшаяся, будет интересоваться мной, отставной козы барабанщиком? Нелогично!
Я даже представил наш диалог:
— Вы не москвич, вам трудно понять, — ответила бы она, отчасти смутившись своей откровенности.
— А-а-а… — кое о чём догадался бы я и перекатил бы в горле голодные камушки. — Дефицит мужчин?
Я представлял всех москвичей, без исключения, в галстуках и белых рубашках, всех спешащих и всех чрезвычайно занятых делом и зарабатывающих кучу денег, не зная, куда их девать.
— Нет, — удивила бы она меня. — Настоящих мужчин!
— Уверяю вас, я не настоящий, — поскромничал бы я, полный, однако, гордости за весь донецкий мужской род.
Она засмеялась бы, как моя Наташка Крылова:
— Самый что ни наесть настоящий! Уж поверьте мне, я знаю!
Оказалось, я подвергался бы анализу! Я был бы удивлён, чего там греха таить, даже возмущён до глубины души. Репины, естественно, выложили бы обо мне всё, что знали и о чём догадывались, и от этого я почувствовал бы себя словно голым на Красной площади.
— Спасибо, — ответил бы я с горечью, потому что моя Наташка была неповторима, иначе стал бы я волочиться за Аллой Потёмкиной.
Однако реальность оказалась хуже, чем я ожидал и походила на ледяной душ: Алла Потёмкина владела сетью «Аптечный рай», «Сталинская аптека», «Аптека на перекрёстке» и ещё чем-то там, чего я не расслышал, у неё был серебристый «бьюик», скромный домик на Рублевке за каких-то двадцать пять миллионов долларов, усадьба в Альгаве и аллигатор в бассейне. Конечно, это оказалось не так, конечно, половину я придумал всего лишь в раздражении, даже московский снобизм приплёл, но Жанна Брынская страшно ей завидовала, и они болтали об этом весь вечер, казалось, потеряв всякий интерес ко мне. У меня не было опыта общения с бизнесвумен, и я подумал: «А ничего, что она из другого класса?» Но в тот вечер и после она никогда мне этого не показывала.
Действительно, зачем я ей? — спросил я себя и незаметно напился. Много ли тогда мне было нужно? Я сидел, набычившись, пытаясь быстрее протрезветь, и думал, что в этой жизни меня понимала одна моя Наташка Крылова да и то не всегда, когда наши чаяния совпадали. Последние годы они совпадали всё реже и реже, и мы, постепенно удаляясь друг от друга, не могли договориться, хотя, мне казалось, я предпринимал поистине титанические усилия, дабы наш союз не распался. В конце концов, от меня, романтика, остался голый функционал с гигантским знаком вопроса: «А зачем я живу?!»
А у неё была дурная привычка носить длинные халаты, которые скрывали её длинные ноги, я бы предпочёл наоборот, в смысле халатов, однако, увы, в этом плане я был лишён права голоса, ибо был мужчиной, а мужчины в её понимании не заслуживали ничего большёго, чем молчаливое презрение. Так она была воспитана, и так она меня воспринимала.
* * *
Ночью я проснулся мокрым от ужаса и бессмысленно пялился в тёмный потолок, не понимая, где я и что я. Красные цветы антуриума, похожие на пластик, казались мне пятнами крови на скате окопа.
Мне снова приснилась та изрядная передряга, в которую мы с Никой Костровой попали. Конин и Бурыга, с позывными соответственно — Конь и Бур, бросили нас под предлогом быстро прислать помощь. Хорошо хоть оставили флягу с водкой. Черед полгода одного из них, Бура, я встретил в центре города, в баре «Зеро», здорового и упитанного, кормящегося волонтером за счёт фонда Ахметова, и разбил ему морду. Он ползал передо мной на коленях среди осколков посуды, пускал кровавые сопли и просил прощение. Но это уже другая история, в которой он заплатил сполна: нас забрали в полицию, а когда разобрались в причинах конфликта, то Бура отправили в стройбат на передовую, где он, должно быть, до сих пор роет окопы и строить землянки, и это ещё по-божески, потому что могли сделать калекой или посадить в камеру к бандеровцам на перевоспитание, или показательно расстрелять за предательство.
А Конь пропал. Наверное, его кто-то предупредил о том, что я его ищу. Больше его никто не видел и ничего о нём не слушал. Наверное, он удрал подальше. Тогда из-за обстрелов и жаров в городе многие уезжали в Россию. Я ему не судья, потому что для войны нужно ожесточится и жить с этим, не многим это по силам.
На третий день из-за жары и бесконечных движений моя рана воспалилась, и надо было ею заняться. До этого я не трогал повязку, которую мне профессионально наложил наш дылда, баламут и ходок, санитар Герасим Полеводов. Кажется, из-под неё что-то текло. Оружие свой я зарыл в поле, оставив один пистолет, который мне тоже казался неимоверно тяжёлым. При каждом шаге он хлопал меня по левому бедру, отдаваясь шилом — в правом. Я хотел избавиться и от него, но слава богу, провидение не дало.
Наверное, у меня начиналась лихорадка, потому что я порой мало что соображал: жаркая степь походила на бескрайнюю скороду, по которой мы безотчётно кружили. Где-то так за маревом лежал спасительный Лисичанск, но мне казалось, что мы к нему так и не приближаемся, хотя всё делали правильно: двигались так, чтобы солнце всегда было справа, а вечером — за спиной.
Мы не знали, что, Стрелкову удалось закрыть прорыв и остановить наступление укрофашистов, мы боялись, что нас отрежут и зароют здесь в степи.
Мы спустились в овраг и развели костёр, Ника Кострова сняла повязку с моей ноги, и даже я ощутил тошнотворный запах гноя.
— Что там?.. — спросил я, делая большой глоток из фляги.
— Надо чистить, — ответила Ника Кострова с невозмутимым лицом, и я понял, что дело, если не дрянь, то, по крайней мере, плохое. — Выдержишь?
— Выдержу, — ответил я храбро, подозревая, что меня ждёт крепкое испытание. — Ты что, медик?
Она ничего не говорила мне об этом, она вообще, была молчаливая, и нравилась мне всё больше и больше, но тогда я был в таком смятении после смерти жены и дочери, что готов был переспать с любой женщиной, лишь бы забыться.
— Что-то вроде того, — сказала она, профессионально разглядывая рану.
Я еще возмущался, даже пыхтел, и вдруг меня как током стукнуло: господи, действительно, медик! «Хирургиня, — как плотоядно говорил о ней Герасим Полеводов. — Я б к такой сходил…», — и облизывался, как кот на сметану. Я сам однажды видел её мельком, когда пробегал с поручением комроты Дорофеева мимо палатки с красным крестом, но за фронтовой суетой забыл, хотя забыть такую женщину было почти невозможно, сложена она была, как богиня, с той единственной меркой, которая приходится на одну из миллиона. Вот откуда она мне показалась знакомой.
Должно быть, Ника Кострова угадала мои мысли, потому что снисходительная улыбка скользнула по её губам.
— Не бойся, я аккуратно.
Насчёт «аккуратно» попахивало садизмом, хотя, как я потом понял, рука у неё, действительно, оказалась лёгкой. Она продезинфицировала в пламене лезвие ножа, и с выражением величайшей твердости села мне на ногу, а потом, как я понял, просто полоснула по ране. Из глаз у меня грызнуло, а в голове взорвалась граната, я невольно дёрнулся, как сноровистая лошадь, и Ника Кострова сурово прикрикнула:
— Тихо… Тихо… Тихо!
И целую вечность, казалось, ковыряется у меня в ноге; я не узнал своего голоса, до того он был противным. На этот голос они, видно, и пришли.
Наконец она произнесла:
— Вот и всё, вот он, твой осколок. Жаль, рану нечем зашить.
Боль отпустила, сделалась терпимее, и я устыдился своих слабостей и воплей.
— Ничего, ничего, — похвалила она так, когда помнят о любовной ночи, но не дают развития своим чувствам. — Ты хоть скрипел зубами, а другие просто убегали, — и вылила на рану остатки водки.
Тогда-то они и возникли, как тараканы, из глубины оврага со своими жёлтыми повязками на рукавах и ненавистными, как жупел, взглядами.
— О! Дивись, ватники! — с галицинским акцентом произнёс первый из них, чернявый и вертлявый, с гуцульскими усами, с чубчиком из-под косынки, и наставил на меня зрачок автомата.
Он не ударил по одной-единственной причине: Ника Кострова закрыла меня, как закрывает мать ребёнка, и отвлекла его внимание, а я успел сунуть руку под куртку, где у меня лежал старый, верный «макаров» с пулей в стволе. Бур, который надо мной вечно смеялся: «Чего ты, как параноик, ходишь с пулей в стволе?!», оказался глубоко неправ. Ну да после мордобития я простил его.
— А ну отойди! — приказал первый и грубо оттолкнул Нику Кострову, глядя на неё так, как глядело здесь, на фронте, подавляющее большинство мужчин. И я был уверен, что если бы не моё присутствие, Конь и Бур воспользовались бы ситуацией раньше бандеровцев.
А второй, золотушный и плюгавый, сказал зловеще:
— Я первый!
Он здорово пшекал, и, должно быть, поэтому и был командиром.
— Это почему?! — повёл глазами чернявый, которому мешала давняя вражда между поляками и украинцами.
— Потому! — и на правах сильного дёрнул Нику Кострову к себе золотушный, хотя она всеми силами не поддалась ему, не испугалась, не закричала, а словно окаменела.
Первый, не приняв меня в расчёт, потому что оружия у меня не было, потому что я был никаким, в крови, в вате, в бинтах, с раной в ноге, то есть уже нежильцом, выстрелил, практически, в упор и… промазал. Ника Кострова, с её вызывающе прекрасными формами не дала отцепиться его взгляду, и надо было ещё раз нажать на курок, потому что «переводчик» был поставил на одиночный. Но этого я ему не дал сделать. В тот момент, когда пуля обожгла мне щеку, я, не дрогнув, поднял пистолет и выстрелил в его наглую бандеровскую харю, затем, отметив краем сознания, что он стал заваливаться, как неживой, довернул ствол и выстрелил в спину второго, который оказался аховым бойцом, вместо того, чтобы уложить нас одной очередью, развернулся и побежал, петляя, как заяц, по сухому дну оврага, хотя и не так проворно в своём броннике, как должен был бежать смертельно испуганный человек, но было ясно, что всё равно уйдёт; только с третьего раза, я попал ему в затылок, и он рухнул лицом вперед, а «макаров» сухо щёлкнул и замолк. В обойме оказалось только четыре патрона. Нам повезло в очередной раз.
Вот на этом-то сухом щелчке я всякий раз и просыпался от ужаса, потому что я не знал, убил ли того первого, чернявого, с галицинским акцентом, с гуцульскими усами и с блямбой на виске. Но я его убил, и его глаза, за мгновение до выстрела, равнодушно смотрящие на меня через зрачок автомата, оторопело уставились в голубое небо.
Этот пустой «макаров» я долго таскал в кобуре, как талисман, пока в Донецке не запретили носить оружие.
* * *
Что-то происходило, тёмное, мрачное, сокрытое от меня: телефонные разговоры, которые прерывались при моём появлении, многозначительные взгляды, хихиканье за спиной и недомолвки; в общем, я понял, затевались очередные милые козни, и, выдав моим друзьям полный карт-бланш, барабанил по ноутбуку, пока вдохновение было благосклонно к моей душе. Небо за окном заметно поголубело, из него уже давно не сыпались белые мухи; а на подоконнике у Жанны Брынской расцвели крокусы и гиацинты. Репины всё ещё мелко интриговали, думаю, насчёт Аллы Потёмкиной. Похоже, они влезли в долги. Такого лося, как я, надо было ещё прокормить. Мне было стыдно до безумия, но уйти от них я никуда не мог.
Я перестал хромать, когда забывался, и даже пробовал боксировать против Валентина Репина, но он по-прежнему давал мне фору, и я понимал, что ещё ни на что не гожусь против его альпинистской подготовки и левого хука, хотя у меня был хорошо поставленный дар правой. Как твердил мой первый и последний тренер Юрий Вадимович Бухман: «У тебя природная координация, будь ты собраннее, тебе бы цены не было». В своё время я мог выбить зубы противнику через капу перчаткой, но те времена давно прошли.
Редакции молчали. Правда, одна из них указала мне от ворот поворот сразу же, ещё в январе, на второй день после «мыла», и я не очень расстроился, потому что редакция, со звучным названием «Арбат» была маленькая, плюгавая и издавала в год, как сама же стыдливо объяснила в письме, десять пошлых книг (безбожно врали, конечно), и я был явно не ко двору, чужак самотёком, непонятно откуда взявшийся, написавший не то, что надо, не с тем подтекстом, который так любят либералы, не туда глядел, не по-московски дышал, или как надо было ненавидеть известного актёра, чтобы даже не прочитать роман о нём? Я был уверен, что если бы редакция хотя бы познакомилась с текстом, она бы не устояла перед соблазном приделать к нему обложку, сработал бы рефлекс редактора, но редакция продемонстрировала московский снобизм, пофигизм и полнейшее безразличие к литературе, словно она, это литература, имела право только на московские корни. К тому же я давно понял, что москвичей ничем нельзя пронять — даже романом о их недавнем кумире, всё они видели, всё они знали, а Андрея Панина, мягко говоря, не уважали; и это лицемерие меня всегда удивляло. А потом сообразил: издательство «Арбат» и иже ему подобные в пелотоне зарабатывают деньги на графоманах, преимущество которых в массовой массовости и отсутствие комплексов неполноценности, делающих их непотопляемыми, как американские авианосцы.
Вдруг я был поставлен перед фактом: Алла Потёмкина пригласили нас на день рождение. И Валентин Репин, словно невзначай, попросил, (при этом левый глаз у него от вранья предательски косился в потолок):
— Рыба… надень орден…
То, что я пойду в заштопанной, видавшей виды, боевой форме, Валентина Репина нисколько не волновало, а вот орден ему зачем-то понадобился.
— Стоит ли?.. — усомнился я, представив реакцию московских трудоголиков, которым, по моему мнению, всё было до лампочки.
— Они ещё такого не видели, — заверила меня Жанна Брынская с таким значительным видом, что я заподозрил их в лицемерии, но взглянув на их открытые, честные лица, устыдился собственных мыслей и поклялся никогда ни в чём плохом никого не подозревать.
— Ладно… орден, так орден, — решил я, подумав, что если вообще не пойду, то будет ещё хуже.
Честно говоря, я бы завалился с ноутбуком на диван и предался бы любимому занятию — сочинительству, но надо было куда-то топать из-за солидарности с Репиными.
— Точно-точно… — подтвердил Валентин Репин. — Даже не сомневайся.
Орден у меня был самый простой: «георгиевский» четвёртой степени. Не боевой. Формальный. Я целый год не числился нигде, пока не попал к Ефрему Набатникову, позывной — Юз, так что официально я нигде не воевал, кроме последних двух месяцев.
И я его надел. Лучше бы — проглотил. Весь вечер я был в центре внимания и устал, словно на мне пахали, потому что мне было стыдно. Орден-то был формальный, просто за участие в сопротивлении, а я его нацепил как знак принадлежности к истинно русскому миру.
* * *
Алла Потёмкина, со своим абрисом сухих, порывистых скул, вцепилась в меня, как в приз из «поля чудес», таскала из зала в зал своего огромного дома, как бобика на цепочке, и всем представляла, обращая внимание в основном на орден.
— Наш герой! Из Донецка!
Мне казалось, они все думают с презрением: «Ну что с того, что ты там был?»
Однако женщина бледнели от моих голодных камушков в голосе, предлагали забить на приличие и выпить на брудершафт. Мужчины морщились от рукопожатия и ложились штабелями от чувства зависти: а у нас кишка тонка!
Я вспомнил, что до госпиталя заводился с пол-оборота и готов был разорвать любого, кто что-то скажет не так в отношении ДНР, а здесь я постарался сделаться паинькой, душечкой, телёнком с мокрым носом. Алла Потёмкина, чувствуя мою непонянку, пугалась пьяного скандала и тащила меня дальше. В огромные окна усадьбы, занавешенные тяжёлым бархатом, заглядывала не менее огромна луна. Друзья Аллы Потёмкиной были взволнованны присутствием чужака, статус которого невозможно было угадать даже по его одежде.
Вначале я сгорал от стыда и ужаса, а потом набрался терпения и даже грудь выпятил, стараясь меньше опираться на аптечную палку. Дамы оценивали меня совсем по другим качествам, (я подозревал, что Алла Потёмкина втихаря потешалась), им нравился мой подтянутый армейский зад, и от парочки из них: женщины гренадёрского роста с чёрными усиками и милой блондиночки с ярким ртом я даже заслужил ободряющего шлепка по одному месту и едва не побежал, дабы избежать позора, а один подвыпивший джентльмен долго и с любопытством разглядывал мой орден, оценил на вес и наконец спросил без капли подвоха:
— А настоящий?!
В его глазах читалась большая глупость и непонимание, откуда я такой взялся.
— Настоящее не бывает! — с возмущением заверила его Алла Потёмкина.
— Блестит больно тускло, — как скоморох, промямлил мужчина.
Я понял, что для таких, как он, Донбасс — это место, где живут одни неудачники.
— Ах, Партикулов, какой вы тёмный! — авторитетно заявила Алла Потёмкина и с досады больно дёрнула меня за руку, словно я был Партикуловым: — Сейчас я познакомлю тебя с очень интересным человеком… — сказала она и посмотрела на меня так, что я понял, ни в коем случае нельзя опростоволоситься, родина не простит.
Честно говоря, я запутался во всех этих лицах и в их значимости по рангу. Моя Наташа Крылова поступила бы по-другому, она бы просто не повела меня к такому человеку, как Партикулов, тем более, ко всем этим красивым, алчущим женщинам с кровавыми ноготками.
— Ах-ах-ах! — покривлялся Партикулов нам во след и, плюхнувшись на стул, потянулся за рюмкой.
Алла Потёмкина оглянулась, но ничего не сказала, однако, по лицу её я сообразил, что Партикулов — пустой человек, абсолютно случайно попавшийся нам на пути.
Она представила меня следующему человеку, мнение которого, похоже, очень уважала:
— Роман Георгиевич, вот человек, о котором я вам говорила! — сказала она вежливо, если не крайне осторожно.
Я посмотрел на его уточное выражение лица. Да это Пхенц! — пренебрёг я, а зря.
Смешной, горбатый человечек, в стоптанных башмаках, с носом-картошкой и лохматой седой головой, отложил вилку и развернулся к нам всем телом:
— О! — И замолк, обратившись в репейник.
У него была мягкая грудь, простое лицо сапёра, ежедневно рискующего жизнью, и цепкие глаза, оценивающие вас по признакам воспарения. Было такое ощущение, что, несмотря на небольшой рост, человек занимает чрезвычайно много пространства, и все люди к нему прислушиваются и ловят каждое слово. Горб его только красил. Он был его знаменем и выделял из толпы.
— Здравствуйте! — напомнила Алла Потёмкина о себе.
— Здравствуйте, — коротко перевёл на неё взгляд Роман Георгиевич и улыбнулся, как старой знакомой.
Разумеется, я его где-то видел, но не помнил, где именно: он начинал смеяться и мелко трястись ещё до того, как заканчивал фразу. Всё ж таки одно дело лицезреть человека по телевизору, а другое — вживую, два разных впечатления. Я нахально подумал, что он будет воротить свой гениальный нос от моей штопаной формы, но он ухом не повёл. Расчёт Аллы Потёмкиной оказался верен: герой войны, изрядно потрёпанный, с нашивками «Армия ДНР», не каждый день такого зверя увидишь. Не открываться же тайну о своих ранениях и об осколке в лёгком, но Роман Георгиевич и сам кое о чём догадался, покосившись на мою аптечную палку.
— Похоже, война вас не пощадила… — произнёс он, поднимаясь, осторожно, чтобы не задеть и не рассыпать меня на кусочки, однако, со всё возрастающим интересом. — Вы такой же, как в википедии, я вас сразу узнал!
Это был скрытый панегирик, и я самонадеянно оценил его: обо мне в Москве слышали. Ха-ха! Здесь трижды удавятся, прежде чем кого-то признают. Но если уж признают, то береги свою репутацию, ибо противоборствующие кланы начнут раздирать по кирпичикам и растаскивать по своим норкам до полного испепеления.
— Да… — я не знал, что ответить, растерявшись; получилось естественное смущение.
— Ну, ничего, ничего, — ободрил он меня, как больного на операционном столе, — не каждый день к нам приезжают герои «оттуда».
«Оттуда» — это, значит, с войны. Я вроде вышел из педиатрического возраста, но поддался его чарам.
— Я не герой, — возразил я, моментально припомнив все мои мытарства, которые под воздействием Репиных, Аллы Потёмкиной, а теперь уже и — Романа Георгиевича, превращались в осознанное движение души, теперь они мне казались не поводом для ночных кошмаров, не обычной солдатской лямкой, а романтикой, которая вдруг кому-то стала интересной.
Не знаю почему, но в тот момент мне снова захотелось очутиться в осенней степи с отрядом Калинина, хотя он сделал всё неправильно и погиб из-за собственной глупости. И в ноздри ударил сырой запах крови и горящего камыша, однако, в тот день на меня это почему-то не произвело гнетущего впечатления, а коснулось лишь тенью крыла, как не очень приятное боевые воспоминание.
— Позвольте нам судить, — Роман Георгиевич остановил меня с выражением неловкости на лице. — Роман ваш сделал своё дело!
Пафосом здесь и не пахло. Романа Георгиевича было очень серьёзен.
— Как? — округлил я глаза и приготовился к взбучке, на которую явно не мог ответить, учитывая разницу в возрасте и весовых категориях.
— Пойдемте! — он взял меня под руку, всё ещё оглядывая с большим любопытством мою медаль и мою аптечную палку, и повёл к большому кожаному дивану и креслам, напротив которых стол ломился от выпивки и закуски.
Я поймал себя на том, что от учтивости согнулся в три погибели. Алла Потёмкина с выражением ужаса на лице последовала за нами. Я беспомощно оглянулся: её голодные скулы призывали меня к сдержанности, а ещё она подала мне знал глазами: не волнуйся, я с тобой, и была страшно похожа на мою Наташку в минуту душевного волнения, если бы только скинуть годков десяток в наших отношениях.
Роман Георгиевич доброжелательно усадил нас с Аллой Потёмкиной, налил три бокала портвейна «баррос руби» (так было написано на пузатой бутылке) и сказал:
— Самый первый! — Он назвал тот самый роман, за который «Крылов» мне в двенадцатом году не заплатил ни гроша, а теперь продавал исподтишка в «литресе» под видом букинистической литературы. Схватить за руку я их не мог. — Признаюсь, он мне и самому-то не очень-то нравится.
Что и следовало ожидать от переходного романа. Я понимающе улыбнулся. У меня не было желания спорить. Роман Георгиевич был прав на все сто двадцать пять процентов.
— Вы преувеличиваете его значение, — возразил я. — Вряд ли Стрелкой даже слышал о нём.
— И тем не менее, капля камень точит. — Но это был всего лишь реверанс вежливости в мою сторону, и я приуныл. — А вот второй!.. — Роман Георгиевич сделал паузу, чокнулся с нами по очереди и пригубил портвейн. Манеры у него были царственными и, несомненно, он обладал огромным обаянием, чем сознательно и пользовался. — Второй! Я бы оценил его на пять с плюсом!
И я мгновенно вырос в глазах Аллы Потёмкиной, как Монблан, и услышал небесные колокольчики за спиной, хотя, бьюсь о заклад, мои друзья ничего не сказали ей о моём пристрастии, кроме журналистики, конечно; они и сами не знали, с кем связались. На лице её было написано лёгкое недоумение, а в литературе, я был уверен, она не разбиралась. Что касается суждений Романа Георгиевича, то до меня доходили и более лестные отзывы — даже от моих врагов, которые были куда прямолинейней. Но это не суть дела, всё равно я был и оставался провинциалом, которого при первой возможности объегоривали издательства и ловко щёлкали по носу разные инвалидные журналы.
— Это уже литература! — сказал Роман Георгиевич и с поощрительным выражением пождал губы, приглашая нас подумать над его словами. — Мой вам совет пишите как можно больше и быстрее. Жизнь писателя очень коротка.
— Почему? — не выдержав невнимания к собственной персоне, удивилась Алла Потёмкина.
— Потому что писатель, — живо повернулся он к ней, — как и режиссёр, живёт только тогда, когда его произведения принимают в обществе, а всё остальное время он страдает неизвестностью. Уж поверьте мне, старику, я знаю.
— Роман Георгиевич… — театрально возмутилась Алла Потёмкина, — зачем вы на себя наговариваете?
Позже я узнал, что знаменитый Роман Георгиевич — ну очень дальний её родственник со стороны московской бабушки, и что она на его оселке проверяет всех своих новых знакомых.
— Может быть, для того, чтобы такая женщина, как вы, красивая и умная, подарила мне комплимент, — поднялся Роман Георгиевич. — Ничто так не украшает женщину, как воевавший человек. Желаю вам удачи, — пожал он мне руку, должно быть, приняв нас за любовников. — Думаю, мы ещё увидимся. Что-то мне подсказывает, что просто так такие встречи не происходят.
И я покрылся холодным потом, потому что у меня на языке так и вертелось желание похвастаться моим последним опус об Андрее Панине. Максимум, что мог сделать, Роман Георгиевич в таком случае, это снисходительно похвалить авансом непрочитанный роман. Слава богу, провидение в очередной раз не дало мне сотворить глупость.
— Ничего не бойся, — сказала Алла Потёмкина, когда мы спаслись бегством. — Я всё поняла.
Честно говоря, я не заметил, когда мы перешли на «ты». Произошло это естественным путём. Однако от её слов у меня по спине пробежал холодок: что именно она имела ввиду под словами: «Я всё поняла»?
Я заметил, как Репины с беспокойством наблюдают за нами с другой стороны стола, уж они-то знали сценарий подобных выходов в свет.
— Ты хоть знаешь, с кем ты общался? — спросил Валентин Репин, когда мы с Аллой Потёмкиной плюхнулись рядом с ними.
— Нет, — с простодушием провинциала ответил я.
Валентин Репин назвал известную фамилию: Испанов, насмешливо наблюдая за моей реакцией.
— Мэтр! — воскликнул я.
И Валентин Репин отвернулся и брезгливо поморщился.
— Я думаю, где я его видел, — удивился я и невольно оглянулся: Роман Георгиевич был занят собеседником справа и одновременно слева, и ничего гениального в нём не было, разве что высокий лоб, делающий его похожим на Эйзенштейна, и разумеется, знаменитый Испановский горб, который уже сотни, если не тысячи раз обыгрывался и в литературе, и в кино, и театре.
— Вот именно! — многозначительно, с сарказмом заметил Валентин Репин. — Вот именно!
— И что теперь?..
Наверное, когда с тобой по-свойски разговаривают такие люди, ты вырастаешь в глазах всех остальных и наживаешь себе кучу врагов. Я не знал, у меня это было первых раз, но именно на это и намекал Валентин Репин.
— Ничего, — в такт модуляции в голосе покачал он головой. — Я с ним в натянутых отношениях. При нём лучше не упоминать моего имени.
— Иначе?.. — спросил я.
— Он тебя забанит на всю оставшуюся жизнь, — со знанием дела поведал Валентин Репин, явно умалчивая что-то нехорошее и тёмное.
— Миша, ты делаешь карьеру, — махнул на мужа Жанна Брынская, нисколько не огорчаясь при этом.
— А-а-а… — кое-что сообразил я и побоялся сглазить робкую удачу.
Мне, как в преферансе, почти что всегда шла непонятная карта: ни то ни сё, ни бэ ни мэ ни кукареку, не поймёшь эту судьбу. Поэтому я с недоверием отнёсся к их словам, включая самого Романа Георгиевича.
— Работа у него какая, — подтвердил мои раздумья Валентин Репин, — морочить людям голову!
— Ага, — только и сказал я, всё ещё не представляя работу механизма столичного массмедиа.
В нашей провинции такие явления происходили в гораздо меньших масштабах и не заметны для широкой публики.
— Ну что ты говоришь! Что ты говоришь! — возмутилась Жанна Брынская. — Не слушай его. Испанов просто ищет таланты.
— А мы не ищем?! — ущипнул её Валентин Репин.
— Вы не ищете, — отмахнула от него Жанна Брынская, намекая на творческую несостоятельность мужа.
Валентин Репин надулся, как индюк, но не возразил, Жанна Брынская, как всегда, была права. Алла Потёмкина, глядя на них, тихо посмеивалась, должно быть, она ни раз была свидетелем их размолвок. Признаться, мне захотелось ущипнуть её за ушко, дабы увидеть реакцию и проверить, насколько Алла Потёмкина похожа на мою жену, потому что моя бы жена моментально превратилась бы в кошку, и я не рискнул.
— Это хорошо, — наконец сообразил Валентин Репин. — Раз он тебя приметил, значит, использует.
— В смысле?.. — вздрогнул я.
— Не в этом, конечно, — усмехнулся он, потянувшись за водкой, которую дюже любил. — А в другом. Испанов профи. Он везде ищет смысл.
— Ищет? — поморщился я, потому что плохо себе этот поиск представлял: зачем киношнику я?
Потом я понял, что у каждого киношника своя терминология в жизни. Мой друг Борис Сапожков ничего не искал, ничего этого не знал, а просто погиб в редакции, как солдат на посту.
— Если он тебя приметил, значит, ты ему приглянулся.
Я даже не стал возражать, полагая, что он, как всегда, преувеличивает.
— Ну и дай-то бог, — сказала Жанна Брынская и незаметно пожала руку Алле Потёмкиной, однако, я заметил её жест и подумал, не намекает ли она, что мне пора убираться на вольные хлеба; во всём мне мерещился дурной знак.
И тут я сообразил, что просто блестяще сдал экзамен, что Алла Потёмкина понятия не имела о том, что я ещё и что-то пытаюсь изобразить на бумаге, хотя для неё это не имело большёго значения, и что я принят ко двору окончательно и бесповоротно. По крайней мере, Алла Потёмкина заявила:
— Я хочу предложить тебе должность.
У Жанны Брынской загорелись глаза, а Валентин Репин степенно поправил на переносице очки и тяжко вздохнул: наконец-то я стану не приживальщиком, а гостем, который будет приходить в бутылкой водки, чему я, конечно же, был не против, а только за.
— Гм… — А я грешил на классовое расслоение. Мне стало стыдно.
— У меня освободилась должность директора по маркетингу и рекламе. Пойдёшь?
Глухая тоска сжала моё сердце. Лет двадцать я не ходит ни на какую службу, а жил на телефоне, то бишь Борис Сапожков мне звонил, а я отправлялся в путь-дорогу. В редакции я появлялся только за лаврами и авансом.
— Соглашайся, Мишаня, — слёзно молвил Валентин Репин.
Я понял, что за два года, которые я его не видел, он успел заматереть, и у него испортился характер в сторону меркантилизма, и горы не помогли.
— Это удача! — вторила Жанна Брынская. — Мы к тебе в гости будем ходить!
Только-то?! А как же любовь? А дружба? Что мне было делать? До пенсии висеть у них на шее? Или видеть каждый день, как всё больше хмурится Валентин Репин, оттого что я шастаю по квартире в его любимых тапочках? Возможно, я ошибался. Возможно, он настолько гостеприимен, что всю жизнь продержал бы меня в «моей» комнате, я не знал, мы не разговаривали на эту тему. Тема была табу. Она была скользкой, непонятной и ненужной.
И я естественным образом воскликнул:
— Но я же ничего не понимаю в маркетинге!
— У тебя будет хороший зам, — многозначительно пообещала Алла Потёмкина.
Я помолчал. Зам это, конечно, хорошо, но я не привык ездить на чужой шее.
— Ну, тогда… — беспомощно оглянулся на своих друзей, которым безоговорочно доверял.
— Ура! — воскликнула Жанна Брынская и, недолго думая, как всегда, чмокнула меня в челюсть, потому что до лба не дотянулась, хотя была роста немаленького.
А Валентин Репин оскалился и с явным облегчением пожал мне руку. Потом я понял, что это тоже заговор — очень талантливый, подвести меня под монастырь так, чтобы я не мог отвертеться, бросил бы марать бумагу и занялся бы наконец маркетингом и рекламой.
Алла Потёмкина ярко заулыбалась, и дело выглядело так, словно она приобрела породистого пса, породы ландерьега.
Валентин Репин наконец отыскал среди множеств разномастных бутылок вместо водки старый, добрый арманьяк, и мы выпили за мои успехи. Напиток отдавал лугом и бабочками. А ещё я по глупости решил, что жизнь на ближайшие пару лет удалась.
Глава 2. Юз и рог изобилия
В середине апреля главный редактор, Боря Сапожков, тогда ещё живой и бойкий, с белесыми ресницами под которыми прятались весёлые, серые глаза, разыскал меня на одном из митингов, на которые тогда собирались до пятидесяти тысяч человек, площадь больше не вмещала, и заорал в ухо, словно я был глухой:
— Собирайся!
Он был из тех, о которых говорят, «болтлив, но… по делу». Было у него такое свойство наговаривать идеи, черпал он их, вы не поверите, из разговоров с нами, репортёрами. Раз в неделю мы с ним ходили в клуб «Маршал Жуков» играть в пейнтбол, чувствовали себя бывалыми стрелками, а после игры — пить пиво с раками и фисташками.
— Куда?! — не понял я из-за того, что динамики орали, как оглашенные; и только одно — выдох толпы: «Россия, Россия, Россия!!!» перекрывал их на мгновение, и тогда эхо уносилось прочь — в весеннее, прозрачное небо.
Ведь по моему мнению, всё самое интересное происходило именно здесь: было пару побоищ, на одном из которых пырнули львонациста, здесь мы выбирали себе лидеров, здесь я познакомился со всеми из будущей элиты ДНР. В марте, когда мы выбирали народного губернатора, Павла Губарева, я сорвал себе голосовые связки и месяц хрипел, как тифозник. Поэтому я, что говорится, видел свою роль в том, чтобы донести до читателя с места событий, а не шлындать по окрестностям. Боря Сапожков скорчил самую отвратительную мину, на которую был способен, мол, не занимайся ерундой, не по чину!
— Ты же мой зам?.. — на всякий случай удостоверился он, потому что я давно хотел уйти на какие-то там обильные хлеба, которые мне обещали на телевидение и ещё в паре неформальных каналов, где свободного времени было ещё больше и можно было ещё больше предаваться безделью и лени.
— Ну?.. — решил отвертеться я любым способом, в том числе и не идти на поводу у начальства, потому что Борю Сапожкова иногда заносило: он напрочь не ощущал рабочего момента и не расставлял акцентов, хотя точно знал, что, где и когда произойдёт, словно ему бабка нашёптывала.
— Чего «ну»?! Чего «ну»?! — возмутился он. — Поезжай в Славянск. Там будет жарко!
С началом донбасской революции Борис Сапожков развил бурную деятельность: разогнал редакцию по городам и весям и, как паук в центре паутины, сел ждать новостей.
— Какое «жарко», Боря?! — удивился я. — А здесь? — и едва не потыкал в пальце в многотысячную толпу, что явно было хулой на его местоимения.
Естественно, я ещё тогда не знал, что в конце концов окажусь под Саур-Могилой и что нас охватит такой энтузиазм по одному единственному поводу — мы сбросили украинское иго, что даже появились свои смертники, которые готовы были идти в атаку голой грудью.
— Там, мой друг! Там всё решается! — проорал он мне в ухо, скорчив ещё более ехидную морду, потому что знал нечто такое, чего не знал я, но не считал нужным раскрывать карты; впрочем, я ему доверял. — Так что завтра чтобы был в Славянске, а послезавтра — передашь мне первый репортаж!
— А можно, прямо из вагона? — съязвил я, не уступая в кокетстве.
Будь у него в руках маркер с зелёной краской, он бы запустил бы мне его в лоб и долго бы при этом ржал. Зелёный цвет он почему-то любил больше всех других цветов, потому что наверняка, — не жёлтый и не синий, а на красный у него была отрыжка, не любил он коммунизм, коммунизм и Сталин ещё не утряслись у него в голове.
— Трепло! — живо среагировал Борис Сапожков, и мы побежали на бульвар Пушкина, пока вся эта масса народа не сообразит, что правильнее всего в такую жару — пить пиво.
Рев толпы ещё долго доносился со стороны площади, и душа моя рвалась туда. За потной кружкой Борис Сапожков мне объяснил, что у него есть свой человек в Славянске по фамилии Андрей Мамонтов, что он периодически звонит ему и рассказывает о событиях, но этого мало.
— Он боец, а не журналист, много стреляет, хватка отсутствует.
Я фыркнул:
— А что там?
— Там уже бои идут, сынок, — почему-то шепотом и оглядываясь по сторонам, сообщил Борис Сапожков.
— Да ладно! — не поверил я и невольно оглянулся: вокруг было мирно и солнечно, в сквере напротив играли дети.
В то время я ничего не знал о события на северо-западе. Однако уже осенью мой приятель Владимир Дынник, стал нервно дёргаться, когда его спрашивали об обстрелах железнодорожного вокзала, рядом с которым он жил: «Не попали! Не попали!» На железнодорожный вокзал снаряды залетали весьма регулярно, а рынок так вообще дважды горел, и осколки там гремели по крышам, что твой весенний град, и люди лежали на мостовой с разбитыми головами.
Борис Сапожков так посмотрел на меня, что я вынужден был уныло пообещать:
— Хорошо, хорошо, еду, еду!
— Только не тяни резину, — попросил он, опуская пререкания, ибо давно знал меня. — Найдёшь некого Стрелкова.
— А это кто?
Это было частью моей работы — задавать глупые вопросы, Борис Сапожков привык к ним, но всё равно покривился, словно увидел раздавленного таракана.
— Он там главный. Я тебе черканул письмецо к нему.
— А он тебя знает?
Я раскусил его прежде, чем он открыл рот. Надо было очень хорошо знать Сапожкова, чтобы зря не трястись за тридевять земель и больше доверять своей интуиции.
— Не-а… — красочно ухмыльнулся Борис Сапожков, и глаза его ещё больше повеселели, потому что он был авантюристом и дело своё знал хорошо.
А ещё, он родился в тюрьме. Уж не знаю, за какие грехи родителей. И этот факт наложил на него свой отпечаток: Борис был белесым и неугомонным живчиком предпенсионного возраста, готовым ринуться в любую. авантюру, а я был у него на побегушках и устраивал его во всех отношениях: во-первых, потому что по первому его требованию являлся пил с ним водку, как, впрочем, и другие алкогольные напитки, а во-вторых, потому что по определению не метил на его место, и он это ценил.
— Тогда какой смысл? — удивился я, всё ещё мысля категориями мирного времени и полагая, что до большой крови дело не дойдёт, кишка тонка у всех сторон без исключения; впрочем, мы это вопрос с Борисом Сапожковым не обсуждали, он подразумевался раскрытым сам собой.
— Чтобы тебе свои не расстреляли, — объяснил он так серьёзно, чтобы я проникнулся важностью момента: мол, кинули на съедение акулам.
Если бы я только представлял, с чем мне предстоит столкнуться.
— Ага! — понял наконец я подоплёку кривляний моего друга.
Да и то верно, у кого из нашей братии был опыт военных репортажей? Ну Чечня, ну Грузия; но двадцать три года под украинским протекторатом, отлучили нас от мест боевых действий, и мы походили на щенков, которые не нюхали пороха и со смертной завистью завидовали репортажам Сладкова и Речкалова.
Мой отец, бывший военный врач, не пережил девяностые, лёг в постель и отказался признавать реальность. Так и умер на третий месяц лежачей забастовки от воспаления лёгких. Мать, которая всю жизнь посвятила себя борьбе за чистоту в квартире, пережила его на полгода.
Я пришёл домой и сказал шутливо ещё в дверях, не подозревая насколько прав:
— Привет, я еду воевать! — Чтобы они в конце концов поняли, что ездить абы куда, кроме меня, никому не положено, опасно.
По квартире были разбросаны дачные вещи. Среди них ходили радостные моя жена и дочка.
— Ну и катись! — среагировала Наташка, сдувая с влажного лба прядь волос. — А мы сезон открываем!
— Сезон?
После слов Бориса Сапожкова у меня включился центр тревоги.
— Мы на дачу едем, папа! — весёл подпрыгнула Варя.
— Собирайся, дочка! — заревновала её ко мне моя жена.
— Наташа, какая дача! Война! — попытался я её вразумить, хотя сам же в свои слова не верил, не слушала она меня, я перестал был для неё авторитетом.
Как все дачи, наша дача в том числе, находилась на окраине, на станции Абакумова, в районе шахты Скочинского. А это двадцать километров от центра, и что там происходило, одному богу известно. Вокруг поля и шахтные копры.
— Вот и воюй. А мы поедем! Правда, Варя?
И спорить было бесполезно. Мы находились в той стадии отчуждения, когда любая логика ставилась тебе же в вину, поэтому я отмолчался: пусть делает, что хочет. К тому времени я смертельно устал от её сцен и придирок, тем более, что не мог понять их природу. Не знаю уж, кто в детстве нашептал моей жене, что мужчины созданы, чтобы ими помыкать, должно быть, это происходило на генном уровне независимо от логики.
— Пап, давай с нами. Там хорошо! — воскликнула дочь.
Господи, как я её любил! Как я нянчил, крохотный, пищащий комочек. Вставал по ночам, чтобы укачать. И жена бурчала: «Все мужья, как мужья, а ты какой-то странный», вроде как она знала других мужей. Впрочем, в те годы мы были молоды, беспечны и счастливы, полагая, что перед нами вся жизнь; и родители были живы, и даже бабушки с дедушками приходили в гости. Если бы только всё это длилось вечность, но жизнь коротка, и мы сами делаем её ещё короче.
— Варя, ты думаешь не о том!
Они докатились с мамой до того, что уже шептались о Вариных женихах. Рано, ревновал я, рано.
— Почему, не о том? — удивилась дочь.
— Потому что на даче сейчас опасно!
Я вдруг некстати вспомнил, что когда Варя узнала, откуда берутся цыплята, то целый год не ела яиц, и никакие уговоры не помогали.
— Тогда поехали с нами!
— Я не могу… Я занят…
Каким я был дураком. Надо было взять лом, топор, вооружиться пистолетами, которых у меня, естественно, не было, всем, чем угодно, и ехать с ними, даже несмотря на то, что одна часть женской половины семьи меня безбожно презирала и я бы хлебнул порцию упреков и нареканий. Но я дал слабину и сбежал в чёртов Славянск.
— Ну, папа…
— Не могу, дочка, не могу!
Она как две капли воды походила на мать, и всегда мне напоминала те прекрасные годы, когда мы, безвинно держались за руки и размахивая портфелями, шагали из школы домой. Это про нас в школе писали на заборах: «Мишка + Наташка = любовь!» Мне казалось, что так будет вечно; однако, поженились мы только в институте. С тех пор утекло так много воды, что память стала терять чувственность, а на смену стал являться разум, который твердил в минуты раздражения: «Ты не спал с ней два года. Зачем она тебе?» «Из-за нашего сентиментального прошлого» — отвечал я. Я, действительно, не мог её бросить. Я привык к ней, к этой бесконечно нервной жизни и другую себе не представлял. Куда девается любовь, никто толком не знает. Эта тайна, которую открывает каждое последующее поколение.
— Он у нас занят! — съязвила Наташа Крылова. — Он кропает новый роман о новой пассии!
Это была неправда. Я не изменял ей все эти два года и до этого — тоже. Я ещё на что-то надеялся, и её величество мужское долготерпение руководило мной все эти годы. Разумеется, женщины возникали на моём горизонте, но наши отношения, если их можно называть таковыми, не переходили платоническую чёрту. Проблема заключалась в том, что Наташа Крылова, независимо от самой себя, сделала мне такую инъекцию от любовных интрижек, что я обходил женщин десятой стороной, полагая, что все они, без исключения, похожи на мою жену. У меня не было иного опыта общения с женщинами, поэтому ни у кого из претенденток не было шансов улечься со мной в постель. Они меня пугали потенциальной наклонностью к болтовне, пошлости и скандалам. Бог его знает, что у них на душе. Ещё одной женщины в своей жизни я не перенёс бы. Я уже знал, что женщины — это не панацея от одиночества. Такого лекарства вообще нет. Хорошо, что у меня была отдушина в виде литература, в ней я сублимировал на все лады. Тем и спасался.
Ранним утром я трясся в электричке «Донецк-Изюм». А в девять с любопытством к новым реалиям сошёл на платформе в Славянске. Никто меня не встретил, хотя Борис Сапожков клятвенно уверял, что позвонит Андрею Мамонтову. Ну да мы не гордые, подумал я.
Перед вокзалом бродила пара патрулей. Вот и вся война. Зря Борис Сапожков тень на плетень навёл, решил я и двинул в центр, плохо представляя, где находится этот самый Стрелков, не расспрашивать же у прохожих, тогда меня точно заметут, и правильно сделают. Поэтому я шёл наобум туда, где улицы шире, а тротуар чище. Таким нехитрым макаром я попал в центр и за голубыми елями нашёл здание районной администрации.
Внутрь меня, естественно, не пустили.
— Кто такой? К кому? — грубо спросил невысокий боец с широченными плечами качка.
— Журналист из Донецка к Стрелкову.
— К Стрелкову? — недоверчив переспросил боец, держа автомат так, как держит мать ребёнка.
— Руки на затылок, ноги на ширину плеч! — приказал второй, высокий, почти с меня ростом. — Выворачивай карманы! А то мы знаем, какие вы журналисты!
Я не стал возражать и поднял руки, но так, чтобы бойцы не думали, что я их боюсь. То, что повыше посмотрел на меня с ненавистью, и вдруг понял, что он уже успел наглядеться всякого и не всякого, и что убить ему человека, как плюнуть на асфальт.
Меня тщательно обыскали, ткнув на всякий случай под ребро стволом. Забрали «никон», письмо, редакционное удостоверение, паспорт и портмоне с деньгами. Бог с ними, подумал я, почему-то решим, что попаду домой уже не на электричке, и деньги мне не понадобятся.
Тот, что пониже и пошире, отнёс мои документы и фотоаппарат в здание. Второй, непонятно зачем, держал меня на мушке, хотя вокруг бродили ещё человек десять с оружием. Так что даже чисто теоретически я сбежать не мог, разве что в виде живой мишени.
Они продержали меня в таком положении около часа. Вернувшийся боец ничего не сказал и, вообще, сделал вид, что не имеет ко мне никакого отношения. В здание входили и выходили люди, и всем им, как я понял, был нужен Стрелков. Некоторые из них принимали меня за шпиона. По крайней мере, один подошёл, посмотрел на меня и сказал:
— Здоровый, джеймс бонд! Вы следите за ним здесь!
— Отойди! — посоветовал ему боец, косясь на него, как кот на мышь.
Наконец позвонили, и меня повели все те же двое, тыча стволом в спину.
— Потише! — поежился я.
— Иди! Иди! — Но тыкать больше на всякий случай больше не стали.
Мы прошли через фойе с разбитым аквариумом в центре, поднялись на второй этаж и свернули направо. Кабинет Стрелкова находился с тыльной стороны и глядел окнами во двор. Грамотно, подумал я, в случае обстрела, не так опасно.
Я увидел перед собой крайне занятого и нервного человека. Видно, он уже познакомился с моими документами, потому что сказал бойцам:
— Свободны! — а потом обратился ко мне: — Аккредитация есть?
Я замялся:
— Нет…
— Ну а чего вы тогда?! — упрекнул он, хватая то карандаш, то папку.
Я решил, что меня, как минимум, арестуют, а как максимум, расстреляют. Трудно было понять, какие здесь порядки.
— Ефрем! — крикнул Стрелков в приоткрытую дверь. — Юз! — Безрезультатно. — Ю-ю-ю-з-з!!!
Слышали голоса бойцы на первом этаже. Вместо Юза в дверь сунул физиономию один из моих стражей.
— Ефрема найди! — приказал Стрелков.
Наконец раздались торопливые шаги и в комнату вбежал Набатников. У меня глаза полезли на лоб. Я не знал, что он здесь, и вообще, потерял его из вида с начала весны.
— Наконец-то! — сказал Стрелков, не поднимая головы и внимательно изучая пятна на столе. — Где тебя носит?
— Игорь Иванович, я занимался пострадавшими… из Былбасовки.
— Ах, ну да, — выпрямился Стрелков. — Разобрался?
— Так точно. Всех отправил в тыл, кого надо, по больницам.
— Сегодня бандеровцы автобус с местными жителями обстреляли, — пояснил Стрелков, по-прежнему не глядя мне в глаза.
— Мне доложили, что юго-востоке сбили Ми-8, — сказал Ефрем Набатников.
Я потом узнал, что это он самолично сбил вертолёт, только не хотел выпячиваться.
— Вот это хорошо! — оживился Стрелков. — Молодец! Вот человек из Донецка. Сделай ему аккредитацию.
Фраза «сделать аккредитацию» прозвучали просто-таки зловеще. Пытать будут, решил я.
— А чего ему делать, — пожал плечами Ефрем Набатников, глядя на меня безразличными глазами, — я его знаю.
— Тем более, — обрадовался Стрелков. — Забирай и поработай.
Я понял, что меня просто спихивают с рук и что Стрелкову сказать мне нечего за отсутствием ясности в оперативной обстановке, а, может, это было тайной и я рано явился, а Борис Сапожков, как всегда, поспешил. В общем, тысяча причин помешали мне пообщаться с Игорем Ивановичем и составить о нём ясное представление.
— Есть! — лихо ответил Ефрем Набатников и скомандовал мне: — Пошли!
Я вежливо сказал: «До свидания», оглянувшись на Стрелкова и двинулся следом.
— Стойте! — окликнул меня Стрелков. Я замер, покрывшись мурашками. — Документы и аппаратуру заберите, — и пододвинул их мне.
Стрелков посмотрел на меня, я посмотрел на него, и я мы друг друга понял. Я подумал, что не надо делать людей умнее того, чем пророчат обстоятельства, он просто делал своё дело, не заглядывая шибко вперёд.
Это потом его все хаяли, а вначале всё было хорошо, вначале вообще никто ничего не понимал: ну повстанцы, ну добровольцы. А кто их разбудил и организовал? Начинать всегда трудно. Для этого нужен особый тип людей. Вот они и появились: Лето и Шурей, девушки-снайперы. А над всеми стоял — Стрелков.
— Всего доброго, — с облегчением сказал я, забирая свои вещи.
Он не ответил. Письмо Бориса Сапожкова так и сталось лежать в конверте. Видно, пресса Стрелков интересовала в последнюю очередь. Не до этого было — вдалеке всё настойчивей бухало и гремело.
— Здорово! — Ефрем Набатников, который шёл впереди, развернулся и обнял меня за стенами кабинета. — Приятно увидеть своего человека.
Я начал что-то припоминать. Кажется, сразу после того, как установилась первая весенняя погода, Ефрем Набатников позвонил мне прямо из электрички и сообщил, что едет в Славянск. «Воевать?» — спросил я тогда. Но он, похоже, и сам не знал, зачем. Должно быть, с тех пор он и числился на бандеровском сайте «миротворец» в «списках боевиков и наёмников в Донецкой области».
— А Юз кто такой? — спросил я, следуя за ним по гулкому коридору.
— Это мой позывной. Я теперь заместитель Стрелкова. Везёт мне! — он полез за пазуху, вытащил свой талисман — золотой жетон со своими же инициалами Е.Н. и благоговейно поцеловал её.
Он всегда и везде демонстрировал свой талисман, напуская на себя таинственный вид, особенно, когда был пьян, и уверял, что если бы не этот жетон, он бы сейчас с вами или со мной, или ещё с кем-нибудь водку уже не пил бы. «Почему?» — по наивности спрашивали многие. «Потому!» — важно отвечал он, и его можно было объехать разве что только на кривой кобыле, а я понимал, почему: потому что Россия. И кто ближе к ней встанет, тот и главный. Вот какие были поначалу дела. Это потом уже армия появилась, вначале было именно так, кто врос прочнее корнями, тот и главный.
— По каким части? — уточнил я, надеясь, что с тех пор он изменился.
— По всякой! — многозначительно ухмыльнулся Ефрем Набатников.
Я уже знал эту его ухмылку, которая означала, что Ефрем Набатников добился того, чего желал, а честолюбия у него было не занимать, только вот Стрелков не знал об этом, как, впрочем, и о талисмане тоже, иначе бы заставил выкинуть, как демаскирующий элемент. Но Ефрем Набатников его не выкинул бы даже по приказу, к сожалению, он приберёг его для меня.
— Так это про тебя всякое говорили? — вспомнил я разговоры в редакции, не знаю, правда это или нет, о каком-то бесшабашном заместителе Стрелкова, который мотался по фронтам, ходил в разведку, брал языков, и даже, как бывший ракетчик, умудрился сбить два вертолета и один самолёт. — А я думаю, что за Юз, — похвалил я его, — заместитель министра обороны? А это ты, оказывается!
— Так вышло… — простецки опустил глаза Ефрем Набатников, и выдохнув воздух через усы, как морж. Они у него были настоящие, русские, мужицкие, подстриженные вдоль рта, а не опущенные вниз, как у гуцулов, а — щёточкой. — Я не ожидал, — рассказал он коротко, — как все, дежурил на блокпостах, а потом Стрелков, видно, приметил… — дальше он вообще, перешёл на невнятные шёпот и хотел казаться скромным и незаметным, но я-то знал, что он претенциозен и далеко пойдёт, если повезёт или если вовремя не остановят. Но мне это даже импонировало.
Ефрем Набатников два раза становился миллионером и два раза разорялся только из-за женщин. Первая его жена разбила битой стекло на его любимом джипе, а самого отправила в больницу, отдубасив спящего сковородой. После реанимации он выбил ей передний зуб, разрезал три её соболиные шубы на тоненькие лоскутки, продал аптечный бизнес в Москве, чтобы ни с кем не делиться, и сбежал в Донецк, где до самого начала войны развозил колбасу на «шестисотом», а потом вдруг разбогател. Он был настолько везучий, что однажды выиграл в лотерею два раза за день. Я думаю, что если покопаться в его грязном бельё, то кое-что можно было найти эдакое, но не стал этим заниматься из принципа — плевать. Герой, он и есть герой.
— Ну и хорошо, — приободрил я его, чтобы он больше не оправдывался. — А чего он так? — на правах старого знакомого спросил я.
Ефрем Набатников оживился.
— А сам как думаешь? — Таким незатейливым способом прикрыв спину шефа.
— Понятия не имею, — ответил я безразличным голосом, потому что только начал догадываться о том, что здесь, действительно, происходит.
— Помощи ждём… — сказал Ефрем Набатников, как человек, который мало врёт, и который страшно хочет, чтобы ему поверили.
— А-а-а… — среагировал я, сопоставляя услышанное и уведенное, и злых людей во дворе администрации, и нервничающего Стрелкова. — Наши придут?
Я-то думал, что у них всё на мази: и регулярные части, и танки, и всё такое прочее, вплоть до авиации, об этом, естественно, писать нельзя, а у них ничего, хоть шаром покати. Прав Борис Сапожков, прав. Здесь только всё начинается и держится на добровольцах, на тех, кто, такой злой и нервный, охраняет Стрелкова.
— Придут, — твердо сказал Ефрем Набатников. — Иначе…
Я понял, что это заклятие. И то правда, совсем по-другому прислушался я к зловещим раскатам грома, должны прийти, иначе всё теряет всякий смысл, даже моя поездка. И я понял, почему Стрелков нервничал.
— Иначе дело дрянь, — досказал за него я.
— Об этом никто не говорит вслух, — оглянулся по сторонам Ефрем Набатников, словно нас подслушивали.
Несомненно, он доверял мне, потому что знал давно и потому что водки мы с ним выпили немерено.
— Хорошо, — пообещал я, — опишу только положительные моменты.
Второй раз он поднялся на торговле игрушками, но и разорился, я полагаю, тоже из-за женщины.
— Я бы сказал, — поморщился Ефрем Набатников, — да, материал надо придержать.
— Можно и так, — согласился я, подумав, что Борис Сапожков меня не поймёт, зато укрофашисты обрадуются.
А ещё я подумал, что по-видимому люди здесь из-за новизны ситуации сами ещё не понимают, что можно, а что нельзя и что, в принципе, потом может оказаться для них компроматом.
— Обо мне можешь писать, — скромно сказал Ефрем Набатников. — Я не боюсь, а у других надо спрашивать разрешение.
— Ладно, — кивнул я, изображая слоновью покорность.
Мы вышли из здания районной администрации. Перед видавшем виды «фольксвагене», опираясь на пулемёт, в позе Геракла стоял человек, страшно похожий на молодого лысого Дженсона из «Ментовских войн», и не было монументальней физиономии на всём западном фронте. Я едва запанибратски не полез обниматься, но вовремя осёкся, сообразив, что это не тот Джексон, а страшно на него похожий человек. А может, это и есть Джексон? — ужаснулся я. Уже и актёры сюда подались за ощущениями. А ведь он убивал, догадался я, глядя на его жёсткое лицо, голыми руками и не очень честно. Как будто само убийство может быть честным. Но тем не менее, человек производил впечатление бывалого и опытного. А ещё он был обвешан оружием, как елочная игрушка: пулемёт, автомат, рожки — на животе, гранаты в нагрудных карманах, огромный штык слева, так, где сердце. Я решил его сфотографировать, но в последний момент передумал, усомнившись в его положительной реакции.
— Познакомься, — сказал Ефрем Набатников, — это Радий Каранда, позывной Чапай.
— Очень приятно, — я пожал протянутую руку.
Радий Каранда почти незаметно поморщился, он не ожидал от меня сугубо гражданского поведения и тем самым возвёл между нами непреодолимую стену презрения ко всему гражданскому, которому не место на войне. Это потом он признал за мной право на индивидуальность, а вначале — относился свысока.
— Мой знакомый журналист из Донецка, — пояснил Ефрем Набатников.
Рука у Радия Каранды оказалась жёсткой, как подмётка. Ого, подумал я, спец. Обычно такое рукопожатие бывает у альпинистов, потому что им нужно крепко держаться за верёвку, но, оказывается, и у спецназовцев, потому что им нужно быстро отрывать врагам головы.
— Тебе тоже нужен позывной, — сказал Ефрем Набатников, усаживаясь в машину.
Разумеется, он всё понял, но не собирался смягчить ситуацию, говоря тем самым: «Ты хотел попасть на фронт? Ты попал. Пеняй на себя!»
— Я же временно, — сказал я, — размещаясь я комфортом на заднем сидении.
Радий Каранда сел рядом с Ефремом Набатниковым, повернулся ко мне и попросил жёстким говорком:
— Братишка, положи пулемёт.
Я взял тяжёлый пулемёт с зелёным магазином и пристроил рядом. Приклад упёрся мне в колено.
— А потом тебя по имени и фамилии начнут вычислять, — назидательно сказал Ефрем Набатников.
— Ну и что? — не понял я.
— Смотри сам.
— Ладно, я подумаю, — согласился я. — Может, Росс?..
— А почему, Росс? — удивлённо сунулся ко мне Ефрем Набатников.
— Ну, Россия, — объяснил я нехотя, боясь показаться сентиментальным.
— Росса у нас нет? — спросил Ефрем Набатников у Радия Каранды.
— Нет, кажется… — согласился, Радий Каранда, вставляя ключ зажигания.
Наверное, Радий Каранда догадывался, что похож на артиста Дмитрия Быковского, и копировал его, а может, даже был его двойником, кто знает.
— Ладно, — разрешил Ефрем Набатников. — Будешь Россом! — Поехали! — скомандовал он.
И мы понеслись по узким улочкам Славянска, причём, почему-то исключительно по «встречке» да ещё и с односторонним движением. При этом Радий Каранда во всю сигналил, ручался чёрным матом и ржал, как конь, когда ему удавалось кого-то до икоты напугать.
Как я понял из их разговоров, мы направлялись на какой-то блокпост, чтобы забрать тяжёлый пулемёт, отбитый накануне у укрофашистов, и перебросить его на более опасный участок, где он был нужнее.
Раскаты грома становились то громче, то тише. Я косился в окон, за которым мелькали бесконечные лесонасаждения и поля.
— С Карачуна бьют, — сказал Ефрем Набатников, посмотрев направо.
Я тоже посмотрел, будто что-то понимал в диспозиции невидимых войск, но за мелькавшими деревьями, ничего не увидел, хотя бухало прилично, земля вздрагивала, как живая. Потом я к этому привык. За два года ко многому привыкаешь, кроме смерти и предательства.
— Ничего, наша «Нона» не сегодня-завтра их накроет, — уверенно сказал Радий Каранда, крутя баранку, как заправский гонщик.
Его тщательно выбритый череп сверкал, словно биллиардный шар.
— Ну да! — согласился с ним Ефрем Набатников.
И я почему-то им поверил, хотя понятия не имел, что такое «Карачун» и «Нона». К вечеру я уже знал, что «Карачун» — это гора в окрестностях Славянска, которую захватили укрофашисты, установив на ней крупнокалиберную батарею; а «Нона» — единственное артиллерийское самоходное стодвадцатимиллиметровое орудие повстанцев, которое вело контрбатарейную борьбу по всему фронту и поэтому было на вес золота, и на неё охотились все силы укрофашистов и не раз объявляли уничтоженной, но она, как Феникс, оживала и давала прикурить фашистам в очередной раз.
Проехали Семёновку с разбитые кое-где домами, стали пускаться в очень пологую долину, где раскинулась Черевковка, с белой колокольней на склоне.
— Ну где же они? — удивился Ефрем Набатников, крутя головой, когда мы проехали, как я понял, блокпост с поникшим российским флагом, речку, и медленно, словно нехотя, стали подниматься на противоположный склон долины.
Радий Каранда молчал и, знай себе, вцепился в руль. Ефрем Набатников насвистывал бравурный марш, кажется, «Марсельезу». Что касается меня, то я полностью положился на их опытность и везучесть Ефрема Набатникова. Кто здесь воюет, я или они?
— Где они? — снова крутил стриженной головой Ефрем Набатников. — А вот! — и радостно показал на железобетонные блоки на склоне холма.
Мы подкатили бодро, под завывания простуженного мотора. Из-за блокпоста вышел боец, хотя бойцом его трудно было назвать, был он невысоким, вид имел чаморошный. Каска валялась в траве. Даже оружия при бойце не было.
— Где пулемёт? — спросил Ефрем Набатников, высовываясь в окно.
— Какой пулемёт, дядько?
— Чего?.. — крайне удивился Ефрем Набатников и в раздражении полез из машины.
Видно, его ещё никто так не называл. Сейчас он ему врежет, понял, и мне стало жалко повстанца.
— Субординацию не соблюдает, — удивился Радий Каранда.
— Ты что, белены объелся? — высунулся в окно Ефрем Набатников. — Ты как со старшим по званию разговариваешь?
Я вылез тоже, мне было интересно, как он с ним поступит, хотя погон на Ефреме Набатникове не было и в помине, но, похоже, его все окрест знали.
— Я, дяденька, ничего не бачил, — ответил чаморошный боец, — и никакого пулемета здесь не мае. Я окоп копаю, — сказал он на «о».
— Что?! — выпучил глаза Ефрем Набатников.
И тут я разглядел, что боец держит за спиной гранату РГД-5 с выдернутым кольцом. Держит давно, и видно, держать уже устал. Я хотел сказать об этом Ефрему Набатникову, но не успел. Боец просто швырнул мне её под ноги, как самому здоровому и потом самому страшному, и в следующее мгновение я очутился сидящим на земле, а в руке у Ефрема Набатникова беззвучно дёргался пистолет, и горячие гильзы сыпались мне на голову. Это продолжалось достаточно долго, чтобы я успел перевести взгляд на бойца, а когда перевёл, то обнаружил его корчившимся в луже крови. Это меня очень удивило, хотя я по-прежнему ничего не слышал, словно меня окутала ватная тишина.
Ефрем Набатников подлетел ко мне, как-то странно посмотрел, пошлёпал по щекам, и по его губам я понял, что он спрашивает, живой я или нет.
— Живой… живой… — сказал я, пытаясь подняться, меня повело в сторону.
Ефрем Набатников стал мне помогать подняться, но вдруг завертел головой и снова куда-то пропал. Пришлось мне выкарабкиваться самостоятельно. Меня качало, словно пьяного, и даже вырвало желчью, потому что я с раннего утра ничего не ел.
И вдруг сквозь ватную тишину я начал различать звуки стрельбы. Оказалось, что я её давно слышу, но не обращаю внимание. Стрелял Радий Каранда из того самого пулемёта, который возил на заднем сидении. Он стоял, широко расставив ноги и целился куда-то в вершину холма. Я оглянулся, но никого и ничего не увидел, кроме кукурузы.
Наконец мне удалось подняться. Земля под ногами сделала пол-оборота и остановилась.
— Ложись, блин! — крикнул Ефрем Набатников.
Он стрелял из автомата, прикрываясь железобетонным блоком. Вместо того, чтобы последовать совету, я принялся их снимать. Меня обуяла мысль зафиксировать настоящий бой. Я сфотографировал своим «никоном» мужественное и решительное лицо Ефрема Набатникова в то момент, когда он менял магазин, даже его золотой жетон на цепочке с инициалами Е. Н.; я отщелкал целую серию, затем принялся за Радия Каранду, его жилистые руки и монументальное лицо с большим носом хорошо ложились в кадр.
— Да падай ты в конце концов! — снова закричал Ефрем Набатников.
И тут до меня дошло, что по нам тоже стреляют. Мне даже послышался свист пуль; а стреляли как раз по обе стороны дороги, из кукурузного поля.
Вдруг на гребень холма, словно нехотя, вылез БТР и дёрнул свои хоботом. Дело стало принимать плохой оборот. Наша машина, которая, как я понял, не хотела отныне заводиться, вспыхнула, как стог сена, от неё нехотя пошёл чёрный дым.
— Отходим! — скомандовал Радий Каранда.
В его устах это прозвучало, как: «Бежим!» И мы побежали, по этому самому кукурузному полю, путаясь в молодых побегах, и сразу стали заметны для противника, который развернулся цепью и побежал следом, прикрываемый огнём из БРТра.
Я понял, что мы не добежим даже до Черевковки, перестреляют, как куропаток. Наверное, так бы мы и легли на этом склоне, но из белой колокольни на противоположном склоне долины ударил тот самый тяжёлый пулемёт, за которым мы приехали, и БТР захлебнулся на высокой ноте, а стрельба из автоматов сразу стихла.
Хохоча и зубоскаля, словно подростки, мы добежали до реки, где и столкнулись с нашими, которые, оказывается, нашли тяжелому пулемёту применение.
— Ладно, — сказал Ефрем Набатников, — оставляйте себе, тем более, что всё равно нам его везти не на чем. — И посмотрел на меня: — А тебе, мужик, страшно повезло, иногда РГД-5 взрываются так, что только оглушают. Ты счастливчик, мужик, ты счастливчик!
Потом эта пробежка по кукурузному склону иногда снилась мне: я бегу, бегу, но никуда не добегаю, а меня нагоняют и нагоняют; и тут я просыпаюсь от собственного крика.
* * *
В одиннадцать часов утра следующего дня Жанна Брынская затормозила на Пресненской набережной и сказала, озабоченно выглядывая в окно:
— Миша, вот здесь, кажется… Я у Аллы только один раз была…
Я тоже задрал голову и тоже прижался к стеклу, но так и не увидел, где кончается зеленоватая стена, уходящая в небо. Где-то там, высоко-высоко, в белесом небе, плыли зимние облака и, должно быть, летали птицы.
— А ты не ошиблась? — я посмотрел на неё, словно домашняя собака, которую выпихивают на улицу — в большой, страшный мир.
Она равнодушно пожала плечами. Веснушки на её лбу в размышлении собрались в жёлтое облачко, и я вспомнил, что лет двадцать назад на каких-то танцульках Валик выиграл приз, познакомившись с ней. Подробности я забыл, они были связаны с его первым неудачным браком и преждевременными родами, теперь его взрослый сын где-то шляется по свету.
— Да нет вроде, — пошла она на попятную, и я понял, что Валику повезло, ибо его Жанна выказывала все признаки зрелой натуры: не злилась, не юлила, а говорила то, что чувствует. — Сейчас я позвоню!
— Не надо, — остановил я её. — Не надо. Дальше я сам.
Башню я приметил ещё когда мы ехали по Третьему транспортному кольцу, рядом с ней — такая же, а за ними — ещё одна, выше, монументальнее и кручёнее. И вообще, весь это район был словно заставлен огромными шахматными фигурами. Если бы я знал, что мы направляемся именно сюда, я бы выпрыгнул на ходу, теперь же отступать было поздно: как я буду выглядеть в глазах моих друзей?
— Иди, иди, она тебя ждёт, — Жанна Брынская наконец сообразила, что я просто морочу ей голову.
Точно сбагрить собрались, огорчился я и спросил, испытывая её терпение:
— С чего ты решила?
— Я знаю, — сделала круглые глаза Жанна Брынская и тяжело вздохнула.
Валентину Репину остаётся только позавидовать, подумал я, потому что его жена имела колоссальную выдержку.
— Точно? — я решил проверить ещё раз.
Зачем мне это всё? — подумал я, памятуя об осколке в лёгком, не сегодня-завтра окочурюсь. Смысла нет. Но какой-то чёртик заставлял меня жить и двигаться дальше.
— Зуб даю! — наконец зашипела она тихо, как змея: — Выметайся, быстро! Быстро! Это она, башня «А», не бойся! — И как мне показалось, когда я вышел, тайком перекрестила мне спину.
Знает она, подумал я, неловко вылезая из машины со своей аптечной палкой и, преодолевая робость перед всем этим стеклянным великолепием, вошёл в фойе; в бюро пропусков для были заготовлены пластиковая карточка и улыбка администратора на мою полевую форму; я миновал турникет, вошёл в лифт, поднялся на двадцать пятый этаж и приблизился к ещё одному администратору — премиленькой девушке с белой прядью на глазах, и даже рта не успел открыть — оказывается, меня и здесь тоже ждали, и судя по реакции, подробно, в деталях, описали, палку — абсолютно точно. Пока девушка с белой прядью названивала: «Алла Сергеевна!..», я оглянулся, приметил «Аптечный рай», эмблему с чашей и змеёй, скрытые светильники, дающие рассеянные свет, и видеокамеры, разглядывающие меня в упор; мысль о том, что я попал сюда случайно, казалось мне вполне естественной. Я всё ещё ожидал, что появится человек с властно-насмешливым лицом и объяснит мне, дураку, что это обман, шутка, розыгрыш, ничего не поделаешь, так бывает в московской жизни; и я со спокойной душой смоюсь отсюда подальше и даже не обижусь, а главное, останусь самим собой и не буду играть чужую роль и занимать чужое место. Однако вместо этого появилась великолепная Алла Потёмкина, вариант моей жены, только с голубыми глазами, которые в сумраке фойе казались тёмно-синими, и, тряхнув головой, как сноровистая лошадка, игриво сказала девушке с белой прядью:
— Олечка, я его забираю!
— Да, Алла Сергеевна! — обрадовалась до ушей девушка с белой прядью.
Как каково же было моё удивление, стоило Алле Потёмкиной отвернуться, как восторг на лице девушки с белой прядью сменилась глухой злобой. Я отметил галочкой: не все так просто в датском королевстве и хотел расспросить об этом саму Аллу Потёмкину, но она моментально расположила меня к себе: было у неё такое свойство характера делать встречное движение души. Со времени последней нашей встречи она подстриглась, и ежик чрезвычайно шёл к её правильным чертам лица и голодным скул. Губы она красила ярко, но не вызывающе, а на макияж потратила часа три, не меньше (уж я-то разбирался), и я был несколько взволнован, потому что выглядела она так, как выглядела моя Наташа Крылова, когда хотела выйти за меня замуж, то есть с теми же самым блестящими, чрезвычайно любопытными глазами и с обезоруживающей улыбкой, только лет на пятнадцать старше. Сердце мое трепыхнулось пару раз, но благополучно вернулось на своё законное место и больше не шалило.
— Михаил Юрьевич, я рада, что вы пришли! — произнесла Алла Потёмкина официальным тоном, даже не взглянув на девушки-администратора. — Пойдёмте! — крепко ухватила меня под руку, мимолётно прижалась плечом, я чувствовал каждый её изящный палец, и повела по бесшумному коридору в пастельных тонах, и я несколько мгновений наблюдал, как мелькают её ноги в строгих, чёрных туфлях и укороченных брюках с пуговицей на тонкой лодыжке. — Жанна звонила и сказала, что вы приехали, — она заглянула мне в лицо, проверяя реакцию, и бедное мой сердце снова сладко трепыхнулось, хотя я ещё помнил Нику Кострову, её стройную фигуру и царственный поворот головы. — Мы сейчас подпишем кое-какие бумаги, а потом… А вот и твой кабинет, — оставила она тайну на высокой ноте и ввела меня в апартаменты.
В приёмной за столом тоже сидела премиленькая девушка, но которая, в отличие от девушки-администратора, прическу имела типа осиного гнезда, волосы русые, а глаза — огромные, словно вишни, взволнованные, пожирающие начальство; к том уже она ещё и вскочила при виде Аллы Потёмкиной. Они здесь все такие, оценил я, держатся за работу руками и зубами.
— Это Вера Кокоткина, ваша секретарь. Будете с ней работать. Вера, познакомься, это Михаил Юрьевич, наш новый директор по рекламе и маркетингу. Это ваш кабинет, Михаил Юрьевич! Табличку мы уже поменяли. (Я не спросил, кто сидел в кабинете до меня и что с ним стало, а со стыдом прочитал свою фамилию Басаргин М. Ю. и должность: директор там чего-то). Напротив, выше по коридору — кабинет вашего заместителя, Леры Алексеевны Плаксиной. Я вас сегодня познакомлю. Сейчас мы пойдём ко мне и подпишем бумаги, чтобы официально оформить наши отношения. — Она насмешливо повела бровью, мол, удивила я тебя? Я проявил сдержанность, хотя моё воображение так и неслось галопом, опережая события, но даже оно ошиблось в своих фантазиях.
Мы прошли в её кабинет, который оказался в конце коридора и огромными окнами смотрел на Москву-реку. Зимнее солнце в лёгкой дымке висело над городом.
— Не много? — удивился я, увидев сумму моей зарплаты в договоре.
Стол в её кабинете напоминал огромный заливной каток. В вазе живые стояли цветы. Кондиционер выдавал точную порцию свежего воздуха.
— Не много, — заверила меня Алла Потёмкина, выглядывая из гардеробной. — Привыкая! Отныне у тебя машина и личный шофёр!
— Спасибо, — ответил я, — и так обойдусь.
— У нас не положено! — отрезала она, появляясь в сапогах и верхней одежде под русский стиль: много-много меха и огромная шапка с бордовыми узорами. — У нас филиалы по всех окрестностям и в соседних областях. Так что тебе, дорогой, придётся поколесить.
— Ничего, я привык, — сказал я, имея ввиду все те дороги, которые увидел за два года войны.
— Отлично! — среагировала она тряхнув головой, как сноровистая лошадка. — На Кутузовской проспекте отныне у тебя пятикомнатная квартира.
Я удивился ещё больше и даже, наверное, забыл закрыть рот:
— И двух хватило бы, — пробормотал я в смущении. — В крайнем случае, у Репиных угол сниму.
— Вот что нравится в тебе, — сказала она по-свойски, — так это твоя провинциальность, — она серебристо рассмеялась, прищурив свои прекрасные голубые глаза, изучая меня, как под микроскопом. — Все твои мысли написаны на твоём лице. Другой ухватился бы и радовался, прикидывая, как он устроился в жизни. А ты?.. — Впрочем, в её голосе чувствовалась гордость за правильно сделанный выбор и женскую прозорливость. — Ну да оботрёшься, — сыронизировала она с тем изыском, который свойственен, я думал, московским бизнес-леди, — твой предшественник проворовался и находится под судом, и если ты станешь даже не таким, как он, а просто, как все, я потеряю к тебе всякий интерес, — добавила она со значением, которое показалось мне смешным, ведь я никогда не бегал ни за должностями, ни за выгодой, но она, разумеется, об этом знать не могла. Об этом не знали даже Репины, они просто считали меня неудачником, но неудачником из своего прошлого, значит, любимым неудачником, которого надо побыстрее устроить на приличную работу и перестать его задарма кормить.
Должно быть, Алла Потёмкина уже хлебнула от яда предательства, подумал я, раз дует на воду. Я не стал обещать, что не подведу её, а просто спросил:
— Почему?
— А потому что такого добра полно и в Москве. Так что учти, я на тебя ставку сделала.
Я не знал, что ответить, приуныв, полагая, что быстренько разделаюсь с делами и вернусь в Королёво, чтобы заняться куда более прозаичным делом: ноутбуком и романом. У меня по сюжету героиня получает травму и попадает к хирургу.
— Так что же ты от меня хочешь? — спросил я.
— Сейчас увидишь! — и, торжествующе поглядывая на меня, позвонила.
Пришла женщина, которая оказалась кассиром, и выдала мне деньги, которые я ещё не заработал, и банковскую карточку, которую я ещё не заслужил. Глупо было отказываться. Я расписался, полагая, что попал в рай, и даже не сумел распихать деньги по карманам.
— Зачем? — спросил я, когда кассир ушла.
Видок у меня был, наверное, ещё тот, потому что Алла Потёмкина улыбнулась и посмотрела в окно, давая мне возможность опомниться.
— Ничего, просто привыкай! — безапелляционно сказала она, оборачиваясь ко мне. — Всё не бери. Здесь много. У тебя в кабинете личный сейф. А насчёт зарплаты, я считаю, ещё и мало, надо ещё нули приписать. — Она взяла ручку и действительно, приписала нолик и расписалась рядом. — Вот ключи! — кинул она; я поймал их на лету. — Просто большие квартиры у нас в этом районе все заняты. Поживёшь пока в этой, а потом что-нибудь подыщем. — А теперь едем по магазинам!
— По каким магазинам? — вовсе пал я духом: жизнь моя кардинально менялась; едва ли я был к этому готов; на сегодня я уже был впечатлен по уши и слегла опьянел от удовольствия.
— Я понимаю, что военная форма красит мужчину, — она с улыбкой показала на меня сверху до низу, то есть до моих изношенных, окопных берец. — Будь моя воля, я бы оставила тебя в ней, чтобы наши дармоеды боялись, но думаю, меня не поймут; у нас фирма, и надо соответствовать. Поехали! Вот тебе ещё кредитка за счёт этой самой фирмы, которую ты так боишься!
Она прошлась по лезвию: если бы я уловил в её голосе хотя бы признак фальши, хотя бы нотку превосходства, ноги бы мои больше здесь не было. Но она сыграла безупречно. И все мои дальнейшие уловки поймать её на двуличии ни к чему не приводили. Она оказалась такой же естественной, как и моя Наташа Крылова. А может быть, — хитрой, я не знал. Мне предстояла ещё разгадать эту тайну. По крайней мере, хитрость была не её коньком, и если она ею пользовалась, то крайне редко и не в отношении меня.
Мы вышли из зелёной башни «А», сели в серебристый «бьюик» и объехали полцентра, перед каждым вторым магазином мужской одежды останавливались, глядели на витрину, и Алла Потёмкина говорила, встряхивая головой, как сноровистая лошадка:
— Нет-т… не то. Поехали дальше.
Хорошо вышколенный шофёр легко трогал с месте тяжелую машину. Мне показалось, что Алле Потёмкиной просто нравилось покачиваться со мной на мягком заднем сидении и как бы невзначай доверительно касаться меня и что-то мило рассказывать.
Зачем она меня покупает? — думал я. Для секса? Исключено. Вон сколько здоровых мужиков, только свистни. Нет, здесь что-то другое. А что именно? — ломал я голову.
Алла Потёмкина молчала и только периодически насмешливо поглядывала на меня, радуясь, как я понимал, моей наивности. И её серые глаза каждый раз заставляли моё бедное сердце подпрыгивать, как на ухабе, когда подвеска разбивается в щепки и тормоза никуда не годятся.
Наконец, проплутав больше трёх часов и вволю насладившись пробками и моим страхами, Алла Потёмкина сказала в районе Лубянки:
— Здесь! Виктор Петрович, остановите! — Она обезоруживающе поведала мне. — Люблю итальянскую моду!
Права выбора я был лишён в априори; и мы вышли, чтобы попасть в потребительский рай из моря стёкла, мрамора и приглушённой музыки. Алла Потёмкина завела меня в мужской отдел на третьем этаже и сказала, отдавая на растерзание молоденьким продавщицам:
— Девочки, помогите моему герою выбрать всё что он закажет, а я — в соседний, — и указала острым ноготком напротив, где виднелись аксессуары чего-то там такого.
В одном соседнем продавалась косметика, в другом — женское бельё. Я тайком отследил, куда она навострила лыжи — разумеется, во второй, витрины которого пестрели от ажурных прелестей. И чего греха таить, это женское бельё крепко засело у меня в голове, на Алле Потёмкиной оно смотрелось беспроигрышно. Ну да все эти эротические фантазии я по привычке тут же выбросил из головы.
Я выбрал тёмно-серый костюм с отливом, на двух пуговицах, и пару чёрных рубашек, к которым подобрал серебристых галстук. На этом мой воображение иссякло. Я просто не представлял, как должен выглядеть директор по маркетингу и рекламе фирмы, у которой, более тридцати пяти сотен аптек и ларьков с годовым оборотом около тридцати миллиардов рублей.
Одна из трёх девушек, с копной русых волос и с фигурой «рюмочка», на карточке которой значилось имя «Инна», приободрила: «У вас потрясающая фигура», чем вошла в принципиальное противоречие с моей женой, которая утверждала, что я неуклюжий дылда. «Она вас обманула», — казалось, заверила меня Инна, глядя на меня такими же глазами, как и продавщица из супермаркета Татьяна Мукосей, словно я задолжал ей сто миллионов рублей и отдавать из принципа не хочу.
У Инны были изумрудные глаза. Я удивился: бывают же такие, как в рекламе или как мультиках. А ещё на правой кисти у неё жила ящерица, положившая морду на изгиб большого пальца. Когда Инна сгибала кулачок, ящерица казалась живой и смотрела оттуда правым глазом, потому что левый всё время умывался язычком.
Инна с энтузиазмом натаскала мне кучу тряпья, которую я не перемерил бы и за год. Пришлось мучиться и любоваться собственным отражением в зеркале, а Инна деликатно заглядывала в щёлочку и спрашивала:
— Ну как вам?..
Признаться, я не без задней мысли, особенно после замечания о «потрясающей фигуре», выпячивал грудь и выходил на арену. Мне нравились женщины с пышными волосами и юными лицами, они внушали мнимую надежду на благополучный исход под названием жизнь. Наверное, я сильно постарел душой на этой проклятой войне, потому что глядел на прелести девушки абсолютно трезвым взглядом и гадал, что она выкинет в следующий момент и на что она способна в постели.
— Ай, как вам идёт! — профессионально ликовала Инна. — Ваша мама одобрит! — Чем заслуживала неодобрительный кивок с моей стороны. Но жеребёнок, к классу которого я отнёс Инну, и ухом не повела. И я понял, что возрастная градация в московского мире очень строгая и ни у кого нет друг к другу ни капли уважения.
Несомненно, она относилась к поколению, которое выросло в памперсах и очень гордилось чистой попкой.
Пришла взыскательная Алла Потёмкина. С подозрением покосилась на жеребёнка Инну и велела принести костюм-тройку с кармашками для часов.
Я сказал:
— Мне это не подходит, я буду смотреться в нём, как приказчик.
— И то верно… — с безразличием в голосе согласилась Алла Потёмкина.
По той же причине я отказался от двубортного с золотыми пуговицами.
— А в этом, как адмирал!
— Да, это перебор, — тоже согласилась Алла Потёмкина, озабоченно покрутила носом и, не глядя на жеребёнка Инну, велела принести что-нибудь «этакое», молодёжное, «с косыми карманами». — Я не знала, что ты такой переборчивый, — похвалила она меня.
Она развеселилась и опять стала походить на мою жену, которая к выбору одежды относилась, как к тяжёлой, но вдохновляющей работе. Моя жена каждые три года обновляла гардероб, раздавая подружкам и приятельницам свои вещи. Иногда я путал её с кем-то из них, правда, без скандалов и сцен ревности, потому что вовремя понимал, что ошибся.
Инна принесла тёмно-синий костюм. Я напялил его и вышел. Алла Потёмкина сделал круглые глаза и удивлённо сказала:
— Ого! — Рот её невольно расползся в ободряющей улыбке. — Я подозревала, что ты будешь на высоте, но чтобы так!..
А Инна за её спиной показала большой палец и на радостях притащила такой же, но фиолетовый, почти чёрный, с едва заметной блестящей полоской. В нем я походил на Джордж Клуни в лучшие его киношные моменты, не хватало только благородной седины. Алла Потёмкина велела завернуть и эту тряпку.
Она не знала одного — я терпеть не мог костюмов и обходился джинсами и куртками, которые занашивал до полусмерти. В крайнем случае, мог износить дорожный пиджак из грубой ткани. Поэтому больше всего мне понравились джинсовая двойка и тёплая куртка с белым воротником в придачу. Даже Алла Потёмкина одобрительно хмыкнула, должно быть, ей импонировали мои длинные ноги из-под неё. Жеребёнок Инна незаметно подмигнула мне и показывая глазами на Аллу Потёмкину, скептически заулыбалась, мол, разбирается, мамочка. Я не ободрил её замашек и снова нахмурил брови. Инна погрустнела, но не больше, чем на мгновение. Я понял, что она, вообще, не могла быть серьёзной и была ещё той ранней штучкой, которая понимала, куда дует ветер. А ветер дул в сторону больших денег и премии за богатого клиента. Шампанского только не подали, поскупились.
Я почувствовал, что Алла Потёмкина сдерживается, чтобы не сделать Инне замечание, а ещё она старалась не давить на меня. Наверное, были у неё такие установки. Опытные женщины всегда знаю, чего хотят, хотя это не гарантирует успех дела.
Потом мы перешли к обуви. Я выбрал четыре пары домашних тапочек для себя и гостей, две пары тёплых полуботинок жёлтого и тёмно-коричневого цветов, и на всякий случай — две пары туфель чёрного цвета. Остальное: галстуки, носовые платки, коробка носков, маек, трусов и всякого другого пошло оптом. В довершении Алла Потёмкина выбрала мне тёмно-синее верблюжье полупальто, канадскую шапку из енота и полосатый, бело-салатный длиннющий шарф для контраста. Ну и дико заревновала к жеребёнку, глаза у неё сделались тёмно-синего цвета, скулы, с прекрасным абрисом, стали ещё суше и не предвещали ничего хорошего, кроме войны на суше и на земле. Я сделал вид, что не заметил ни её фокусов, ни самого жеребёнка в априори. Жеребёнок, между тем, надула губы, но опять же не дольше, чем на мгновение, и корчила дикие рожицы ровно до тех пор, пока Алла Потёмкина случайно не установила этот факт в одном из многочисленных зеркал отдела, и едва сдержалась, дабы не закатить грандиозный скандал и не лишить отдел праведных чаевых. После этого жеребёнок сдулась, как проткнутая игрушка.
— Кажется… всё! — заторопилась Алла Потёмкина, окидывая хозяйским взглядом кучу пакетов. — Ах, нет! — утёрла нос жеребёнку, жестом фокусника явила на свет божий откуда-то из-за шторы витую итальянскую трость тонкой работы.
Оказывается, вот за чем она бегала в бакалею. Я был потрясён. В моём тесте на профпригодность не было такой графы, потому что женщины не делали мне подарков, кроме жены на день рождения в виде привычных носков и одеколона для бритья.
— Ты меня разбалуешь, — сказал я невольно, ощущая, что жеребёнок Инна, в свою очередь, готова испепелить Аллу Потёмкину взглядом своих мультяшных глаз в опушке макияжа и килограмма туши.
— Надеюсь, это произойдёт не быстрее, чем ты опомнишься, — многозначительно сказала Алла Потёмкина, и ввела меня в лёгком недоумение, что, надеюсь, тоже было частью её тайной стратегии.
Мы едва загрузились. Трижды возвращались за покупками. Нам помогали Виктор Петрович и жеребёнок Инна. На прощание она сунула мне в карман записку. Я весело вертел итальянскую трость и в новом тёмно-синем костюме походил на лондонского денди; по крайней мере, я так себе его представлял.
— На сегодня твой рабочий день окончен, — сказала Алла Потёмкина, чтобы охладить мой пыл в отношении девушки Инны, и велела везти на новую квартиру. — Завтра полдесятого за тобой придёт машина, — сказала она, всё ещё не привыкнув к моему новому обличию, и косясь на меня, как на манекен в витрине.
Всё же одежда сильно меняет внешность человека: то я был никем — вояка с большой дороги, а теперь — почти что московский джентльменом.
Странная эта штука, жизнь, подумал я, ничего не обещает, но держит сильнее любого капкана. И расслабился, хотя, конечно же, гадал, останется ли она со мной на ночь или жеребёнок Инна напрочь испортила ей настроение?
Не осталась, и в этой ситуации весьма походила на мою жену, которая была очень строга и терпелива. Если бы только Алла Потёмкина знала, что это большущий минус, а не маленький плюс для тридцатисемилетнего мужчины, то подарила бы мне хоть какую-то надежду, впрочем, мне было всё равно. Прошлась по квартире, цокая каблуками. Ни намёков взглядом, ни фривольностей в жестах. Строгим взглядом клинера оценила качество уборки, даже провела пальчиком в поисках пылинки. Я тащился следом, как хвостик, таращась на обстановку комнат, похожую на стерильную операционную: минимализм и конструктивизм в объятьях друг друга. Несомненно, что квартиру даже обработали антисептиком. В зале Алла Потёмкина полюбовалась сквозь французские окна на голубые огни «Сити».
— Красиво! — искренне сказал я.
— А я не люблю, — вдруг ответила она.
— Почему? — удивился я.
— Я почти родилась здесь. Здесь жила моя бабушка, здесь были парки, скверы и кофейни. Потом всё снесли и Москву окончательно испоганили.
— Всё равно красиво, — сказал я, глядя на подсвеченные небоскребы.
Москва — город молодых, я это сразу понял. Даже я для неё был уже старый.
— Торчат, как мёртвые зубы. Впрочем, тебе понравится, — намекнула она не понятно на что и ушла, оставив в стерильной чистоте лёгкий запах дорогих духов.
Главное, подумал я, что я не вызываю у неё отвращения.
Я не рискнул сделать заход. Я, вообще, не знал, нужен ли я ей в качестве мужчины, хотя порой её синие глаза многозначительно задерживались на вашем покорном слуге. И мне страшно захотелось выпить. Однако бар в кабинете, где помимо его находились стол на железных ножках, кожаное кресло с высокой спинкой к нему, диван и торшер в виде зеркальной гильзы, был пуст, а в холодильнике на кухне, стилизованном под гильотину — шаром покати. Да-а… хороший приёмчик, укорил я неизвестно кого и поехал было по старой памяти к Репиным поживиться, но с огорчением вспомнил, что Валик до двадцати пропадает на «Мосфильме», а Жанна Брынская — в своей аптеке. Сбагрили всё-таки котёнка, подумал я, и мне стало одиноко.
Потом я спохватился: у меня же у самого куча денег, карточка с кэшбэком в придачу и ещё одна непонятного назначения. Поэтому я с превеликим удовольствием оделся во всё новое, джинсовое, на ноги — жёлтые фасонные полуботинки на толстенной подошве, на голову — енотовую шапку, рассовал по карманам банкноты, вышел, чувствуя себя жирафом в лапсердаке, и пошёл искать выпивку. Мне захотелось новизны чувств и приключений. Но вместо этого я увидел странный район — ни одного супермаркета, в которым я привык к маленьких городках, какие-то забегаловки, ларьки в подворотнях, где торговали пивом и «твиксами», салоны связи, кофейни, парикмахерские, даже хлеба купить было негде, и только на Большой Дорогомиловской я нашёл более-менее крупный магазин — «Магнолия», где безостановочно звучала двенадцатая песня «Наутилуса Помпилиуса», а ведь прошло всего-навсего каких-нибудь тридцать шесть лет. Мастер! — так время выносит мозги, и так рождаются легенды.
Глава 3. Жеребёнок
Я так долго не имел больших денег, что мне захотелось тут же все их потратить. Пришлось взять две тележки, которые я забил деликатесами и выпивкой по края, так что стало сыпаться. Взял бы третью, но не знал, куда девать трость. Кроме этого я купил дорогой портмоне, дорогой айфон, ещё более дорогие армейские часы с ярко-синим циферблатом (я питал слабость к часам такого цвета), в корпусе из вольфрамовой стали, на браслете из металла, которые, кроме всего прочего, продавались в чемоданчике из красного дерева с гравировкой на золотой пластине; супер-пупер какую-то экзотическо-электрическую бритву, которой можно было бриться под душем; и огромный, просто громадный, пакет косметики, обклеенный стикерами. Расплатился я карточкой, вывез всё это добро на тротуар. Поймал такси, погрузился и поехал домой, едва не забыв на обочине свою итальянскую трость.
Ещё полчаса я носил добро в лифт, загружал необъятный холодильник и, как мальчишка, радовался красивым часам и бритве; косметику я даже не стал доставать из пакета, а так и отнёс её в ванную; часы оказались такими массивными, что при случае ими можно было убить укрофашиста; потом наступила реакция: мне срочно нужен был напарник. Я мог бы напиться в одиночестве, но это было бы уже откровенным свинством, я не хотел погружаться в прошлое, обычно это кончалось тем, что у меня начиналось посттравматическое расстройство — я мог валяться сутками, ничего не делая, тогда хоть вой на луну, всё равно не поможет, процесс мог тянуться неделями и месяцами, нужны были антидепрессанты, а я их уже целое ведро выпил. Легче было не переходить Рубикон.
И тут я вспомнил о жеребёнке Инне с её изумрудно-мультяшными глазами и позвонил ей без всякой надежды на удачу, полагая, что безысходность даёт мне право на маленькую радость в жизни — вдруг девочка настоящая, а не магазинный шпунтик, помешанный на работе. За окном уже серел зимний московский вечер, редкие снежинки пролетали перед стеклом. Вдали ярко горели огни «Сити», кабинетные винтики и шпунтики которого пыхтели над добыванием денег до темна.
Однако, оказалось, она только и ждала моего звонка. Через полчаса консьержка сообщила профессионально-милым голосом о молодой особе «в белых сапогах и серебристой шубке», которая «рвётся к вам в гости». Я подтвердил её притязания, должно быть, она неслась, как пуля, вышел и заплатил за такси, осчастливив на всякий случай консьержу пятьюстами рублями. А жеребёнок, минуя все стадии знакомства, первым делом, повисла у меня на шее и, одарив крайне чувственным поцелуем, сбежала, кокетливо роняя шубку, перчатки, белейшие сапоги на дичайшей шпильке, которые так поразили консьержку, кажется, в спальни, или в одну из них, их было две, на выбор, а я отправился на кухню, чтобы откупорить бутылку шампанского и одновременно разлить арманьяк в хрустальные рюмки, которые обнаружил в серванте, в большой комнате с красным персидским ковром во весь пол.
Она звонко крикнула:
— Я сейчас!
И подалась в ванную; я услышал, как льётся вода и едва удержался, чтобы не потереть ей спинку и не подать полотенце.
— Не торопись, — ответил я, собираясь с мыслями, ибо это была целая проблема для меня — моментально изменить свой образ жизни, потому что я привык к аскетизму. Но, видно, настало такое время, когда ты пересматриваешь свою жизнь и оцениваешь её по-новому после окопов и войны. И я думал, что она, эта жизнь, у меня не удалась. Слишком много в ней было потерь, особенно в последние два года; и едва с такой реальностью не вернулся в унылое состояние души, однако, вовремя остановившись над пропастью, чтобы влить в себя пару рюмок арманьяка, иначе сегодняшний вечер мог закончится, не начавшись.
Я успел нарезать французский окорок «жамбон» — с ярко-красной корочкой и с тонким слоем жира, плебейские бочковые корнишоны и чёрные «бородинский» хлеб, посыпанный тмином, о котором мечтал полдня, как только Алла Потёмкина сообщила о пятикомнатной квартире. Надо было быть настойчивей, но я не решился. Интересно, как бы она среагировала? Обмишуриться раньше времени тоже не входило в мои планы; так что в моём лице она нашла достойного противника по части тактики и стратегии.
Я открыл коробку шоколадных конфет и вспомнил, что в детстве обожал их до трясучки, и в Боярке, в санатории для детей военных, воровал их у Вовки Ефремова, который умел лепить из пластилина чудные фигурки и даже «слепил» оборону Брестской крепости. Я наполнил вазочки мандаринами, апельсинами и виноградом. Я вскрыл килограммовую банку осетровой икры и переложил сливочное масло в маслёнку, чтобы оно стало мягким. Я порезал сёмгу и посыпал её свежей петрушкой. Я разогрел в микроволновке мясо камчатского краба и разложил на две порции. Я бы ещё что-нибудь сделал, но устал ждать, и, чего греха таить, попробовал ещё коньяка «сараджишвили» десятилетней выдержки, и нашёл, что он даже совсем не так плох, как казалось. Я любил отечественные коньяки, они были настоящими мужскими напитками, а не слабой водичкой типа хвалённого «наполеона».
Инна наконец явилась в белом махровом халате, босиком, тоненькая, изящная, соблазнительная, как стаканчик итальянского мороженого, и капризно спросила, окинув стол изумрудным взором:
— А помидоров свежих нет?
Если бы она знала, что свежими помидорами меня удивить невозможно, ибо на Донбассе помидоры — продукт повсеместный и круглогодичный.
— Сейчас сбегаю, — сыронизировал я.
— Ладно, ладно… — смилостивилась она, засовывая себе в рот обеими руками всего понемногу. — Зато огурцов навалом! Мамочка подарила тебе квартиру? — оглянулась она на стены, на которых, надо отдать должное вкусу устроителей, даже висели картины современных художников: «Арбат в дожде» или «Жёлтый переулок под красными крышами», по-моему, чудовищная бульварная копиистика.
— Это служебная, — отрёкся я, чтобы не казаться снобом и чтобы не забыть об окопах, хотя жеребёнку было всё равно, как, впрочем, любой другой женщине, окажись она на её месте.
Я чувствовал себя временщиком, человеком, который рано или поздно должен вернуться к серьёзному делу, а не прозябать на московских палатях.
— Служебная! Фу! — Она состроила дивную мордашку, что означало и восторг, и презрение одновременно. — У тебя отдельные душевая и ванная! — воскликнула она с осуждением.
— Я не знал, — покраснел я.
— Иди ты! — не поверила она и сделала глупое лицо, которое чрезвычайно шло ей. Чёрная икринка повисла у неё на губе. И мне нравилось, что в ближайшие несколько дней жеребёнок будет послушная и лояльна, а потом, видно будет.
— Серьёзно, — сказал я, — я только что въехал. А где ты халат нашла?
Я специально делал жизнь простой и понятной, чтобы потом не сожалеть ни о чём, ведь прошлое безжалостно и если выдаёт что-то авансом, то требует потом стократ.
— В спальне.
— Да? — удивился я.
Это тоже было для меня новостью. А вдруг Алла Потёмкина оставила его для себя? То-то будет скандал. Но мне было наплевать, ведь я здесь временно во всех отношениях: и смерть под ножом хирурга, или — на поле боя, какая разница.
— А твоя мамочка не приревнует? — в глазах у жеребёнка плавал смех юности и беспечности, когда тебе всё прощается и сам ты всё ещё способен прощать.
Я подумал, что не имею никаких обязательств перед Аллой Потёмкиной, и совесть меня абсолютно чиста после шестнадцати лет супружеской жизни. Наташка Крылова вышла за меня замуж и автоматически получила право мною помыкать, с тех пор ни одной из женщин я принципиально не позволял это делать, хотя знал, что в семейной жизни надо уметь договариваться, но почему-то делал это через пень-колоду. То количество сил, которое я потратил на жену, вполне хватило бы на маленькую термоядерную войну на Ближнем Востоке. Больше у меня ни на что сил не было. И тем не менее, даже лет через десять, приходя на свидании с ней, я каждый раз удивлялся, как она идёт мне навстречу с грациозностью лани, выставляя вперёд то правую, то левую ногу, словно модель, и её глаза сверкают, подобно маяку в темноте, а копна блестящих, коричневых волос колышется в такт движению, и мне всякий раз хотелось оглянуться, потому что казалось, что всё это великолепие предназначено не мне, а ком-то другому у меня за спиной; так я любил её.
— Не думаю, — сказал я не очень уверенно, полагая, что о жеребёнке Алле Потёмкиной лучше даже не подозревать и что осторожности ради надо стереть в айфоне её номер.
Заметив мой интерес к её тату, она сказала с бравадой:
— Я ещё не придумала, что на левой нарисовать. — И добавила. — Я знала, что ты мне позвонишь! — и прыгнула ко мне на колени.
Я едва не кончил. Пахло от неё молочным щенячьим запахом, который я приметил ещё в магазине. Этот запах мне напоминал о детстве: мы жили на севере, я ходил на сеновал, где собака Розка принесла выводок щенков. Я жевал конфеты «золотой ключик» и выманивал ими щенков из норы. Так вот, жеребёнок пахла совсем точно так же, как те щенки. Одного из них я взял домой и назвал Рексом.
— Ничего ты не знала, — сказал я так, что она поморщилась. — Я сам не знал, что позвоню.
— Я тебе не верю, — самоуверенно возразила она, в упор глядя мне в глаза. — Я сразу тебя приметила. Выглядишь ты монументально! Лицо у тебя такое…
— Какое? — мне сделалось смешно, и спросил я на всякий случай, семимильными шагами заполняя в самолюбии всё те пробелы, которые со школьной скамьи культивировала во мне моя жена, хотя я её любил и люблю до сих пор. Просто другого в этом прошлом нет и не было, и ничего изменить было нельзя.
— Такое… в общем, человека, которому нечего терять. Люська Митрохина к тебе побоялась подойти. А я — нет! Вот я какая!
— Смелая! — похвалили я её, потянувшись за шампанским.
Ножка у жеребёнка была маленькая, аккуратная, с золотым маникюром. И вообще, она больше тяготела к породистости, только весёлый курносый носик подвёл. Я её захотел ещё в магазине, но сдерживался по суровой, мужской привычке.
— А ещё у тебя в голосе камушки перекатываются, — сообщила она, задохнувшись от возбуждения.
Дались им эти камушки, подумал я и сказал:
— Не усложняй жизнь. Помогай лучше!
Она потянулась за бокалами, в разрезе халата я увидел её грудь с тёмными сосками, и горло стиснул обруч. Мы выпили, и больше я терпеть не мог. Я поднял её. Она охнула, глаза её расширились, словно от удивления. Фужер упал на пол и покатился под ноги. Я перешагнул и фужер, и коридорчик; в ближайшей спальне оказалась широченная кровать и огромной пуховое одеяло, в которое мы рухнули, как в безвременье.
Это было не то. Суррогат. Ширпотреб. Эрзац. Другие запахи, другие звуки, всё показалось мне ложным. Но на фоне многолетнего воздержания, вполне можно было принять за любовь. Я не стал привередничать и отключил память, нашёл тайный тумблер, который не позволял мне думать о прошлом. В моём положении теперь это было роскошью. И чем больше я находился без памяти, тем было лучше. Таков был мой гениальный план беглеца.
Потом, когда за окнами уже стемнело, а часы на тумбочке показывали час пятнадцать ночи, потом, когда мы разворошили идеальное ложе и искусали подушки, когда наполнили своим дыханием и нашими запахами стерильную атмосферу спальни, мы с превеликим трудом вернулись в реальность, и я понял, что суррогат дополнился ещё и профессионализмом. Только я не знал, может, это московский шарм? Но жеребёнок была то ли уставшей, то ли уже кем-то объезженной не далее, как сутки назад. Ну да бог с ней, решил я, отдав на откуп жеребёнку её привычки. Что я, жениться собрался? — подумал я. Может, она не добирает восторга? А может, это её здравый, московский стандарт? И не стал привередничать, не в моём положении привередничать: красивая, весёлая девушка пришла развлечься. Бог с ней. Будь великодушным, и гори оно всё синим пламенем, плюнул я, полагая, что лучше уже не будет, что надо начать новую жизнь, и пересилил себя в том смысле, что надо ещё поглядеть, что из этого всего выйдет.
Мы вернулись на кухню, весёлые и голодные, как зверьки, и уничтожили всё, что находилось на столе и частично в холодильнике.
В госпитале я долго привыкал к медленному течению жизни. Я до сих пор испытываю наслаждение от размеренности времени и знаю, что за закатом обязательно наступит рассвет. На войне ты в этом не уверен, на войне твои мысли занимают сотни обыденных вещей. Ты живёшь от одной мысли к другой, ты не ждёшь завтра. Оно может предстать в виде разных образов или действий, но абсолютно не так, как ты о нём думаешь. Завтра может также и не наступить. Смерть — это только мгновение. Хуже так, как со мной: застрять в безвременье, как над пропастью, и мучаешься прошлым, словно несварением в желудке.
— Ты был на войне? — спросила она, не таясь, вытирая руки о халат.
Я понял, что она имеет ввиду шрамы, о которых я только что подумал, ведь они тоже знаки времени, только оставленные на твоём теле.
— На какой? — решил я узнать, разбирается ли она в географии.
Я забыл, кто я такой и что здесь делаю. Мне хорошо было с жеребёнком Инной, и я не хотел вспоминать безжалостное прошлое, которое кромсает всех без разбору.
— В Сирии? — спросила она наивно.
— Ха-ха-ха! — я услышал собственный смех. — Нет, что там делать? — и запахнул халат (в шкафу их была целая дюжина), чтобы она понапрасну не пялилась на то розовое безобразие, которое разукрасило моё тело.
— А где? — удивилась она.
Странно, что она, вообще, задала такой вопрос. Впрочем, опыта по этой части у меня не было. Так глубоко в мою жизнь никто не заглядывал, потому что я мало кому был интересен.
— Ближе, — сказал я. — Гораздо ближе, — потянулся я за коньяком, пряча глаза, чтобы не обидеть её жёсткостью, потому что я начал твердеть как эпоксидка, а ещё потому что война — это не тема для откровений и любовных разговоров.
Я не хотел, чтобы она касалась моего прошлого. Оно ещё болело. Это было моё личное прошлое, я даже ни с кем не мог его разделить, чтобы было не так муторно. Я знал, что в жизни ты никому не нужен, что интерес к тебе носит временный характер, что люди одиноки и себялюбивы, приходят и уходят, когда им вздумается. Даже Ника Кострова не прошла этот тест, а ведь, честно говоря, я надеялся на неё. Но она не появилась, и я всё время вспоминал её.
— А-а-а… — не в такт протянула жеребёнок.
— Тебе сколько лет? — спросил я.
— Девятнадцать, — ответила она.
Жаль, что Варя не дожила, подумал я и затолкал горечь поглубже, не давая ей, как скользкой пружине, вытолкать меня наружу, потому что могла начаться спонтанная реакция с алкоголем и моим сознанием.
Я вдруг понял, что мало знал дочь, что её время текло параллельно моему времени и пересекалось с моим лишь отчасти, в последние годы всё реже и реже. Ей было бы сейчас семнадцать с половиной лет, подумал я и поискал взглядом арманьяк, мою отдушину.
— Так ты оттуда… — догадалась жеребёнок с той милой непосредственностью, когда разгадывают этикетку на бутылке виски, чтобы понять, что за гадость ты будешь пить ближайшие полчаса, хотя в следующее мгновение мультяшные глаза у неё стали впервые серьезными, как у пай-девочки из приличного московского общества.
Но я всё равно не поверил ей, я не верил кружевам и бантикам, помадкам и духам, я просто сделал ей снисхождение.
— Оттуда, — подтвердил я, ожидая всего, что угодно, испуга, вплоть до истерии, вдруг я беглый укрофашист?
Она меня крайне удивила: вдруг подалась вперёд, прижалась так, что её пышные волосы упали мне на грудь, и сказала:
— Я тебя люблю!
Боже мой, ужаснулся я, потому что в душе, на самом её дне, была пустота смертельно уставшего человека. Я не был готов к любви, я не верил в неё. Любовь для меня сочеталась с обманом и манипуляцией под её соусом; любовь была роскошью, в отличие от материальной роскоши, я позволить себе её не мог. За любовь надо было страдать и очень дорого платить, её надо было беречь и холить, а у меня не было сил даже на ответную реакцию.
— Почему ты молчишь? — спросила она и поставила меня в положение, когда я должен был за неё отвечать, а я не хотел ни за кого отвечать; мне давно не нравилось это пустое занятие.
— Надо что-то сказать? — спросил я, скосившись на неё.
— Что-нибудь для приличия, — подсказала она, и глаза у неё обиженно заблестели и сделались малахитовыми.
Я подумал, что если начну объяснять, то выйдет по-идиотски глупо. Нельзя рассказать всю жизнь за три минуты, жеребёнок обидится и не поверит; она и так обиделась, надула, как моя Варя, губы.
— Дай мне прийти в себя, — попросил я через силу, потому что хотел, чтобы она сама догадалась, что я переживаю. — Я ещё не очухался.
Она всё поняла отчасти:
— Там было страшно?..
Это была не любовь; это была жалость; я это сразу понял и даже не расстроился.
— Там было всё, как в обыденной жизни, только ещё убивали, — сказал я. Не скажешь же ей, что ты, кроме всего прочего, искал свой предел прочности или смерть, но так ничего и не нашёл. Кому это интересно? — Давай, лучше выпьем, — предложил я, — и пойдём спать.
— Давай, — тряхнула она головой, и её волосы, такие густые и прекрасные, что казались неземными, разлетелись во все стороны.
И мы допили шампанское и пошли любить друг друга, и досыпать.
Ночью мне приснился бой в тот момент, когда завалило Лося. Сосны от крупнокалиберной артиллерии ломались, как спички, и одно из них прямехонько упала в окоп, где он прятался. Я проснулся от собственного крика, потому что рывком поднял ствол, увидел Лося со сломанной спиной, глядящего на меня одним глазом, а вытащить его не смог, элементарно не хватило сил; потом это стало моей непреходящей виной, которая являлась когда ей захочется, без расписания и порядка. Несколько секунд я пялился в темноту, пока не сообразил, где нахожусь, нащупал голое плечо, сообразил, что это Инна-жеребёнок, прелестное дитя природы, созданное для удовольствия, и снова уснул с почти идеальным ощущением счастья, оттого, что я в постели с прекрасной девушкой и никуда не надо бежать и не надо прятаться, а можно спокойно дожить до утра и тупо отправиться на тупую работу.
А утром меня, действительно, разбудил домофон. Я прошлёпал в коридор. Хороший алкоголь, даром что хороший, не дал тяжёлого похмелья, и я чувствовал себя вполне сносно, чему был удивлён, обычно, когда я мешал разные напитки или пил суррогат, на душе бывало тяжело и муторно.
— Сколько у меня времени? — спросил я, продирая глаза.
— Ровно пятнадцать минут, — вежливо ответил шофёр, вертя кудлатой головой.
Я подождал в надежде, что он добавит слово «сэр», но он не добавил. И я кинулся бриться, умываться и чистить зубы. Я не хотел подвести Аллу Потёмкину в первый же рабочий день. Она сделал на меня ставку, а это обязывало.
— Ты за всю ночь ни разу не засмеялся, — жеребёнок беззастенчиво щурилась от яркого света, одной рукой целомудренно прикрывая грудь с розовыми сосками, а другой откидывая со лба густые, жёсткие волосы, которые мне так нравились.
— Извини, — пробурчал я, полоща рот, и краем поглядывая на то, что было у неё ниже пояса.
Попробуйте удержаться. Вряд ли у вас получится. У меня никогда не получалось.
— А можно мне с тобой?
— Нет, нельзя! — отрезал я, ничего не собираясь объяснять и теперь уже в открытую косясь на её лобок со стрижкой «рюмочка», о края которой я, чего греха таить, изрядно исколол себе язык, но только сейчас заметил это. — Я тебе оставлю ключи, будешь уходить, закроешь дверь. А деньги на такси на комоде в прихожей.
— Вот ещё! — возмутилась она сонно. — Что я, проститутка?! А это…
Только теперь я обратил внимание, что некоторые мысли она выражала одними и теми же общими фразами. Я посмотрел на неё с любопытством и тут же прости ей симптом Эллочки-людоедки, ибо у неё было неоспоримое преимущество перед другими женщинами — молодой и красивое, а главное, доступное тело, которое меня страшно влекло.
Ещё в госпитале я понял, что бесконечно долго можно глядеть на три вещи: на дождь за окном, на сериал «Кухня» и на замкомроты Дорофеева, у которого был нервный тик. Но оказывается, что точно с таким же удовольствием можно пялиться на голую девушку, которая смотрит на вас влюблёнными глазами.
— Ну как хочешь. Я тебе позвоню, — сказал я в страшном смятении, стараясь быть серьёзным и пытаясь обойти её, чтобы надеть брюки и отправиться на эту чёртову работу.
— И это всё?! — удивилась она, загораживая мне выход и просовывая божественно гладкую ногу между моими безобразно волосатыми ногами, которых я стыдился.
Я почувствовал влагу на своей ноге, я почувствовал, какие острые у неё соски, а запах такой сногсшибательный, что голова пошла кругом, и ей богу, остался бы. Что ещё нужно для счастья, кроме любви голой девушки? Но надо было идти отрабатывать всё то великолепие, в которое я вляпался.
— Я же оставил тебе ключи?! Оставил! Захочешь, придёшь! Не захочешь, кинешь в ящик!
— Какой ты всё-таки гадкий! — сказала она с любовное истомой и убрала ногу. — Мог бы и подвезти!
Её последний взгляд едва не свали меня в нокаут. Я едва не сдался, не расслабился, не растёкся медузой под её ногами. Но я был мудр и опытен, я знал, что за всё надо платить, даже если ты виноват косвенно, и вспомнил свою жену и её нелепую смерть, и вовремя остановился: надо было предстать перед прекрасными очами Аллы Потёмкиной и меньше рефлексировать, а лучше вообще не думать.
— Не могу, — всё-таки устоял я. — Через полчаса все будут знать, что я в первую же ночь привёл к себе девицу. То-то кое у кого будет радости.
— У мамочки? — догадалась она снисходительно, с соответствующими нотками в голосе, мол, беги виляй хвостом, но я уже оправился и не дал ей больше возможности вертеть мной.
— Не знаю, — покривился я за свой длинный язык, ибо не желал ничего плохого Алле Потёмкиной, тем более, что она страшно походила на мою жену.
— Ну и хорошо! — повела Инна-жеребёнок, как кошка, изумрудными глазами. — Какое кому собачье дело?!
— Вот когда куплю свою машину, тогда и буду катать, — пообещал я опрометчиво.
— Когда-нибудь… кого-нибудь… другого… — обиженно бросила она нараспев, удаляясь на цыпочках в спальню, потому что пол был холодным.
Я понял, что она знает жизнь и уже вкусила от её прелестей. Но мне уже было не до пререканий, хотя её тонкий силуэт, с безупречной формой ягодиц и копной русых, жёстких волос весь следующий день неотлучно преследовал меня и мешал сосредоточиться.
Одеваясь на ходу, я успел ещё побрызгаться дезодорантом и помазать морду какой-то дрянью «после бритья», которую мне всучил приставучий продавец косметики в магазине «Магнолия», и выскочил из квартиры.
Я и правда подумал ночью о собственной машине, а конкретизировал мысль уже утром. Мне нравились маленькие, верткие вездеходы; я вдруг стал мечтать о летнем отпуске где-нибудь на севере, среди пустоты и вселенской тишины, а ещё мне хотелось пожить одному на Байкале, без жеребёнка, разумеется, в крайнем случае, с собакой, но это было из области фантастики, потому что собственной машины у меня никогда не было. Зато были права: я сдал экзамен перед самой войной, потому что Борис Сапожков, видите ли, решил расширить парк редакции в два раза, то бишь купить заместителю, то есть мне, редакционное авто. Иногда он давал мне возможность покататься на своей машине, когда мы не пили водку; и я имел небольшой опыт вождения.
* * *
Шофёра звали Вадимом Куприн, у него был большой живот и пышная шевелюра, которая не уместилась бы ни под одну шапку, поэтому он ходил гордо с непокрытой головой, несмотря на непогоду.
— Я тоже вчера макнул! — доверительно сказал он, и мне показалось, что он подмигнул мне.
Так два рыбака узнаю друг друга издалека.
— А что, заметно? — обеспокоился я, посмотрев на себя в зеркало.
Морда как морда, немного перекошенная от удовольствия; я подумал о жеребёнке, если она меня, действительно, любит, то можно опустить её столичный опыт. Видно будет, решил я, лишь бы она меня любила так, как я хотел бы. А как хотел бы, я и сам не знал, но совершенно точно не так, как Наташка Крылова.
— Ох! — выразил он своё мнение и вежливо, словно предлагая дружбу, сунул мне мускатный орешек. — Закусите!
Я стал вычислять, сколько я вчера принял на грудь, и получилось, что превысил свою норму ровно в два с половиной раза, и сразу ощутил обезвоживание. И хотя Вадим Куприн домчал меня до башни «А» аж за пять минут, меня пару раз мутило, а один раз едва не вырвало, я даже открыл дверцу на ходу, но обошлось. Через десять минут я сидел в собственном кабинете, в собственном кресле и пил кофе, приготовленный Верой Кокоткиной, и медленно, но верно, приходил в себя, пялясь от неясной тоски на окна соседнего небоскрёба: жеребёнок Инна так и не выпала из головы, а кофе при обезвоживании помогал лишь отчасти.
После Вера Кокоткина принесла мне бумаги.
— Алла Сергеевна просила вас почитать, — затараторила она кротким голосом, в котором, однако, чувствовалась заряженность гневливой натуры, и я заподозрил в ней ханжу, можно подумать, она не выпивает и не спит с мужиками, при такой фигуре-то. Бывают такие дамочки, которые только на вид святые, а внутри сплошной порок, и они купаются в нём, как в шампанском, но зачем-то скрывают это.
— Что это такое? — спросил я, глядя на её башню на голове.
Я подозревал, что где-то в глубине кабинета есть бар, в котором стоит холодное пиво, всё равно какой марки, лишь бы оно было холодным, и его было много, очень много, но не знал, где этот бар, а спросить не решался, чтобы не навлечь на себя подозрения в алкоголизме, ибо Вера Кокоткина и так косилась на меня с кривой ухмылкой, мол, нажрался вчера, начальник, а корпоративная модель поведения, а солидарность? Посему я дышал в сторону.
— Это, — прочитала она, тараторя: — «Полный список объектов аптечного синдиката «Аптечный рай»». Что-то не так?.. — и качнула своим набалдашником, который, как ни странно, удержался и не съехал набок.
Со стилистикой у синдиката явно были нелады. Ну да это не моё дело, подумал я, чувствуя себя временщиком в этом великолепном стеклянном мире.
— У тебя дома всё нормально?
— Да… всё хорошо… — удилась она, наведя на меня свои чёрные, воспалённые страстью глаза.
Вера Кокоткина была высокой, худой, с вызывающе торчащим треугольным носиком, явно занималась, как минимум фитнесом, а как максимум тяжёлой атлетикой. Чёрные глаза страсти горели на её лице.
— Тогда почему ты носишь эту штуку? — я тактично показал на её осиное гнездо.
— А что?..
— Словно тебя обидели.
— Никто меня не обидел, шеф, — дёрнула она шеей, тоже, кстати, не простой, а почти что лебединой.
«Шеф» — мне понравилось.
— Вот тебе сто долларов, напротив салон, сделай модную стрижку и можешь сегодня не возвращаться.
— Среднюю? — уточнила она с милой непосредственностью девушки, которая готова тебе подчиниться, может, даже лечь в постель, а там видно будет.
— Как хочешь, — выдал я ей полный карт-бланш.
— Нет, лучше длинную, — затараторила она радостно. — У меня же длинные волосы!
У тебя прекрасные волосы, не прячь их, хотел я сказать комплимент, но не сказал из опасения в первый же день прослыть ещё и бабником. Вначале надо было навести мосты дружбы и сотрудничества, как избито говорят в прессе.
— Пусть будет длинная, — терпеливо огласился я, не ожидая такой бурной реакции.
— Косую или прямую? — она улыбнулась, демонстрируя здоровые, отбелённые зубы.
— На твой вкус, — вздохнул я, как лошадь, которая наконец переварила жвачку.
Длинные белые волосы и страстные глаза южанки это то, что надо в сонном царстве аптечной империи, здраво подумал я.
— Я ещё вязаный маникюр приглядела, — сказала она кокетливо, задирая свой весёлый, задорный нос в потолок, — и маску из перги…
Это уже попахивало вымогательством.
— Хорошо, хорошо, — сдался я, — вот тебе ещё сотня, приди завтра шикарной блондинкой. Я люблю блондинок.
Это было, конечно, неправдой, я любил всех женщин, независимо от масти, лишь бы они чем-то отличались от остальных, ах, да, ещё одна мелочь, они должны были обладать непогрешимым вкусом. А с этим делом не у всех получалось.
— Есть, шеф! — обрадовалась Вера Кокоткина и, взмахнув руками, как крыльями, пропала в сиянии утра.
Фу, день начался удачно, подумал я, но ошибся. Без стука, в фимиаме своих великолепных духов, вошли Алла Потёмкина, на этот раз в строгом чёрном костюме, в ослепительно-белой рубашке, при галстуке с незатянутым узлом, стильная, как Эйфелева башня, и нервная, как басовая струна, со своим абрисом сухих, порывистых скул, а за ней — целая делегация: как я понял Лера Плаксина, вице директор, моя заместитель, и… кто бы мог подумать — Радий Каранда, страшно похожий на лысого Джексона из сериала «Ментовские войны», как я понял, начальник службы безопасности у Аллы Потёмкиной. Только не в камуфляже и не в тельняшке, как я привык его видеть два прошлых года, и не со смертельно уставшим лицом, а свеженьким, как огурчик с грядки, в модном костюме, который сидел на нём, как влитой, элегантный и мужественный, как и положено герою войны, только этот герой почему-то едва заметно прихрамывал.
Уж не знаю, что у меня был за вид и что было написано на лице, но у Радия Каранды от удивления глаза тоже полезли на лоб, однако, он незаметно сделал предостерегающий жест — пригладил свои несуществующие кудри, а я прикусил язык, напустив на себя официальщину.
Лера Плаксина оказалась высокой, стареющей блондинкой, с прямым пробором, лет сорока пяти, холёная, чуть манерная каприза, словно бронзовая статуэтка с патиной, выставленная на аукциона, которую, однако, никто не покупает из-за ржавчины, цены и налёта времени; из-за этого я никак не мог вспомнить, на кого она похожа, а потом вспомнил: на Джину Лоллобриджиду, только в белом варианте.
Мне показалось, что Алла Потёмкина и Радий Каранда почему-то чураются Леры Плаксиной.
Когда-то она была красивой, а теперь один нос остался. Позже я узнал, что ей пятьдесят два, что она заумная, как булевская логика, и считает себя пупом земли, но именно в тот день понял, что нажил себе ещё одного врага, потому что Лера Плаксина явно претендовала на должность директора по маркетингу и рекламе. Должно быть, она долгие годы ходила за спиной моего предшественника, умнее, прозорливее и терпеливее, готовила доклады и аналитические записки, кусала губы на оперативках, моталась по командировкам, наконец он сел, место освободилось, а тут такой конфуз на уровне личной трагедии, явился я, и всё пошло прахом. Учитывая её возраст, шансов у неё больше не больше, чем у шмеля долететь до Марса, поэтому она и встретила меня таким злобным шипением, похожим на клёкот раненой птицы, что даже Алла Потёмкина, знакомя нас, удивлённо задержала на ней взгляд и сказала всё тем же ровным голосом, не меняя тембра, в котором, впрочем, звучали стальные нотки:
— Лера Алексеевна по дороге проконсультирует вас.
— Разумеется, — проскрипела Лера Плаксина, с трудом усмиряя голосовые связки. — А куда мы едем? — Она скользнула по мне ненавидящим взглядом красных, воспалённых глаз, и мне показалось, что она, не далее как пять минут назад, рыдала взахлёб и даже дёрнула пятьдесят граммов коньячку и закусила чём-нибудь пахучим, например, тем же самым мускатным орешком, по крайней мере, у меня сложилось впечатление, что мускатные орешки здесь в большом ходу из-за всё той же корпоративной этики.
— В Красногорскую аптеку номер восемьдесят семь, — с удивлением посмотрела на неё Алла Потёмкина, — которая вот уже третий месяц демонстрирует падение плана дохода. Надо съездить и разобраться с Приходько. Лера Алексеевна, — обернулась она ко мне, — в курсе всех дел. А Радий Маринович — в качестве силовой поддержки, которая вряд ли понадобится, но на всякий случай.
Тут она улыбнулась и словно тоже подала мне тайный знак, что, мол, всё окей, ничего не изменилось, я твоя гарантия. Я кивнул в ответ: с такой крышей можно было не бояться стареющих дам и их козней.
Я поглядел на Радия Каранду, сделал вид, что вижу его впервые, и пожал ему руку-тиски. Алла Потёмкина испытующе посмотрела на меня, но я и глазом не моргнул, хотя рука у Радия Каранды, как и прежде, была жёсткой, словно подмётка. Должно быть, Алла Потёмкина была в курсе дела его тисков и таким нехитрым способом оценивала силу и выдержку своих мужчин-подчинённых.
— Не позднее семнадцати жду для доклада! — сказала она в следующее мгновение официальным тоном.
Лера Алексеевна и Радий Каранда неожиданно потупились, я ничего не понял, а потом сообразил: да она их обычно гнобит по-чёрному, ставит в третью позицию, однако, при мне почему-то сдержалась; они же инстинктивно приготовились к худшему, но пронесло, и чувство облегчения так явно было написано на их лицах, что меня тоже прошибло до самых пяток.
Мы поспешно вышли её кабинет, попутно я захватил верхнюю одежду, енотовую шапку и итальянскую трость, к которой уже успел привыкнуть, как к третьей ноге, придающей солидности.
Лера Плаксина самым вредным голосом сообщила, что она нас догонит, мы спустились на этаж ниже и заскочили в апартаменты Радия Каранды.
— Ну, здорово, Росс! — обернулся Радий Каранда. Обнял и похлопал меня по спину. Внутри у меня трубно отдалось, и я вспомнил о своём злополучном осколке.
— Здорово, брат-Чапай! Что за конспирация? — спросил я, не без труда освобождаясь от его медвежьих объятий.
— Не обращай внимания. Так, на всякий случай.
Радий Каранда накинул куртку и сунул в кобуру под мышку пистолет.
— А оружие?..
— На всё то же всякий случай, — объяснил Радий Каранда без капли иронии.
И я понял, что он не изменился, и что и до войны был таким же, как и сейчас, то есть просчитывал все возможные варианты, поэтому, наверное, и остался жив.
— А почему прихрамываешь?
— Ну, да, ты же не знаешь, — сказал он так, когда вспоминают недавнее прошлое. — Полгода назад, сразу на следующий день, когда тебя отвезли в Москву, я получил от снайпера пулю в лодыжку, и левая нога у меня теперь короче правой на полтора сантиметра. Списали в одночасье.
Я внимательно посмотрел на него с мыслью, на что он ещё годен и не отказался ли от своего прошлого. Некоторые так и поступали, убоявшись посттравматического синдрома; и спросил без особой надежды на удачу.
— У тебя пива нет?
— Для тебя всё, что угодно! — воскликнул он, жестом фокусника извлёк из холодильника две бутылки, мы чокнулись за встречу, и я одним махом влил в себя пол-литра жигулёвского пива, которое только и любил Радий. Сразу стало легче дышать, и мир обрёл краски. Обезвоживание на время сдало позиции.
Мы вышли из кабинета и спустились на лифте вниз. Пиво приятно бултыхалось в желудке.
— Публика здесь разная, брат, — поморщился Радий Каранда, пока мы шагали через вестибюль, полный народа. — Могут и навредить, если не сейчас, то потом обязательно припомнят. К тому же закон о наёмниках никто не отменял.
— Ах, да, да… — вспомнил я, как недавно нашего товарища с позывным Гек, по суду отдавали Украине. Но слава богу, не получилось, нашлись верные люди, сняли его с поезда в Белоруссии и спрятали где-то севере. — Так и меня могут, — сказал я подкупающим голосом.
— А тебе-то за что? — удивился Радий Каранда, который всегда намекал, что в Украине у кого-то есть привилегии — Ты воевал за свою родину.
Я почему-то подумал о «группе Вагнера», людей из которой власти преследовали за наёмничество.
— Родина у меня здесь, — сказал я, напоминая, что родился в Омске, и если бы ни отец-военный, который всю жизнь прослужил на севере, так и пустил бы корни где-нибудь в Мурманске или в его окрестностях. Стал бы капитаном дальнего плавания. Чего греха таить, в юности была у меня такая мечта. Но отца потянуло на юг, где он страстно желал завести огородик и по утрам поливать его из шланга. Из-за этой мелкой, как горох, и ничтожной, как шелуха, мечты, он потащил нас на Украину, где теперь во всю шла война. Отец у меня был абсолютно лишён племенного инстинкта.
— Хорошие у вас места, — с завистью напомнил Радий Каранда.
Он был падок на фрукты и овощи и первое время объедался помидорами и абрикосами так, что не вылезал из туалета.
— Формально, я гражданин Украины, — напомнил я, излишне тяжело опираясь на трость.
Пиво стояло в желудке и не хотело утилизироваться. Я почувствовал, как оно перестало бултыхается и начало проситься наружу.
— Дураков у нас, конечно, хватает, — согласился Радий Каранда, придерживая дверь. И вдруг лицо его сделалось угрюмым: — Ты знаешь, что Ефрем Набатников пропал?
Мы вышли на улицу, в лицо ударил холодный ветер с морозной пылью; мне стало легче. Погода поменялась: низкие, серые тучи бежали на запад.
— Как пропал?! — поёжился я, словно должен было пропасть я, а не Ефрем Набатников, уж, с ним-то, казалось, ничего не должно было случиться — был он везунчиком от природы, только едва не отправившим меня к праотцам.
Я почему-то вспомнил его золотой жетон с инициалами Е. Н., самодельный, естественно, Ефрем Набатников часто им хвастался: ни у кого такого нет, а у него был. К сожалению, за подлость не убивают. С этого момента я простил Ефрема Набатникова за его это свинство, которое едва не стоила мне жизни, и хотел задать Радию Каранде вопрос: «А ты в курсе, что он не тот, за кого себя выдаёт?», но не задал, зачем портить светлый образ Ефрема Набатникова, да и Радий Каранда выглядел абсолютно естественным, поэтому я заткнулся, нечего ворошить прошлое, если оно кануло в лету.
— А вот так! — с непонятным укором сказал он. — Ещё летом. Меня с ним не было в тот день. Прямо на бульваре Пушкина, тридцать, «а», угодил в засаду. Я думаю, у него там баба жила, — предположил он.
Последнее время Ефрем Набатников путался с какой-то Желой Агеевой. Рыжая, вспомнил я, стервозного типа — он по ней сох, как рогоз на болоте.
В конце лета пятнадцатого года я по вине Ефрема Набатникова получил тяжёлое ранение и очутился в Москве, в госпитальном центре, после этого для меня наступил информационный вакуум. Я почему-то сразу подумал о ней, Желе Агеевой. Имечко, конечно, ещё то, вульгарнее не придумаешь, но мало ли у него этих женщин было? Он их менял как перчатки, но именно эту он чаще всего таскал за собой, как на привязи. Не знаю почему, но о Желе Агеевой я ничего не сказал Радию Каранде. Если Агеева — укрофашистская наводчица, то лучше об этом помалкивать. Разумеется, я доверял Радию Каранде на все сто, но в таких вопросах лучше разобраться самостоятельно, чтобы не попасть впросак и не быть подвешенным за всё тот же длинный язык.
— И что?
— Двоих зарезанными нашли, машина вся в крови, его шапка — в крови, а самого — нет, — сказал Радий Каранда.
— А в списках? — спросил я и сразу понял, что сморозил глупость.
— Какие списки, брат? — поднял на меня глаза Радий Каранда, в которых плавала тоска по прежней боевой жизни. — Такие люди пропадают с концами, их никто не обменивает.
Я заподозрил, что он и сам сбежал подальше от смерти, что ему тошно, что он душой на войне, мается в сытой и уютной Москве, прикладывается к бутылке и волком воет на ночную рекламу, но расспрашивать не стал. Зачем теребить душу, захочет, сам расскажет, но не захочет, я его знаю, потому что ему, как и мне, стыдно — дело там, а мы здесь, и что мы здесь делаем, не понятно.
— Ясно, — сказал я с тем выражением, когда говорят о погибших друзьях. — Если целенаправленно…
Лишь бы доехать, подумал я о пиве в желудке, лишь бы доехать.
— Даже не целенаправленно. Он в интернете светился каждый божий день, словно его за язык тянули. Ладно… — вздохнул Радий Каранда. — Будь осторожен. Особенно с Плаксиной. Она баба тёртая, на твоё место метила ещё при Водогрееве.
Я сообразил, что Водогреев — это тот, кого отдали под суд.
— Мудрая женщина, — высказался я под впечатлением увиденного и услышанного.
Радий Каранда с иронией посмотрел на меня:
— Я тебя умоляю. Её по носу щелкнули, она и сдулась.
— В смысле?
— Она всегда была цербером в юбке, — объяснил он. — Ходила в начальствах и считала себя пупом земли.
У нас в редакции Антонина Голубева, которая спала с Борисом Сапожковым, вела себя похожим же образом, и хотя Сапожкову доносили, что она стерва, что третирует сотрудников и вредит делу, он только лучисто ухмылялся. Правда, меня это не касалось, потому что я ходил у него в друзьях и Антонина Голубева меня побаивалась.
— У неё течка закончилась, она и стала мудрой! — фыркнул Радий Каранда.
Я вопросительно уставился на него, ожидая объяснений, но он ничего не добавил, полагая, что я достаточно проницательный, чтобы додумать кульминацию.
— Ага, — сказал тогда я и всё понял: видно, у Бога истощился запас идеальных рёбер и он перешёл к болотным гнилушкам.
— А что у тебя с нашим генеральным директором? — спросил он.
— С кем? — не понял я и даже забыл о итальянской трости, служащей мне третьей опорой.
Как человек, который убивал и умеющий убивать, Радий Каранда был резковат в суждениях. За плечами у него был спецназ и последняя война в Чечне, не считая, конечно, Донбасса.
— Ну, с Аллой Сергеевной? — на правах боевого друга ехидно посмотрел на меня Радий Каранда.
Он и в те времена, когда мы мотались по передовой, делал точно так же: задаст каверзный вопрос и смотрит выжидательно, как ты вывернешься; например, как правильно передёрнуть затвор, естественно, я не знал, что со всей дурацкой силы да ещё и резко, чтобы патрон не перекосило. Отстал он от меня только после того, как я притащил Калинина, понял, что я своих не бросаю, даром, что журналист.
— Ничего, — сказал я как можно честнее, и облизнул губы, потому что снова хотел пить, но всё равно он не поверил, и я бы на его месте тоже не поверил.
— Вообще, ничего? — переспросил Радий Каранда, делая изумлённое лицо.
С таким диким лицом он обычно пил водку на посошок под крики Ефрема Набатникова: «По последней!» Но последней дело, естественно, не заканчивалось. Упиваться мы не упивались, но было дюже весело.
— Вот тебе крест! — заверил я его для пущей верности и перехватил трость из левой руки в правую.
Это движение не ускользнуло от Радия Каранды, и он усмехнулся: мало мы друг друга дразнили в окопах. Я прочитал в его взгляде, что быть большой пьянке, подкрепленной фронтовой дружбой.
— Тогда я ничего не пойму, — удивился Радий Каранда, оставив мой вопрос насчёт пьянки открытым, — почему она на тебя запала?
— С чего ты взял?
Вот теперь я удивился, потому что не представлял себя с ней в постели. Нет, конечно, вру — представлял, но совсем не так, как подумал он; не то чтобы меня к ней не тянуло, но я был сыт пресытившимися женщинами и знал, что с ними надо держать ухо востро, потому что они тоже живут в тоске и печали, а две тоски и печали — это уже перебор. «У него токсикоз на женщин!», — порой зубоскалил Борис Сапожков, заметив, что я сторонюсь его крикливой подружки, Антонины Голубевой. Поэтому Алла Потёмкина была всего лишь запасным аэродромом.
— Ты не представляешь, какой она ещё пару недель назад ходила. Мегера! А теперь — добренька. Костюмы меняет и духами брызгается.
Примерно, три недели назад она со мной и познакомилась, подумал я, но ничего по этому поводу не сказал, не сказал бы и Ефрему Набатникову, хотя он всегда хвастался своими победами, предпочитая женщин красивых и монументальных. В конце концов, уже в Донецке, он спутался с танцовщицей из кабаре, которая настолько размягчила его душу, что он умудрился показать ей, как открывается его сейф в доме на проезде Соловьяненко, с видом на второе городское озеро. Естественно, она устоять не смогла, прихватила всю его наличность и сбежала. Поиски результатов не дали, да и вообще, оказалось, что Маши Ржевской в природе не существует, что настоящее её имя Эльвира Зайцева. Но даже под этим именем её не нашли, с её-то деньгами. Потом у него, кажется, появилась смуглокожая Жела Агеева, которую он представлял всем как самую последнюю свою любовь, вообразив, что, контролируя её и выдавая авансы, избежит такого конфуза, как с Эльвирой Зайцевой.
После истории с Эльвирой, он стал относиться к женщинам с опаской и уже не кидался на первую встречную-поперечную, которая показала ему язычок. Сам рассказывал. Жаль Набатникова, подумал я, очень жаль, такие с гранатами под танки ложатся. После отступления из Славянска он месяца два был не у дел.
— Страшная тётка? — я сделал вид, что удивился.
— Ужас! — признался он, наклонившись ко мне, наверное, для того, чтобы камеры не прочитали по губам. — Задавить может враз.
— Поживем увидим. Поехали, — сказал я, заметив сквозь стеклянную дверь выходящую Леру Плаксину.
Я придержал створку. Лера Плаксина манерно кивнула и бросила, не глядя:
— Спасибо.
Мы сели в «нисан» белого цвета и понеслись на север. Рулил всё то же Вадим Куприн с пышной шевелюрой.
Лера Плаксина сказала:
— Приходько третий месяц не дотягивает трети плана.
Мы свернули на развязку и понеслись по Звенигородскому шоссе над железнодорожными путями. Справа осталось Ваганьковское кладбище; с высоты трассы оно смотрелось большим белым пятном среди городских кварталов.
— Это же много, — удивился я тому, что его так долго терпят; в моём представлении аптекаря надо срочно менять.
— Да… но мы думали… — стала она оправдываться, — что это временно, у кого трудностей ни бывает, а в этом месяце снова наметилась та же тенденция. Извините, у вас какое образование? — она забылась, перейдя в нападение.
Я не дал наступить себе на ногу и засмеялся:
— Хотите поймать на невежестве?
Радий Каранда, сидящий рядом с шофёром, вышел из «ночного чата» и обратился в слух. Он вызывающе хрюкнул, и я вспомнил о его предупреждении.
— Я слышала, вы воевали? — спросила Лера Плаксина с тайным умыслом.
— Неважно, — ушёл я от ответа, потому что наша беседа не располагала к откровениям.
Я подумал, что, если она узнает ещё правду и о Радие Каранде, о характере его ранения, то это не пойдёт на пользу её психике. Козырь сей надо будет придержать в другой игре, решил я, если она, конечно, состоится.
— Хочу понять, на каком языке с вами разговаривать, — сказала она, не снижая напора.
И я прочитал в её взгляде, что она меня, выскочку, ненавидит, как впрочем, и всех других мужчин, и давит их при первом же удобном случае. Такой случай ей представился в лице бедного аптекаря.
— Разговаривайте так, как вы разговаривали с Аллой Сергеевной, — посоветовал я ей.
Она вскинула на меня взгляд, изучающе посмотрела, не знаю, что она там увидела, но больше не провоцировала и даже сбавила гонор.
— Мы сейчас приедем. Заберём бухгалтерию, а вы с Радием посмотрите, что да как.
— Бухгалтерия может быть и серой, — предположил я.
Я сказал себе, что не буду корчить из себя начальство, памятуя о том, что Алла Потёмкина доверяет Плаксиной.
— Наверняка, — согласилась Плаксина. — Тогда мы ничего не увидим, но даже этого достаточно, чтобы провести анализ.
— Обвинить будет не в чем, можно будет только заподозрить, — согласился я.
Она снова на меня косо посмотрела:
— Вы из карающих органов?
Я подумал, что она образец того, во что прекращаются супер-пупер модели, проведшие молодость на подиуме и молящиеся личине амплуа, деньгам и карьере.
— Нет, — засмеялся я, не раскрывая карт и не облегчая ей задачу. — Здесь всё просто: если есть обличающие документы, то можно передавать в прокуратуру, а иначе надо доказывать.
— Хм… — она едва заметно и одобрительно кивнула. — Так и сделаем!
И я понял, что до девяносто процентов времени мне предстояло заниматься «внутривидовой» борьбой с себе подобными, а не непосредственно работа.
На въезде на МКАД нас качнуло навстречу друг другу, и я наконец почувствовал её запах: смесь дорогого табака, виски и кофе — она зажевала кофейными зёрнами. Лера Плаксина у себя в кабинете дёрнула для снятия стресса и сделала пару затяжек, и я не осудил её. Подумаешь — нервы не верёвки, изнашиваются быстрее, чем тебе кажется.
Я вдруг почувствовал в ней родственную душу: она всю жизнь боролась за место под солнцем, наконец ей повезло — во второй половине жизни удалось устроиться на очень приличную работу и даже можно было успокоиться, но мешали проклятые мужчины, вначале — Водогреев, который, наверное, говорил ей сальности и трогал за «кое-где», а она мило улыбалась и даже, может быть, что-то щебетала, чтобы не вылететь, как птичка из гнезда, потом выскочка — ваш покорный слуга, явился не запылился, а годы идут, и пенсия маячит на горизонте, и стало быть, мечта тает, как прошлогодний снег, и нервы в свою очередь ни к чёрту. Я бы тоже ненавидел всех соперников мужского пола и проклял бы заодно свой женский пол, но надо терпеть, стиснув зубы, и общаться с такими типами, как я, делая вид, что тебе наплевать на обстоятельства и на то, что отныне мужчины для тебя всего лишь коллеги по службе.
Она закурила тонкую, изящную сигарету с золотым ободком на фильтре — «vogue» в чёрной пачке, с вишневым запахом. Такие же курили в редакции наши продвинутые дамы. Выпустила из носы две струи дыма и спросила:
— Было страшно?..
Я едва не ляпнул: «У вашего знакомого спросите» и посмотрел на Радия Каранду. У него в этот момент уши стали похожими на локаторы.
— Не больше, чем на войне с женщинами, — отшутился я.
Лера Плаксина посмотрела на меня такими взглядом, словно призывая: «Не валяй дурака, я всё знаю!»
— Всё-то вы мужчины скрываете. По вам видно, что вы месяца три валились в госпитале и теперь отъедаетесь.
Радий Каранда восторженно хихикнул, одобряя её прозорливость.
— Как вы догадались? — спросил я, но так, чтобы она всё равно осталась в недоумении.
— У меня сосед оттуда вернулся без руки. Вся голова в шрамах. Из госпиталя вышел таким же жёлтым, как и вы. Не хотите говорит, не надо.
Она отвернулась, изящно держа руку на излёте, говоря тем самым, что гордость твоя, вояка, гроша ломаного не стоит, раз ты боишься показать свою слабость. Но я не дал себя обвести вокруг пальца и не купился на её лесть, потому что не хотел, чтобы она обладала оружием против меня. Неизвестно, как она его потом обернёт, судя по всему — только с пользой для себя любимой.
От сигареты плыла голубоватая струйка дыма. Должно быть, из-за этого жеста и этого поворота головы многие мужчины теряли голову и кого-то она даже осчастливила, но, увы, времена её проходили, и улыбка у неё на лице всё чаще и чаще делалась вымученной, пока не прекратилась в маску отчаяния. С годами ей приходится прилагать всё больше усилий, чтобы оставаться в форме. Мне даже показалось, что она воспользовалась блефаропластикой, чтобы убрать «материнские веки», по этой причине глаза у неё выглядели неестественно молодо, и это старило её ещё больше.
— Нам очень повезёт, если мы что-то откопаем, — сказала она устало и больше за весь остаток дороги не проронила ни слова.
Тут мне пришла смска от жеребёнка, и я вспомнил, что в жизни есть ещё приятные моменты, а не ядовитый трёп со стареющей дамой. Жеребёнок писала: «Я жутко соскучилась! Где ты?!» Кажется, почтовый ящик не понадобится, обрадовался я и ответил: «На работе. Встретимся вечером!» Я представил её молодой, красивое тело и всё то, что мы с этим телом вытворяли. Лучше бы я этого не делал, мне пришлось срочно скрывать тот факт, что я возбудился, перед глазами промелькнули все-все сладострастные картинки: «я и жеребёнок в ярко освещенной ванной», «я и жеребёнок на измятых простынях», «я и жеребёнок в нашем любимом кресле», и только с появлением на обочине знака «Красногорск» пришёл в более-менее приемлемое состояние и начал хоть что-то соображать. Слава богу, Лера Плаксина ничего не заметила или сделала вид, что не заметила. Всю дорогу она молчала, глядя в окно, только искурила всю пачку, так что мы порядочно провоняли дымом.
Аптека находилась в очень удачном месте: на пересечении центральной улицы и улицы, идущей со стороны железнодорожного вокзала. Справа находился супермаркет, слева — тянулся бетонный забор. Я пошёл вдоль этого забора и обнаружил глухие железные ворота, но самое интересное заключалось в том, что из-под них высовывались железнодорожные рельсы, которые упирались в тротуар. Поверх забора торчали плоские крыши и колючая проволока «гюрза». Склад, что ли? — удивился я. А почему не сносят? Почти в центре города? Странно!
— Что там? — спросил Радий Каранда, когда я вернулся.
— Я ещё не понял, — ответил я. — Что-то похожее на склад.
Лера Плаксина снова нервно курила. Мы размялись и вошли. Первым делом я посетил тамошний туалет, а когда вошёл, сражение было в самом разгаре: звучали залпы, и пролетала картечь.
— Вы не можете так со мной поступить! — кричал аптекарь, тощий, как стречок, мужик с прядью, зачёсанной на лысину, похожую на дыню, в общем и целом странный, как китайский факториал.
— Владимир Дмитриевич, — но вы же проворовались! — Била она ему не в бровь а в глаз.
— Кто вам сказал?! Это недостача покроется следующим месяцем!
Казалось, он не понимал цели нашего визита. Выглядел он, как человек, который пользуется чужим мнением из интернета и ест с рук рекламы; прочем, мы все недалеко ушли от него в зависимости от мироустройства.
— У вас огромные убытки, мы не можем больше терпеть. Предоставьте нам бухгалтерию за последние полгода!
— Я позвоню Потёмкиной! — закричал он, становясь красным, как рак, и схватился за телефон.
У него были абсолютно честные глаза, излучающие сплошное недоумение и возмущение. Но по мере того, что он слышал в трубке Аллы Потёмкиной голос, оно поменялось на диаметрально противоположное, становясь злым и крысиным.
Приходько в сердцах бросил телефон, выругался матом и сказал:
— Я оспорю ваши действия! У меня есть люди в правлении!
Один Радий Каранда оставался невозмутимым, кажется, он снова взялся за свой чат, в котором жила его зазноба по имени (я случайно подглядел) Шансудофа Бердосова, но посмеяться поосторожничал, всё-таки он походил на молодого Джексона из «Ментовских войн», а это более, чем серьёзно.
— Ваше право, — Лера Плаксина и ухом не повела, села, изящно выставив в проход длинные ноги в модных сапогах на высоком каблуке, отороченные мехом, и я подумал, что подобным образом она разбила ни одно мужское сердце.
— Вы документы возьмёте и заныкаете, а мне расхлебывать! — ныл Владимир Дмитриевич.
Снова начались пререкания. Было ясно, что он всеми правдами и неправдами будет тянуть резину; однако, я понял, что холёная Лера Плаксина знает своё дело: она вцепилась в Приходько мертвой хваткой тигрицы, добралась до сонной артерии, и я решил дать ей насладиться триумфом в последний раз. Радий Каранда тихонько хихикал, краем глаза заглядывая в свой айфон. Дама сердца флиртовала напропалую, а он исподтишка записывал происходящее. Мы вышли в коридор. Я страшно хотел пить. Обезвоживание схватило меня за горло, как разбойник с большой дороги.
— Надо пива выпить, — сказал я.
— Невтерпеж, что ли? — удивился без осуждения Радий Каранда, опуская мобильник в глубокий карман и возвращая на лицо прежнее выражение озабоченности. — Дождись вечера.
— Пить хочу ужасно, — признался я.
— Понял, — он протянул мне фляжку, и я сделал два больших глотка.
В фляжке оказался неплохой коньяк. Но при обезвоживании он не помогал. Стало даже хуже.
— Я посмотрю территорию, — поморщился я.
— Ты что-то задумал?
Он всегда так спрашивал на войне не без доброго умысла уберечь тебя от глупых поступков. И я моментально вспомнил автомобильную развязку под Ясиноватой, длинный откос, поросший травой, и пост ГАИ, в которую укрофашисты с упоением всаживали из АГС гранату за гранатой, вообразив, что в домике кто-то может находиться, и они рвались, словно на дороге возникал и опадали кусты боярышника. Мы прятались в сотне метрах на блокпосту, который укры не видели, и носа не выказывали, только взводный с позывным Горелый ругался матом в рацию и требовал поддержки. Он боялся, что вслед за обстрелом укрофашисты попрутся в атаку. Моё дело было маленькое: я умудрился снять обстрел. Горелый вначале на меня орал, чтобы я не лез, куда не следует, а потом плюнул, убьют, так убьют. К вечеру материал уже был на столе у Бориса Сапожкова. То-то он был на седьмом небе от счастья и потащил меня в пивную, а закончили мы у него на ближней даче, и мне долго пришлось вымаливать прощение у Наташки Крыловой, но она меня так и не простила в тот раз. С годами она становилась жёсткой, прямолинейной и не шла ни на какие компромиссы. Я знал, что любить беззаветно — глупо, что рано или поздно тобой начнут пользоваться, но ничего поделать с собой не мог, а моё мужское благородство в зачёт не шло; поэтому я плюнул на это дело и едва не ушёл от неё.
— Пока на уровне интуиции, — ответил я, заскочил в супермаркет и купил две бутылки светлого пива.
Одну выпил сразу за углом, а вторую прихватил с собой и подался вдоль забора; он тянулся километра полтора. За ним виднелись только плоские крыши и всё та же колючая проволока. Наконец в конце квартала забор кончился, я свернул направо и увидел железнодорожные пути, они были свеженькими, даже с потёками масла.
По этим путям, войдя в роль случайного прохожего, я проковылял до железные ворот с калиткой и забарабанил в неё что есть силы. Наконец из-за неё не очень дружелюбно спросили:
— Чего надо?!
— Это мелкооптовый магазин сантехники?
— Какой?! — человек притворился глухим.
— База сантехники?! — поправился я.
Калитка открылась. Высунулся красный шнобель, оценил меня, мою трость и бутылку, торчащую из кармана.
— Никакой это не магазин и не сантехники вовсе!
— А мне сказали, сантехники, — я дыхнул и изобразил пьяного.
Шнобель посмотрел на меня, снисходительно, как смотрит подвыпивший пролетарий на подвыпившего интеллигента, не умеющего пить:
— Аптечная база!
— В смысле? — уточнил я, притворившись дураком.
Он разъяснил по складам:
— Ап-теч-на-я! Перемидон-сульфамидон!
— А-а-а… — изобразил я свою глупость. — Понял, друг, извини, — и подался восвояси, цепляясь тростью за шпалы.
— Не пей больше сегодня! — насмешливо крикнул шнобель мне во след.
— Не буду! — пообещал я, откупоривая бутылку.
* * *
— Дай мне сигарету! — потребовала Лера Плаксина у Радия Каранды.
Её трясло. Она, наверное, даже приняла бы на грудь из его фляжки, но надо было ещё отчитаться перед Аллой Потёмкиной, а корпоративная этика была превыше всего.
— У меня только «мальборо», — услужливо предупредил Радий Каранда, протягивая пачку.
— Давай! — согласилась она, нервно постукивая каблуками. — Хотя я от них кашляю.
Всем было ясно, что Приходько накрутил так, что может сесть, оттого и упирался до последнего. Оказывается, пока я ходил, он звонил даже в полицию, где его послали. Документы мы всё-таки забрали после приказа, присланного Аллой Потёмкиной по факсу.
— Вы ещё не всё знаете, — сказал я многозначительно.
Они посмотрели на меня со страхом — особенно Лера Плаксина. Видно, с неё сегодня хватило.
— Что именно? — вскинула она свои покрасневшие глаза, мол, чем ещё можно меня удивить в этой дрянной жизни.
— У них здесь свой огромный склад. Я разведал.
— Склад?! — переспросила Лера Плаксина, и впервые за день стала естественной, почти что подружкой по общежитию, потому что глазки её заблестели, а лицо огорчилось, как и у нас с Радием.
— По этим железнодорожным путям, — показал я на глухие железные ворота, — с той стороны прибывают составы.
— Составы?! — ещё больше расстроилась она. — Пути? Значит, объемы такие, что нам и не снилось.
— Похоже, — сказал я. — Наверное, они создали свою базу.
— Или параллельную структуру, — подсказал Радий Каранда. — Здесь неподалёку железнодорожная станция.
— Вот это да! — Лера Плаксина прикинула. — Налоги платили, как за нас, а все остальное — себе в карман. Надо быстро отсюда сматываться! — она взволнованно бросила сигарету в сугроб. — Поехали!
Я тоже подумал, что если Приходько позвонил в свою крышу, а крыша у него обязательно есть, то мы можем не доехать до офиса.
— Интересная получается картина… — сказала Лера Плаксина, стрельнув у Радия Каранды ещё сигаретку и наполняя салон отвратительным дымом, — Приходько человек Годунцова…
— Кто такой Годунцов? — спросил я и сразу почувствовал по их реакции, словно прикасаюсь к чему-то запретному.
— Компаньон Аллы Сергеевны, — объяснил Радий Каранда без энтузиазма, и я понял, что дело очень серьёзное.
— Это высокие сферы? — спросил я.
— Годунцов был компаньоном мужа Аллы Сергеевны, — объяснила Лера Плаксина.
И всё, никто не удосужился ничего объяснить, словно воды в рот набрали. Я догадался, что Алла Сергеевна Потёмкина вдовствующая королева и что у неё куча врагов, а Годунцов главный из них.
— Надо доложиться, — высказал я здравую мысль и позвонил Алле Потёмкиной, чтобы двух словах обрисовал ситуацию.
Мне показалась, что Алла Потёмкина была готова к ней, потому что даже не стала расспрашивать, а только сказала:
— Вы там осторожней.
Голос у неё был уставшим.
— Мы уже едем, — ответил я, выглядывая в окно: МКАД была совсем рядом.
— О складе — молчок! — велела она.
Вадим Куприн обгонял так лихо, что машины справа, казалось, стоят на месте.
Глава 4. Валесса Азиз. Покушение
Метаболический синдром Годунцову ему явно не грозил — он оказался сухим человечком с колючим взглядом. Такой взгляд бывает только у отпетых уголовников. Словно он решил завязать с прошлым, а выражением на лице оставил, забыл о нём. Впрочем, он всё равно выглядел, как чучело наизнанку — сильно нервничал, и тик глазного нерва выдавал его природу негодяя.
— Ты не имела права его выгонять! — заявил он, косясь на нас, как на нежелательных свидетелей, и поэтому сдерживался, нервно дёргая небритой щекой.
Я решил, что никуда не уйду, пока меня не выгонят. Радию Каранда по роду службы полагалось охранять Аллу Потёмкину, а Лера Плаксина, казалось, только получала удовольствие от скандала.
— Я имею право делать всё, что считают нужным! — отрезала Алла Потёмкина. — Или тебе напомнить, сколько у тебя акция?
— Не надо! Дай мне месяц! Я разберусь!
Он забегал вдоль окна, засунув руки, как Ленин, в жилетку. Как я сообразил после покушения, оказывается, он держал семью в Канаде, а здесь зарабатывал деньги, ну и, несомненно, всеми фибрами души ненавидел страну, которая его кормила.
— С какой стати? — удивилась Алла Потёмкина — У тебя что, отдельное государство?
Я понимал, что она намекает на склад, но Годунцов об этом не имел понятия. Позиция его была достаточно крепка: дело можно было уладить большим страхом или уступкой другого рода с вариациями на разные темы.
— Ты не понимаешь… — остановился он так резко, что скрипнули подошвы.
— Я не понимаю! — взвилась Алла Потёмкина. — Это ты не понимаешь!
Естественно, она умолчала о складе и о том, что связано с ним, потому что склад — это совершенно другая ситуация и совершенно другой расклад сил. А ещё я удивился, как она справилась с Андреем Годунцовым, который был гораздо старше её, даже старше меня.
— Да всё я понимаю! — воскликнул Андрей Годунцов, для убедительности потрясая головой с белыми кудрями.
— Ну вот и заткнись! А может быть, ты в доли с Приходько? — ядовито осведомилась Алла Потёмкина.
И вопрос повис, что говорится, в воздухе, пока Андрей Годунцов пытался сглотнуть слюну.
— Ты знаешь, это часть моего бизнеса, и я хотел бы сам разобраться! — вспыхнул Андрей Годунцов.
Ему было неприятно, но он вынужден был давать объяснения. Я присмотрелся: он походил на ашкенази — белобрысого еврея с кудрями и со светлыми глазами. Такие изредка встречаются, сами евреи считают их отщепенцами, и даже группа крови у них совсем не четвёртая, а какая-то другая, крайне экзотическая.
— Ты три месяца тянул резину. Я честно ждала твоей реакции. Или думаешь, я ничего не знаю?! Я знаю всё, что здесь происходит! — Алла Потёмкина многозначительно показала на стены, имея в виду фирму и её уши.
— Это не такой большой срок, — пошёл на попятную Андрей Годунцов. — Уверяю тебя.
Судя по форме носа с бугорком, он легко выходил из себя, но также легко перегорал, особенно в разговоре с сильным оппонентом.
— А сколько ты хотел?! Полгода? Год?! Скажи, я потерплю, и учредители тоже потерпят! Разговор закончен! Приходько идёт под суд!
Андрей Годунцов побелел так, что стал похожим на лист бумаги:
— Этого нельзя делать! Приходько нужно оставить на месте. Я компенсирую недостачу и согласен всю вину взять на себя!
Я стал догадываться: ведь если Приходько убрать, то новый человек всё поймёт, и затея со складом и параллельной структурой полетит в тартарары, и тогда уже Годунцову несдобровать.
— Хорошо, поговорим, — согласилась Алла Потёмкина.
— Один на один! — выставил условие Андрей Годунцов, оглянувшись на нас, как старый, полинявший волк.
— Все свободны до завтрашнего утра, — сказала Алла Потёмкина, на мгновение задержала взгляд на мне, и я понял, что она хотела мне что-то сказать, но не сказала.
Может быть, она сегодня хотела пойти со мной в ресторан? — распушил я хвост, что тогда делать с Инной-жеребёнком?
— Андрей, а ещё ты мне вернёшь упущенную выгоду! — Услышал я, выходя последним и понял, что палец ей в рот не клади.
Не успел я покинуть её кабинет, где объявилась Инна-жеребёнок:
— Я освободилась! — радостно прокричала она из айфона так, что Радий Каранда, удаляющийся на свой этаж, с любопытством оглянулся.
— Иди, идя… — махнул я рукой.
Он удивлённо покачал головой и пошёл к себе. Надо было, конечно, переговорить с ним о сложившейся обстановке, но времени не было.
— Пойдём на Валессу Азиз? — снова пропищала жеребёнок.
И я представил её лицо в обрамлении копны русых волос, и радостные изумрудные глаза, которые ждали меня где-то там, в большой, шумном городе, полный удовольствия и неизвестности.
— На кого?
Офисный коридор был пуст, я мог разговаривать без утайки.
— Её все знают! — гневно заверила меня жеребёнок из мобильника.
— Я не знаю, — признался я.
— Американская певица!
В её нотках прозвучало нетерпение молодости, она уже грызла свои золотые ноготки и отплёвывалась с досады.
— Негритянка? — я не хотел так быстро сдаваться.
— Р-р-р… — зарычала она тихонько.
— Не люблю негритянок, — сказал я.
Мне, действительно, не хотелось слушать ни американские блюзы, ни африканские «там-тамы». Сегодня я был сыт жизнью по горло. Я мечтал выпить водки и уснуть в объятьях жеребёнка, как в колыбели. Наверное, это, действительно, была старость, политая мудростью.
— Ты что! — с возмущением зашипела жеребёнок, напомнив мне моё место под солнцем.
Мне пришло прикрыть динамик рукой.
— Она русская! Белая! Родилась в Москве, но живёт в США!
Её негодованию не было предела; я выглядел столетним пнём, не понимающим политического момента: новое поколение колбасников выбирает там, где теплее, сытнее и мягче.
— А-а-а… — сказал я, чтобы она только успокоилась.
— Иногда приезжает на гастроли, — добавила жеребёнок, выпуская пары.
— Хоть что-то приличное? — почти уступил я.
— Тебе понравится, — холодно пообещала жеребёнок и мгновенно разлюбила меня.
— Минутку! — всполошился я, заскочил к себе в кабинет и оделся, изгаляясь, чтобы не оторваться от телефона.
Не знаю почему, но мне нравился её голос, он дарил надежду в жизни, и я в очередной раз поддался искушению надеждой на благополучный исход мероприятия под названием жизнь.
— Я тебя обожаю! — опять закричала жеребёнок. — Ты берёшь такси, подхватываешь меня у магазина, и мы летим на Ленинградский, в «Ярь».
— Куда?.. — переспросил я, дразня её, как дразнят щенка куском колбасы.
— Ресторан «Ярь»! — гневно повторила она и, должно быть, швырнула айфон в стену, потому что в динамике раздались скрежещущие звуки.
— Хорошо, — сказал я в антифазе, — если в пробках не застряну.
— Не застрянешь, я уже столик заказала, — она отключилась и, видно, побежала наводить марафет.
Я с ужасом подумал, что начал делать поблажки, а ведь ещё совсем недавно я дал себе слово никогда и ни чём не уступать женщинам. Девиация в сторону сажания себе на шею кого-нибудь из них меня совершенно не устраивала. Но и расставаться на второй день знакомства было глупо. Может, она поумнеет, подумал я и сам же себе ответил: «А как же! Держи карман шире!»
Я вызвал через агрегатор такси, а когда вышел из башни, оно уже ждало меня у ступеней, а шофёр вежливо улыбнулся.
Я вспомнил, что жеребёнок сказала:
— Встретимся у «Библио-Глобуса».
Какого «глобуса»?
Я сказал вопросительно:
— «Библио-Глобус»?
Шофёр понимающе кивнул, и мы поехали, но пробок всё же не избежали, немного постояли вначале на Садовом, потом — на Петровке, и ещё в каком-то тёмном месте, где не было даже иллюминации. Меня почем-то страшно удивляла реклама на каждом углу: «Меняю собственные зубы на несъёмные протезы!»
Шофёр отчаянно зевал. Я заразился от него и едва не проглотил свою итальянскую трость.
День стремительно катился к ночи. Уставшая Москва разъезжалась по домам, и только из-за рекламы, и праздничных огней притворялась неугомонно-деловой. И картинки за окном в размытых тонах походили на гиперреализм очень филигранного художника.
Инна-жеребёнок выскочила на мороз — в белых сапогах на шпилька, в серебристой шубке, с таким же серебристым воротником и в джинсах в обтяжку, весёлая, забавная, ничуть не уставшая, и я догадался, что она готова отработать в магазине, отплясать ночь в ночном клубе, а утром, как ни в чём ни бывало, явиться на смену и вечером повторить цикл. Шлёпнулась рядом, чмокнула меня в щеку, ткнувшись холодным носом, и страстно укусила за ухо аж так, что я дёрнулся от боли.
Я ощутил тепло её тела, желание, которое она принесла с собой, и проклял ресторан, и какую-то там американскую певичку, из-за которой должен был терпеть и ждать ночи. Одно радовало, ресторан оказался в центре, и не надо было тащиться к чёрту на кулички.
— Я вначале думала, — жалостливым голосом призналась Инна, радостно дыша мне в шею, — что ты пикапёр.
— Не понял? — нахмурился я, безрезультатно ища я памяти аналог этому слову.
— Ну, это те мужчины… которые… знакомятся… с девушками… только для секса, — объяснила она, делая скидку на мой возраст и мою бестолковость.
Я посмотрел на неё свысока в прямом смысле слова, но промолчал и вдруг сообразил, что жеребёнок — это моя психотерапия, потому что предыдущую ночь я спал без кошмаров.
— В зелёной форме-то?
— Знаешь, какие они коварные?.. — тяжко вздохнула она.
— Не знаю, — отшутился я с иронией.
— Ты даже не представляешь, на какие уловки они способны, чтобы только загарпунить девушку.
За окнами мелькала новогодняя Москва, и мне не хотелось думать ни о каких вероломных пикапёрах, меня ждали культурная программа, шикарный ужин и не менее шикарная ночь любви. Последнему пункту я отдал бы предпочтение, цинично сократив первые два до минимума.
Я посмотрел на неё с ожиданием:
— Ради лайков, что ли?
Едва ли её личная жизнь интересовала меня в таких подробностях. Одни раз я уже собственными ушами слышал, как она говорила кому-то по айфону:
— Хватит валандаться! Пора остановиться на старичке!
Старичком, разумеется, был я. Человек, который пренебрегает очевидным, проигрывает; поэтому я заподозрил, что она обычная лирушница, зацикленная на своих блогах, но какое мне было дело её переживаний? Я и не думал жениться, если жеребёнок это имела ввиду, хотя наш роман был больше, чем фоновый интерес к женщине. Разумеется, до Ники Костровов ей было далеко, примерно, как до Марса. Но я же терпел, я давал ей шанс дорасти и соответствовать, но, кажется, она ещё ничего не понимала, а чтобы ухватиться за ум, так это, кажется, были только благие намерения.
Инна-жеребёнок крайне удивилась.
— Ты и про лайки знаешь? А с другой стороны, ты, как бы, должен ревновать?.. — вопросительно добавила она, вскинув на меня свои бесподобные глаза.
Я тут же вспомнил последнюю неудачную женитьбу Ефрема Набатникова и его очень даже богатую сексуальную жизнь, известно, чем кончившуюся. Ему везло только в бизнесе да на войне, да и то только до определённого момента. Жаль, что за низкие поступки не убивают, я уже не говорю, что за предательство мужской дружбы — тоже.
— Считай, что я уже ревную!
Она оценивающе посмотрела на меня, сложив руки у меня на груди, как на подоконнике, и уточнила, глядя в глаза снизу вверх своими бесподобными глазами, глубокими, как омут в ясный день:
— Да?
— Да! — твёрдо ответил я.
— Вот таким я тебя и люблю! — кинулась мне на шею, и я едва не расплавился, ощутив сквозь одежду её крепкую грудь и возбуждённые соски.
С места водителя это выглядело так, словно мы молимся богу секса. Идиотское положение.
— Каким? — спросил я в надежде, что она наконец опомнится и перестанет нести чепуху.
— Когда камушки перекатываются…
Я вздохнул с долготерпением, и мы приехали.
Ресторан походил на «Большой театр» в миниатюре, такой же помпезный и вычурный. Огромная люстра украшала высокий потолок. За рядами столиков прятались кабинки, драпированные красным бархатом. Мы заняли вторую справа с видом на сцену.
— Ты бывала здесь? — догадался я.
— Один раз, — поспешно ответила она так, чтобы я, скотина, больше и ни чём не расспрашивал, и я почувствовал, что крайне нетактичен, просто монстр нетактичности и невоспитанности: нечего женщинам напоминать их прошлое. Вот тебе и жеребёнок, удивился я, на ровном месте рога наставляет.
Мы заказали: каре ягненка (лично мне — двойную порцию), селедку под шубой и салат с печёным лососем. А также соки всех сортов и двести граммов водки. Я решил сегодня не злоупотреблять, всё-таки культурное заведение, публика вокруг нарядная и возбуждённая, поймёт не так.
Вышел чёрный конферансье в пёстрой бабочке, что что-то объявил. Я почувствовал себя идиотом. Была у меня такая слабость, полное и абсолютное непонимание иностранных языков. Из-за этого меня в пажеские корпуса и не взяли, но я не очень расстроился.
Тут подали водку с салатиками, я отвлёкся, а когда поднял глаза — обомлел: Валесса Азиз была той женщиной, о которой мечтают все, без исключения, мужчины. Высокая, под метр восемьдесят, но не тяжелая и не хрупкая, ладная, стройная, как пальма, и гибкая, как балерина. Редкая порода.
— Она не русская? — спросил я, не в силах оторваться от неё лица, в котором чувствовалось всё самое лучшее от русского и всё самое лучшее от восточного мира.
— Стопроцентная москвичка, — ответила дюже вредным голосом Инна-жеребёнок, заметив мою реакцию.
— А родители?..
— Отец бербер.
Жеребёнок уже пожалела, что притащила меня сюда.
— Вот в чём дело, — удивился я и понял, откуда у Валессы Азиз густые и толстые, как у лошади, тёмно-рыжие волосы и карие глаза с такой поволокой, что дух захватывало.
Валесса Азиз была в блузке свободного покроя и рваных джинсах. Публика сказав: «Ах!», встретила её длинными аплодисментами.
За ней выкатили какие-то шустрые ребята породой пожиже и хлипче. Разве что барабанщик был ей под стать. И я вдруг заревновал. Я не испытывал этого чувства лет десять. Жена просто-таки задавила его во мне своим домостроем. Очевидно, что из всей американской компании один барабанщик имел хоть какие-то шансы спать с ней, остальные были мелкими и дефектными: то голова маленькая, то африканские крови выпирали в виде гипертрофированных губ и чёрных патл. Не нравились мне почему-то негры.
Валесса Азиз взяла микрофон, вышли на середину сцены и на чистейшем русском, без капли акцента, сказала:
— Сегодня наш репертуар — ретро семидесятых!
И снова зал сказал: «Ах!», чтобы пасть к её ногам, однако, барабанчик ударил, и последний звук ещё дрожал воздухе, когда она взяла первую ноту — шершаво от избытка природной силы, но мелодично, чисто, как утренние лучи солнца, и запела о девушке из Нагасаки.
Несомненно, я слышал раньше эту песню, он не мог вспомнить, где именно, и только когда дело дошло до «джентльмена во фраке», тут и вспомнил Высоцкого. Однако у него эта песня была проходящей, одной из многих, а у Валесса Азиз — фирменной маркой, и она её преподнесла с таким блеском, что зал принялся бить посуду, кричать «Бис-с-с!!!» и неистово аплодировать. А один полковник в парадной форме ВВС, встав на колени, даже преподнёс ей огромный букет бордовых роз. Вот тогда-то только я очнулся и виновато поглядел на жеребёнка. На ней лица не было. Она меня возненавидела и готова была перерезать горло тупым ресторанным ножом.
— Я хочу уйти! — потребовала она.
— Идём! — легко согласился я прежде всего из опасения испортить ощущение от песни, а потом уже — из-за страха быть зарезанным.
Я больше ничего не хотел слышать. Отныне я знал, что «Девушка из Нагасаки» — это моё, а всё другое, пусть даже оно современнейшее, лучшее и самое прекраснейшее в мире, однако, не имеет никакого значения. И ещё я знал, что обязательно приду сюда, но уже без Инны-жеребёнка.
Увы, она хоть и была красива, особенно голой, с белоснежной кожей, с белоснежной улыбкой и русской грацией, но порода не та, и оскорбилась этим, потому и шла, надувшись, как мышь на крупу, и молчала до тех пор, пока я не покривил душой:
— Дешёвая певичка.
Мы одевались в гардеробной, я услышал, что Валесса Азиз снова запела о девушке из Нагасаки, и пожалел, что мы не остались.
— То-то ты слюни на её пускал!
— Есть на что, — не удержался я, бездумно завидуя полковнику ВВС в парадной форме.
— И не смотри на меня снисходительно! — с болью воскликнула она. — Я всё понимаю! Я не маленькая!
Я молча шагнул через проспект, выхватил в цветочном такой огромный букет красных роз, что жеребёнок не могла удержать его обеими руками.
— Опять ботва! — Капризно шокировала она меня.
Ладно, подумал я и в своём гроссбухе сделал отметку о циничности жеребёнка и склонности к брезгливому выражению на прекрасном личике.
— Забыли! — не стал я обострять отношения. — Поехали кутить!
Я поймал такси, и жеребёнок, всё ещё обиженно косясь и шмыгая носом, соизволила отвезти себя в «Метрополис» на Ленинградского шоссе.
Мы оставили букет у администратора, предупредив, что обязательно вернёмся за ним, взяли самую большую тележку, которую можно было найти, и побежали по залу. Мы купили грузинских свино-говяжих купатов, в состав которых входили хмели-сунели и ягоды барбариса; зелень, пару гранатов, ткемалевый соус (пах чесноком, сливой и травами), горчицы, острый кетчуп, соус табаско, сельдерееву соль и топленой сало.
Жеребёнок скривилась:
— Я принципиально есть не буду…
И напомнила мне Варю в её юношеском максимализме, но я уже умел не ходить по этой дорожке, тем более что рядом замаячила Наташка Крылова, и понял, что напьюсь сегодня, если не абстрагируюсь от прошлого.
— За уши не оттащишь, — ухмыльнулся я, как многоопытный Бахус.
Готовить я любил и мог сотворить изысканности, о которых жеребёнок Инна даже и не подозревала. По этому поводу моя жена говорила, что во мне умерли два типа: врач и повар, намекая, что вся моя писанина не стоит и ломаного гроша, и была, кстати говоря, недалека от истины: провинция не давала ни единого шанса на успех писательского мероприятия.
— Оно вонючее! — чуть уступила она.
— Хорошо, я буду есть, а ты будешь смотреть, — покосился я на неё, и увидел сплошной комок неуверенности в своих словах.
— Возьми мне тогда… — она нарочито, вихляя задом, прошлась вдоль витрины, — возьми вот этого! — ткнула пальчиком в золотым маникюром и с волнистым краем.
Шубку она расстегнула, ножки в обтягивающих джинсах выставляла, королева — вся из себя! На нас оглядывались.
— Балыка, что ли? Ради бога! — Я был как никогда великодушен, заталкивая в себя фразу о ботве как можно глубже. — К балыку нужно пиво!
Я взял осетрины холодного копчения с радужным переливом, на десять тысяч рублей и дал понюхать жеребёнку. После короткой мизансцены с борьбой, хихиканьем, подпрыгиванием, чтобы дотянуться, мы принялись выбирать пиво. Жеребёнку понравилось санкт-петербургское «Бакунин», сорт американского коричневого эля. Мы взяли упаковку, и я выдал свою тайну:
— Хочу попробовать настоящей картофельной водки.
— А что есть такая? — удивилась жеребёнок. — Откуда ты знаешь?! — она глядела, кокетливо закусив губу, полагая, что я стушуюсь.
Мне не понравился её вопрос, он намекал на мою провинциальность. Я не стал ей рассказывать, что один мой герой пил исключительно только картофельную водку, а всё остальные напитки презирал, отчего и умер в пятилетнем возрасте.
— Знаю, — сказал я, толкая тележку в винно-водочный отдел.
Мы взяли английскую картофельную, трёхлитровую бутылку по цене тридцать пять тысяч двести рублей.
И вдруг я увидел благородный «сотерн» по четырнадцать с четвертью тысяч за семьсот пятьдесят миллилитров и взял три бутылки, сопровождаемый ироничным взглядом жеребёнка. По-моему, она ничего не поняла: подумаешь, какое-то белое вино тёмно-соломенного цвета за бешеные деньги. Однако именно этим вином я хотел соблазнить её, затащить в постель и задушить в своих объятьях, ибо она была моей спасательной соломинкой, за которую я инстинктивно уцепился. Мне не нужны были серьёзные отношения, от воспоминания о которых я едва не сдох на больничной койке, мне нужен был просто секс, отдушина, чтобы не думать о прошлом, и жеребёнок, как ни цинично, подходила для этой роли как нельзя лучше.
— Я хочу конфет! — закапризничала она, инстинктивно чувствуя, что я терпелив и щедр, как бог.
Мы направили стопы в кондитерский отдел. Жеребёнок выбрал огромную, как картину в Третьяковке, коробку, даже не коробку, а коробище с репродукцией едва ли не в натуральную величину с картины Карла Брюллова «Всадница».
— Чего ты ещё хочешь, душа моя? — спросил я, испытывая желание удивить её безмерно.
— Баклажанов, — сказала она рассеянно, спадая в роль равнодушной кокотки.
Я понял, что она ляпнула первое, что ей пришло в голову, но отступать не собирался, и мы ещё минут двадцать искали эти самые баклажаны, нашли их сырыми и невкусными.
— Давай возьмём жареных? — я бросил баклажан назад в корзину.
— Давай! — равнодушно согласилась она.
Мы отправились в кулинарный отдел и набрали тонную всяких салатиков, которыми в обычной своей безалаберной жизни я бы пренебрёг. Места в корзине больше не было, потому что я ещё купил шоколадный торт и связку мягчайших французских багетов. Слава богу, подумал я, полагая, что деньги наконец кончатся, и можно экономить. Но кассир выбивает чек, я оплатил его карточкой, и… ничего не произошло, то есть кредит не иссяк. Что, он вечный? — весело подмигнул я жеребёнку. Она была в диком восторге, как от халявного вай-файфа и наглого «голубого зуба», и только ханжествующая очередь добропорядочных граждан не позволила ей броситься мне на шею и не обхватить меня ногами за талию, чтобы впиться зубами в мои губы и оставить на них след нерастраченной страсти.
Мы в нетерпении поймали такси и помчались домой. Всю дорогу жеребёнок меркантильно ласкалась ко мне, как котёнок за подачку. Хорошо жить в столице, решил я, минимум усилий, максимум удовольствия.
Пока я откупоривал бутылки, пока распаковывал продукты, жеребёнок разоблачилась, накинула на голое тело мою синею рубашку, которая была ей велика на три размера, закатала рукава и принялась делала «себяшки» в разных соблазнительных позах, нарочно дразня тем, что мелькало в разрезе сверху и снизу, потом переключилась на вашего покорного слугу.
— Не надо! — запротестовал я, когда увидел это впервые. — Мало ли что!..
Как все нормальные люди, я был стыдлив и застенчив, когда видел себя голым.
— Не парься! — заявила она, уклоняясь ловко и быстро, как боксёр-легковес. — Зато смотри, как прикольно! — и показала матрицу.
Мне мои волосатые ноги абсолютно не нравились, особенно торчащие из-под атласного одеяла. Я понял — меня приручают, как белого медведя, вдев кольцо страсти в ноздри.
— Ну ладно… — нехотя согласился я, — только никому не показывай, — хотя уже знал, что всё кончится плохо.
— Чего здесь такого?! — удивилась она, выказывая современный взгляд на вещи, которые в моём представлении не стоило выносить напоказ. — Меня заводят твои ранения!
— А ну!.. — потребовал я с камушками в голосе.
Она продемонстрировала, паясничая, как обезьянка, издали: целую фотосессию с вашим покорным слугой в разных позах и ситуация. И самый невинный из снимков был тот, где я под душем и сверкаю голыми ягодицами. Шрамы тоже были видны.
— Люська Баландина сказала, что фигура у тебя, как у Аполлона! Я на ютубе выложила! И в фейсбуке! — произнесла она вполне игриво, но с такими нотками в голосе, что я вздрогнул; это был фанатизм нового поколения, помешанного на цифровой технике и нарциссизме, и не собирающегося уступать ни йоту завоёванного пространства.
— Что?! — вскричал я и попытался отобрать айфон, но, конечно же, жеребёнок на то и жеребёнок, что не далась и прыгала, что козочка, из комнаты в комнату, а в большой, загнанная в угол, даже норовила скакнуть во французское окно, поэтому я бросил это глупое занятие и простонал, рухнув в кожаное кресло с высокой спинкой:
— Надеюсь на твоё благоразумие!
— Я тебя обожаю! — прыгнула она ко мне на колени, и мы, не долго думая, занялись любовью, едва не сломав высокую спинку, со всеми вытекающими из этого последствиями для души, тела и кошелька.
Потом я вспомнил, что купаты размораживаются, и побежал на кухню. Жеребёнок снова схватилась за айфон.
Вначале я отварил купаты в солоноватой воде, потом — завернул в фольгу, бросил на большую сковороду и сунул её в раскалённую духовку.
— Как это у тебя всё ловко получается?! — щебетала жеребёнок, щёлкая своим айфоном со всех ракурсов. — Как?!
— Опыт — страшная штука! — ухмылялся я, имея ввиду совсем другое, окопное и всеядное, но лучше не вспоминать, потому что я иногда поглощал еду, сидя я метре от чьего-то дерьма или чьих-то кишок, и выжил, с надеждой не свихнуться на старости лет.
С жеребёнком меня отпускало ощущение личной смертности, подхваченной на войне, как вирус; с жеребёнком я забывался, с ней мне казалось, что ничего не было, что я вечно жил мотом и вкушал удовольствия от жизни.
— Я и забыла, что ты старый, как мир! — подтрунила она, в надежде, что я разозлюсь.
Ха! Она не имела понятия, с кем связалась. Да, иногда я голодал, мне снилась еду, которую я вижу, но не могу съесть, мне снились отбивные, политые нежнейшим соусом, их пожирали на моих глазах все, кто угодно, но только не я, мне снилось мясо, истекающее соком, потому что организму не хватало животного белка, а на кашу с суррогатной тушёнкой я глядеть уже не мог, мы пожрали всех виноградных улиток окрест, и от запаха их жёлтой слизи с тех пор меня мутило. Поэтому в Москве я навёрстывал упущенное всеми доступными методами, но до сих пор не мог наверстать.
— Это мы поглядим! — возражал я, полагая задать ей жару в постели.
Странно, но она даже не смущалась для приличия, а я, в свою очередь, старался не глядеть на её голые ноги, которые были созданы исключительно для вожделения, гладкие и совершенные по форме, они походили на тюленей. А ещё она нарочного крутила задом в моей длиннющей рубашке, а подвёрнутые рукава и спущенные плечи смотрелись на ней так, как на супер-пупер модели, на подиум не ходи.
Через десять минут я убрал фольгу, залил купаты топлёным салом, обильно посыпал специями, чтобы перебить все другие вялые ароматы, и оставил томиться минут на пятнадцать. По кухне поплыли умопомрачительные запахи. Я налил в фужеры «сотерн» и дал понюхать жеребёнку издали:
— Ага!!!
— Хочу! Хочу! Хочу! — отшвырнула она айфон и вырвала фужер. — Ты чародей! — завыла она, напрочь забыв о своей принципиальности. — А-а-а!!! Давай твои сосиски!!!
— Фу, как плебейски, — поморщился я. — Рано-о-о!
Купаты начали покрываться золотистой корочкой. Жеребёнок исходила голодом и выглядела, как молодая, голодная волчица, истекающая слюной. Мы быстренько выпили первую бутылку, закусывая салатиками, и принялись за вторую. В голове возникла предательская лёгкость, хотелось говорить о приятных вещах, например, о «рюмочке» жеребёнка или о её малахитовых глазах. Внезапно жеребёнок впала в мрачное расположение духа.
— Я тебе никогда не прощу!
— Кого?..
— Эту певичку! — заявила она, памятуя, как я глядел на Валессу Азиз.
Я решил добить её окончательно, достал из морозильника картофельную водку и густейший, натуральнейший, супер-пупер вкуснейший томатный сок. Налил в невысокие стаканы на три четверти, кинул ложку сахара, добавил на кончике ножа острого соуса табаско, чуть-чуть посолил сельдереевой солью, водку, чтобы она не смешалась, ввел с помощью кухонной лопаточки, на ручке которой имелся желобок. Как говорил мой друг и соратник по профессии, Борис Сапожков: ««Кровавая Мэри» — лучшим напитком для голодного желудка и чистой совести». И когда мы выпили, жеребёнок издала такой стон, который я и в постели-то не слышал, и я понял, что угодил, прощён, а Валесса Азиз забыта на веки вечные.
Я перевернул купаты на другой бок. И мы выпили ещё по «Кровавой Мэри», посмотрели друг друга в глаза и едва не произнесли: «Ну их к чёрту, эти купаты!» с тем, чтобы отправиться в постель или в кресло с высокой спинкой и заняться этой самой «рюмочкой». Однако я выложил купаты на большую тарелку, полил их ткемалевым соусом и подал на барную стойку.
Инна-жеребёнок забралась на барный стул, демонстрируя коленки самой прекрасной формы.
— Ты чародей… — едва ворочала языком она, запихивая в рот купату и половину французского батона. — Ты умеешь делать всё, что мне нравится… боже…
Ещё бы, самодовольно думал я, готовя ещё одну порцию «Кровавой Мэри». В голове же всё время крутилась мысль, договорились они, или нет, имея ввиду Аллу Потёмкину и Андрея Годунцова. Если договорились, то Алла Потёмкина не та, за которую себя выдаёт, и пора уносить ноги, а если не договорились, то я ещё в большом смущении и снимаю шляпу перед её способностью ломать мужчин, и тоже пора менять этот сытый, уютный мир на жёсткий окопный, потому что женщин с сильным характером я не переваривал и в прошлой жизни и они не казались мне с тех пор небожительницами.
— Я не ела весь день, — призналась жеребёнок, переводя дыхание, — я уже на седьмом небе от счастья!
— То-то ещё будет! — пообещал я.
Потом мы отправились в спальню, и я был активной стороной, а жеребёнок отзывалась после некоторой паузы, потом мы ели прямо в постели шоколадный торт и запивали «сотерном», потом снова любили друг друга, и были счастливы, как могут быть счастливы два человека, знакомые два дня.
Я представлял жеребёнка в качестве Валесса Азиз, в этой связи Инна-жеребёнок проигрывала, но выигрывала как Валесса Азиз, и наоборот.
О букете роз, оставленном у администратора «Метрополиса», мы в ту ночь так и не вспомнили.
* * *
— Что ты сделал с Кокоткиной? — спросила Алла Потёмкина утром следующего дня; в её глазах плавала блистательная смешинка.
Сегодня Алла Потёмкина была прекрасней, чем прежде, похожая на свежий цветок лотоса, в свободных брюках «женское-галифе» чёрного цвета и в зауженном розовом пиджаке с высокой талией. Волосы у неё уже немного отросли, и она их уже зачёсывала направо. Пахло от неё тоже соответствующе — тонко и изыскано, а лицо чрезвычайно правильной формы говорило о том, что мир по сравнению с ним крайне несовершенен. Впрочем, то же самое я думал и о своей жене — Наташке Крыловой, пока не потерпел фиаско.
— С кем? — я притворился овечкой. — С Верой Кокоткиной?
Я подзабыл, кто это такая. Слишком много событий произошло за сутки. Голова шла кругом; кроме этого в ней, как старая пластинка, раз за разом крутилась «Девушка из Нагасаки», пока не превратилась в заезженную нейро-мелодию, и я никак не мог от неё отделаться.
— С Верой Кокоткиной, — многозначительно хмыкнула Алла Потёмкина, и её чудесные тёмно-синие глаза уставились на меня, как два прожектора в ночи, давай, мол, колись, нечего ломаться.
Казалось, она раскусила меня с полуслова, с полунамёка, вообще, давным-давно, ещё у Репиных, но решила ущипнуть, как истая женщина, мол, я тебя предупредила, а дальше как знаешь. Бог его ведает, что творилось в её милой головке. Неужели она приревновала меня к Кокоткиной? Хотя, конечно, Кокоткина того стоила и даже, может, большего, но не была самоцелью. Слишком много этих самоцелей бродило по городу, и только чувство самосохранения удерживало меня от разобщения с самим собой.
— Ничего. Я её пальцем не тронул, — свалял я дурака с серьёзным видом, однако, не настолько, чтобы казаться затурканным воякой.
— То-то и оно, — с многозначительным укором заметила Алла Потёмкина. — Она сегодня с утра никак до рабочего места не доберётся.
Это было полуправдой, потому что Вера Кокоткина уже успела сварить мне прекрасный кофе, а потом, должно быть, поскакала по этажам хвастаться. Поэтому я не понял, то ли Алла Потёмкина намекала на себя, то есть на моё невнимание к ней, то ли я Вере Кокоткиной мало дал. Может, я ошибся в тамошних расценках?
Я вопросительно уставился на Аллу Потёмкину, склонив голову набок.
— Постриглась налысо?.. — и снова ушёл от ответа, помня, что заказал блондинку и что Кокоткина исполнила заказ на все сто процентов, сделав косое каре с длинной чёлкой, которая прекрасно гармонировала с её весёлым, задорный носиком и чёрными, воспалёнными страстью глазами.
— Если бы! — мило, по-девичьи хихикнула Алла Потёмкина и поглядела, словно пронизывая рентгеновскими лучами. — Так у меня полфирмы сбежит в салоны красоты.
Она не могла себе позволить того, что позволяла себе Вера Кокоткина, легкомыслия и свободного секса, она была трезвомыслящей и серьёзной, оттого и упрекала. Положение и должность обязывали, хотя абсолютно не гармонировал с её кричащей внешностью. Я бы такую жену даже за порог дома не пустил, хотя моя Наташка делала всё, что ей заблагорассудится, и спорить с ней было самым бесполезным занятием в мире.
— А-а-а… — понял я с ухмылкой, — вон в чём дело…
— Я что, похожа на ту, которая убивает время на пижамных вечеринках?! — обрила она меня.
— Нет, — на всякий случай смутился я. — А что это такое?
Я догадался — что-то легкомысленное, бравурное, имеющее отношение к богатым бездельникам, у которых куры деньги не клюют.
— Неважно, — уклонилась она от ответа с холодком в голосе. — Я не против красивых сотрудниц, — но ты разбалуешь мне женскую часть коллектива, и мне придётся кого-нибудь уволить.
Она показалась старше своих лет, и взгляд её был очень и очень серьёзным; но я-то знал его другим. Что нужно мужчине в женщине? Интеллект? В конечном итоге вряд ли, своего хватает. Красота? Не исключено. Лично мне больше всего нравилась душевная теплота. Тот редкий дар, который или есть, или отсутствует напрочь. В Наташе Крылове этот дар был, но она его не культивировала. Есть ли он в Алле Потёмкиной, я не знал. Пока она демонстрировала до предела жёсткий рассудок. Этот вариант меня пугал. Может быть, таким образом она стопроцентно контролировала ситуацию, я не знал, но намеревался на свой страх и риск проверить.
— Я больше не буду, — отшутился я и вспомнил ещё, что моя жена никогда не чувствовала за собой вины и каждый раз начинала с чистого листа. Может, это общая чёрта всех настоящих женщин? Одно время я ломал над этим голову, но так и не пришёл ни к каким выводам, у меня было слишком мало статистики.
— Ну и слава богу, — тоже шутливо вздохнула Алла Потёмкина, незаметно глянув на себя зеркало и находя, что она нисколько не хуже Веры Кокоткиной, а может, даже и лучше, потому что тёмной масти, а ещё с фирменными, голодными скулами. — Теперь о деле. Утром я была в прокуратуре и написала заявление.
— Не договорились? — испытал я облегчение оттого, что можно было повременить с увольнением.
Она сразу выросла в моих глазах до размеров богини на сияющем Олимпе. Только этой богине было не больше двадцати семи лет, а Андрей Годунцов был старше меня лет на десять. Как она в одиночку справилась с ним, одному богу известно. Вот этот вопросик и остался во мне, и я никак не мог его решить, пораженный в самую печень, и посему осторожничал без меры, помня, что всё непредсказуемо, зыбко и переменчиво, как московская погода.
— Естественно! — закатила она глаза, показывая, что это только цветочки. — Он мне столько крови попортил! Упускать такого шанса было нельзя!
Я вдруг заподозрил, что она всё знает о Инне-жеребёнке, только притворяется несведущей, и почувствовал себя крайне неловко.
— Представляю, — поддакнул я, выигрывая для души передышку, чтобы она не расплавилась от стыда и укора. — И что теперь будет?
Но она, к моему облегчению, продолжила совсем о другом.
— Теперь надо опасаться всего, чего угодно. Годунцов — великий пакостник. Будь осторожен, хотя… я думаю, он тебя не тронет. Ты, скорее всего, выступишь как свидетель. Ты же нашёл склад?
Странно, но в ней было нечто такое, чего я раньше не замечал, даже не железный характер, что было естественно в её положении, а то, что в обычной жизни, не различаешь, словно она знала то, чего не знают многие из нас, и в этом плане страшно походила на мою жену, как два червонца с Лениным советского периода.
— Ну да, — подтвердил я, ещё не понимая, к чему она клонит.
— Лера Алексеевна, наш юрист и два бухгалтера прямо с утра поехали в Красногорск. Аптеку закрыли для ревизии. Ты там не нужен. А теперь о главном… — она так посмотрела на меня, что сердце моё противно ёкнуло. — Вчера звонил Испанов, просил, чтобы ты с ним связался.
— Режиссёр? — с облегчением уточнил я, словно забыл о нём, хотя, конечно, о таком не забывается.
Я догадывался, почему мне так повезло: где-то там, куда человеку заглядывать не позволено, до сих пор компенсировали все мои потери, о которых я старался забыть, и кредит, оказывается, ещё не исчерпан. В общем, мне пёрло по инерции, и я боялся сглазить удачу, поэтому на всякий случай скрестил за спиной пальцы.
— Роман Георгиевич, — подтвердила она со смешком, заметив мой манёвр. — Он никогда просто так не беспокоит. Мне кажется, он что-то тебе хочет предложить, — добавила она многозначительно, продиктовал номер, и я трясущимися руками набрал его.
— Михаил Юрьевич! — обрадовался Испанов. — Вы-то мне и нужны. — И с места в карьер. — Мы решили экранизировать ваш роман об Андрее Панине!
Позднее я неоднократно слышал от него эту его фразу «вы-то мне и нужны», обращённую к совершенно разным людям, и понял, что так выражается его природный дар обаять и владеть душой собеседника. Но в тот момент я был чрезвычайно польщен, я подумал, что именно я, а никто другой нужен ему. Это крайне подкупало и обязывало.
— Я не против. — Я услышал, как учащённо бьется моё сердце, а на ладонях выступает пот, и подумав, что так можно получить инфаркт. — Но он ещё не издан? И непонятно, будет издан или нет, — пробормотал я в полном смущении.
Потом я понял, что для Москвы это не подходит, надо делать хорошую мину даже при очень неудачном раскладе судьбы и бодро улыбаться, даже если у тебя мокрые штаны и прорехи в карманах, иначе обойдут на повороте. Слишком велика конкуренция, слишком циничны противники и слишком большие ставки.
— Это не играет роли! — безапелляционно заверил он мне, намекая на знание тайных механизмов издательских отношений. — Поверьте, издадут!
Признаться, я не поверил: бессмысленно пытаться влезть в бутылочное горлышко, когда наравне с тобой то же самое пытаются сделать сотни тысяч человек.
— Погодите, погодите! — сообразил я. — А как он у вас оказался?
Я действительно никому его не показывал, кроме четырёх издательств; в одном, ледниковом, «Время», мне сразу дали от ворот поворот, заявив, что они не в силах переваривать ничего подобного, три оставшиеся всё ещё тянули резину, явно водя меня за нос. Впрочем, гадать было бессмысленно, пути господни неисповедимы, как впрочем, и издателя, тем более, что их не больше, чем пальцев на одной руке, и очередь в бутылочное горлышко — «РЕШ», тянулась аж от Нью-Йорка. Шансов не было никаких, предпочтение отдавалось московской клановости, иудейским протекциям и кондовому либерализму; рукописи самотёком если и принимались, то это было сплошной профанацией, считались, что Москва самодостаточна и что только в ней могут жить самые из самых талантливых писателей, поэтому все остальные могут плыть туда, куда течёт река времени, то есть в забвение. Но самое главное: человек, который пишет книги, с их точки зрения не существует.
— Так что приезжайте, подпишем договор и начнём работать! — по-свойски сообщил Испанов.
Я обескуражено опустил руки — жизнь не оставила попыток не мытьём, так катаньем удивить меня, и это тоже была Москва. Алла Потёмкина, приплясывая, показывала мне большой палец. Глаза у неё горели таким адским огнём, что я усомнился в своей здравости: неужели, действительно, всё так хорошо и пора отбросить прошлое, как ящерица хвост, чтобы забыться в настоящем? «Хватит осторожничать, — кричала она мне, — я всё просчитала! Вперёд! Вперёд!»; а я всё ещё сомневался, помня, что осколки прилетают непредсказуемо, в самый неподходящий момент.
— Куда прибыть? — спросил я так, словно меня вначале огрели обухом, а потом дали понюхать ватку с нашатырём.
Он назвал адрес «Мосфильма» и в конце добавил:
— Большой привет Алле Сергеевне, чмокните её в щёчку, ибо ваш успех — это добрая половина её заслуг!
— Спасибо… — ответил я обескуражено и вопросительно уставился на Аллу Потёмкину: вид у меня, должно быть, был очумелый.
Однако она и бровью не повела, даже не смутилась, словно утверждаясь в своей эмансипации: «А я что говорила!..»
— Ну чего стоишь? — спросила она вдруг с хрипотцой. — Целуй… заслужила… — и подставила щеку с гладкой, загорелой кожей.
Я сделал шаг, наклонился и поцеловал её несколько замедленно для дружеского поцелуя, но слишком быстро — для любовного; и ощутил себя неблагодарной скотиной, которая погрязла в собственной эгоизме и не видит дальше собственного носа. Странное ощущение предтечи охватило меня. Я и не знал, что думать, однако, всё равно не верил Алле Потёмкиной. Водит за нос, думал я, знаю я вас, женщин.
— Погоди, — очнулся я, — это твоих рук дело?
— Разумеется, нет, — живо отреклась она, тряхнув для убедительности прекрасной головкой. — Но роман же хорош? — упрекнула непонятно в чём. — Хорош!
Так говорят с чужих слов, не имея собственного мнения. Она не читала роман, зато его читали Репины. Валентин по ходу давал мне советы относительно московской и киношной жизни. Низкий иезуитский поклон ему!
— Ладно, — сказал я и подумал, что если роман ещё и издадут, да в редакции «РЕШ», которая является ловцом душ и законодателем моды, то до конца месяца просыхать не буду, а месяц только начался.
Я был наивен и не знал, что «РЕШ» — это либеральная свора, которая занимается политикой, и к чистой литературе, то бишь дзюнбунгаку, никакого отношения не имеет.
— Когда вернёшься, заходи, отпразднуем, — сказала она, мучительно избегая моего вопросительного взгляда. — Такое случается раз в жизни. — Отступила, и всё пропало, очарование исчезло, осталась красивая женщина, знающая себе цену и не утруждающая ничегошеньки объяснить.
Я понял, что грежу наяву, что она боится сближения едва ли не больше, чем я. А ещё я понял, что когда женщина хочет выйти замуж, то прикидывается божьей овечкой. Был у меня такой печальный опыт. Мужчины цепляются к женщинам по инерции, ведь в жизни больше ничего стоящего нет, кроме литературы, естественно; я давно ходил по этой дорожке и не хотел быть, как все, поэтому раз по десять на дню проверял почту — издательства, как воды в рот набрали. Может, они вчитываются? — гадал я.
— Возьми мою машину, — сказала она, по-мальчишески задорно подмигнув мне. — Я сейчас позвоню, и езжай с богом!
И я понял, что она хочет, чтобы я подъехал с шиком, чтобы мне знали цену.
* * *
Оказывается, что Вадим Куприн отлично знал, где и когда возникают пробки, крутил по малознакомым проездам, и мы всего лишь один раз увидели хвост девятибалльной пробки на Сетуньском проезде, свернули на Воробьевское шоссе в старый район, где витрины напоминали о послевоенных пятидесятых, а «хрущёвки» походили друг на друга, как грибы, и через десять минут оказались на «Мосфильме».
Меня уже ждали. Скромный, молчаливый человек в дешёвом костюме назвал мою фамилию, без всяких условностей провёл через турникет, мимо угрюмой охраны, и молча поднялся со мной в лифте на четвёртый этаж. Ещё пару шагов в полутёмном коридоре, и я имел честь лицезреть Романа Георгиевича.
Он мелко затрясся, начиная свою очередную скоморошную фразу.
— Я ни в чём не виноват! — выскочил из-за стола, как курица, которую помял петух. — Писать надо хуже!
При этом он приплясывал, хихикал и подмигивал, как старом знакомому. Горб за его спиной казался воинственным петушиным гребешком.
— В смысле?! — даже отступил я, чувствуя себя полным идиотом, не понимая, то ли это извечное поведение мэтра, то ли я воспринят в виде исключения.
— Уж слишком хорош роман! Слишком! — завёл он хоралы. — Я не мог устоять! Не мог! Сам виноват! Местами напоминает «Улицу тёмных лавочек и подворотен».
Интонационная проза, анапест — великая вещь, обрадовался я, как школьник, и одновременно крайне удивился, потому что у Патрика Модиано там совсем другая идея и другая манера, к тому же это перевод, ну да Роману Георгиевичу виднее, на то он и мэтр. Но Роман Георгиевич так честно глядел мне в глаза, что я поверил его лести.
— Кстати… познакомься, — сказал он, плавно переходя на «ты». — Фёдор Соляников собственной персоной.
Конечно, же я его сразу узнал. Как можно было не узнать лысую голову и татарские скулы.
Мы пожали друг другу руки, и я понял, что весь этот спектакль затеян ради того, чтобы произвести на него впечатление.
— Я рекомендовал Фёдору твой роман о диверсантах в Киеве, но он пока думает. Так ведь?! — встряхнул гребешком Роман Георгиевич.
— Так, — не дрогнув ни единым мускулом, согласился Фёдор Соляников. — Но у меня сейчас в деле четыре проекта. — Сердечно пояснил он. — Я физически не успеваю, я сейчас боевой фантастикой занимаюсь. Она нынче в моде. Но ваш роман я обязательно прочитаю, возможно, там что-то есть, хотя я стараюсь политикой не заниматься, но чем чёрт не шутит, а вдруг?
Я едва не возразил, что из-за этой чёртовой политики в Донбассе идёт война, а не пирожки с маком пекутся, но сдержался. И вообще, мне он не очень понравился, потому что не глядел с удивлением, как Роман Георгиевич, мол, откуда ты такой выскочил, а был в меру сдержан и снова мне напомнил, что я провинциал и стучусь в глухие столичные ворота за семью замками.
— Тогда за знакомство! — Роман Георгиевич извлёк из закромов армянский коньячок, мы выпили, и Фёдор Соляников заторопился, словно, действительно, куда-то спешил.
— Ваши координаты у меня ваши есть, если что… если что, — повторил он на тональность выше, — я вам позвоню.
— Спасибо, — сказал я, понимая, что Соляников не позвонит, что он пришёл сюда исключительно из уважения к Испанову.
И он удалился.
— Позвонит он, как же! — прокомментировал Испанов. — Ты его не ругай!
И даже его знаменитый горб порицал без меры.
— Кого? — Оглянулся я вслед Соляникову.
— Валентина! — раскрыл мне карты Роман Георгиевич, глаза у него забегали, а вид был крайне смущённым, что абсолютно не шло его величию. — Это я настоял, из-за рассказов Аллы Сергеевны, — объяснил он, — дать почитать мне ваш роман. Уж больно много суеты в прессе.
Разумеется, это было преувеличением, если, вообще, не злой шуткой. В фейсбуке о нём воды в рот набрали в ожидании реакции «РЕШ». Там пропагандировали третий сорт, а третий сорт — ещё не брак, из него ещё можно сделать яснополянскую конфетку.
— Зоечка! — крикнул Роман Георгиевич. — Несите договор!
Я почитал договор для проформы, полагая, что уж Испанов не подведёт. Запнулся разве что на сумме гонорара, даже посчитал количество нулей, чтобы не обмишуриться.
— Вы не ошиблись?
— Нет, — простодушно поморгал Испанов, даже вместе со мной посчитал количество нулей. — Мы за вас налоги заплатили, — извинился он.
— Очень великодушно, — признался я и спросил. — А в чём подвох?
Роман Георгиевич сделал круглые глаза. Его гениальный нос стал возмущенно набухать, как монтажная пена.
— Подписывай, иначе я поставлю запятую!
Они что, сговорились, подумал я об Алле Потёмкиной.
— Нет, не надо!
— Может, хочешь почитать на досуге? — ещё поиздевался Роман Георгиевич.
Я подумал, что, наверное, делаю ошибку, но подмахнул, плюнув на свою мнительность, которая говорила: «Изучи документ въедливо, во избежание подводных течений». Мне всё ещё пёрло, как никогда в жизни, я даже не стал скрещивать пальцы.
Пришла бухгалтер, с бюстом и глазами, как у Софии Лорен, с любопытством посмотрела на меня, как если бы я был рептилоидом, и если бы не рамки приличия, я думаю, она бы потрогала чешуйки кожи на моём лице, забрала договор, прижала его к своей необъятной груди и с готовностью заверила:
— Роман Георгиевич, сейчас всё сделаем!
Я вопросительно уставился на Испанова — вот он подвох!
— Всю сумму сразу и беспрекословно, — нахально объяснил он, чтобы развенчать все мои подозрения, и разлил армянский коньячок.
Должно быть, у него дюже много денег на его кино, раз и он так шикует, подумал я.
Мы выпили; я не почувствовал ни крепости, ни вкуса.
— Звони! — потребовал он хитро, как Хаджа Насреддин, протягивающий руку утопающему кази.
— Куда?..
— Как, «куда»? — переспросил он с сарказмом. — В свой банк! — проквакал, как радостная лягушка из болота.
Я позвонил в «Тинькофф Банк» и назвал номер счёта, а также кодовое слово. Прошло не более полуминуты, прежде чем голос в айфоне сообщил:
— На ваш счёт, пришла сумма. — Он назвал её. — Отправитель ФГУП «Киноконцерн «Мосфильм»».
Он ещё добавил какие-то слова про какое-то там производство и даже студию, но мне было достаточно слова «Мосфильм»
— Спасибо, — остолбенел я и почувствовал себя рублёвым миллионером.
Не обманул, чёрт!
— Может быть, ты и сценарий напишешь? — принялся приставать Роман Георгиевич, уже откровенно юродствуя.
Я заторможено обещал подумать. Перед глазами стоял лёгкий туман, жизнь предстала в розовом свете. В голову вертелась фраза: «Везёт же идиотам!»
— Только недолго, — ласково предупредил меня Роман Георгиевич, провожая к двери.
Я признался, как перед богом, что ни разу не писал сценариев. Он снисходительно замахал на меня, как на прокажённого, мол, не притворяйся, не притворяйся, уж с такой-то ерундой ты справишься одного левой.
— Выход найдёшь? — спросил участливо, как отец заблудшего сына.
— Найду… — сомнамбулом отозвался я и ушёл, чтобы легкомысленно заплутать в коридорах «Мосфильма», пока какой-то сердобольный человек не показал мне дорогу.
Мне продолжало переть, я плевался через левое плечо и шарахался от чёрных кошек.
* * *
Когда мы ехали назад, я спросил у Вадима Куприна:
— Где здесь ближайший дилерский салон?
— На Варшавском или на Каширском «Техинком», — сообщил он со знанием дела.
Мне хотелось шикануть сразу и без промедления. А ещё мне хотелось проверить свой счёт — вдруг меня каким-то чудесным образом разыграли и теперь радостно потирают руки и хохочут вместе со своим горбом.
— Поехали, куда ближе.
Автосалон до удивления оказался маленьким и тесным. В нём впритык стояло пять или шесть машин. За толстым стеклом сидели дилеры, вид у них был загнанным, видно, клиенты укатали. Я обратился к тому из них, который занимался «УАЗами».
Мне приглянулся «патриот» цвета коричневый металлик, хотя дилер Саша, поняв, что у меня есть деньги, настырно уговаривал посмотреть на белый «лексус» или оранжевый «мерседес», мол, у них октановое число выше. Но я сразу и безоговорочно захотел «патриота», нравилась мне эта машина, чёрт возьми!
— Выберете самую последнюю модель, — подсказал мне Вадим Куприн, который пошёл со мной в качестве консультанта.
По ему лицу было видно, что он не ободряет мой выбор, но начальству виднее.
— Да, — согласился я, — самую последнюю и самую навороченную.
Я хотел путешествовать, а не ездить на работу.
— С навигационной системой и кожаными креслами? — спросил дилер Саша.
Я оглянулся на Вадима Куприна.
— С навигацией и с тёмным велюром, — подсказал он шёпотом.
Я повторил его фразу слово в слово.
— С лебёдкой?
Я снова посмотрел на Вадима Куприна. Он кивнул.
— Да, — сказал я как попка, — с лебёдкой, расположенной за номером, чтобы ГАИ не придралось.
— Со шноркелем?
— Да, — уже самостоятельно подтвердил я и заказал ещё пороги, задний и передний бамперы, а также устройство для подъема за колесо.
В общем, всё, что предложил мне дилер Саша в рекламной проспекте; не без волнения произвёл предоплату, дождался, пока на экрана айфоне не появится сообщение «ваша платёж произведён», и получил от дилер Саша письменное заверения, что мне позвонят через три недели.
— Как только…
— В смысле?..
— Как только доставят к нам к салон, — твёрдо сказал дилер Саша.
Наверное, у него была такая установка — говорить твёрдо, с убеждением. Что делать? Я поверил.
— А почему велюр? — спросил я у Вадима Куприна, когда мы вышли в морозный полдень.
— А потому что моему приятелю вместо кожи подсунули кожзаменитель, а он липнет.
— А велюр?
Мне было простительно задавать такие вопросы, я был дилетантом, насмотревшимся передачи «махинаторы».
— А велюр не липнет и ему сноса нет, — со знанием дела ответил Вадим Куприн.
— Спасибо, — удивился я таким тонкостям.
Приятно было ощущать себя богатым человеком, теперь можно было делать операцию по изыманию колючего осколка из лёгких, и я подумал, что даже если роман об Андрее Панине не издадут, то ничего страшного не произойдёт, Испанов поставит фильм, и я всё равно прославлюсь. Эта мысль тихонько, как печка-буржуйка, грела мою душу последний полчаса.
При въезде на Балаклавский проспект Вадим Куприн притормозил, чтобы вписаться в поворот, и тут я услышал тот знакомый звук, который слышал так часто, что он сделался для меня синоним атаки укрофашистов, по команде этим звуком наполнялись все окрестные окопы. Я бы услышал его даже сквозь завывание метели и раскаты камнепада, даже спросонья, в момент любовных утех и с глубокого похмелья, настолько он въелся в моё мозг — этот звук передёргивания затвора АКМ, краем глаза увидел, как из окна соседней машины высовывается дуло автомата, и с криком: «Ложись!» упал между сиденьями.
Раздался такой грохот, словно надо мной пролетел вертолёт. Я даже не потерял сознание. Просто было много крови, и когда меня вытащили, женский голос истерически ахнул: «И этот готов!»
Прежде чем меня засунули в «скорую помощь», я увидел «бьюик» в многочисленных дырках, склоненную на руль голову Вадима Куприна и забрызганное кровью переднее стекло, которое походило на решето в трещинах.
* * *
Боли я не боялся, конечно, если оторвёт ногу или руку, другое дело. Но к обычной боли я привык и знал свой предел. Однако в «скорой помощи» мне всё равно что-то вкололи, а в операционной добавили, и я радостный брёл по цветочному лугу, а под ногами тёк ручей, и мне было хорошо, словно я, как мазохист, выпил стакан текилы без соли.
Первое, что я увидел, когда разлепил веки, было её лицо. Оно было прекрасным: тонким, печальным, заплаканным и сморщенным одновременно, но самое главное, почему-то родным, как будто меня подменили, как будто я враз забыл все свои установки или они сделались незначительными перед её горем. Она вытирала глаза платком, и тушь текла по щекам.
Я хотел спросить, почему она плачет, вспомнил, кто из нас ранен, и сразу всё заболело и потянуло, особенно слева. В общем, я обрадовался. Мне захотелось похвалиться, что я ещё раз выкарабкался, но вместо этого попросил пить, хотя моя просьба больше походила на стон.
Она радостно спохватилась, смочила мне губы лимоном, и я облизнулся.
— Ну слава богу, — склонилась она для сестринского поцелуя, — ты меня до смерти напугал.
И у меня было такое ощущение, что этот её поцелуй достался мне, как приз, и впервые за два года я почувствовал себя человеком, которому не надо бежать в атаку даже во сне.
— Что со мной? — спросил я.
— В тебя стреляли, приняв за меня, — сказала она так, словно была страшно виновата, в глазах даже появился испуг. — Всё дело в шапках, у нас ужасно похожие шапки.
И тут я всё вспомнил: и вертолётный грохот, и мёртвого Вадима Куприна, уткнувшегося лицом в руль. Я хотел расспросить подробно, но прибежали врач с медсестрой, и Аллу Потёмкину выдворили из палаты. Оказалось, что я ранен относительно легко. «Всего каких-нибудь шестнадцать пуль, как в Сараево, но все по касательной! — успокоил меня врач. — Так что через две-три недели будете плясать». Я вспомнил, что там их было всего-то семь.
Потом я узнал, что мне наложили тридцать три шва и что рука и мой многострадальный левый бок похожи на многократно перепаханную грядку.
— Вы потеряли много крови. Но вам повезло! — многозначительно добавил врач.
В чём именно, я понял немного погодя. Алла Потёмкина вернулась сразу же, как только мне поставили капельницу и сделали полдюжины уколов. Время она зря не теряла, а привела себя в порядок и выглядела отменно, больше ни один мускул не дрогнул на её прекрасном лице. И я понял, что всё, что она сказала в запале, не имеет никакого значения, что между нами прежние, ровные, хотя и очень странные отношения, и что она ко мне расположена и, быть может, даже любит, но почему-то выжидает, ни на что не намекая, разве что глазами, но это мог быть мой самообман, поэтому я ни на что не надеялся.
Оказалось, что мне повезло дважды: первый раз в том, что мимо проезжала карета «скорой помощи», которая никуда не спешила, второй — киллеров схватили сразу же за развязкой экипаж ППС, который тоже, к счастью оказался рядом.
— Их нанял Андрей Годунцов! Он в бегах!
— Ну слава богу, — сказал я, всё ещё глядя на её призывные губы, умело подведенные по контуру карандашом.
— А ты герой!
Ещё никогда я не видел таких счастливых глаз, разве что у моей жены в момент бракосочетания, когда она добилась своего, как оказалось — права управлять и указать.
— А Куприн? — удивился я, помня его мёртвое лицо.
— Куприн?.. — переспросила она с удивлением, и в глазах у неё промелькнул вопрос: «Какой Куприн?» — Мы подумали с Радием Мариновичем и пришли к выводу, что кроме Куприна, никто не мог сообщить Годунцову о складе. Поэтому Годунцов и поспешил. О моём посещении прокуратуры он тоже не мог знать. Значит, остаётся Куприн. Но доказательств нет, пока не поймают Годунцова.
— А Лера Плаксина? — вырвалось у меня.
— Мы тоже думали о ней. Но у неё нет мотиваций.
И всё-таки её голос прозвучал неуверенно. Позже я узнал, почему.
— Кроме мести, — напомнил я.
Я ещё тогда много не понимал, и для меня Лера Плаксина была просто красивой стареющей женщиной себе на уме.
— Но с моей смертью она ничего не выиграла бы? — странно посмотрела на меня Алла Потёмкина.
— Кроме мести, — снова сказал я.
— Брось… — посмотрела она на меня отрешённо, очевидно, поколебавшись в своём мнении.
— А с моей? — спросил я.
— А с твоей тем более, сказала она, и я понял, что этом случае у Леры Плаксиной не то что не было бы ни единого шанса остаться на свободе, а можно было заранее сушить сухари и прямиком отправляться на нары.
— Ты плохо знаешь женщин, — всё же возразил я, полагая, что всё дело в психологии.
Алла Потёмкина так засмеялась, что мне стало легче дышать, однако, смеялась она над моей наивностью, хотя я и не подозревал об этом. Через пару месяцев я разобрался, в чем дело. А пока она засмеялась, и я вздрогнул, нет, не от боли, а оттого, что второй раз почувствовал предтечу чего большёго, зрелой любви, что ли? Так бывает в жизни, ты уже перестал ждать и надеяться, а потом это происходит, и ты корчишься, словно в тебя попала пуля, и думаешь, каким же ты был ослом.
— Лера Алексеевна, конечно, ещё та сучка, — сказала Алла Потёмкина странным голосом, словно что-то припоминая, — но с некоторых пор она изменилась и на подлость такого масштаба уже не способна. Да и времени у неё не было. Нет, это Андрей Годунцов!
— Поймают? — вздохнул я с облегчением.
— А куда он денется. В бегах, знаешь, тоже несладко. — Будто она знала, что такое быть в бегах, даже я не знал. — Нашли вторую бухгалтерию. Приходько даёт признательные показания, — сказала Алла Потёмкина.
Прибежали взволнованные Репины, принесли холодных апельсинов. Явился Радий Каранда с фляжкой прекрасного коньяка; и пока мы его распивали и закусывали цитрусовыми, сообщил, что нашёл в рабочем шкафчике у Вадима Куприна сто сорок тысяч евро.
— Спрятать не успел, — многозначительно кивнул Радий Каранда.
Позвонил даже Роман Георгиевич Испанов и сказал, чтобы я не спешил со сценарием, а выздоравливал, и что они пока заняты отбором актёров.
Когда все наговорились и выпили весь коньяк, у меня кончилась батарейка, я страшно устал, закрыл глаза и сказал, что хочу спать. Меня расцеловали во все щёки, потискали от счастья, и я провалился в сон. Мне приснился Калинин с оторванной кистью.
Глава 5. Калинин. Алла Потёмкина
Десятого ноября, когда листва облетела и всё вокруг стало звенящим, голым и прозрачным, Ефрем Набатников нашёл меня в помещение шахтной котельной, где я пытался что-то сочинить на планшете, и спросил, словно кинув спасительный круг:
— С группой сходишь?..
Я посмотрел на белый, холодный свет, который струился из окна без рамы и спросил:
— А автомат дашь?!
Мне было наплевать, что он обо мне думает, и он знал это. Вопрос заключался в том, долго ли он ещё будет меня терпеть. Наверное, долго, самообладание у него было отменное. А после Славянска, после должности заместитель министра обороны, он вообще стал героем, распушил усы, женщины слетались на них, как бабочки, на огонь, и он был счастлив, как мартовский кот.
— Зачем тебе автомат? — по-деловому спросил Ефрем Набатников, косясь, словно марабу на лягушку.
— Застрелиться, — буркнул я, тупо переводя взгляд на пустой экран.
После изваринского котла я два месяца не мог выдавить из себя ни строчки, хоть, действительно, возьми и застрелись. Борис Сапожков был в тихой ярости, но вынужден был помалкивать. Фактически, он сослал меня сюда, чтобы я был на глазах у соглядатая — Ефрема Набатникова, и дома от тоски и безысходности не полез бы петлю. Среди людей окраин Донецка, у каждого третьего из которых кто-то погиб, не принято было выставлять свои чувства на показ.
Ефрем Набатников обошёл мою реплику молчанием.
— Иди… там тебя ждут.
Я взял редакторский «никон» и вышел. Мне было всё равно, куда топать и что делать. Перед глазами стояла Наташка Крылова. Она махала мне из нашего окна на втором этаже. Каждый раз, когда я куда-то уходил, она провожала меня таким образом, но даже этот обряд, наполненный глубоким смыслом и сильными чувствами, не спас наш брак и в конечном итоге, в качестве иллюзии, разрушил нашу жизнь. Всё было предопределенно, но понял я это гораздо позже, после того, как она погибла.
Я перешёл дорогу и спустился по откосу. Они сидели на снарядных ящиках, грызли сухую колбасу, запивая её ситро. Был у них такой ритуал — общее поедание колбасы перед делом. Все молча покосились на меня — «штабной в отряде — скверная примета», но промолчали, один Грибакин, позывной Гриб, сказал:
— Привет! — Но так, что лучше бы промолчал, то есть с тем значением, когда намекают, что твоё горе не такое уж горькое среди прочих смертей и разрушений, и вообще, катился бы ты отсюда подальше, писака.
Он был из Семёновки, что под Саур-Могилой, у него погибла вся семья, и он одно время был смертником, но выжил, не получив и царапины, даже контужен не было, хотя лез во все переделки и искал смерти. Я уважал его за это, но не уважал за то, что он не уважал меня.
— Дай ему бронник, — приказал Калинин и с пренебрежением отвернулся, мол, навязали на мою шею.
Я сдержался, вспомнив, что нельзя выпускать зверя, дремавшего во мне. После смерти жены, Вари и трёх командировок на фронт, я готов был убить любого, кто скажет мне хоть слово поперёк. Они ощущали мою злость и словно невзначай подразнивали, но крайне осторожно, с оглядкой на мой рост и кулаки.
Алеш Мерсиянов с позывным Чех снисходительно слез, и я забрал из-под его задницы ещё тёплый бронник. Бронник был тяжёлым, и я делался в нём неповоротливым, как фонарный столб.
Чех был настоящим чехом, только из Кипра. В донецкой земле у него лежал брат, с которым он приехал сразу после событий в Одессе.
— Может, не надо?.. — спросил я, держа эту тяжесть в руке и с осуждением глядя на Калинина с его рыжим чубом и демонстративно пофигистстким взглядом белых глаз.
А вот откуда Калинин, я не знал, но подозревал, что из России, с Урала, потому что рассказывал только о нём, о реках по которым ходил, о горах, по которым лазил. По его словам, нет лучше ухи, чем из хариуса, и нет ничего прекрасней, чем рассвет над рекой Белой.
К его глазам я так и не смог привыкнуть и всякий раз отводил взгляд, чтобы не ударить в ответ. Он, видно, чувствовал мою нехорошесть и особенно не злоупотреблял, полагая, что журналист сам отпадёт, понюхав пороха.
— Приказы не обсуждаются, — равнодушно заметил он, как огородному пугалу, то есть насмешливо, в том смысле, что я, кроме как пугать ворон, больше ни на что не гожусь. — Колбасу будешь? — сделал снисхождение, протянул мне палку «краковской».
У Алеша Мерсиянова справа на шее была наколка по-русски: «Прости, господи, за слёзы матери». Я сел поодаль и принялся есть, не замечая вкуса. Они не знали, что я участвовал в боях под Лисичанском, я никому не рассказывал, даже Ефрему Набатникову, хотя в то время он ещё был мои другом. А боях под Саур-Могилой я значился корреспондентом семёновского батальона, и ранение моё считалось случайным, то бишь это не я бегал по полям и весям с пулемётом в том числе и с тяжеленным «Утёсом», позыченным у бандеровцев, и в атаки не ходил, и Семёновку на зачищал, и адреналином не захлёбывался, и ногти себе не срывал, второпях роя себе ямку под акацией. Хотя что правда то правда: в те дни, к величайшему неудовольствию Бориса Сапожкова, я мало писал, а снимал ещё меньше, не до того было. Наверное, это был инстинкт жаждущего выжить, а ещё страстное желание отомстить за нашу снайпершу Лето; и все чувства о справедливости жизни давно ушли на задний план.
Калинин сказал, глядя в сторону:
— Мы идём на сутки. Возьми спальник и коврик.
Я пошёл в котельную и взял свой рюкзак. В нём лежало всё необходимое. Оставшуюся колбасу я сунул туда же. Голова у меня ещё болела по утрам, и я запасся горой таблеток.
— Автомат дашь? — ещё раз спросил я ещё раз у Ефрема Набатникова, который изучал последние сводки.
— В бою добудешь, — захихикал он, как юродивый.
Отступление из Славянска стоило ему ожёга на правой щеке, в подробности он не вдавался, только обмолвился, что в машину, на которой они ехали, попала зажигательная пуля, кроме того, он знал, что я собираю литературный материал, поэтому помалкивал, не желая попасть в пресловутую историю человечества.
— Ну и чёрт с тобой! — сказал я и ушёл.
Кажется, он показал мне в спину дулю, но сил не было разбираться.
* * *
Вначале мы шли, не таясь, по своей территории, через разбитую автобазу, школу, детский садик, потом — по территории «Донбасс-агро», около правления с разрушенной крышей остановились. Дальше тянулась никлая степь с перелесками. К Калинину подбежал боец и что-то сказал. Сквозь осенний ветер, уносящий слова, я слышал только: «Бу-бу-бу». Калинину не понравилось. Он поморщился; оказалось, что разведка на этом направлении засекла каких-то людей, то ли грибников, то ли рыбаков, не ясно.
— Чего они там делают? Там же мины? — удивился Калинин.
Боец только пожал плечами, мол, дуракам закон не писан.
Фронта как такового ещё не было, и в затишье такие группы, как наша, ходили к бандеровцам в гости, они же ходили к нам. А здесь была даже целая операция со смыслом: встать в засаду и ждать. Всё это мне в двух словах объяснил Калинин, чтобы я понял обстановку и правильно написал в своих заметках.
Я подумал, что для такого дела группа слишком мала и слишком легко вооружена, всего три пулемёта, правда, гранатомётов было побольше, но гранатомёт — штука разовая; я бы взял АГС и побольше «улиток» к нему, но это, что говорится, не моё собачье, то бишь не корреспондентское дело, и я промолчал.
С нами шла девушка-снайпер. Имени я её не знал, только позывной: Шурей. Я спросил, почему позывной такой странный. И меня просветили: во-первых, позывной и женский, и мужской одновременно, чтобы запутать укрофашистов, а во-вторых, в позывном присутствует буква «р», классический и обязательный элемент позывного, потому что в бою из-за шума и помех в рации, звук «р» хорошо слышен, не надо трижды переспрашивать. Гладя на Шурей, я вспомнил нашу Анюту, позывной Лето, снайпершу из Авдеевки, и что сделали с ней укрофашисты в Дмитриевке. После этого я плевать хотел на приказы и никого в плен не брал; пусть докажут, что я действовал преднамеренно, а не в горячке боя. «Бог обещал нам всё простить сполна, когда закончится война».
И только погодя я понял, что имел ввиду Валентин Репин, когда сказал, что у меня лицо звереет, когда я говорю об этом. С таким лицом жить нельзя. Это ненормально и неестественно — переживать каждый день заново, вспоминать то, что тебе тошно вспоминать; мне до сих пор снятся сны, в которых я так и не отомстил за Лето, и каждый раз я просыпаюсь от собственного крика и с облегчением пялюсь в потолок оттого, что я не в окопе и не в лапах у бандеровской сволочи. А она там погибла.
Дальше мы пошли цепочкой вдоль балки. Под ногами шуршали дубовые листья, и мне казалось, что нас слышно за версту и что это против всех правил маскировки. Но Калинина ничего не волновало, он только сказал, чтобы я не высовывался и не сходил с тропы, иначе можно подорваться на растяжке. В этом и заключался весь инструктаж. Я шёл последним и снимал спины. Боец с позывным Филин впереди нёс гранатомёт РПГ-7 и выстрелы к нему, между прочим, без всякого бронника.
Филин был из Санкт-Петербурга. Он сразу заявил, что живёт в коммуналке и в гости никого принять не может; гитарист и поэт, он скрашивал тоскливые вечера бренчанием на гитаре. Я почему-то удивился, что он не взял её с собой. В мае четырнадцатого он был одним из тех, кто перекрывал Володарское шоссе, чтобы не допустить укрофашистов в Мариуполь. В отличие от большинства местных повстанцев, ему удалось уйти в Донецк, а его друзья-мариупольцы попали в лапы СБУ и были освобождены только после заключения минских соглашений.
* * *
Её нашли в июне. Сразу, как только отбили тот район. Я мотался в между Красным лиманом и Ямполем, где наши велись тяжелые, оборонительные бой с укрофашистами, и не мог поехать с ними на дачу.
Собственно, как мне объяснил Борис Сапожков, в районе Старомихайловки был даже не бой, а короткий наскок, ночью, а утром их выбили, потому что это была городская окраина. Летние ночи на Украине светлые, короткие; и они успели напортачить.
Борис Сапожков дёрнул меня прямо с репортажа, наорал в ответ на моё запирательство, и я в недоумении поехал на санитарном БТРе в Донецк, гадая, что такого могло было произойти, чтобы Борис Сапожков повысил голос. Со мной ехали раненые, и я весь путь то подавал воды, то придерживал кому-то ногу или голову, когда дорога была особенно тряской.
Утром следующего дня, уставший и голодный, я поднялся на седьмой этаж и вошёл к нему в кабинет.
Он посмотрел на меня, лупая глазами, как филин из своего дупла, обвешенного дипломами и грамотами за передовую работу по части литературно-публицистической деятельности, молча налил стакан коньяка, пододвинул ко мне. Я всё понял, у меня одеревенели ноги.
— Надо поехать и опознать. Возможно, это не она. Мина… — обманул он меня, чтобы приготовить худшему. А может, сам не знал подробностей?
Я выпил. Стало ещё хуже. Мы поехали. Голова была пустой, чувств — никаких, кроме подвешенного состояния. Варя, о которой Борис Сапожков ничего не сказал, отошла на задний план, и это вселяло слабую надежду. Уточнить я боялся.
Сразу за шахтой «Скочинского» мы свернули направо и по разбитой дороге, объехав террикон, попали на дачный участок «Пионерский». Дальше было, как во сне. Меня провели на берег озера. Я не задавал никаких вопросов. Просто пошёл деревянной походкой за военным следователем в полевой форме.
Она лежала возле мостков. Вначале я даже не понял, почему, потом сообразил: озеро-то ключевое, холодное. Даже в летнюю жару едва прогревается. А почему она в брезенте, я тоже не понял. Военный откинул край, и я увидел её умиротворённое, спящее лицо. Она словно помолодела. Таким я видел её в школе — весёлой и задорной, шустрой и проказливой, и только со мной она становилась такой, какой я её знал — моей несравненной Наташкой Крыловой, первой красавицей школы и города. Я протянул руку и дотронулся: лицо было холодным, как мрамор, и это меня поразило, потому что я не знал жену такой.
— Это она? — спросил военный следователь.
Я понял, что отвечаю:
— Да.
— Всё! Пошли! — потянул меня Борис Сапожков, словно боялся за меня.
Я поднялся, не в силах оторвать взгляда. Борис Сапожков потащил меня за рукав, я дёрнулся и оглянулся: военный закрыл ей лицо брезентом. Они не имел на это никакого права. Я едва сдержался.
— А она?..
— Извини… — сказал Борис Сапожков, — её отвезут в морг. Мы всё сделаем. Похороны завтра.
— А Варя? — наконец спросил я о том, о чём спросить боялся.
— Вашу дочь, — жёстко сказал военный следователь, — к сожалению, не нашли.
— Уходим! — сказал Борис Сапожков и настойчиво уводил меня, боясь, что я сорвусь.
И она осталась с чужими людьми — одинокая и потерянная.
На дачу я заходить не стал. Дача стояла прямо на берегу озера. Её ещё мой отец строил, когда вернулся с севера, чтобы по утрам поливать свои любимые помидоры. Я подумал, что он косвенно виноват в смерти жены. Не построй он эту сраную дачу, не было бы этих поездок на выходные дни, и жена, и Варя остались бы живы. В это момент я испытал к своему отцу лютую ненависть.
Мы сели в машину. Борис Сапожков протянул мне фляжку. Я выпил много, и меня развезло на жаре и тряской дороге. Пару раз мы останавливались, чтобы я облегчил желудок. А Борис Сапожков всё говорил и говорил, стараясь меня отвлечь. Моментами мне это помогало. Оказалось, что укрофашисты утопили в этом озере три с лишним десятка человек, всех дачников. Я не хотел слушать подробностей, меня тошнило; я только спросил:
— Ты же сказал, что её и дочку убила мина?
— Да, их убила мина, — наконец-то сообразил Борис Сапожков и заткнулся, пытливо заглядывая мне в лицо на предмет, не свихнулся ли я.
Я с укором посмотрел на него, показал средний палец, мол, кое-что соображаю, и сказал, что надо заехать в магазин и взять вина, потому что в меня мне его дерьмовый коньяк не лезет.
Мина и стала моей легендой, когда я думал о жене и дочери. Просто мина, и всё. Так было почему-то было легче жить.
Борис Сапожков заехал ко мне, я сложил Наташины вещи в кулёк и отдал ему. Кулёк получился большим, просто огромным. Мне хотелось, чтобы она выглядела красивой и отдал ему все те вещи, которые она любила, и ту последнюю мохеровую красную кофточку со стоячим воротником и короткими рукавами, которую я ей купил с магазине «Маяк».
Утром я проснулся словно от толчка — спящим поперёк Наташкиного дивана, вокруг валялись пустые бутылки; и время словно остановилось; оно начало тикать только через сутки, когда я понял, что больше никогда не увижу моей Наташки Крыловой.
Её похоронили рядом с родителями: Верой Михайловной и Николаем Николаевичем.
Я напоследок посмотрел на родное лицо. Открыл ей глаза в последний раз. Они были тёмно-коричневого цвета, такими, какими я их увидел в первый раз. Эти глаза неотлучно преследовали меня всю жизнь. Закрыл их, отошел и махнул рукой: закрывайте.
Поминки я помнил плохо, только — устроителей, которые рекомендовали обращаться к ним в следующий раз.
— В следующий раз, это когда? Когда умрёт ещё одна жена? — спросил я.
Они смутились.
На следующий день, никому ничего не сказав, я уехал под Лисичанск, там назревали большие события. Признаться, я хотел, чтобы меня убило.
Четырнадцатый год раздел мою жизнь на «до» и «после».
* * *
Мы шли часа полтора, забирая всё более и более вправо. Калинин всё чаще поглядывал на часы и поторапливал: «Быстрее! Быстрее!» С полчаса мы бежали.
Местность понижалась. Впереди блеснуло длинное озеро, поросшее по краям жёлтеющим тростником, а за ним ещё, а затем — ещё одно, уходящее в степь, за горизонт.
Я понимал, что мы намеренно сделали крюк, что гипотетическая линия фронта находится теперь за спиной, а не как обычно, спереди.
Наконец Калинин наконец упал в лесочке за ивой и произнёс, хватая воздух:
— Здесь они и пойдут… Другого пути нет.
Окончательно выясняется, что мы что-то вроде заградительного отряда, ловушки для укрофашистов, которых погонял на наши пулемёты. Словно в подтверждении его слов на западе загремело. В небе полетели трассеры. Бухнуло, земля вздрогнула, как живая, по озеру побежали круги, и утки вспорхнули, словно тени.
Гранатометчики встали в центре, почему-то за камышом. Как они собирались стрелять, я не понял. Все остальные разбежались по позициям для маленькой победоносной войны.
— И окопаться! — крикнул Калинин именно вслед Шурей; чувствовалось, что она ему нравится и что он волнуется за неё.
Я хотел спросить у него, почему мы не на холме, а на его склоне, на худой конец, неплохая позиция была за озерами, откуда можно было держать врага на дистанции, но не успел. На востоке так громыхнуло, что земля качнулась ещё пуще, слева хлестко вдарила винтовка Шурей, и Калинин только успел восклицать:
— Ёпст!.. Ёпст!..
На гребне разом возникли множество людей. Все они бежали вниз, как лавина.
Заговорили наши пулемёты, и сразу загрохотало со всех сторон, на голову посыпались ветки, а вокруг засвистели пули — пока ещё не прицельно, а на ощупь, в озеро за нашей спиной.
Видно, наши здорово перестарались, укрофашисты удирали во все лопатки. Миномётчики, ударили, но что толку, разве лавину спичкой остановишь.
С гребня сухо и вроде как незлобливо заговорил АГС, и перед моим носом в ствол дерева ёлочкой вонзилась гроздь осколков. Чуть ниже, и мне снесло бы макушку. Дело дрянь, понял я, АГС заставит землю копать носом. Я по привычке стал искать надёжное укрытие, но если ты в низине, а АГС сверху, то я тебе не завидую.
— Что это такое?! Что это?! — удивился Калинин, пятясь и упираясь задом в ствол поваленной ивы. — Хватит снимать! — оглянулся он со злостью, словно я был причиной недоразумения.
— Почему? — спросил я, ведь всё шло по плану; подумаешь, обстрел, в июне и в июле мы и не такое видели.
Но он так посмотрел на меня своими безумными белыми глазами, что я понял, ему не до шуток; и тут во мне проснулось то старое чувство, которое жило во мне со времён Лисичанска — нежелание лечь костьми здесь, в осенней земле Донбасса.
Калинин ничего не ответил, вцепившись в рацию, только мотнул головой, и я понял: «Беги к Грибу!»
Только сейчас я обратил внимание, что Гриб молчит уже целую вечность. Сказывалось, что я полтора месяца не был в боях, реакция не та.
— Да ползком! Ползком! — с отчаянием в голосе простонал Калинин, полагая, что навязали на его голову необученного и что я тотчас стану прекрасной мишенью для снайпера.
Укрофашисты вывалились на гребень холма основными силами, мы были перед ними, как на ладони.
— Ёпст! — крикнул Калинин, и стал крыть кого-то матом по рации.
И я понял, что кто-то чего-то не учёл, и что укрофашисты оказались трусливее, чем надо и, быть может, даже бросили фронт. А это значило, что мы влипли.
«Никон» мой куда-то делся, и я знал, что Борис Сапожков будет крайне недоволен.
Гриб был мёртв; граната от подствольника взорвалась у него между ног; и он как сидел в окопчике, так и остался сидеть. Осколок вошёл ему под веко правого глаза. Когда я высвобождал пулемёт из его рук, они скользнули по металлу, как живые, и я на мгновение подумал, что Гриб просто тяжело ранен, но он завалился на бок.
С пулемётом в руках я пробежал до ближайшего куста, высунул из-за него ствол и стал искать по сухим щелчкам этот злополучный АГС. Однако он прятался за складкой холма, и мне пришлось забирать всё левее, левее и чуть выше, меняя выгодные позиции одну за другой и не обращая внимания на фонтанчики пуль вокруг, пока не увидел сгорбленную над гранатомётом фигуру, и то мне пришлось расстрелять целую ленту, прежде, чем он замолчал. После этого я бегал, как заяц. Пару раз под ногами загоралась листва от трассеров — меня искал бандеровский снайпер, и, казалось, ополчился весь холм. Но я не дал себя убить, даже не получил царапины, за исключением сбитых коленей, когда падал за укрытием, потому что не носил наколенники и не готовился к такому повороту событий, а был просто репортером, приданным к группе.
У меня возникло старое, забытое ощущение, будто я всегда знаю, откуда в меня стреляют, и я не давал себя убить. Я вдруг вспомнил, как это всё делается, и то чувство самосохранения, которое заставляло стрелять, ползти, и вовремя перекатываться. Последующую вечность я только этим и занимался — изображал сплошную линию обороны. А когда очнулся, то понял, что остался один, что где-то справа и слева вовсю трещат бандеровские автоматы, и только из-за озера, прикрывая меня, бьёт винтовка Шурей. Я ждал, что влюблённый Калинин уведёт её, но он её почему-то всё не уводил и не уводил.
Я бросил пулемёт только тогда, когда расстрелял все ленты, которые смог найти на позиции, я благодарил мёртвых за то, что они им больше не нужны, а мне пригодились. Почему я всё время влипаю? — думал я, почему мне больше всех надо; и подался на дамбу. Как я её преодолел, я не помню, я знал, что меня убьют; после трёх месяцев боев, госпиталя и смерти жены и дочери, мне было всё равно, жизнь не имела смысла; но меня не убили. Мне казалось, что я гляжу на себя со стороны. Помню, что не побежал по прямой, чтобы меня застрелили в спину, а предпочёл уходить камышами, и его шелест, и звуки пуль, нагоняющих меня, слились в один непрерывный шум, и мне казалось, что в меня уже несколько раз попали, но это были всего лишь порезы от камыша.
Когда я вывалился на другой берег, то из группы обнаружил лишь Алеша Мерсиянова, позывной Чех, и Филина. Мне кричали в ухо:
— А-а-а… уходим… уходим… — И куда-то делись.
Адреналина было столько, что меня мотало из стороны в сторону. Я понёсся вдоль камышей в поисках оружия, но вокруг валялись только пустые обоймы, гильзы и подсумки. Вдруг я споткнулся о труп. Это была Шурей. Во лбу у неё алела крохотная дырочка; такие ранения были только от нашей мелкокалиберной винтовки СВ-99.
Я схватил её винтовку и стал стрелять поперёк дамбы, на которой уже мелькали укрофашисты. Не знаю, убил ли я кого-то или нет, но дамба вмиг опустела. Патроны у меня кончились и с побежал дальше.
— Где Шурей?! — кричал Калинин, увидав в руках у меня её винтовку. — Где?!
Мы кинулись назад, ежесекундно рискуя оказаться нос к носу с бандеровцами. И я привёл Калинина к ней. Он упал на колени и, мыча, стал качаться, издавая звуки, как ветер в пустыне.
— Зачем ты её взял? — спросил я зло. — Зачем?!
Он невидящим взором посмотрел на меня, и я понял: попробуй, не возьми. Моя Наташка Крылова была точно такой — сумасшедшей.
— Понесли! — выдавил он из себя.
Он не хотел, чтобы над ней, над мертвой, надругались. Я держал её за ноги, он — под руки, и мне казалось, что она живая и что мы просто несем её в госпиталь, мало я таких бойцов перетаскал. Но когда я переводил взгляд на её лицо, то понимал, что она мертва, и не испытывал никаких чувств, кроме ненависти к этой проклятой войне и безмерную усталость.
В этот момент нас начали обстреливать из миномётов — вначале вдалеке, потом — всё ближе и ближе, и я понял, что кто-то корректирует огонь с холма.
Потом нас взяли и вилку: вначале мина взорвалась позади в метрах пятидесяти, затем — впереди, в озере, и я понял, что укры сейчас возьмут прицел пополам и нам конец.
— Ложись! — крикнул я.
И мы упали. Укрыться было негде, разве что в ближайшем овраге, но до него было метров тридцать. С ужасающе-противным визгом прилет «кабанчик»[1]. Нас подбросило. Мне показалось, что я целую минуту вишу в воздухе. Потом опустило. Потом прилетел ещё один — на это раз гораздо ближе, и всё было кончено. Я очнулся в озере, в горящем камыше. Калинин лежал рядом лицом вверх, и из оторванной кисти на правой руке фонтанчиком била крови, окрашивая воду в красный цвет. Я вытащил его на берег, перетянул ему руку в локте, нашёл у него перевязочный пакет и наложил повязку. Потом сделал укол промедола в плечо.
Он пришёл в себя и страшно замычал: «Шурей…» Я перенёс её в овраг, закрыл ей своей курткой лицо и забросал камышом и землей. Потом вернулся и сказал:
— Уходим!
У него не было сил подняться. Я сбросил бронник, который, должно быть, спас мне жизнь, закинул Калинина на плечи и понёс. Дым от камыша прикрыл нас.
Я шёл до самой ночи, потом нас обстреляли свои же, и я, ругаясь матом, кричал, что мы свои, чтобы не стреляли, тащи и тащил Калинина по минному потом, а когда притащил к своим, оказалось, что он уже мёртв. У него было ещё одно ранение от крохотного осколка, которое я не заметил.
Потом я узнал, что из того задания никто не вернулся, кроме меня и Калинина.
Никто не обещал, что будет легко.
* * *
Первое, что я сделал, когда она заскочила перед работой, чтобы чмокнуть в лоб и передать мне новый айфон вместо разбитого, нашёл в справочнике телефон автосалона, позвонил Саше-дилеру и попросил поменять в заказе цвет корпуса на белый, салон из натуральной кожи — под цвет коньяка, а зеркальные алюминиевые диски — на диски чёрного цвета, что в наше время является последним писком моды. Все эти тонкости я вычитал интернете, пока валялся на койке. Мне казалось, что я имею на это право, что я заслужил, может быть, даже большёго, но не знал, чего именно.
— Будет дороже, — терпеливо сказал Саше-дилер, который, похоже, привык и не к таким фокусам клиентов.
Я клятвенно обещал всё оплатить. Затем долго упрашивал лечащего врача выписать меня именно сегодня, а не завтра, как он планировал. Во-первых, раны на мне заживали, как на собаке, и он, убедившись в этом, с удивлением поцокал языком:
— Вы подозрительно быстро выздоравливаете. Ну, хорошо, одевайтесь… — разочарованно сказал он. — На всякий случай я бодро улыбнулся, стараясь не показывать, что левый бок у меня так тянет, что хочется клониться, как плакучей иве. — Обещайте, — цепко посмотрел он мне в глаза, — что через день явитесь для перевязки, а пару швов мы вам сейчас снимем.
— Обещаю! — обрадовался я, сбегал в перевязочную и даже не дёрнулся, пока суровая медсестра Галочка с задорным носиком и алыми губками производила манипуляции на моей спине. После чего моментально выписался.
Во-вторых, я не хотел, чтобы Алла Потёмкина попала в квартиру и увидела там следы баталий с жеребёнком.
Я подозревал, что скорой поправкой обязан исключительно Жанне Брынской, которая упорно поила меня настойкой болиголова. Звонила ежедневно и спрашивала: «Миша, сколько капель ты сегодня выпил. Имей ввиду, у меня всё записано!» Поговаривали, что он и мёртвых поднимает, а живых — и подавно.
Вместе с телефоном Алла Потёмкина купила мне дублёнку, джинсы, свитер и шапку. Я вызвал такси и поехал домой, счастливый тем, что и на этот раз легко отделался.
В больнице ко мне снова вернулись кошмары и бессонница, и только лошадиные дозы успокоительных удержали меня на краю пропасти под названием посттравматическая бездна; чтобы не сорваться в неё, мне срочно нужна была жеребёнок, как лучший стимулятор жизни и отвлечения.
Ключ бесшумно повернулся в замке, и я толкнул дверь. В квартире кто-то был. Я услышал шаги на кухне, приглушенную музыку, и, чего греха таить, обрадовался, даже не подумав, как буду расставаться с Инной-жеребёнком; меня обуяло желание тут же затащить её в постель, а после хоть трава не расти.
Я швырнул в угол кулёк с вещами, которыми успел обжиться, по-моему, даже не закрыл дверь, и, не раздеваясь, с глупейшей улыбкой на губах побежал на кухню, заглядывая в комнаты. Повсюду царил бардак: подушки с дивана были разбросаны, гардины сорваны, а наше любимое кресло в большой комнате — опрокинуто, даже «панасоник» стоял, скособочившись, как будто в страшном огорчении. В крайней спальне бельё валялось на полу, а огромное зеркало, в которое мы любовались во время секса, разбито. Что за ерунда? — удивился я. Телевизор становился всё громче. С изумлением на лице я вошёл на кухню и увидел её за стойкой в белом халате и с голыми ногами, задранными чуть ли не выше головы, лживой, как реклама батареек «дюрасел».
И тут до меня дошло, что она, мягко говоря, девушка с пониженной социальной ответственностью. Обычно за жеребятами такого типа стоят лысые мужики с пивным животиком, а за Инной — лупоглазый рыжий чубчик, который продал мне в отделе мужской обуви туфли. Рыжий сидел в моих спортивных штанах, в моей штопаной тельняшке с эмблемой ДНР, которую я сам же и нашил тяп-ляп белыми нитками, в моих домашних тапочках из натуральной кожи и толстыми ломтями вкушал осетровый балык, запивая его прямо из бутылки пивом марки «Бакунин». На морде у него красовалось небесное блаженство.
Первой меня увидела жеребёнок, потому что сидела лицом ко входу. Она уронила бутерброд в чай, громко сказала: «Ой!» и убрала ноги с барной стойки. Рыжий оглянулся, тоже сказал: «Ой» и сгорбился.
— Это кто такой?! — спросил я и ощутил, что камушки дерут мне горло сильнее обычного.
Больше всего меня почему-то возмутило, что он сунул свои грязные ноги со своим дерматомикозом в мои любимые тапочки, которые я долго выбирал в магазине.
— Это Владик, — промямлила, цепенея, жеребёнок. — Владик… это дядя Миша…
— Действительно… дядя, — усмехнулся я, отправляя в угол пустую бутылку из-под картофельной водки.
— Только не надо!.. — опомнилась жеребёнок, и на лице её возникло презрением, которое она так долго скрывала.
Это многое объясняет, с любопытством подумал я, маски сброшены, карты открыты, гроссбух не обманешь.
— Чего «не надо»?! — уточнил я со всё теми же камушками в горле.
— Не надо орать! Мы сейчас уйдём!
Она мгновенно постарела лет на десять. То была милой, податливой девушкой, весёлой и беззаботной, а вдруг закостенела и стала обычной стервой, которая делает ставку в жизни исключительно на секс. На мгновение мне её стало жаль, я увидел её будущее, оно было безрадостным, как ноябрьское поле в проплешинах снега.
— Вещи мои сними! — велел я Владику, стараясь не глядеть на жеребёнка из-за жалости к женской доле. — Ты их не заслужил!
Я вспомнил, что они были обильно политы не чей-нибудь, а моей кровью: под Мариновкой меня хлестнуло осколками в тот момент, когда я пренебрёг миномётным обстрелом и высунул нос из окопа. Виной всему оказались мой рост, мелкий окоп и безмерное любопытство. Ничего особенного, три царапины на черепе и комбинированная контузия, но конца изваринского котла я уже не увидел, меня срочно эвакуировали в больницу имени «Калинина». Если бы я тогда каску пристегнул, как положено, мне бы просто оторвало голову вместе с ней.
— Да пожалуйста! — вскочила Инна-жеребёнок так резко, что её прекрасные волосы разлетелись во все стороны. — Шлялся где-то две недели, а теперь обвиняет!
— Быстро и без скандала! — сказал я. — Встали и вышли!
Я даже уступил им дорогу, показывая, что никого бить не буду, не за что, сам виноват, но подумал, что рыжий по глупости может броситься драться и что драчун из меня сейчас аховый. Но он юркнул мимо, как испуганный щенок, и в спальне номер один они о чём-то заспорили. Рыжий Владик безмерно трусил, видно, жеребёнок его по глупости просветила, чья это квартира.
— Я косметичку забыла?.. — неуверенно высунулась она.
— Забери, — разрешил я великодушно, наблюдая их суету из коридора.
Она так боялась, что я передумаю, что проскакала в ванную на одной ногу, на второй был наполовину обутый сапог.
— С тобой что-то случилось? — спросила она участливо, бросая в знакомый мне пакет, обклеенный стикерами, всё, что считала нужным присвоить себе.
— Неважно! — ответил я.
— Я же вижу! — она выразительно покосилась на мой левый бок, который я инстинктивно оберегал.
Больше всего досталось моей многострадальной левой руке, но я надеялся на лучшее.
— Какое тебе дело?!
Я не верил ни единому её слову, потому что знал эти женские штучки закабаления и ещё, потому что вспомнив о ботве, то бишь о шикарном букете красных роз, которые мы забыли по её вине в супермаркете. Именно этот букет роз я простить ей не мог, не измену, не завуалированные насмешки над моим возрастом, не намёки на мою провинциальность, а именно букет красных роз, словно он был бог весть каким символом женской порочности.
— Такое, что я тебя ещё люблю! — поведала она, сообразив, что пакет с косметикой у неё никто отнимать не собирается.
Разумеется, она помнила, что я намеревался купить машину и возить её светлость на работу и обратно. Было за что бороться.
— Не унижайся, — нарочно попросил я с камушками в голосе, чтобы она не питала глупых надежд.
— А я даже хотела за тебя замуж выйти, — перешла она в наступление, пристально глядя на меня своими мультяшными глазами, которые светились в темноте, как люминесцентная керамика, и очень мне нравились.
— Найдёшь другого дурака, — ответил я.
Она легкомысленно покривилась: очень надо! И я понял, что рыжий Владик для утешения, а я, значит, для того, чтобы на мне ездить, свесив ножки.
— Знаешь, как я переживала, — поведала она, надувая пунцовые губки и переходя на доверительный тон. — Даже в полицию сообщила!
Она так и сказала: «сообщила», словно о пропаже болонки.
— Представляю, — сказал я и едва удержался от ядовитого укола насчёт её переживаний, наверное, не знала от радости, кому первому из своим пожарников позвонить, мол, квартира освободилась с жратвой и выпивкой, ну, и сексом, разумеется.
Она вспыхнула, всё поняв:
— Скотина!
Я понял, что часто принимал женскую красоту за ум.
— Инна… — спросил я с долготерпением, — чего ты хочешь?
Ящерица на правой её руке премило умывалась язычком. Признаться, я уже привык к ней и находил даже забавной. Но мысль о том, что она провела бы со мной остаток моих дней, почему-то меня покоробила; с самого начала я не верил Инне-жеребёнку, хотя надеялся на чудо. Чуда не состоялось, жеребёнок экзамена не выдержала, стало быть, у неё всё ещё впереди с её страстью к хитростям.
— Ничего, — буркнула она, отвернувшись.
— Банкет окончен, — сказал я. — Забирай свои вещи и уходи!
— Ты сам виноват! — всхлипнула она, с трудом выволакивая пакет из ванной.
Мне были знакомы эти женские фокусы, против них у меня выработался стойкий иммунитет. У меня была хорошая, а главное, очень настойчивая учительница, и я предугадывал все ходы наперёд. В этом плане жеребёнку было далеко до моей жены.
Высунулся рыжий Владик:
— Я готов!
— Закройся! — отрезала она и едва не прищемила ему нос дверью. — Мог бы позвонить! — упрекнула она, намеренно делая меня негодяем.
— К сожалению, не мог, — сказал я, не собираясь объяснять, что произошло с моим телефоном, после этого надо было рассказывать о покушении, об операции, а там, глядишь, расслаблюсь, нечаянно помирюсь и начну презирать себя. Я не хотел, чтобы в моей жизни наступила эра цинизма и расчетливости.
— Я ждала тебя три дня! Все глаза выплакала! Я думала, ты меня бросил!
— Придумай что-нибудь более жалостливое, — предложил я.
— Мне было тяжко и одиноко! — повторилась она, не в силах выйти за рамки Эллочки-людоедки, и пыталась меня обнять.
— Так тяжко, что ты притащила придурка?! — отступил я на шаг и не удержался я от укора, хотя дал себе слово минимизировать душевные потери.
— Я не придурок! — возмутился рыжий Владик из-за двери.
— Заткнись! — велела она ему и с тайной надеждой к примирению посмотрела на меня: — Что мне оставалось делать?
Инстинктивно она чувствовала, что больше ей такого дурака не найти.
— Всё что угодно, но не раздвигать ноги, — сказал я.
— Ну ты и монстр! — всхлипнула она после минутного изумления.
— Какой есть, — согласился я.
В странном она жила мире, хотя иллюзии нужны нам, чтобы меньше страдать.
— Мастодонт! — добавила, намекая, что я глубоко неправ, что мода на порядочность осталась в прошлом веке и что я должен удовлетвориться естественным положением вещей, не выгонять её, страдающую, на улицу, а обойтись суровым наказанием в виде трехкратного секса.
— Всё! — сказал я. — Концерт окончен! С вещами на выход!
Жеребёнок всё поняла. Глаза её потухли, руки опустились, но пакет с косметикой не бросила, а потянула за собой, как заключённый — кандалы, хорошо хоть догадалась оставить ключи на тумбочке, под канделябром в виде Мефистофеля с высунутым языком.
— Ты ещё меня вспомнишь! — словно нарочно замешкалась она.
Рыжий Владик, трусливо кося глазом, шмыгнул первым, очевидно, оберегая зад от пинка.
— Даже не сомневаюсь, — согласился я, закрыл за ними дверь и, найдя в справочнике службу уборки квартир, вызвал бригаду спасателей.
Когда они прибыли, я сказал, что нужно сделать: навести абсолютный порядок, постельное бельё и грязные вещи отдать в прачечную, всё лишнее, включая бутылки, объедки и всю еду из холодильника выбросить в мусоропровод. Поменять зеркало в спальне, вымыть холодильник, полы, окна, продезинфицировать ванную, туалет, душевую и кухню, а также посмотреть хозяйственным глазом. А сам пошёл в парикмахерскую и магазин. Кожаные тапочки, которые я успел полюбить всей душой, я самолично вынес и оставил у подъезда, мол, кто-то забылся и босиком отправился собачку выгуливать.
В магазине, памятуя о недавней голодной жизни, я накупил всего, на что упал мой взгляд, в том числе и огромную бутылку божественного арманьяка «Чёрный дуб Гаскони» на качелях.
Я некстати вспомнил, что по весне с голодухи мы ели виноградных улиток, да, тех самых улиток, которых подают в московских ресторанах как деликатес от шеф-повара, только при отсутствии чеснока и уксуса они дурно пахли из-за жёлтой слизи, которую выделяли в неимоверном количестве.
Когда я вернулся, тапочки у подъезда уже наши себе нового хозяина, а квартира блистала идеальной чистотой. Гардины висели, как им положено, кресло было водворено на место, а персидский ковёр пропылесосен. Воздух благоухал розами. Принесли выстиранное бельё и застелили постели в обеих спальнях. Лампы в душевой поменяли на более мощные, купили новые коврики и душевые принадлежности, даже в вентиляции решетку почистили. Услуги обошлись мне в двенадцать тысяч, не считая стоимости зеркала. Я заплатил пятнадцать к удовольствию обеих сторон, плюс за зеркало. Потом открыл кран, чтобы наполнить ванную, вернулся на кухню, сделал себе грубоватый арманьяк «Чёрный дуб Гаскони» со «швепсом» и выпил большой стакан. После этого почувствовал, что меня отпустило и в желудке, и в душе.
Есть женщины, которым нравится власть над мужчиной, жеребёнок по младости лет пока что подбирала ключики к этой роли, в которой надо быть удачливой, как роковая женщина, и искусной, как канатоходец. С кем-то другим она больше не повторит ошибки, подобной той, которую совершила со мной. Бог с ней, я даже не осудил её, дитя прогресса.
Я боялся взглянуть на свой левый бок, он был жёлтым и сморщенный, как грецкий орех. К счастью, зеркало в ванной быстро запотело. Но я успела заметить, что, кажется, стал поправляться, что на спине, как прежде, возникли рельефные мышцы, а когда причесывался, то отметил, что у меня даже чуб вырос такой же, как в юности, и закрыл наконец мои безобразные шрамы. Об осколке в лёгком я даже не вспомнил.
Не успел я вылезти из ванной и принять второй стакан божественного арманьяка со «швепсом», как припёрся Валентин Репин. Я с удивлением увидел его очкастую физиономию на мониторе и услышал слово «рыба» на придыхании.
— Заходи! — открыл я ему подъездную дверь и почувствовал, что жизнь полна маленьких удовольствий: друг пришёл, с которым можно позубоскалить.
Пока он поднимался на лифте, я сделал две порции арманьяка с апельсиновым соком, вышел в коридор, поставил стаканы на тумбочку под бронзовый канделябр в виде Мефистофеля с длинным языком, распахнул входную дверь и с глупой улыбкой, встав в позу матадора, принялся ждать, оперевшись левым локтём о стену, а правым кулаком — в бок. Левый бок после ванной тянул так, что впору было забиться в угол, как больной собаке. Но я специально растягивал мышцы, чтобы они быстрее пришли в норму.
Репин вошёл, обременённый двумя огромными сумками. По его лицу тёк деловой пот.
— Здорово! — обрадовался я, протягивая ему стакан с арманьяком.
— Отойди! — проигнорировал он меня своим прононсом и без паузы на приветствие попёрся, как носорог, оставляя после себя грязные отпечатки ног.
За ним, как котята, волочились толстые, суровые шнурки.
— Ты что делаешь?! — посторонился я и пошёл следом, памятуя, что он не шибко много зарабатывает на своей рекламе, — здесь всего полно! Зачем тратиться?!
— Жанна Брынская передала, — огрызнулся Валентин Репин, — для тебя, сволочь! — Принялся разгружать он содержимое сумок на барную стойку.
— Брось, старик! — сунул ему стакан.
Он брезгливо, как кот — валенок, понюхал издали, не выпуская сумок из рук, памятуя, что долг перед женой превыше всего и не подлежит сомнению, потом облизнулся и с плотоядным выражением на суровом лице протянул корявые ручки, чтобы выпил махом, с причмокиванием и блаженством глубоко страждущего человека из пустыни; и я вспомнил, что Валентин Репин машину не водит из принципиальных соображений, этим у него занимается личный шофёр — Жанна Брынская, а значит, пёр на себе сумки аж из Королёва, хотя, разумеется, и на такси, но всё равно это же какой труд!
— А чего ты так?.. — насмешливо спросил я.
— Как? — посмотрел он вокруг себя, словно не знал, о чём речь.
Я кивнул на его ботинки. Шнурки послушно, как котята, легли рядом с ними.
— А-а-а… — он сделал вид, что наконец догадался, — утром проснулся и решил, что сегодня шнурки завязывать не буду.
— Молодец! — похвалил я.
— А мы на тебя обиделись! — сменил он тон, намекая на повторение штрафа.
«Мы» — это значит, абсолютно все Репины, подумал я, или шнурки? Левый бок тянул до икоты. Надо было выпить обезболивающее, но я, напрочь забыл посетить в аптеку.
— За что? — я присел от боли.
— Мы хотели тебя, как порядочного, забрать завтра, с музыкой, каретой и с цветами, даже снять хотели! — сказал Валентин Репин, наблюдая с интересом, как я приседаю и выпрямляюсь, приседаю и выпрямляюсь.
Боль не отпускала. Шнурки на ботинках Валентина Репина выражали сочувствие.
— Зачем?
Я представил эскорт с воздушными шариками, фривольными ленточками и слащавыми транспарантами типа: «Мишаня, мы тебя любим!» Меня едва не стошнило прямо на суровые шнурки Валентина Репина.
— Лет через десять, когда станешь байбаком, будешь вспоминать, каким ты был тощим! — поведал он мне версию своей любви. — А ты сбежал. Рыба! — укорил со значением. — Вот я и приехал посмотреть, не к блядям ли? Гы-гы-гы!!! Га-га-га!!! — вдруг заржал он, поискав глазами бутылку с напитком. — Слушай, классная вещь! Как называется?!
Всё-таки нюх у него был мужской, заточенный на красивых сорокалетних женщин типа Моники Беллуччи и Ирины Юсуповой. И если Валентин Репин не всё понял, то инстинктивно догадался о гипотетическом существовании Инны-жеребёнка. Я подумал, что Алла Потёмкина сразу должна была занять её место, но почему-то тянула резину. После этого я стал думать о ней: почему она такая тихоходная, как баржа, и вообще, скромница, хотя выглядит порочной до невозможности? Такие женщины одинокими не ходят и в постель тоже одни не ложатся. Опыт последних лет говорил мне, что во имя страсти они сносят любые преграды на своём пути; однако, видать, я не из неё конюшни, раз она кружит вокруг да около и ни на что не намекает; я же давно дал себе слово никогда и ни за что на свете первым не начинать: пусть мучаются тот, кому нравится.
— Старый дружище арманьяк, — ответил я, сделав вид, что не понял Валентина Репина, однако, покрылся холодной испариной и поблагодарил провидение за то, что вовремя подсуетился с выдворением жеребёнка и уборкой квартиры, хотя мне было, конечно, жаль, что всё случилось так нелепо и что жеребёнок наставила мне ветвистые рога козерога.
— Это хорошо, — констатировал он на «о», деловито забираясь, как бабуин, то есть двигая всеми руками, ногами и седалищем, на высокий барный стул и отодвигая прочь свою поклажу, забыв о долге перед женой; шнурки покорно волочились следом.
Отныне предмет его обожания находился в пятилитровой бутылке с арманьяком. На лице у него появилось благородное выражение, подчеркнутое массивными роговыми очками. С этим выражением он и снимал свои рекламу, клипы и шлёпал своих ассистенток по одному месту во имя вдохновения и любви к киноискусству, и не считал это зазорным.
— Тебе не жарко? — намекнул я, усаживаясь напротив и испытывая удовольствие от общения с другом.
Но он даже шапку-ушанку не снял, а торжественно поведал:
— Художественное кино снимать буду… о гуачо, о полковнике Пероне, — и горестно подпёр морду кулаком. — Заказ получили.
— А почему такой грустный? — улыбнулся я.
— Старею, — молвил он с важностью и втянул в себя воздух вечно простуженным носом. — Так долго не живут!
За это я налил Валентину без сока, по самую золотую риску. Он выпил и даже не поморщился, хотя арманьяк «Чёрный дуб Гаскони» был крепче коньяка, к которому Валентин Репин привык в своих мосфильмовских палестинах.
— А пожрать у тебя есть? — откинулся с горестным вздохом на спинку, и она тоскливо заскрипела.
Я достал «домашние пельмени», купленные в кулинарии, где меня слёзно заверили, что они «самые что ни на есть домашние», и поставил кипятиться воду. Все остальные продукты были в виде полуфабрикатов, и возиться с ними не хотелось, хотя в качестве затравки подал мочёные яблоки, «пармезан» и копчёный говяжий язык в специях, не считая «бородинского», разумеется, как самый ходовой продукт на войне, помнится, что мы его грызли без масла и соли.
— Вах! — обрадовался Валентин Репин и грязными руками принялся быстро-быстро набивать себе рот.
— Тебя, что, не кормят? — догадался я.
— Не-а, — слезливо промычал он, едва ворочая языком, хотя глаза у него за стёклами очков выражали полнейшее добродушие. — Уже неделю! — Хихикнул он с превосходством, что, несомненно, относилось к его достоинствам, с лёгкостью сносить превратности судьбы. — Питаюсь одной китайской лапшой.
Он обожал горы, и его «вибрамы», смазанные и ухоженные стояли в кладовке на отдельной полочке, готовые к новым приключениям.
— Поссорились? — снова догадался я, ибо пережил все прелести семейных отношений и сохранил рассудок.
— Ага, — кивнул он, мол, хорошо, что ты меня понимаешь. — Выгнать грозятся!
И я сообразил, что шапка, не снятая одежда и не завязанные шнурки — это форма протеста против реалий семейной жизни, и что он ждёт Жанну Брынскую, дабы ткнуть носом в жизненные обстоятельства.
— Переезжай ко мне, места много, — скоропалительно, предложил я.
— Ага… сейчас… — впал он во фрондёрство, давая понять, что ни в коем случае, хуже только будет.
Я любил его в таком максимализме. Он был редким экземпляром порядочного эгоиста, который, однако, обожал своих друзей из своего прошлого. Я тогда ещё не знал, что люди полны очарования до того самого момента, когда начинают матереть, после этого они делаются старыми, заезженными пластинками, с одними и теми же идеями, с одними и теми же разговорами, сосудистой деменцией в придачу и застарелыми болячками типа простатита. Лично я пытался избежать такой участи в боях под Мариновкой, но судьба распорядилась по-своему: я относительно жив и здоров и натаскиваю друга на семейное благополучие.
Вода закипела. Я бросил в неё пельмени, специи, сухой укроп и посолил. Божественный запах поплыл по кухне. Только после всего этого я отважился спросить, хотя у мужчин это не принято:
— А почему?
— А она против! — заявил он патетически, косясь на «арманьяк», как я не без опаски — на зелёную ящерицу Инны-жеребёнка, потому что то и другое сводило с ума.
— Против?! — удивился я, смешивая ему «арманьяк» со «швепсом» в такой пропорции, чтобы он не захмелел раньше времени.
— Она считает, что я буду ей изменять направо и налево, — Валентин Репин поморщился то ли из-за моих инсинуаций, то ли из-за домыслов своей жены.
— А ты только налево, — посоветовал я, — в том смысле, что вдвое уменьшится риск разоблачения, словно Жанна Брынская была согласна с таким вариантом.
— Ещё чего! — флегматично возразил он и потянул простуженным носом.
Насколько я был осведомлён, Валентин Репин намеревался быть верным Жанне Брынской до гробовой доски. Быть может, только его планы за последние годы несколько изменились? Я не знал всех обстоятельств.
— А почему? — спросил я, подталкивая ему стакан.
— Потому что, — вздохнул он тяжело, — надо ехать в Южную Америку, а ты сам знаешь, сколько там красивых женщин.
Эту новость он припас в качестве главнейшего аргумента своей профессиональной состоятельности на данный момент, часть из неё, а именно «в Южную Америку» в его устах прозвучала, как «в рай земной».
— Да… это проблема, — согласился я и подумал, что Жанна Брынская получила шах и мат в одном ходе и теперь борется за право переиграть.
— Рыба, ты будешь меня сегодня кормить, или нет?! — возмутился он и тем самым прекращая двусмысленный разговор.
Я среагировал:
— Извини, старик! — и подал ему пельмени, обильно посыпав их чёрным перцем и полив маслом, потому что именно таком сочетании он любил их больше всего.
— А ты возьми её с собой, — предложил я, усаживаясь напротив и подцепляя вилкой дряхлый пельмень.
Я нарочно вернулся к этой теме, чтобы Валентин Репин не жалел погодя, если Жанна уйдёт к другому; ищи-свищи потом, подумал я; чтобы локти не кусал, не плакался в жилетку и не грыз мне столешницу.
— Кого-о-о?.. — уточнил Валентин Репин таким тоном, что я поднял на него глаза и поперхнулся: он снял очки, и на меня глядело жесткое, сухое и абсолютно монументальное лицо сурового альпиниста, взошедшего на все самые высокие пики мира числом никак не меньше двенадцати; женщины от таких мужских лиц писают кипятком и визжат, словно сели на ежа.
Из меня самодовольно полез фаталист. «Всё равно никуда не денешься…» Однако на такие случаи жизни у него была своя поговорка. Звучала она так: «Легче в Анды сбегать, чем договориться с женщиной!»
— Жену, естественно.
— Ты, главное, не забывай, что Жанна Брынская — замужняя женщина, — напомнил он, выразив полнейшее равнодушие к мнению самой Жанны Брынской. — Я лучше на Белуху лишний раз схожу, душу отведу!
Каждый год он ездил на какие-нибудь сборы, а Жанна Брынская — в зимнюю Ялту, и в этом случае он жену почему-то не ревновал, а здесь взял моду ревновать к друзьям.
Как я понял, идея пригласить жену с собой, уже посещала его светлую голову, и, кажется, он её отверг в припадке гнева, ибо жена, как в Библии, должна была сидеть дома в ожидании мужа-гусара. Я представил, как он всё это выложил ей и как она, не желая быть безропотной Пенелопой, взвилась и перешла к вольной борьбе, то бишь использовала все свои женские штучки, в которых мужчины не разбираются и бессильны в силу своего природного благородства.
— Я, рыба, — самоуверенно заявил он, — в женщинах кумекаю лучше тебя.
— Это почему? — запротестовал я, не собираясь уступать пальму первенства.
— Видел больше, — шмыгнул он носом авторитетно, и вид у него был торжествующий, словно он научился резать стекло ножницами.
— Ой, ли?.. — поморщился я из упрямства.
Он посмотрел на меня удручающе из-под своих тяжелых, роговых очков. Его сентиментально-мужественная натура не позволяла признать равенства с женщинами.
— Знаешь, сколько актрис в день проходит через мои руки?
Он так и сказал: «через мои руки». Это значило, что Валентин Репин на пятом десятке лет дорвался до вожделения. Вот где собака зарыта, понял я.
— Нет, — сказал я, изобразив иронию, дабы он не зазнавался.
— И каждая вторая норовит залезть тебе в штаны, чтобы только пройти кастинг!
— Бедненький, — пособолезновал я.
Я давно догадывался, что если научиться передёргивать время, то прослывёшь гением. Похоже, эта идея тоже была знакома Валентину Репину, хотя он наверняка мог пострадать за домогательства.
— Тебе хорошо, — вздохнул он с прононсом, намекая на мою гнилую свободу и, не дождавшись, цапнул бутылку с арманьяком, словно я её оберегал от посягательств, как зеницу ока, и наполнил себе стакан, забыв, что я тоже пью всё, что горит. — А мне каково?!
— Да-а-а… — оценил я его двойственную порядочность.
— А сам что?.. — посмотрел он на меня с пренебрежением и влил в себя арманьяк, словно газировку, обиженно почмокивая на выдохе.
Временами он походил на человека, который обожал скуку, но стеснялся в этом признаться.
— Что?.. — Не хотел я глядеть правде в глаза.
— Сам не выполняешь долг перед одинокими красивыми женщинами! — укорил он, навязчиво, как гастритный голод, снова плеснул себе по самую риску и снова накатил, как будто боясь, что я заберу у него эту проклятую бутылку с качелями.
— Какими женщинами? — удивился я.
— Такими… — назидательно передразнил он и замолчал на полуслове, многозначительно выпучив глаза за стёклами очков.
— Ты посмотри, кто она и кто я! — яростно возразил я, догадавшись, о ком он говорит.
— Да она влюблена в тебя как кошка! — отыграл он мне пас назад.
— Иди ты!.. — растерялся я.
Мне вдруг стало стыдно, я-то вообразил, что моя новая должность, пятикомнатная квартира и личный шофёр — всё это и ещё много чего, так сказать, приятного — закономерный результат случайных, благоприятных события, и каждому третьему москвичу, если не второму, так же везёт в жизни, а оно вон как, оказывается. Спасибо тебе, друг, накручивал я себя, открыл глаза, сволочь, и решил, что пора сваливать из столицы туда, где ты нужнее и где тебя не будут упрекать, что ты альфонс, а просто дадут в руки автомат и поставят задачу держать какой-нибудь бугорок на огромном пространстве от Азовского моря до Харькова.
— Вот если бы у меня был миллиард! — мечтательно воскликнул Валентин Репин и, казалось, улетел к своим химерам в заоблачные дали.
— Зачем тебе миллиард? — вернул я его землю.
— Я бы снял свой фильм и никуда не ездил, — назидательно сказал Валентин Репин, мол, при этом варианте и волки сыты и овцы целы.
— А ты договорись с ней, — посоветовал я.
— С кем? — обозлился он из-за моей тупости.
— С женой своей, — оценивающе посмотрел.
— Как-а-а-к! — закричал он в исступлении. — Без мата по падежам уже не обходится!
Голубые глаза его давно выцвели. Слишком много солнца в горах.
— Даже так?! — склонял я его к плюрализму.
— Даже так! — не уступил он ни дюйма.
В этот момент они и пришли, и окончательно разругаться с Валентином Репиным мы не успели. Обе — молодые, весёлые, и жизнерадостные, с тортом «эстерхази» и шампанским «Вдова Клико» наизготовку. Обе чмокнули меня в щёки и беззлобно укорили за то, что я их объегорил. Этим дело и кончилось. Я вздохнул с облегчением: мой фокус с ранней выпиской не имел тяжких последствий, и чего греха таить, я даже подумал, что мне уже везёт в этом плане, и самодовольно распушил хвост, хотя отныне не мог глядеть на Аллу Потёмкину беспристрастными глазами, умел Валентин Репин испортить жизнь.
Пока я ходил открывать дверь и извинялся таким образом, Валентин Репин быстренько разоблачился, переобулся и даже вылизал следы свои ног. Жанну Брынскую он встретил с заискивающей улыбкой раскаявшегося во всех грехах мужа. Хамелеон, подумал я со злорадством, хамелеон!
— Даже сумки не разобрали! — обнаружила она наш злой умысел и потащила их на дубовый стол к стеклянном углу между кожаными диванчиками.
Этот уютный уголок, сразу же за барной стойкой, между угловыми окнами, где можно было вволю сибаритствовать, очень даже мне нравился, но я его ещё не успел обжить, и к счастью, с жеребёнком мы сюда не добрались — место было светлым, а жеребёнок любила камерную обстановку с тёмными шторами и ночными, загадочными светлячками.
Алла Потёмкина, не отрывая от меня взгляда, прошлась по другую сторону барной стойки, с осуждением покрутила носом на мою стряпню, заявила, что пельмени на сегодня отменяются, и вылила их в раковину. Пельмени, действительно, развалились, как только закипела вода.
Я поймал себя на том, что слежу за ней, словно она в бикини. Надо сказать, что смотрелась она в нём великолепно, особенно бёдра и то место, которое было прекрасным, как тугой бутон розы. А ещё у неё было изумительное галифе. Мне нравились женщины с галифе, а не женщины, похожие на палочку для эскимо. То ли из-за этого, то ли ещё из-за чего-то, мне показалось, что между мною и Аллой Потёмкиной возникла приятная «космическая связь», как выразилась рыжая героиня сериала «Кухня». Но я не хотел ошибиться и зря не вилял хвостом, поджимая его на всякий случай, чтобы не попасть впросак. Сказывались многолетние психологические установки и чувство самосохранения, да и Инна-жеребёнок ещё не выветрилась у меня из головы, а где-то за ней маячила ещё и Валесса Азиз, которую я, честно говоря, тоже забыть не мог.
— А Вера Кокоткина замуж вышла, — сказала Алла Потёмкина, тряхнув прекрасной головкой, с ровным, как хирургический шрам, пробором тёмно-каштановых волос, которые от природного избытка завивались на кончиках.
— За кого? — спросил я, думая о её ногах, какие, должно быть, они гладкие и переливаются волнами под брюками, такого кричащего фасона, что она казалась в них обнаженной.
— За Зыкова, — так же незамысловато ответила Алла Потёмкина.
Но я-то знал, что она почему-то себя сдерживает, своего чёртика, которого порой проскакивал в её глазах, и озеро расплавленной лавы колыхалось в них.
— За того?.. — на всякий случай уточнил я.
— За того самого, — кивнула она на этот раз с усмешкой, потому что поняла меня с полуслова; и между нами возник маленький-маленький доверительный заговор, словно мы говорили на одном тайном языке.
Она принесла с собой туфли, и в них казалась выше и стройнее, и лодыжки у неё были такой прекрасной формы, что Леонардо да Винчи впору было рисовать их с разных ракурсов. Такие ноги были только у моей жены. Сердце защемило от мысли, что всё кончено.
— Такой подслеповатый альбинос, в толстых очках? — в тон её незлобливо спросил я, пытаясь абстрагироваться от воспоминаний.
Впервые я заподозрил, что мы с Аллой Потёмкиной очень похожи в оценках суждений. Такое у меня было только с моей женой. Я вспомнил, что она меня в самом начале нашего школьного романа сильно удивила этим: она не была похожа на наших дёрганных и кривляющихся одноклассниц; но всё равно мы не смогли с ней, как я вознамеривался, поладить на всю оставшуюся жизнь, а под конец, вообще, предпочли душевно разбежаться. Анализируя наш брак, я пришёл к выводу, что мы поженились из-за того, что не хотели расставаться с нашим школьным прошлым, в котором мы прятались до поры до времени, и нам было хорошо вдвоём ровно до того момента, когда это школьное прошлое потеряло всякий смысл и его заслонили другие времена, к сожалению, не столь интересные для нас обоих.
— Да, — ответила Алла Потёмкина очень просто. — Начальник планового отдела.
И опять в её голосе не прозвучала ирония, что с моей точки зрения было большим плюсом. А у Зыкова, между прочим, даже ресницы были белыми, как ватман, а волосы на руках — как шерсть у гоблина. Было над чем посмеяться. Как он умыкнул такую красоту, как Веру Кокоткину, одному богу известно. Косое каре с длинной чёлкой, очевидно, сыграли фатальную роль, и я приложил к этому руку, стало быть, я как минимум их крёстный отец.
— А Лера Плаксина уволилась, — добавила Алла Потёмкина, хотя, с моей точки зрения, по степени важности новости надо было поменять местами.
Пока Репины тихо пререкались, выясняя кинематографическую ситуацию, я с изумлением опёрся на барную стойку и услышал свой голос:
— Ка-а-к?!
Я даже забыл, что у меняя до икоты болит левый бок.
— Не знаю, — пожала она хрупкими плечами. — Захотела и уволилась.
Но я-то понял, что знает. У меня было зверское чутьё на женскую ложь даже в устах такой суперумной женщины, как Алла Потёмкина.
— У неё же не было мотива! — высказался я не без сомнения.
Она посмотрела на меня, сообразила, что я её раскусил, лицо её изменилось, она покраснела.
— Мотив был… — таинственно согласилась Алла Потёмкина, убирая глаза.
— Какой? — удивился я тому, что случайно оказался прав.
А ещё меня стала пугать мой проницательность. Зачем она мне такая, мешающая жить?
— Мой муж… — сказала она, словно шагнув в кипящую воду.
Тут до меня наконец дошло: и намёки, когда мы ехали из Красногорска, и мои вполне оправданные версии, и я спросил, хотя ещё не всё понял:
— Тогда почему?..
«Тогда почему ты её держишь?» — должен был спросить я, но постеснялся из-за ложной скромности.
Она ответила без обиняков, словно прочитав инструкцию по греховедению:
— Чтобы она мне напоминала, что жизнь несовершенна.
Я сделал изумлённое лицо, надеюсь, оно осталось интеллигентным. Алла Потёмкина окончательно меня запутала: сделала ключевое заявление, не предупредив, когда надо воскликнуть: «Ах!» и зааплодировать моей проницательности.
— Это оберегло меня от многих ошибок! — сцепив зубы, объяснила она, словно я ступил на заповедную территорию, куда вход запрещён под страхом лишения живота.
Хотел бы я побывать на ней дольше, посмотреть, что да как, правда ли, что здесь хлеб с маслом едят да коньком запивают, да не получилось: Алла Потёмкина быстренько закрыла тему, мрачно блеснув своими умопомрачительными голубыми глазами, у меня же язык не повернулся к расспросам.
Видно, она много думала о Лере Плаксиной с разных точек зрения, откладывая по непонятным причинам казнь на потом. До этого я встречал прозорливых женщин, но чтобы такую, как Алла Потёмкина, разумеется, нет. Я был поражён в самую печень со всеми вытекающими отсюда последствиями, как то: удивления до икоты в левом боку и догадкой о том, что у мужа Алла Потёмкина был роман с Лерой Плаксиной, потом муж куда-то делся, а Алла Потёмкина в назидание самой себе долго и нудно возилась с Лерой Плаксиной, как в доме престарелых. Только зачем? Кто в здравом уме будет этим заниматься, даже для самосовершенствования? Только страждущая натура, только она, подлая. Вот это да! — подумал я. Да здесь целая тайна! И поставил себе маленький вопросик, на который следовало найти скоропалительный ответ.
— Вот как? — сказал я сам себе и сообразил, что Лера Плаксина ещё была для Аллы Потёмкиной, как игра «дартс», чтобы изощрённо всаживать дротики мести, и я один из них, причём главный. Впрочем, если здесь замешан муж, то это почти что объясняет ситуацию, за исключением долготерпения Аллы Потёмкиной, но теперь ситуация, похоже, вышла из-под контроля, и Лера Плаксина ушла, гордо вскинув красивую стареющую голову с ровным, как стрела, пробором. Вопрос, почему? Может, у неё просто лопнуло терпение? Может, ей надоело ждать? А вдруг это она стреляла в меня? — неожиданно подумал я, в смысле, с её подачи?
К тому времени я уже подозревал, что комбинации в жизни выпадаю случайно, а мы воспринимаем их как закономерность и мучаемся над загадками.
— А что с мужем? — решил я разобраться с недомолвками.
— Не хочу об этом говорить, — вдруг сказал Алла Потёмкина странным голосом.
Во взгляде её промелькнули чувства и реакция. А-а-а… у тебя тоже разбито сердце, — удивился я и заткнулся, испытав ревность к человеку, которого не знал, и вдруг чувствуя себя третьим лишним на кухне, словно здесь появился ещё один человек.
— Скажу только следующее, — добавила она, чуть-чуть приоткрывая занавес. — За пять лет замужества я успела натворить столько ошибок, которые иные не успевают за всю жизнь.
Было заметно, что она недовольна собой, что признание стоило ей большой храбрости, потому что намекало на такие вещи, о которых не говорят в приличном обществе. Признаться, я ничего не понял. Воображение моё разыгралось, но быстро потухло, как костёр на ветру.
— Прости… — сказал я и подумал, что она, похоже, пережила то же самое, что и я, и оттого и холодная, и расчётливая, как игрок в покер, и не доверяет никому, даже самой себе, потому что знает за собой минуты слабости.
— Ничего… я уже привыкла, — сказала она и включила газ, чтобы разогреть картошку, приготовленную Жанной Брынской, а потом снова повернулась ко мне. — Я почему на тебя надеюсь больше, чем на кого-либо другого… — она подняла на меня свои прекрасные голубые глаза, улыбка блеснула на её губах, но не прежняя, строгая, а с каплей нежности, — потому что… — она протянула руку и дотронулась до того места, где, как я считал, затаился осколок, — мы с тобой похожи!
Единственное, в чём мы наверняка с ней расходились, так это в цвете глаз, потому что они у меня с роду серые, а на свету — прозрачные, почти выцветшие, как дно лужи, а у неё — как циферблат моих старых, а также новых армейских часов, тёмно-голубые, синие в комнате и голубые, как июльское, вечернее небо.
Примерно так я об этом ей и сказал. Она рассмеялась моей шутке, всё так же пристально глядя мне в глаза, и оценивая их по своей шкале искренности.
— Нет… — покачала она головой, должно быть, придя к положительному решению, — у тебя волчьи глаза, а вот здесь… — дотронулась до левой брови, — шрам-звездочка.
И, ей богу, в её глазах промелькнули те счастливые чёртики, когда женщина влюблена, но жизненный опыт её сдерживал. Если бы не Репины, то что-то обязательно должно было произойти, однако, они деликатно ссорились в углу, и молнии, проскакивающие между ними, казались пустопорожней тратой энергии по сравнению с тем, что испытывали мы с Аллой Потёмкиной. В эротических фантазиях она у меня уже была, теперь — наяву, и я великодушно дал в себя влюбиться.
— Я не помню, откуда он у меня, — сказал я, чтобы только не покраснеть от воспоминаний о Нике Кострове.
Я действительно, не помнил, я ловко замаскировался; в ту пору меня было столько ран, что мелкие не шли в счёт. Должно быть, этот шрам был ещё со времён Лисичанска, вспомнил я на мгновение, уносясь в те бои и шкурой чувствуя их накал и, как всегда, отвращение к самому себе за то, что не сумел вытащить Лося, которого придавила сосна. Мне часто снилось, как я приподнимаю её верхушку, он протягивает руку, я тащу, тащу, а вытащить не могу, и он просит его пристрелить. Потом всё это заслонила смерть жены, и мне долгое время не было дела до моей внешности.
— Ты думаешь, со мной просто, как с современными женщинами? — вдруг с непонятным вызовом спросила она.
Почему она спросила? — с замиранием сердца подумал я, сообразив, что всё же каким-то образом выдал себя. Неужели из-за Инны-жеребёнка, присутствие которой, казалось, ещё ощущалось в квартире? И поспешно согласился:
— Нет, с тобой сложно.
Сложнее всего было с Наташкой Крыловой. Она была девушкой, знающей себе цену, а потом оказалось, что эта цена преувеличена, точнее, я сам её вознёс, эту цену, до небес и долгое время не хотел себе в этом признаться; и этот факт тоже было моей горечью.
Мы смертельно рассорились прямо на выпускном вечере и после этого не виделись долгих три года. Я уже подумывал о другой любви, потому что эти три года были наполнены мучением и тоской. Три года для молодости — это как тридцать лет в старости, очень много, просто бездна времени. Оказывается, я мог встречаться с девушками только по любви. И спасть с ними — тоже по любви, а так как ни в кого не мог влюбиться, то ни с кем и не спал. Один раз я по неопытности попробовал переспать с кухаркой Юстиной из детсадика напротив нашей пятиэтажки; но ничего хорошего из этого не вышло, хотя я всё сделал правильно: и в луна-парк её сводил, и мороженым угостил и даже лёг с ней в постель, но не вышел из своей роли брошенного любовника; больше я не пытался изменить карму, быстренько сообразив, что не стоит предавать самого себя и Наташку, пусть она меня тогда и не любила.
— Миша, — вдруг окликнула меня Жанна Брынская из своего угла на диване, где она сидела, поджав ноги, как нахохлившаяся птица, рассерженно пялясь на мужа, — ты на моей стороне?..
Я оглянулся, встретившись с тревожным взглядом её прекрасных карих глаз, и понял, что она в панике: оказывается, что они молчат уже целых пять минут, набычившись, каждый на своём диване, да ещё в противоположных углах.
Я понял, что Валентин Репин мотал жене нервы с присущим ему артистизмом, проявляя при этом нехарактерную тонкость ума.
— Конечно, — без заминки ответил я, даже не осмеливаясь покоситься на Валентина Репина, дабы не ухудшить и без того безнадежную ситуацию.
— Тогда объясни, почему Валик едет снимать кино без меня?!
Вопрос был из серии: «Скажи мне, только честно!» и заставлял впадать в состояние ступора потому, что как можно ответить, не предав Валентина Репина?
— Ну… я не знаю… я вообще, не в курсе, — извивался я, словно угорь на сковородке. — А что, он куда-то едет?
Это уже был перебор. Я переиграл сам себя. Алла Потёмкина снисходительно покачала прекрасной головой, мол, заврались мальчики, и изобличила меня с головой. На её губах блеснула всепонимающая улыбка.
— А-то ты не знаешь?! — усомнилась Жанна Брынская.
Я понял, что переоценил свои возможности, ибо Жанна Брынская раскусила меня, как задачку первоклассника.
— Валик что-то говорил, но я не обратил внимание, — сделал я попятную.
— Так я и поверила, — пригвоздила меня в стене позора Жанна Брынская. — Знаю я вашу мужскую солидарность!
Она была своеобразной красоты, тёмно-рыжая, усыпанная веснушками, веснушки у неё были даже на пальцах. Чудная полька, что с неё взять?
— А раз знаешь, то чего спрашиваешь?! — хмыкнул Валентин Репин, явно давая мне передышку, чтобы я собрался с мыслями и вдохновлёно врал дальше.
— Поэтому и спрашиваю, что знаю! — передразнила она и его. — Ну, что?.. — посмотрела она на меня своими глубокими, как омут, глазами.
— Я бы взял! — признался я, избегая взгляда Валентина Репина.
Он с возмущением наставил на меня палец и сказал, выпучив глаза:
— Ещё один предатель!
Я понял, что мужество — страшный дефицит в жизни. Что стоило Валентину Репину сказать Жанне Брынской: «Едем!» и не понуждать меня к вранью, но он предпочитал хитрить и дальше.
— Целый год жена будет пропадать одна, а он будет там развлекаться! — крайне язвительно укорила его Жанна Брынская.
— Я еду работать! — закричал Валентин Репин, задрав небритый кадык в потолок. — У меняя минутки свободной не будет!
Он поискал, чем бы залить горе, но бутыль с арманьяком стояла на барной стойке, и от него исходил тонкий запах поджаренного хлеба.
— Отлично! Значит, я буду приходить только по ночам! — не поддалась ему Жанна Брынская.
Валентин Репин зарычал, как раненый зверь, схватил бокал, я приготовился, что он швырнет его в стену, а он слёзно попросил:
— Налей чего-нибудь покрепче!
Крепче «арманьяка» у нас ничего не было, крепче были только слёзы Жанны Брынской, но она их ещё не проронила.
— И мне тоже! — потребовала Жанна Брынская, делая вид, что ни в чём не уступил мужу.
— Брейк! — решительно скомандовала Алла Потёмкина на правах старшей по званию. — Брейк! Объявляется мораторий до утра!
И все моментально успокоились, словно только и ждали этого знака. Я потащил на стол «Чёрный дуб Гаскони»; Алла Потёмкина подала картошку; Жанна Брынская открыла холодец с чесноком, всякие салатики и её любимые паштеты. Валентин Репин, гремя хрустальными бокалами, разливал шампанское.
Мы сели ужинать к удовлетворению всех сторон без исключения.
— Дома договоритесь! — миролюбиво сказала Алла Потёмкина. — Правда, Валик?
— Правда, рыба, — кивнул Валентин Репин, нервно расплескивая мадам Клико.
И грудной его прононс звучал особенно грустно.
Глава 6. Киношная суета
В тот вечер она тоже не осталась у меня, хотя, казалось, всё способствовало этому и приятый вечер и сумерки за окном, и хорошая трапеза, и тихая, печальная музыка, которую выбирал Валентин Репин в соответствии с настроением; и только Лось укоризненно, глядел на меня оттуда, из недалёкого прошлого, где всё ещё шла война. Я мог остаться там, вместе с ним, но не остался и чувствовал себя не знаю каким предателем; я часто думал, что надо было позвать кого-нибудь из взвода и мы бы приподняли эту чёртову сосну; и от этого испытывал такие угрызения совести, что хоть в петлю лезь. Теперь-то я сообразил, что от смерти меня увело провидение, Лося нельзя было спасти, что он был обречен и что, должно быть, до сих пор лежит там, под этой чёртовой сосной. Но от этого мне не становилось легче. Я даже не делал себе поблажку на горячку боя, на миномётно-артиллерийский обстрел, не говоря уже о том, что с флангов по нам вела огонь бандеровская пехота при поддержки танков и что «кабанчик», взорвавшийся позади, в метрах пятидесяти, ударил меня в ногу, и меня впервые контузило. Надо было вытащить Лося, и баста! С тех пор любая мысль о войне причиняла мне физическую боль. Знакомый врач объяснил, в чём дело: травмирующие мысли вызывают выделение определенных белков, и ты не можешь ничего с собой поделать, пока они не утилизируются. Только Ника Костровые в те дни любила меня. Если бы не она, я бы лёг костьми там, в степи. И я вспомнил её нежность, которая хранилась у меня под тоннами иных воспоминаний. Однако Ника Кострова так и не пришла ко мне в госпиталь; стало быть, всё было кончено.
Мы перешли танцевать в большую комнату, и Репины, похоже, помирились, потому что голова Жанны Брынской наконец покорно склонилась на плечо Валентина Репина.
— Слава богу, — прошептала Алла Потёмкина и сжала моё плечо в знак удовлетворения.
Она просто сказала: «Слава богу»; и я ощутил, какой я старый, мудрый и что во мне, действительно, затаился осколок величиной с пять рублей — так было страшно за всех за нас, за непонимание, за отчуждение, за тот последний рубеж, который мне так и не удалось преодолеть с моей Наташкой. И похоже, я начинал заново, потому что Инна-жеребёнок была не в счёт. Разве что Ника Кострова? Но она сгинула в этой войне, и я не хотел думать о том, что она меня забыла. Должно быть, у неё были на то веские причины.
Вдруг в памяти, как на патефоне, провернулась старая пластинка с нейро-мелодией «Девушка из Нагасаки», и перед глазами ни к селу ни к городу всплыла Валесса Азиз из своей Америки; и я сделал стойку, как старый, опытный пойнтер, но что толку?
— Что с тобой? — спросила Алла Потёмкина, уловив моё состояние.
— Извини, вспомнил не к месту, — обманул я её, воображая, что всё ещё имею на это право.
Много ли человеку надо, просто — всего-навсего хорошие мысли, которые греют душу в минуты слабости. Я не знал, я, вообще, не знал, зачем мне нужна Валесса Азиз, но она неизменно появлялась, словно всегда незримо присутствовала где-то рядом. Я не понимал, почему так происходит. Просто она являлась, и всё, без всякого предупреждения, а потом пропадала неизвестно куда.
Потом мы снова сели за стол с намерением прикончить то, что осталось в бутыли на качелях; ели торт «эстерхази», пили красный чай «ройбуш», а рядом сидела та, которую, мне казалось, я люблю и не люблю одновременно. И похоже, она испытывала те же самые чувства; и эта двойственность ситуации была хуже всего, потому что мы перегорали, как лампочки в полнакала, каждый выстраивая свою версию происходящего, не в силах шагнуть от частного прошлого к нашему общему будущему, где правила совсем другие, где нравственность на первом месте, а честность — такой залог, который не каждому по плечу.
Потом наступил момент, когда я почувствовал себя алкоголиком мира, и был какой-то провал, я очнулся в большой комнате, на диване, в страшно неудобной позе, с подвёрнутой ногой; они спешно собирались домой, причём на разных такси. Первой, как раненая птица, унеслась Алла Потёмкина.
Неловкое топтание в коридоре, дежурные поцелуи, натянутые лица, словно мы были в чем-то виноваты. Зачем тогда все эти слова? — разочарованно думал я, с укоризной глядя на Аллу Потёмкину, которая в свою очередь искусно избегала моего взгляда, предпочитая миленькое сюсюканье и поцелуйчики с Жанной Брынской. Валентина, как мужчину, она преднамеренно сторонилась; и мне это понравилось. Мне вообще понравилось, что она вдруг стала моей. Это ощущение роднило и сближало, давая надежду на глупое-глупое счастье; и я поддался ему, не в силах устоять, и сердце моё забилось, как перед прыжком с трамплина. Но Алла Потёмкина ушла, блеснув на прощание белозубой улыбкой.
Затем подались Репины, естественно, по-русски, со штрафной, естественно, с долгими прощаниями и заверениями в вечной дружбе. Валентин Репин высказался, что в этом смысле нет равных русской натуре, всплакнул, полез обниматься, мы ещё приняли на грудь, и Жанна Брынская унесла его на руках.
И тут я сообразил, почему Инна-жеребёнок замешкалась на выходе: пока я прицеливался, чтобы пнуть её рыжего дружка, она вместе с ключами оставила тюбик губной помады, засунув в его в угол между платяным шкафом и стенкой, как раз за кругом света канделябра. Тюбик бросался в глаза лишь тем, кто входил в квартиру, поэтому я его не сразу заметил.
Алла Потёмкина больше не придёт, ужаснулся я, всё кончено, и поплёлся, как сомнамбул, на кухню, где, как я помнил, остался верный и надёжный «Чёрный дуб Гаскони», но к моему ужасу, бутыль оказалась пустой, зато в воздухе стоял стойкий запах рансьо и чернослива. Пока я соображал, как мы умудрились вымыть пол «арманьяком», пока прикидывал, что теперь делать в этой чёртовой жизни и вспоминать, где в Новоясеневской автостанция, в дверь настойчиво позвонили три раза.
Кого чёрт принёс? — в раздражении удивился я и подался открывать, даже не взглянув на монитор. У порога стояла она — Алла Потёмкина и вопросительно глядела на меня. Такой взгляд был только у моей кошки, когда она вовремя не получала еды. Неужто из-за помады? — ужаснулся я и приготовился к самому худшему — вышвыриванию пинком под зад не только из казённой квартиры, но и из сердца вон.
— Я, кажется, делаю глупость… — сказала Алла Потёмкина, делая шаг через порог и крепко беря меня за руки, — но не могу больше ждать! — Приподнялась на цыпочки, пахнула духами и поцеловала меня, вначале робко, словно примериваясь, а потом по-настоящему, чувственно, с замиранием и с ощущением падения где-то в крестце.
И мне, как тогда, когда я впервые увидел Аллу Потёмкину, вдруг очень захотелось оглянуться, потому что я не представляя, что могу нравиться таким шикарным женщинам.
Она идеально смотрелась для сватавшейся женщины, её нельзя было упрекнуть в отсутствии вкуса и такта; и я понял, что это и есть та зрелая любовь, о которой я слышал, но которую прежде никогда не испытывал. Вдруг словно в подтверждении тихо и красиво где-то в небесах прозвучали божественные ноты «каприса 24», подхватили нас, понесли, и все мои сомнения, переживания и глупые мысли полетели к чёрту, как бумажки на ветру. И даже Валесса Азиз побледнела в своей далёкой Америке, не говоря уже о Инне-жеребёнке с малахитовыми глазами.
— Ты не религиозна? — спросил я наполовину всерьёз, давая ей шанс, превратить всё в милую, ничего не значащую шутку.
— Нет, — не отступила она, глядя на меня, запрокинув голову, серьёзно и честно, и принимая мою игру с такой небывалой искренностью, что я испугался и почувствовал себя заложником небывалых обстоятельств, которые случаются только раз в жизни.
— Слава богу! — обрадовался я, потому что моя жена таскала меня по всякого рода религиозным мероприятиям, пока я не взбеленился.
— Я тебя буду откармливать, — сказала она, — пока у тебя здесь складки не пройдут.
— Где?
— Вот здесь, — она коснулась моих щёк.
Потом она увидела помаду на тумбочке и сообщила:
— До тебя в этой квартире жила наша главная бухгалтер, Галочка Андриянова. Это её помада, очень дорогая, кстати.
Я вспомнил: маленькая, худая женщина с хищно вырезанными ноздрями и плоскими, как у лемура, пальцами. У меня отлегло на сердце: фортуна всё ещё была на моей стороне.
— Давай-ка я ей передам, — сказала она и кинула тюбик себе в сумочку.
И снова у неё был шанс беспечно рассмеяться и уйти. Но она не рассмеялась и не ушла, и я едва не устрашился, понял окончательно и бесповоротно, что у нас будет долгий-долгий сердечный роман, наполненный муками, томлением, печалью и страстью, и что вначале он будет тайным, как всякий грех, иначе Алла Потёмкина просто осталась бы ночевать, а не выкинула бы фокус с такси и возвращением. Она просто не хотела, чтобы о нас знали даже Репины. Так она хотела, и так произошло.
И я сдался, забыв о своей безысходности, и наше общее будущее началось ровно с момента любовного поцелуя.
Ночью у неё было такое же беззащитное лицо, как в больнице, когда она склонялась надо мой из своего далёкого прошлого, которое мне ещё предстояло узнать, и глубокая печать охватила меня, ибо я знал, что всё, как и с Наташкой Крыловой, кончится ужасно, только не видел деталей, которые мне предстояло угадать погодя.
Я тут же хотел рассказать ей об этом, чтобы она не связывалась со мной, чтобы бежала за тридевять земель, как от прокажённого, но на утро к своему большему удивлению обнаружил, что бок у меня даже не свербит и что я — почти что не хромаю. И я подумал, а вдруг на этот раз пронесёт и мы проживём долгую, счастливую жизнь до гробовой доски, и смалодушничал, поддался искушению, напрочь забыв об осколке в лёгком, который мог убить меня в одночасье.
* * *
Роман Георгиевич вспомнил обо мне, как только наступила лёгкая московская весна, и по небу то и дело пробегали тяжелые, мрачные тучи, а с севера дул порывистый ветер.
Я поправлять словно по мановению волшебной палочки. В тот день, когда он меня навестил, я весил уже все девяносто девять килограммов, не считая галстука, и одежда уже не болталась на мне, как на пугале, хотя лицо всё ещё казалось сделанным только из одного моего огромного, как любя говорила моя жена, шнобеля. Однако на свой левый бок я опасался смотреть, хотя швы мне давно сняли, и раны заботами Аллы Потёмкиной уже не тянули, но всё равно — со спины я был страшен, как поротый Алёша Пешков.
Кажется, была среда, и я пребывал на казённой квартире в шаговой доступности, как премило пожелала Алла Потёмкина, намекая, что виртуально, визуально и душой я буду присутствовать в её офисе, точнее, в её кабинете, сама же, несмотря на все мои возражения, выгнала меня в полугодичный отпуск «на поправку, и баста!» Я ждал её вечером; в холодильнике лежала бутылка прекрасного французского шампанского, а на стол в нашем уютном гнёздышке на кухне, украшенным огромный букет роз, к вечеру должна была быть подана тушёная утка с яблоками, которую я сам же вознамерился приготовить. И я усиленно фантазировал на эту тему и ещё на одну, связанную, естественно, с Аллой Потёмкиной, и был чрезвычайно воодушевлён.
— Мне уже из «военн-фильма» насчёт тебя звонили! — как обычно, радостно трясясь, закричал Роман Георгиевич с порога.
Он прямо таки светился от счастья. Я надеялся, что распирающее его самодовольство проистекало от того, что он нашёл талант не где-нибудь, не в столице, не в стране печатного станка и не у либералов под мышкой, не в Париже, Германии или Израиле, а в нашей глубоко занюханной, только что освобожденной от бандеровцев провинции, которая, по идее, не должна рожать ничего и никого, кроме героев-добровольцев для фронтов Донбасса, пятиколонников прилепиных и бездарных щелкопёров местного разлива на осадке; и похоже, его обуял чисто спортивный интерес, что из этого всего выйдет и выйдет ли вообще? Кто ещё Москву так хитро плечиком подвинет? В воздухе витала сенсация под знаком вопроса в зловониях столичного невежества, фанфаронства и чванства.
Естественно, Роман Георгиевич мне многое не рассказывал, но можно было догадаться, что планы у него, как у Наполеона со взятием Москвы.
— И что?.. — с выдержкой спросил я, понимая, что, к сожалению, он банкует и выбирает вектор движения, а я всего лишь конь в его шахматной партии, на котором он гарцует в нарушении всех правил, и по диагонали, и туда-сюда, и сюда-туда — и в панамке, и в шарфике с помпончиками, норовя сделаться ферзём.
— А фигушки им! — величественно покрутил Роман Георгиевич дулю в расплывчатое московское пространство и с любопытством юнца подался вглубь квартиры, суя по углам свой нос картошкой, очевидно, полагая, что я прячу там вдохновение в виде шикарной блондинки типа Мэрилин Монро, и он с ней закрутит такое танго, что мир вздрогнет.
По пути он многозначительно покосился на чёрные туфли Аллы Потёмкиной, выглядывавшие из-под обувной полки. Его горб, от которого на стены падала уродливая тень, был знаком королевского величия.
Я понимал, что Роман Георгиевич каждый раз покупает меня за понюшку табаку, за аванс, за надежды, а если ты даёшь повод, то с удовольствием поупражняется и в самодостаточности, сидя у тебя же на шее; но деваться было некуда от его ухарской натуры; и я решил: будь что будет, других союзников нет, в кои веки я ещё кому-то понадоблюсь, главное, чтобы он сильно не натёр себе седалище, а мне — шею.
— Собирайся! — со странным выражением на лице обернулся Роман Георгиевич, забавно перебирая короткими ножками и прислушиваясь к эху квартиры.
Что это значит? — вопросительно уставился я на него, однако, он вовремя, а главное, царственно отвернул лукавую морду не в смысле насмешки, а в смысле непонятно какого поощрения, сокрытого под маской тщеславия.
Ого! — прогнулся я от странного предчувствия. Что-то больше и значительное глядело на меня из будущего и звало к себе, впрочем, я ничего не понял, кроме того, что это был аванс.
— Куда? А по коньячку? — и перевёл всё в шутку, потому что любая лесть, даже закамуфлированная, питала моё честолюбие, и я боялся сглазить.
— Как, «куда»? — вытаращил он глазки, опуская за ремарку по поводу коньячка и с любопытством горбатого зверька удостоверяясь, что в пейзаже за окном не пропали ни Москва-река, ни «Сити», ни «Багратион» заодно. — У нас же договор, — с ехидным укором склонил он голову, как собака Павлова. — Я тебя жду! И не я один… — вдруг добавил с хитрецой, которая ему крайне шла, как женщине Джакондовская улыбка.
— А кто ещё? — испугался я, полагая, что шутки в таком деле преступна, как дезертирство на войне.
— Увидишь, — высказался он так, словно подталкивал меня к пропасти.
И я понял, что я его личная вещь, куш, с которым он носится по Москве и шантажирует всех неверных. Должно быть, он получал огромное удовольствие оттого, что дразнит либеральных гусей, плюет на мнение разнокалиберных экспертов и созывает русскую рать под знамена актуальности. Интересно, надолго у него хватит пороха, подумал я, скрестив пальцы, и когда на меня спустят всех борзых, чтобы я огрёб по полной, чтобы сгинул в своём Донецке и чтобы не ковырял столичный гадюшник, а помалкивал до гробовой доски.
И мы поехали. Я безуспешно ломал голову, кому я понадобился, и втайне надеялся, что какой-нибудь записной красотке, которая заочно влюбилась в меня по фотографиям, а объясниться по вай-фай стесняется. Даже Алла Потёмкина отступила на задний план и грозила оттуда модельным пальчиком.
— Амалии Рубцовой, — насмешливо раскрыл карты Роман Георгиевич, видя мои страдания.
Оказывается, действительно — всего-навсего «режиссёру по актёрам», да и то лишь для того, чтобы сдёрнуть (именно, сдёрнуть, а не спустить) вашего покорного слугу с небес на землю, однако, хищная, как гарпия.
Оказалось, что Амалия Рубцова — это три килограмма краски на мертвенном лице, кожа, как пергамент, и огромные очки на крохотном носике без переносицы.
Самое страшное, что она была деловой до невозможности, сухой, как всякий бумажный червь, сутулой, как лопата грабарка, и с презрением в душе на пол-Москвы и окрестностей. Как только она меня увидела, на лице у неё поселилась маска крайнего неприятия, мол, Испанов мне не указ! И хотя я давным-давно, ещё до покушения, изложил все свои благие пожелания и вместе со сценарием отослал Роману Георгиевичу, «Потребовалось кое-то уточнить», — заверил он меня не без тайного умысла. Если бы я сразу понял его вавилоны, то не приблизился бы к «режиссёру по актёрам» на пушечный выстрел. А великий умысел его заключался в том, что он натаскивал меня на киношных подмостках, чтобы я приобрёл столичную хватку и стал столичным волком с острыми зубами и колючим языком.
Кастинг, кстати, проходил в тёмном камерном зале с ярко освещенной сценой, на которую выходили безликие, как манекены, женщины. Никого из них я не узнавал даже приблизительно, то есть это был третий состав пятой оперы десятого контингента. Все они были по моде сухопарыми и фитилявыми, с гордыми шеями и твёрдой походкой, словно из-под одного штампа, больше смахивающие на чрезвычайно породистых лошадей. Даже голоса у них были однообразными, исключительно сценическими, великолепно поставленными, хотя без всяких претензий к первоисточникам. Нет, все красивы и соблазнительны, с прекрасным вкусом и точёными лодыжками, спору нет, обаятельны до умопомрачения, и умны до безобразия, их так учили и накачивали в их институтах и театральных школах; но… без шарма, изюминки, без индивидуальностей, без полёта, и до Панинского стиля и его энергетики не дотягивали и половины, а ведь речь-то шла о кино без всяких скидок, поблажек, дураков и наивностей. К тому же я ожидал, что кастинг — это нечто праздничное, торжественное, с приятцей, что ли, с искрой веры в себя хотя бы. А здесь всё убито одной сплошной постановочной рутиной; вот они и скисали раньше времени вместе со мной под замечаниями этой патентованной мегеры, у которой кончились гормоны, и она видела мир сквозь призму трафаретной морали.
Амалия Рубцова сняла очки, близоруко покосилась на меня, как на арбузный хвостик, и, не обращая больше внимания, излишне старательно, как мне показалось, принялась руководить процессом кастинга: «А можете вы пройти походкой гуся?» или «Отойдите в угол и изобразите веник». Веника у меня в романе не было; паутина в углу была, не спорю, но веника не было и в помине. Потом, когда актрисы на сцена потерялись за её замечаниями, а нелюбезность стала поперёк горла, Амалия Рубцова повернула ко мне лицо, злое, раскалённое, и поведала убийственно-ледяным тоном без всякого обращения к арбузным персоналиям.
— Этих претенденток нет! — Крайне нервно порылась в своих талмудах и отшвырнула мои записки, словно чумные. — И этих тоже! Этих подавно! А этих тем более!!!
Это была месть столичной неудачницы по жизни, хотя и не по адресу — я-то при чём; по мере воодушевления, Амалия Рубцова всё больше распалялась; и листки к моему нервическому расстройству ложились ненужные, как листопад в сентябре. На пол полетала даже фотография Ольги Мартыновой, к которой я питал самые нежнейшие чувства и с которой лепил главный женский образ, и молился, и плакал над неё по ночам, потому что мне нужно было с ней сродниться, чтобы понять её характер, умной, волевой женщины под стать Андрею Панину, человеку в высшей степени организованному, а не просто так валяющему дурака перед камерой.
Я поднял её фото, бережно сдул пыль и спросил, чуть не плача:
— А почему?
Я готов уже было подумать, что, может, так и надо, что они здесь все сплошь гении, в этом киношном гадюшнике прекрасного и неизбывного, и готов был пойти на уступки в лице Татьяны Чуприной, актрисы из «Гальдемаринов», женщины волоокой, роковой и красивой до умопомрачения, с которой я тоже сроднился, как с самим собой. Уж, казалось, против неё никаких возражений нет; единственно, я подозревал, что она успеет состариться и умереть при таком подходе к делу.
— Занята в других фильмах! — отрезала Амалия Рубцова, как гильотиной, словно я был неестественно туп и мне надо было открыть глаза на суть вещей, и что я, вообще говоря, абсолютно здесь лишний человек, букашка на шпильке, ничтожество в сто двадцать пятой степени истёртых башмаков.
Я огорчился до трясучки в коленях и, кажется, промямлил, не контролируя процесса своего душевного разложения:
— Плохо, я как раз под них писал.
Амалия Рубцова издала презрительный смешок насчёт ударения, который я слегка попутал от волнения, смешок профессионала от кончиков соломенных волос до кончиков ногтей, от её канареечного лица отлепились в свете лампы кусочки любимой краски, и я понял, что фильм так, как я его вижу, не получится, может быть, лучше, гениальнее, я не спорю, но явно не так, не в таком ракурсе, не с таким великолепием, а главное, с совершенно чуждыми мне людьми; и об этом ещё надо было думать в смысле балансировки ощущений и чувств. Но кто будет этим заниматься?!
— Я уж как могла агитировала! Как вы не понимаете?! Уговаривала! На коленях ползала! Всё бестолку! — соврала она, чтобы я не стал биться головой о ступеньки зала и не завыл на софиты.
И тут я наконец очнулся и не поверил её словесам; поэтому понёсся, нервно цепляясь за ступени, к Испанову в другое крыло, на четвёртый этаж, и заявил протест:
— Я думал, всё на мази, а у вас даже конь не валялся!
Романа Георгиевича, который важно восседал в окружении портретов именитых вождей кино, очень удивился, словно ему показали голую свинью.
— Как так?! — подскочил он и вызвал Амалию Рубцову.
Та пришла с гробовым видом и сообщила, что сделала всё, что могла, и что «этот выбранный состав не подходит», вернее, она гордо сказала: «не годен»; и краска с её лицо осыпалась от возмущения.
— Еще чего! — взвился Испанов, выпучив глаза, и стал страшен, как Бармалей, когда точил саблю на доктора Айболита. — Да мы здесь с Михаилом Юрьевич, понимаешь, ночами не спил, пупок рвём! А ты?.. За что я тебе деньги плачу?! — перешёл он на фальцет, и стал красным, как помидор. — Иди! Нет! Лучше лети что есть духу, и чтобы через два, слышишь, два часа доложила положительный результат! Иначе!.. — он так хватанул кулачком по столу, что карандашница-декупаж, стоящая с моей стороны, опрокинулась, и я поймал её на лету.
Когда Амалия Рубцова выскочила, как пробка из бутылки, хлопнув дверью так, что в воздухе повисла пыль, а он, добродушно хихикнув вслед, вмиг обернулся прежним, мягкосердечным дяденькой, с пухлой грудью, в стоптанных башмаках и мятых джинсах, я услышал:
— Знаю я все ее хитрости, небось кого-то из своих хочет протолкнуть и заработать чуть-чуть!
— Так это ж!.. — возмутился я и не нашёл слов, наивно полагая, что искусство кино — святое из всех святых. А при таком подходе к делу получится чёрти что!
— Вот именно! — по-отечески успокоил меня Испанов, — но других нет! Главное, хвост вовремя накрутить, а уж нужных людей нам она достанет хоть из-под земли. Кстати, любимая твоя актриса вот-вот явится, — он, как курица, многозначительно прикрыл глаза морщинистыми веками и погрузился в дзен-буддизм.
— Кто?! — От мысли о Татьяне Чуприной мои ладони аж вспотели; казалось, она взглянула на меня из своего питерского далека волоокими глазами и даже послала воздушный поцелуй, празднуя за выбор.
Испанов открыл левый глаз, специально, как показалось мне, посмотрел на часы, мол, что бы вы без меня делали, и скромно, но со вкусом объявил, как Юрий Левитан на День Победы:
— Ольга Мартынова!
Свет за окном померк, небеса совершили кульбит; наверное, я грохнулся в обморок, потому что дёрнулся от запаха нашатыря, который с крайне страдальческим видом совал мне под нос Испанов.
— Не надо было тебе так рано из больницы выписываться! — кудахтал он надо мной, хлопая меня по щекам. — Не надо было!
— Она согласна?.. — Я не узнал своего осипшего голоса.
О лучшем варианте на роль Гертые Воронцовой я и мечтать не смел и тут же забыл о Татьяне Чуприной к её безмерному огорчению.
— Ещё бы! — самодовольно хихикнул Испанов и триумфально повёл молодецким плечиком. — Делаем нетленку! Так что готовься к рогу изобилия, славе и ковровой дорожке!
И мне показалось, что это не я под метр девяносто пять, а он — Испанов Роман Георгиевич собственной персоной, а лично я — маленький, горбатый и смешной, путаюсь под его ногами и задаю глупые вопросы.
— Я уже готов, — обрадовался я непонятно чему, представляя эту самую процедуру в Сочи, где я, кстати, никогда не был.
Испанов точно так же, как Амалия Рубцова, внимательно посмотрел на меня, чтобы поставить диагноз вялотекущей шизофрении, и снисходительно произнёс:
— Ну ладно… — и убрал нашатырь.
В глазах у него плавало сожаление, что он со мной, малохольным, связался и что я всё ещё пребываю в педиатрическом возрасте вечного провинциала, и что наивен до безобразия, не только потому что падаю в обморок, как малахольная курсистка, но и потому что полон романтических иллюзий в розовых ленточках под завязку.
В дверь настойчиво постучали, и вошла та, которую я боготвори и которую видел лишь на фотографиях и на экране. Шикарная и галантная, загадочная, как перуанская Мария, с красивыми жестами, с длинными, холеными пальцами — настоящая Герта Воронцова, за ней — странный человек, с искусственной нижней челюстью, которая напоминала клавиши фортепиано и клацала сама собой, в допотопной шляпе с круглыми полями и в таких же допотопными круглых очках, во всём, мне казалось — загримированный под молодого Депардье, только окающего по-русски, и с весёлым, жужжащим спиннером в раскормленных руках.
Они поздоровались и расселись. В комнате повеяло свежим запахом роз. Спиннер жужжал тихо и важно, как гироскоп на подлодке, и наводил на мысль о чрезвычайной серьезности мероприятия.
— Что… не узнал? — засмеялся Роман Георгиевич, видя моё изумление.
— Нет… — промямлил я и, кажется, забыл прикрыть рот, в который влетела любимая муха.
— Ну и не надо! — хохотнул Роман Георгиевич, подмигнув спутнику Ольги Мартыновой, и сделал чрезвычайно простецкое лицо.
Оказывается, он благоволил не только к одному мне, но ко всем этим прекрасным людям, обитающим на «Мосфильме». Я ещё не знал, что Ольга Мартынова — типичный продукт киношной индустрии.
Фальшивый Депардье небрежно крутанул свой спиннер, мол, бывают же чудаки. Чувствовалось, что он страстно хочет Ольгу Мартынову и она знает, что он её хочет, и что они, к нашему с Романом Георгиевичем огорчению, сейчас разделаются с нами, пойдут и лягут в постель. Это было крайне оскорбительно и вульгарно к нашему большому душевному расстройству.
— Я прочитала сценарий, мне понравилось, — голосом примы сказала Ольга Мартынова почему-то в адрес Испанова.
Я готов был плясать камаринскую. При чём здесь судьба? — радостно думал я, при чём? Однако, справедливости ради хотел возразить и даже с гордостью напомнить, что это я, а не господин Испанов являюсь автором романа, что это лично я, а не он придумал, создал и населил героями целый искромётный мир, впрочем, Роман Георгиевич великодушно опередил меня со сладкой улыбкой на устах.
— Автором романа, с которого написан так понравившийся вам сценарий, сидит рядом с вами, кстати, и сценарий его тоже.
Они, словно динозавры, повернули свои головы, полупали на меня, как на пустое место, фальшивый Депардье ещё пуще крутанул свой спиннер, Ольга Мартынова неопределённо кивнула портрету какого-то знаменитого киношного экс-босса у меня за спиной, и снова с умилением воззрились на Испанова, как на семистрельную икону. Я понял, что главный в этой комнате всё же Роман Георгиевич, а не я — придаток в виде версификатора, от которого ничегошеньки уже не зависит.
— Надо будет как-нибудь почитать, — фальшивым голосом сообщил фальшивый Депардье.
Я моментально возненавидел его и решил, что с этих пор некоторые люди не дают мне право быть вежливым и добродушным.
Роман Георгиевич расправил не дюже широкие плечи, которые казались, однако, налиты непомерной силой, оглянулся на портрет Григория Козинцева у себя за спиной и приосанился, показывая, кто здесь хозяин. Он лучше всех знал правила игры, и они ему до сих пор очень и очень нравились, и предложил выпить за успех фильма, однако, прибежала чрезвычайно активная и чрезвычайно взволнованная Амалия Рубцова с подложной улыбкой на хитрых губах, вся на нервах, вся взвинченная, как скаковая лошадь, разве что копытом не била, и стала заискивать перед Ольгой Мартыновой и фальшивым Депардье, не говоря уже о Испанове, мол, бывает же, все ошибаются, и я тоже, уж простите, круглую дурочку. Меня она принципиально не замечала.
— Татьяна Чуприна уже не нужна?! — спросила она так, чтобы показать Ольге Мартыновой её место в киношной иерархии, заодно, как я сообразил, поссорить меня с ней.
Я вспыхнул, хотел объясниться, что я тоже поставлен в рамки искусства романа и вынужден искать оптимум, но Роман Георгиевич опередил:
— Не нужна, — снисходительно поддакнул он, моментально загасив пожар войны. — Подготовьте договор на Ольгу Александровну, — подчёркнуто вежливо кивнул в её сторону, — которая будет играть роль Герты Воронцовой.
Её брали без всякого кастинга и дублей, видно, наши виденья фильма с Романом Георгиевичем совпали до микрона. Это была маленькая победа из череды побед, которые мне ещё предстояло одержать.
Я заметил, что Ольга Мартынова с облегчением перевела дух, а фальшивый Депардье незаметно под столом стиснул ей прекрасную руку, забыв о жужжащем спиннере с подводной лодки типа «барракуда».
Да они нервничают, сообразил я, поэтому и такие надутые; мне сделалось их жаль. Не такие уж они небожители, понят я, а просто бедные-бедные актёры, которые три для не ели и виски не пили.
Словно бы для того, чтобы сгладить неловкость, Испанов залихватски предложил обмыть заключение договора. Не успели мы вкусить по глотку коньяка и закусить шоколадкой, как снова прилетела полная энтузиазма Амалия Рубцова. Ольга Мартынова невольно вспыхнула, румянец пошёл по её божественно-сексуальным щекам, она с облегчением облизнула губки, увидав сумму гонорара, подписала и убежала, радостная, как первокурсница, кажется, в кассу за авансом, даже забыв поблагодарить Испанова, своего земного благодетеля.
Я проводил их взглядом и с завистью к фальшивому Депардье спросил:
— Кто это?..
— Тебе не надо знать, — Испанов поморщился так, словно я без спросу глянул в святые святых — за кулисы, и увидел нечто неприличное, о чём вслух не принято говорить.
— Пикапёр? — напрямую спросил я, потому что мне стало обидно за Ольгу Мартынову.
— Не понял?.. — сморщился Испанов, словно от лимона.
— Ну, этот самый!.. — я не знал, как выразиться, чтобы никого не обидеть.
Однако Роман Георгиевич поморщился ещё сильнее, мол, отстань, всё равно не скажу:
— Что там у нас по плану?..
— Осталась ещё роль Евгении Таранцевой, — напомнил я тогда, не зная расклада Романа Георгиевича и даже не предполагая, как работает вся эта машина, а воевать с ним, как с Амалией Рубцовой, мне было не с руки.
— Она придёт завтра, — добреньким голосом людоеда сообщил Роман Георгиевич. — Я тебя наберу. Кстати, актёр на роль Панина тоже согласился! — И назвал актёра из «Сватов» — Валерия Шкредова, которого я тоже пророчил на эту роль, хотя он был комедийным актёром, но я-то знал, я-то чувствовал, что он роскошнейший актёр и что лёгкий налёт двусмысленности в плане алкоголизма придаст образу Андрея Панина то великолепие, о котором я всё время талдычил Роману Георгиевичу; кажется, он внял моим молитвам.
— Хорошо… — слегка ошарашенный, удивился я и уже выходя из кабинета, услышал, как он неожиданно зло кричит в трубку:
— А мне не надо, чтобы вы играли по-Майзнеру, не надо. Давайте старую, добрую русскую школу. И высыпайтесь по ночам! Что толку, когда вы приходите разбитой, как старая телега! Что?! А вот этого крайне не советую! У меня очередь таких, как вы!!!
Я ехал домой, как пьяный, под впечатлением личности Романа Георгиевича, убежденный, что нет легче денег, чем в «Мосфильме», единственное, я не понял, зачем Испанов сегодня притащил меня сюда, раз у него всё на мази?
А он всего лишь натаскивал меня до собственного уровня, но понял я гораздо позже. И правильно, между прочим, делал. Я не мог ответить тем же, потому что Испанов писал только сценарии. У нас был разные виды приложения силы, в разных весовых категориях.
* * *
Я уже чувствовал силу в руках, и потребность сходить в фитнес-клуб, потягать «железо», всё чаще овладевала мной, как из реабилитационного центра ГБУ крайне бестактно и назойливо напомнили, что пора и честь знать, то бишь что жизнь — это не малина и даже не экономические блага Энгеля, а тяжкий долг перед родиной.
Я тихо-скромно врастал корнями в свою новую трёхкомнатную квартиру в Тушино с видом на Химкинский лес, объезжал новенький с иголочки, в лаке и хроме, «патриот» и мечтал поставить на крышу складную палатку, дабы мчаться в приключения, хотел поменять коврик, да лебёдку опробовать, то да сё с днищем, карбюратором и блоком отопления; то есть занимался взрослыми игрушками, и был умеренно счастлив, как в среду из госпиталя, где меня выходили, пришло официальное уведомление о том, что плановая-де операция не отменена и требует продолжения банкета; и я был ошарашен этой новостью, ибо не предполагал, что время на передышку закончится так быстро, что я не успею перевести дыхание. И деньги у них нашлись, и руки чесались, чтобы вывернуть мне рёбра и покопаться в моих внутренностях, только вот у меня не было желания лезть под их нож.
В общем и в частности, было такое ощущение, что жизнь остановилась на всём скаку. Даже Алла Потёмкина сделалась нежнее обычного, как нашкодивший котёнок, и я подозревал, что она смотрит на меня, как на потенциального покойника, мне же, как прежде, хотелось забиться в угол и тихо скулить; я только едва расслабился и стал привыкать к мирной жизни, а мой посттравматический синдром — сникать под воздействием положительных эмоций, как снова-здорово, надо было завязать себя в узел и набраться мужества на ближайшие три-четыре недели, если не все полгода.
Алла Потёмкина только-только закрыла за собой дверь, оставив на моих губах сахарный поцелуй, как Испанов беспардонно напомнил о своём существовании:
— У нас сегодня читка!
— Что это такое? — туго соображал я, думая о предстоящей операции и об Алле Потёмкиной, которая уже в третий раз за неделю, когда нетерпение её достигло апогея, намекнула на свадьбу. Это был даже не намёк, а скорее, ангельское послание к моей совести, избежать которого я не сумел: спишь со мной, пользуешься мои прекрасным телом, без единой морщинки и целлюлита, кстати, а не женишься! Пора и честь знать! Обязаловки, как военной кафедры в университете, избежать никому не удалось.
Может, и свадьба не понадобится, глупо понадеялся я, имея ввиду осколок в лёгком, всё-таки операция сложная, рисковая, со смертностью в семь процентов; и хотя я уже один раз был личным рабом в виде безропотного приложения к жене, всё равно легкомысленно брякнул: «Давай!», испытав при этом идиотские благородные чувства, свойственные подавляющему большинству мужчин. Однако на самом дне души, где темно, сыро и двулично, осталась глупая недосказанность под вопросом: а стоит ли ещё раз рисковать свободой передвижения и принятием решений, когда вокруг столько прекрасных женщин, до конца жизни хватит? Я так и не нашёл ответа и отложил его на потом, когда вопрос с осколком разъяснится либо в пользу кладбища, либо в пользу загса.
— Ты будешь читать сценарий, а тебе будут задавать вопросы, — сладкоголосо пел Испанов из айфона.
— Какие?.. — очнулся я.
Мне казалось, что режиссёр самый-самый, не знаю, какой, всё и вся знает и всё и вся понимает, и что я, написав сценария, благородно умыл руки. Ан, нет. Настало время профессионального стриптиза. Вот за что я не любил встречаться с читателями, сидишь, как на экзамене, ждёшь каверзного вопроса. Самое главное, что ответ никого не интересует, важно ехидненько задать его и наблюдать, как ты мучаешься: «А верите ли вы в Бога?», например, или: «В каком году вы расстались с третьей женой?»
— Ну, какие ещё могут быть вопросы в киношке?! — бодро хохотнул в трубку Роман Георгиевич. — Актерские! — с весёлыми модуляциями в голосе сообщил он, выдавая в себе крайне искушенную натуру. — Кто чего подумал, как кто и что выглядит, характеры, поступки, взаимоотношения, цвет облаков, какие кружева надела главная героиня. Мало ли чего? В общем, всё кто чего не понял, не сообразил и не разжевал, а ты за него это сделаешь и в клювик вложишь и даже проглотишь вместо него, кстати, я тоже буду корректировать свои планы в соответствии с читкой, а в сценарий, если надо, внесём изменения.
Фу, вспотел я: грандиозность события предстала передо мной во всём своём монопольном величии. Актёры — народ малахольный, кроткий, чуткий, нервный, мало ли что кому взбредёт в голову, а я брякну непотребное, может случиться конфликт, который перерастёт в мордобитие, сорвутся съёмки, произойдёт катастрофа локального характера, душевная травма переродится в посттравматический синдром, который, естественно, никуда не делся, — конец жизни, финита ля комедия, гудбай Москва, да здравствует Донецк! И слава богу! Из-за одного этого только стоило возненавидеть читку, но деваться было некуда, если, конечно, Роман Георгиевич не изволит шутить.
— Хорошо, — согласился я, словно из-под палки. — Куда прибыть? — и мне показалось, что осколок недовольно напомнил о себе, мол, а операция? И душа заныла, и в желудке многообещающе закипело, и белый свет померк, как при армагеддоне.
— Никуда не надо! — вдруг сварливо заартачился Роман Георгиевич, как бабка с семечками на базаре, — всё равно заблукаешь. Я уже послал за тобой Ольгу Мартынову.
— Ольгу Мартынову?! Я же на новой квартире! — я ощутил, как под ногами качнулся пол тридцать седьмого этажа. К тому же я не желал видеть здесь фальшивое лицо фальшивого Депардье. Невзлюбил я его сразу, как моль в ковре.
— Мы в курсе, — бодренько сообщил Испанов.
Я представил его ехидную ухмылку, стоптанные башмаки, мятые джинсы, и подозрительность кротко отпустила меня, не может такой человек быть предателем, разве что горбатым Пхенцем с планеты Марс; кстати, горб ему очень даже шёл. Такой маленький, аккуратный, как у гну, просто родовое знамя, а не горб. Без этого придатка он не был бы знаменитым режиссером и продюсером. Должно быть, в этом горбу и крылась вся его сила.
— Откуда?! — удивился я.
— Ха-ха! А у меня своя разведка, — ехидно уклонился он.
И я понял, что без Аллы Потёмкиной, моего ангела хранителя, моей второй любви и душевной благодетельницы, здесь, как всегда, не обошлось. Хотел свить себе тайное гнёздышко, а уже пол-Москвы знает. Вчера она меня страшно удивила: «Зачем тебе эта маленькая, скромная, тесная квартира?», мол, из служебного пентхауса тебя пока никто не выгоняет, да и у меня хоромы пустуют. Однако не скажешь же, что вторая жена никакая не первая и шансов у неё никаких, разве только из-за отчаяния и безвыходности. Я знал, что тяну за собой прошлое, как пудовую гирю, и что оно не даёт мне смотреть на мир беспечно, что жизнь в реалии не такая сахарная, как кажется с орбиты Марса. И вдруг меня осенило, что они с Романом Георгиевичем в очередном дежурном сговоре, одна шайка-лейка, обхаживают меня, как курица — яйцо, и каждый строит свои далекоидущие планы.
— Вообще-то… я занят… — неожиданно для самого себя заартачился я, не собираясь плясать ни под чью дудку.
— Чего?.. — не понял он на той стороне линии, и глухие нотки в его голосе предвещали репрессии, сталинский «дальстрой», ГУЛАГ и прочие прелести рая, правда, в рамках киношного процесса, но и этого оказалось достаточно, чтобы я тут же позорно выкинул белый флаг:
— Ладно…
Хотя у меня сегодня, действительно, было запланировано посещение святая святых — мужской парикмахерской «Аляска», где вам вибратором помассируют голову, шею, заодно постригут «а-ля фюрер»; я тоже собирался безмерно удивить Аллу Потёмкину по-королевски бритой физиономией, голыми висками и запахом дорогого парфюма, но только с небольшим отличием, моя прическа называлась традиционно по-русски, сильно и мощно — «бокс», даже ценой демонстрации моих безобразных шрамов. Всё это я уже хотел было ему выложить в отместку за испорченный вечер, но в дверь крайне настойчиво позвонили тридцать три раза.
— Приехала! — вздрогнул я, как лошадь, на которую спикировал слепень.
— Ну и слава богу, — с явным облегчением среагировал Испанов и быстренько-быстренько закруглился, чихнув на прощание.
Я побежал открывать дверь, и меня передёрнуло от мысли, что за ней — фальшивый Депардье, которого я уже успел возненавидеть за то, что он спит с Ольгой Мартыновой, ибо она дюже мне нравилась своими формами и поведением на экране.
Однако она приехала одна и была великолепна в белоснежном плаще с красными отворотами, с красным поясом и в красной же широкополой шляпе, с муаровой лентой. Умеют столичные актрисы одеваться, ничего не скажешь.
— У нас десять минут! — сказала она так, словно речь шла о сексе на скорую руку.
Я так быстро не управляюсь, с тон ей подумал я, и, должно быть, соответствующее выражение, не мудрствуя лукаво, посетило моё лицо, потому что она величественно рассмеялась, поведя чёрной, блестящей бровью, мол, раскатал губу, не обломится, скинула мне плащ на руки и небрежным жестом отправляя туда же шляпу. На ней было шикарное, тёмно-вишнёвого цвета платье в белый горошек, и красные полусапожки, а шлейф запаха — как в бананово-лимонном Сингапуре.
— А где этот?.. — назло ей спросил я тоном, не терпящим возражения.
— Кто? — задала она контрольный вопрос, хотя, конечно же, поняла, о ком я так пекусь, что аж заикаюсь на три с половиной такта.
— Ну, этот?.. — я, как клоун в колпаке и бубенчиках, отставив ножку, выглянул в коридор, словно фальшивый Депардье прятался в темноте и подслушивал нас, чтобы поймать с поличным.
— Он будет там, — мило улыбнулась она, давая понять, что вполне разделяет мою позицию и что тоже никого не любит, может даже, ненавидит, но зачем-то спит с мужиками назло мне.
— А кто он такой?.. — язык не поворачивался назвать его фальшивым Депардье, кто его знает, как она к этому отнесётся.
— Муж, — ответила она так просто, как отвечают на вопрос о погоде за окном.
— Муж?.. — не поверил я, и камушки возмущения невольно перекатились у меня в горле, чтобы вызвать соответствующее выражение на её лице.
Ольга Мартынова пугливо покосилась на меня, как на иконостас в виде здорового мужчины, прошедшего войну и которому терять нечего, но природа красивой женщины взяла своё.
— Ну, да… — всё так же капризно поморщилась она, — такой… не настоящий… — покрутила изящной ручкой с идеально-модельными пальцами, — можно сказать, фальшивый.
Лёгкая гримаса сожаления легла на её лицо. К тому времени я уже знал, что человек способен оправдать себя в любых поступках и приспосабливаться к любым обстоятельствам жизни, но женщины особые существа, у них сорок семь пятниц на неделе и сорок семь рецептов в квадрате на каждый случай жизни, так что в этом плане не стоит ждать послаблений, и интуиция не поможет.
— Ага… — согласился я потеряно, сообразив, что она ещё та штучка.
Она засмеялась, смягчившись, глядя на меня:
— Ты что, ревнуешь?
Она принадлежала к разряду женщин, которые явно подторговывают своей красотой. Это я уже потом понял, что лицо у неё создано для сплошного негатива, а вначале только любовался.
— Ещё чего! — возмутился я, не выдержав её взгляда.
Эта маленькая победа придала ей решимости. Глаза у неё были большие, тёмно-серые, с окантовкой, совсем не такие, как у её прототипа, Герты Воронцовой, однако, Роман Георгиевич клятвенно обещал сделать их на экране небесно-голубыми. Но даже такие, серые глаза, вызывали реакцию взрывного типа, и я провинциально стушевался.
— Правильно. Если бы не он, я бы давно занялась тобой, — сообщила она с той доверительность, с которой, выбирают любовника по форме носа. — Нравишься ты мне.
Я вытаращил глаза. Она хихикнула, как лисица на пустоши. Я понял, что она ждёт, когда я клюну на её красоту и провокационные разговоры. Я знал эти фокусы: вначале с тобой мило пофлиртуют, даже выдадут какой-нибудь аванс, а когда среагируешь, отвалят в сторону и сделают вид, что имели ввиду совсем другое, и ты остаёшься в дураках. Беспроигрышная комбинация, отработанная задолго до появления тебя на горизонте событий.
— Я была замужем… Он… — она многозначительно назвала очень известную фамилию, от которой у меня должна была закружиться голова, и игриво блеснула улыбкой, — он бросил меня после семи лет дикой страсти!
После этого я сделал удивлённое лицо: в обыденной, то бишь не в актёрской среде, такие вещи не обсуждаются, это считается постыдным. А здесь запросто, пожалуйста. Есть где разгуляться фантазиям, и они поскакали у меня в голове, как блохи галопом. Мне вдруг открылось, что Михаил Булгаков, так же, как и я, страдал комплексом Бога, то есть наделял всех людей способностью знать и понимать больше, чем ты сам, а потом разочаровывался в них. К тому времени я уже подумывал о известном романе, кто и как дописал его, и вся его свистопляска с чертовщиной и Гоголем, который, кстати, тоже был фальшивым, чистой воды выдумкой, потому что метафизика Михаила Булгакова, выходца из религиозной семьи, была классическим взглядом человечества на закулисье, ничего нового он не сказал, а лишь почерпнул из газетных источников своего времени; в этом плане роман вторичен, как чайный налёт на зубах. Впрочем, в свете нынешнего положения с осколком, идея с романом была чрезвычайно глупая, быть может, даже, мертворожденная, поэтому я вникал не без сожаления, памятуя, что в жизни осколки прилетают всегда не вовремя.
— Поэтому… — с вызовом добавила Ольга Мартынова, глядя лукаво, — я постоянно думаю о сексе, — и окончательно ввела меня в состоянии ступора, но, по счастью, оттопырив губку, с изумлением обезьянки уставилась на картину в кабинете, и слава богу — иначе мне грозило услышать ещё более страшные признания.
Я шмыгнул в спальню — сменить маску и перевести дух: откровения московских актрис пугает куда больше, чем предстоящая операция, таким вещам не шутят даже на трезвую голову.
Когда я вернулся, застёгивая пиджак, как бронежилет, на все пуговицы, она всё ещё разглядывала картину. Я думал, она разыгрывает меня, а она была сама значимость в высшей степени абстракции. Я удивился, потому что хвалиться особо было нечем: в кабинете, с мокрыми обоями кричащих тонов а-ля бордо, висела пара-тройка картин с Арбата на мокрую же тему непостижимости московского лета, стройных ножек в ажурных чулках и, естественно, — мчащегося авто типа «ламборджини». Всё, что удалось наскрести на скорую руку для новоселья и бурного застолья с Репиными.
Ольге Мартыновой особенно понравилась та из них, которую я назвал «серийный жёлтый переулок под серийными красными крышами». Подобных картин в вернисажах на Крымской набережной и в Измайлово пруд пруди, они там выставлены в три ряда, четыре линии и пять верхов. Главное, не промахнуться с ценами, потому что тебе норовят втюхать ширпотреб по цене шедевра, хотя я нашёл относительную неповторимость у художника, который продавал всего лишь две одинаковые картины. Я купил обе. Одну бросил в Москву-реку, а другую повесил на стену. Но Ольга Мартынова, кажется, в живописи и в суррогате на мужскую тему не разбиралась, потому что лицо её решало задачку: «Сказать, что это неплохо, или сказать, что очень хорошо?» Наверное, ей кто-то подсказал, что она выглядит значительней, когда оттопыривает нижнюю губу. Я едва не усомнился в правильности своего выбора, ведь на экране она всегда смотрелась крайне привлекательно, умно и самодостаточно. Может, сконцентрируется? — расстроился я и решил сообщить Роману Георгиевичу, что с Ольгой Мартыновой мы, кажется, промахнулись. Немаловажную роль в этом вопросе сыграл и фальшивый Депардье: в смысле, скажи, кто твой друг, и я скажу, кто ты. От него за версту несло декадентством и пустотой Чапаева.
— А у тебя мило, — очнулась она, с любопытством лисёнка сунув свой курносый носик (именно таким он теперь мне казался, а не забавно-остроумным и многозначительным), в спальню и в третью комнату, которую я намеревался превратить в спортивный зал, но не успел напихать в него тренажёров, зато установил музыкальный центр и повесил огромное зеркало.
Я подумал, что, быть может, откровения Ольги Мартыновой, как у всякой женщины, носят защитный, а не провокационный характер, и принялся оправдывать её, мол, опять же тяжёлая женская доля, одиночество, всё такое, тоска, антидепрессанты; и в такие дебри с утра влез, что едва не перекрестился, вспомнив пертурбации со своей женой, которая не давала мне передышки. Отдушиной у неё служила её любимая дача.
— А, кстати, где твоя жена? — спросила Ольга Мартынова как ни в чём не бывало, словно её откровенность значила не больше, чем пустая болтовня девочки из восьмого класса, которая только-только начала постигать секс и ещё не знает, что с этим делать, всего боится, нервничает, однако, крайне любопытно, чем дело закончится.
— В Донецке, — соврал я по новой уже холостяцкой привычке не раскрывать сердечных травм, особенно женщинам, и почувствовал, как осколок бессовестно царапнул душу, и кровь брызнула фонтаном.
Было совсем не больно, только душа упала ниже пяток, и я испытал ощущение человека, едва уносящего ноги из ямки под акацией.
— Это она?.. — спросила Ольга Мартынова, показывая на фотографию, где Наташа Крылова была изображена, прижавшись виском к берёзе.
Фотография была сделана в Славяногорске бог весть в каком году. Мы ездили за грибами, ничего не нашли и сильно устали. Было мрачно, сыро, накрапывал дождь.
— Она.
Я вспомнил высохшее болото, травяные кочки, наши безуспешные поиски чёрных груздей. В те времена она меня ещё любила, а Варя была только в проекте. Счастливая пора, на которой я давно зациклился, как на средстве от посттравматического синдрома. Прошлое — как застывшая маска Али-Бабы, которую мы привезли из Геленджика, в ней уже ничего нельзя изменить, она застыла много лет назад, как наша любовь, и с тех пор не изменилась, словно была записана во времени и во времена.
— Ты меня обманываешь, — сказала Ольга Мартынова так, когда с хитрецой изобличают врага народа и ставят ему в паспорте тавро «тридцать девять»[2]. — Твоя жена погибла. Я знаю!
— Откуда?! — отшатнулся я и едва сдержался, чтобы не нагрубить, помня, что сегодня я ещё тихо, мирно должен был попасть на чтения, а не царапаться с ведущей актрисой фильма, а у меня возникло такое желание; и я ужаснулся тому, что разница между выдуманной Гертой Воронцовой, умницей и рефлексирующей по делу и в тон Андрею Панину, и реальной Гертой Воронцовой такая огромная, что будет стоить мне тягостных сомнений и седых волос до самого конца съёмок, если Роман Георгиевич, разумеется, не скорректирует процесс и не найдёт другую актрису, естественно — Татьяну Чуприну; уж она-то казалась умнее умного, и её прекрасные глаза, словно костёр в ночи, так и глядели на меня с немым укором.
Но всему есть предел, и совершенству — тоже.
— Мы о тебе всё знаем. И то, что ты воевал, и о твоём осколке в лёгком, и даже о… — вдруг затараторила она, инстинктивно желая понравиться, но и в то же время двулично сохраняя дистанцию столичной штучки, потому что капризна, умна и расчётлива, а из чувств у неё на первом месте, исключительно, животные инстинкты.
Я испугался, что она каким-то образом припомнит мне сейчас Инну-жеребёнка и всё, что мы с ней вытворяли, но о жеребёнке, слава богу, никто ничего не знал.
— О Карском! — ужалила она со значением, словно я должен был знать всех её любовников.
Но эта тема оказалась из другой оперы.
— Каком Карском?! — Странный намёк в свете её откровений возмутил меня. — Не знаю никакого Карского! — отрёкся я, чувствуя, что моё лицо каменеет от пустопорожних обвинений.
Вешает на меня всяких собак. Мне хватило одного её признания о личной жизни. Пусть её фальшивый Депардье разбирается, решил я, прислушиваясь к своему левому подреберью, там, кажется, что-то пекло и страдало не хуже меня самого.
— О Карском! — с возмущением тряхнула она головой, мол, все знают Карского, даже шалавы в подворотни. — Просто Карском! Не знать Карского! Это, по крайней мере!.. — она трагикомически вскинула руки, явно желая уличить меня в лицемерии и от негодования побить на моей голове все горшки, которые бы нашла в квартире, потому что — все знают Карского!
— Кто такой Карский? — Я едва сдержался: начались обычные женское штучки, от которых я успел отвыкнуть, потому что, на удивление, Алла Потёмкина не пользовалась ими, и я уже было стал расслабляться, забыл, как букву «ять», какими могут быть истые женщины, полные противоречия и игры ума.
Ольга Мартынова сделала точно такое же лицо, какое было у Инны-жеребёнка, когда я попадал впросак; искры презрения полетели в мою сторону и едва не прожгли мне селезёнку.
— Тот, кто живёт на Котельнической набережной! — сделала она многозначительную паузу, выпучив свои прекрасные, большие, просто огромные, тёмно-серые глаза, разве что не потыкала пальцем с кровавым маникюром в потолок. — Это спонсор! Спонсор! Ты на волне, милый!
Вот где собака зарыты, с облегчением догадался я, меня обвиняют в кумовстве, мол, выскочкам везёт; здесь полжизни корячишься — ничего не получается, а он явился на всё готовенькое, и в дамки.
— Ладно… ладно… поехали… — примирительно сказал я, радуясь тому, что легко отделался, что мне, как Андрею Панину, в порыве гнева не проломили голову табуреткой и не покопались бы за душой в поиске чужой удачи; зависть — страшная штука!
— Поехали! — победоносно согласилась она, облачаясь в свой белый плащ с красными отворотами и изящно напяливая шляпу перед зеркалом.
И мы поехали — лучше бы меня осколком убило под Мариновкой: Ольга Мартынова недолго держала марку и окончательно опростилась за МКАДом: «Я не люблю теорию актёрского мастерства! Чего я там не видала?!» «Девственность — это такая штука, которая нужна только гинекологу!» «Наши славные торчки нас ждут не дождутся!» И это не единственно, детально сформулированное, что я запомнил. Всю дорогу блистала фразами без окончания и смысла, не отвечала даже на нервные звонки своего Депардье, и я немножко озверел: оказывается, у неё в жизни случались одноразовые мужики (кажется, промелькнула даже фамилия Фёдора Соляникова), оказывается, в кино все только тем и заняты, что страшно завидуют друг другу, строят козни, а чтобы переспать с кем-то и разбить чьё-то сердце или семью, так нет ничего проще, ради этого даже не надо быть знакомым с Карским!
Дался ей этот Карский, злился я, и когда мы подъезжали, уже был на взводе, как летящая из подствольника граната, но не подал вида, что-то меня удержало ляпнуть непотребное и разорвать порочный круг, вначале надо было испросить разрешение у Романа Георгиевича.
Попробуйте обойти женщину на крутом повороте. Надо быть очень и очень фартовым, чтобы не поскользнуться. Легче было ходить в лобовую атаку или стрелять по БТРам из «утеса», чем выслушивать киношные сплетни, и я с огромнейшим облегчением покинул общество Ольги Мартыновой и её роскошный автомобиль, тем паче сдав с рук на руки подскочившему фальшивому Депардье: кажется, они из-за меня тут же погрызлись, но мне было наплевать. Чего-то он там кричал насчёт «трусиков» и «проверю на всякий случай!» Чувствовалось, что он так её хочет, как если бы я был атомом кислорода и искал в пустыне два атома водорода, чтобы только утолить дикую ковалентную жажду. Актёрская среда! Что с неё возьмёшь?! Здесь всё, как на ладони, одна огромная шведская семья.
Читка сценария происходила где-то на Рублевке, в шашлычном ресторане, с петухом на коньке; я плохо ориентировался, но сообразил, что дом Аллы Потёмкиной совсем рядом, где-то за верхушками вон тех сосен, на берегу озера. А ещё я понял, что никакие это не интеллектуальные беседы высшего порядка с умными речами и важными лицами, а просто вечеринка с выпивкой и девочками на свежем воздухе, и перестал нервничать. Выпивка — это привычно для русского человека.
Компания уже была навеселе. Бесконечно длинные мангалы источали сытые запахи. Меня как почётного гостя заставили выпить чарку дюже холодной водки и отщипнуть хлеба. Потом я пошёл по рукам. Кроме всех прочих, были всё те же: Фёдор Соляников, Иван Чёрный, Елена Дергай, которая должна была играть Евгению Таранцеву, Виоллета Татарская, которая должна была играть Алису Белкину, Николай Черноскутов, которому досталась роль Романа Базлова, и знаменитая актриса, диво, с большой грудью, которая так и не получила никакой роли, хотя, по словам Испанова, очень и очень старалась, причиной отказа, естественно, была её большая и соблазнительная грудь; в романе я таких женщин не описывал, а в реальности — не любил из-за большого количества мяса. Раздавалось горловое пением дивы, похожее на ненатуральный звук валторны, и общество пришло в ещё больший восторг. Я так и не понял, зачем ей нужна заштатная роль? Но мне намекнули, что на фильм сделаны большие ставки, что он может стать коношедевром. Было за что бороться до посинения и умирать до безответственности.
Я не знал, что так много людей безвозмездно любят меня. Все кричали, надеюсь, искренне: «Слава герою Донбасса! Ура!!!», троекратно лобызались и под объективами массмедиа желали испить со мной море всякой бурды, особенно актрисы, которую водку не употребляли, а предпочитали «мартини» и коктейли. Через десять минут я ощутил лёгкость мышления, ещё через пять — мне стали нравиться все эти прекрасные люди, искренне желающие мне счастья.
Валерий Шкредов сказал, подмигнув:
— Слышь, обожаю весёлых сценаристов!
И я понял, что он единственный внимательно читал и роман, и сценарий, и вообще, рассуждал о предстоящей роли, в отличие от праздной публики, которая собралась напиться на халяву.
— А я думаю, ну, кто меня знает, как облупленного!
От углубленного самоанализа его спасали маленькие, хитрые глазки навеселе; и он чуть ли не силой потащил меня за берёзы, чтобы выпить тет-а-тет. При этом я понял, что он всех чуть-чуть чурается, а все ему страшно завидуют, хотя не подают вида. Хороший мужик, решил я, а он оказался скромной звездой, похожей на Андрея Панина.
— Только я буду играть зло! — предупредил он, загадочно выставив вперёд челюсть.
От него исходило ощущение надрывности и зубодробительного самокопания. А ещё он меня обескуражил густыми, как обувная щётка, усами. Такие усы и в дурном сне не вообразишь и легенды не сложишь.
— Не боись, сбрею! — пообещал он, угадав мою нервозность.
— Отлично! — благословил я его, — так и задумано.
— А как ты меня вычислил? — спросил он вытирая усы по-простецки, тыльной стороной ладони, я заподозрил, что специально, чтобы понравиться, но он мне и так нравился без этих фокусов обаяшки.
— По фактуре, — признался я серьёзно, полагая, что человеку, которому предстоит тяжелая операция, не до шуток.
— А что я фактурный? — выпятил он грудь и даже немного прошёлся, молодецки улыбаясь, вдоль мангала.
— Ещё какой! — подыграл я ему с намёком на чёрный юмор висельника, то бишь тяжело больного и обречённого человека.
— Слушай, а я не сладострастный? — доверился он мне.
— Нет, — удивился я и посмотрел на него с этой точки зрения, но ничего подобного не обнаружил; не скажешь же после этого человеку, что роль написана специально под него, что я все глаза выглядел, подсматривая за ним в других фильмах.
— А то здесь подцепить эту болячку, раз плюнуть! — посетовал он, подтверждая лишний раз, что жизнь актёра, ох, как тяжела и атипична.
— Да нет, всё нормально, — успокоил я его и понял, что он уже работает над ролью.
— Вот жаль, что ты не главный! — что-то почувствовал он.
— Почему?
— Да мы бы с тобой такие горы свернули! — снова налил он водочки и пополоскал в ней усы.
— Свернули бы! — охотно согласился я. — Но увы…
— Хороший ты мужик, — дотянулся и шикарно хлопнул он меня по плечу, — только длинный.
— Ну, какой есть, — охнул я и согнулся в три погибели.
Кажется, осколок шевельнулся в душе, и я подумал, что так приходит конец чаяниям, и подождал, но больше ничего не случилось. Я понял, что кантовать меня точно нельзя, но до конца вечеринки я всё же дотяну, если не буду на голове ходить и в озере голышом купаться.
— Ты не обижайся, я же по простому, по-нашему! — ничего не понял Валерий Шкредов.
— Ха-ха-ха… — Я натужно засмеялся в три приёма, не зная, можно дышать, или уже пора на кладбище.
Спас меня Роман Георгиевич, бесцеремонно вытащив из-за берёз за ремень:
— Идём, я познакомлю тебя с нашим спонсором!
Я, как ошпаренный пёс, побежал следом, горячо шепча ему в ухо о том, что Ольга Мартынова никуда не годится, что она шут гороховый, только в юбке, и что её надо срочно менять. Это единственно стоящее, что я мог сделать перед тем, как доверить свою жизнь хирургам, а там хоть трава не расти.
Роман Георгиевич моментально рассвирепел, как всемогущий гоблин. Схватил меня за всё то же ремень, выше не дотянулся, и прислонив, будто завзятый дуэлянт, к берёзе, спросил, ощерившись:
— Ты кому-нибудь об этом говорил?..
Он имел виду в первую очередь Валерия Шкредова, потому что я больше ни с кем близко не успел пообщаться.
— Нет, конечно, — опешил я от напора, хотя надо было давным-давно привыкнуть к амплитудам его души.
— Правильно, — с облегчением выпустил он дух, — не надо!
Смотрелись мы, видно, как Тарапунька и Штепсель. Причём Штепселем был я. На нас и пялились с усмешкой, и подавали знаки на современный лад, мол, мы с вами, голубки.
— Почему? — я с изумлением посмотрел на него сверху вниз, полагая, что в проект надо брать всё только самое-самое талантливое и неповторимое, как звездное небо, но пока я этого, за исключением Валерия Шкредова, не обнаружил.
— Думаешь, они здесь все умные?.. — фыркнул он, как ёжик в тумане, и перешёл на доверительный шёпот скороговоркой. — Особенно тётки. Добрая половина из них не понимает, что делает в кадре. Это я, могучий и самый умный накачиваю их перед съёмкой! Я делаю их гениальными! — разошёлся он. — Я им объясняю, какое выражение придать лицу, куда смотреть и куда говорить и когда говорить! Где надо, могу заставить подняться до мелодекламации! Я — Бог! Я — Создатель! Я — Творец! Понимаешь?!
— Понимаю… — согласился я, потому что абсолютно не понимал природы актёрства, хотя, разумеется, подозревал, что она сродни природе писателя, в том смысле, что актёры, как и писатели, разные по калибру. Получалось, что все эти люди ничему не научились, ничего не умеют и зря кучкуются, что ли?
— Это же киношка! — просяще глядел Роман Георгиевич снизу вверх. — Таких, как ты, здесь можно на пальцах одной руки пересчитать, — польстил он мне, — те, кто докапываются до сути.
Я обнаружил, что он даже косит от злости, а рот сжат, как хищная пасть каймана, но в жизни ещё и не то бывает, особенно перед боем, поэтому я не расстроился.
— Всё так плохо? — делано ужаснулся я и на мгновение забыл о проклятом осколке, который рано или поздно должен был меня прикончить.
— Ещё как, — сник Роман Георгиевич, оглядываясь в поисках кого-то, кто бы мог подтвердить его слова, а потом снова принимаясь дёргать меня за ремень, — плохо, очень плохо! Всё дела в моих мозгах. Хорошие мозги в большом дефиците!
Кажется, он безмерно страдал из-за тупиковости ситуации.
— А?.. — я вопросительно посмотрел на берёзы, за которыми, как приведение с водкой, шарахался Валерий Шкредов.
Вид у меня, верно, был очумелый от обилия впечатлений, потому что Роман Георгиевич смягчился.
— Нет, у него как раз мозги есть, — заверил он меня. — У него даже всё с избытком! И перестать витать в облаках, это неприлично, на нас люди смотрят, решат, что ты растяпа, и с удовольствием вытрут о тебя ноги!
— Не буду, — хитроумно поклялся я и невольно оглянулся.
Пялились только молодые актрисы. Взгляд у них был дюже вопросительный. Актёры-мужчины держали марку, жуя плохо прожаренный шашлык и покуривая вейпы, периодически окутываясь парами канабиса. Фёдор Соляников с Иваном Чёрным демонстративно стояли к нам спиной и развлекали Елену Дергай и актрису с большой грудью, которой не досталась никакая роль, и выражение лица у неё было соответствующим.
— Мне за тебя стыдно! — укорил Роман Георгиевич, оставив в покое мой ремень. — Всё, пошли! — переключился он. — Карский зовёт!
Я завертел головой: кто ж такой Карский?
Оказалось, вот он же — человек с лицом жулика средней руки, но в очень дорогом костюме. Я такие видел только в рекламе «Роял Салон+», Игоря Прокошина.
— Мы делаем на вас ставку! — сказал Карский так, когда хотят задать каверзный вопрос: «Кто ты такой, мил человек?!» и отвесить подзатыльник за расхлябанность и безучастность.
Я нервно поискал, но Роман Георгиевич, благо, что малого роста, ловко спрятался за спинами, и косил оттуда то правым, то левым глазом, разбирайся, мол, сам.
Бука Кучава — с седой бородой, с властным лицом Картеса, или как я его себе представлял во времена инквизиции, однако, в реалии субтильный пижон, в зауженном, твидовом пиджаке на пару размеров меньшее, в зауженных, клетчатых брючках, ещё до моей молодости их называли «дудочками», с белыми носочками, и в дюже дорогих розовых туфлях из крокодиловой кожи за десять тысяч баксов заявил:
— Пора менять правила игры!
Виски у него были выбриты до синевы, должно быть, в отличие от меня, он нынче посетил модную цирюльню «Аляска». Пахло от него цветочным одеколоном и дорогим табаком, а из накладного кармана торчала пеньковая трубка с махагониевым ободком, как признак вечного достатка и рациональных мыслей.
— Ага! — из-за их могучих спин поддакнул Роман Георгиевич, в своих стоптанных башмаках, в мятых джинсах, с лохматой седой головой, непрезентабельный, как старый динозавр. — Давно пора!
Я удивился, почему он здесь, и я в придачу?
Но главным всё же был важный Карский:
— Либералы скурвились окончательно! Перестали поставлять нужную нам продукцию! — сделал он широкий жест, направленный в сторону центра Москвы, где они и окопались в своих норах времён холодной войны и антисоветизма.
Бука Кучава, даром что похож на Картеса, жадно ловил каждое слово:
— Главное для них — политика! А качество на последнем месте!
— Ретрограды! — обобщил Карский, возвращая руку на стакан с виски, который держал в руках, как скипетр.
И Роман Георгиевич из-за их спин поддакнул, радостно трясясь:
— Трижды куплены и проданы!
— Подставили на десятилетия! — гремел Карский после огненного глотка.
— А нам расхлебывать! — вторил Бука Кучава, очень похожий на Картеса с седой бородой.
— Кому «нам»? — наконец вставил я словечко.
Они словно споткнулись на бегу, опешив, посмотрели на меня, как на идиота камикадзе, как Ольга Мартынова и Инна-жеребёнок с изумрудными глазами вместе взятые, и решили, что я социал-империалист из партии Лимонова.
— Он ещё ничего не понял! — в оправдание пискнул Роман Георгиевич, безмерно страдая за меня и боясь, что я предстану в глазах мецената и продюсера левым растяпой или спящим агентом влияния правых, тогда всему конец.
Я знал, что Москва самодостаточна и слезам не верит, но, видно, этой самодостаточности ей перестало хватать, раз его друзья решили свести со мной знакомство. Им в качестве оселка понадобился свежий человек оттуда, где идёт война, с абсолютно немосковским взглядом на суть вещей, на котором можно отрабатывать свои приёмы политического обольщения. И они снова взялись меня в оборот, дабы как следует, а главное, вовремя прочистить мне мозги, чтобы я не дай бог, не оказался в лагере оппозиции. Мне сделалось смешно: мозги мне давно прочистили фронт и бандеровские мины, которые взрывались на нём.
— Страдает киноиндустрия, — торопливо стал загибать холёные пальцы Карский, вопросительно заглядывая мне в глаза, — потому что нет драматургии!
— Плохие фильмы ставим! — пояснил Бука Кучава, скорбно воздевая брови к небесам.
— Издательства разоряются! — соловьём заливался Роман Георгиевич из-за их спин.
— Потому что захлебнулись в политике и в графоманстве, — снова пояснил Карский, и выглядел двусмысленно, как фестиваль лыжников в Сахаре.
За ним стоят очень большие деньги, наконец-то догадался я, может быть, даже бюджетные, раз они взялись искоренять графоманов, потому что графоманов у нас в стране, как тараканов на помойке, и их подкармливают ведущие издательства и фонды; где ещё заработаешь на дураках и простофилях?
— Мы купили блокирующий пакет Эксмо! — наконец осмелел Роман Георгиевич и выступил из-за их спин.
Эксмо — это значит, три четверти русского мира, а это не по-детски основательно. В общем, серьёзные ребята. Я их сразу зауважал.
— Мы делаем революцию! — насмешливо посмотрел на него Бука Кучава, рука у него потянулась, чтобы послюнявить пальцы и разгладить непослушные вихры на него на голове, но он, конечно, этого не сделал.
— Зачем? — удивился я их генералиссимуским планам и страшно засомневался, что московский гадюшник даст им осуществить даже половину того, что они задумали.
— Не ту революцию! — дрогнув бровью, уточнил Карский. — А киношную, впрочем, и литературную тоже!
Я почти согласился с ними, подумав, что, чтобы издаться в России, надо быть обязательно на кого-то похожим! Индивидуальность не в чести.
И Бука Кучава, и Роман Георгиевич важно закивали головами, как китайские болванчики. Видно, что у них была своя теория струн и они прекрасно в ней ориентировались.
— Поздравляю! — не поверил я им, потому что надо было сломать либеральную вольницу, морально кормящуюся на западе, а это почти что термоядерная война. — А я при чём?
— А с тебя и начнём! — заявили они, скалясь, как чумные шакалы, и потащили меня в гостевой домик, где был накрыт шикарный стол с мясом и дичью.
И я сдуру под вишневую наливку, поросёнка, гуся и баранью ногу подписал с этой камарильей сразу три договора: на два романа, которые ещё даже не придумал, но имел в виду один из них о Михаиле Афанасьевиче Булгакове (видно, Рома Георгиевич им все уши прожужжал) и на экранизацию одного из моих «старых» романов, «Перевоспитание Морского Волка», Д.Л.
Позднее я понял, что я всего лишь песчинка в их грандиознейшей авантюре и что к ним выстраивается такая же очередь, как в РЕШ, от самого Парижа, Нью-Йорка, Шанхая и Копенгагена, и что с этих пор просто так к ним на ракете не пробьёшься, а значит, мне стараниями Романа Георгиевича неимоверно повезло, и что я теперь его вечный должник и должен поить водкой, то бишь коньяком, до гробовой доски. Ну дай-то Бог, дай-то! Лучше так, чем никак в наш циничный век!
Глава 7. Везение отказника
Она очень хотела отправиться со мной, но я категорически настоял на своём: «Я сам!», потому что не желал, чтобы она видела мою слабость; не то чтобы я не доверял, просто для таких откровений в наших отношениях не наступило ещё время; собрал вещи, поехал и лёг на томограф, полагая, что к вечеру, в крайнем случае завтра утром окажусь на операционном столе; получил послойный снимок лёгких и на деревянных ногах отправился к главврачу Борисенко, справедливо допуская, что жить мне осталось считанные часы, потому что фортуна рано или поздно должна была подло изменить мне с тем же самым Борисенко.
Он небрежно и даже как-то обидно по отношению ко мне посмотрел на снимок, неопределённо хмыкнул, одобрительно косясь на меня, на то, что стало с моими мощами, и спросил речитативом, как у равного:
— Чего ты хочешь?..
Я заподозрил недоброе, может, у меня там рак в последней стадии и меня списывают в утиль, в расход, или куда там ещё?
— В смысле?..
— Чего ты припёрся? — спросил он терпеливо, однако, на грани раздражения, мол, сам не соображаешь, что ли?
— На операцию… — почти возмутился я, — режьте… — и для убедительности кивнул на снимок.
В этот момент я представлял себя честным и сильным героем, преодолевающим последнюю, смертельную опасность в жизни, но не павшим духом, главным образом из-за упрямства переломить судьбы и в этот раз.
— Зачем тебе операция, сынок? — огорошил он меня.
— Как зачем?.. — в свою очередь опешил я, помня его наставления по поводу моей лёгочной артерии. — Положено!
Он посмотрел на меня со своей медицинской колокольни. Снял очки и долго тёр их марлечкой, что-то разглядывая в окне, за которым виднелись молочные листочки и кусок голубоватого московского неба в росчерках перистых облаков. Я уже подумал было, что весь смысл там, за окном, сейчас мне его растолкуют, и я уберусь в палату готовиться к операции или восвояси — умирать домой, на любимый диван, а потом меня сволокут на кладбище, как бродячего пса, и поделом.
— Рубец образуется в течение двух месяцев, — повернулся ко мне Борисенко. — Прошло четыре…
— Полгода… — сказал я, вспомнив, когда и как меня ранило и кто в этом виноват.
— Тем более, — помял он губами. — Ты умер?..
— Нет… — вынужден был признаться я и прислушался к собственному эху, как к единственной реалии в этом кабинете, где, однако, жужжание мухи о стекло было самым трезвым звуком.
— У тебя осложнения?.. — провёл он холёной ладошкой по лысине.
— Нет…
— Ты кашляешь? Чихаешь? — закруглил он идею.
— Нет… — хлопал я от волнения ресницами.
— Там у тебя уже капсула, — счёл нужным объяснить он, видя моё недоумении, — твердая, как конское копыто.
— Что?.. — удивился я, не ожидая такого поворота в судьбе.
— Из соединительной ткани! — добавил он коротко и величественно заткнулся на высокой ноте, дабы произвести впечатление.
Оказываются, врачам тоже не чужд артистизм заплечных дел мастера, даже когда они обходятся без скальпеля, спирта и огурчика.
Я непроизвольно глянул на голубоватое небо в росчерках перистых облаков и не нашёл там ничего интересного, кроме разве что голубиного помёта на стекле.
— Так вы специально тянули время?.. — догадался я, даже не скрывая глубины своего разочарования.
— Ну а как же?! — профессионально фыркнул он, как кот на прокисшую сметану. — Как?! Операция рисковая, куда не кинь всюду клин. — И уставился на меня, выжидая, когда до меня дойдёт.
Я переваривал услышанное, а он понимающе скалился, великодушно считая секунды и минуты, когда я приду в себя и освобожу его кабинет, и он сможет предаться разглядыванию своего любимого неба за окном.
— А что же вы мне ничего не сказали? — упрекнул я его и не добавил, что я по-другому прожил бы этот отрезок жизни, а не куролесил бы и не рвал душу, в общем, не ухудшал карму.
Он только хмыкнул со своей эскулапской колокольни:
— А чтобы ты много водки на радостях не пил, а то перепил бы и помер.
— Типун вам на язык, — отшатнулся я от его подлости.
— Вот именно, — согласился он, великодушно беря всю вину на себя, мол, семь бед — один ответ. — А так ты отъевшийся, здоровый и печень сохранил. Даже цвет лица помолодел.
— Так что… я могу снова воевать?.. — спросил я назло его подлой профессиональной мудрости.
— Не можешь! — в противовес мне помрачнел он.
— А почему? — я всё ещё не верил ему.
Мне казалось, он всё сочиняет побасенки назло мне, чтобы в следующее мгновение сразить наповал: да, ты тяжко болен, сегодня мы тебя зарежем!
— Потому что для экстремальных ситуация ты не пригоден. Для обыденной жизни — пожалуйста, хоть на голове ходи, а там — ты будешь на разрыв. Я гарантии не даю. Полноценного питания не будет, — принялся загибать он пальцы. — Траншейная жизнь. Грязь. Слякоть. Опять же бегать придётся на пределе. Начнёшь кашлять, в одночасье изойдёшь кровью. А для гражданки ты абсолютно здоров!
— Вот это да… — опешил я и, забыв попрощаться, как сомнамбул, поволок свою сумку домой. Смерть меня подождёт, понял я так, как понимают, когда тебя отпускают без волос с кровавого эшафота.
Больничный коридор показался мне кротовой норой в другой мир, где солнечно, радужно и тепло.
— Заходи, если что! — насмешливо крикнул Борисенко, закрывая за мной дверь.
Я выполз из госпиталя, так и не увидав Верочку Пичугину, которая была в меня беззаветно влюблена, посмотрел на голубоватое московское небо в росчерках перистых облаков, на молодые листочки и ощутил, что меня предали, почему, не знаю, но предали, и в чём, я тоже не понял, но предали основательно, можно сказать, лишили веры в медицину и судьбу, а потом сообразил: я-то готовился к отсроченной смерти, а она, возьми, да и самоотменилась вообще; то-то было радости.
Как только я узнал, что осколок, сидящий во мне, не представляет реальной опасности, я почувствовал себя дезертиром на донбасской войне. А ещё я подумал, что у меня сегодня второй день рождения. Это надо было отметить, но я отложил праздник на потом, у меня было куда более важное дело.
* * *
Осенью пятнадцатого я служил пулемётчиком под началом Ефрема Набатникова, позывной Юз.
То ли ему не могли простить, что он был заместителем Стрелкова и в чине майора имел должность заместителя министра обороны, то ли по каким-то другим причинам, но после исхода Стрелкова из Славянска, он два месяца находился не у дел, хотя Донецк был на осадном положении, тёмен, мрачен и вокруг грохотало; к чести Ефрема Набатникова, он посвятил это время вооружению армии, мотался, как ужаленный, по заводам и поднимал ремонт бронетанковой техники. В районе улицы Ткаченко он снял с памятника 120-миллиметровый миномёт времён отечественной войны, и с него стали сделать копии для фронта. Потом получил должность коменданта Киевского района и до конца военного положения охранял город. Потом о нём забыли на целую осень, и это стоило ему первой седины в висках, потом снова вспомнили, и он стал «замком» — заместителем командира стрелкового батальона, кошмарил укрофашистов на фронтах ДНР и не угомонился, даже когда меня по его милости эвакуировали в Москву.
Мы ходили по тылам, сотни раз пересекая участок между посадкой и полем, что слева от Перлиной, в виду Еленовки и элеватора, и ничего, а в этот раз у них, видно, где-то сел корректировщик артиллерийского огня, должно быть, в том же самом элеваторе. Мы прыгнули в машину и помчались, а там, где мы были мгновение назад, вырастали миномётные разрывы. Потом они стали нас нагонять, и мы поняли, что всё равно не уйдём. И Ефрем Набатников скомандовал покинуть машину. Мы прыгали на ходу, Дьяконов (позывной Рем) только слегка притормозил, и мы посыпались из кузова, как яблоки на дорогу. Мои ноги ещё не коснулись земли, а Рем уже дал газу и погнал в горку, я побежал следом за Ефремом Набатниковым в акациевую посадку. Девятикилограммовый ПКМ с полным лентой казался мне не тяжелее соломинки, и я даже обогнал всех и первым плюхнулся под корни акации и стал быстро-быстро окапываться, хотя почва была сухой и твёрдой, как бетон. Потом сзади ухнуло, земля вздрогнула и сразу же ещё раз, я оглянулся и увидел, что на холме горит Рой, а вокруг летают обломки. Лохматый хотел было кинуться, но Ефрем Набатников крикнул: «Куда?!» Ясно было, что уже ничем не поможешь. И мы стали расползаться по щелям и канавам.
Когда мина воет, как дикая кошка, то, значит, летит мимо и взорвётся далеко, а если коротко свистит, то — рядом и по твою душу.
Потом они занялись нами, и мины стали детонировать совсем близко, вначале — в поле, потом — в кронах деревьев, осыпая всё окрест осколками. И в этот момент Ефрем Набатников решил, что везучесть наконец изменила ему. Он каким-то непостижимым образом оказался рядом и стал втискиваться в ту самую ямку, которую я, срывая ногти, успел вырыть между корнями акации, в которую и кролик не влезет; на душе мелькнул его золотой жетон с инициалами Е. Н. «Куда?! Куда?! — запротестовал я сварливо, в том смысле, что у тебя своя ямка есть! Но когда взглянул на него, то понял, что он не в себе и даже не слышит меня, а обращён только к минам, как к богу в небесах. В этот момент она, действительно, и прилетела, и должна была убить нас обоих, я даже почувствовал, где она взорвётся: в третьей развилке, правее, с краю, как раз прямёхонько над нами, и даже увидел, словно в замедленной съёмке, как лопается металл и сквозь него прорывается пламя. И Ефрема Набатникова тоже это увидел и прикрылся мной, то бишь нырнул и отжался, как штангой. И всё. Больше я ничего не помнил. Может, я и был его везением, однако, не понял своего счатья. Хорошо хоть мне левую руку не оттяпали, а дали срастись.
* * *
На обратном пути я заскочил в ювелирный, что в Столешниковом переулке, купил обручальное кольцо и радостный, и окрылённый помчался к Алле Потёмкиной в «Сити». Было шестнадцать десять, а в шестнадцать пятьдесят пять я вошёл к ней и понял, что что-то случилось.
Первым, кого я увидел, был мужественный Радий Каранда. Видно, он каким-то образом проведал, что я явился.
— Брат!
Выскочил навстречу, блестящий, как колено, и неунывающий, как щенок; мы скупо обнялись, и он меня три раза похлопал по спине, и я его тоже три раза похлопал по спине; он отстранился, вопросительно посмотрел на меня и подергал, как пингвин, лысой головой, мол, чего ты такой радый?
Хотел я ему похвастаться, что у меня сегодня второй день рождения, но на всякий случай передумал, решив лишний раз не дёргать судьбу за хвост. Успеется.
— Извини, тороплюсь! — сообразил я, что он всем своим видом намекает на очередной рейд по кабакам, но в более конкретной форме грандиозного загула на радость нашим душам, желудкам и строптивым жёнам, хотя жены у него не было.
Каждая секунда промедления стоила мне потери лица, ведь теперь я был здоров как бык и, стало быть, не имел права к неисполнению долга перед Аллой Потёмкиной, даже если меня при этом по-женски тонко щёлкали по носу, однако, гусарское благородство превыше всего.
Радий Каранда сделал удивлённое лицо.
— Свататься иду! — радостно продемонстрировал я кольцо, хотя дело было интимным и трепаться было не обязательно.
— Молодец! — воскликнул он, даже улыбнулся, но как-то не так, как обычно. Обычно он гремел, как жестяной барабан, во все динамики, всё же Джексон есть Джексон из «Ментовских войн», а здесь на полтона ниже и очень вежливо. — Давно пора!
— На днях я тебе позвоню, и мы повторим!
Я подозревал, что Алла Потёмкина по горячему захочет сыграть свадьбу и времени на загул у меня не будет, но обнадёживающе расплылся в улыбке, мол, обязательно выкрою денёк.
— Замётано! — оживился Радий Каранда, вспомнив наши весёлые приключения в ночной Москве.
Мы несколько раз шлялись с ним по разного рода барам, где пили как дорогой алкоголь из хрустальных рюмок, так и дешёвое пойло из пластиковых стаканчиков, и были довольны друг другом, как могут быть довольны фронтовые друзья, ведь не просто же так он возжелал меня увидеть, а ещё раз обмыть свою ногу, потраченную в боях с бандеровскими снайперами.
Потом вымелась радостная Вера Кокоткина с порочной синевой под глазами:
— Михаил Юрьевич… — схватил она меня под руку, — я так рада, что вы выздоровели! — Идеально строгие щёчки у неё от волнения на глазах порозовели. — Спасибо вам! — И окутала меня, как саваном, облаком тонких, холодных духов.
— За что? — удивился я, нервно сжимая коробочку с обручальным кольцом и всем сердцем пребывая с Аллой Потёмкиной в её чудесном кабинете.
— Вы сделали мне счастье!
— Я?!! — Вот уж никак не ожидал.
Пришлось тактично освободиться из её цепких объятий и сосредоточиться исключительно на её неприлично стройных ножках, которые стремительно разрывали чёрную пуританскую юбку вовсе не в угоду компаративной этике.
— Ну, конечно! — она энергично семенила рядом, сверкая возбужденными от страсти глазами и заглядывая мне в лицо. — Если бы не вы, Сеня не решился бы!
Циничность ей абсолютно не шла. Циничность делала её изгоем в мире мужчин, только она этого не понимала, полагая, что усердно протаптывает дорожку к женскому счастью.
— Поздравляю от всей души, будьте счастливы! — сказал я как можно более формально, целуя её в щёчку и одновременно ногой открывая дверь в кабинет Аллы Потёмкиной.
Я и не знал, что женщинам так нравятся альбиносы.
Как только я увидел её, то сразу понял, что что-то случилось. На ней лица не было, должно быть, она даже рыдала за секунду до этого, но тут же взяла себя в руки, спрятала платок в рукав, повернулась ко мне, и я увидел, что ресницы у неё мокрые, а глаза растерянные, но то, что таилось в глубине их меня удивил — я решил, что это всё из-за моей нерешительности, будь она трижды проклята, поэтому сделал насколько возможно вдохновенное, а не как обычно, тоскливое лицо, и сказал:
— Алла, я прошу вашей руки! — И, естественно, с ловкостью фокусника, потому что долго тренировался, извлёк из кармана коробочку с обручальным кольцом и, как рыцарь, коленопреклонился.
Всё дальнейшее было для меня ушатом холодной воды.
— Это, конечно, интересно… — сказала она ледяным тоном снежной королевы, — но… никакой свадьбы не будет!
Я понял, что я любитель острых ощущений и испросил объяснения, глядя снизу вверх:
— Почему?
— Потому! — отрезала она без всяких комментариев, отвернулась и посмотрела в окно, и желваки ходили на её прекрасных щеках.
Мне знакомы были такие сцены, иногда в разных вариантах я их видел по десять раз на дню, особенно в последние годы семейной жизни. Поэтому я спросил принципиально спокойным тоном:
— Что-то случилось? — И поднялся, не отряхивая колен.
— Я передумала! Нам лучше разбежаться! — снова отвернулась она, и её чёткий профиль вырисовался на фоне окна, как претензия к мирозданию: «Пропади всё пропадом! И ты, дружок, тоже!»
— Что это значит? — обиделся я, безуспешно пытаясь пробиться к её сердцу.
— Это значит, что я разгребусь и, может быть, позвоню тебе, — посмотрела она на меня, как сквозь туман на болоте.
Мне захотелось оглянуться. Я понял: не позвонит, и в её взгляде мне места нет. Вот как она сломала Годунцова, сообразил я, научилась, должно быть, в своём Североморске от папы-гардемарина — всех через колено. А ещё я понял, что отныне так будет всегда — всегда, когда я ей не буду нужен, а не буду я ей нужен очень даже часто, почти так же, как моей жене, Наташке Крыловой, недаром Алла Потёмкина была на неё похожа как две капли воды, только глаза были не глубокими карими, как омут, а небесно-голубыми, как циферблаты всех моих часов. И это была моя карма, и по-другому я не умел выбирать женщин, только огнедышащих, как драконы. Правда, был ещё несерьезный вариант — Вера Кокоткина, но от этой мысли я даже самому себе был противен.
— Может, я могу чем-то помочь?.. — спросил я на всякий случай, испытывая все муки ада.
Но она только загадочно-нервно мотнула головой: «Вон!»
И я вылетел несолоно хлебавши, точнее, выполз, как раздавленная змея, потому что у меня было такое ощущение, будто меня изрядно потоптали, а ещё, что на мне за кого-то элементарно отыгрались. Так искусно умела делать только моя жена, но я отвык за два года, потерял иммунитет, расслабился на сладких московских харчах и подушках; мне стало больно, и я понял, что лечу в посттравматическую бездну, к моей любимой депрессии. Надо было только иметь опыт, чтобы распознать её и незамедлительно принять меры. Выход из этой ситуации был только один — вселенский загул. Сгоряча я принялся намечать соответствующие планы. Пить назло всем я решил в гордом одиночестве — объяснять никому ничего не придётся. Здорово помогла бы Инна-жеребёнок с малахитовыми глазами и копной, буйных, русых волос, но этот вариант исключался напрочь, да и телефон её в айфоне я давно стёр опять же в угоду Алле Потёмкиной и нашей любви. А ещё я моментально забыл, что у меня сегодня второй день рождения, но это было уже за гранью даже не первой и второй, а третьей реалии.
* * *
Когда я вылетел из её кабинете, как раненая птица, Радий Каранда уже слонялся по фойе, хромая больше обычного, и лицо у него было хмурым, как у английского бульдога на туманно-альбионской прогулке.
Он явно хотел сказать мне что-то важное, но взглянув на меня, понял, что корабль любви получил торпеду в бок и стремительно идёт ко дну.
— Линяем! — решительно взял меня в оборот и потащил по коридору, как быка за рога.
Я попытался вывернуться:
— Пусти! — Чтобы тут же направить свои стопы в ближайший бар, где затаилось много разных соблазнительных бутылок с чудодейственными напитками, облегчающих жизнь, но Радий Каранда только крепче вцепился мне в локоть, и я ощутил, что рука у него твёрдая, как тиски.
— Не здесь, — загадочно процедил он сквозь зубы и вообще, можно сказать, силой увёл меня из башни, сахарно улыбаясь по пути вышколенному женскому персоналу, который навострил уши, как борзые, чтобы бежать с доносом к тотальному начальнику производства.
Мы молча сели в авто и помчались по набережной. К чему такая таинственность? — ломал я голову. Почему Алла Потёмкина так всесильная, что её все боятся? Я терялся в догадках, отложил загул до первого же удобного момента и пока удерживал взведённую пружину на одной злости и самолюбии.
Когда тень моста «Багратион» промелькнула над нами и остался позади, а синие огни весело и беспечно отразились в Москве-реке, Радий Каранда сбросил скорость, подрулил в обочине, остановился и сказал своим жёстким говорком:
— Её шантажируют! Я уверен!
— Кто?! — удивился я и облился холодным потом, даже ладони сделались влажными.
Мне стало стыдно за свои инсинуации, но пружину не отпустил, а сжал только крепче: видно будет, кто прав, а кто свинья.
— Не знаю! — сделал Радий Каранда самое простецкое лицо, хотя оно и так у него было простецким. Но если кто-то по наивности и обманывался, что это и есть его слабость, и пробовал сыграть на этом, то здорово ошибался, однажды я видел, как именно с таким же простецким выражением на лице он размозжил пленному танкисту голову. Честного говоря, тогда это меня совершенно не шокировало и я сделал бы то же самое, просто не успел. Тогда мы были все страшно озлоблены, потому что зашли в Мариновку и увидели, что они там натворили, что действовали, как каратели, стреляя по домам так часто, как успевали заряжать танковое орудие. А потом этот танк подбили из РПГ-7 и мы ловили экипаж по кустам: двоих застрелили, как бешеных собак, а наводчика взяли на закуску. Ну и верещал же он.
— Правда, не знаю! — И Джексон в нем шевельнулся всей своей недюжинной массой. — Только она сегодня с утра в банк намылилась. Заметь, сама, а не как обычно, главный бухгалтер! — выпалил он на одном чистосердечном дыхании.
Я заподозрил, что Алла Потёмкина нарочно подослала его, чтобы отвадить меня, чтобы я не путался у неё под ногами, и пристально посмотрел на Радия Каранду, ища на его лице признаки фальши. Лысый Джексон из «Ментовских войн» лез из него в своей харизме и дружественности, прежний Радий Каранда, каким я его помнил в славянских лесах, тоже лез, и Ефрем Набатников, позывной Юз, тоже вовсю старался, потому что они крепко дружили, — всё, что угодно, прежнее, неизбывное, но только — не фальшь. Не умел Радий Каранда фальшивить, сделан был из другого теста, за что его и помнили там, в Донбассе; года полтора, после того, как мы оставили Славянск, на других фронтах и в других окопах меня изводили вопросами: «Ну как там Радий Каранда, то бишь Чапай?», а Радий воевал тогда под Луганском и фашистскую пулю там же словил, и левая нога у него стала короче на полтора сантиметра, и он мог бегать отныне только по кругу.
— Я клянусь, что не в курсе её дел! — понял он мой намёк и ещё более нервно свёл брови над переносицей, дабы никто не сомневался в его русской искренности.
— Обычно, когда шантажируют, первым делом начальник безопасности в курсе, — напомнил я, стараясь припереть его к стенке.
— Это не тот случай! — ударил он по рулю и легко покорёжил его, словно он был пластилиновым.
— А какой? — гнул я своё, пока ещё удерживая пружину во взведённом состоянии.
Я ломал голову: «Почему я в опале?!» Мне было дюже обидно, я готов был выть на луну и грызть землю. Самое странное, что женщины всегда меня расстраивали своими крайностями, не было в них золотой середины, и пока я с этим не свыкся, как безрукий с культей, меня корежило.
— Я не знаю, — пожал он Джексоновскими плечами.
— Слушай, Радий, мне не до шуток! — возмутился я.
— Я не знаю, не знаю, не знаю! — зарычал он так, что готов был взорваться. — Чего ты меня пытаешь?! Я здесь всего второй год. Год! — жалостливо задрал он брови. — А что было до этого, я не знаю!
И снова мне показалось, что он хотел сказать мне что-то очень важное, но передумал, глядя тоскливо, как дворовая собака на цепи.
— Что же делать? — в тон ему вопросил я, ничего не замечая, кроме своего горя.
— Ходят сплетни… Ты не подумай, — спустил он пары и даже отвёл взгляд, — что я сую нос в чужие дела. Я слышал от наших баб краем уха, что это давняя история, связанная с её мужем.
Он с надеждой посмотрел на меня, будто я одним махом решу проблему и избавлю его от нашего глупого разговора, и мы поедем куда-нибудь и кутнём по полной, чтобы утром очнуться и ничего не помнить.
— С мужем?.. — переспросил я и подумал о том, что мои подозрения, что у мужа Аллы Потёмкиной был роман с Лерой Плаксиной, кажется, подтвердились, но, естественно, из-за деликатности обстоятельств не стал расспрашивать, надеясь разобраться самостоятельно. А ещё я подумал, что вторая любовь, которую называют самой крепкой, на деле трещит, как спелый арбуз, потому что память не даёт ни Алле Потёмкиной, ни мне забыть прошлое; не обучен я был таким вещам; и жизнь, похоже, испытывала нас с Аллой Потёмкиной на разрыв. Глупее всего было плюнуть и умчаться на войну. Это мысль крепко засела у меня в башке и свербела сверчок в ухе, но ещё глупее было биться лбом в закрытые ворота, однако, бросить Аллу Потёмкину, не разобравшись в ситуации, я не мог, не по-мужски это было.
— Похоже, — старался помочь мне Радий Каранда всей Джексоновской душой.
— Ладно… спасибо… — хлопнул я его по могучему плечу. — Дальше я сам. — И вышел, всё ещё полагая, что, он скажет мне что-то дельное вослед, хотя обсуждать с ним личную жизнь Аллы Потёмкиной я не собирался.
— Ты это… если что я помогу, брат! — крикнул он, приподнявшись и выглядывая поверх крыши автомобиля.
Я ему не поверил, но оставил маленький зазор для манёвра, чтобы он моментально исправился:
— Возможно, мне понадобится оружие! — Посмотрел я на него с той иронией, на которую был способен.
А он вдруг испугался. Это было так явно, что я удивился, а как же Джексон и боевое братство? Потом сообразил по новой московской привычке: Москва меняет людей. Делает их слабыми и зависимыми от десятков и сотен обстоятельств, вот почему жизнь честнее всего там, а не здесь, там ты в ответе лишь перед самим собой и товарищем справа или слева, и враг у тебя один — фашизм, а здесь непонятно сколько их, и каждый замаскирован под друга. А может, зря, может, я слишком многого требую от фронтового друга? Может, надо сделать вид, что я ничего не понял? Пусть друзья даже не подозревают об авансах, которые ты им выдаешь, и уж тем более когда не оправдывают их, и каждый раз ты накидываешь эти авансы, первый, второй, десятый, повышая ставку, а в результате — пшик, и всё рушится в одно мгновение. Так я думал тогда, полагая, что прав на все сто двадцать пять процентов, даже очень хорошо помня, кто прикрылся мною от мины — Ефрем Набатников, а не Радий Каранда, похожий на молодого Джексона из «Ментовских войн».
— Извини, но это очень серьёзно, — сказал он рассудительно. — А если ты кого-нибудь грохнешь?..
— К тебе придут, — сказал я, чувствуя, что превращаюсь в бычка, который может и боднуть.
— Ну, вот видишь, — усовестил он меня, только не добавил, что ему есть, что терять: этот красивый, нарядный и сытый мир, где всё прочно и незыблемо.
А мне, значит, можно? Ну и разозлился же я!
— Раньше ты не был таким правильным, — процедил я по складам и вспомнил наш блокпост в Былбасовке, первые обстрелы и нашу единственную на весь фронт стодвадцатимиллиметровую самоходную «Нону», которая противостояла укрофашистам и громила их аэродромы и переправы.
— Раньше была война, — крайне угрюмо ответил он и тоже всё вспомнил.
Но это не изменило ситуацию, а только запутало её, потому что каждый сделал свои выводы: для него война давно кончилась, для меня она всё ещё продолжалась. И в этом мире слабакам места не было, не умещались они в нём, потому что в нём много острых граней, и если нет сил, то ты в него не вписывался по определению, а предпочитаешь сытую и красивую жизнь в Москве.
— Тогда извини, — развёл я руками, давая понять, что буду действовать на свой страх и риск, а если погибну, кто будет виноват?
Однако это уже было явное свинство по отношению к Радию Каранде, я перегнул палку.
— Брат! Я сделаю для тебя всё, что угодно! Но только не боевое оружие! — защитился он в отчаянии. — Хороший травматик достану?..
Но я не почувствовал в его слова искренности, в них было только Джексоновское позёрство, чтобы сохранить лицо, которое так нравилось местным женщинам. Так чувствовал я тогда мир и лишь махнул:
— Бывай!
— Погоди!.. — крикнул он как будто в отчаянии.
— Пока! — настоял я на своём, не веря ему ни капли.
Пружина толкнула меня в ближайшую пивную лавку. Я поднялся на эскалаторе, взял полтитра и прочистил мозги. Только они не прочистились, стало хуже: я не в силах был понять Радия Каранду, и он скатился в одну компанию с Ефремом Набатниковым, позывной Юз, который прикрылся мной, и ещё с одним типом, имени которого я называть не хочу, который зарабатывал деньги на крови братьев; и надо было ещё привыкнуть к такому положению вещей, в котором друзья живут с оглядкой. А если мы будем все оглядываться, считать плюсы да минусы, рано или поздно нас сомнут. Врагов слишком много, охочих до крови.
* * *
В Тушино я зашёл в цокольный магазин, который уже считал своим, хотя был здесь всего пару раз, тупо взял с витрины три бутылки армянского коньяка и тупо же поднялся к себе в башню на тридцать седьмой этаж; пить я начал прямо в лифте, хотя там наверняка была камера, но мне было плевать. Мне надо было, чтобы тоскливо-песочно-зыбучее состояние, которое схватило меня за горло, чуть-чуть ослабило хватку, иначе я мог провалиться ещё глубже и выкарабкиваться пришлось бы до конца года, да и то непонятно с каким результатом. А это была такая роскошь, которую я себе позволить не мог. На этой дикой мысли я наконец и сдёрнул его, как «ручник» — свой синдром войны, заставив себя хотя бы до утра забыть Наташку Крылову, дочь Варю и всё, чтобы было связано с моим ранением, а также замкомроты Жору Комиссарова, с позывным Лось, которого убило сосной, танковую атаку на наши позиции под Лисичанском, к которой мы не были готовы, Нику Кострову, двух придурков фашистов, которых я застрелил, Калинина с оторванной кистью, и ещё много чего другого; в общем, я замер в полушаге от пропасти, и равновесие было хрупким, и мир колебался, как огромный мыльный пузырь, и безмерная тоска готова была принять меня в свои объятья, но я показал ей фигу и, кажется, взял себя в руки. Этот приём действенен только в том случае, когда ты контролируешь своё состояние. Стоило забыться, отдаться ощущениям вселенской потери, как всё моментально летело вверх тормашками, и тогда наступал коллапс. Один раз, в самом начале, я влетел в него с размаху, и это было ужасное состояние разорванного на куски человека.
Я стоял, не сняв пальто, смотрел на тёмный Химкинский лес, где горела пара тоскливых огоньков, и старался ни о чём не думать. Мне казалось, что я зря сюда забрался, на тридцать седьмой этаж, в чужом мне город, где я занимаю чужую должность и живу чужой жизнью, исполняю чужую волю и даже сплю с чужой женщиной. Я подумал, что мы поколение, которому брошен вызов, и что моё место там, в голодном Донбасс, а не здесь, в сытой, уютной и красивой Москве; но в тот раз не решился плюнуть на всё и уехать, меня, как ни странно, ещё держал этот город, что-то в нем было, чего я не мог проигнорировать — должно быть, то, что привело не одного меня в окопы Донбасса.
В общем, я некоторое время балансировал, как канатоходец над Гранд-Каньоном, и коньяк делал своё доброе дело, но это было только началом долгого пути, и я уже собрался было перейти к следующий его стадии — отправиться в кабинет, чтобы завалиться на диван прямёхонько в верхней одежде и повыть в потолок, чтобы пружина, сидящая во мне, отпустила хотя бы чуть-чуть, капельку, совсем немножко, и можно было налакаться до самозабвения, до провала в памяти, до обнуления, как вдруг позвонила Вера Кокоткина, и я невольно прекратил рефлексировать. Она взволнованно дышала, как хромой после стометровки.
— Михаил Юрьевич, я не могла раньше с вами связаться…
Я удивился: с чего бы ей извиняться, не из-за того ли, что я от неё шарахаюсь, как от прокажённой, и посмотрел на часы. Было восемнадцать тридцать пять, рабочий день только-только закончился, значит, Вера Кокоткина соблюла компаративную этику и решила вынести сор из избы во внерабочее время. Тем лучше, меньше свидетелей, но больше шансов быть преданным одним из нас на излёте.
— Мы можем с вами встретиться?
Чёрт знает что! Раздражение глухо поднялось во мне. Налакаться не дадут! И ошибся всего лишь в цене вопроса. А цена была такова, что надо было бежать на эту свиданку, очертя голову, и как минимум сказать большое-пребольшое спасибо Вере Кокоткиной, которая беспрестанно строила мне глазки, правда, пока без всяких прямых намёков на дружбу и отношения.
— Да, конечно. Когда и где? — спросил я, давя в себе сомнения.
— Прямо сейчас, я буду вас ждать…
Она назвала модный ресторан на Ленинградском шоссе — «Тартони», в несколько средневековом стиле, с коническим столпом из шамота посредине зала и мрачными же стенами, с коваными решетками на окнах и с рыцарями, в доспехах которых торчали бычки. В этом ресторане мы один раз с Валентином Репиным подрались с охранниками, но это было давно, когда я ещё был в весе петуха и мы тайком от Аллы Потёмкиной и Жанны Брынской отмечали мою выписку из госпиталя. Валентину Репину сломали очки, а мне наваляли по первое число.
Я вызвал такси и поехал. Початую бутылку коньяка я взял с собой в качестве свидетеля.
Было тёмно, холодно и дождливо. Капли дождя разбивались и ползли по стеклу. Витрины и реклама мелькали, как в калейдоскопе. Я пил и думал, что тайна у Аллы Потёмкиной какая-то странная, её никому нельзя доверить, даже мне. Разве бываю тайны от настоящих любимых? Я подозревал, что я ненастоящий, выдуманный. А ещё я думал, что человек носит в душе кучу заблуждений, чтобы доверять им больше, чем кому-либо. Почему?
Я вышел из такси, оставив пустую бутылку на сиденье. Снаружи было ветрено, мрачно и сыро. Перед «Тартони» рябились лужи, деревья тревожно шелестели, луна мелькала сквозь бешеные тучи, призывая войти и забыться, и только капли дождя, казалось, были в своей стихии, весело мерцали в свете фонарей.
Я сразу нашёл Веру Кокоткину по её задорному носику и чёрным, воспалённым страстью глазами. Она пряталась за коническим столпом и подавала мне нервные знаки. Столик был на двоих, и она заказала две рюмки водки, её уже была пуста.
Я выпил свою и потребовал:
— Рассказывай!
Она сморщилась, как печёное яблоко, собираясь с духом, закусив губу, потом надула щёки, но ничего достойного выдать не смогла, кроме мычания. Подошёл официант. Я оценивающе посмотрел на Веру Кокоткину; она нервно рвала скатерть и дышала, как лошадь на дерби, глаза у неё были загнанными, как у беса при виде креста.
— Принесите ещё пол-литра и селёдки с чёрным хлебом, — попросил я.
Хорошо приготовленная селёдка с луком была моей слабостью, в такие двусмысленно-нервные моменты я на ней душу отводил.
— Чего молчишь? — спросил я, когда официант пропал за фирменной колонной.
— Страшно, — испустила она дух и абсолютно не походила на себя, обычно бойкую, склонную к флирту и подмигиванию, классический продукт синдиката «Аптечный рай».
— Дальше будет ещё страшнее, — пообещал я.
— Тю! — судорожно замахнулась она на меня вилкой, в глазах её промелькнула обида. — Типун вам на язык, Михаил Юрьевич!
— И ради этого ты меня выдернула из дома? — укорил я, но не шибко, чтобы не пугать лишний раз, но и нельзя было давать ей выпасть из роли потенциальной любовницы, иначе она могла замкнуться и ничего мне не рассказать.
— Я уже сомневаюсь, стоит ли начинать? — призналась она, вспомнив о кокетстве.
Спас положение официант, который принёс водку и закуску.
— Будешь? — налил я ей и себе.
— Буду! — Она влила в себя водку так, как я вливал её в себя после рейда по тылам укрофашистов — с хищной жадностью, а потом решительно выложила: — Это я подложила Вадиму Куприну деньги!
И с вызовом посмотрела на меня, клонив голову набок: ну, что ты теперь со мной сделаешь, отшлёпаешь или в угол поставишь? Так я с удовольствием из твоих-то рук!
— Ты?!
Вот это был финал. Я поперхнулся, закашлялся, даже не сумев удивиться, потому что удивляться в этой Москве уже перестал, зато с гордостью мог сказать, что живу в эпоху беспрестанно крутящейся «Кухни» и Виктора Петровича Баринова собственной персоной с дворницкими усами и замашками поварского деспота.
— Да! — кивнула она. — Лера Алексеевна попросила меня передать ему пакет, а если Куприна не будет, то просто положить в шкафчик.
Она покраснела и даже страшно смутилась, но это ей даже очень шло — как кровавый цвет божьей коровке. Признаться, я позавидовал Зыкову: её воспалённые страстью глаза сверкали, как чёрные бриллианты в сто двадцать пять каратов, было, отчего с непривычки потерять голову и начать заикаться.
— Как просто, — среагировал я с опоздание. — И ты не знала, что в нём?
— Нет! — испугалась она так, что я испугался за неё. — Вы знаете, как я к вам отношусь! — добавила она на придыхании и состроила мордашку искупления грехов кающейся Магдалины.
— Догадываюсь, — осуждающе кивнул я и возгордился тем, что всё ещё непонятно почему произвожу на московских красавиц впечатление, хотя мордашка грехов мне и не понравилась, не люблю я, когда люди сразу сдаются.
— Я не знала! Клянусь! — воскликнула она ещё раз, чтобы пронять меня до дрожи в коленках.
У неё были такие просительные глаза, что я не устоял:
— Не бойся, никому не скажу.
Значит, Вадим Куприн не виноват. Это была новость, которая меняла всё, потому что получалось, что заговорщицей оказалась Лера Плаксина! Почуяла жареное и смоталась. Неужели она в сговоре с Андреем Годунцовым? Или он её тоже шантажировал? А может, они хотели прибрать контору к липким ручкам? Кто знает? Где теперь её искать, ума не приложу?
— Я потому страшно и перетрусила. А сегодня сообразила, что это как-то связано с Аллой Сергеевной, и позвонила вам. Только не выдавайте меня! Прошу вас! — Она артистично, а главное, поэтапно и красиво поскулила, как голодная собака, в предвкушении, когда ей кинут кусок мяса — тоже из моих рук.
— Не выдам, — опрометчиво пообещал я ещё раз, уступая её сногсшибательному напору.
— Она люто ненавидела Водогреева! — отблагодарила она доверительно, и глаза её блеснули, как два огненных смайлика.
— Это того, которого отдали под суд?
— Ну да, — яростно кивнула она. — Геннадия Ивановича! Мне кажется, это она его подставила!
Но тут явился кое-кто и испортил всю обедню, позлорадствовал я, однако, не испытал особого раскаяния и снова разлил водку по рюмкам. С такой же лёгкостью Лера Плаксина могла покушаться и на меня, а не на мою дивную шапку, делающую меня похожим на Аллу Потёмкину.
— Да у вас здесь банка скорпионов! — не удержался я от восторга.
— Ещё какая! — аж подпрыгнула Вера Кокоткина и снова влила в себя водку, как воду.
Я понял, что эмансипация в Москве в надёжных руках.
— А чего ещё? — Цинично воспользовался я ситуацией, полагая, что женщина создана для ничего не значащего обмана, ведь от этого не перевернётся мир, не погасит солнце да и земной род не прервётся.
— Ничего толком, — сыграла она сценку с унылым пожиманием хрупкими девичьими плечами. — А-а-а… вот ещё, я слышала, что наши тётки трепались в курилке о Гелии Уралове.
— Кто такой Гелий Уралов? — живо спросил я, играя камушками в горле, хотя теперь-то можно было догадаться.
— Это первый муж Аллы Сергеевны, — выразительно посмотрела на меня Вера Кокоткина, — который погиб три года назад.
— А что случилось? — удивился я, сообразив, что это я, а не кто-то другой, — второй, который уже подразумевается как юридический субъект в нашем конфиденциальном разговоре.
Я поймал себя на том, что давно было пора покопаться во всей этой странной истории, которую я ещё не понял, но руки не доходили, не потому что коротки, а потому что жаль было Аллу Потёмкину, всё-таки мне казалось, что я её люблю, если не так, как Наташку Крылову, то, по крайней мере, второй любовью — точно.
— Разбился через неделю, как я пришла на работу. Я его видела всего-то пару раз. Он был страшно нервным и всё время кричал.
— А почему?
— Не знаю! — дёрнула она плечиком.
— Значит, нервным?.. — переспросил я и легкомысленно хмыкнул: одно складывалось к другому: если он был любовником Леры Плаксиной, то нет ничего удивительного, хорошо ещё, что он не назначил её директором по маркетингу и рекламе, а всего лишь и.о., хотя, с другой стороны, обязан был маскироваться. Запутанная история, неразрешимая, как пятно Габора (одно время я увлекался логическими парадоксами). Ясно одно, Лера Плаксина использовала Гелия Уралова в своих планах, а то, что они у неё далеко идущие, я даже не сомневался. Теперь она предстала передо мной очень даже коварной женщиной с камнем за пазухой, а не просто записной стареющей красоткой, похожей на Джину Лоллобриджиду.
— Да, — честно-пречестно кивнула Вера Кокоткина и хотела что-то добавить, но постеснялась, как типичная красная девица.
— А показания ты не дашь? — уточнил я на всякий случай, хотя и так всё было ясно.
— Михаил Юрьевич! — взмолилась она так, что на нас оглянулись соседи, — я боюсь, мы с Сеней только начали жить, я вам потому и рассказала, что доверяю! — укорила она. — У нас в фирме все воды в рот набрали! Можно вылететь в два счёта! Где теперь такую работу найдёшь?!
Раскаянию её не было предела; ей бы в харизматические актрисы податься, а не перебирать бумажки и на кнопки нажимать. В этот момент я проклял ту злополучную сотню долларов, которая связала меня по рукам и ногам.
— Ладно, — пообещал я, — не выдам, не бойся. — И нарочно перекатил камушки в голосе.
— Я вам скажу ещё кое-что… — она сделала дюже страшное лицо (я ещё раз испугался) и задержала дыхание, как перед прыжком в таз с лягушками.
— Ну? — приготовился я услышать тайну века, но был разочарован.
— Лера Алексеевна меня шантажировала!
Всего-то! Этого следовало ожидать, даже шапочно зная Леру Плаксину.
— Вот как?! Чего же она от тебя хотела?
— Она сказала, что я соучастница и могу пойти под суд!
Вера Кокоткина крайне пристально смотрела на меня чёрными, воспалёнными страстью глазами и, верно, думала: «Когда же ты, чёрт побери, начнёшь приставать ко мне с такими-то камушками в горле?»
— Ага… — едва не подавился я. — И ты не согласилась?
Впервые она рассмеялась и не стала ломать комедию, слушая мои умствования.
— Я сказала, что напишу заявление в полицию, если меня не оставят в покое! — произнесла она так, чтобы я наконец отдал должное её красноречию.
— Правильно, — оценил я. — И она сбежала!
— Не сразу, — показушно качнула она головой, как кукла Барби, — а дня через три. Она… — Вера Кокоткина нервно покусала губы совсем, как моя жена, когда пыталась мною манипулировать со всей страстью нерастраченной женской натуры, — она дала мне денег за молчание, — выкатила Вера Кокоткина глаза.
— И ты взяла?.. — я не поверил.
— Вообще-то я вас прикрывала! — она нервно схватила меня за руку, словно моля о пощаде: «Какой дурак не возьмёт?»
Надо сказать, что руки у неё были красивыми: с длинными пальцами и модельным маникюром. Меня словно ударило током. Когда тебя домогается такая женщина, как Вера Кокоткина, ты невольно впадаешь в грех соблазна, хотя не подаешь вида, что крепишься из последних сил, потому что тебе так и хочется сорвать с неё платье и утащить в ближайшие кусты.
— А убить тебя у неё не хватило духа, — произнёс я так, словно проглатывал живых улиток, то бишь крайне задумчиво.
— Типун вам на язык! — театрально отшатнулась Вера Кокоткина, воспринимая мои слова, как намёк вести себя скромно, так и призыв честно взглянуть правде в глаза: рядовая секретарша — не бог весть какая ценность даже для Москвы.
— Завтра пойдёшь в полицию и всё расскажешь! — ошарашил я её.
— А зачем?! — Её воспалённые страстью глазами налились обидой и слезами.
Предательства Вера Кокоткина явно не прощала, но даже в таком виде была прекрасна.
— И деньги отдашь! — надавил я сильнее, потому что она не видела дальше собственного задорного носика-искусителя.
— Отдать?! — разрыдалась она на весь ресторан так, что рыцари со скрипом вздрогнули, а из доспехов посыпались бычки.
— Это единственное, что спасёт тебя, — объяснил я ей, глядя прямо в глаза, полные тоски и печали. — А так Лера Плаксина рано или поздно найдёт человека, и… — я сделал многозначительную паузу. — Ты единственный свидетель!
Хотя и Андрей Годунцов может подсуетиться, с его-то связями, но об этом я промолчал, нечего тревожить её бедное сердечко.
— Ой! — Она сама налила себе водки, выпила, запрокинув голову, и порывисто сказала, промокая глаза салфеткой. — Об этом я и не подумала. А я уж их всё потратила!
Это был явный намёк, чтобы я вытащил её и из этой ямы, подстелил бы соломки, чтобы она больше никуда не шлёпалась по глупости.
— Хотя, возможно, Лера Плаксина просто хотела выиграть время и уже где-нибудь загорает на песочке, — принялся рассуждать я, делая вид, что ничего не понял.
— Вы думаете?.. — с надеждой спросила Вера Кокоткина и воспрянула духом.
От её игры в роковую женщину не осталось и следа, она сделалась по-девичьи наивной, такой, какой я её увидел впервые, и догадался, вряд ли она воспользуется моим советом — жалко денег, да и Сеня Зыков внесёт свою качественную лепту в этот вопрос, дабы ездить на работу на «тойоте» или «ситроене».
— Всё может быть, — согласился я, — но расслабляться не стоит.
— Да! Я знаю! — твёрдо сказала она и в знак благодарности снова хотела воспользоваться своими чарами: взять меня за руку и заглянуть в глаза с тем, чтобы моё бедное сердце укатилось куда-то в пятки, но вовремя опомнилась.
— Ну и слава богу, — вовремя закруглили я тему, чтобы не искушать ни её, ни себя. — Тебе куда?
— Я здесь рядом живу, за углом, — она как будто бы устыдилась своей горячности. — Сеня меня уже ждёт!
Сеня, Сеня. Мне вдруг стало завидно: что он там такого разглядел, чего я не увидел?
— Я провожу, — напросился я.
Вероятно, она отключила телефон, потому что в течение нашего разговора нам никто не мешал. Мы оделись и вышли. Дождь уже кончился, и пахло клейкими тополиными листьями. Со стороны Химкинского водохранилища тянуло прохладой. В переулке было тёмно, под ногами жадно чавкали лужи.
Я осторожно взял её под руку. Она прижалась, словно мы были знакомы сто лет. Её доверчивать меня не удивила, хотя я и не питал никаких иллюзий: между нами стоял Сеня, и я не собирался идти по его стопам, вернее, меня уже не вдохновляли её глаза, полные страсти. Теперь они казались мне не прежними, чарующими, обволакивающими в сладкий кокон, а обманчивые, как всякая столичная химера, и я почему-то вспомнил гарпию Амалию Рубцову из курятника Роман Георгиевич, вот кто преподал мне хороший урок столичного цинизма и расчётливости, и это там, где есть правила, где Испанов Роман Георгиевич блюдёт чистоту нравов, а здесь вообще караул, сплошная цыганщина, чёрные дела и достоевщина!
— О сегодняшнем разговоре никому не говори, — попросил я, — это опасно.
— Ну что вы?! Думаете, я не понимаю, — кротко вздохнула она, прикидываясь овечкой.
— Тем более никаких социальных сетей!
— Ну, да… — слишком покорно согласилась она.
Я посмотрел на неё, как на идиотку. Она даже не смутилась:
— Что я дура?! — театрально вскинула голову.
— Сене можно, — милостиво разрешил я.
И вдруг почувствовал, что она всё ещё ждёт от меня ответного хода, и пожалел, что упустил своё время, когда мог вот так бездумно вышагивать по мокрому городу рядом с красивой девушкой и строить далеко идущие планы насчёт секса. Жизнь сделала так, что я полон скепсиса и ничего не жду, почему, не понимаю. Я что-то утратил на этой войне да и вообще, в жизни, а упущенного не вернёшь. А ещё я вспомнил о Нике Костровой; что с ней и где она, я не знал, но надеялся, что она не попала в лапы к бандеровцам и не погибла тогда, два года назад; такие красивые женщины достойны большой любви и огромного счастья.
— Это мой дом, — сказал Вера Кокоткина на углу, под фонарём, где старый, щербатый асфальт вздыбился от времени и непогоды. — Если бы не Алла Сергеевна, я бы вас сразу заарканила!
— Ба! — я как будто внял свой голос со стороны. — А что, было так заметно?
Она тяжко вздохнула:
— Да мы сразу поняли, что она на вас глаз положила.
Да что они здесь все, сговорились? — вздрогнул я, и пружина, сидящая во мне, ослабла на три четверти от пикантности ситуации.
— А Сеня что? — Вспомнил я его волосатые, как у лемура, руки.
Должно быть, у них до сих пор были бурные ночи, потому что под глазами у Веры Кокоткиной лежали нескромные тени.
— А с Сеней мне хорошо, но с вами было бы лучше. — С тайной надеждой посмотрела на меня и стала чем-то походить на Инну-жеребёнка в своей всеядности.
Должно быть, столичный воздух вреден для женщин всех возрастов без исключения, а уж неразборчивость — как переходящее красное знамя, от которого не отказываются ни при каких обстоятельствах. Что они здесь, белены объелись? — подумал я с пренебрежением к московской породе и окончательно понял, что её чёрные, воспалённые страстью глаза — это ширма, а главное за ней — крайне соблазнительная иллюзия счастья, надежды и горячего прегорячего секса; все ловились, словно караси, на эту иллюзию, и ты не устоял.
— Но он тебя хоть любит? — спросил я на правах доверительности, которая возникла между нами с первых минут знакомства и до сих пор никуда не делась, а только росла, как на дрожжах, и что с этим делать, пока было не известно.
— Он меня на руках носит! — похвасталась она, словно выигрышем в беспроигрышную лотерею.
— А ты?.. — Я постарался, чтобы моё лицо ничего не выражало, ибо шаг вправо или влево мог быть расценён, как сигнал к победоносной атаке.
— А я даю себя любить. — Она даже не покраснела, сам ответ подразумевал духовно-плотское сближение, и я должен был клюнуть, как воробей на мякину.
Но я не клюнул. Я уже знал, что спрятано за красивой ширмой, потому что в этом вопросе очень и очень поднаторела моя жена, хотя я её люблю до сих пор; и вдруг с высоты тех лет ощутил себя старым-старым и очень бывалым, таким, что самому стало противно.
— Всё. Беги, — вывернулся я, как штопор, — к своему Сене.
На лице у неё промелькнули обида и разочарование. Она сделал два неуверенных шага. И я в очередной раз позавидовал Сене, глядя на её стройную фигуру, которую даже не портила мешковатая куртка.
— Вы не подумайте, он у меня хороший… — глядела она на меня. — Ужин приготовил… Ждёт… — И, казалось, была не только расстроена, но и готова была пустить слезу, дабы заарканить на сплине и жалости к несчастной женской доли.
Возникла пауза, которая решала всё, и я произнёс, ещё раз услышав свой голос как будто со стороны:
— Ну и отлично! Привет Сене!
А потом развернулся и, не оглядываясь, пошёл назад, стараясь не замечать, как тоска подкрадывается вместе с одиночеством. Что же это за любовь, в которой меня всё время нагибают? И как долго ещё я буду любить свою жену? Я не знал. То прежнее, старое, забытое, но родное, сидело во мне крепче всякой занозы. Как только я задал себе этот вопрос, начался процесс саморазрушения, действие водки закончилось, а коньяка под рукой не было. Однако я вовремя поднял руку, поймал такси и стартовал домой, где, в отличие от Веры Кокоткиной, меня никто не ждал, кроме посттравматического синдрома. Но на этот раз я его обманул, шмыгнув на кухню и, прежде чем он попытался всадить в меня гарпун отчаяния и напомнить, кто здесь хозяин, царь и бог, опрокинул в себя стакан коньяка и перевёл дух с оглядкой через левое плечо — там никого не оказалось, поэтому я, ни о чём не думая, сварил пельмени и с полной тарелкой и бутылкой в руках плюхнулся за компьютер. С этой минуты я был вне зоны досягаемости каких-либо синдромов и до утра вполне мог не опасаться за свою психику.
На следующий день я понял, почему Алла Потёмкина не могла ничего мне рассказать — ей мешало прошлое, и она до самого последнего момента хотела скрыть свою тайну. Я понадеялся, что она всё же не изберёт стандартную процедуру искупления грехов — монастырь, потому что, по моему мнению, всё ещё можно было исправить, только я здесь был ни при чём, я был всего лишь её спасительным билетом в рай.
Глава 8. Тайна Аллы Потёмкиной
Она была дочерью аптекаря в фигуральном смысле слова и стала аптекарем по призванию из-за своего военно-морского характера.
Её родители служили в Североморске. Корабельная, пять, квартира восемь, второй этаж с окнами на городской парк. Отец — капитаном большого противолодочного корабля, мать — главным хирургом в военно-морском клиническом госпитале, кстати, тоже в чине капитана первого ранга. В этом плане ничего интересного для моего расследования я не обнаружил, кроме того факта, что Алла Потёмкина выбрала совсем не военно-полевую стезю, а несколько полегче. Мама вдохновила, догадался я, кто ещё, но это неважно. Важно было то, что она уехала в Москву. Провести на севере лучшие года в ожидании выслуги лет, даже если ежегодно выезжаешь на юга, дело тяжкое и не каждому по плечу. Что могут военные? Максимум, помочь чаду деньгами или связями. Насчёт первого я даже не сомневался, а со связями, вероятно, была проблема, потому что Потёмкины были родом из Новороссийска, и даже ранжирование по уму и расчетливости не помогало. Стало быть, Алле Потёмкиной в столице пришлось пробиваться самостоятельно, надеясь разве что на чудо, собственный характер и удачу. Однако таких девочек в Москве пруд пруди, и конкуренция колоссальная. Я почему-то не к месту вспомнил Инну-жеребёнка. Как она там? Но не встал отвлекаться, хотя было что вспомнить, особенно её голые ноги из-под моей рубашки.
Поэтому я оборотил свой взор на Гелия Уралова, как сказала Вера Кокоткина, — первого мужа Аллы Потёмкиной. Вторым по определению быть всегда стыдно, но что поделаешь, если так устроена жизнь.
И начал с его отца, Антона Назаровича Уралова. Родился он и вырос в Москве. По образованию — химик-фармацевт; в мрачные девяностые занялся аптечным бизнесом, выкупив по дешёвке на Арбате пару аптек. Кто его подвиг на эту стезю и где он взял капиталы, осталось тайной. Похоже, он даже не помышлял ни о какой особой удаче, просто наобум, воспользовавшись чей-то дальновидностью, однако, получилась аптечная империя. С тех пор она только расширялась, расширялась и расширялась, не говоря уже о процветании. В этом смысле Гелий Уралов казался лучшим преемником: Антон Назарович Уралов умер шесть лет назад от обширного инфаркта — странная смерть для сорокадевятилетнего мужчины: он был несколько нездоров сердцем. И тут я вспомнил, что на одном из предыдущих сайтов промелькнула информация, что до момента смерти Антон Уралов имел лошадиное здоровье и что такие люди живут до ста двадцати лет, особенно в Москве, может, и больше, и в ус не дуют. Он-то рассчитывал на долгую жизнь, а ему почти-то это не удалось, подумал я. Тогда я вернулся назад и посмотрел, кто же сообщил, что у Антона Уралова — чуть-чуть, но всё же больное сердце? Оказалось, невестка! Странно, не правда ли? Обычно о таких вещах сообщает патологоанатом или лечащий врач. Но Антон Назарович Уралов никогда не лечился ни у одного врача и нигде не состоял на медицинском учёте. Об этом прямо было сказано в официальном пресс-релизе синдиката «Аптечный рай»: «Железное», то бишь лошадиное здоровье. Зачем тогда невестке наводить тень на плетень? Сказано это было, судя по всему, в сердцах, прямо на кладбище, в секундном интервью. Алла Потёмкина училась ещё тогда в Первом Московском государственном медицинском университет им. И. М. Сеченова, на фармацевтическом факультете. Я подумал, что, может быть, у девочки были проблемы с учёбой, а Антон Назарович Уралов перенервничал и получил инфаркт? Нелогично. Так не бывает, даже если она его невестка, к тому же при таком бизнесе у него должна была быть чрезвычайно устойчивая психика и отменная выдержка. Правда, это не панацея от инфаркта, но тем не менее, вопрос повис в воздухе и стал первый пунктиком в моём расследовании.
Когда я копнул глубже, то оказалось, что он неоднократно судился с одним и тем же компаньоном — Андреем Годунцовым, но все дела, как ни странно, кроме одного, выиграл, всего лишь раз не поскупившись незначительной частью бизнеса. Через пару лет, кстати, он снова взял Андрея Годунцова назад, в бизнес, за относительно небольшие деньги. Чистая прибыль за счёт прироста объёмов реализации с лихвой компенсировала потери. И я подумал, что Андрей Годунцов страшно завидовал Антону Уралову, потому что тому беспрестанно везло. А потом везение неожиданно кончилось, хотя Антон Назарович Уралов ни в какие аферы не лез и сомнительным лекарством не приторговывал. Его стратегия заключалась в медленной аннексии в сопредельных территориях. Значит, здесь что-то другое, подумал я, а не бизнес.
У Антона Уралова рос приёмник — сын, который, как я теперь понял, унаследовал от отца все лучшие морально-волевыми качествами, и Антон Уралов не без основания делал на него ставку. Прежде чем умереть, Антон Назарович успел развестись с женой, которая получила отступные, быстренько умотала в Америку, и больше о ней никто ничего не слышал. Это были обычные, как новогодняя ёлка, люди, почти типичная семья, почти типичный мир и почти типичный сын.
Тогда-то я и копнул этого самого типичного сына. А он оказался вовсе не типичный, а — золотой мальчик, с порочным лицом мачо. На фото очень даже занозистый, а в жизни, должно быть, ещё хуже, подрезающий машины из-за фарта.
Почти на всех гламурных сайтах я обнаружил целую подборку роликов: выезд на разделительную линию, вспахивание красным «гелендвагенером» Чонгарского бульвара, купание в фонтане «Витал» у Большого театра, распитие спиртных напитков в общественном месте — это всего лишь малая толика его подвигов, большинство из которых он великодушно прощал сам себе; и общество с ним нянчилось, как с неразумной дитятею, потому что папа исправно платил большущие штрафы, и всех это устраивало; а если бы посадили в тюрьму, ну, и какой от него толк тогда?
Главным же его достижением, за которое, он заработал уголовное дело, была езда по «встречке» и за мефедрон, который у него нашли в бардачке. При этом Гелий Уралов умудрился протащить на капоте гаишника в чине майора, который при этом умудрился стрелять в Гелия Уралова из «макарова».
К сообщению прилагалась полицейская фотография Гелия Уралова шестилетней давности: крепко сжатые губы, напряженные скулы и отсутствие какого-либо выражения в глазах. Для простоты дела я заглянул на соответствующий справочник и нашёл там следующие медицинские термины: «нистагм», «бруксизм» и ещё несколько, самым безобидным из них был «мидриаз», то есть расширенные зрачки. Ясно было, почему в глазах у Гелия Уралова ничего не светилось и мыслей в них тоже не было. При той дозе, которую обнаружили у него в бардачке и под сидением, ему грозило до десяти лет строгого режима, потому что он, оказывается, ещё и продавал этот самый мефедрон, в чём он сам же инфантильно признался.
Однако Гелия Уралова снова не посадили и даже права не отобрали, а майор ему благодушно простил сломанную ногу и вывихнутую руку за парочку-тройку таких же «гелендвагенеров», на капоте которого он с ветерком прокатился. Во что ещё обошлась Антону Назаровичу Уралову шалость сына, можно было только догадаться, но он своё выстрадал. И даже больше — вылечил сына от наркозависимости. Справился виртуозно, с присущим химику-фармацевту профессионализмом, потому что никаких прегрешений подобного типа за Гелием Ураловый больше не числилось, вернее, может, они и были, эти прегрешения, но и о них нигде не упоминалось. Я подумал, что он, должно быть, сильно испугался, иначе бы не избавился от страсти к наркотикам. А может, он взялся за ум? Один шанс на миллион, хотя говорят, что бывших наркоманов не существует. Впрочем, проверить эту гипотезу, ввиду краткости жизни Гелия Уралова, мне не удалось. Затем Антон Назарович Уралов женил сына на Алле Потёмкиной, как образцово-порядочной девочке из военно-морской семьи, и видно, надеялся на благоприятную судьбу отпрыска и даже сделал его компаньоном в бизнесе. Итак, Гелий Уралов включил наконец голову и уже в женатом виде продолжил учёбу. Здесь для меня тоже был тупик. Никакая светская хроника больше ничего не сообщала о молодой семье Ураловых, словно её не существовало. Чего же так боится Алла Потёмкина? Я снова упёрся в стену и уже хотел было сдаться и допить свой коньяк, с тем, чтобы отправиться на боковую, как вовремя вспомнил, что есть ещё и сайты для общения. На трех десятков из них мне пришлось заполнять длинные анкеты, кое-где они оказались платными. Я выбрал первые десять и провозился почти до рассвете, старательно избегая фишинговых предложения, прикончил вторую бутылку коньяка и подумывал отправиться в гостиную, где в баре наверняка что-то завалялось, как вдруг мне повезло: почти в самом конце бесконечно-длинного трёпа за две тысячи десятый год на околосветские темы промелькнула фамилия Уралов. Кажется, речь шла о студенческой тусовке с пикантными эротическими деталями. Я вспомнил, что Гелий Уралов уже был женат, но то ли Алла Потёмкина плохо смотрела за своим мужем, то ли она была где-то рядом, однако о ней ничего не заявлялось.
Итак, была пьянка и, возможно, голые девочки. Вопрос: присутствовала ли там Алла Потёмкина? Я ощутил, что запахло жареным. Скандал был где-то совсем близко, правда, я ещё не понял, какой, а о том, о чём подумал, не хотелось признаваться даже себе до самого последнего момента. Кто-то что-то снимал, а потом выложил в сеть? Я задал себе этот вопрос сразу, а потом принялся искать порнушку, но ничего не нашёл. Может, её и не было, подумал я с облегчением, и у тебя непотребно разыгралось воображение, но на всякий случай полез в архивы.
Истина оказалась на расстоянии пары сотен кликов. Это был адский труд: поисковики ничего не давали, приходилось вычитывать большие объёмы пустопорожнего текста. Не на всех сайтах вообще что-либо сохранилось; и я ровным счётом ничего не нашёл. Но потом, когда снова отчаялся, в одном старом-престаром, крохотном и крайне законспирированном архиве я обнаружил одно-единственное злорадное упоминание о том, что, мол, старик Гелия Уралова выложил приличную сумму. А за что и почему, не сообщалось. Но всё равно: кто-то из цензоров не доглядел и не достёр. Значит, шантажист всё-таки был и интернет здорово почистили. Или все же не был? Если существует шантажист, предположил я, значит, существует и запись, которая до поры до времени лежала у него в столе, а теперь её пустили в ход. Возможно, что самой записи уже нет и в помине, потому что Антон Назарович Уралов не стал бы платить за воздух. Или шантажист его обманул и оставил себе копию? Мне не хотелось думать ни о чём подобном. Мне хотелось, чтобы Алла Потёмкина была принцессой из сказки, в крайнем случае — на горошине. Но в жизни так не бывает, жизнь — это сплошные компромиссы с этой самой жизнью, и принцессы здесь не водятся, змееподобные русалки с жалом и щупальцами — пожалуйста, но только не наивные дурочки-принцессы, которые не куролесят на «вписке» в отсутствие взрослых. А Ураловы куролесили, хотя уже были взрослыми. Видно, детство у них было крайне тяжёлым, раз они отрывались по полной.
Итак, стараниями Антона Назаровича Уралова уголовное дело замяли, и молодая пара благополучно закончила университет. Потом погиб Гелий Уралов, потом возник шантажист, потом мне отказали в супружестве. И возник вопрос: а зачем я во всё это влез? Я посидел с пустой готовой, посмотрел в ночное окно с высоты тридцать седьмого этажа, и не нашёл ответа.
Кто мог быть шантажистом? Наверняка кто-то из сокурсников Гелия Уралова. Антон Назарович Уралов куда-то же потратил свои деньги, вытаскивая сына из очередного блудняка? Получается, что за пять лет у шантажиста кончились деньги и он снова взялся за старое. А может быть, шантажист узнал о том, что Алла Потёмкина собралась замуж, и решил, что настало его время? Тогда эта грязная история касался и меня, и кровь забурлила во мне, как шампанское без пробки. Ах, вот в чём дело! Появился новый объект для шантажа! А Алла Потёмкина была всего лишь приводом в этом деле, и следующим объектом шантажиста должен быть я, если я всё, конечно, правильно рассчитал.
В этом месте я поплыл, даже несмотря на злость, и, едва добредя до постели, свалился, как убитый. Мне снилась обычная галиматья на пьяную голову. И в ней, в этой галиматье, вовсю присутствовала Алла Потёмкина не в самом лучшем расположении духа. Я проснулся ошалелым: неприятно было думать, что она замешана в эротической истории, хотя у меня было подобное чувство, иначе бы никто не раздувал такой сыр-бор и не занимался бы шантажом, потому что дело это опасное, с непредсказуемым результатом, можно и по голове здорово получить. Но оно, видно, того стоило, раз кто-то решился на такой риск. Предстояло узнать, сколько заплатил Антон Назарович Уралов, а главное — кому?
Алла Потёмкина так и не позвонила, хотя я подспудно ждал её звонка даже во сне, даже в ванной, в которой я отмокал, как банный лист.
Когда я закончил принимать ванную, я уже знал, где надо искать. Через десять минут у меня был список студентов не только группы, в которой учились Гелий Уралов и Алла Потёмкина, но даже имя её лучшей подруги — Ирины Офицеровой, с которой Алла Потёмкина вместе учились в школе, потому что Ирина Офицерова тоже родом была из Североморска. В принципе, я мог узнать обо всё этом даже быстрее — у Жанны Брынской, но не стал её впутывать в своё расследование. Жанна Брынская позвонит Алле Потёмкиной. Алла Потёмкина всё скумекает, и может случиться, если не мировой скандал, то маленькая империалистическая война. Такой расклад меня абсолютно не устраивал. А мировыми войнами на семейном фронте я был уже сыт.
Я перерыве между ванной, чисткой зубов, кофе и позывами к рвоте, я наобум лазаря набрал «кредитные истории неплательщиков» и получил информацию, что, оказывается, Ирина Офицерова уже два года числится должником банка «Хоум-кредит» и по этой причине ей запрещено было выезжать из страны; там был даже её адрес, как я понял, для идентификации её во всех аэропортах, железнодорожных станциях и морских портах страны.
Через полчаса я уже трясся на своём «патриоте» по направлению в Новое Измайлово, где дома росли быстрее, чем грибы после дождя. Очень быстро я почувствовал, что даже несмотря на бушующий во мне адреналин, три бутылки коньяка за раз — это всё же многовато. Не обошлось без эксцессов с желудком и лёгкого мерячения, какие-то мгновения реальности я явно пропускал, однако, к счастью, очень скоро стоял перед новостройкой, которая даже ещё на карте не значилась. Единственное достоинство: здесь не надо было искать место для парковки.
Ирина Офицерова оказалась перезревшей брюнеткой, аппетитных форм, сидевшей в декрете уж не знаю, с каким по счёту ребёнком. Застиранный халат страшно портил её фигуру, но привлекательности от этого Ирина Офицерова не потеряла, а эротичные подмышки и лёгкий плотский запах выдавали в ней чувственную натуру.
Я, как всегда, понадеялся на экспромт и, заглянув за её спину, быстренько прикинулся мастером из РЭУ.
— Вот смотрите, здесь и здесь… — в укоризной показала она мне на тазы и банки под трубами, — обещали ещё вчера!
В тазы и банки нещадно капало; в комнате стоял специфический запах сырой побелки и отклеивающихся обоев.
— Сделаем всё, что можем! — опрометчиво пообещал я и сделал радостное лицо, насколько его можно было сделать в положении человека, которого всё ещё мутило от коньяка.
— Не «всё, что можем», а то, что положено! — нравоучительно заявила Ирина Офицерова и выразительно посмотрела на меня, мол, больше вы, строители-лошары, ни на что не годны! — При этом она инстинктивно стреляла глазками, заигрывая по старой, затасканной привычке красивой женщины.
Глаза у неё были, как у лани, глубокие, карие, но абсолютно без какого-либо осмысленного выражения. Волосы — чёрные, заплетенные в толстую косу. Сейчас такие косы — один сплошной анахронизм. Даже брови были широкие не по моде, а натуральные от природы. Видно, на моду у неё не хватало ни времени, ни денег, ни вдохновения — личная жизнь закончилась на детях и кухне.
— Куда мы денемся! — покорно согласился я и поник, как водится для строителя, головой.
Квартира была новенькой, но, что называется, в чёрновом варианте, то есть без отделки и даже кое-где без внутренних стен. Голый бетонный пол был усыпан мелом и штукатуркой. Собрана была лишь детская, откуда донёсся детский плач, и кухня, где тупо орал телевизор.
— Минуточку… — заволновалась Ирина Офицерова и нырнула в детскую.
Я остался стоять в коридоре.
— Помогите мне! — раздался её капризный голос.
Я вошёл. Внутри стоял неповторимый запах, который примешивался к стойкому запаху Ирины Офицеровой. Потом я увидел, от кого и чего он происходил — от голопузого мальчишки, который, весело глядя на меня, с удовольствием пускал дивные фонтанчики. Меня тут же замутило, коньяк тактично напомнил, что ещё не полностью выветрился из моих жил и имеет право на своё волеизъявление.
— Что, не привыкли? — заметила Ирина Офицерова мой соловый взгляд.
— Отвык, — вспомнил я Варю.
Этот период в моей жизни стёрся напрочь, а если всплывал, то казался выстрелом мортиры в поясницу, поэтому я его старательно скомкал и хранил там, где надо долго-долго копаться. Поэтому из-за контраста ощущений, я понял, что в те годы я был совсем другим, беспечным и наивным, то бишь молодым отцом, верящим в большую любовь, с тех пор я не так смело смотрю вперёд и подозреваю, что будущее — это сладостный мираж, который редко у кого сбывается.
— Там на столе последний, подайте, пожалуйста, а это заберите! — В отместку за ржавые трубы она сунула мне памперс со всем его содержимым. — Ведро на кухне!
Я вымелся из детской, держа памперс на расстоянии вытянутой руке, сунул его в умывальник, едва добежал, чуть ли не вырвал форточку с корнем и наконец глотнул холодного воздуха. Горизонт передо мной сделал два произвольных кульбита и только потом занял положенное ему место. Внизу, в совсем другом мире, ездили машины и ходили люди, они были явно счастливее меня.
Ирина Офицерова вошла через минуту с мальчиком на руках, выключила орущий телевизор и с превосходством домашнего диктатора посмотрела на меня, как на полнейшего идиота, не соображающего ни в памперсах, ни тем более в писающих мальчиках.
Кухня была завешена пелёнками и распашонками. На плите кипело молоко, исходя ржавой пеной, в углу, за веником, пряталась горка мусора и презерватив с усиками.
Я сказал:
— Здесь триста тысяч, — и положил конверт между грязными тарелками с остатками супа, немытой кастрюлей и половником в манной каше, — это ваше, если вы скажете мне, кто шантажировал Аллу Потёмкину.
— Кто вы?! — отшатнулась она и ловко переложила мальчика с правой руки на левую, словно правая у неё была боевой, и она мне сейчас задаст этой самой правой, например, сунет головой в это самое ржавое молоко и подождёт, пока я не захлебнусь себе на радость.
Мальчик глядел на меня, словно на родимого, видно, полагая, что я его папаша. Теперь он казался мне розовым, как ухо поросёнка.
— Я её друг, — сделал я честное-пречестное лицо, чтобы только не попасть под раздачу правой.
— Друг?.. — встрепенулась она ехидно, и должно быть, стала той, которой она была с мужем, когда они ссорились. — А я думала из РЭУ? — переспросила с угрозой учинить скандал, на который сбегутся все окрестные соседи, и из домов напротив — тоже, и с другой улицы тоже: и тогда мне точно — конец!
Я понял, что мужу Ирины Офицеровой в этом плане крайне повезло и что Ирина Офицерова порой его поколачивает, пока шутя, разумеется, но однажды войдёт в раж, испытает удовольствие садистки со всем вытекающими отсюда последствиями, и выкинет на газоны, туда, где дети копошатся в песочницах, а добросовестные дворники метут асфальт.
— Нет, я не из РЭУ, — отрёкся я и даже отступил на шаг, дабы она не пугалась и гневно не топала толстой пяткой в разухабистом тапочке.
Но всё равно:
— Я позвоню Алле! — И глаза у неё вспыхнули гневным светом прирождённой скандалистки.
Она сообразила, что сплоховала: один на один с неизвестным мужчиной, мало ли таких прецедентов в столице.
— Не надо звонить, — остановил я её. — Просто скажите, кто, и деньги ваши, я даже накину ещё пятьдесят тысяч за молчание.
Она колебалась. Видно, ей очень нужны были деньги, но она небеспочвенно боялась влипнуть в какую-нибудь историю.
— А если я скажу… — выставила она мне условие с прищуром волооких, как у лани, глаз, — с этим человеком ничего плохого не произойдет?!
Она знала, что я наверняка совру, но ей нужна была хотя бы видимость гарантии, чтобы принять деньги и чтобы совесть не мучила.
— Я вам обещаю, — сказал я, — мне просто нужно с ним поговорить.
Я плохо себе представлял, что случится дальше, поэтому мог обещать всё что угодно, однако, при этом я точно не собирался убивать шантажиста, я вообще никого не убивал, кроме укрофашистов на войне. Однако даже это затягивает. Ты становишься немного циником, потому что видел, как легко это делается, и с тех пор с пренебрежением относишься к чужой жизни, но до некоторых на этой войне мне всё равно было далеко, хотя, чего скрывать, подвижки были, потому что я увидел, что сделали с нашей снайпершей Лето, как запытали до смерти Юрку Голубева, позывной Орёл, из Макеевки, он был ранен на блокпосту, уведён в плен, а через сутки его подбросили на минное поле, и мы опознали его только по наколке на спине; как Герка Мамиконов, позывной Меркурий, командир батальонной разведки, сто десять раз успешно снимаю растяжки, а на сто одиннадцатый раз граната взорвалась, и ему оторвал левую руку полностью, а правую — по локоть.
Ирина Офицерова поколебалась ещё, с подозрением разглядывая меня.
— Я где-то вас видела…
— В уголовной хронике? — пошутил я непроизвольно, стараясь, однако, смягчить свои камушки в горле.
— Нет, — твёрдо сказала она. — Ещё где-то… Не помню… — поморщилась она.
Мальчик шевельнулся в её руках. Он ещё не умел капризничать, он просто подсказал матери: не валяй дурака, хватай деньги и беги в аптеку за памперсами, а то обделаюсь на ночь, греха не оберёшься.
— Тогда вряд ли, — поскромничал я, хотя наверняка кто-то снимал в шашлычном ресторане, и я мог мелькнуть в тамошней жёлтой хронике. — Ну?..
— Это Гарик Княгинский! — решилась она так стремительно, что я остолбенел, схватила конверт, пощупала его, но открыть всё же постеснялась, принципы у неё, видите ли.
Мальчик безмятежно пустил слюни и радостно пялился на меня: ему светило супер-пупер дорогое заморское питание и сухой сон на ночь.
— Где он живёт?
Я до последнего надеялся, что шантаж — плод моего больного воображения; и мне стало физически плохо то ли от запаха содержимого памперса, то ли от мысли, что я испытываю перед Аллой Потёмкиной непреодолимые обязательства и пока не реализую эти обязательства, ничего с собой поделать не мог.
— Я не знаю. Мы не дружили…
На мгновение она унеслась в прошлое, когда Гарик Княгинский был её одногруппником и наверняка не раз в запале на этих самых «вписках» смачно хлопал её по мягкому месту, тем более на таких вечеринках, где все бегали голышом.
Она снова вдумчиво пощупала конверт, боясь обмишуриться, хотела что-то добавить, но промолчала, опасаясь выдать себя. Я вдруг понял, что Гарика Княгинского она, мягко говоря, недолюбливала, и явно было за что. Может быть, он обещал жениться, но передумал? Женщины умеют мстить даже через много лет. Главное было не создавать прецедентов, однако, это уже целое искусство, которое и за полжизни не освоишь.
— Чем он занимается? — гнул я своё.
— Я не знаю, — ответила она.
Но так, что я понял:
— Он что, бандит?
— Нет, — слишком резко соврала она и посмотрела вбок.
— Сколько тогда он заработал? — решил я вернуться к прошлому, ибо там был ключик к настоящему, которое меня очень и очень волновало.
Ей явно не терпелось взглянуть на деньги, но она всё ещё стеснялась.
— После института я его ни разу не видела, — ушла она от ответа и окончательно взяла себя в руки, сообразив, что из ситуации можно извлечь ещё кое-какую выгоду.
— Так сколько он заработал? — повторил я вопрос.
— На чём? — притворилась она несведущей, но почему-то сжала челюсти с такой силой, что заходили желваки, а в глазах появился несвойственный лани стальной блеск.
Прошлое просто так не отпускало, оно было комком сожалений и противоречий: и Ирина Офицерова давным-давно запуталось в нём, плюнула и растёрла, но тут явился я и напомнил, что в этом мире не всё так однозначно и что у каждого события имеются причина и следствие, и что прошлое всё равно тебя догонит и хорошенько пнёт в копчик. Вопрос только в том — как, больно или очень больно, и с какими последствиями для пятой точки.
— На том скандале, — уточнил я, глядя ей в глаза.
Она закусила губу. В глазах у неё промелькнули стыд, жадность и ещё непонятно, какая смесь чувств. И вдруг я догадался, что она тоже участвовала в той пирушке, а может, даже и не в одной, и стало быть, была кровно заинтересована, чтобы всё было шито-крыто. И таких вечеринок было много, и никто на них не обратил бы внимания, если бы Гарик Княгинский не испортил бы радостное течение радостной студенческой жизни. Вот за что она его возненавидела, сообразил я. А жениться на ней он и не собирался, да она бы и не пошла за придурка, хотя ещё надо посмотреть. Но не вышла же; нашла другого, который сунул голову в петлю под названием пожизненная кабала на двадцать третьем этаже за МКАДом, где людей больше, чем мыл в пылесосе.
— Много! — отозвалась она через силу, очевидно, думая о том же самом, что и я.
— Сколько?! — возвысил я голос, глядя на неё сверху вниз.
— Ходили слухи… что… пятьдесят миллионов, — выдавила она из себя слова, как замазку из-под стекла.
Она всё же не удержалась и краем глаза заглянула в конверт. Благодать сошла на её лицо.
— У вас есть его фотография?
Она сообразила, что идёт торг, и снова помялась, но уже не искренне, а с соответствующим расчётом заработать на прошлом. Я достал кошелёк, и она впилась в него взглядом гипнотизёра.
— С ним мало кто дружил…
Я сделал вид, что убираю кошелёк в карман.
— Хотя подождите! Есть общая! — она притворилась, что вспомнила, хотя я мог поклясться, что она импровизировала на ходу.
— Несите! — приказал я тоном свидетеля её преступлений.
Она принесла. Наконец я имел честь лицезреть шантажиста киношного типажа: «Эй, дохляк, принеси мячик!» Гарри Пименович Княгинский, скуластой остяцкое лицо и узкие глазки, почти полное отсутствие волос на костистом черепе и ломаный подбородок человека, которого один раз порядочно изувечили. Кастетом, наверное, подумал я.
— Кто это его так?
— Я не помню… — соврала Ирина Офицерова, — лошадь лягнула, — но наверняка знала, что Гарик Княгинский уже в институте упражнялся в нарушении уголовного кодекса, и за это был неоднократно бит.
Я пристально посмотрел на неё. Она изобразила, что занята мальчиком, а потом призналась нехотя:
— Честно, не помню… он… он… уже тогда был проходимцем!
Я сделал пару снимков, а на обратной стороне обнаружил подписи фотографических персонажей и даже их телефоны и адреса, сделанные, должно быть, из сентиментальных побуждений юности, чтобы никто никого не растерял в суете жизни. Оказалось, что Гарик Княгинский жил в подмосковном Ногинске.
Я доплатил Ирине Офицеровой пятьдесят тысяч и сказал на прощание:
— Лучше будет, если вы никому не скажете о моём визите.
Разные люди по-разному уживаются со своей совестью. Для некоторых она ничего не значит.
— Даже мужу?.. — наивно спросила Ирина Офицерова, проследив, как я прячу кошелёк.
Я догадался — проболтается из-за глупостей в голове, по наивности, не сегодня, завтра, когда расслабится и решит, что страхи были мнимыми; значительно посмотрел на неё, чтобы она прониклась важностью момента, но она только поняла, что продешевила, и жадность плавал в её глаза, как кое-что в проруби.
— Мужу тем более, — как можно более суровее и с камушками в голосе сказал я.
Муж может изобрести свою комбинацию шантажа, чтобы подзаработать, решил я. Кто его знает? Это же Москва. Алгоритмы наработаны на все случаи жизни. Успокаивай его потом. Я понадеялся, что она окажется прозорливее и завтра придумает для мужа другую историю своего прошлого, а о подробностях шаловливой юности умолчит, слишком высок риск потерять эту квартиру и переселиться ещё дальше, за ТТК[3], и обретаться у чёрта на куличках.
— Он не поверит, — усомнилась она и посмотрела на меня прекрасными, как у лани, но ничего не выражающими глазами.
Однако я не дал ей больше того, чего пообещал за очевидную глупость в голове. Её прошлое не стоило больше трехсот пятидесяти тысяч, потому что она не вынесла из своего прошлого никаких выводов и до сих пор плыла по течению, полагая, должно быть, что оно куда-нибудь да вынесет, и муж у неё был такой же, может, трудяга, может, не понял ещё своего счастья, но однажды он её бросил, здесь на двадцать третьем этаже, с детьми, в одном из московских муравейников, и подастся искать лучшей доли в других местах — может быть, потому что надорвётся от такой жизни, а может быть, потому что заматереет и поймёт, что будущее его не здесь, не в этой высотке, посреди таких же высоток, среди бесконечных дорог, машин и круговерти планктона, а где-то там, в синеющей дали, где призрачный мираж дороже золота, где текут прозрачные реки и шумят высокие деревья, где воздух сладок, как мёд, а пространства необозримы.
— Придумайте что-нибудь, иначе, если начнётся следствие, деньги у вас изымут, — попытался напугать я её. — Расскажите, что нашли на улице. Бывает у человека маленькое счастье? — подсказал я ей.
— Бывает, — с покорностью овцы согласилась она. — Но он не поверит. Скажет: «Неси в полицию!»
«И правильно сделает!», — едва не воскликнул я.
— Что, всё так плохо?
Временами, понял я, глядя, как она неопределённо пожимает плечами и шмыгает носом — когда её муж трезв и не зол на жизнь.
— Он и так много вкалывает. Сразу на трёх работах. Воз тянет, — пожалела она его.
— Тем паче. Придумайте что-нибудь Купите дорогой коньяк. Накройте вкусный стол. А я забуду, что был у вас, — заверил я её, удивляясь своей дальновидности.
— Я понимаю… — заговорщически улыбнулась она. — А с ним точно ничего не будет?.. — она кивнула в сторону окна, где, по её мнению, в пространстве за Москвой, обретался Гарик Княгинский со своей гнилой душой и искалеченным подбородком.
Впервые на лице её промелькнуло открытое пренебрежение к Гарику Княгинскому, тем более, что оно было подкреплено сексуальным прошлым, которое выглядело теперь совсем не так, как в студенческие годы, а постепенно выпестовывалось как угрызением совести, которое с годами будет только усиливаться. И никуда от этого не денешься.
— Не будет. Просто он нарушил договор и начал шантажировать Аллу.
Я хотел, чтобы Ирина Офицерова точно прониклась потенциальной угрозой лишиться денег и побыстрее забыла о моём визите, побежала бы в магазин и отвела бы душу, а мужа взяла на арапа, обвила бы вокруг пальца. Что, мне учить её, что ли?
— А-а-а… — с облегчением произнесла она. — Да… да… я понимаю. Он всегда был таким. Хитрым. А на первом курсе даже мне говорил, как будет воровать, когда закончит институт.
— Так и сказал? — удивился я, остановившись у двери.
— Ну да! Он сказал: «подворовывать», — с готовностью вспомнила она подробности.
Глаза у неё помолодели и в них промелькнуло то, что ей было приятно вспоминать — молодость.
— А как там Алла?
— У неё всё хорошо, — соврал я и едва не проболтался, что она за меня, дурака, замуж собралась. Эта подробность явно было лишней да и характеризовала меня как человека, который всё ещё витает в розовых облаках наивности и бегает в коротеньких штанишках детства.
— Передавайте привет!
Ирина Офицерова сунула конверт в карман халата и придерживала его на всякий случай локтём. На лице у неё появилось выражение если не счастья, то удовлетворения.
— Обязательно, — ответил я. — До свидания.
Алла Потёмкина всё ещё не звонила, и это меня начало сильно беспокоить. Сколько можно тянуть нервы, подумал я с тоской, поворачивая ключ зажигания.
* * *
В тот день мне всё-таки не дали съездить в Ногинск. Гарри Пименовичу Княгинскому здорово повезло, как я понял, он умер часа на три-четыре позже, чем должен был умереть, относительно поясного времени, разумеется. Пока я доставал мобильник, пока нажимал на сенсор, горизонт успел пару раз крутануться туда-сюда, как поплавок в магнитном компасе. Я схватился за руль и больше его не отпускал, так что как раз на эти три-четыре часа мог разбиться раньше, чем умер Гарик Княгинский. Но судьба хранила меня, а Гарику Княгинскому не повезло, его земной пусть закончился во цвете лет. А не надо было культивировать в себе шантажиста, процесс этот оказался вредным для почек и мозжечка. Однако кто бы рассуждал об этом с умным видом, кроме меня? Я словно очнулся, покрутил головой и увидел, что светофор давно и приветливо мигает зелёным глазом.
— Миша, ты можешь приехать? — Голос из айфона взывал к безмерной помощи.
Зря Валентин Репин ревновал свою жену в любому столбу: даже по телефону она держала со мной братскую дистанцию старой-старой духовно возвышенной приятельницы. Ясно была, что Валентин Репин давно низвёл её до такого состояния, что она панически боялась общаться с другими мужчинами, но моё-то дело сторона, у меня была Алла Потёмкина, мой вторая любовь; не давать же в связи с этим Валентину Репину глупых советов, например, не ревновать жену к первому встречному-поперечному, в том числе и ко мне, это не входило в компетенцию друга семьи.
— Могу. — Я подумал, что Алла не будет против, если я задержусь и вначале помогу её подруге. — А что случилось?
Было слышно, как Жанна Брынская судорожно дышит, словно вынырнула со стометровой глубины, где холодно и мрачно, как в преисподней.
— Валик в больнице!
Голос её неожиданно сел, как неожиданно садится батарейка в мобильнике. Я понял, что Жанна Брынская плачет, или только собирается, но в любом случае это был крик отчаявшейся души.
— Я думал, в Африке! — приободрил я её, чтобы она продержалась до моего приезда, и стал посматривать, где можно свернуть в Королёво.
Я, действительно, предпочёл, чтобы Валентин Репин уехал хоть куда-нибудь, раз не хочет — в Донбасс, сотворил бы фильм о каком-нибудь импортном полковнике, создал наконец что-то стоящее, пусть о чужом прошлом, но стоящее, раз не любит «наше» настоящее и заказы от либералов, и не скулил бы над судьбой, как патентованный неудачник, а гордо бы всем вещал: «Я наконец-то снял полнометражный фильм, и баста!»
Недели две назад он завалился ко мне на Кутузовский с обидой на весь мир, напился дешёвого бренди, оставшегося со времён Инны-жеребёнка, и стал проситься на фронт, мол, тебе все карты в руки, ты же у нас вояка.
— Тебе хорошо… — позавидовал он, намека на моё вселенское одиночество, — а у меня даже нет опыта войны.
— Опять двадцать пять! — удивился я. — У тебя отличная профессия, только твори!
— Рекламу?! — качнулся он в отчаянном презрении, и зелёная тоска плавала у него в глаза, как ряска в болоте.
— Езжай! — разозлился я, вспомнив некстати об осколке в лёгком. — Никто не держит!
— А Жанна Брынская?.. — задал он риторический вопрос, словно кто-то обязательно должен был украсть и жениться на ней именно в этот исторический момент его жизни.
— Хочешь, чтобы я за ней присмотрел? — спросил я ехидно, и подумал, что на пороге пятого десятка в Валентине Репине наконец проснулся собственник.
— Нет! — ментально протрезвел он.
— Ну вот видишь, — укорил я его тогда; после этого он, видно, и решил заболеть воспалением хитрости, то бишь угодить в больницу с раздвоением личности.
— Какая Африка! — неожиданно возмутилась Жанна Брынская, намерено, взывая к моей мудрости, но, кажется, слава богу, вовремя пришла в себя. — Он и до Южной Америки-то не добрался!
— Ладно, сейчас приеду, — согласился я и обнаружил поворот в нужном мне направлении. Проспект Мира, как всегда был забит под завязку, слава богу, хоть ремонт на Ярославском закончили.
После лесочка я свернул ещё и направо. Мелькнула берёзовая роща, какие-то конторы за высокими заборами, и дорога стала двухполосной.
Валентин Репин лежал в районной больнице, в двух шагах от дома. Дело серьёзное, понял я, раз домой носа не кажет.
Жанна Брынская выглядела крайне зарёванной:
— У него рак!
— Какой рак?! — удивился я, едва не выругавшись на женские сопли. — Не может быть!
И она принялась рассказывать, мол, он так страдал, так страдал, ночами не спит, зубами скрипит.
— А сейчас?..
Я не поверил ни единому её слов, потому что Валентин Репин, кроме зеркальной болезни в лёгкой форме, никогда ничем не болел. У Жанны Брынской была обычная женская истерика; я такого навидался досыта, иммунитет у меня на такие сцены был ещё ой-ё-ёй! И насчёт разжалобить — меня было весьма сложно.
— И сейчас тоже, — пожала она плечами менее убедительно, видно, сообразив, что я железобетонный, как любая на выбор арка Крымского моста.
— Радуйся, — открыл я ей глаза на суть вещей, — он никуда не уедет!
— Лучше бы уехал! Что теперь делать?! — И посмотрела на меня с робкой надеждой объяснить ей, что происходит в этом чертовом мире, где мужья иногда выкидывают подобные коленца.
Ну уж точно, не реветь, хотел сказать я, но не сказал, потому что Жанна Брынская относилась к той категории женщин, которые и сами понимали, что они медленно и неизбежно входят в возраст расставаний, когда семьи рушатся, как старые церкви, и все разбегаются по своим углам, дабы собраться с мыслями и завести новых мужей и жён.
— Сейчас такие болячки, если они не запущены, лечатся элементарно просто, — вещал я как можно более уверенней, хотя, конечно, знал об этом понаслышке.
— Да я в курсе! — вспыхнула она, как бутон розы.
— Тогда в чем дело? — обратился я к ней, полагая, что при всей её красоте она знакома с логикой, а обо всё другом я буду нем как рыба об лёд, потому что это не моё собачье дело — чужие разводы, пусть сами разбираются.
— Он молчит! — поставила она меня в тупик.
— Понятно, переживает, — объяснил я, хотя, конечно, это было капитальным симптом мужских сомнений в правильности жизни и, вообще, в её направлении, в выборе фарватера, так сказать.
Она перестала плакать, задумалась и сказала чрезвычайно трезвым голосом:
— Надеюсь, ты прав.
— Ещё бы! — возгордился я, но так, чтобы она ничего не заметила, иначе бы раскусила в одно мгновение.
И мы пошли в больницу под сенью лип в виду церкви и торгового центра «Райский садик». Откровенно говоря, под впечатлением услышанного я решил, что увижу ходячего мертвеца, а он вымелся, держась за одно место, сияющий, как медный тазик. Роговые очки придавали ему монументальный вид самодовольного латифундиста, и поэтому он даже не удосужился стереть с лица следы губной помады.
— Тебя не узнать, — похвалил я его и подумал, что зря теряю время: жив он и здоров, цветёт, как майский веник, и умирать не собирается.
— Это всё они… — своим грудным прононсом объявил Валентин Репин, улыбаясь жене, будто ясное солнышко.
Было непонятно, шутит он или нет, или на грани шутовского самоистязания, за которым последуют вопли неуёмной души, мол, бросили, гады, забыли!
— Кто «они»? — начал догадываться я, глядя на вдохновлённое лицо Валентина Репина.
— Медсёстры! — в пику жене вальяжно объяснил он.
И действительно, одна из них, чрезвычайно аппетитных форм, виляя накаченным задом, выскочила из палаты со шприцем в руках; и Валентин Репин демонстративно проводил её следом до самой процедурной.
Жанна Брынская скорбно поджала губы, веснушки её вспыхнули жарче солнца.
— Домой придёшь обедать?..
— А здесь хорошо кормят! — Валентин Репин вдруг повёл себя, как человек без семейных обязательств.
Ого! — подумал я, бунт на корабле!
— Я сыра купила… — принялась соблазнять она его, как я понял, каблуком наступая на свою гордыню, как на любимую гадюку. — Твоего любимого, «чеддера»!
— А пивасика?.. — снова пропустил он мимо ушей.
Начались семейные экивоки: «Ты меня не любишь, я тебя не уважаю!»
— Какого «пивасика»?! — задохнулась она.
— Я же просил! — упрекнул он.
— Врач, сказал, «никакого пивасика»! — упёрлась она.
Валентин Репин выпучил глаза.
— Вот так и живу, рыба! — минорно пожаловался он, призывая меня в третейские судьи.
Друзей часто используют в этом качестве, когда все аргументы исчерпаны в семейном противостоянии, и я окончательно пожалел, что приехал: глядеть на их разборки — ещё та картина, легче броситься в Куру и утопиться.
— Так, что у тебя?.. — по-мужски отвлёк я его от скорбных мыслей.
— У меня, Мишаня, простатический специфический антиген, почти одиннадцать, — сообщил он с гордостью своим неизменно грудным прононсом, словно только и ждал вопроса о своей болячке и по-братски готов был поделиться.
— А сколько должно быть? — притворился я несведущим негодяем, чтобы он не очень-то жалел судьбу, а посмотрел бы на меня и преспокойно отдался бы её течению, что, собственно, судя по всему, он с огромным удовольствием и делал к огорчению Жанны Брынской, потому что он уже заметно отклонился от её фарватера и искал, в какие ещё лиманы заплыть, чтобы от души порезвиться.
— Не выше четырёх, — с видом доки пояснил Валентин Репин и многозначительно глянул на жену, как будто упрекая её исключительно в отсутствии сочувствия.
— Что это значит? — специально отвлёк я его от предмета своего негодования.
— Рак предстательной железы! — сказал он так, словно дождался «Ники», но уже не успеет её получить.
Жанна Брынская истерически всхлипнула. Валентин Репин сдержанно покосился. Его лицо альпиниста сделалось монументальным, как памятник Хрущеву работы Эрнста Неизвестного.
— Вырежут всё к чёртовой матери! — сказал он с пренебрежением к собственному тренированному-перетренированному телу.
— У тебя же анализ на ПСА антиген ещё не взяли! — воскликнула Жанна Брынская с жутким душевным трепетом, надеясь, что анализ будет отрицательным.
— Была нужда, болело брюхо! — важно ответил Валентин Репин, беря меня под руку и доверительно уводя в конец коридора, где белели окно, дверь и балкон.
Я, как осёл, потащился на экзекуцию; Жанна Брынская осталась одиноко стоять у палаты; я оглянулся, мне стало её жалко.
— Я понял, если поступать по совести, то в жизни с тобой ничего плохого не случится! — торжественно поведал Валентин Репин своим неизменным прононсом, полагая, что я сейчас припаду к его длани из-за краеугольного открытия всемирного значения.
— Ты это называешь совестью? — Чёрт дёрнул меня за язык.
— Кого? — поморщился он с крайним подозрением в голосе.
Валентин Репин намеренно, как будто в замедленной съёмке, выглянул в окно, как будто случайно увидал за деревьями церковную маковку и как будто специально перекрестился на неё. Он явно начал злиться, однако, остановиться я уже не мог, не по совести это было.
— Жену свою! — сказал я назидательно.
Жанна Брынская всё ещё потеряно стояла у палаты и даже не с укором, а с мольбой глядела на мужа. Валентин Репин сделал вид, что подумал.
— Я тебе вот что скажу, рыба, Жанна Брынская — замужняя женщина, — в сто двадцать пятый раз напомнил он мне. — Перестань лезть в наши отношения!
А я, между прочим, зная его дурной характер, давно уже не подходил к его жене ближе чем на три метра и даже не дышал в её сторону.
— Никто и не лезет, — пошёл я на попятную, потому что ссориться с Валентином Репиным было всё равно что ехать по встречной без обиняков под колёса «урала».
— И не лезь! — вдруг разозлился он ещё пуще и пошёл, как саламандра, красными пятнами.
— И не лезу! — уверил я его, полагая, что он помнит об Алле Потёмкиной и что я за ней ухаживаю с вполне определенными целями; о нашей перманентной свадьбе мы им, конечно, пока ничего не говорили, но я, думаю, они догадывались.
Когда я снова посмотрел туда, Жанны Брынской уже не было. И Валентин Репин тоже посмотрел, и на лице у него возникло облегчение, мол, баба с возу, кобыле легче. Прозелит несчастный, подумал я о нём, потому что он последнее время метался от веры в друзей, к полному безверию во всё и вся.
— Я Монике Беллуччи предложение сделал… — неожиданно сказал он.
В голосе у него прозвучала боль от сломанного крыла и лодыжки в двух местах заодно.
— Зачем?! — вырвалось у меня, хотя и так было ясно; одно дело любить виртуально, а другое — творить явные глупости космического порядка.
Валентин Репин, посмотрев на меня и, кажется, только сейчас понял безнадежность своего мероприятия.
— Даже не ответила! — посетовал он с такой горечью, что меня едва не перекосило, как от рыбьего жира и куска солёного огурца.
Если бы я влюблялся во всех патентованных красавиц из массмедиа, давно бы перегорел, как лампочка в коридоре, меня бы выкрутили и выбросили на помойку, и правильно, между прочим, сделали бы: нечего на чужих баб глазеть и слюни пускать.
— Ясное дело, — усмехнулся я на всякий случай, дабы отвлечь его на шутовской ноте, и вообще перевести разговор в плоскость хохмы, кстати, любимое занятие Валентина Репина.
Но он не принял моего аванса, а посмотрел на меня, как бычок, без выражения, без мысли, очевидно, решая одному ему доступную задачу; и это было страшно, потому что следующий ход у него, как у опытного гроссмейстера, был неочевиден.
— Не приезжай больше! — вдруг фыркнул он, как старый, больной пёс, уставший от драк, похождений и выяснения отношений.
— Хорошо… как скажешь, — покорно согласился я, полагая, что о совести он забыл напрочь и талдонить об этом крайне вредно для печени, потому что у него был поставлен удар слева в подреберье, и я видел, как он это проделывает, когда все аргументы исчерпаны, особенно там у себя у горах, да и в районе не стеснялся, считая за правило, пару раз с местными «синяками» помахаться; его уважали и боялись, я видел, все бомжи на помойках.
— Мне не нужны ваше сочувствие! И советы тоже! — выпали он, воинственно приближаясь ко мне снизу вверх, подпрыгивая для верности, как мячик, и задирая подбородок, мол, можешь отправить меня в нокаут хоть сейчас.
— Хорошо, хорошо, — примирительно отступил я и развёл руками, мол, как хочешь, брат, хозяин — барин, моё дело маленькое, меня попросили, я приехал, чем смог, тем и помог.
Бить его у меня и в мыслях не было. Иногда, правда, мы с ним схлёстывались, но только играючись, и я всегда берёг локтём правый бок, зная его хитрый хук.
— Вали отсюда! — Глаза у него, как у судака в ухе, побелели от злости.
Раньше я не замечал, а сегодня вдруг заметил, что рот его с нависшей острой губой напоминает черепаший клюв.
— Да ладно тебе, — сказал я дружелюбно и протянул руку, чтобы тихо, мирно попрощаться и уйти восвояси, то есть не усугублять, не лезть на рожон, а то ведь можно и по сопатке получить от лучшего друга, даром, что альпиниста.
Он сделал вид, что не заметил моей дружеской руки, отвернулся к окну, где торчала маковка с крестом, словно там, в большом, кривом пространстве было всё самое интересное, а здесь — так, чепуха на постном масле, вообще, друзей так много, что их отстреливать можно, одним больше, одним меньше, никакой разницы.
Для приличия я пожал плечами, мол, не хочешь, не надо, сделал пару шагов по направлению к выходу, ощутил вдруг порыв воздуха в коридоре и с ужасом понял, что это значит, а когда оглянулся Валентин Репин уже стоял на перилах балкона и отчаянно махал руками, словно птица, чтобы в следующий момент рухнуть вниз, естественно, совсем не как птица.
Когда вы видите такое, у вас возникает три мысли о происходящем: 1. Наконец-то он это сделал; 2. Жаль, что не раньше; 3. Одним психом меньше.
Я выскочил на балкон и с ужасом посмотрел вниз, ожидая увидеть на земле распластанное тело Валентина Репина, однако, к моему крайнему разочарованию в этот самый момент Валентин Репин преспокойненько, как на тренировке на скалодроме, спускался с ветки на ветку огромного, разлапистого тополя, который как раз рос под окном больницы. Если учесть, что Валентин Репин сиганул с пятого этажа, то его поступок легко можно было классифицировать как сумасшествие или как супервезение идиота.
Я вымелся из больницы весь на нервах, клацая от недоумения зубами, так ничего и не поняв. Жанна Брынская всхлипывала на крыльце. Увидев меня, она отвернулась, чтобы я не заметил, как она подурнела.
— Что теперь будет?!
— Ничего, — буркнул я, со страхом ожидая появления Валентина Репина и боясь раньше времени испугать Жанну Брынскую.
Я понимал, что жизнь рано или поздно разочаровывает, но не до такой же степени, надо же делать скидки на всеобщий идиотизм, тупость и безответную юношескую любовь.
И Валентин Репин, действительно, появился к великому удивлению Жанны Брынской, как ни в чём не бывало (со слегка поцарапанной мордой), демонстративно прошествовал мимо, победоносно глядя мне в глаза, дескать, я ещё и не то могу в мои-то годы, и одновременно не обращая внимания на Жанну Брынскую, молча вошёл в фойе больницы, потом — в лифт и гордо отбыл к себе в отделение. Мы проводили его взглядами, разинув рты. Думаю, что из медперсонала никто ничего не понял, иначе сбежалась бы толпа и Валентину Репину светила смирительная рубашка и прямая дорога в ближайшую дурку.
Признаться, я зауважал его ещё больше. Лично я с пятого этажа не сиганул бы, разве что под угрозой женитьбы или расстрела, хотя жениться второй раз я, кажется, уже собрался.
— Что это было?.. — ошарашено спросила Жанна Брынская, явно даже не подозревая о причине страдания мужа — Монике Беллуччи.
— Кажется, он хотел перед тобой извиниться, — взял я грех на душу, намекая, что с другой стороны здания есть чёрный ход, но в последний момент Валентин Репин застеснялся моего присутствия.
— Вот так всегда! — воскликнула она горестно и, видно, пожалела, что вызвала в качестве скорой помощи единственного верного друга семьи.
А я с облегчением сообразил, что она ничего не поняла, что боится и за Валика, и за себя, и за то, что её жизнь готова измениться самым коренным образом. А кто не боится? — спросил я себя и словно уткнулся в стену: вспомнил фронт, то время, когда, действительно, ничего не боялся, потому что из-за смерти жены и дочки Вари жил одним днём, часом, одной минутой, и может быть, я специально высунулся из окопа под Саур-Могилой, чтобы меня убило; «есть ли что банальней смерти на войне», но вместо этого меня душевно покалечило, чтобы я только и делал, что тянул лямку под названием жизнь и мирил друзей в минуту их роковых выходок. Поэтому мне казалось, что я имею над Репиными в этом плане моральное преимущество, и твёрдо соврал:
— Он тебя любит!
И мне стало почти физически плохо, потому что любое воспоминание о прошлом выворачивало наизнанку. Но я уже привык быть немного не в себе, как привыкает монтажник к высоте, наркоман — к дозе, а проститутка — нескончаемым клиентам.
— Ты, правда, думаешь? — спросила Жанна Брынская с робкой надеждой, словно я был Булгаковским оракулом, а она — Воландом, или наоборот, какая разница?
Должно быть, по слепоте душевной я чего-то не разглядел в их отношениях, какой-то мелочи, которая решала судьбу брака, но не стал уточнять, потому что и так всё ясно: любить надо друг друга, не лаяться и не искать врагов на стороне, а жить в мире и согласии. В общем, я абсолютно бескорыстно подарил им шанс начать всё заново, но они ничего не поняли, эгоизм мешал и груз счастливого брака.
— Твой муж жив и здоров, и, кажется, умирать не собирается, — приободрил я её. — Обычная мужская болячка.
Не расскажешь же чужой жене всей правды о её муже. Это приравнивается к убийству ребёнка. Женщины, они как дети, верят в безгрешный брак и Святое Писание.
— Миша, его словно подменили, — пожаловалась Жанна Брынская, слава богу, без всхлипывания.
— Клонировали, — на всякий случай пошутил я, чтобы она, не дай бог, не прочитала бы на моём лицо мои мысли; скандала не оберёшься, да и морду надо оберегать от наманикюренных когтей.
— Он раньше таким не был, — зря понадеялась она на моё сочувствие.
Как ни странно, должно быть, она ещё помнила его с ярко-голубыми глазами, молодым, галантно и красиво ухаживающим в альплагере, например, на Эвересте или в Фанских горах, с тех пор глаза выцвели, а горы развалились; но всё равно хотела забить на вселенскую энтропию, чтобы воспоминания в реальности дополняли друг друга вечно, до гробовой доски, и даже после неё, потому что страшно до животных колик, то есть целенаправленно занималась самообманом. Её прекрасные веснушки, которыми Валентин Репин так гордился, окончательно поблекли от слёз, как октябрьские листья на газонах.
— Ты многого хочешь, — объяснил я ей, горой вставая на защиту Валентина Репина исключительно из-за мужской солидарности, — у мужчин тоже бывает климакс.
— Это не климакс! — в неприличном тоне воскликнула Жанна Брынская. — Это Синдром Мюнхгаузена!
Оказывается, она уже классифицировала психическое состояние мужа и поставила диагноз — какая-нибудь вялотекущая шизофрения с маниакальным отягощением.
— Какого Мюнхгаузена? — сделал я глупый вид, потому что уже устал от хитросплетения развода Репиных.
— Того самого! — съехидничала она. — Чтобы вокруг него все плясали!
— Дай ему отдохнуть, — посоветовал я сердечно, подумав, что энтропия — эта та фундаментальная штука, с которой шутки плохи, которая сокрушает всех нас без разбора направо и налево, и наши отношения тоже.
О виртуальном предательстве Валентина Репина с Моникой Беллуччи я ей, конечно же, говорить не собирался. Это была не моя тайна.
— А что толку? — горестно всхлипнула она, возясь со своим носом, как с мышеловкой. — Ему нравится страдать!
Я понял, что семейный мордобой давно перешёл у них в стадию нравственных пыток, и семибалльный шторма бушевали в их душах, как декабрьское море в Гурзуфе.
— Ну, я не знаю… — схитрил я, — купи ему пива в конце концов!
— А можно?! — Удивила она меня своим наивным отношением к жизни, мол, Валик ещё ничего не забыл, что он ещё вспомнил былые деньки и ночи, оттого и ревнует и к тебе, и к любому другому, даже к столбу с плафоном у дороги.
Хотел я сказать, что в реалии это уже не играет никакой роли, потому что возраст берёт своё, и характер портится, как рыба в холодильнике, но не сказал, а только крикнул:
— Можно!
Я вдруг понял, что время убивает не хуже пули, и быстренько продефилировал к машине, всё ещё находясь под впечатлением выходки Репина, дабы позорно сбежать с поля боя и предоставить Репиным самостоятельно разбираться в лабиринте своих трагедиях.
Тот, кто знает будущее, обречён тащит не один, а три креста. Я что ли заставлял его жениться на молодой, красивой и здоровой женщине, а потом, когда у него возникли проблемы с солнцестоянием, а на горизонте замаячил «трибулус-кунтикус» или что-нибудь ещё из рекламы для мужчин, он начал ревновать Жанну Брынскую ко всем своим друзьям-приятелям и сигать с пятого этажа. Это не по адресу, то бишь не ко мне, я не бог и не сын его, я всего лишь слабый человек, у которого нервы к тому же далеко не в идеальном порядке. Кто бы меня утешил?
— Хорошо! — неожиданно в тон мне отозвалась Жанна Брынская.
Я оглянулся, как оглядываются на огнедышащий болид в последний момент жизни. Жанна Брынская смотрела на меня с нескончаемой тоской, наверняка понимая, что останется при пиковом интересе, если взовьётся на дыбы, и тогда ей не видать ни Валика, ни прежней счастливой жизни, ибо такие рубежи просто так не пересекаются, и цена их так высока, как может быть высока планка, которую ты необдуманно завысил, но так и не перепрыгнул, и всю жизнь ходишь под ней и пригибаешься, и пригибаешься, и ещё раз пригибаешься; конечно, это раздражает и низводит до посредственности, но кто виноват? Кто? Ножку надо было задирать выше, а не толстеть от сытой жизни и привыкать к её размеренной обыденности.
Безусловно, Жанна Брынская была права, но и Валентин Репин тоже был прав. А две правды просто обязаны договориться, если хотя быть вместе. Я не знал, что посоветовать, да и стоило ли? Своих проблем был полон рот; сел в машину и укатил куда глаза глядят — от их несчастий, к своим трагедиям.
* * *
У меня были весьма туманные соображения, как поступить с Гариком Княгинским. Я готов был разорвать его на части, но это было самым простым и очевидным; и очевидно же, что после этого мне рано или поздно светит небо в клеточку. Надо было с кем-то посоветоваться, тем более что в таких делах я был полным профаном; это тебе не окоп, где поймал врага на мушку и нажал на крючок, это Москва, чужой город, и бродов я в нём не знал. Радий Каранда пригодился бы для этого, как никто лучше, но он предпочёл куда-то пропасть, и я всё время получал один то же ответ: «Абонент недоступен, абонент недоступен».
Так думал я, направляясь в Тушино, когда тревожно зазвонил мобильник, и ещё не схватив его, я понял, что случилось что-то катастрофическое, потому, что по всем расчётам должна была объявиться Алла Потёмкина, чтобы раскаяться и пойти ни мировую, но, к своему удивлению, я услышал даже не голос Радия Каранды, что само по себе было естественно, а — Веры Кокоткиной:
— Михаил Юрьевич, Алла Сергеевна в больнице!
От такие новостей обычно в мошонке что-то отрывается и катится по салону аж в багажник.
— В какой?!
Я как раз сворачивал на Гиляровского и едва не поцеловал красную «мазду», резко вывернул руль вправо и вдавил педаль тормозов; однако, водитель «мазды» даже не заметил моих судорожных манёвров и преспокойно мелькал передо мной в своей музыкальной шкатулке, от которой за версту бухали низкие регистры и дрожали стёкла близлежащих домов.
— В центральной клинической номер один! — Расслышал я с третьего раза и надавил на педаль газа.
— Что с ней?
Музыкальная «мазда» осталась позади. У меня сразу возникло стойкое ощущение, что с Радием Карандой не всё в порядке.
— Какой-то мужчина толкнул её на лестнице и!..
— Она жива?! — Я не мог дождаться, когда Вера Кокоткина закончит свою длиннющую фразу, казалось, ей не было конца, и слова тянулись бесконечно долгие, как товарный состав стандартного формата.
— Да! — испугалась она так, что стала заикаться.
— Понял, — крикнул я в трубку, — еду!
Нет, я не ехал — я летел в нарушении всех правил, и к счастью, никого не подрезал, не загрыз, не подбросил в воздух, как тряпичную куклу, и судьбы хранила меня, когда я, визжа тормозами, выскочил на красный свет.
Через полчаса я взбежал на высокое крыльцо, а ещё через пару минут, которые потратил, чтобы напялить бахилы, уже держал её за нежную руку, и понял, что прощён — давным-давно и навечно, и что я самый большой на свете болван, хотя её прекрасные синие глаза пытались разубедить меня в обратном.
Но самое страшное, что история отношений Валентина Репина и Жанны Брынской, а так же моя личная жизнь с Наташкой Крыловой меня абсолютно ничему не научили, а ещё где-то на уровне подсознания моталась Инна-жеребёнок с малахитовыми глазами и копной русых волос. Я каждый раз начинал заново, едва ли перечёркивая предыдущее.
В палату сунул морду заместитель Радия Каранды — Вдовин. Имени его я не помнил. Просто Вдовин. Человек, как я понял, исполнительный, но безликий, как пустота, а на фоне своего непосредственного начальника, ещё более безликий.
— Где Радий Каранда? — спросил я так, что Вдовин вначале покраснел, как помидор, а потом — посерел, словно его намазали немецкой горчицей, и испарился, крайне деликатно прикрыв дверь.
— Не пытай его, — мягкосердечно попросила Алла Потёмкина, и посмотрела мне прямо в сердце своими тёмно-голубыми глазами, — найдётся твой Радий.
На неё снизошло умиротворение. Давно бы так. Она призывала к миру и спокойствию и хотела, чтобы я смягчился и вечно сидел с ней рядом, держал её за руку. Потом поморщилась. Чувствовалось, что ей больно даже говорить.
— Лежи, тебе нельзя нервничать! — предупредил я её словами медсестры, которая опекала меня, с тех пор, как я влетел в больницу.
В палату деловито вошёл лечащий эскулап и сказал:
— Вы не волнуйтесь, мы сейчас отвезём вашу жену на магнитно-резонансное томографическое исследование, а потом с вами поговорим. — Пока я ничего не знаю!
— Не волноваться?! — вскочил я. — А почему так долго?! — и прикинул, что с момента покушения, а именно так я расценил произошедшее, прошло больше полутора часов, за это время можно было чёрта лысого раскопать и заставить воду таскать.
— Аппаратура только-только освободилась, — ловко и чрезвычайно профессионально уклонился эскулап.
Чувствовалось, что он мелко врёт не за те деньги, которые ему заплатили и которые, я был уверен, жгли ему карман, а по старой мздоимской привычке выклянчивать на всякий пожарный ещё побольше.
Я страшно разозлился, а он сразу понял, что гореть ему в аду, и артистично стушевался опять же за наши деньги, потому что их могли запросто вытрясти, стоило мне даже не слово сказать, а просто намекнуть Вдовину с подтекстом: «товарищ доктор, вы большой учёный, занимаетесь здесь не тем, чем нужно и зря давали клятву Гиппократа».
— А что у моей жены? — я посмотрел на Аллу Потёмкину.
— Насколько я понимаю, сильный ушиб спины, — снова уклонился от прямого ответа эскулап и чисто инстинктивно отступил к выходу, потому что я смотрел на него, как удав на кролика.
Я оценил его шансы уцелеть после выяснения отношений с Вдовиным, как нуль к ста, а то, что Вдовин сделает своё дело на все сто двадцать пять процентов, я даже не сомневался, потому что иначе я бы его отправил в отставку со всеми вытекающими последствиями, а там бы, глядишь, и Радий Каранда подгреб бы.
— Через полчаса мы будем всё знать, в одно я убеждён, — зачастил он, всё больше приходя в волнение, — переломов, к счастью, нет. Ушиб, очень сильный ушиб. Но люди выдерживают и не такое, — закончил он не очень уверенно.
— Слава богу, — сказал я и, кажется, смягчился, потому что с лица эскулап сошло напряженное выражение, и осталась только маска испуга.
Потом я понял, что в горячке просто наступаю на него, как Шрек, и посмотрел, оправдываясь, на Аллу Потёмкину. Она улыбнулась в ответ. Может, пронесёт, мысленно поплевался я через левое плечо. У нас бойцы в горячке боя после тяжелейшей контузии в атаку ходили. Его мотает, а он бредёт и мычит: «Ура-а-а!»; и ничего.
Её переложили на каталку и повезли. Я шёл до лифта и держал её за руку.
— Не бойся, — сказала она, — я живучая, как кошка; я мысленно поплевал через левое плечо.
В лифт меня не пустили, и я пошёл выяснять, где шляется Радий Каранда. Всё выглядело так, словно после нашего разговора, он психанул и сбежал к чёрту на кулички. Неплохо было бы знать, куда именно. Водку, наверное, пьёт вовсе не в гордом одиночестве. Это совсем не походило на него. Радий Каранда всегда был сама выдержка. Или ушёл в загул, или накипело. В этом плане я его не знал и никогда не видел пьяным; с бодуна видел, но только не пьяным. А если накипело, то это не ко мне, а к ближайшему батюшке. Он знает ответы на все вопросы.
Вдовин прятался от меня за колонной в самом дальнем углу фойе.
— Где Радий Маринович?!
Мне почему-то хотелось встряхнуть Вдовина, чтобы он осознал важность момента и перестал лупать глазами, как мышь на сову.
А он, оказалось, ещё при этом ещё и думал, и даже выстраивал стратегию поведения.
— Я не знаю, — засуетился он глазками. — Я звоню ему вторые сутки.
— Почему я об этом узнаю только сейчас?!
За подобное в армии я бы с него семь шкур спустил, а здесь Москва, гражданка, ляпота; и пьем мы на Донбассе, потому что работа тяжелая — фронтовая, боевая. У меня сосед, Сергей Зайцев, забыл позывной, списали по контузии, целый год не просыхал. Понятно, что ему страшно вспоминать то, что он видел; мне тоже было страшно, и я тоже пил, правда, по ночам не кричал и по улице с топором не бегал, тихо подыхал, как птичий сомнамбул. И вообще, до меня только сейчас дошло, в что в Москве пораженческого пессимизма гораздо больше, чем у нас на войне. У нас эта штука лечилась элементарно просто — окоп, блокпост, атака, потому что самый лучший агитатор за советскую власть — это взрыв фашистской мины, не говоря уже о снаряде или танковом прорыве; у нас не до рефлексии, мы за себя и Россию жизнь кладём. Башка вмиг просветляется. А здесь они какие-то все размягченные, ждут манны небесной, что ли? Уповают на чужого дядю: «Вот если бы нам платили, как в Европе…» Я их, колбасников, насквозь вижу! Треть Москвы колбасников! В Киеве население только за эту колбасу и купили. Поэтому я думаю, что Россия оздоровится из Донбасса, как и когда, не знаю, но обязательно оздоровится, потому что там сейчас цвет нации, самые здоровые силы, обкатка там этих сил, русский дух обновляется и выковывается. Так что Москве на Донбасс надо только молиться и ещё раз молиться, чтобы мы выдюжили и погнали супостата.
— Вы были недоступны, — промямлил, страшно потея, Вдовин.
Он него исходили волны страха и тихого безумия. Я сбавил обороты, чтобы он не изошёлся сердцем раньше времени:
— Почему в тылу?! Почему не на фронте?!
— На каком? — У него хватило наглости ворочать языком.
Я посмотрел на него, как на недоросля, и понял, что мозгов у него нет и что надо Радия найти, а этого в унитаз спустить, чтобы воздух не портил.
— Выстави охрану у палаты и внизу, где там этот томограф!
— Я уже приказал, — промямлил Вдовин, запрокидывая голову, потому что я был гораздо выше и крупнее его, и если бы просто задел, то от него осталось бы мокрое место.
Я понял, что он наслушался про Донбасса и страшно меня боится; а в меня всего лишь попала горсть осколков, да шестнадцать пулек калибра пять целых и сорок пять сотых миллиметра.
— Что за человек толкнул Аллу Сергеевну?
Мне не было дела до его страха смерти. Отсиживается на тёплой печке тоже надо уметь, за это медали не дают и однажды спросят: «Папа, а что ты делал, когда другие погибали за Россию?» И ты пойдёшь и повесишься на помочах, и правильно, между прочим, сделаешь.
— Мы уже его ищем, и полиция тоже! — белел он всё больше и больше.
— Найди его раньше и приведи ко мне!
— Слушаюсь. — Он готов был провалиться сквозь землю, лишь бы быть от меня подальше.
— А где Радий?! — Я вдруг поймал себя на том, что уже задавал этот вопрос.
— Нет знаю! — взвыл Вдовин.
— Ладно, не тянись, — сказал я, заметив, что Вдовин вовсе скис и готов выброситься в окно на мостовую с третьего этажа.
Я подумал, что если бы я не дулся, как индюк, а остался бы рядом Аллой Потёмкиной, то ничего подобного не случилось бы, но для этого надо было переступить через свою гордость и иметь безмятежную психику идиота, а психики у меня не было, сгорела психика на войне.
Затем прибежала медсестра и сказала, что меня ждут на первом этаже, и я понёсся вниз по лестнице, перешагивая через три ступени.
Эскулапа, которому деньги жгли карман, уже не было и в помине, меня приняла миниатюрная, как статуэтка, женщина, на двери в кабинет которой было написано: «Павлова Ольга Николаевна, врач-диагност». С фиолетовыми прядями, энергичная, готовая, казалось, выпрыгнуть из своего накрахмаленного халата. Эротоманка, что ли? — неожиданно для самого себя подумал я и тут же забыл об этом.
— У вашей жены травма пояснично-кресцового отдела. — Она уверенно покачивала ножкой в изящной туфле, но крайне деликатно в рамках приличия. — В подвздошно-поясничных мышцах слева отмечается повышение магнитно-резонансного сигнала. Вот здесь. — Она показала мне на снимке. — С увеличением объема мышцы с распространением инфильтрата за брюшину в левый фланг.
— Что это значит?
Туфельки-то у неё были модельные, из мягкой кожи, и стелька такая, что подошвы не потеют, я такие моей Наташке Крыловой в Москве в две тысячи десятом покупал. Увидел и купил наобум лазаря, и они ей подошли.
— Скорее всего, внутреннее кровотечение. Она у вас давно болеет?
Я посмотрел на неё дикими глазами:
— Нет.
— Температуры не было?
Я подумал о глупейшей с моей точки зрения ссоре, мне сделалось тошнее тошного:
— Нет.
— Ещё мы обнаружили бронхит, — она снова качнула ножкой и коснулась моей ноги.
Но это уже были детали, я уже понял, на что намекает Ольга Павлова, пристально, как гинеколог, глядя мне в рот, и понадеялся, что она не будет перечислять все болячки Аллы Потёмкиной до вечера. Она и взаправду ограничилась:
— Вам лучше поговорить с лечащим врачом. А здесь мои координаты, — и сунула мне свою визитку.
И я узнал, что лечащего эскулапа зовут Максимом Владимировичем, и взлетел на третий этаж к Алле Потёмкиной, а потом вспомнил о цели визите и завернул в ординаторскую.
Из визитки я узнал, что лечащий эскулап — муж Ольги Павловой; смял и бросил визитку в первую же урну по пути, мне стала противна эта вечная недвусмысленная московская привычка смешивать работу и личное.
— Абсолютно ничего серьёзного! — включил паяца Максим Владимирович, разве что не кланялся и не разводил ручками с тонкими женскими пальчиками. — Я рекомендую понаблюдать недельку. Мы назначили обезболивающие, антибиотики и капельницу, в общем, полный цикл терапии.
Я понял, что он что-то скрывает от меня, но, как страус, не хотел ни во что вникать, кивнул и с лёгким сердцем, даже чуть подпрыгивая от нетерпения, понёсся к Алле Потёмкиной, так не терпелось мне её увидеть.
— Я знаю, ты его нашёл, — сказала она, когда сестра вышла из палаты.
— Кого? — притворился я на всякий пожарный несведущим.
— Его, — попросила она, и я вздохнул с облегчением. — Ты его не тронь, ему заплатили, и он будет молчать.
— Ладно, — пообещал я слишком поспешно и подумал, что, может быть, оно и к лучше, не надо ехать в Ногинск.
Но, конечно же, поехал бы, если бы не остановили. А остановили весьма вовремя.
— Я сама тебе всё расскажу, — пообещала она. — Ты же меня не бросишь?
Она знала, что не брошу, а спросила просто так, для проформы, чтобы лишний раз удостовериться. Впервые я кому-то был нужен. Это обязывало. Меня всю жизнь что-то обязывало, но теперь обязательства были очень серьезными.
— Не брошу, — сказал я, и это было правдой, видно, это мой крест — женщины с трудным характером.
Оказывается, это была всего лишь передышка. Я уже знал, что человека убивают нереализованные предчувствия, но в тот момент у меня никаких предчувствий не было; было всего лишь глупая человеческая надежда дожить до конца лета. Не та надежда, которая даётся в априори, а обыденная, зряшная, и я попался, как кур во щи, словно я уже не был в жизненных переделках и всё началось сызнова.
— А теперь иди, — Алле Потёмкиной посмотрела на меня своими тёмно-синими глазами, — я хочу спать. Приходи утром. Вещи мои принеси.
Я поцеловал её и вынес её взгляд с собой в надежде, что и на этот раз всё обойдётся, и что мне продолжает везти, что это и есть та передышка, которая даётся во спасение.
Фойе было пустым. Вдовин где-то прятался, однако, к его чести, напротив палаты сидели двое бойцов и даже в гаджеты свои не достали, чтобы скрасить дежурство, видно, Вдовин здорово им хвосты накрутил.
* * *
Я нёс её просящий взгляд до самого выхода и готов был расплавиться от любви, словно стойкий оловянный солдатик, как вдруг возле машины меня приняли двое из ларца. Я и глазом не успел моргнуть, как они выросли, словно из-под земли, ткнули мне в правую почку стволом и сказали таким голосом, от которого обычно трясутся поджилки и давление подскакивает, как в барокамере:
— Иди в машину и не дёргайся!
И я пошёл, хотя и не испугался. А что делать? Мы сели, поехали. Они здорово рисковали, вокруг масса народа, камеры на фасаде. Можно было конечно развернуться заехать очень коротким апперкотом в челюсть того, что был слева. Это единственное, что я успел бы сделать. Однако я подумал, а кто будет приходить к Алле Потёмкиной, если меня убьют, да и почку жалко; а так всё же есть шанс. К тому же если бы меня хотели убить, то сделали бы это сразу, не рассусоливая. В общем, я дал слабину, посчитав, что здесь что-то не то, не убивают так вежливо в Москве, и в заложники тоже не берут, кому я, контуженный, нужен; скорее, в гости приглашают на блины, не очень вежливо, но это мелочи жизни, это мы переживём. Короче, что-то меня остановило от резких движений и маханий кулаками.
Когда мы поехали, тот, кто сел справа от меня, показал два пальца и сделал так, когда со ствола сдувают дымок, и улыбнулся почти дружески, продемонстрировав, что исповедует отбеливание зубов с помощью сырной терапии, но при этом нещадно пьёт чифир, и, быть может, он даже сидел; и я понял, что меня очень дёшево купили.
— Не волнуйтесь, — сказал он мне, — нам велено просто довезти вас.
— Куда? — Кажется, я был готов взорваться, как пороховой склад, в который попала счастливая искра.
— Увидите… кстати, какой у вас позывной?
Я сдержанно ответил.
— Ага… — Они сделали удовлетворенные лица и больше не проронили ни слова, только сфотографировали меня без моего разрешения и, как я понял, не таясь, переслали куда-то.
История становилась занятной, в стиле московских саг, которых я начитался в своей время, но там всё кончалось очень плохо, разве что стоило понадеяться, что времена изменились?
Москву я знал кое-как, понял только, что везут куда-то на юг-запад. Над елеями одиноко мелькала бледная, как моё чело, луна. После Ясенево, за МКАДом мы свернули вправо и за лесочком въехали во двор особняка. Место было пустынным и заброшенным. Однако дом казался жилым, с огромной пыльной гостиной, потолок которой украшала монументальная хрустальная люстра каскадной модели.
Мне привели в столовую, где часть мебели была под балахонами, где окна прикрыты тяжелыми гардина и где был накрыт огромный стол на две персоны; двое из ларца демонстративно поставили передо мной бутылку очень дорогого виски, чтобы я не рыпался и не крушил люстру, учтиво посоветовали, чтобы я чувствовал себя, как дома, даже телевизор включили и убрались в задние комнатах, видно, пошли заливать совесть и честь мундира.
Хорошо вышколенная на немецкий манер официантка Маша, в «мини», с кукольным личиком и точёными ножками, откупорила бутылку и налила виски на дно бокала. Я попробовал и сказал: «Спасибо», хотя виски из принципа не любил, потом стал задремывать, потом проснулся и увидел, что в окно заглядывает всамделишная луна, потом зажгли люстру, и столовая наполнилась жёлтым светом и стала походить на космический корабль; потом официантка Маша подала мне коньяка и лёгкую закуску. Я снова выпил, но ничего не происходило, и я уже хотел было возмутиться, мол, сколько можно ждать, непонятно чего, как дом внезапно наполнился лёгкой суетой, и через мгновение на пороге с большой сумкой в руке стоял Жора Комиссаров собственной персоной, позывной Лось, только посвежевший и отъевшийся на мирных харчах. Он улыбнулся во все тридцать два зуба, и выражение у него было такое: «Ну и подкузьмил я тебя, боец!»
— Жора! — вскочил я и опрокинул коньяк.
Он шагнул, мы обнялись, и я почувствовал, как трещат мои старые, больные кости.
— А я думаю, ну, кто это такой, Басаргин! — отстранился он, чтобы ещё раз удостовериться в своих словах. — Я же фамилию твою не знал. А потом, когда мне сказали твой позывной, всё встало на своё место! — Он ещё раз отстранился, на этот раз серьёзно и проникновенно посмотрел на меня: — А ведь я тебя чаще, чем родную жену вспоминаю!
— А я думал, тебя убило! — признался я и не стал говорить, сколько мне это крови стоило и сколько бессонных ночей я провёл на мокрых от слёз простынях; теперь и поныне всё это не имело никакого значения.
— А я думал, что тебя!
— Меня?!
Вот теперь мне страшно захотелось выпить, чтобы выяснить этот престранный вопрос.
— А у тебя за спиной мина взорвалась! — объяснил он так, когда говорят: «А у вас из носа козюля торчит!»
— Взорвалась… — признался я, кожей вспомнив ударную волну в затылок и то моё чрезвычайное усилие, чтобы не потерять сознание и удержать злополучную сосну.
— А ты меня спас!
— Спас?! — изумился я весь в нетерпении узнать подробности чуда, потому что всё время думал, что он до сих пор лежишь там, под этой сосной, и черви гложут его кости.
— Ты когда сосну приподнял, я и выскользнул, что твой уж! — засмеялся он, довольный, как тюлень, обожравшийся рыбой.
— Точно, меня в этот момент ранило! — вспомнил я окончательно и взрыв, и Нику Кострову, как мы с ней выбирались и тащились по горячей степи в Лисичанск и были без пяти минут смертниками, но судьба пронесла.
А ещё я подумал, что если бы злополучный осколок ударил меня не в бедро, а в голову, например, то я точно лежал бы себе в том окопчике, рядом с вывернутой сосной, и не было бы ни этого счастливого разговора, ни этой водки, ни радостного облегчения на душе.
— Да. Было дело! — признался он с лёгким сердцем, должно быть, тоже вспомнив горячее лето четырнадцатого, и как мы влипли, и танковую атаку укрофашистов, и как они прорвали нашу первую линию обороны, потом — вторую и начали утюжить тылы, а потом пехоту отбросили, а танки пожгли вместе с экипажами. — Кстати, о деле! — он поднял сумку и сунул мне её мимоходом в руку. — Это твоё, плюс тридцать процентов штрафных.
— Каких штрафных? — не понял я и раскрыл сумку, чтобы посмотреть.
Внутри лежали аккуратные банковские пачки оранжевых купюр.
— Княгинского, — с лёгким и всё объясняющим презрением сказал Жора Комиссаров, плеснул в фужеры. — Давай!
То, что это спирт, я понял, когда втянул носом, и тут же вспомнил, что Жора Комиссаров и на войне пил только спирт, дабы раньше времени не помереть от размеренной окопной жизни и чтобы сподручнее было бегать по горячей летней степи и бить укрофашистов.
— Привык, — сказал он, — хорошо от диареи помогает. — Больше он тебя не побеспокоит.
— Ты что… убил его?.. — догадался я.
Он сморщился в том смысле, что я задаю слишком много вопросов:
— Мишань, у нас одну и ту же овцу дважды не стригут. А потом он крысятничал. Давно крысятничал. Кому это понравится? Повод подвернулся и… — он придал лицу выражение печеного яблока, когда не думают о прошлом, потому что оно спеклось и пропало.
— А-а-а?.. — Я замялся, не зная, как поставить вопрос.
Жора Комиссаров помог мне:
— Просто он тебя больше беспокоить не будет. А тот друг, который ему накляузничал, тоже не будет. — И я понял, что муж-трудоголик Ирины Офицеровой жадным оказался, жадным и недальновидным, и одному богу известно, что с ним сделали, но уж точно по головке не погладили.
— Тётку не надо было… — невольно посетовал я и подумал, что деньги-то у неё отобрали, если она не успела их потратить.
Самое интересное, что я заплатил ей пятьдесят тысяч именно за молчание, но, видно, мало.
— А не надо ни на кого доносить, — абсолютно жёстко сказал Жора Комиссаров, и был абсолютно и безусловно стократно прав.
Я внимательно посмотрел на него и наконец узнал его: именно с такой интонацией он подбивал танки под Лисичанском, только там ещё звучал отборный русский мат.
— Жора, ты кто?..
Он засмеялся, довольный произведённым эффектом.
— Я есмь Бог! — ткнул шутливо пальцем в потолок. — Давай пить!
Я понял, что никто не обещал, что будет легко даже с фронтовым другом.
* * *
Никто не придёт и не спросит, что ты делал в 14-м и в 15-м, какие щи и с кем хлебал, а ты отсиживался: за женой, за тещей, за водкой, за блинами, надеялся — вынесет и дядя сделает за тебя всю грязную работу, а оно, возьми, да не вынеси, ну, не сработало так, как тебе хотелось, дядя подвёл, или либералы хитрее извернулись, или у американцев больше мошна оказалась; не вынесло, надломилось, лопнуло — именно из-за тебя, не хватило совсем чуть-чуть, малости; там промолчал, здесь уступил, дал взятку или, наоборот, взял, сделался «колбасником» на радость врагам, где-то ударил слабого, сфальшивил в ноте, предал друга в мелочи: история делается не войнами, не революциями, это уже квинтэссенция, а тихо, исподволь, в темноте, ночью, когда у тебя бессонница, когда ты грезишь о женщине или о куске мяса, или куришь, чтобы заглушить совесть, в общем, бережёшь себя любимого — однако, на этот раз тебе не повезло, потому что предтеча зреет в душах, а она у тебя гнилой оказалась; и всё! Смалодушничал, и Россия исчезла.
Глава 9. Смерть лошадки. Валесса Азиз
В ту ночь мы выяснили, что мы поколение, которому брошен вызов. А здесь уж понимай, как хочешь, повезло нам, или нет?
Я много думал об этом, и Жора Комиссаров, оказывается, тоже. А значит, об этом многие думали, и там, в окопах, и здесь в Москве, и это нас объединяло. Если люди испытывают одни те же чувства, это уже тайный или явный сговор по велению сердец. Союз этот разрушить невозможно, разве что всех нас скопом убить, чтобы мы рта не разевали и не рвали своего.
Мы выпили весь спирт, коньяк и виски за одно. Под утро официантка Маша стала спотыкаться, обслуживая нас.
Наговорились так, что языки отбили; разобрали правду по косточкам, накричались, набалагурились и надурачились до опьянения. А потом я вышел, чтобы освежиться, посмотрел — а солнце всходит, и я сказал себе: «Всё! Пора!» и поехал домой.
Меня отвезли вместе с деньгами, иначе бы я их точно забыл у Жоры Комиссарова, позывной Лось.
— Я не участвую в войне, она участвует во мне, — сказал мне на прощание Жора Комиссаров, явно цитируя кого-то другого, но не себя лично, потому что никогда не писал стихов и был донельзя прозаичен, но зато славно подбивал укрофашистские танки, и они горели жирным, сальным пламенем.
Не успел я наполнить ванную и залезть в её, как раздался настойчивый звонок в дверь. Я посмотрел на домофон: шустрая соседка Ангелина, похожая на сороку, задорно махала мне конским хвостом. Я вспомнил, пару раз мы поднимались и даже здоровались в лифте, и кажется, ей нравились мои камушки в моём голосе, потому что при их звуке она, как хорошо социализированная собака, замирала и навостряла уши. В память об этом пришлось надеть халат и приоткрыть дверь.
— Вам передали, — сказала она, старательно разглядывая в щели мою правую волосатую ногу: — Ну, откройте же, я вас не покусаю!
Пришлось распахнуть шире. Шустрая соседка швырнула на порог сумку:
— Вот!
В сумке что-то звякнуло. Я посмотрел с укоризной, но соседка Ангелина и ухом не повела, очевидно, считая себя правой во всех отношениях и делая мне исключительно одни одолжения.
— Такой здоровый, лысый? — уточнил я со сдержанной радостью: Радий Каранда нашёлся!
— Нет, — снова мотнула она хвостом. — Маленький, чёрненький, таджик, — упрекнула она меня, может быть, потому что я за ней до сих пор не приударил, не покусился на её пунцовый ротик и ядреный, как орех, зад.
— Ха… — удивился я её мыслям, — таджик?.. — И, наверное, имел глупый вид, потому что соседка обрадовалась и приняла моё недоумение на свой счёт, то бишь поставила в своём гроссбухе галочку: «любопытен не в меру и любит подглядывать в глазок».
Я, действительно, иногда шпионил, когда она мыла пол перед своей дверь, но из чисто эстетических соображений: надо же иметь понятие, кто швыркает у тебя под порогом.
А ещё я понял, что Радий Каранда сделался осторожным, как китайский шпион, то бишь был прав: если за сумкой кинутся, то будут искать таджика. Разумно и чрезвычайно дальновидно, поэтому насчёт «здоровый, лысый» я зря ляпнул, но, может, соседка с конским хвостом запамятует, зачарованная моими волосатыми ногами и камушками в голосе? Приходилось уповать лишь на чудо и невнимательность карающих органов.
— Спасибо, — смутился я ещё больше к её радости, взял сумку, закрыв дверь, посмотрел в глазок.
Соседка-сорока демонстративно показала мне средний, мол, я тебя всё равно вижу, задорно мотнула конским хвостом, и была такова, покрутив ореховым задом. Может, у неё от моих волосатых ног разыгралось воображение? Может, она пришла уже горячей и тёплой, а я не сообразил? Я не знал, надо разобраться, одинока ли она и бывают ли у неё загулы по части неженатых мужчин?
В сумке оказались два автомобильные номера и «макаров» в кобуре с запасной обоймой. Как Радию Каранде удалось провезти оружие через границу, одному богу известно? Наверное, с военными переправил. Мне сделалось стыдно-стыдно из-за того, что я запрезирал его. «Пользуйся, — писал он в короткой записке, — номера фальшивые, а пистолет — настоящий». И больше ни слова. Что с ним? И куда он? Молчок. Не изменил самому себе Радий Каранда ни словом, и, надеюсь, ни делом. Я понял одно, Радия Каранду надо искать, и чем раньше, тем лучше. Вдруг он в какую-нибудь историю влип?
Вечером того же дня, я обошёл все бары и забегаловки, в которые мы с ним облюбовали: нигде его не видели, нигде он не появлялся; и уже крайне отчаялся и был угрюмо пьян, когда в ирландском пабе «Белфаст», что в Среднем Овчинниковском переулке, бармен с запоминающимся именем Артём Барракуда по-свойски подмигнул мне, словно мы соблюдали конспирацию, общаясь только знаками, и сунул записку, как бирдекель. Я кивнул, давая понять, что буду нем как могила, вышел на улицу и в свете фонаря развернул листок: «Если ты читаешь эту записку, значит, ты меня нашёл, — писал Радий Каранда свои летящим подчерком, — после нашего разговора в душе накипело, я плюнул на всё и уехал. Кроме тебя, об этом никто не знает. Не поминай лихом».
Он всё-таки выкинул этот финт, несмотря на короткую ногу и любовь к столичной жизни, и не хочет, чтобы об этом трепался, тем более за кружкой пива. Взял и сделал то, о чём я только строил воздушные замки. С горькой, как хина, завистью в душе я отправился домой, где меня ждала холодная постель, радуясь, однако, что Радий Каранда, несмотря на его габариты и похожесть на Дженсона из «Ментовских войн», оказался умнее и хитрее, чем я думал, ибо ни словом, ни взглядом ни разу не выдал себя. А ещё он проверил меня на вшивость: я мог не проявить настойчивость и не найти паб «Белфаст» и Артёма Барракуду, который тоже «там» был, тогда всем моим разговорам о Донбассе — грош цена.
* * *
Того, кто покушался на Аллу Потёмкину, поймали ещё ночью, когда мы с Жорой Комиссаровым глотали спирт и горланили песни о Гренаде. Им оказался чаморошный шашлычник из «Багратиона», худой, как спичка, с неряшливой, седой бородой и бегающими глазками.
Я зарёкся думать об этом; подъехал посмотреть на смертельно перепуганного абхазца, которому светила как минимум экстрадиция на родину, а как максимум лет десять в зависимости от состояния здоровья Аллы Потёмкиной.
— Он сказал, что опаздывал с перерыва, — пояснил следователь и развёл руками, что поделаешь, мол, и такое у нас тоже бывает.
И я понял, что он навёл обо мне справки со всех ракурсов и в курсе моих финансовых возможностей и военного прошлого, а также здоровья и потенциальных возможностей в плане Донбасса.
— Идиота кусок! — согласился я с ним.
— Дикари! Понаедут, а вести себя не умеют! — слишком настойчиво посетовал следователь и вопросительно уставился на меня, дабы не переусердствовать в стремлении обогатиться от ситуации.
Я подумал, что, быть может, ему дали мзду, вот он и шерстит бесчестно? Однако теперь меня это не касалось, после записки Радия Каранды я словно отстранился от этих московских штучек и мне сделалось смешно: в умысел следователя теперь входила задача исподволь, чтобы не делиться, разжалобить меня и уговорить забрать заявление. Никакого отношения ни к Андрею Годунцову, ни к Лере Плаксиной абхазец не имел, повода нападать на Аллу Потёмкину у него не было, стало быть, пусть живёт и процветает на ниве шашлыков и кебабов.
Я великодушно махнул рукой:
— Пусть катится на все четыре стороны!
— А если?.. — Следователь решив, что переиграл меня, вдруг принял официальный вид и важно, и с достоинством посмотрел в бумаги, в которых, как я понял, напротив диагноза Аллы Потёмкиной стоял здоровенный вопросительный знак.
— Никаких «если»! — неподдельно возмутился я, потому что сам боялся подобных мыслей, которые имели свойство материализоваться. — К тому же, что с него возьмёшь? — заговорил я на полицейском языке.
— Как хотите, — с явным облегчением и слишком поспешно для ситуации сказал следователь, и я подписал отказ; пусть отрабатывает свою мзду, если она ему, конечно, заплачена.
Мне показалось, что он вместе со мной испытал искреннее удовлетворение, и в глазах у него тикал счётчик.
* * *
Её выписали неделю спустя. Боли прошли, температура спала, и эскулап заверил, что все анализы в норме; я сделал вид, что поверил, однако, сказал, чтобы ему больше ничего не платили, не нравился мне он, что поделаешь. В этой больнице мы больше лечиться не собирались.
— Надо было тебя всегда ждать, — двояко посетовала Алла Потёмкина, — но кто знал, что ты, вообще, возникнешь, — призналась она с немым укором к своему прошлому и одёрнула меня взглядом своих небесных глаз, от которых моё бедное сердце металось, как белка в колесе.
Я понял, что к этой мысли она пришла в больничной тишине и умиротворении. У неё было время подумать. И вообще, от неё вдруг стало исходить ощущение преданности. Словно она открыла тайные клапаны и её душа наполнилась надеждой, о которой она уже подзабыла. Однако это был только первый слой скорлупы, а что глубже, я не видел, и ещё некоторое время сомневался в положительном исходе наших отношений. Зачем разрушать то, что так хорошо было устроено? И лишь глупенькая надежда на будущее, питала мой оптимизм.
— Я не хочу больше быть стервой! — заявила она. — Мне надоело быть стервой! Думаешь, я не знаю, что обо мне говорят в фирме?!
Я пожал плечами: до меня никакие слухи не доходили, и я мог гордиться собой и думать, что даже из-за одного этого люблю её, но странной любовью, с горечью потерь, что ли, с высоты своих лет, но точно не с теми свежими чувствами, которые я неизменно питал к Наташке Крыловой, потому что Наташка Крылова всегда была и оставалась моей юностью.
Под различными предлогами я избегал разговора, к которому она меня всё время понуждала. Он был подобен блужданию по минному полю или по реке во время ледохода, кто знает, как оно всё обернётся? Но ей почему-то он, этот разговор, позарез нужен был, и она без всякого смущения загоняла меня своими бесконечными фразами: «Я тебе всё расскажу…» или «Если я не тебе не расскажу, я не смогу жить…» и т. д. и в том же духе; и я страшно нервничал, у меня поджилки тряслись всякий раз, когда я входил к ней палату и глядел на её осунувшееся лицо; естественно, я не подавал вида, что страшно трушу, и камушки у меня в горле звучали по-прежнему, как в ледопаде; но то состояние предтечи, которое владело мной последнее время, не трансформировалось ни во что другое, то есть гильотина висела по-прежнему, и чувство катастрофы обострилось настолько, что я боялся даже преданного взгляда Аллы Потёмкиной; я каждый раз с облегчением ложился спать: сегодня ничего не случилось, и слава богу. Поэтому за пару дней до выписки бывал у неё набегами и под различными предлогами старался улизнуть как можно быстрее. Один раз был даже официальный повод: анонс фильма об Андрее Панине, хотя сами съёмки были в самом разгаре. Роман Георгиевич самолично приехал за мной на Рублевку и отвёз в «Кафе Пушкинь» на Тверском бульваре, где на балконе второго этажа меня долго с пристрастием пытали телевизионщики и разнокалиберные киношники, заставляя произносить заранее написанную, ну, очень умную речь, глядеть в свет софитов и делать озадаченно-проникновенный вид, а после окончания съёмок один знаменитый режиссёр, не помню его фамилии, высокий, толстый, с дворницкими усами и пухлыми ручками из мультфильма «Илья Муромец», подплыл, как айсберг, и громогласно вопросил в присутствии многочисленных свидетелей и прессы:
— А вы не хотите у меня сниматься?! Мне как раз нужен такой типаж в полицейской моногосерийке?!
— Кем? — спросил с удивлением, потому что только и думал, что о завтрашней выписке Аллы Потёмкиной и о предстоящем с ней тяжёлом разговоре.
— Главным героем, разумеется! — ещё раз оглядел он меня, как скаковую лошадь с головы до ног. — Голос у вас поставлен от природы, немного натаскаю, как правильно двигаться и смотреть в камеру, и вполне, вполне… — одарил он меня своим сияющим взглядом. — Между прочим, — добавил он, хватаясь проникновенно, — заказано сто сорок восемь серий!
Видно, он думал, что раз делает мне такое шикарное предложение, я должен был быть ему его пухлые ручки целовать и быть обязанным до конца дней моих.
Пока я раздумывал, как бы ему доходчивей всё это изложить, подлетел разгоряченный Испанов в сером костюме с отливом, с пёстрой бабочкой «аля-махаон», в туфлях из крокодиловой кожи, и крайне враждебно заявил, что Михаил Юрьевич авансирован на ближайшие три года вперёд и что скоро ему предстоит сниматься в новом абсолютно потрясающем фильме, и потащил меня к дубовому столу, ломящемуся от яств.
— Каком фильме?! — удивился я, поспешая за ним, как дитятя за нянькой, и удивляясь его звериному чутью, ведь минуту назад он тихо, мирно наливался коньяком в самом дальнем углу ринга и не обращал никакого внимания на суету вокруг меня.
— Ты замазаться хочешь в самом начале? — спросил он с сарказмом, потрясая для очевидности своим незабвенным горбом, как антилопа гну.
— Не понял?.. — отозвался я и оглянулся: знаменитый режиссёр демонстративно помахал мне пухлой ручкой.
— Да он либерал! — зашептал Роман Георгиевич, беря меня под локоть, — клейма негде ставить! После этого ни один порядочный человек тебе руки не подаст, а я — лишусь правительственных дотаций! На мне крест поставят, а тебя — забудут, словно и не помнили.
— Роман Георгиевич, я же на знал! — испугался я, боясь даже покоситься в сторону знаменитого режиссёра, у которого были толпы актёров на побегушках, но он назло всему киношному бомонду почему-то выбрал именно меня.
— Вот поэтому я и напялил костюм, — любовно погладил он себя по животу, — и приглядываю за тобой. Понял?!
— Понял, — расстроился я и на всякий случай больше не глядел в сторону знаменитого режиссёра.
— Чтобы ты не заводил себе врагов! Ты вообще, меньше здесь крутись и обещаний никому не давай, а то вытаскивай тебя каждый раз из дерьма! — беззлобно воскликнул он. — Этот барин ни одну душу погубил! Здесь люди сгорали похлеще тебя!
— Всё! — воздел я руки, сдаваясь в плен, как самый подлейший на свете фашист. — Я всё понял! — Хотя насчёт души абсолютно ничего не понял.
— А раз понял, то пошли коньяк трескать! Нечего рот разевать!
А между тем, знаменитый режиссёр с дворницкими усами проявил настойчивость и через официанта тайком передал мне свою визитку, на которой поперёк было начёркано: «Позвоните мне обязательно!»
На визитке значился только номер телефона. Знаменитый режиссёр был большим оригиналом. Однако я уже понял, что его предложение ещё ни к чему не обязывало, возможно, он вёл какую-нибудь тайную игру, а я был в ней его разменной монетой, кто его знает? Поэтому на всякий случай я удавил в себе, как гадюку, своё тщеславие, внял словам Романа Георгиевича, тихо-мирно и незаметно отбыл домой, где меня ждала Алла Потёмкина — ещё одна Хиросима на мою душу.
* * *
На следующий день она взяла меня в оборот так, что я и пикнуть не успел.
— Ещё немножко, и ты станешь столичной звездой! — закричал она почти что исступленно, когда я появился, чтобы отвезти её на Рублевку. — Тебя из дома выпускать нельзя!
— Какой ещё звездой? — притворился я глухим, слепым и немым, подхватывая её вещи и лихорадочно соображая, как бы половчее вывернуться из скользкой темы, потому что почувствовал себя, словно вываленным в мёде и перьях, не понимая, радуется она вместе со мной, или нет, а может, — тонко издевается?
— Ещё той! — сыронизировала она, глядя на меня в упор весьма мило и непосредственно, и небесно-голубые её глаза вспыхивали, как стартовый светофор в гонках, не предвещая ничего хорошего, то бишь финиш мне вообще не светил по определению, а фигурально светила ближайшая канава с лягушками и тиной.
И я понял, что трансляция велась по телевизору и что я разоблачён ещё до того, как рот открыл и понадеялся на благополучный исход.
— С тобой знакомился… — она назвала известную фамилию.
— Это был он?! — притворился я идиотом, однако, не слишком резво, чтобы она не уличила меня в лицемерии и в работе на ЦРУ.
— Ну, естественно! Обычно такие хамят от значимости, а с тобою он был мил и любезен. К чему бы это?
— Да? — удивился я и оглянулся на телевизор, притворяясь, что попал в него случайно.
Она посмотрела на меня с мягкой иронией коренной москвички, хотя ею никогда не была, правда, часто гостила у московской бабушки, но это совсем не то, думаю.
— Неужели ты не понимаешь?..
— Нет, — признался я, как завзятый клиент из Кащенко.
— О нём ходят страшные сплетни в лицемерии, он использует человека, как тряпку, и выбрасывает на свалку, словно объедки. Что он тебе пообещал?
— Сниматься в сериале, — признался я ничего не значащим голосом своей совести, которая, однако, уже страдала, как на дыбе.
— Да? — иронично вопросила Алла Потёмкина, задрав свои идеальные скулы с абрисом, словно у парфенонских богинь.
— Да, — поспешно ответил я, опасаясь очередной ловушки.
И мы вышли, и спустились на лифте вместе с охраной. А когда сели в машину, она мило продолжила допрос со странными нотками в голосе:
— Ты решил сделать карьеру киноактёра?
Я понял, что она ревнует и что я стал частью её гардероба, то есть меня можно было свободно достать, поносить, а когда не нужен, повесить назад, и пусть кто-нибудь потом докажет, что она не сделала благо для общества и киноискусства?
— Ну какой из меня киноактер? — возразил я на всякий случай, готовя пути отхода, хотя воображение у меня разыгралось не в меру, и самолюбие тоже взыграло, но я вовремя вспомнил, что у меня другие планы, пока ещё неясные и томительные, с почестями и «Прощанием славянки» на трубе, которую у нас крутили на площади Ленина, хотя я мечтал уехать не для того, чтобы получать юбилейные побрякушки и трясти ими на парадах, а чтобы воевать по-настоящему, не так, как я воевал до этого, хаотично и от случая к случаю, а планово и системно, с целью добить врага и гнать его на запад до Киева.
— А вот такой! — показала она модельным пальчиком.
И я, действительно, увидел, папарацци, которые, абсолютно не стесняясь, щёлкали нас весьма профессиональными камерами.
— Всё! — скомандовала она нервно. — Поехали! — И добавила: — Ты попал в киношную обойму. Тебе сделали рекламу. Но не суйся туда, где у тебя нет силы, где ты не можешь ни на что повлиять! Это закон бизнеса!
Я туго соображал, все ещё находясь под впечатлением громкой фамилии толстяка с дворницкими усами, и сказал:
— Да… ты права. Я сел не в свои сани. — Достал визитку и не без тайного сожаления выбросил её в окон. — У нас совсем другие планы в жизни.
— Ну и правильно! — обрадовалась она, что целиком и полностью завладела мной, чмокая меня щеку и тут же ладошкой заботливо стёрла следы губной помады. — И никакого киношных глупостей, дольше проживёшь!
— Слушаюсь, товарищ домашний генерал! — сказал я шутливо, стараясь не портить ей день выписки, потому что ещё вчера на всякий случай записал номер знаменитого режиссёра в айфон.
Насчёт глупостей она явно ошиблась, и я понял, что в семейной жизни попал из полымя да в омут, но рыпаться не имело смысла, действительно, какой из меня актёр? Алла Потёмкина была права. Однако первый аркан мне на шею мило и непринужденно, вроде бы как для моей же блага, был наброшен, и я подумал, интересно, какой будет следующий? И как долго я выдержу при моём-то жизненном опыте? И перефразировал Бродского: «Не выходи из кокона, не совершай ошибку», однако, совсем в другом смысле, применительно к моим обстоятельствам.
А к её разговору мы двигались импульсивными рывками. И она мне то что-то короткое расскажет, то просто намекнёт; и я уже знал, как погиб Гелий Уралов, только не знал, почему.
«Он просто набрал скорость и отпустил руль, — сказала она, закусив губу и с нотками в голосе, которые не предвещали ничего хорошего. — А я просто закрыла глаза. Если бы я испугалась и закричала, он бы разбился тогда, сразу вместе со мной, а он разбился через два месяца».
Мы оба нервничали так, что впору было прекратить пытку и забанить тему с полным основанием до конца наших дней, но какой-то чёртик понуждал нас, как марионеток, и мы семимильными шагами неслись к пропасти под названием неизгладимые муки совести.
— Он не мог мне простить того… ну, того, о чём ты уже знаешь… — сказала она не без внутреннего трепета и густо покраснела, но глаз не убрала, наблюдая мою реакцию, потому что боялась её не меньше меня самого.
И я кое-что начал понимать, хотя, конечно, до полной и окончательной картин было ещё далеко, но кое-что я уловил. Под первым слоем скорлупы оказался ещё один, не менее толстый и архаичный, как босанова без самба.
— Мне надо было сконцентрироваться, сжаться, закрутить себя проволокой и дождаться тебя… — она покраснела ещё пуще, — я сама виновата… — сказала она окну в гостиной, и я тоже посмотрел на куст красной персидской сирени, который горел в саду.
Дневной свет по ту сторону мерк, как меркнут чувства у людей, которые решились на эксперимент со своим прошлым.
Итак, осенью тринадцатого года Гелий Уралов разбился на трассе «Дон», выехав на встречную полосу. Я быстренько посчитал: три года без мужчины — это по молодости лет очень много, так много, что кажется половина жизни прошла, причём всегда и неизменно — лучшая, по которой надо только и делать, что слёзы лить. Я не знал, были ли у неё любовники после смерти мужа, мне хотелось думать, нет, не было, слишком бурно и искренно развивались у нас отношения; и я не почувствовал фальши или подвоха, потому что и то, и другое было делом всего лишь статистики, которая мне до смерти надоела, но почувствовать, я почувствовал бы.
А что касается Гелия Уралова, то в свете того, что я узнал ранее, я хорошо мог представил себе причины, побудившие его выехать навстречку. Я даже мог разложить эти причины по полочкам и разобрать каждую по деталькам; поэтому не предполагал, что там какая-то сногсшибательная тайна, способная изменить моё мировоззрение и потрясти до основания души. Ревность — по молодости страшная штука, чаще — слепая и глупая, хотя и не без рыцарского благородства.
Мы сидели напротив друг друга, на холодных, как мрамор, кожаных диванах, в огромной, холодной гостиной, с высоким, концертным потолком, больше похожей на операционную, полную мрачных ощущений и дурных предчувствий. Аллу Потёмкину знобило, и она куталась в плед.
— В молодости я вообразила, что весь мир принадлежит мне, — сказала она, — только мне. Я делала, что хотела, не очень заботясь о последствиях. Я курила марихуану, пробовала экстези и даже нюхала клей! Я делала очень много странных вещей, о которых мне стыдно теперь вспоминать! Но мне не терпелось! — высказалась она, как на электрическом стуле, — и я напортачила! Я сильно напортачила! После такого люди вешаются или стреляются!
— Всего-то? — попытался смягчить я разговор, чтобы уйти от скользкой темы. — В восемнадцать лет все так думают и почти все делают то же самое. — Хотя, конечно, это было не так, я например, лично ничего подобного не переживал, и юношеское томление духа не сотворило со мной никаких глупостей, словно приберегая меня для чего-то более важного и таинственного. Это ощущение таинственности и вело меня по жизни.
Но она не слышала мои речи. Она была вся в себе, ревизируя своё прошлое. Я поднялся, чтобы принести ей выпить что-нибудь из бара. Она сидела, нахохлившись, как ворона на ветке, и вдруг и выпалила.
— Я была нимфоманкой! — она, судорожно зажала себе рот и горько разрыдалась.
Бокал выпал из моих рук, но не разбился, потому что на полу лежал толстый персидский ковёр, лишь коньяк янтарными каплями расплескался по нему.
Я ожидал всего, чего угодно, но только не подобного признания. Для этого у меня не было даже полочки. Её вообще не существовало в природе, хотя, конечно, я мог придумать кое-что похожее, но не придумал. Что-то близкое по теме было на третьей полочке слева, во втором ряду, но всего лишь близкородственное, без всяких там крайностей эмоционального и физиологического порядка. А этот вариант был настолько редок, что я на долю секунды растерялся и ощутил себя в очередной раз обманутым судьбой: почему именно я, а не кто-то другой?
Потом я снова налил ей и себе коньяка и дал ей выпить и выпил сам. И пока коньяк действовал на нас, мы тягостно молчали. А потом.
— Если ты сейчас уйдёшь… — сказала она каменным голосом, — я тебя пойму, и мы останемся друзьями, с твоей должность, с твоей квартирой, и…
— И ты опять станешь стервой?! — прервал я её, давая понять, что понял её окончательно и бесповоротно и поэтому всё ещё нахожусь в этой огромной и холодной гостиной, а не у себя, в маленькой, уютной квартирке в Тушино на тридцать седьмом этаже, где можно тихо и безмятежно просидеть всю жизнь.
— Да! — твёрдо ответил она. — Я опять стану стервой, я завязала себя в такой узел, который до сих пор развязать не могу! Но я хочу, чтобы ты мне верил!
Она явно указала мне ещё на один слой скорлупы, который надо было разбить вдребезги, чтобы освободиться; и мне впору было я вскочить и хотя бы от злости на весь этом мир пронестись по дому, пуская из ушей дым и искры, не потому что я хотел её наказать или напугать, а потому что мне надо было выплеснуть эмоции и собраться с мыслями: женщин бросают даже из-за менее значительных проступков, хотя женщины становятся чужими, если сами этого хотят. Однако меня остановило то единственное, что искупало её — ощущение её преданности и тот, следующий слой скорлупы, который я ощутил как предтечу. Таким вещами не бросаются, их взращивают, как кристалл, их взращивают, как розу, в конце концов, просто оберегают, как собственное дитя, ведь своей преданностью она зачеркнула всё своё прошлое и моё заодно. И я знал, что у нас в запасе много времёни, очень много времени, ровно вплоть до того момента, когда она заматереет и характер у неё испортится окончательно и бесповоротно. Но даже тогда я надеялся с ней договориться и прожить длинную жизнь. Всё это моментально пронеслось у меня в голове словно я увидел наше будущее. И это будущее было небезоблачным, мало того, оно было мрачным, как зимняя буря. Но я сказал себе, что не откажусь от этой женщины. Будь что будет, а я не откажусь! И я не отказался.
В общем, я взял початую бутылку коньяка сел и выслушал Аллу Потёмкину от начала до конца; я принёс себя в жертву, я дал Алле Потёмкиной победить саму себя в личном многоборье, хотя потом уже зарёкся когда-либо делать что-то подобное ещё раз в жизни. У меня выхода не было.
* * *
Нет, она не была дурой. Она была подобна сумасшедшему практиканту, решившему попробовать все яды мира на вкус, проигнорировал инструкции, руководства к действию и толстенные справочники, а также весь интернет вместе взятый. И кажется, я её понял: после севера и вечной дисциплины дома в институте она сорвалась с цепи. «Папа просыпался каждый день в пять тридцать! А ровно в шесть садился в машину, чтобы отбыть к себе на крейсер! И так всю жизнь!» Вряд ли папа-командир и мама-хирург подозревали, чем, кроме учёбы, ещё занимается их дочка. А она занималась ни много ни мало как групповым сексом. Впрочем, это носило куда более невинное название — «вписки». Надо было вписаться в местный коллектив, если ты не вписался, ты — никто. Тобой пренебрегают и с тобой не пьют водку-пиво и даже не будут давать конспекты списывать. Интересно, а как Жанна Брынская вывернулась в этой ситуации? — подумал я. Для Валентина Репина это будет поводом лишний раз ехидно поскрипеть зубами. Но возможно, они даже не знали о том, чем занимаются Ураловы. Есть такой тип тайны, который известен лишь тебе и мне. И всё.
Так что вначале жизнь Аллы Потёмкиной была суровой, как зимние ураганы на Кольском. А потом появился Гелий Уралов, не менее взбалмошный, чем Алла Потёмкина, и понеслось, и полетело, потому что они оказались два сапога пара. Гелий Уралов тоже наращивал упущенное в детстве, мать умотала в Америку, а отцу приглядывать времени не было. В общем, они были созданы друг для друга, если бы Гелий Уралов не был гипертрофированно ревнив. Однако при всей его ревности он таскал Аллу Потёмкину на вечеринки с изюминкой — групповухой. Как сказала сама Алла Потёмкина: «Мы занимались любовью только с ним». Может, оно и так, и тело в современной жизни не имеет большёго значения, чем сосуд с амброй, потому что дорого, но лично я был воспитан в иных традициях. Если ты любишь женщины, тебе не нужен стимул в виде голых тел других женщин. Ты хочешь её всегда и везде, и только её единственную.
Естественно, заправлял мероприятиями Гарик Княгинский. Он же следил за финансовой дисциплиной и съемками. Снимать мог любой желающий, но за деньги. Гарик Княгинский как неофициальный директор предприятия имел право снимать бесплатно. Входной билет стоит сто баксов. Правила были простые: занимаешься любовью, с кем хочешь, если не хочешь, никто к тебе пальцем не притронется, главное, плати деньги, а сама можешь хоть в шубе сидеть. Нарушителей изгоняли безжалостно. За что, собственно, Гарик Княгинский и пострадал от пятикурсника Горислава Бердышева, имевшего связи с околобоксёрским миром. Горислав Бердышев решил, что имеет право на всех, без исключения девушек, которые посещали клуб. Естественно, девушки встали на дыбы, и предприятию Гарика Княгинского грозил крах. По этой причине он не пустил Горислава Бердышева на очередную «вписку», и приятели из околобоксёрского мира Бердышева били Гарика Княгинского почему-то не по-спортивному благородно кулаком, хотя он принадлежал к мужскому типу: «Эй, ты, дохляк, принеси мячик!», а гантелькой весом два с половиной килограмма, из-за чего нижняя челюсть у Гарика Княгинского превратилась в гармошку. Гарик Княгинский, выйдя из больницы, где ему собрали челюсть, и получив возможность снова жевать, нашёл-таки управу на Горислава Бердышева в лице Жоры Комиссарова, который тогда ещё не имел позывного Лось, но имел вес в соответствующих кругах. С тех пор Гарик Княгинский на него и работал, но это было тайной за семью печатями, в которую мало кто был посвящён. А Алла Потёмкина в силу сложившихся обстоятельств оказалась в курсе дела, когда неофициальное следствие вёл Антон Назарович Уралов, в результате которого получил свой инфаркт и отбыл в лучший из миров. Кстати, тогда же на кладбище, Алла Потёмкина просто испугалась, что пресса пронюхает о истинной причине смерти свёкра, и выдала фразу о его больном сердце.
В клубе было ещё одно правило: съёмки предназначались исключительно для внутреннего пользования, однако, проследить выполнение этого правила было весьма сложно. Сам же Гарик Княгинский первым его и нарушал, когда чуял большие деньги. Это его и сгубило. Вначале шантажировал по мелочи. Рассылал порно клуба друзьям. Удалять страницу не имело смысла, она тут же дублировалась на другом сайте. И Гарику Княгинскому платили под честное слово, что в сети больше ничего не появится.
Итак, Гелий Уралов и Алла Потёмкина поженились, прописались, им понравилось, и они стали регулярно ходить на вечеринки с изюминкой. Что это стоило для гордой и неприступной Аллы Потёмкиной можно было только догадываться. Лично мне она ничего не сообщила по этому поводу, а я и не настаивал, зачем ворошить прошлое, достаточно было того, чего она мне сочла возможным рассказать.
Как все молодые пары, Гелий Уралов и Алла Потёмкина иногда ссорились. «Однажды я пришла, а он позвонил, что задерживается. Я села и просидела весь вечер, как дура, а он так и не пришёл (в этом месте я отключил всякое воображение и сделался истуканом, обкаканым птичками). Оказалось, он поспорил с Эдом Чарыкиным, уступлю ли я кому-нибудь из них. В общем, проверяли мою верность. Надо было ждать, ждать, ждать и выходить замуж за романтика, а не за голого практика. Но кто знал? У нас с Ураловым был договор, что мы занимаемся сексом только вдвоём или с кем-то другим, но с согласия партнёра. Вторую часть договора мы ни разу не приводили в действие. И тут…»
И тут ситуация повторилась. Алла Потёмкина пришла, Гелий Уралов задержался, и она выпила сока. «Как сейчас помню, апельсинового, и словно в яму провалилась».
Очнулась она во время оргазма под тем же самым Эдом Чарыкиным и уже не владела собой.
Всё остальное я мог воспроизвести, как догадки, основанные, на её заиканиях, неоконченных фразах, на разглядывании концертного потолка и обильных слезах.
Ей всё казалось мало, и каждый, кто входил в неё, доставлял ей такое наслаждение, что она не могла остановиться. Вечер безумства закончился тем, что «явился Гелий Уралов и учинил грандиозный скандал».
Очень даже вовремя, удивился я. А может, он элементарно подглядывал, типичный вуайеризм, получив то, на что никогда бы не смог уговорить Аллу Потёмкину, и они и с Гариком Княгинский в сговоре? Гелий Уралов обрёл вечно сладострастную картинку, а Гарик Княгинский — деньги.
Конечно же, они помирились через пару месяцев, но отношения у них разладились (может быть, даже искусственно со стороны Гелия Уралова): с болезненной навязчивостью перестали доверять друг другу. Ещё один повод для страждущего психопата, всё время есть себя поедом. Вот почему Гелий Уралов закрутил роман с Лерой Плаксиной — в отместку Алле Потёмкиной. А на трассе «Дон» он бросил руль и едва не угробил обоих.
«А потом Антон Назарович Уралов умер, Гелий Уралов разбился, и я осталась вдовой, чтобы ждать тебя!»
Впечатляющая речь, я едва не прослезился, и конечно же, ничего не сказал о её муже и Гарике Княгинском.
* * *
Итак, Алла Потёмкина рассказала мне свою историю, и мне, честно говоря, захотелось пойти и принять душ с лавандой и токсином ботулизма.
Три дня мы с ней не разговаривали. Три дня я жил в Тушино на тридцать седьмом этаже, и ночной ветер прилетал из степей Донбасса и, как слепой, бился в стёкла, а на четвёртый утром она приехала ко мне самолично без звонка (я правил в очередной раз по просьбе Испанова сценарий) и потребовала так, словно избавилась наконец от того последнего слоя скорлупы и начала новую, абсолютно новую, счастливую жизнь:
— Где моё обручальное кольцо!
Мы никого не пригласили, даже Репиных. Это была наша маленькая, но настоящая тайна. Поехали в загс и за небольшое воздаяние на благо ЗАГСА на Сретенском бульваре расписались в толстой актовой книге, получили на руки свидетельство о браке, и отправились подальше, за МКАД, где нас никто бы не узнал в лицо, в ресторанчик на Жулебинском бульваре, где всегда была живая музыка. На входе я увидел афишу с именем Валессы Азиз и страшно удивился, оказывается, она вернулась в Россию, и столица пестрит её афишами. Весь вечер Валесса Азиз вела программу, и зал аплодировал нерусской красоте.
Мы сидели на летней веранде, заказали разные вкусности, пили красное вино и раз двадцать слушали «Девушка из Нагасаки», потому что публика взахлёб рыдала при её звуках.
Мы решили, что через неделю летим в Португалию, в Альгаву, где у Аллы Потёмкиной была усадьба с павлинами и вечно цветущими кактусами.
Павлинов, естественно, придумал я. Вместо павлинов там жила Анна Клара, которую нанял ещё Антон Назарович Уралов присматривать за домом.
Мы заказали билеты, и Алле Потёмкиной осталось утрясти кое-какие дела в фирме. А ещё она планировала посетить кое-какие магазины, потому что «там у нас времени не будет, зачем тратить время на пустяки?» Так сказала она, с намёком на тайные планы, чтобы удивит меня. А я вспомнил, что у меня даже плавок нет, но Алла Потёмкина возразила, что «там» сейчас это не в моде. А что в моде? «Шорты, дорогой. Шорты!» И мы купили пару шорт, чтобы, действительно, не шопинговать в Альгаве по магазинчикам, а наслаждаться жарой, морем и тамошней экзотикой. Я даже сходил в интернет и почерпнул кое-что о Португалии. Оказывается, так говорили на двух языках: португальском и мирандском. Я не знал, какой из двух выбрать, и в итоге забросил, не начав учить, оба.
Всё складывалось слишком удачно, я не верил своему счастью: в кои веки я выбрался на море, чтобы погреть взволнованные косточки. Последний раз это было, кажется, в Геленджике, сто лет назад, осенью, тёплой, но ветреной. Мы бродили с Наташкой Крыловой по местным базарчикам, лакомились фаршированными баклажанами и пили чай на площади: за спиной горела клумба из бардовых канн, над нами шумел ветер и кричали чайки, и если долго сидеть, то на губах ощущался солёный налёт.
Через неделю Алле Потёмкиной сделалось плохо. Внезапно начался сильный озноб, поднялась температура. Её отвезли в больницу, и профессор, который курировал нас, удивился:
— А почему сразу не сделали?..
— Что? — удивился я и вспомнил бегающие глазки эскулапа, который, оказывается, посуточно вытягивал из нас деньги и о своём семейном подряде, то бишь о жёнушке не забывал с её томографом.
— Операцию! У неё абсцесс от удара!
Операция длилась два часа, откачали два литра гноя. Провели дренирование, чтобы вводить антибиотик непосредственно в зону воспаления. На следующий день Алла Потёмкина уже ходила, а через три дня рану закрыли и нас отправились домом с условием амбулаторного лечения. «Бог милостив, — сказал профессор, — всё обошлось!»
Она умёрла за обеденным столом.
Качнулась, как рябина:
— Ой! Что это?!
Я подхватил её и держал на руках до самого конца. Когда приехала скорая помощь, всё было кончено. Тромб. В заключении было написано «тромбоэмболия ветвей легочной артерии».
Потом были похороны. Какие-то чужие люди входили в дом, избегая моего взгляда, говорили соболезнования. Тошнотворно пахло хвоей и цветами.
Валентин Репин сказал:
— Сочувствую, рыба!
И скрипнул зубами.
Жанна Брынская вся в чёрном крепе подошла:
— Мужайся!
И нахмурилась.
Я им был рад — единственным из всей этой синдикатной компании, которая за глаза обсуждала судьбу Аллы Потёмкиной, и меня заодно.
Где-то рядом мелькали Вера Кокоткина, Испанов Роман Георгиевич, не было только Радия Каранды; я надеялся, что его не убьют до моего приезда, что ему хватил благоразумия на радостях не лезть в пекло.
После Троекуровского кладбища и речей на поминках, я сбежал из ресторана через чёрный ход. Охрана даже не дёрнулась. Мобильник я выключил, чтобы обошлись без меня.
Вера Кокоткина, шикарная блондинка с задорный носиком и с чёрными, воспалёнными страстью глазами, вообразила себе бог весть — взять меня измором в момент слабости. Я видел, как она выскочила следом, как будто её шилом ткнули в одно место; я прятался за вонючими мусорными баками; пробежалась туда-сюда, ища меня по запаху и закоулкам, и можно было представить, что произошло бы, найди она меня. Но она не нашла, и слава богу. С ней я чувствовал себя натянутым, как тетива, или тетеревом на шпажке.
Я знал, что больше никогда не увижу Аллу Потёмкину с её чудесным взглядом небесно-голубых глаз, копной блестящих волос и с абрисом скул, как у парфенонских богинь.
Я бродил из бара в бар, из ресторана в ресторан, куда-то мчался на такси, потом ещё раз и ещё, и ещё, и никак не мог понять, почему? Почему умирают все, все те, кого я любил? Я не мог понять алгоритма отбора. Временами мне казалось, что за нас кто-то издевательски подглядывает, предоставляя нам возможность копошиться до поры до времени, а потом делал роковой ход, и всё: плачь-не плачь, а горю не поможешь.
Наконец каким-то странным образом я очутился в том месте, где мы были последний раз были с ней вдвоём. Сердце моё сжалось: нельзя возвращаться туда, где ты был счастлив. Кажется, была полночь. Я не знаю, я не помню своего прошлого, думал я. Зашёл, выпил яблочной водки и искал, с кем бы сцепиться, но в будний день народа было мало, в основном трезвые до невозможности женщины лёгкого поведения, которым надо было ещё заработать деньги на жизнь, выскочил на свежий воздух и даже на какое-то время пришёл в себя.
В темноте, за елями, кто-то дрался и слушался приглушённый женский то ли вопль, то ли сладострастный стон.
Я подбежал, сунул не без удовольствия кулаком в эту мешанину. Вылез какой-то обиженный негр в бабочке и с красными прожилками в глазах, размахнулся на сто рублей, а получилось на копейку, потому что был пьяным, и я тоже был пьяным, но, в отличие от него, попал, потому что негр куда-то делся и больше не появлялся. Зато возник поменьше, юркий, как чёртик из табакерки, и мне пришлось изрядно с ним повозиться, пока и он не исчез из поля зрения. Но возникло ещё двое черномазых, как трубочисты, которые, однако, не приближались на расстоянии удара, и я гонял их по серебристым елям и снизу вверх и вдоль и поперёк до тех пор, пока они не запутались в кронах. Потом кто-то крикнул на ужасно прескверной ноте:
— Бежим!
И я сообразил, что, действительно, бегу с какой-то рослой, тёмно-рыжей женщиной, которая одной рукой азартно размахивает жемчужной сумочкой на длинном ремешке, а другой — тащит меня, как бульдога на привязи; вослед нам воют полицейские сирены, а женщина смеётся и смеётся, как заводная, однако, не бросая меня как зачинщика драки; и я оценил её благородство и понял, что ночь тоже заводная, а не траурная, как я её воспринимал сгоряча, и на какое-то время забылся, чтобы дать отчаянного стрекача и, кажется, разорвать карман о какую-то ветку.
На крайне тёмной улице мы поймали частника и понеслись на север, хотя в центр, на Кутузовский проспект, было ближе.
Женщина икала и смеялась, смеялась и икала. Я её толком не разглядел, и только когда мы выскочили на Рязанский проспект и стало светлее, я с удивлением узнал в ней Валессу Азиз.
— Мне надо выпить! — безапелляционно заявила она, как обычная уличная девка, а не королева эстрады; и сделала умоляющие глаза, чем меня ещё больше подкупила.
— Друг, останови, у какого-нибудь бара поприличнее, — попросил я.
Мы выскочили, кажется, где-то на Энтузиастов и побежали поперёк трамвайных рельсов. Было прохладно и сыро, рельсы блестели, словно катана. Со стороны Измайлова налетал ветер и тревожно качал деревья, небо было тёмным, синее, как стёганное покрывало.
— Ты знаешь, кого ты отоварил? — хихикнула она, как лисичка, на безупречном русском, да и поглядывала, как завзятая москвичка на лавочке с сигаретой в зубах, только сумочка и вещи на ней были в блёсках, эстрадными и несерьёзными.
— Нет, — признался я, плохо ориентируясь в этом районе, за исключением окрестностей одноименной станции.
— Лабу Макензи по кличке Быстрый мор!
Как будто мне это что-то говорило!
— И что?!
Меня качнуло, я едва удержался. Рядом, как стрела, пролетела машина, обдав нас брызгами.
— А ничего, — беспечно толкнула она ногой дверь в бар, кажется, какой-то «бочонок». — Потому и мор, что всех заморил уже до смерти! — выкрикнула она со смехом, стряхивая воду с одежды.
На нас оглянулись. Ещё бы: рослая, чрезвычайно красивая женщина с размазанной на лице косметикой, в рваных на коленях джинсах, простоволосая, как ведьма, но одетая, как принцесса, то бишь, весьма своеобразна даже для ночной Москвы, и её спутник в рваном же траурном костюм, в траурной рубашке и траурной галстуке. В общем, во всём том, во что сочла нужным облачить меня мой секретарша, то бишь Вера Кокоткина с задорный носиком и чёрными, воспалёнными страстью глазами. Мы походили на подвыпивших эстрадных артистов, сбежавших с вечеринки.
— Это такой большой? — спросил я воинственно, когда мы сели в самом дальнем краю стойки, подальше от любопытных глаз.
Народа было мало, бармен подал знак, что сейчас подойдёт.
— Маленький. А большой — это его друг. Ещё та жаба!
Из своей жемчужной сумочки на длинном ремешке она достала косметику и начала наводить макияж так, словно мы были любовниками и она давным-давно не стесняется меня и даже считает нужным приобщить к своим дамским привычкам, чтобы привязать крепче и надёжнее.
— А-а-а… — протянул я, словно что-то сообразил, а сам исподтишка наблюдал на ней. Нравились мне её манеры, особенно, как она проводила помадой по губам; напомнила она мне мою Наташку Крылову. Глаз нельзя было оторвать. — И что?
— А он найдёт и убьёт тебя! — зачем-то мстительно добавила она, поводя губами так, чтобы помада легла равномерно, и поправила на себе сиреневую кофточку в блёсках, с какими-то там рюшечками и складочками, за эстетизм которых я не отвечал.
Мстительно — чтобы сбить с толку, подумал я и упростился до безобразия, то есть всецело доверился ей, засунув чувство самосохранение себе в одно место — в самый глубокий карман, который имел на все случаи жизни.
Но Валесса Азиз и так была хороша, даже в съехавшей на плече кофточке, и я поймал себя на том, что неприлично долго, как, впрочем, и те из зала, пялюсь на неё.
— Отвернись! — потребовала она одним взглядом.
— Почему?
— А то я помаду проглочу! — агрессивно объяснила она.
— По-моему, он тебя бил, — напомнил я ей правду жизни и понял, что она меня раскручивает на азарте, если чисто инстинктивно — то это прощается, а если осознанно — то никакой жалости. Однако разобраться в её посылах я не успел, не дала она мне такого шанса, потому что была страшно возбуждена и суетлива, должно быть, нарочно. Есть такой приём — прятать свои чувства под камнепадом эмоций.
— Ага, — пьяно согласилась она, беспечно закусив накрашенную губу, — это мой продюсер! — и закатила глаза, как крайне иступлённая женщина в последней стадии отчаяния.
— Продюсер? — счёл возможным удивиться я, впрочем, естественно, абсолютно точно ей в тон.
— Ну да… — с изумлением посмотрела она на меня. — Он меня тоже убьёт, я ему сезон сорвала! — засмеялась на высокой ноте, сообразив, что я точно попал к резонанс её речей и мыслей. — Это куча денег! Что теперь будет?!
И лицо её ещё долго было удивлённым, редко ей, видно, удавалось разговаривать с мужчинами по душам, всё музыка, да музыка, такты, обертоны, вокализ и гармоники.
Подбежал бармен, воспринявший наш горячий разговор в своей адрес, потому что мы уже успели выяснить отношения до выпивки, а не после, как принято у всех страждущих мира сего.
Валесса Азиз потребовала:
— Холодной водки!
Я заказал себе коньяк.
Бармен даже не подал вида, что узнал Валессу Азиз, только, как снайпер, щёлкнул пальцами. У нас Казицкий, позывной Слон, так щёлкал, чтобы быстрее соображать. И помогало! Один раз он целый день держал под огнём шоссе в Степановке, пока не стемнело. Хороший был снайпер. Теперь на Дальнем Востоке живёт, рыбку ловит, войну вспоминает со слезой в стакане.
— Слушай, — вдруг зашептала она приятельски, — у тебя есть деньги?!
— Ну… в принципе… — пожал я плечами, мол, что за разговоры между своими, ведь ты же показала, как красишь губы, а это почти что стриптиз, вспомнив, однако, к месту, что на карточках у меня куча бабла и наличности в двух портмоне тоже, и кажется, в пылу сражения я умудрился потерять только одни из них, в котором были мелкие купюры.
С тех пор, как у меня появились деньги, я носил два портмоне: один с мелкими купюрами, а другой — тугой и толстый — с крупными. Когда мелкие деньги заканчивались, я перекладывал из одного портмоне в другой крупную ассигнацию, и всё начиналось заново.
— Помоги мне улететь?
— Куда?
Я-то надеялся на другой поворот истории, зря, что ли, я её обхаживал и дрался с неграми.
— В Америку! — Зашептала она мне ещё пуще, щекоча ухо. — В Америке он меня не найдёт!
— Кто? — тупо спросил я, думая совсем о другом, о её длинных ногах и груди, и какая она должна быть в постели — вёрткая, как ящерица.
— Лаба Макензи! Кто?! — фыркнула она, кажется, угадав мои мысли и нервически швыряя свои причиндалы в жемчужную сумочку. — Ты не бойся, я как только прилечу, я тебе вышлю!
— Я и не боюсь!
— Думаешь, из-за сладкой жизни я сюда приезжаю?
Я удивился:
— Я не думаю.
— Правильно, — оценила она. — Карьера давно коту под хвост.
— Поехали! — вскричал я, жалея её карьеру.
— Куда?! — удивилась она моей прыти. «А выпить?», казалось, вопрошало её насмешливое лицо, и она меня переиграла.
Мне сделалось смешно. У неё были искрящиеся карие глаза, но не восточного типа, а наши, русские, но всё остальное совершенно нетипичное, немордовское, не татарские и не чувашское, а чёрт знает какое. И я вспомнил, что мне говорила о ней Инна-жеребёнок с малахитовыми глаза и копной русых волос: отец — бербер, мать — русская, и что она коренная москвичка, но живёт в США.
— На вокзал! — я слез с табуретки.
Она посмотрела на меня, как минимум, с иронией: испугался Лабу Макензи по кличке Быстрый мор?
— Он уже меня везде рыщет! — Постращала она меня сверх меры.
— Ну и что?
Я представил необъятную Москву и едва не рассмеялся страхам Валессы Азиз. Здесь всю жизнь можно прятаться, но, разумеется, не Валессе Азиз, уж её точно вычислял в течение трёх суток.
— И в аэропортах — тоже! — назидательно сказала она, словно ставила мне в укор.
— Что он у тебя, бог, что ли? — удивился я в противовес её нервическому состоянию.
— Ты даже не представляешь, какие деньги он платит «крыше»! — попыталась она меня огорошить.
— Не представляю, — сказал я и подумал, не везти же её в Донецк, хотя в Донецке Лабу Макензи закопают живьём за одно только то, что он за бандеровцев и вообще, за весь гнилой западный мир.
Мы горестно помолчали, понимая безвыходность ситуации. Подошёл бармен и попросил у Валессы Азиз автограф.
— За счёт заведения, — сказал он и наполнил наши рюмки. — Это для нас честь!
Она попросила, как пай-девочка, у которой закончились сигареты:
— Отвези меня хоть куда-нибудь, дорогой. — И положила мне руку на плечо.
— Куда? — подумал я вслух, чувствуя её запах. — В Ростов, разве что?
— Давай, в Ростов, — радостно кивнула она и убрала руку. — О Ростове я и не подумала!
Истерика её прошла, глаза высохли. Но я всё равно удивился: после всех перипетий энергии в ней было, как в пороховой бочке.
— Поехали! — сказал я, разминая ноги.
Мне не терпелось. Было полпервого ночи.
Мы выпили ещё по одной за счёт заведения и вымелись наружу. Она бежала впереди. Я посмотрел: у неё было шикарный зад и вообще, фигура что надо.
Какого чёрта? — подумал я и вдруг понял, что началась новая жизнь, совершенно мне не изведена, мне сделалось легко и просто, как будто не я, а кто-то другой похоронил сегодня Аллу Потёмкину.
Мы поймали такси и понеслись в Тушино. Нас долго сопровождал купол храма Христа Спасителя. В дороге я, кажется, бесстыдно уснул, впрочем, Валесса Азиз — тоже.
* * *
— Есть рейс на двадцать три тридцать в Лас-Вегас, на завтра? — я вопросительно посмотрел на неё.
Чёрт возьми, мне хотелось, чтобы она осталась, чтобы ходила здесь, заполняя всё это пространство, и Химкинский лес, и небо над ним, однако, я понимал, что она не моя, не наша, не московская, дух у неё другой; рано или поздно её найдут бандитствующие музыканты, и чем дело кончится, одному богу известно. Можно, конечно, было найти Жору Комиссарова, но это было рискованно, потому что я не знал расклад сил, кто стоит за Лабой Макензи по кличке Быстрый мор. Может, он Жору Комиссарова заодно тоже упрячет. Надо было рассчитывать только на себя, поэтому время играло против нас.
— Бронируй! — оживилась она, появляясь из душевой в моём сине-белом халате с якорями, вся из себя, как точёная ножка для стола, и даже халат не портил её фигуры, только ступни были большими, я привык к маленьким, аккуратным, как у японок.
— Туда пилять шестнадцать часов, — сказал я, прижимая трубку к животу и ловя взглядом её бедро, мелькающее между полами халата.
— Сколько? — переспросила она бесстыдно, словно не замечая моего взгляда.
— Шестнадцать, через три часа надо выезжать, — посмотрел я на часы, потом — на тёмное окно, за которым собиралась гроза.
Она сказала:
— Ещё целых три часа! Бронируй, и ложимся спать!
Я забронировал и пошёл чистить зубы, с удивлением обнаружив, что у меня горлом идёт кровь. Немного, правда, пара-тройка капель, но всё равно было неприятно. Видно, в драке осколок всё-таки шевельнулся, хотя до лёгочной артерии и не дотянулся.
Я посидел на краю ванной, представляя, как он ждёт своего часа там, во влажной, розовой плоти, сплюнул ещё пару раз в раковину, кровь стала бледно-розовой. Решил, что на сегодня хватит, пошёл нырнул в постель, как в облако, в надежде выспаться, но пришла она, царственная, словно богиня, и сказала:
— Чтобы ты не забыл меня, дорогой…
* * *
Было ещё тёмно. Мы ещё успели выпить кофе. Я подошёл к окну. Внизу, под фонарём, одиноко, как наша жизнь, блестел асфальт.
— Я спущусь за машиной, — сказал я, чувствуя бодрым из-за адреналина, бушующем в крови, — а ты встанешь вон там, на углу.
— Где? — она доверчиво прижалась, обдав меня запахом, в которому я так и не успел привыкнуть.
Мне казалось, что если мы замешкаемся ещё на полчаса, нас окружат со всех сторон и возьмут тёпленькими.
— Лучше, если мы не попадём на камеры, — сказал я, хладнокровно целуя её в шею и кромсая мысль о экспесс-сексе на мелкие кусочки, иначе бы мы точно опоздали.
Я не хотел, чтобы она зря нервничала. Чёрт знает, какие возможности у этого придурка, Лабы Макензи по кличке Быстрый мор, может, он уже пол-Москвы на уши поднял?
— Да, лучше, — бодро согласилась она, беспечно закусив губу, и величественно пошла, роняя с плеч халат, в спальню, чтобы крикнуть оттуда: — Делай так, как тебе нравится, дорогой!
Я удивился, что она безоговорочно доверяла мне; я и раньше так не мог, а сейчас — подавно.
Кажется, они всё-таки прониклась мыслью о том, что надо спешить, потому что вышла ровно через минуту в своих рваных на коленях джинсах, в моей белой рубашке с монограммой фирмы «АР» (эту рубашку подарила мне Алла Потёмкина) и в кожаной куртке, которая была ей чуть великовата, это придавало ей шарм, и она походила на героиню вестерна, не хватало только револьверов на ремне, хотя фирменная монограмма была из другой оперы.
Я сказал, делано зевая, чтобы скрыть свои чувства:
— Возьми ещё мою кожаную бейсболку.
— А можно? — вспыхнула она, словно угадав мои мысли.
— Конечно, — так же великодушно сказал я.
— Я давно её приметила, — призналась она, надевая её и пряча под неё свои шикарные рыжие волосы.
Волосы у неё пахли имбирем, корицей и мускусом, я ещё ночью заметил. Странное сочетание запахов в одном флаконе.
Уже на выходе из квартиры мой взгляд упал на сумку Радия Каранды, и я подумал, что фальшивые номера могут пригодиться, если нас действительно разыскивает Лаба Макензи по кличке Быстрый мор. Чем чёрт не шутит? Вдруг у него «гаи» прикормлено, тогда мы даже до МКАДа не домчимся.
Я страшно нервничал, я не хотел, чтобы нас приняли бандиты на выходе из квартиры. Однако всё обошлось.
Мы спустились на лифте с тридцать седьмого этажа, словно бесконечно долго прощаясь друг с другом, хотя мы начали это делать ночью ещё в постели.
— Я буду думать о тебе, дорогой, — сказала она абсолютно фальшиво, не так, как, например, лицемерно Инна-жеребёнок с изумрудными глазами, которая только и думала о том, как затащить себя в постели нового мальчика, а намеренно фальшиво, или я был просто тоньше настроен, но, подумал я, именно, что очень фальшиво, фальшивее не бывает. Как ни странно, меня это даже не покоробило. Подумаешь, будет о чём вспоминать, пока не найдёшь ту единственно верную формулировку, которая удовлетворит тебя, и тогда ты успокоишься.
— Ты хоть скажи, где ты живешь? — спросил я, чтобы всё перевести в шутку и было не так страшно.
Но она неожиданно восприняла всерьёз:
— В Сан-Франциско. Приезжай, дорогой!
Её амплитуды от фальши к искренности удивили меня. Я понял по тону, что чем-то её задело. Может быть, деньгами? Ещё вчера я дал ей десять тысячи долларов. Она сказала, что много. Я сказал, что возвращать не надо, и она поняла, что, действительно, не надо. Значит, не деньги. А что тогда? Неужели мой рубильник, которым восторгалась Наташка Крылова, и который так нравился доброй половине Москвы?
— Сан-Франциско!? Это далеко! — сказал я, так ничего и не придумав и решив, что это производная от сентиментальности.
— Приезжай, я буду ждать, — схватила она меня за руку сжала её.
Пальцы у неё были длинными и холодными. И это тоже был знак прощания, и мне показалось, что я начал её понимать: к чему придумки, пусть будет всё так, как есть, не надо лицемерить.
— Вряд ли, — сказал я и удержался от того, чтобы не рассказать её, куда и зачем я навострил лыжи; она бы не поняла; что для неё наши войны, не более чем заметка в газете.
Точнее, я рассказал, но мысленно, и этого было достаточно, чтобы я принял верное решение не возвращаться в Москву, а сразу же махнуть в Донецк, где теперь воевал Радий Каранда.
Я не знал, замужем ли она? О детях, конечно, ничего не спросил. К чему? Весь наш легкомысленный роман ни к чему не обязывал и подразумевал быстрое расставание. Ведь и она тоже обо мне ничего не расспрашивала, словно у меня не было этого самого прошлого и я явился ниоткуда, с Марса, наверное?
На первом этаже она вышла, я опустился на нулевой и прошёл так, чтобы знакомый охранник не обратил бы на меня лишнего внимание, а в случае чего успел бы вызвать патруль, но на парковке ничего не случилось, не вычислили нас за ночь, и слава богу. А может, всё это женские фантазии? — подумал я, бросил сумку на заднее сидение и выехал в дождь.
Когда я увидел её под фонарём, то понял, что этого тоже уже никогда не повторится: ни ночи, ни грозы, и что уж точно мы никогда не увидимся, а ещё я подумал, что гипотетические бандиты ужасно опаздывают.
Она прыгнула в машину и пошутила:
— Я думала, ты меня бросил.
Я ничего не ответил, с деньгами она бы не пропала; завернул за угол, где было тёмно и не было камер, и поменял номера. Пистолет, о котором я уже забыл, я вытащил из кобуры и сунул в карман куртки.
Валесса Азиз ничего не сказал, казалось, она всё поняла; видать, она тоже ни раз ходила по кривым дорожкам у себя в Америке.
Мы помчались дальше. Через пять минут мы были на МКАДе. Через два часа с хвостиком — в Туле. Дождь хлестал, как из ведра. На небо было страшно смотреть, казалось, тучи истирают землю с порошок. Пора было светать, однако, было тёмно, как ночью, и только свет фар разрезал помпейскую мглу, и оранжевые отблески дорожных фонарей заворачиваются тебе вслед, как клубы дыма от костра.
— Мы уже приехали? — проснулась она.
Она сидела, укрывшись пледом, и рыжие волосы выбивались у неё из-под бейсболки.
— Нет, ещё рано, — ответил я, — спи, и какая-то тихая, сонная и молчаливая деревня пролетела мимо, как пушечное ядро.
К одиннадцати часа слегла посерело. Фуры, проносящиеся навстречу, походили на глазастых чудовищ в ореоле брызг.
Ещё через полчаса я затормозил у придорожной гостинцы, надо было размяться и что-то выпить.
— Тебе лучше не выходить, — сказал я и пробежал в забегаловку, нагибаясь, как во время обстрела.
Зал был пустым, только в дальнем углу сидела мокрая парочка из красной «хонды». Мне показалось, что нам везло: внутри даже не было видеокамер. Поэтому я вернулся и позвал Валессу Азиз:
— Идём, там никого нет.
Мы сели у запотевшего окна и заказали по двойному чизбургеру и по большому кофе.
— Совсем, как у нас дома, — бездумно-радостно сообщила Валесса Азиз и вцепилась в булку зубами, словно кошка в мышонка.
Бейсболку она сдвинула на затылок, её рыжие волосы выбились и упали ей на плеч, и я подумал, что там, у неё в Америке, я буду беситься из-за таких фраз. Фактически, в Донбассе, Америка воюет с русским народом, поэтому в Америке мне делать было нечего.
Мы заказали ещё обед с собой, прыгнули в машину и помчались дальше.
Один раз мы остановились, чтобы заправиться, второй — чтобы облегчиться и размять ноги. Светлый полдень в тот день так и не наступил, и мне казалось, что нам везёт: какой гаишник вылезет в такую непогоду на трассу?
* * *
А потом уже, в Ростове, в начале следующей ночи, я лишний раз убедился, что я ей не нужен, что у неё в Америке другая жизнь, лучше или хуже, но другая, не похожая на мою, и поэтому сказал, когда мы уже сидели в виду аэропорта, и его весёлые огни совсем не портили наше расставание.
— Жаль, что я не смогу к тебе приехать.
— Почему, дорогой?
Казалось, это её волнует в самом деле. Но я-то знал, что душой она дома, где не знаю, наверное, там, где уютно и тепло и где плещутся волны Тихого океана.
— Что я буду там делать с моим русским?
Она не поняла и посмотрела на меня серьёзно.
— Выучишь, дорогой! Получишь какой-нибудь грант, станешь каким-нибудь лауреатом! Вернешься и сделаешь здесь всем козью морду! Так всегда происходит. Россия любит русскоязычных авторов из-за бугра!
Кажется, я в такт покривился; она — тоже, принимая мой скепсис.
— Ладно, — согласился я. — Но я всё равно не приеду.
Однажды я рассмеялся в глаза главному редактору журнала «Za-Za», Евгении Жмурко, которая предлагали мне иммигрировать в Германию. Не скажешь же Валессе Азиз, что у тебя другие планы на жизнь. Быть может, даже смертельно опасные. Мне не хотелось, чтобы она в своей Америке думала обо мне, как о покойнике. Рано или поздно все так начинают думать, когда от человека не приходит весточек. А первое время мне вообще будет не до интернета.
— Приезжай лучше ты, — сказал я.
Она сделала свирепое выражение на лице, и я понял, что виной всему Лаба Макензи по кличке Быстрый мор, что если бы не он, она бы с удовольствием осталась бы, чтобы кувыркаться недели две в моей постели.
— Я буду тебя ждать! — сказал она, неожиданно скорбно закусив губу.
Почему-то эта её привычка сводила меня с ума.
— Ты играешь со мной? — спросил я, почему-то слегка разозлившись на себя.
— Нет, дорогой, — сказала она убедительно, — я просто тебя чуть-чуть люблю.
Впору было рассмеяться, но мне было не до смеха.
— Любишь?
И я не дал себе даже шанса поверить ей; я был хорошо обучен этому мастерству, у меня был хороший учитель — целая жизнь на войне, на госпитальной койке и год в Москве, поэтом у меня всё получилось даже без душевных потерь.
— Да-а-а… вот здесь, — она показала на сердце, — много, много нежности, — она снова закусив губу вовсе не бессердечно, как обычно, а оценивающе обстановку, аэропорт, звуки самолётов, идущих на посадку, или, наоборот, взлетающих; и в душе у меня всё тоскливо сжалось.
— Иди… — сказал я, демонстративно посмотрев на часы.
— Вспоминай меня только хорошо, — сказал она и чмокнула в щёчку.
Я хотел, чтобы у нас был долгий и сладостный поцелуй, но она вывернулась ловко, как белка из рук, не желая прощаться бесконечно долго и тем самым невольно упрекнув меня в пошлости, подхватила свою жемчужную сумочку на длинном ремешке, хлопнула дверью и уже шла в темноте поперёк дороги в сторону огней аэропорта. Бейсболку она оставила на сидение.
И вдруг я понял, что это самая распоследняя, великая обманщица в моей жизни! Больше не будет. Я в этом был уверен.
Вначале фигура была освещена, потом сделалась тёмной, потом пропала, потом снова появилась. И всё. Словно ничего и не было.
Так и не оглянулась. Зачем? Мы оба уже привык к таким метаморфозам, и мне страшно захотелось выпить. Ночное небо было тёмным и дождливым, на его фоне взлетающие самолеты казалось огромными, мрачными жуками. Ни один гаишник в такую погоду не высунется, подумал я и вспомнил о баре-гадюшнике на повороте в сторону Донбасса.
Я поставил машину за фурами так, чтобы не было видно номеров, и вошёл в бар. Народа было не так уж много; я взял двести водки, пива, сёмги и чёрного хлеба. Мне не хотелось сидеть в сыром помещении, я вышел на веранду, под дождь и ветер, и занял одинокий столик в углу, где плющ вил свои стебли.
Водка подействовала сразу, но на душе стало только хуже, можно было взять ещё, но тогда бы я напился, а ещё надо было выйти на шоссе Чантырь-Покровское, и даже пройти таможню в Мариновке. Я пил пиво, закусывал сёмгой и думал о Валессе Азиз, о том, что так и не привык к потерям. Свежий ветер налетал из степи и бодрил голову.
— У Украины только один патрон! — кто-то кричал внизу и неумело матерился по-русски.
— И этот патрон мы им сами вложили в руки! Ха-ха-ха!
Я вяло слушал, пока узнал его. Так замысловато мог выражаться только один человек — рыжий Алик Юхансон из «Дойче Прессе-Агентур»; и фраза была его коньком, фирменным знаком, дальше, в зависимости от того, с кем говорил, он добавлял следующее: «Чтобы застрелится» или «Чтобы уложить Россию на обе лопатки».
Сейчас он, видно, общался с соотечественниками, потому что закончил фразу так:
— Чтобы уложить на обе лопатки!
Мне стало дюже интересно. Гад, подумал я, что он здесь делает, а главное — почему ничего не боится? А потом понял, что он говорит по-английски, а я в своё время наблатыкался, когда общался с подобной сволочью в Донецке. Он хоть и прикидывался своим журналюгой в доску, но был дьявольски хитёр, и мы с Борисом Сапожковым подозревали, что это он передает левые репортажи «из осиного гнёзда повстанцев», так кто-то подписывался инкогнито в интернете, больше некому. А здесь, видно, обмишурился среди своих, расслабился на радостях, что летит домой, к жене под юбку. И мне словно ответили рефреном; сам вопрос я пропусти, потому что он был задан по-английски, но, похоже, для того, чтобы узнать, куда навострил лыжи Алик Юхансон.
— В штаб-квартиру в Гамбурге, — услышал я его ответ по-английски.
«ДПА» — можно было смело считать филиалом ЦРУ, это было известно всем, кто писал на политические темы или просто слушал краем уха интернет.
— А что это такое?
Тот, кто сидел напротив Алика Юхансона, сухой, лысеющий блондин с тонкой кожей на черепе, протянул руку, взял вещицу, и она блеснула в свете фонаря жарче солнца.
Меня, как током, долбануло. Я узнал жетон Ефрема Набатникова, позывной Юз.
— Трофей редкостный! — нехорошо засмеялся Алик Юхансон.
Он так быстро адаптировался к нашим условиям, что одинаково комфортно чувствовал себя и в подобной забегаловке, и на официальном приёме в администрации Донецка. Многие из наших воспринимали это как широту иностранной души, и готовы были с ним по-братски пить водку, но мы с Борисом Сапожковым его сторонились.
Мне стало трясти, как после операции, когда я отходил от наркоза; я заглянул через перила. Один только Ефрем Набатников на всем фронте додумался сделать жетон из чистого золота. Там ещё должны были быть его инициалы. Правда, был ещё крохотный шанс, что это просто совпадение, Алик Юхансон любил прихвастнуть, а потом ходить лапчатым гусём и морочить наверху людям голову. Я знал, что город Ростов — это ворота шпионов в Донбасс, но не до такой же степени. Должно быть, Алик Юхансон сидел в ожидании утреннего рейса, чтобы не мозолить глаза пограничникам и спецслужбам, и напивался за счёт любителей баек. Должно быть, они прилетели на смену Алику Юхансону и поили его за это, и он на радостях разошёлся не на шутку.
— Мне эта штучка обошлась в сто долларов, — сказал он с пренебрежением.
— Дёшево, — сказал кто-то из них.
— Здесь всё дёшево, — насмешливо согласился Алик Юхансон, — если не знать, чей это жетон.
— И чей же? — спросил второй, с шевелюрой, грузный и с животиком.
— Майора! Я его самолично…
— Что?..
— Пытал! — высказался Алик Юхансон.
— Ты здорово рисковал, — осторожно сказал сухопарый, лысеющий блондин и с волнением посмотрел на грузного, с животиком.
Грузный, с животиком тоже заволновался, но махнул рукой: пронесёт! Было видно, что сухопарый, лысеющий блондин ему не поверил, и вообще, он занервничал.
— Об этом никто, кроме вас не знает! — вызывающе засмеялся Алик Юхансон, глядя на них. — Они там наивны, как дети! Их легко обвести вокруг пальца! Сами увидите!
— Мы слышали другое, — сказал сухопарый, лысеющий блондин.
— Я же живой! — насмешливо укорил их Алик Юхансон и многозначительно замолчал на высокой ноте.
— Мы посмотрим, — осторожно грузный, с животиком.
Я дождался, когда собутыльники Алика Юхансона встанут и, пожав ему руку, удалятся, как они сказали, спать в гостиницу, а Алик Юхансон, пошатываясь, отправится туалет.
Я не знал, есть ли в баре-гадюшнике видеокамеры, поэтому действовал крайне осторожно. На этот раз патриархальность наших отхожих мест сыграла мне на руку: видеокамер, действительно, не было; рейсовых автобусов тоже не было, и я почти ничем не рисковал, лишь надвинул на глаза козырёк бейсболки.
Алик Юхансон настолько был уверен в своей безопасности, что даже не закрыл кабинку, и эта байка о том, что везёт только пьяным, оказалась не про него. Я ударил его в спину со всего маху. От такого удара человек на несколько секунд теряет ориентацию и у него останавливается дыхание.
Я вытащил у него из кармана золотой жетон и убедился в наличие на нём инициалов Е. Н. и в личном номере Ефрема Набатникова. Номер у Ефрем Набатников, позывной Юз, заканчивался на цифру двадцать пять, у него на Университетской была квартира номер двадцать пять.
Я подумал, что если бы жетон оказался не Ефрема Набатникова, а поделкой, то извиняться бы всё равно не стал хотя бы за услышанный разговор и за пренебрежение к нашей борьбе.
Я сорвал с Алика Юхансона куртку и заткнул ею сливное отверстии в унитазе, а потом спустил воду, и она поднялась почти до краёв.
Потом я поднял его и бережно обмакнул. Он закашлялся и сделал глубокий вдох, словно вынырнул из глубины. После этого забился, как рыба на берегу, пытаясь ухватить меня за ноги. Но я держал его крепко. Пистолет в кармане придавал мне уверенность.
— Откуда у тебя жетон?! — спросил я, приподняв его, как тряпку.
— Какое тебе дело? — прорычал он, но даже не успел закончить свою речь, я снова погрузил его в унитаз и подержал подольше.
Унитаз оказался его лучшим другом, он обнимал его с небывалой нежностью, он любил его пуще жены и детей в благословенной Швейцарии, которая, кстати, не воевала на стороне укрофашистов, но посылала сюда своих шпионов, чтобы убивать нас исподтишка.
Потом я его вытащил.
— Откуда?! — снова спросил я.
Он не понял ситуации, но протрезвел и сообразил, что его элементарно утопят здесь в нищебродной, как он любил выражаться, России.
— Я скажу, я всё скажу! — заверил он, мотая головой, как собака, вылезшая из озера.
Я перевернул его, чтобы лучше видеть его лицо. Он узнал меня, это внушило ему надежду, что я только балуюсь ради удовольствия лицезреть его ликующую физиономию, шучу по старой дружбе, что отпущу его, и он улетит в свою Швейцарию или куда ещё там, чтобы гадить оттуда на нашу страну.
— Я агент Интерпола! — заявил он самоуверенно, полагая, что я сделаю по стойке смирно и освобожу его под американские фанфары на все четыре стороны.
Но на этот раз он ошибся, хотя решил, что мы наивны, как дети, и что нас легко обвести вокруг пальца!
Я встряхнул его и показал взглядом на унитаз.
— Я понял, — упёрся он ладонями, — я всё понял!
— Говори!
— Мы выслеживали его три недели… — начал он деловито от печки.
— Кто «мы»? — прервал я ход его мыслей.
— Я, и три придурка из Киева, — поглядел он на меня, как будто слово «придурки» давало ему какой-то шанс уйти отсюда живым и здоровым.
— Фамилии придурков!
Он назвал их: Петров, Иванов, Сидоров. Липа, чистой воды, но откуда иностранцу знать об этом?
— Дальше! — встряхнул я его, чтобы он не очень-то обнадеживал себя.
— Его предала его подружка, — обрадовался возможности услужить Алик Юхансон. — Хитрый гад. Ни разу в одном месте дважды не ночевал.
— Кто?! — прервал я ход его мыслей.
— Не знаю! — дико повёл он глазами.
Я спустил воду. Она полилась через край.
— Жела Агеева… — выдал он через силу, быстро сообразив, что она стала опасной свидетельницей.
— А-а-а… это такая голенастая шатенка? — Вспомнил я её.
Грубая, мужеподобная женщина с большим лицом. До этого Ефрем Набатников увлекался миниатюрными женщинами, которые боготворили его, а с Желой Агеевой ошибся как минимум на цену жизни. Сводить счёты с ней я не собирался, меня это не касалось, пусть этим занимаются спецорганы.
— Ага, — через силу кивнул Алик Юхансон, — за две тысячи баксов! Я больше ничего не знаю!
— А жетон?
На всякий случай я дал ему шанс умереть мужчиной. Они ничего не понял. Я бы просто его придушил о край унитаза, если бы он признался, что самолично убил Ефрема Набатникова.
— Жетон я подобрал. Я ничего не знаю!
— Врёшь! — сказал я.
— Нет! — всё понял он и засучил ногами. — Это я им соврал, — он мотнул головой в сторону веранды, — чтобы они меня боялись!
— Зачем?
— Страх — это деньги. Чем больше о тебе говорят, тем больше платят! — признался он.
— Я слышал, что ты его пытал?!
— Нет! — заёрзал он, как на сковороде.
— Куда вы его отвезли?! Куда?!
— Я не знаю! Я ничего не знаю! Это всё они, я ни при чём!
У него началась истерика. По лицу потекли слёзы. А может, это были капли воды. Как разница.
— Где его труп, скотина?
— В водозаборе второго ставка! — заорал он, но ему никто не пришёл на помощь.
Я ударил его о край унитаза, чтобы он не рыпался, и сунул головой в воду; он не хотел умирать и барахтался бесконечно долго, потом вдруг затих.
После этого, я обчистил его карманы и вышел из туалета. Решат, что это ограбление. Жетон я тоже взял на память, чтобы показать Радию Каранде.
* * *
Чёрт меня дёрнул включить мобильник. Я, конечно, ожидал, что там водопад Ниагара, но реальность превзошла все ожидания. Больше всех оставила сообщений Вера Кокоткина, до самого первого из них я так и не добрался, хотя перематывал ленту минут десять.
Я отправил ей смску, что жив-здоров и буду через три дня. Испанову я позвонил из уважения. Он понял меня лучше других, всё-таки смерть жены, это очень уважительная причина, и тотчас оставил меня в покое, главное, что я жив. Дольше всех пришлось объясняться с Вдовиным. Оказывается, вторые сутки меня разыскивает нотариус по наследству и что завтра с семнадцать мне нужно быть в такой-то нотариальной конторе для вскрытия «закрытого завещания»; и что всё очень и очень серьёзно.
Я подумал, что если сбегу сейчас в Донбасс, это будет нечестно по отношению к Алле Потёмкиной и к моему недавнему прошлому, в котором ещё существовали Репины: Валик и Жанна. Поэтому развернулся и опричь души поехал в Москву. По пути я купил десятка два пакетиков растворимого кофе, три огромные плитки шоколада и пару бутылок газированной воды. По моему военному опыту два-три пакетика кофе «три-в-одном» безотказно действовали три часа, если ты смертельно устал. Но после расставания с Валессой Азиз и выяснения отношений с Аликом Юхансоном, во мне было столько адреналина, что я доехал бы до столицы на одном дыхании, однако, рисковать не стал.
Я благополучно проскочил два-три дождя и, не доезжая Воронежа, съехал с трассы, поменял фальшивые номера на настоящие, а фальшивые бросил в ближайшую речку. Достал пистолет, с сомнением посмотрел на него, но решил, что он может ещё пригодиться. Сунул его в багажник и поехал дальше.
* * *
Я приехал в час дня. Мне хватил ещё сил вымыть машину на автомойке, подняться в квартиру и рухнуть в постель.
В три час дня я был как стёклышко, трезвым и полным сил. Адреналин сделал своё дел. Я вызвал такси и поехал в нотариальную что на Тверской, там я к своему удивлению обнаружил Романа Георгиевича и Вера Кокоткина.
— Я испугался за тебя, — тихо, чтобы не слышала Вера Кокоткина, выговорил мне Роман Георгиевич. — Женщину нельзя так самозабвенно любить!
— Я больше не буду, — кротко пообещал я, теперь-то понимая многое из того, что он не договаривал.
Роман Георгиевич погрозил мне пальцем, мол, всё хорошо в меру, но творчество превыше всего, а всё остальное, и любимые женщины в том числе, уже потом. Я сделал вид, что абсолютно согласен с его доводами.
Вера Кокоткина оттащила меня к пыльному окну и огорошила:
— Я развелась с Зыковым!
— Зачем?! — неподдельно удивился я, ощутив себя чем-то ей обязанным.
— А ты не догадываешься?!
— Давай не усложнять, — намекнул я на то, что нас ждёт нотариус, — а потом тихо-мирно поговорим.
И нас позвали в кабинет.
Оказывается, Роман Георгиевич и Вера Кокоткина были приглашены в качестве свидетелей, потому что исполнили такую же роль, когда Алла Потёмкина регистрировала «закрытое завещание».
Нотариус вначале вскрыла один конверт, из которого извлекла другой, вскрыла его и зачитала:
— В случае моей смерти завещаю все движимое и недвижимое имущество, а также все ценные бумаги и акции Басаргину Михаилу Юрьевичу. Распишитесь, — сказала нотариус.
Я расписался. Получил какие-то бумаги и вышел из конторы слегка ошалелым. Когда и как Алла Потёмкина нашла время, чтобы оформить завещание, так и осталось для мне тайной.
* * *
С мыслью, что человеку, в общем-то, не так уж много надо, я с чистым сердцем решил отдать моим москвичам всё, пусть забирают, им нужнее, иначе они не выживут, будут скулить всю оставшуюся жизнь, ещё в колбасники подадутся. Теперь у них появится столько возможностей для самовыражений, что они погрязнут в них, как в болоте. Не скрою, с моей стороны, это была тайная месть за их снобизм и за право выбора жить внутри МКАДа. Может быть, после этого они будут счастливы?
Для того, чтобы оформить нужную юридическую процедуру, нужно было присутствие Жанны Брынской. Я приехал к ним и застал её в слезах в абсолютно голой квартире со следами человеческих когтей на стенах. К её слезам я привык, но голые стены подействовали на меня угнетающе, следы когтей — ещё хуже. Похоже, Валентин Репин ел побелку.
— Валик меня бросил, — сказала она бесстрастно, как говорят о утерянном едином проездном. — Я приехала, а его нет.
— Откуда?
— Что?
— Откуда приехала? — уточнил я.
— Из Ялты.
— А-а-а… — сказал я, подразумевая, что они давно разбежались даже по разным курортам.
На её больно было смотреть, она все глаза выплакала, и теперь они у неё были сухими, как пустыня Сахара.
Валентин Репин вывез буквально всё, вплоть за дешевых часов, от которых на стене сохранился тёмный след. Я понял, что это месть. Какая? Мне было всё равно. Месть — она есть месть.
Из мебели на кухне остался один колченогий стол, на котором лежал круг колбасы.
— Я ужасно голодная, — призналась Жанна Брынская. — Но у меня нет даже ножа, я просто смотрю, как она лежит на столе и пускаю слюни.
Я сходили в магазин, купил малый туристический набор, хлеба и бутылку шампанского.
Жанна Брынская поела и заявила:
— Я пить не буду!
— А это не тебе?
— А кому?
— Твоему счастью.
— Какому ещё счастью? — печально вздохнула она и по инерции потянулась за мокрым платком.
— Мы едем к нотариусу, я хочу передать тебе фирму.
— Какую фирму? — спросила она так же печально во слезах.
— «Аптечный рай» и всё прочее, — сказал я так, чтобы она прониклась наконец и перестала рыдать.
— Мне этого не нужно, — вздохнула она.
— Купишь Валику кинофирму, — сказал я всё тем же голосом.
Они посмотрела на меня отсутствующим взглядом, потом в нём зажёгся интерес, потом, ей богу, в пространстве что-то щёлкнуло. Я даже выглянул в коридор, а когда вернулся, она наконец сообразила, что муж-то наверняка вернётся, как собака за старым ошейником.
— Поехали! — наконец встрепенулась она и побежала в спальню.
— Паспорт не забудь! — крикнул я.
— А он вернётся?! — оживилась она ещё больше.
— Какой дурак откажется от собственной кинофирмы, — рассмеялся я цинично. — Это надо быть Львом Толстым, чтобы отказаться от благ цивилизации. Валик же не такой?! — добавил я ещё более цинично.
— Это точно! — видно, просияла она, но с каким-то подвохом, которого я не понял, но меня это, слова богу, не касалось. Я лишь подумал, что Валентину Репину крупно повезло с женой: другая бы обрадовалась, привела бы любовника, а эта слёзы льёт и от денег отказывается.
— Сделаешь его продюсером, — посоветовал я.
Она хихикнула из спальни, и я понял, что моментально принялась строить планы на жизнь, и слава богу.
— Будет режиссурой занимается, — сказал она, выскакивая в коридор и обуваясь, одновременно подкрашивая губы. — Это доходнее! Поехали!
Я переписал на её имя все акции всех фирм, дом на Рублевке и усадьбу в Альгаве и заплатил все налоги. Чего я не видел в этой Португалии, зачем мне эта дача? — думал я.
Реакция последовала незамедлительно: в ту же ночь, вдруг позвонил Валентин Репин и ни здрасте, ни полздрасте заявил обычным своим грудным прононсом:
— Я не ожидал от тебя такого свинства!
— Какого? — спросил я, зевая.
Надо было выключить мобильник, но я свалял дурака, хотя знал характер Валентина Репина перевертывать всё на сто восемьдесят градусов.
— Ты зачем так сделал?!
Я услышал, как далеко внизу, как будто в Донецке, пробежала машина, видно, военный тягач, потому что дом содрогнулся.
— Как? — спросил я, заводясь с пол-оборота, потому что вспомнил его выходку с больнице и не хотел больше ничего знать обо всех его последующих выходках, даже если они будут носить абсолютно безбашенный характер.
— Специально?! — повысил он тон.
— Что «специально»?
— Отдал ей всё! — раскрыл он карты.
— А кому ещё отдавать?! — сообразил я, не Годунцуву же и не Лере Плаксиной?
— Ты окончательно её испортил! — всё ещё держал он равновесие.
— Кого? — Я понял, что Валентин Репин отлично знает, что такое хорошо, а что такое плохо, и беззастенчиво пользуется этим в зависимости от ситуации.
— Жену мою! — закричал он в трубку так, когда рвутся голосовые связки. — Теперь она мне проходу не даёт!
Хотел я сказать, что правильно делает, но сдержался.
— В смысле?
Мне надоел разговор. Я крепился из последних сил.
— Делает меня вице-директором! — страшно опечалился он. — Со всеми вытекающими отсюда…
Он что-то начал говорить о горах и свободе выбора, кино приплёл, Козинцева. При чём здесь Козинцев? Уж он бы покривился от его речей насчёт свободы выбора. А потом сообразил, она его специально закабаляет, чтобы он наконец почувствовал вкус больших денег и перестал мечтать о пустопорожнем, например, о Монике Беллуччи, и что личной киностудии ему не видать, как собственных ушей, потому что на свободе, по мнению Жанны Брынской, он начинает чудить и глазеть по сторонам, какие там крутобёдрые бабы вертятся и метки в пространстве оставляют.
— Соглашайся, Валик! — посоветовал я устало, укрываясь от собственных мыслей по ноздри одеялом.
В час ночи, когда за шторами ещё тёмно и сыро, ты плохо соображаешь, чего от тебя хотят даже друзья.
— А кино?! — решил он, что я его по старой привычке пойму. — А кино!!!
Горы так и не сделали из него мужчину, этого не удалось даже Жанне Брынской, хотя она очень и очень старалась долгие годы, и непосредственно сентиментальность, как открытая душевная рана, долгие годы была визитной карточкой Валентина Репина, но теперь всё изменилось; может, он повзрослеет, подумал я, и хоть на время забудет свои горы и возьмётся за дело?
— Кино потом снимешь, — сказал я.
Почему-то он от неё не ушёл окончательно, чтобы поклоняться Монике Беллуччи? Построил бы храм, бил бы поклоны. Нетрудно было догадаться — из-за денег, очень больших денег, дающих свободу и равные возможности с богом.
— Когда?! — воскликнул он в отчаянии.
«Когда повзрослеешь», — хотел сказать я, но, конечно, не сказал.
— Когда оно у тебя начнёт получаться, — сказал я жёстко, чтобы он хоть чуть-чуть протрезвел и перестал жалеть себя в этом страшной и суровом мире.
— Это значит, никогда! — понял он. — Скотина ты! — заревел он, как мамонт, и голос его на мгновение заглушил все звуки вселенной и даже военный тягач внизу. — Так я хоть бился головой в стену, а теперь и биться не во что! — посетовал он.
— Это уже твои проблемы! — перебил я его, чтобы он очухался и подумал о новых возможностях, но он не желал новой жизни, а хотел до гроба жалеть себя.
— Скотина ты! — повторял он чисто механически, словно констатируя неудобный факт и неожиданно легко приспосабливаясь к нему, как новой культе, которую он до этого не замечал. — Обычная скотина!
В своём стремлении в максимализму он стал походить на блин, который во что бы то ни стало стремится подгореть назло хозяйке.
— От скотины слышу! — отозвался я, как эхо.
— Зря я тебя привечал! — посетовал он, словно я был его напарником с гор, однако, на равнине не оправдал надежд, и отныне пить со мной пиво с раками он принципиально не будет.
— Зря, — согласился я, чувствуя, как что-то рвётся между нами с тихим задушевным треском, уважение, что ли, на печальной и совершенно ужасной ноте контрабаса, которая долго-долго будет звучать для нас обоих реквиемом.
— Чтоб ты… — пожелал мне Валентин Репин.
— И ты чтоб… — отключился я, поежился, хотя в квартире было тепло, и только после этого понял, что Валентин Репин попал в ловушку, расставленную им же самим: прошлое, которое он так любил, лелеял и сентиментально холил, не давало ему ни единого шанса расстаться с людьми из этого прошлого, поэтому уйти от Жанны Брынской он просто так не мог и мучил и себя и её, хотя было ясно, чем всё это кончится — самоубийством души и тела, тела и души; какая разница, в общем-то, подумал я, засыпая.
Позже, через много лет, я узнал стороной; оказалось, всё было по-иному.
Уравновешенная и всегда покорная, как золотая рыбка в аквариуме, Жанна Брынская отыскала его новое обиталище, кинула ему рюкзак с «кошками» на порог и поставила условие: ультиматум:
— Или я или он!
К ультиматуму она прикрепила чек на такую сумму, от которой даже дюже порядочный альпинист не отказывается и продаёт свои горы с потрохами.
Валентин Репин выбрал её: сытую, благоустроенную жизнь богатого москвича на всем готовеньком, с чистыми простынями, взбитыми подушками и тёплым туалетом, а не с вонючим спальником под головой; с утренним яйцом в мешочек и цивилизованной чашечкой кофе по утру, а не привычной бадьёй на роту, с паром изо рта, когда он высовывал нос из палатки, чтобы насладиться утренней тишиной гор и величественными панорамами Джомолунгмы; однако, время брало своё, и он уже с презрением не фыркал на нас, «матрасников», когда вспоминал заснеженные, крутые склоны, от которых захватывало дух, вольную во всех отношениях жизнь альпиниста, и ледяную, хрустально чистую воду под коркой льда, ибо понял одну единственную, примирившую его с окружающим миром мысль: всё проходит, и вольная юность — тоже, и ты уже не тот, прежний, каким себя представлял в девятнадцать лет, и никогда им не будешь; не вешаться же и не топиться после этого, а можно предположить, что ты просто сломал лодыжку на вечные времена и дорога тебе в горы естественным образом заказана.
Так мы расстались, чтобы никогда не увидеться и ни слышать ничего друг о друге, дабы не ругаться матом и не ворошить прошлое, которое разрушило нашу дружбу и делало нас врагами, потому что мы были разными и по-разному смотрели на жизнь. Ничего плохого я ему не желаю, пусть он доживает остаток своих дней счастливо и самодовольно, вспоминая свои прекрасные горы и не менее прекрасную Монику Беллуччи в придачу.
Думаю, что он в бешенстве растоптал телефон; теперь он мог себе это позволить хоть по тридцать три раза на дню к вящей радости Жанны Брынской — лишь бы не горы и не сумасшедший Басаргин, тянувший его, чего греха таить, на эту чёртову войну, искать на ней эту чёртову русскую победу, русскую правду и русскую справедливость! И слава Богу! Теперь Репины могли себе позволить долгое-долгое ожидание старости, букет болячек и массу способов, как с ними бороться, дабы однажды с удовольствием умереть в тёплой и мягкой постели в окружении сонма врачей, подсчитывающих в уме суммы гонорара. Я был восхищен им! Я был несказанно рад за него! Счастливого пути, Валик! Тебя ждёт большое кино!
Уже выходя из квартиры, я узнал новость из телевизора. Испанов Роман Георгиевич был обвинен в сексуальных домогательствах. Он якобы воспользовался тяжёлым душевным состоянием знаменитая актрисы, дивы с большой грудью, которая тяжело переживала развод с пятым мужем, напоил её транквилизаторами и изнасиловал «общественно опасным способом». Испанов прямо в прямом эфире, как сказал ведущий, «упал со стула», и я понял, что быть ему с позором изгнанным из Мосфильма «по отрицательным мотивам», как любила писать жёлтая пресса. Они с ним разделались, не простив ему крестового похода против основ американской демократии, которую напяливают на Россию, как весьма известный использованный предмет, который обычно за ненужностью швыряют под кровать, чтобы утром брезгливо смыть в унитаз.
* * *
В тот момент, когда я открывал дверь, чтобы покинуть квартиру и больше сюда не возвращаться, раздался требовательный звонок, целая трель, серенада солнечной долины, и я с отвращением подумал, что Вера Кокоткина явилась собственной персоной, чтобы учинить мировой скандал и склонить меня к сожительству. Последние сутки она только тем и занималась, что докучала меня свои звонками. А когда узнала, что я уже никто в синдикате «Аптечный рай», что я всего лишь почетный и представительный её манекен, генеральный «директор без графы дохода», то её презрению не было предела. Теперь она явилась выцарапать мне глаза, потому что я, оказывается, разрушил её семью и планы на богатую жизнь. Впрочем, бог свидетель, я не претендовал на её сердце.
Каково же было моё удивление, когда за дверью я увидел Нику Кострову. Бледная и истощенная, она показалась мне бледной копией той женщины, с которой я выходил из окружения из-под Лисичанска. Я узнал её только по глазам и фигуре, которая показалась мне во всё той же военной форме, когда мы блуждали в степи после разгрома.
Оказалось, что в четырнадцатом она вынуждена была срочно уехать в Киев, куда её муж увёз дочку. Но и там она его не нашла. И только летом пятнадцатого отыскала в Финляндии и теперь судилась с тем, чтобы забрать дочь.
— А неделю назад увидела тебя по телевидению, и явилась! — Она жалко улыбнулась. — Ты меня не выгонишь?!
Я остался в Москве ещё на три дня, переписал на Нику Кострову два счёта и квартиру, машину я оставил себе.
Потом я всё-таки собрался с духом и уехал.
* * *
Первый раз записался в добровольцы на углу, возле картинной галереи. Меня клятвенно и очень горячо заверили, что позвонят дня через два-три. Все это время я честно прождал на раскладушке, в квартире Борис Сапожков на улице Артема, что напротив кинотеатра «Шевченко», рядом с драмтеатром, и ежеминутно ожидал вызова, и даже по наивности не разувался.
Второй раз я пошёл уже в «белый дом» и записался на третьем этаже у чернявого парня с жутким шрамом через левую глазницу и половиной ладони на правой руке, от которой остался только крючок из большого и указательного пальцев.
Чернявый парень тоже не вызывал у меня доверия, но деваться было некуда, хотя подробно расспросил меня, воевал ли я, спортсмен ли я или алконавт, но когда выяснил, что я ещё и не обучен, то явно потерял ко мне всякий интерес. В Донецке обо мне давно забыли, и я не хотел никем командовать и решать чью-то судьбу, я просто хотел быть рядовым, а не прикрываться кем-то во время артобстрела.
Я прождал ещё двое суток, пялясь на рюкзак, который пылился на балконе. А утром третьего дня прихватил его и явился к этому чернявому с крючком на руке и заявил, что никуда отсюда не уйду, пока он меня не определит на фронт. Он посмотрел на меня, как на идиота, но ничего поделать мог, закон был на моей стороне.
Я побывал на могиле жены, в интернет кафе «Нео», что на улице Октября, отослал в МГБ смску, в которой сообщил о Желе Агееве и Ефреме Набатникове, а потом отправился в редакции на Киевском проспекте.
Я поднялся на седьмой этаж и свернул налево в его кабинет. От Бориса Сапожкова ничего не осталось. Всё, что не разорвал снаряд, уничтожил огонь. Боря теперь жил в этих закопчённых стенах, в груде золы по углам, в свисающей с потолка проводах, в дневном свете, проникающим черед огромную дыру в стене, и в стойком запахе гари.
Я нашёл в коридоре два ящика от канцелярского стола. Принёс их комнату, на один сел, а на другой поставил стакан, в который налил водки, а сверху положил чёрного хлеба.
Я вспомнил, как в четырнадцатом Борис Сапожков послал меня в «старый» аэропорт, который должны были атаковать укрофашисты. Якобы ему кто-то, что-то шепнул, а он и уши развесил. Разумеется, я не поверил ни одному его слову, потому что город был полностью нашим, а аэропорт находился, практически, в городской черте. От него до центра тридцать минут на машине.
Хорошо, у меня там знакомый был начальником технической службы, Лёха Казанов. Я приехал в надежде весело провести время, заодно посмеяться над страхами Бориса Сапожкова.
— Да какой штурм! — рассмеялся Лёха Казанов. — Давай лучше выпьем!
— Давай, — беспечно согласился я и подошёл к окну, которое глядело прямёхонько на лётное поле.
— Кому мы нужны?! — философски изрёк Лёха Казанов и полез в сейф за бутылкой.
У него в сейфе всегда что-то стояло, потому что должность была хлебная.
— А это что? — удивился я.
— Это?.. — тоже прислушался он.
И мы оба услышали подозрительное стрекотание.
— Похоже, на вертолеты, — удивился Лёха Казанов и тоже подошёл к окну.
Над кромкой далёкого леса появились точки. Они стремительно увеличивались в размере.
— Летят… — благодушно заметил Лёха Казанов, имея ввиду, что это наши.
— Ну да, — согласился я, наши, то бишь российские вертолёты, а это значит, что к нам на помощь пришла российская армия.
Ура! Было за что выпить!
Я тотчас позвонил Борису Сапожку.
— Ух ты! Ну, ты там поосторожней! — Дождался я от него инструкции.
— Ладно! — ответил я и хотел добавить, что всё на мази, что это сенсация, раз наши прибыли, как вдруг вертолёт, летевший первым и приблизившийся настолько, что стали различимы лица пилотов, взорвался прямо в воздухе. Он уже заходили на посадку, и неожиданно, как в кино, разлетелся на сотни кусков, среди которых я отчётливо различил человеческие руки и ноги. И только после этого я услышал бешеную стрельбу ЗУ-23, которые находились и на крыше аэропорта, и на земле.
Борис Сапожков на той стороне линии, кажется, проглотил телефон.
— Что они делают?! — ужаснулся я, имея ввиду наших зенитчиков, которые лупили почём зря, не жалея снарядов.
— Чего они делают! Чего они делают! — тоже заорал Лёха Катанов, но почему-то с укором. — Это укры, блин!
— Какие укры?! — возразил я, всё ещё в негодовании на бестолковость наших зенитчиком, которые одним махом погубили столько жизней и вообще, это не война, о чёрт знает что!
Но видать, они тоже дали маху, надо было открыть огонь ещё раньше и тогда бы укрофашисты не высадились бы вообще.
— Вон какие! — закричал Лёха Катанов и в запале потыкал пальцем, мол, куда ты, раззява, смотришь?!
И только тогда я увидел на фюзеляже украинские жёлто-синие опознавательные знаки. К счастью, наконец задымил и второй, перевернулся на бок и упал, скользя, как по льду, безуспешно пытаясь вспахать взлетную полосу безостановочно крутящимся винтом.
Третий наши разнесли в щепки уже на земле, и из него, как горящие снопы, вываливались укрофашисты.
Наверняка разнесли бы и четвёртый, и пятый, но началась бешеная стрельба, и ЗУ-23 к нашему ужасу замолкли.
Мы отпрянули от окна, переглянулись и поняли, что влипли, что укрофашисты всё-таки высадили десант и сейчас произойдёт, так называемая, зачистка территории, а это значит, что мы с Лёхой Катановым являемся потенциально убиенными врагами. Мы заметались, не зная, что делать.
Однако события разворачивались совсем по-другому сценарию. Укрофашисты оказались ещё теми вояками. Они приняли лупить по пятнадцатому участку за дорогой, откуда по ним никто не вёл огонь, потому что, когда я ехал в аэропорт, то не видел в округе вообще никаких войск, и похоже, для нашего командования высадка десанта было полнейшей неожиданностью, потому что защитить старый аэропорт можно было элементарно просто, надо было всего лишь поставить здесь пару пулемётов, да посадить пару снайперов.
Когда укрофашисты всласть настрелялись по пятнадцатому участку и из стрелкового оружия, и из гранатомётов, они вдруг решили, что их атакуют через центральные ворота, и прыснули, как воробьи, в разные стороны, и принялись обстреливать площадь перед аэропортом. Стреляли они минут двадцать, потом, видно, сообразили, что там тоже никого нет, и осмелели, всё ещё не веря в свою удачу, хотя на летном поле горели, как факелы, три из пяти вертолётов. Но в общем, операцию по захвату старого аэропорта можно было считать успешной, хотя добрая половина десанта погибла.
Потом нас обнаружили, и в наши окна полетели гранаты, потом нас пытали допросом, потом отпустили за водку и сто тысяч профсоюзных денег, которые лежали в сейфе у Лёха Катанов, а так же под крайне честное пионерское слово, что мы не сообщим, сколько их здесь прилетело. Тогда казалось, что это всё ещё какая-то игрушечная война.
Мы прикрепили к ножкам от стульев по листу бумаги и, размахивая ими, как на демонстрации, перешли Путиловский мост. К счастью, нас не застрелили и не покалечили, хотя с одной стороны трассы сидели наши, а с другой — укрофашисты, и переругивались между собой.
— Ну, Боря, с днём рождения! — сказал я и выпил свою водку.
* * *
Через год я узнал, что Валесса Азиз вернулась в Москву, а ещё — что у меня родился сын.
Конец.
10.10.2016 — 03.07.2018
Примечания
1
«Кабанчик» — «мина-стодвадцатка».
(обратно)2
Запрет на проживание в тридцати девяти городах СССР.
(обратно)3
Третье Транспортное Кольцо.
(обратно)



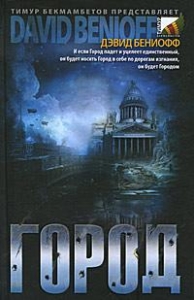


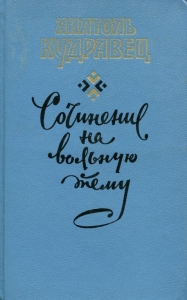




Комментарии к книге «На высоте птичьего полёта», Михаил Юрьевич Белозёров
Всего 0 комментариев