Сергей Антонов ДВА АВТОМАТА Рассказы
НА ВОЕННЫХ ДОРОГАХ (Беседы бывшего старшины Степана Ивановича Н.)
Здесь говорят о смерти редко,
Все больше дождь клянут, да грязь.
А. ЧивилихинСтепан Иванович
Прошлым летом наше военное училище выехало в лагеря и раскинуло свои белые палатки в сосновом бору неподалеку от Ленинграда. Лето для курсантов — самое горячее время года; многочисленные ученья, стрельбы, спортивные состязания следовали непрерывной чередой, и, возвращаясь с дальнего похода, многие из нас завидовали нарядным парочкам, которые встречались на пути.
Единственным гражданским человеком в дружной военной семье курсантов был повар Степан Иванович — мужчина строгий и справедливый. Глаз у него наметанный — лентяя он различит сразу и всегда точно знает, кто заслужил добавки, а кто — нет. Мы уважали его. Нам было известно, что в начале Отечественной войны жена и дочь его погибли, что войну он провел в должности старшины в дорожной части и был демобилизован вчистую по ранению. Помыкавшись месяца три в какой-то артели, Степан Иванович пришел в военкомат и упросил направить его куда-нибудь в воинскую часть, на любую работу, потому что он, по его словам, «без военного распорядка жить разучился». С тех пор Степан Иванович бессменно работает поваром в нашем училище и, приготовляя борщ, очень ловко нарезает морковку соломкой. Носит он хорошо отглаженную гимнастерку со свежим подворотничком и при встрече с незнакомым всегда рекомендуется: «Бывший старшина такой-то».
Для помощи Степану Ивановичу на кухню ежедневно назначается наряд из курсантов. В полночь, когда спит лагерь, некоторые из них садятся вокруг картофелечистки и моют картошку. Степан Иванович считал своим долгом побыть с ними минут десять, «для затравки», а потом уходил в кладовую получать продукты.
В течение этих десяти минут, чтобы не было скучно, он всегда рассказывал какой-нибудь эпизод из своей фронтовой жизни. Один из его рассказов я записал и, обработав по нехитрым законам беллетристики, напечатал в журнале. Мои друзья, решив порадовать Степана Ивановича, показали ему злополучный журнал, и из-за этого так полюбившиеся нам ночные беседы чуть не прекратились.
— Ты что же это? — сказал он мне во время обеда. — Тебе говорят одно, а ты записываешь другое… Ты думаешь — насосал в вечную ручку чернил — и записывай? Нет, брат, ты пиши, что тебе говорят, а не сочиняй под моей маркой…
И не дал добавки.
С большим трудом удалось уговорить Степана Ивановича продолжать рассказывать свои истории; он согласился только после того, как взял с меня обещание — если уж писать, то писать точно, по сказанному, не добавляя и не убавляя ни одного слова.
Именно так я и записал некоторые рассказы Степана Ивановича. Все они оказались одинакового размера, хотя иные могли быть подлинней, а иные — покороче. Это потому, что в отличие от некоторых других рассказчиков Степан Иванович, военный в душе человек, строго придерживался десятиминутного регламента и точно по часам уходил в кладовую получать продукты.
Обрывы
— Вы говорите: уставы да наставления, наставления да уставы, — начал Степан Иванович, выставив крупные свои руки с толстыми пальцами, в которых как-то сама собой, как береста на жару, скручивалась цыгарка. — Выходит у вас так: прочтешь уставы да наставления — и станут тебя пули облетать. Конечно, никто не спорит, уставы и наставления — закон жизни солдата. Только если вы, почитавши уставы, возомните, что всю военную науку превзошли, — то сильно ошибетесь. Нужны солдату уставы и наставления, а еще, кроме того, — нужно соображение. Об этом, между прочим, в тех же уставах сказано.
Вот, довелось мне в войну жить в одной землянке со связистом, ефрейтором Ерохиным. Гладкий такой, сдобный был человек — сам собой всегда довольный. Однако уважал порядок и дисциплину. Над ним, помню, смеялись, будто даже спит он в положении «смирно». Уставы знал назубок и сердился, когда его называли не «товарищ ефрейтор», а просто — Ерохин. Служба была ему по душе. Единственное, чего он не любил, так это — соображать. Я, бывало, с ним схватывался: «Ты, говорю, сперва обдумай, а потом дело делай!» А он отвечает: «Чего, мол, тут думать? Приказ даден — надо его выполнять». — «А как его поумней выполнить — это кто за тебя должен соображать? Дядя?» Он махнет рукой — и только. Буханки хлеба на пять человек путем поделить не умел — всегда кому-нибудь перепоручал это дело…
Стояли мы тогда на Карельском фронте. Природа там против нашей гораздо серьезнее. Там снег пушной идет — вот какие шапки летят. Дорогу заметает сразу — трактора, и те буксуют. Там камни навалены — каждый с нашу избу, и дорога делает около тех камней зигзаги. А сосны — ровные, как свечи, — из одного хлыста выходит штук пять свай — вот какие там сосны.
Служил я в дорожной части. Была поставлена нам задача: содержать дорогу — километров, я так думаю, до ста длиной. У Кандалакши эта дорога была еще ничего, а чем дальше в лес, тем хуже и хуже. Одно название, что дорога: накатанный след по корням, а кое-где и следа незаметно. Дикое было место — дебри. Разровняли мы, как могли, трассу, коренья посбивали, поставили мосты, а машины все равно шагом идут; тряско до невозможности. А что сделаешь? — наверху кругом камень, а копнешь лопатой — тоже камень скрипит.
Как ударили морозы — стали мы трассу переводить на лед, на озера. Сперва лед, конечно, был тонкий, слабый, — шофера с открытыми дверцами ездили, чтобы, случаем, легче было выскакивать, если лед не выдержит.
Так и тянулась наша дорога до передовых — то лесом, то озером, то опять лесом. Обжились мы как следует быть, обстроились, землянок накопали. И к морозу привыкли, и к долгим ночам, и к метелям — будто родились здесь, среди этих камней да озер. Родина, она, ребята, всюду родная, всюду своего человека признает. Правда, землянки тяжело было среди каменьев копать, тесно у нас было, поворачиваться с боку на бок приходилось по команде, но ничего — жили.
Живем, работаем — глядим, связисты кабель на передовую тянут. Мы, конечно, обрадовались: видим, приобретает наша дорога значение. Солдат — он всегда прежде всех чувствует обстановку вокруг себя. Еще, может быть, генерал обдумывает свой секретный приказ, еще у артиллеристов — пушки в чехлах, а солдат уже чувствует — будет дело. И пора бы. Время было тревожное. Пошла первая военная зима. Фронт стоял на одном месте. Ходил слух, что враг собирает силы для окружения…
Было приказано разместить связистов в наших землянках, вдоль всей трассы. Мы поворчали немного — тесно, мол, — но, конечно, приняли их.
В нашу землянку поставили двоих: этот самый Ерохин пришел и с ним еще один, молоденький, Федя Новиков.
Как сейчас вижу: ночь, в углу — телефонный аппарат и Ерохин возле него. Коптилка из консервной банки с круглым огоньком, дыхнешь — погаснет. Ерохин сидит, сгорбившись, и тихонько ругается в трубку: «Волга?.. Шут тебя возьми, Волга! Волга!»
Хлопотливая у них была работа. Раньше мы думали, что на фронте нам, дорожникам, крепче всех достается, а нет, у связистов хлопот больше. Ни днем, ни ночью покоя нет. Как связь нарушается — ступай немедленно, ликвидируй. Ночь ли, буран ли, становись на лыжи, цепляй на спину запасную катушку и ступай, ищи обрыв. Как на грех, Ерохину и Феде достался самый несподручный участок. На озерах-то линия шла по вешкам; на открытом месте ее далеко видно, садись на попутную машину и гляди из кузова; а у нас, в лесу, провода были наброшены на ветки, и часто их рвали, то медведь, то враг, а то и свои порвут — когда сосны пойдут рубить. У других целую неделю не бывало обрывов, а у наших — чуть не каждый день.
Однажды, вот так же, нарушилась связь. Только принялся Федя суп хлебать — связь и нарушилась. Федя поставил котелок на печку и начал сбираться. Ерохин-то не умел на лыжах ходить, так на линию чаще бегал Федя. Я, как сейчас помню, сказал Ерохину: «Больно вы бездумно работаете. Война все-таки. Ты бы раньше, чем его в лес направлять, обдумал бы хорошенько тактику. На прошлой неделе банду диверсантов ликвидировали — надо бы вам учесть это». «А что учитывать, — говорит Ерохин, — слава богу, не первый раз ходим и ничего не случилось». И Федя смеется. Был он парень удалой, храбрый, только храбрость у него происходила не от ума, а от слабого понимания военной обстановки — ненадежная храбрость. Встал он на лыжи и пошел. А заметуха тогда была страшная — на ногах не устоять. Нам приказали отдыхать и с ночи, как только приутихнет метель, выходить расчищать трассу. Ну, ладно, время идет, а Феди нет. Лежим, беседуем. Суп закипел, я его с печки принял. А Феди все нет. Я, конечно, стал тревожиться. А Ерохин отдыхает после обеда — и хоть бы что. Я не утерпел, спрашиваю; «Долго ты лежать будешь?» — «А что мне, говорит, не лежать? Связь-то не работает!» — «Да я, говорю, не про связь, а про Федю». — «А что — Федя. Не первый раз пошел. Выполнит задание — вернется». — «А может, с ним случилось что-нибудь?» — «Что, говорит, с ним может случиться? Мы в тылу». Ну, думаю, с ним не сговоришься. Пойду сам на трассу — погляжу. Стал одеваться — вижу и Ерохин поднимается. Проняло все-таки его. Пошли вместе. Метет — нет спасенья. Прошли лесом километров пять или шесть, не помню, — линия цела, а следов не видно — все замело. Еще немного прошли, видим — обрыв. Провод обрезан аккуратно — ножницами, а вокруг нет никого. Тут я сразу понял — неладное дело. Враг, значит, здесь побывал, линию перерезал и сел на сосну дожидаться, когда связисты придут. У него еще с финской войны осталась мода на сосны лазить — вы, наверное, знаете, их тогда «кукушками» прозвали. Он там себе настелет веток и сидит с автоматом, ждет… Стали мы искать. Снег разгребли — нашли. Лежит Федя, губы кровью, как сургучом, запаяны, а в руке раскрытый ножик…
Захоронили мы Федю, как могли. Ерохин встал над могилой, попробовал сказать что-то и не сумел ничего сказать. Только сейчас дошло до него, что такое война. Встал и стоит — ровно его приморозило. Наладили связь. «Пойдем, говорю, ладно». А он стоит — не слышит. Подождал я немного — пусть, думаю, перегорит у него душа — снова позвал. А он стоит, как бесчувственный, и возле него наметает сугроб. Взял я его под руку и повел, как больного.
А на следующий день прислали на место Феди другого солдата — Юру Буланова — тоже молоденького, студента. Горячий, азартный был парень. Как только его прислали — на линии снова произошел обрыв. Тут, конечно, хочешь не хочешь, а пришлось нашему Ерохину задуматься. Думал он, думал и говорит: «Ты, Юра, сиди у аппарата, а я пойду. Если не вернусь — передай, как положено, по команде рапорт и пусти вот это письмо». Вижу — ничего путного не надумал — голова на это не приспособлена. Юра ему отвечает: «Вы, товарищ ефрейтор, письмо порвите и оставайтесь, а пойду я» — и надевает лыжи. Надевает он лыжи, а Ерохин не пускает. «Сиди, говорит, тебе после войны еще техникум кончать». А у самого голос дрожит. Поднялся у них спор. Ерохин говорит: «Ну куда ты рвешься? „Кукушку“ послушать не терпится?» «А я ее сниму», — смеется Юра. «Сперва ее надо увидеть», — говорит Ерохин. «А она сама себя покажет». Тут снова пришлось мне ввязаться. «Я, говорю, с Юрой сам пойду для страховки, а ты, говорю, сиди у аппарата». Ну, Ерохин поспорил и отступился. Пошли мы с Юрой. И вижу: идет он вдоль линии и дергает провод. Пройдет немного, встанет и дернет тихонечко на себя.
Я сперва не понял, в чем дело, а потом догадался. Глядите, какой хитрый студент, а? Как слабину рукой почует, значит, обрыв близко. А раз обрыв близко — тут где-нибудь и «кукушка» сидит. Пробирается он лесом, подергивает провод, ровно леску на рыбалке, а я за ним. Долго шли, тихонько. Мне это дело даже надоедать стало. Вдруг он остановился, поднял руку — стой, мол, обрыв близко. Повернули мы обратно, прошли километр, потом перешли на другую сторону дороги и другой стороной, лесом, воротились опять к тому же месту. Залегли за стволами — смотрим по верхам. Вокруг все елки невысокие — на такие елки «кукушки» не лазают. А вот две сосны, одна поближе, другая подальше, глядели подозрительно — на одной из них он и засел, наверное, а на какой — не видать. Можно бы стрельбой проверить, но открывать огонь на авось опасно — он там тоже не с палкой сидит.
Стали ждать, кто кого перетерпит. А мороз лютый. Лицо задубело, словно перебинтованное — губами не шевельнуть. «Нет, думаю, долго так нам не пролежать. Застынем». Только подумал, гляжу — ястреб. Подлетел, было, к дальней сосне, да как метнется вбок… Ну, все в порядке. Дали мы из обоих автоматов по короткой очереди — и сняли. Свалился высокий такой, широкой кости мужик, в лыжном, вроде, костюме, затянутый вместо пояса веревкой кругов на десять.
Вот видите, как у Юрки-то голова безотказно сработала. Этого сняли, а через два дня еще одного сняли. Конечно, лучше бы их живьем брать, да где там, — они на лыжах больно быстро бегают. Во второй раз сняли тоже ловко, только Юрка пальцы отморозил на правой руке. И на третий раз пришлось нам идти с Ерохиным.
Юра, конечно, беспокоится. Говорит, что надо заново обсудить и сменить тактику. А Ерохин машет рукой: «Когда, мол, поправишься, тогда и станешь тактику менять. А мне все понятно». И договорились мы так: чтобы я шел метрах в ста позади него по другой стороне дороги лесом и не спускал с него глаз, а он станет дергать провод. Вот идем, как договорились, — вдруг сверху «трах!» — запечатала машинка, — и падает Ерохин головой в снег. Я выскакиваю на дорогу — и по мне очередь. Но врага все-таки я снял оттуда. Гляжу — в чем дело? А он, оказывается, провод перерезал и завязал его узелком — тоже ведь сообразил, душегуб. Ерохин дергал, дергал, да до узелка и додергался… Вот и учтите: соображение тогда полноценное, когда всякую минуту понимаешь, что враг может не хуже тебя сообразить, — такой я сделал вывод сам для себя, когда хоронили ефрейтора Ерохина.
После этого случая приезжает ихний командир взвода: «Что, дескать, тут делается? На всей трассе спокойно, а у вас — безобразия». Юра докладывает — так, мол, и так. Командир взвода распустил карту и велел показать, в каких местах перерезали кабель. Нанесли эти места на карту, и вышло, что все они на одном участке длиной в четыре, самое большее в пять километров. А километрах в пятнадцати от дороги, против этого участка в лесу, обозначен условным знаком одинокий хутор. Ночью устроили облаву и поймали восемь диверсантов. Говорили, что нашли там целую гору пустых консервных банок — значит, не одну неделю они возле нас прожили.
Все-таки наше соображение оказалось поглубже ихнего: связь стала работать нормально, и когда наши части пошли в наступление, никто на связистов не жаловался.
Два лейтенанта
— Как вам известно из истории, — начал Степан Иванович после долгого молчания, — в сорок втором году в Ленинграде была тяжелая обстановка. Враг обложил город с юга и с севера, крепко засел в Шлиссельбурге, и жили тогда ленинградцы на пятачке и всю остальную, свободную от врага землю называли «Большая земля» Голодали они сильно, получали хлеба по сто пятьдесят граммов на душу, и муку зимой сорок второго года возили туда машинами по Ладожскому озеру, по ледяной «дороге жизни». Шла эта дорога от Кобоны на тот, ленинградский, берег, и ходили по ней машины с прицепами беспрерывно под бомбежкой и артиллерийскими обстрелами. Конечно, хорошая была дорога, но все-таки не обеспечивала она население полностью, как положено. Много командование думало, как помочь Ленинграду. Разные меры принимало. Решили даже сваи забивать поперек Ладожского озера — мечтали на этих сваях проложить рельсы да пустить поезд. Сами понимаете — не шутка: набить сваи на сорок километров; каждая свая метров двадцать длиной, а сколько их потребуется, таких свай, сосчитать невозможно. Худо, в общем, было. А еще хуже получалось, когда вспоминали о весне. Ослабеет лед на озере, растает, — и нарушится последний путь, последняя связь с Ленинградом. Тут уж никакие сваи не помогут, тут — природа. Надо было во что бы то ни стало врага отгонять. И вот ударили наши в январе сорок третьего года, отбили Шлиссельбург и отбросили врага на Синявино. И открылась на Ленинград полоса суши, километров в десять шириной вдоль берега Ладожского озера. И стали мы между Лаврово и Шлиссельбургом готовить к весне автомобильную дорогу. Много там собралось народу, и военного, и гражданского. Почти возле самого врага, вдоль поселков, где раньше жили рабочие торфоразработок, настлали наши части железную дорогу, поставили мост через Неву, и пошли в Ленинград поезда безо всякого расписания, через каждые пять минут пошли, как трамваи. Враг бьет снарядами, как бешеный, а они идут. Машинист, бывало, пустит дымок над лесом, потом перекроет клапаны и дальше едет. А враг бьет и бьет по дыму… Об этом я вам когда-нибудь расскажу особо.
Ну, ладно. Поезда идут, а мы в это время готовим шоссейную дорогу, чтобы в весеннюю распутицу нормально машины шли.
Как вам известно из истории, у самого Ладожского озера давно, еще при Петре Первом, выкопали канал, чтобы корабли могли плыть в Питер, когда на озере буря. Земля, вынутая из этого канала, была уложена аккуратной насыпью. Вот по верху этой насыпи мы и гнали дорогу.
Работали мы тогда, как моторы, ни один не глядел на солнышко, — душа болела за ленинградцев; видел я, как вывозили их оттуда; и полюбил я тогда этот многострадальный герой-город, как свою родную Мгу. Фонтанку полюбил, и Летний сад, и Пять углов, — хотя и не довелось поглядеть ни разу, что это такие за Пять углов.
А враг сидит на Синявинских горах и уж не знает, куда ему из пушек лупить: то по паровозам бьет, то по пустому пути, то по нашим машинам; то шрапнелью ударит, то — из дальнобойных — тяжелыми, то уж вовсе голову потерял, стал по болотам зажигательными бить — зажег торф, напустил дыму. Мы кое-как работаем, а ему вовсе ничего не видно, устроил нам дымовую завесу. Однако все-таки бывало, что выходили наши из строя от ихней беспорядочной пальбы.
И вот в марте присылают в распоряжение командира батальона товарища Алексеенко пополнение — двух лейтенантов. Вижу — идут к нам в штаб два парня, молодые, чистенькие, в новом обмундировании — сапоги блестят, ремни скрипят — такие ладные ребята, как будто только с плаката. Отрапортовали, так и так, мол, прибыли в ваше распоряжение. Комбат сломал с пакета печати, стал читать ихние документы.
А к тому времени выбыли у нас командир взвода и помощник командира роты по технической части. Вчера, например, в первой роте убило командира взвода, а сегодня из той же роты повезли в госпиталь помпотеха — аппендицит резать. А на следующий день и пришли к нам два новых лейтенанта. Одного, значит, надо ставить командиром взвода, а второго — на более высший пост: помпотехом роты. И товарищ Алексеенко должен распорядиться — которого куда. С виду как будто дело простое: побеседовал с ними, написал приказ — и до свиданья. А если рассудить поглубже, как привык рассуждать товарищ Алексеенко, то получается не больно просто. Глядите сами: занимались ребята за одним столом, не один год, может быть, были друзьями-приятелями, изучили друг друга с головы до пяток, и вдруг — один начнет над другим командовать. Тут надо по справедливости разобраться: который покрепче, того повыше ставить, который послабей— того пониже. А то работа не пойдет: дружба между ними нарушится, обиды начнутся, и, между прочим, на комбата будет недовольство. Люди все-таки, молодые ребята…
Стал товарищ Алексеенко разбираться по справедливости. Поглядел в документы и видит — никакой разницы. Год рождения посмотрел — один у обоих год рождения. Характеристики прочитал, и характеристики одинаковые — как две капли воды, — словно под копирку написанные. Партийность проверил — оба комсомольцы. Успеваемость — оба отличники. И словно для смеха: одного звать Василий Павлович, а другого Павел Васильевич — только в этом и разница.
Сложил комбат документы обратно в конверт и затеял с ними дружескую беседу — однако и в беседе никакой разницы обнаружить не сумел: ни Василий Павлович, ни Павел Васильевич много говорить не любили, а на вопросы отвечали кратко и ясно, как положено: «так точно» или «никак нет». Видно — и строевики хорошие, и саперную специальность понимают. Говорил с ними комбат, говорил, и под конец спрашивает, кто из них женатый. Раз уж никакой разницы нет, помпотехом надо ставить женатого: ему денежное довольствие больше идет. Оказалось — ни один не женатый.
Подумал командир батальона и говорит: «Вопрос о вашем назначении, товарищи лейтенанты, отложим до вечера. А пока Степан Иванович сведет вас в расположение первой роты». Ну, они, конечно, руку к головному убору и левое плечо кругом. А мне смешно. Кто слушал раньше, как я рассказывал про нашего командира батальона товарища Алексеенко, тот знает его характер: человек был упрямый и нипочем не принимал решение без сознательного обоснования. Всегда подводил твердый базис. А тут, не то чтобы базиса, а даже прицепочки никакой нет для правильного решения. Помню — веду их по трассе, а сам думаю: «Интересно все-таки, кого куда он поставит?»
Участок от Назии до Шлиссельбурга, куда по дислокации должна на днях встать первая рота, был тогда еще не занятый и для проезда закрытый. Я спрашиваю: «Как пойдем, товарищи лейтенанты, — напрямик, тропкой, или дорогу станете глядеть?» Один захотел поглядеть дорогу и второй захотел поглядеть дорогу. Пошли поверху.
А весна тогда стояла протяжная, непутевая — семь погод на день было. То притает, то подморозит, а то и снег пойдет. То вода, то лед. Одно слово — Ладога. Утром поглядишь на осинку — каждая ветка в ледяном кожухе, а на ветках — голодные ленинградские воробьи.
Вот идем мы втроем, а лейтенанты между собой разговаривают. То удивляются, почему у всех убитых лошадей одна задняя нога задрана кверху, то еще чему-нибудь. Из разговора вижу — совсем необстрелянные ребята, но большие приятели, настоящие друзья. Хорошие из них выйдут боевые командиры. Идем мы так-то, идем, вдруг один из них остановился и нагнулся к земле. Что такое? Смотрю и я. Сверху, с насыпи, снег весь сошел, только инеем за ночь присолило — тонехонько-тонехонько. И вижу, просвечивает сквозь иней черный фанерный квадратик, лежит заподлицо с землей размером с папиросную коробку «Казбек» или немного побольше. «Осторожно, говорю, товарищи лейтенанты, это не иначе, как противопехотная мина закопана». «Мы и сами видим, что мина. Мы эти мины проходили в училище», — говорит один. «Действительно — мина, — говорит другой, — только та разница, что раньше мы их головой проходили, а теперь проходим ногами». Остановились на месте, стали осматриваться. Видим, метра через полтора — опять мина, немного подальше — еще одна. Так они и закопаны, как положено, в шахматном порядке, поперек насыпи метра через полтора, а вдоль насыпи — через два. Снег сошел — они и показались на свет. Кто их там закопал в прошлом году — немцы ли, наши ли, — неизвестно; известно только, что попали мы на минное поле и прошли по нему метров сто, не меньше. Как мы тогда не подорвались — непонятно. Хоть раз, а кто-нибудь из нас троих наступил на нее, змею. Скорей всего, я так думаю, нас мороз сохранил: грунт был мерзлый, крышки крепко припаяло к земле, сковало морозом, не позволило прогнуться под ногой. Однако — дело серьезное. Одна не взорвалась, на это нельзя надеяться — вторая вполне свободно может взорваться. К тому же — не все крышки видны — многие землей присыпаны. Вот стоим мы, словно на горячей плите, обдумываем — как быть. А ситуация такая: наверху, на насыпи, значит, мины, справа — откос и канал, — там уже вода у закраин, слева — кустарник; там, тем более, мины. Стоим, думаем, куда двинуться. Василий Павлович говорит: «Смотрите, как хорошо видны наши следы на заиндевевшей земле. Давайте вернемся по старым следам, — только на всякий случай дистанцию друг от друга надо держать, — по следам вернемся и пойдем в роту низом».
Павел Васильевич говорит: «Правильно. Если мы будем точно ступать на прежние следы — вернемся безо всякого риска. Но я думаю, можно и вперед идти: вон по той тропке». И правда, вдоль бровки насыпи стояли телеграфные столбы и мимо них тянулась тропка. Павел Васильевич понял, что тропку проторили связисты, когда вешали провод — значит, можно и нам идти: тропка испытанная, обжитая.
Посовещались — пошли вперед. В общем в штабную землянку первой роты я их доставил благополучно и воротился к командиру батальона. Доложил ему, как положено, что приказание его выполнено, а потом детально рассказал про разговоры на минном поле. На этом дело и кончилось.
Вечером, смотрю — вышел приказ. Василий Павлович назначен командиром взвода, а Павел Васильевич на более высший пост — помпотехом. «Ну, думаю, пришлось все-таки товарищу Алексеенко принимать решение без базиса».
Много времени прошло с тех пор, а вот вспомнил я этот факт и задумался. Может быть, был все-таки базис? Глядите сами: два человека, снаружи совсем одинаковые, попали на минное поле. И тут раскрылся ихний характер. Один, первым делом, задумался, как бы податься назад. А второй, несмотря на это, не потерял из вида цели. Раз решено идти вперед — значит, надо идти вперед. Бывает так и в гражданской жизни: переходит, например, гражданский пешеход дорогу, а на него из-за угла выворачивает машина. Сколько раз я видел: добежит человек до середины, а потом замечется — и назад. Только шофера с толку сбивает. Другой перебежит спокойно и идет куда шел. А этот — замечется — и назад.
Может, товарищ Алексеенко понял, у которого из них тверже характер? Впрочем, точно не могу знать — наш командир батальона лишних разговоров не любил и со мной по этому вопросу не советовался.
Мост
Перед тем как начать рассказывать, Степан Иванович любил все обдумать, вспомнить и разложить в уме по порядку. А курсанты — народ молодой, нетерпеливый: как увидят — Степан Иванович задумался, так и начинают шептаться да перебрасывать друг другу спички. А он в это время вдруг и скажет, словно с середины:
— А то вот было в сорок четвертом, на Втором Прибалтийском…
И тут все должно смолкнуть. Если плохо слушали, Степан Иванович уходил с кухни, оборвав рассказ на полуслове, и довольно сильно прихлопывал за собой дверь.
— Так вот, ребята, служил я на Втором Прибалтийском в дорожной части; уделывали мы тогда дорогу Новгород — Шимск. Наши далеко угнали врага. По ночам только зеленые зарницы мигали — грома пушек не было слышно. Стоим мы между Новгородом и Шимском, уделываем дорогу, и вдруг выходит приказ от высшего командования: как можно быстрей наладить шоссе на Резекне. Вызвал комбат, товарищ Алексеенко, полуторку, велел мне взять топор да ломик, и поехали мы с ним обследовать трассу. Что мы там увидали — этого вам не понять. Железнодорожная линия пересекала шоссе, так от этой линии осталась одна фантазия: все шпалы напополам переломаны, рельсы взорваны на каждом стыке. Про связь я и не поминаю — все столбы лежат. А мостов на нашем шоссе — ни большого, ни малого, никаких не осталось. Будто их и в помине не было. Подойдешь к речке или, там, к ручью, — одни щепки, прах да уголья. Редко где горелая свая выглядывает из-под воды, а то и сваи не видно. Куда там мосты, — где насыпь высокая, и насыпь подорвана; такие воронки нарыты — дна не видать…
Много пришлось мне в войну походить по дорогам, много повидал я разрухи. Придешь, бывало, в город, а вместо города — сама свалка, где улица, где что — ничего не разберешь. Думалось, что и за сто лет не наладить всего; а вот десяти лет не прошло, — и прибрались в своей горнице, весь прах вымели. Где дом деревянный сгорел — каменный поставили, да в два, а то и в три этажа, да еще с белыми столбами у крыльца, да с башней на крыше, а то и с такой загогулиной, какой вовсе и не требуется. Вот ведь как. И подняли все это за неполные десять лет наши обыкновенные мужики да бабы… Выходит — робкий я был, робел осознать своим умом силу народную, а все норовил примерить ее на свои единоличные возможности. А сила наша — как море-океан, ни конца ей, ни края, и никакое ее лихо не переборет — на любую беду хватит и на радость останется. Вот какой я сделал вывод сам для себя…
Ну, ладно. Едем мы с комбатом в полуторке, где по шоссе, где по объездам. Сперва он возле мостовых переходов зарисовки делал, а потом рукой махнул: «Все нужно заново строить». Далеко мы заехали. В лесок, что налево, уже ихние дальнобойные достают. «Может, воротимся? — говорит шофер. — Ситуация, говорит, одинаковая». А как воротиться: надо выполнить задание — все шоссе осмотреть. Едем мы, едем, и вдруг — узенькая речушка, а на ней мост. Все кругом порушено, а тут мост — совершенно нетронутый, как на картинке. Мост балочной системы, длина — метров пятнадцать, с одной свайной промежуточной опорой — все честь честью. И перила целы, и колесоотбойные брусья.
Мы, конечно, на мост не поехали. Тем более, видим — афиша возле перил висит: «Мины». Саперы проходили, повесили афишу и дальше пошли. Хотя каждому и так ясно, что противник с умыслом мост оставил — на дураков надеялся. А их у нас в сорок четвертом году уже не было. Подошли мы поближе, смотрим, где они тут, мины. Мост, видно, старый. Настил давно настлан — от досок можно пальцами лучину щипать. Комбат приказал нам отойти на пятьдесят метров, сам на мост зашел, верх оглядел, потом вниз слазил.
Взобрался обратно, говорит: «Вроде ничего нету. На прогонах, говорит, снизу какие-то вмятины, только и всего». Потом подумал и говорит: «Давай-ка, Степан Иванович, осторожно приподнимем поперечный брус». Обкопали потихоньку брус, подняли, — ничего под ним нет. Одни мокрицы. С другой стороны брус подняли — тоже нет ничего. Кое-где настил задрали — и там нет никаких мин. А под настилом поперечины и прогоны двойные на шпонках. В общем ничего не видать, весь верх спокойный.
Сел комбат на берегу, закурил. А тут «мессер» мимо летел, заинтересовался, видно, что это за полуторка возле моста стоит — сделал два круга, полетел дальше. «Надо бы ехать, товарищ капитан, — говорит шофер. — Ситуация ясная. Они его второпях не успели уничтожить». — «Возможно, — отвечает комбат, — убедимся в этом и поедем дальше». И сидит, курит. Потом говорит: «Верх безопасен, это, как будто, точно. Надо тщательно проверить нижнее строение». Тут и я стал сомневаться. Надо сказать, что я давно знал нашего комбата товарища Алексеенко. Одно время, в первый год войны, служил у него посыльным, и мы с ним, я так думаю, тогда подружились. Был он мне по душе — толковый и справедливый, только портило его характер какое-то непонятное упрямство. Тут война, горит все, надо приказание выполнять, а он ходит и думает и не принимает никакого решения. Целый батальон без дела сидит, а он час думает, два — думает, — прямо иногда зло берет на него глядеть. Так и тут: чего проверять нижнее строение? Заборные стенки из старого подтоварника, промежуточная опора на пяти сваях — вот и все нижнее строение. А товарищ Алексеенко велит копать возле стенок. Копаю, конечно, поскольку приказано, а никакого толку: дерн старый, нетронутый. Поглядел комбат, видит — не дело, приказал заровнять. «Теперь, говорит, остается проверить сваи». А что их проверять? Свая — она свая и есть. «Может быть, это не свайная опора, а рамная, — объясняет комбат. — И может быть, мины заложены под лежень». Разделись мы с ним, полезли в воду. А река, хотя и невелика, а глубокая. У опоры глубина — метра два с половиной. Щупаю шестом крайнюю стойку, — все в порядке — свая, как положено быть свае, забита в землю. Так купаемся мы с ним в холодной воде, а снаряды, между прочим, ближе стали ложиться. Видно, «мессер» доложил, что возле моста наблюдается скопление живой силы и техники. «Я все-таки полагаю, что зря мы тут время тратим, — говорит шофер. — Хотите, говорит, товарищ капитан, я сейчас по этому мосту проеду, и ничего со мной не случится?» А комбат опять сел на бережку и закурил. Вы сами посудите — чего бы тут думать? Верх в порядке, низ в порядке. Саперы вполне свободно могли афишку поставить, потому что нетронутый мост на разрушенной дороге выглядел подозрительно; долго на одном месте копаться им было некогда, поставили афишку и дальше пошли. Тем более — рядом объезд.
Вот комбат думает, а враг кладет и кладет снаряды на оба берега. Только плохо кладет — ему не видать, далеко. А ближе пододвинуться — наши не пускают. Вот ведь беда ему. Смотрим, бежит к нам, нагнувшись, артиллерийский лейтенант. Подбежал, спрашивает: «Что это вы нас демаскируете?» У него там недалеко от моста в низинке огневая позиция. Комбат говорит: «Так и так, мол, мины ищем». Лейтенант засмеялся, дескать, никаких мин тут не было а саперы табличку поставили, по всей, говорит, вероятности, на всякий случай. В общем, как я думал, так и он. «Вы давно тут стоите?» — спрашивает комбат. Оказалось— с утра. «И ничего такого не замечали?» Лейтенант подумал, отвечает, что ничего. «А вы вспомните, может быть, что-нибудь и было?» — не унимается комбат. «Да ничего не было — валялись вон там две плахи, так солдаты их в болото стащили, когда везли пушки. Только и всего». Тут, вижу, у нашего комбата глаза загорелись: «А далеко эти плахи?» — «Метрах в двухстах». — «А ну, пойдемте посмотрим». И они побежали смотреть — что там за плахи. А мы с шофером схоронились за обрывом, чтобы случаем осколок нас не достал, и смеемся: «Вон какой у нас комбат, на болото побежал мины искать». Тут и я, дурной, согрешил, стал попрекать товарища Алексеенко за упрямство. Ну, ладно. Слышим, бежит он обратно. «Пойдем, говорит, Степан Иванович, мне нужна твоя консультация». Что, думаю, за консультация? Пошел с ним — вижу, лежат в грязи два бревна — обыкновенные бревна сантиметров по тридцать в комле. Одна сторона стесана. «Что это?» — спрашивает комбат. Я отвечаю — бревна. «А для чего они служили?» Я поглядел поближе — вижу на обоих бревнах вырублены пазы по краям да посередке, ну, как всегда для козел рубят, вроде ласточкина хвоста, чтобы ноги врубить. Только я хотел доложить, что бревна были верхом шестиногих козел, комбат перебивает: «Из этих бревен козлы были сделаны. Теперь, говорит, если найду вмятины, — все ясно». Пощупал стесанное место, грязь стер; и правда — есть вмятины. «Мины, говорит, под второй и под четвертой сваями заложены. Пошли быстрей!» Вот, думаю, человек. То курил-курил, а то — быстрей. Иду за ним и не понимаю, откуда он вывел, что под второй и четвертой сваями мины. Подошли к реке. Он и раздеваться не стал, только разулся, документы из кармана вынул — и в воду. Пощупал под водой вторую сваю — и по лицу видно — нашел. Стал четвертую щупать — опять нашел.
Оказывается, что душегубы надумали? Они поставили по обе стороны опоры козла, вывесили верх моста домкратами, поддомкратили прогоны — от этого и вмятины — а потом стали пилить под водой сваи. Выпилили из них этакие круглые пироги, сантиметров по десять толщиной, а в пустое место сунули мины. И получилась свая как свая, а на глубине примерно метр у нее прослойка в виде противотанковой мины. Вот ведь что надумали. И подгадали, куда мины подвести: под вторую и четвертую сваи — тоже знают, что на эти сваи вся сила ложится, когда машина идет. Ну, а потом разобрали козлы, раскидали бревна, чтобы у нас сомнения не было, и ушли.
Вот в тот день я и понял до конца характер нашего комбата товарища Алексеенко. Это правда — упрямый у него был характер, только упрямство шло от ума, от сознания цели, а не от глупости. Правда говорится: кто прям — тот упрям, и лучше сказать — не упрямство у него было, а настойчивость. Пока ему все до самой мелочи не станет ясно — никогда не отступится, хоть ты его тут бомбой бомби. Конечно, на войне много думать некогда, на войне торопиться надо. Но и на войне, бывает, быстрей получается, когда вовремя притормозишь да подумаешь.
Гражданский человек
Сегодня получилось нескладно. Только Степан Иванович сел на свое место, только мы устроились вокруг него и собрались слушать — подошел дежурный по лагерю. Все встали. Дежурный был, видимо, не в духе. Он осмотрел нас, сделал несколько замечаний: одному — по поводу заправки, другому — за небритую личность. А когда выговаривать стало совсем нечего — выразил недовольство, что вместо работы на кухне весь наряд повадился слушать старые сказки. И хотя под конец он ушел с шуточкой — всех задели его несправедливые слова о сказках — думали, что Степан Иванович обиделся и не станет рассказывать. Пока проезжались насчет неопытной строгости дежурного, Степан Иванович спокойно покуривал и молчал; а потом вдруг улыбнулся и начал:
— Вот вы, ребята, его критикуете; больно вам интересно, что он, по-вашему мнению, совершил ошибку. А веселого здесь ничего нет. Вы того не забывайте, что если, например, война — так он вас в бой поведет. Или вы не понимаете, что человек молодой, не старше вас, и тоже не полностью определился. Вот я прошлый раз хвалил нашего командира батальона, товарища Алексеенко. Так ведь он тоже не таким родился, а таким сделался. Характер его укрепила окружающая обстановка: и военные обстоятельства, и товарищи, и в том числе мы, солдаты. Командир, конечно, отвечает за солдата, но и солдат своим поведением отвечает за командира — это вы имейте в виду.
Помню, как пришел к нам в батальон товарищ Алексеенко: наружность у него была генеральская — полный, дородный такой, высокий дяденька, на лице — строгость; очень, между прочим, гордился, что у него бас. Пожилой был — после обеда всегда распускал ремень. Назначили его командиром батальона, а меня приставили к нему посыльным. Работал он раньше где-то в Дорпроекте в Ленинграде и никогда на военной службе не бывал. Пришел я к нему первый раз и вижу: стоит он возле табуретки, положил возле себя памятку и учится по ней портянки заматывать — там, если помните, это подробно описано. И даже чертежи есть. Увидел меня командир батальона, законфузился, побыстрей, кое-как обулся. Долго он просидел на канцелярской работе? когда читает — очки надевает, когда на тебя смотрит — очки скидает. От военного у него и были только гимнастерка, бриджи да портупея, а остальное все свое носил: под гимнастеркой — фуфайка домашняя вязаная, а исподнее — шелковый трикотаж. В общем только снаружи военный, а внутри — самый что ни на есть гражданский человек. Это теперь у вас обученные командиры, а в войну, бывало, и таких брали. Бывало, как-нибудь неточно выполнишь его указание — он никогда выговора не сделает, а только обидится. Обидится и не разговаривает: молчит и сопит, как малое дите. Прямо жалко было на него глядеть, деликатный был человек — инженер, между прочим.
Однако дело свое он знал на отлично. Прикажут, к примеру, построить мост, так он тут тебе на любом подручном клочке бумаги в момент нарисует схему и размеры проставит — под какую требуется нагрузку — без всяких справочников и чертежей — все в уме вычертит, да еще скажет, сколько пойдет на строительство лесу и сколько гвоздей. Научный был человек.
Ну, наши ротные командиры — народ бывалый — быстро раскусили своего нового начальника — и началась в нашем батальоне путаница. На офицерских собраниях спорят, как на базаре. Сижу, бывало, за дверью, слушаю их и тошно становится. Тут бы товарищу Алексеенко встать, хлопнуть рукой по столу и сказать: «Приказываю, мол, так-то и так-то» — и делу конец. А он все «позвольте» да «простите», и нет этим «позвольте» да «простите» ни конца ни края. Наконец разойдутся все, а он сядет за стол, голову руками обхватит и задумается. Долго так сидит — голова в руках. Так мне стало при нем печально, что я собрался рапорт писать, чтобы направили меня куда-нибудь в другую часть, а то я тут все нервы израсходую. И если бы не подоспел в ту пору особый случай — не остался бы я с ним.
А дело было зимой, в сорок первом году. Стояли мы тогда, если помните, на Карельском фронте. Морозы наступили трескучие. Хлеб привозили застывший — буханки рубили топором. В рот положишь кусок и сосешь, как ледышку. А помещений для жительства вдоль дороги было недостаточно, точнее сказать вовсе не было. Дорога шла тайгой да озером по льду, а где в тайге и на льду помещения? Только в самом конце трассы, километрах в десяти от передовой, стояла деревня. Впрочем, одно название, что деревня; как говорится, три избы — шесть улиц. Было там два дома без крыш и одна маленькая банька с каменкой — вот и вся деревня. Потом, помню, доставили нам сборную халупу из фанеры — и по размеру и по расположению точно как железнодорожная теплушка — с двойными нарами. Удобная была халупа — на полозах — куда хочешь можно перевозить. В баньке стоял штаб нашего батальона, а в избах — другие части. А народа в ту пору возле нас стояло много. Кого там только не было! И авторота стояла, и регулировщики, и девчата из полевой почты, даже банно-прачечный отряд — и тот возле нас стоял. Но эти, постоянные, еще ничего — нарыли землянок, накрыли избы брезентом вместо крыш и живут. Больше беспокойства причиняли проходящие части. То одна часть придет, то другая, и все, конечно, бегут в избы, подремать да погреться. А избы — они не резиновые: один взвод примешь, второй примешь, а третий уже не лезет. Почти каждую ночь шум стоял в нашем расположении. Один раз какие-то фронтовые командиры до того переругались, что чуть ли не стали друг возле друга пистолетами махать. Что сделаешь — каждому командиру своих солдат погреть охота.
Вот узнало про эти дела высшее командование и приняло такое решение: во избежание беспорядка назначить начальником гарнизона командира дорожностроительного батальона товарища Алексеенко, поскольку наш батальон был самым постоянным жильцом в тех местах. Ну вот, как узнал я про это решение, так и отставил рапорт писать. Разве можно было комбата бросать в такой ситуации? Остался я при нем. И началась у нас не жизнь, а каторга. И старшины, и полковники, и шофера — все к нам, как в жакт идут: давай жилплощадь — и точка. Выкопали мы в свободное время две землянки, специально для проходящих частей; не успели оглянуться — их авторота заняла. Сделали в избах трехэтажные полати — под самую крышу подобрались — пришли на другой день — а там уже связисты лежат. Напишет, бывало, товарищ Алексеенко приказание командиру автороты — принять на ночлег столько-то человек, а командир автороты бежит и доказывает, что некуда. Уговаривает его товарищ Алексеенко, уговаривает, потом махнет рукой и обращается в другую часть. А в другой части то же самое положение. И кончалось тем, что наш комбат предоставлял для ночевки свой штаб, а если командир понапористей, так и койку свою ему уступал, а сам ложился на пол.
Однажды приходит какой-то шустрый интендант, просит разместить команду в шестнадцать человек на сутки. А деть их было в ту ночь совершенно некуда. Все помещения были забиты до невозможности. Объясняет товарищ Алексеенко обстановку, а интендант кричит: «У меня срочное задание фронта, а какое задание, и сказать не могу, потому что оно секретное. Вы будете отвечать, если поморожу людей! Самому командующему буду телефонировать!» В общем берет интендант товарища Алексеенко на пушку. И поддался комбат: велел всем освободить помещение, рассовал писарей в землянках и поместил всю эту секретную команду в нашей баньке. А сам оделся и пошел на дорогу. Я за ним пошел: «Куда вы, говорю, товарищ командир?» «Трассу, говорит, погляжу. Ночь, говорит, как раз светлая. Очень удачно». А сам усталый такой, замученный. Откинул я тут все воинские дистанции и говорю ему, как отец сыну: «Нельзя, говорю, вам так себя держать, товарищ Алексеенко. Твердость вам надо проявлять. А при такой вашей слабости — скоро вас совсем на нет сведут». Думал, сейчас он меня поставит на место, но, все равно, не вытерпел и сказал. А он вздохнул только и отвечает: «Что сделаешь, Степан Иванович, гражданским человеком я родился, гражданским, наверное, и помру. Сам вижу, что иначе надо поступать, а переломить себя не могу». И начал — мы, мол, тыловики, а они на фронт идут, на передовые, им надо оказывать внимание и заботу…
Неделя прошла — приезжает большое начальство. Увидало наше положение и оттянуло все почти части назад. Стало нам жить просторней. Но не надолго. Прошла еще неделя, и понаехали новые части. «Ну, думаю, если что-нибудь не надумаю — прежняя карусель пойдет». И стал я проводить свою политику.
Политика, впрочем, была простая. Помню, первый раз так случилось: приходит ко мне в предбанник командир прожекторной роты и велит доложить о нем начальнику гарнизона. Иду к товарищу Алексеенко. Потоптался там немного, выхожу обратно. «Обождать, говорю, велено. Заняты». Командир садится, начинает беседовать для сокращения времени. «Начальник гарнизона, говорит, прислал к нам на постой десять человек. А где я их помещу? Места-то нету». «Надо бы поместить, — говорю я. — Тоже ведь люди». «Люди-то люди, а свои бойцы мне дороже, я за своих бойцов отвечаю в первую голову». «Это правильно, говорю, только сомневаюсь, что вы это докажете товарищу Алексеенко. Он у нас такой — ни за что не сменит решения. Сказал — как отрубил!» «Да что ты?!» «Ей-богу. Сколько я около него ни живу — ни разу не видел, чтобы он приказание переменил. Не человек — железо. Хоть идите к нему — хоть нет — одинаково будет». Вижу — подтягивается командир прожекторной роты, проверяет заправку и делает серьезное лицо. Подготовил, значит, я его таким способом и допустил до товарища Алексеенко. Слышу: «Разрешите доложить». «Пожалуйста». «Принять людей нет никакой возможности». Дальше начинает товарищ Алексеенко тянуть, как обыкновенно, мочалу: «Вот, мол, беда… Значит, никак не сможете? Значит, нет у вас нисколько свободного места?» «Ну, думаю про себя, вся подготовка пропала. За зря старался». И только так подумал — слышу голос командира прожекторной роты: «Хорошо. Как-нибудь потеснимся. Разрешите выполнять?» То ли он подумал, что товарищ Алексеенко смеется над ним, то ли испугался, что проверять пойдет — не могу по сей день понять, — а только вижу — стук, стук каблуками, и как положено, строевым шагом выходит командир прожекторной роты на волю. Товарищ Алексеенко даже немного растерялся. Вышел на порог и глядит ему вслед. Потом подумал и сказал сам себе с удивлением: «Вот это действительно — дисциплинированный командир». С тех пор стал я со всеми приходящими проводить в предбаннике обработку. Чего я только не говорил про товарища Алексеенко: и что он слова поперек не терпит, и взыскания накладывает только на полную катушку… И знаете — наладился порядок. Недели через две сам товарищ Алексеенко стал удивляться, когда слышал какое-нибудь возражение.
Как-то поднимает он меня ночью, велит сходить в расположение второй роты и срочно вызвать командира. Метель тогда, помню, мела, холодно было. Я по старой памяти отговариваюсь: «Может, утра дождемся, товарищ Алексеенко… И вы бы спать ложились. А то не едите путем, не спите. Так совсем на нет можно сойти». Как он тут вскочит, да как закричит на меня своим басом: «Какой я вам товарищ Алексеенко! Как надо отвечать? Повторите приказание!» Повторил я, конечно, приказание и пошел. Обидно мне стало до невозможности. Ругаю его последними словами, а себя— еще крепче. «Вот, думаю, наладил ему характер на свою голову». А потом, когда пробежался по заметухе да сдуло с меня дурь холодным ветерком — весело что-то мне стало. Как ни говорите, а каждый солдат любит, когда командир не мочалу тянет, а выказывает ясность и твердость.
Проверка
— В конце сорок третьего года, — начал Степан Иванович, — перебросили нашу часть в Крестцы; там нас выгрузили из эшелонов и повели пешим ходом куда-то к Ильмень-озеру. Войска по ночам туда шла целая туча; и пехота шла, и артиллерия, и аэросани ехали на лыжах с пропеллерами. «Ну, думаю, скучать тут не придется, крупные намечаются дела». И верно — в то время высшее командование готовило удар на Новгород.
Кто бывал в тех местах, тому известно, что возле Новгорода лежит плоская низина, и дорога к нему идет длинной высокой насыпью. Не доходя до города километров пять, дорогу пересекает река под названием Малый Волховец. Комбат, товарищ Алексеенко, говорил, что мост через эту реку построен до войны по его личному проекту, ручался, что по его мосту пройдут любые танки, и брался нарисовать схему пролетного строения и проставить все размеры. Конечно, мы удивлялись, как он помнит размеры, но толку от них никакого не было: летчики говорили, что моста нет и над рекой торчат только остатки свай.
Однако высшему командованию было интересно, чтобы дорога стала бесперебойно действовать сразу, как только враг будет выбит из Новгорода, и комбат, товарищ Алексеенко, получил задание подготовиться к срочному восстановлению моста. Конечно, к самой реке мы не могли подобраться, поскольку тогда она была еще по ту сторону фронта, но кое-какую работу проводить стали. Начали, например, валить лес, ковать скобы, ошкурять бревна, пилить доски — и все это вывозить к дороге с тем расчетом, чтобы как только врага отгонят — сразу ехать на место с готовым материалом. Мы, значит, валим лес, а товарищ Алексеенко составляет чертежи, согласно которым должен выкладываться мост. Один раз, перед Новым, помню, сорок четвертым годом захожу в штаб, слышу, товарищ Алексеенко говорит: «Дорого бы я дал, чтобы узнать, что там торчат за сваи. Если они нетреснутые и не качаются, мы бы, говорит, раза в два быстрей поставили мост». «Конечно, товарищ комбат, — говорит наш командир роты, — если старые сваи крепкие, мы бы их нарастили — и делу конец. Об опорах бы вопрос отпал». «Правильно, — говорит комбат, — мы бы, никого не дожидаясь, собрали мост здесь. И по первой команде перевезли бы его на место в разобранном виде».
Вспомнил я тут, как служил в разведке в Финскую кампанию, и попросил разрешения сходить проверить сваи. «Как же ты пойдешь, Степан Иванович? — сказал комбат, — там же фашисты». Я объяснил, что никаких фашистов возле самой дороги нет; в основном они все, конечно, сидят по дзотам и землянкам, поскольку холодное время, и и если угадать туда, например, в рождественскую ночь, когда они перепьются и потеряют бдительность, — все будет в порядке.
Долго не соглашался товарищ Алексеенко на мое предложение, но, видно, сильно ему хотелось знать, что там за сваи, потому что, наконец, командир роты и уговорил его; поставил он условие, чтобы взял я с собой солдата, понимающего мостовое дело, и пожелал успеха.
Мы не стали терять времени даром. Построили роту. Командир объяснил задачу и велел сделать шаг вперед, кто хочет добровольно пойти со мной на выполнение задания. Из строя шагнули человек пять-шесть. Глянул я на них и удивился. Конечно, не тому удивился, что мало вышло: у нас никогда не было, как в кино показывают, что вся часть делает шаг вперед. Это понятно: часть нестроевая, народ, в основном, собран пожилой, женатый, по каждому детишки дома плачут. А удивился я тому, что из строя вышел человек, от которого никто такой прыти не ожидал, — вышел солдат второго взвода Черпушкин. Щуплый такой мужичишко с мокрыми глазами, плохо заправленный — вышел и стоит, в землю смотрит. Было известно, что родом он с Алтая, работал там дорожным мастером. На передовой воевал недолго: ранило его осколком авиабомбы. Вылечили его, конечно, и месяца два назад прислали к нам. Плотник он был первой руки, но славился у нас лентяем, разговаривал редко, а если и открывал рот, то говорил направо, а глядел налево. И разговоры его были пустые: все больше про харч — почему в строевых частях кормят лучше, почему у нас каждый день каша-блондинка, и прочее, вроде этого. Ужасно, между прочим, боялся самолетов, а вечером, когда ложились спать, накрывался с головой шинелью и шептал какие-то стихи. Ребята в глаза смеялись над ним, а он хоть бы что: молчит и хлопает мокрыми веками. Не мог я понять этого человека — так, какой-то пирожок без начинки. Вот он и вышел вперед. Солдаты закивали, стали тихонько толкать друг друга локтями, ухмыляются между собой — вот, дескать, какое среди нас явление существует. А Черпушкин стоит в своей смятой шинелишке, в землю смотрит. Если бы я знал тогда, что в мыслях у Черпушкина было не задание выполнять, а к немцам перебежать, — все бы по-другому поворотилось. Но такого подозрения у меня, конечно, не было. Поглядел я на него и подумал: «Ведь если разобраться, никто его всерьез не принимал, никто с ним душевно не беседовал. Кто знает — что за человек? На что способен? Не разжевав — вкуса не поймешь. Возьму-ка, думаю, его на задание. Тем более — дорожный мастер, разбирается в мостовом деле лучше нас всех». Посоветовался с командиром роты и взял.
И вот в ночь под рождество отправились мы с Черпушкиным поглядеть, что осталось от моста на реке Малый Волховец. Поужинали как следует. Умяли по две порции каши, забрали у поваров белые халаты и пошли. При нас были топоры и винтовки. Как я говорил, дорога на Новгород настлана по насыпи. Вдоль подошвы насыпи тянется глубокая канава, и мы спокойно прошли по этой канаве километров пять — я впереди, Черпушкин немного сзади. Прошли километров пять, остановились, стали прислушиваться. Ночь выдалась лунная, тихая, и по левую сторону насыпи белела пустая равнина. Ни окопов, ни проволоки, ни следов — ничего не было, только снег блестит под луной, чистый такой, словно, как выпал с осени, так и лежит нетронутый. А тишина такая — будто вымерло все. И неизвестно, где мы с Черпушкиным — на своей еще земле или уже на оккупированной территории. Жутковато, конечно, немного. Взглянул я на Черпушкина — и снова удивился. Сидит он в канаве, ровно у себя дома на печи, и выковыривает снег из голенища. «Может, говорю, на насыпь слазить, поглядеть, что на той стороне?» — «А что тут лазить, товарищ старшина, — отвечает Черпушкин. — Ничего там нету. Они по ту сторону реки сидят. Возле Новгорода у них линия обороны». И опять я на него удивился: «Какой, думаю, спокойный и рассудительный!» Еще с полкилометра прошли, снова остановились. Я все-таки полез на насыпь. Смотрю, вдали, справа, холмики чернеют, кое-где свет помигивает. Ясно — фашистские дзоты. Так, на глазомер, километра полтора до этих дзотов, а до реки, по моим расчетам, осталось не меньше полкилометра. Лежу, рассуждаю, по какой стороне лучше дальше идти — вижу, лезет ко мне наверх Черпушкин. Вылез на насыпь и встал во весь рост. Потянул я его за полу шинели, приказал ложиться. А он лег и смеется: «Не бойтесь, мол, ничего не будет. Они в данный момент свои грешные души пропивают». Я говорю: «Ты потише все-таки. Может быть, и не все пропивают». А Черпушкин смеется: «В эту ночь, говорит, у них, басурманов, не пьют только телеграфные столбы. И то потому, что чашечки дном кверху».
Ну, ладно. Двинулись дальше, подошли к реке.
Как увидел — торчат надо льдом черные концы свай, так и отлегло у меня от сердца. Одно дело, хорошо, что мост не взорван, а сожжен. Значит, подводная часть не потревожена, и на старые сваи можно давать нормальную нагрузку. Другое дело, хорошо, что никто здесь не копался: сваи стоят в том самом порядке, как разъяснил комбат товарищ Алексеенко. Его сваи стоят. Теперь, чтобы веселей домой было идти, надо проверить, здоровы ли эти сваи, не гнилые ли они, не потрескались ли. Надо выходить из-за насыпи на лед, на открытое место. А с открытого места фашистские дзоты совсем близко видать, словно, пока мы шли, они тоже к реке пододвинулись. Ничего не поделаешь, задача боевая, выполнять ее надо. Легли мы с Черпушкиным на сытые свои животы и поползли. Подрубил я легонько крайнюю сваю, вижу, здоровая древесина. Проверил на выборку еще несколько, попробовал рукой пошатать, вижу — крепко стоят, надежно. А Черпушкин смеется: «Разве так ты ее узнаешь?» — и не успел я ответить, встает он во весь рост на ноги и как хряснет обухом топора по свае. Загудело до самого Новгорода. У меня дух занялся. Приклеился к земле, дожидаюсь, что будет. Минута прошла, ничего не слыхать. Только в дальнем дзоте запел петух. Пронесло. «Ты что же это, с ума сошел? — говорю. — Ложись сию секунду». А он: «Холодно, говорит, лежать, товарищ старшина», — и ухмыляется. Тут в первый раз возникло у меня против него подозрение. «Ложись, стрелять буду», — говорю я ему и припугиваю винтовкой. И слышу от него в ответ странные слова: «А грех убивать живого человека», — сказал Черпушкин. Но лег все-таки, без охоты, а лег. Ну, поскольку в основном наша задача была выполнена, приказываю ему подаваться назад. «Пошли, говорю, домой без разговоров» Пустил я его вперед, и тем же путем мы воротились в расположение.
Пришли ко мне в избу. И повара, и писаря — все спят, конечно. Пятый час утра. Только сели чайком погреться — вызывают меня в штаб к комбату. Я — хвать шапку, выбегаю на улицу Смотрю — шапка маленькая, одну макушку прикрывает: второпях перепутал, схватил головной убор Черпушкина. «Ладно, думаю, уши опущу, не так станет холодно». Опускаю уши — выпадает бумажка. Поднял я ее, гляжу — пропуск во вражеский тыл. Тот самый, какие они тогда со своих самолетов кидали. И штык в землю, и орел, и надпись… Тут весь Черпушкин для меня прояснился. Вот он почему на ноги вскакивал, вот почему топором стучал. Врага на себя зазывал… Помню, все во мне переворотилось, все поплыло в глазах. И про комбата забыл, и про сваи, повернулся и пошел обратно, как лунатик. Захожу в избу — дрожу весь. Черпушкин как взглянул на меня, так и раскрыл рот; назад отвалился, хлопает мокрыми веками. Весь побелел — даже губы у него побелели — все понял. Хотел я сказать что-то, но язык не послушался — бросил ему в морду бумажку поганую и побежал к комбату. По пути велел часовому из избы его не выпускать. Ну, ладно, доложил комбату, стал рассказывать про это дело. Минуты через две стучит дежурный по роте. Что такое? «Черпушкин застрелился!» И верно — застрелился. Разулся, вышел в сени, приставил к груди винтовку и пальцем правой ноги спустил курок. Ну, что ж. Закопали его в лесу и место заровняли.
Так и кончился Черпушкин. Закопали его, а на другой день приходит ему письмо. На трех страницах жена пишет, на четвертой — сынишка. Тогда я мимо этого письма без внимания прошел, и теперь, конечно, вину Черпушкина нисколько не умаляю. Но мне думается, что есть в этом происшествии какая-то, может быть самая малая, доля и нашей вины. На войне от командира не только команда нужна. Первое дело командира — изучить каждого солдата и понимать его, как самого себя. Кто знает — если бы пригляделись мы к Черпушкину повнимательней, может быть, и раскусили его гнилое нутро. Тем более, когда стали перебирать его барахло, нашли стишки про Христа и про божью матерь. Долго не могли понять, что это за стишки, — думали, может, шифр какой-нибудь, а потом нашелся умный человек и разъяснил, что есть у них там, на Алтае, какая-то беспоповская вера. Эти беспоповцы такие стишки складывают. По этой чудной вере, между прочим, считается за великий грех убивать врага. Вот Черпушкин и собрался в плен подаваться, чтобы не было ему соблазна убить фашиста и согрешить перед своим беспоповским богом. Если бы мы раньше все это про него знали — может быть, и схватили бы его за шиворот. А может быть, — чем черт не шутит, — смогли бы вернуть ему человеческий облик — ведь окружала его наша здоровая, солдатская семья.
Нестроевики
— Вот вы спрашиваете про воинское геройство и про причины, какими оно обусловлено, — начал Степан Иванович. — А что я могу сказать вам про воинское геройство да еще про причины, какими оно обусловлено? Служить мне пришлось чуть ли не всю войну в тыловых частях, во втором эшелоне. Часть наша в основном была скомплектована из пожилых ладожских мужиков и псковских плотников — скобарей, и называли нас — нестроевики. Винтовку мы не очень уважали; стрелять из нее было не по кому, а чистить, между прочим, требовалось каждый день. Главное наше оружие было — топор и лопата. Топором мы тебе что хочешь сделаем: и избу срубим, и карандаш завострим. Иногда, правда, присылали нам фронтовиков из госпиталей, так те плохо приживались — неделю поработают и просятся снова на передовую.
Бывало, построит их старшина — веселый у нас был старшина — Осипов, — бывало, построит их и уговаривает: «Что вы рветесь на передовую? У нас — одно дело — плотничать научитесь и домой вернетесь со специальностью, а второе дело — после нашей работы щи слаще». А они — свое: «Нам хоть сухой паек, да только бы врага бить, такая у нас по нынешним временам специальность». Конечно, каждому охота конкретно воевать, а не копаться в тылу с лопатой. Мне и самому совестно бывало: кругом люди воюют, Родину защищают, а ты возле них с лопатой ходишь — ровно дворник, только без бляхи. Однако народ у нас был в основном политически грамотный, сознательный, и службу свою мы старались справлять аккуратно. А служба была нелегкая.
Помню, стояли мы на Волховском фронте, возле Киришей. Зимой ударили наши по врагу — он попятился немного и окопался на горках. И к весне сложилась тяжелая обстановка: оказались наши части в низине, а проще сказать, на замерзшем болоте, а враг наверху — на горках. Пока болото не распустилось, надо либо вперед продвигаться — либо назад отходить. Чтобы назад отходить — об этом, конечно, никто и слышать не хотел. А вперед враг не пускает — уцепился за высоты, закопался в землю и сидит. Надо было что-то поскорей придумывать. Правда, по сводкам до тепла было еще далеко, но старики между собой говорили, что весна придет ранняя и дружная. И верно, уже в конце февраля подуло с весны: начались оттепели. Снег сделался сырой, слабый: стукнешь ногой — отпадает от каблука плюшкой. А в начале марта кое-где машины с боеприпасами стали вязнуть. И пушки вязнут. И в землянках вода. Наши изо всех сил стараются врага сверху сбить, но ничего не получается; мы дороги латаем, машины протаскиваем, а тоже ничего не получается — весну не можем перебороть. Тем более — болото.
Вот тогда строительным частям второго эшелона и было приказано отставить временный ремонт дорог и в самый кратчайший срок построить надежные коммуникации к фронту. А какие на болоте могут быть коммуникации? Исключительно деревянная гать. И не легенькая гать из какого-нибудь там подтоварника, а тяжелая гать из нормальных бревен, такая, чтобы на нее не только легковушки, но и танки чтобы не обижались.
Стали мы ее строить. А вокруг — разлилось все. Дорога вовсе рухнула. Грязь кругом — воробью клюнуть негде. Строим мы, строим, а конца не видно. Да и где тут конец, когда не один десяток километров требовалось застлать: и на передовую, и к складам, и к станции снабжения, и вдоль фронта, и туда, и сюда… Среди работы приехал к нам верхом на лошади генерал, член Военного совета армии; назначил окончательный срок, потребовал усилить темпы, потому что на передовых не хватает боеприпасов, а махорки для бойцов осталась одна сутодача. Все это мы и до него понимали, но как он уехал — стали еще крепче работать. Это не шутка — генерал приезжал. Для сокращения времени переселились из землянок на место работы. По новому распорядку на отдых определенного времени не было отведено — работали круглые сутки. Если вовсе невмоготу становится, попросишь разрешения у командира и приткнешься тут же, на бревнах. Только я в то время спать не любил, потому что сон все один и тот же снился— будто топором по бревну тюкаешь. Думаю, чем во сне тюкать, так лучше наяву. А потом, разве это Спанье: только, кажется, веки сомкнешь, — старшина будит: «Приступай к работе. Много спать вредно. У солдата один глаз спит, а второй смотрит. А ты, говорит, оба закрыл, да еще ушанкой накрылся. Эвон как разоспался, — шинель к земле примерзла». Просишь еще немного подремать — не дает. «У тебя, говорит, совести нет. Ребята на передовой голодают, а ты тут спишь». Ну, рассердишься на него и на себя, конечно, шинель отдерешь — и снова за работу.
Однако чем дальше, тем становится виднее, что к сроку мы не поспеваем. Одно дело — лошади подвели. Лошади трелевали бревна — а им, как хочешь, по закону полагается регулярный отдых. Второе дело — лесу не хватало. Правда, неподалеку, на сухом островке, росла высокая ровная сосна. Но в этих местах долгий бой происходил и все стволы были начинены осколками. С виду — крепкая сосна, а свалишь ее — рассыпается на мелкие кусочки, как стеклянная.
Подошел срок — снова приезжает член Военного совета. Видит — по обеим сторонам дорога готова, а в середине осталось метров двести пустого болота. Нахмурился — приказал собрать роту. Построили роту. Стал он разъяснять обстановку на передовой: солдатам, мол, патроны выдают по счету и стрельбы без крайней необходимости не открывают, к тому же раненых невозможно эвакуировать… Говорит он и говорит. А у нас в те ночи ребята приладились спать стоя. Как со мной это случилось — не знаю, я тоже забылся: вроде и в положении «смирно» стою, и глаза у меня смотрят, а если поглубже разобраться — третий сон вижу.
Стою так-то и вдруг тихонько наплывает на меня темное облако и слышится из облака голос: «Верно, товарищ сержант?» И от этого голоса словно окунаешься в теплую воду, и на душе становится спокойно и печально. «Давно, думаю, такое не снилось. Вот бы еще пригрезилось». И только подумал — снова наплывает облако и снова раздается голос: «Я к вам обращаюсь, товарищ сержант», — и качается облако и закачивает, словно колыбельная песня… Стою, не шелохнувшись, боюсь сон перебить. И вот оно наплывает опять, и говорит громко: «Товарищ сержант!» Тут я встряхнулся — облако сошлось плотней и явился из него член Военного совета. «Спите?» — спрашивает. «Сплю, товарищ генерал. Виноват». А член Военного совета поглядел на меня молча и подзывает командира роты. Поговорили они немного — слышу приказ: отводить бойцов в расположение на полный отдых — на двенадцать часов — по очереди, повзводно. В первую очередь идти отдыхать досталось нашему взводу. Обидно мне стало, прямо не знаю как. Выхожу я из строя — подхожу прямо к генералу: «Наложите на меня, говорю, товарищ генерал, любое взыскание, только не гоните в землянки. Это мне в данный момент все равно, что под арест На крайний случай — отправьте меня одного, а остальных не надо — они ни в чем не виноваты». А он сказал только: «Выполняйте приказание» — и отвернулся. И, вроде, улыбка тронула его лицо; то ли мне показалось, то ли он действительно улыбнулся — не знаю. Ну, ладно. Пошел наш взвод на отдых.
Командир взвода на трассе остался, а повел нас старшина Осипов. Идем мы в свое расположение потихоньку — как тени идем, а у меня на душе кошки скребут. Километра три прошли — старшина командует податься в сторону. Подались в сторону — видим — едет подвода, а в подводе гремит ведро. Лошадь еле тащится, еле ноги вытаскивает из грязи, телега скрипит, заваливается в размытых колеях то на этот бок, то на тот. А в телеге сидят двое: старый солдат и молоденький раненый ефрейтор. У ефрейтора все лицо забинтовано, только глаза наружу. И хотя держится он за нахлестки обеими руками — кидает его то в одну сторону, то в другую. И ведро возле него гремит, гремит. Такая у ефрейтора мука в глазах, что и сказать невозможно. «Закури, — говорю вознице, — дай ему передохнуть». «А когда я его довезу до госпиталя с перекуром-то? — отвечает старый солдат. — И так, говорит, двоих вез — один по пути кончился. Кабы дорога была, а то нет дороги». А ефрейтор смотрит на нас без укора и без злобы, ничего не понимает — больно ему — нет спасенья. Встретился я с ним взглядом и встал на месте. Не могу дальше идти — совесть не пускает. «Товарищ старшина, говорю, разрешите на трассу вернуться». Пошел обратно, — смотрю, один за другим весь взвод за мной тянется. Только Жилкин из нашего отделения не смог воротиться: как лег, так и заснул прямо на пути. Возвращаемся — а генерал еще на трассе. Смеется и спрашивает: «Сколько же вы километров понапрасну промаршировали?» А старшина рапортует: «Всего девять километров: взвод в два конца — шесть и Жилкин — три», — веселый был старшина…
А бойцы других взводов, как только нас увидели — обрадовались, зашевелились, и работа разгорелась вовсю. Что тогда произошло — не могу понять. Так полетели щепки, будто к нам на болото пришла свежая воинская часть. Какая-то злость на меня напала — до каких пор, думаю, это болото будет людей мучить? И не только я разъярился а и все. Все закипело. Только и слышно: «Давай лесу!» «Давай скобы!» Вижу — и командиры взводов, и командиры рот топорами тюкают, повар бревно тащит. Кладу настил и сам на себя удивляюсь: час назад и спину ломило, и глаза слипались, — а теперь все как рукой сняло, что хочешь смогу сделать, — только материал давай.
Дело пошло споро. На глаз было заметно, как продвигается наша дорога. Шло бы оно еще быстрей, если бы враг не мешал. Среди дня прилетел фашистский «костыль» — корректировщик, стал круги делать. А мы все скучились на последних ста метрах и на том конце, на готовой дороге, уже машины скопились, ждут, когда кончим участок. И, конечно, минут через пять начала бить ихняя артиллерия. Некоторые снаряды падали в болото, а некоторые угадывали в настланную гать. Тут кладешь бревна, притесываешь, как полагается, одно к одному, а он ударит и раскидает всю работу в разные стороны. Ничего не поделаешь, на то и война: он раскидывает, мы обратно кладем… И людей, конечно, выводил из строя. Старшину Осипова ранило, осколок угодил ему в живот. Напомнил он, чтобы Жилкина сбегали побудить, полчаса подышал и умер.
К вечеру кончили, наконец, настилать эту дорогу. Как только уложили последнюю жердину — сразу зашумели мимо нас машины. Так и идут — одна за одной.
Стали мы собираться домой — в расположение. Меня тогда поставили старшиной вместо выбывшего Осипова — велят строить роту. «Эту команду, думаю, два раза повторять не придется. Эта команда исполняется у нас по-гвардейски, — как говорил товарищ Осипов». Подаю команду строиться — никто не идет, словно оглохли. Стоят вдоль дороги и глядят на грузовики. Я тоже, как взглянул на машины, так и позабыл обо всем: и о своей новой должности, и о команде. Стою и смотрю на машины, как завороженный. Красиво они шли, одна за одной, родимые, везли на передовую боеприпасы, продовольствие, махорку…
Конечно, издали теперь это смешно вспоминать, но была у меня тогда фантазия, будто мы тоже воевали, и не то, что воевали, а даже выиграли важнейший бой.
После этого отдохнули мы, конечно, сутки, а потом нас перебросили застилать следующий участок…
Так что ничего я вам полезного про геройство из своей жизни сказать не могу. Только вот говорят, что геройству иногда мешает робость. Так ли это — не знаю. По-моему — робость у каждого бывает, и не в ней дело. Самое главное солдату — осознать самого себя. Вот когда ты увидишь перед собой цель, которую достигнуть тебе важнее собственной жизни, когда станешь пробиваться сквозь первые трудности, чтобы дорваться до этой цели, когда тебе будет некогда вспоминать ни о робости, ни о голоде, ни о сне, — вот тогда ты и поймешь, что душа твоя тверже и красивей, чем о ней тебе думалось на покое, и поймешь, что можешь сотворить куда больше предписанной тебе нормы. Тогда ты и станешь настоящим воином с большой буквы. Конечно, такая цель лично перед тобой встает не каждый день. Так ты учись как можно лучше выполнять обыкновенные задания, потому что никогда из тебя не получится герой, если ты спустя рукава выполняешь обыкновенные задания.
Машенька
Иногда Степан Иванович начинал рассказывать так, что невозможно было угадать, к чему он клонит и куда ведет. Да и сам он, наверное, не смог бы объяснить длинный ход своих мыслей: сказалось от души, а почему сказалось — кто его знает.
На этот раз Степан Иванович тоже начал издалека:
— Между прочим, принял враг на нашей земле такую моду: рубить молодой березнячок — толщиной с девичью руку — и делать из белых жердочек палисадники, беседки, скамейки, перила и разные фигурные ограды. Когда наши части пошли на запад, возле каждого ихнего штаба я видел ограды из белых жердочек. Измывались они над березками, как могли, и в дугу гнули, и на мелкие кусочки рубили.
Однажды поехал я в госпиталь. Вижу — на случайном месте, вдали от дороги, стоит белая беседка со скамейками, со шпилем — все честь честью. Вечер, кругом нет никого, а вдали пустая, никому ненужная беседка. Много на нее было загублено молодых березок. Помню, жалко мне стало эти березки до невозможности. Подошел, тронул гладкие, шелковые жердочки, а они тепленькие — словно еще живые. А на одной возле косого обруба сок застыл — как слеза. Будто плакала березка под вражеским тесаком.
Степан Иванович нахмурился, сердито кашлянул и стал сворачивать цыгарку. Потом закурил и продолжал:
— Вы крепче, ребята, держите карабины в своих руках, глядите, чтобы этого больше не было…
Ну, ладно. Приехал я в госпиталь. Рука, говорят, сильно перебита — надо ложиться. А госпиталь был сортировочный. Палатки в лесу — вот и весь госпиталь. В палатках земля была застлана брезентом, а под моей койкой росли ромашки. В общем — полевой госпиталь. В нем долго не держали — подлечат немного и переправляют в тыл, кого куда, согласно истории болезни. Вымыли там меня, выдали халат. Гляжу — маленькая сестра стелет на койку простыни. Смешная девчонка: носик маленький, курносый, губы толстые, лицо круглое и сама вся кругленькая со всех сторон. «Какой, спрашиваю, национальности — рязанская или тамбовская?» Она почему-то обиделась. «Сами вы, говорит, тамбовский. Я — из города Смоленска». Сильно она переживала из-за своей наружности. Косыночку завязывала по-особому — кокошником, брови подбривала, старалась сама себя держать солидно, но как-то не получалось это у нее.
Плюс к тому она неловкая была, суетливая. Не умела подладиться к тамошним порядкам. То пузырек с каплями разобьет, то температуру в положенное время позабудет замерить. Крепко ей доставалось от военврача второго ранга, строгого седого старика, которому она каждое утро завязывала тесемки на халате. Звали ее Мария Платоновна, а я стал называть Машенька. Хотя она и обижалась на это, но с моей легкой руки все стали ее называть Машенькой, и осталась она Машенькой, наверно, до самого конца войны. А раненые, народ капризный, как грудные ребята, — полные сутки держали ее в заботах и хлопотах. Бывало, к вечеру, выберет Машенька минутку, сядет у окошка и тихонько поет: «Ягодиночку-то учат пулемет заряживать, а меня, девчонку, учат раны перевязывать…» Бледная сидит, вовсе из сил выбилась, круги под глазами — а поет. Кто-нибудь стонет или бредит во сне, а она поет. Но мы на нее не обижались. Жалели. Знали, что никакого ягодиночки у нее нет, что родители ее остались где-то по ту сторону фронта и она в этом госпитале одинокая, как перст.
На другой день, как только заштопали мне руку, села она у меня в головах и сообщила всю свою автобиографию. Между прочим, сказала, что до меня на этой койке лежал Пехотный младший лейтенант, раненный разрывной пулей в ногу. Коля какой-то. Всю кость ему разворотило. «Совсем, говорит, молоденький, даже бриться путем не умел. На вид был худенький, говорит, слабенький, а задиристый, как петушок. Перед операцией усыпить себя не позволил. „Я, говорит, не девчонка, чтобы ваших ножичков пугаться“.» И ни разу не слыхали, чтобы он застонал или охнул. И на операции, и на перевязках — уцепится за что-нибудь руками и молчит. Боялись, что у него откроется газовая гангрена, но ничего, наш военврач отбил от него болезнь и отправил в тыл долечиваться. «Ой, какой сердитый! — ласково приговаривала Машенька, вспоминая про Колю, — ой, сердитый!» — и даже закрывала глаза. Лежу раз, вечером, обдумываю свою жизнь — слышу тихонько толкает она меня и сует под нос фотокарточку. «Кто это?» — спрашиваю. «Он», — отвечает Машенька. «Коля?» — «Да». Посмотрел, ничего особенного: обыкновенный паренек, белобрысый, стриженый, лобастый, как теленок. Но, конечно, похвалил фотокарточку. Развеселилась тут Машенька и зашептала: «Когда, говорит, он уехал, я эту карточку нашла под койкой. Наверное, отлепилась от документа, он ее и потерял». — «А может, говорю, он нарочно ее подбросил?» — «Зачем это?» — удивилась Машенька. «Чтобы оставить тебе воспоминание». — «Да что вы, — вздохнула Машенька, — на что я ему нужна, такая нескладуха».
Но все-таки она часто думала о нем. И когда военврач второго ранга получил от этого Коли длинное письмо, в конце которого младший лейтенант передавал благодарность всему медицинскому персоналу, — Машенька целый день ходила сама не своя от радости, и спрашивала: «Всему персоналу, это значит и мне, правильно, Степан Иванович?»
А на другой день кого-то из соседей угораздило брякнуть, что не вредно было бы этому Коле написать Машеньке письмо, поскольку она за ним ухаживала и по ночам не отходила от койки. Машенька сперва посмеялась на эти слова, а потом вдруг затосковала, стала задумываться и глядеть в окошко.
Надо вам сказать, что и на меня почему-то нападала тоска, когда приходила Машенька. Семья вспоминалась: жена, ребятишки. Так и тосковали мы с ней вдвоем. От тоски она и курить научилась. Бывало, скручу ей цыгарку — она сама залепит и пускает дым в окошко. Но только много ей тосковать не было времени. Дня через три после меня привезли в нашу палатку танкиста. Этот танкист был ранен в позвонки, и у него начисто отнялись ноги. Раздражительный был человек и во сне страшно скрипел зубами. Бывало, кричит Машеньке: «Что сидишь над душой! Уходи отсюда!» — она уходит, а он опять кричит: «Куда она ушла! Где она? Иди сюда! Сядь!» Боялась она его, как огня, но все-таки вела себя терпеливо — понимала, что в таком положении можно и не то крикнуть. Скоро ему стало легче, и он стал подолгу разговаривать с Машенькой и, когда разговаривал, — держал ее за руку, словно боялся, что она убежит. Однажды, когда он уснул, Машенька подошла ко мне и спросила: «Как вы думаете, Степан Иванович, правда, он немного похож на Колю?» «Немного, говорю, похож». Она подумала и спросила: «А не примет он за намек, если я ему на тумбочку букет поставлю? Как вы думаете, Степан Иванович?» Но букет поставить не успела — рано утром танкиста переправили в тыловой госпиталь. И когда его клали на носилки, Машенька стояла рядом и говорила военврачу второго ранга: «Куда же вы его… Он же больной совсем…» Но ее никто не слушал — санитары делали свое дело.
После того как увозили раненого, Машенька всегда расстраивалась и сердилась на военврача второго ранга: «Бесчувственный, — говорила она, и в глазах ее показывались слезы. — Еще совсем слабый человек, а он его отправляет в тыловой госпиталь. Небось с Героем Советского Союза возился целую неделю, а этому и трех дней не дал полежать. Разве так можно? Они все хорошие. Раз кровь на войне проливали — значит герои. Правда, Степан Иванович?» Я пробовал защищать военврача — он чудеса творил в госпитале, — но у меня ничего не получалось.
Особенно рассердилась Машенька, когда увозили от нас сержанта из какой-то артиллерийской части. Из этого сержанта вытащили девять осколков, и он ослабел до того, что не мог согнать с носа муху. Вдобавок ко всему он был контужен и оглох начисто. Из-за своей глухоты говорил медленно и тяжело — как будто шел по неверному льду и щупал ногами, куда легче ступить. И когда говорил, все время спрашивал: «Слышишь меня?» Совсем этот сержант растерялся и упал духом: «Лучше без ноги и без руки существовать, чем не слышать ничего, — говорил он Машеньке. — Кому я такой нужен? Слышишь меня? Ты скажи врачам, что я любую муку согласен вытерпеть, только бы мне слух воротили. Пусть придумают что-нибудь. Слышишь меня?» А Машенька кивала головой. Иногда она забывала про его глухоту и начинала утешать сержанта, и тогда они говорили вместе, как ненормальные.
Ночью мне что-то не спалось. Я лежал с открытыми глазами и обдумывал свою жизнь. Вижу — тихонько подходит Машенька к койке сержанта, садится на табуретку и начинает шептать ему разные слова. Он, видно, спит, а она шепчет: «Милый ты мой Коленька, ягодиночка ты мой, не тревожь ты себя, не расстраивайся. Если бы ты ампутант был или бы сепсис у тебя начался, тогда бы ладно… А ты вылечишься, и заживет все на тебе, и будешь ты, Коленька, такой, какой был и еще даже лучше…» Я глядел в окошко и слушал. Небо то светлело, то темнело от прожектора, и на душе моей, сам не знаю почему, становилось то ясно, то печально.
Утром подошла ко мне Машенька, а я и спрашиваю про сержанта: «Разве его Колей звать?» «Нет, Степаном. А что?» — и покраснела вся, как помидорка. А ночью, когда увозили сержанта в тыл, она снова стояла возле врача и упрашивала: «Ну куда вы его? Ведь он глухой совсем. Ну куда вы его?» Вышли мы с ней на дорогу его проводить. Ночь была темная. Машина скоро ушла. А прожекторный луч качался по небу то слева направо, то справа налево, и через него просвечивали звезды… А на другой день выписали меня обратно в нашу часть, поскольку товарищ Алексеенко договорился с военврачом второго ранга, и Машенька меня тоже провожала. И, кажется, плакала.
Где-то она сейчас, Машенька? Иногда я вспоминаю о ней, рожденной совсем не для войны, а для семейного покоя и счастья, а потом вспоминаю о таких же, как и она, девчатах, которые в тяжелые годы остались по ту сторону фронта. Многим из них так и не удалось дожить до победы, и как подумаю об этом — перед глазами встают порубанные тесаком молодые березки…
Степан Иванович нахмурился, свернул цыгарку и, стряхивая с брюк махорочные крошки, закончил:
— Так вот, ребята, крепче учитесь, крепче держите в руках оружие — чтобы этого больше не было.
У ШЛАГБАУМА
У печи, сделанной из железной бочки, клевал носом дневальный, изредка похлопывая себя по стеганым штанам, — не загорелись бы. Печь гудела и вздрагивала. От портянок, развешанных вдоль трубы, шел пар. На полу, головами к стенам, в шинелях и шапках спали босые солдаты. Один из них часто, с надрывом кашлял, и во время кашля рука его дергалась.
В будку вошел пожилой сержант. Из голенища у него торчали свернутые красный и желтый флажки.
— Чтой-то не летает сегодня, — сказал он, подсаживаясь на корточках к печке, тем тихим, уютным голосом, каким говорят, находясь рядом со спящими. — Видать, тоже застыл, зараза…
— Ну да, застыл, — то ли сонно, то ли печально ответил дневальный. — Ему сейчас на передовой дела хватает. Слышь, наши начали…
Издали доносился равномерный артиллерийский гул. На улице выл ветер. Дверь была завешена плащ-палаткой. Треснувшее стекло, величиной с планшетку, вставленное в прорезь забитого досками окна, тонко, по-комариному зудело. На подоконнике, над коптилкой, сделанной из консервной банки, мерцал бледный огонек.
— Да, видать, наши пошли, — сказал сержант. — С полчаса назад на двух беккерах раненых провезли… — И он замерзшими, одеревенелыми пальцами скрутил удивительно аккуратную цыгарку, потом неторопливо достал двумя пальцами рубиновый уголек, прикурил и бросил уголек обратно. Дым плотной струей потянулся в топку.
— А к передовой ни одна машина не идет, — продолжал он, — там, у шлагбаума, часа, почитай, два какой-то капитан попутную ждет. Ему во второй эшелон надо. Холодно, аж глаза мерзнут, а он в хромовских сапогах. До света теперь, кроме легковушек, я так мечтаю, ни одна не пойдет.
— Ну да, не пойдет, — сказал дневальный тем же не то сонным, не то грустным голосом, — автобату время воротиться.
Дверь отворилась.
Кто-то запутался между створкой и плащ-палаткой. Белые клубы пара покатились по полу. Спящие стали подбирать ноги. Коптилка погасла.
— Затворяй! — крикнул дневальный.
Наконец из-за плащ-палатки показался человек лет сорока, в белом полушубке и хромовых сапогах. Он выпрямился, стукнулся головой о потолок и опять ссутулился.
— Замерз основательно, — сказал он, снимая шапку, — можно погреться?
— Ну да, погреться! — протянул дневальный. — В дежурку без разрешения командира посторонним нельзя…
— Да какой же товарищ капитан посторонний? — отозвался сержант, — гляди-ка, своего не признал… Проходите, оттайте немножко.
— А где же ваш командир? — спросил капитан.
— С командиром-то с нашим — несчастье…
Осторожно ступая между босыми ногами, капитан прошел к печке и протянул руки с растопыренными пальцами. От него резко несло холодом, зимним ветром, и от этого, казалось, и сам он был резкий, холодный и, наверное, строгий.
— Значит, с Волховского, товарищ капитан? — видимо, продолжая давешний разговор, начал сержант.
— Да, к своим поближе.
— У нас, на Ленинградском, пожарче будет.
— Везде жарко! Там левую, здесь правую щеку отморозил, — улыбнулся капитан и показался совсем нестрогим, и пахло от него уже не морозом, а кисленьким запахом овчины. — А что с вашим командиром?
— Разбомбили. Шесть ден назад, когда машины с дороги разгоняли, осколок в аккурат в грудь угодил.
— А звать его как?
Сержант почему-то смутился.
— Звать-то его было Леля.
— Женщина, значит?
— Женщина, — сказал солдат и бросил окурок в печь.
— А фамилия как?
— Фамилия какая-то длинная. Цельный год у нас служила, а фамилию ее мне все одно, как Гарнизонный устав, никак не запомнить. То ли Малинкина, то ли Калинкина.
— Ну да, Калинкина! — вмешался дневальный. — И никакая она не Калинкина, а Калиновская. Старший сержант Калиновская… А то Калинкина, — презрительно добавил, пошуровав дрова. — Никакая она не Калинкина…
Капитан придвинул ногой порожний патронный ящик, поставил его на ребро и как-то грузно, по-стариковски, сел. Дневальный прикрыл топку, чтобы меньше припекало. Печь загудела громче, сквозь щель в дверце протянулся луч, и огненные блики закопошились в ногах спящих.
— Ну, а… хорошо она командовала? — спросил после некоторого молчания капитан. И голос его был хриплый.
— Хорошо. Такого командира нам, я так мечтаю, пожалуй, и не попадется. Сперва, как пришла она к нам, все мы обижались, конечно. И так часть нестроевая, вроде стрелочников флажками машем, а тут еще баба в головах. Пришла она к нам маленькая, рукава у шинели подвернуты.
Смотрим, — нет ли косиц? Нет, косиц, видим, нету. Жили мы тогда всем отделением в сарае, спали вповалку — все равно, как сейчас. Велела она себе топчан в углу сколотить. Ну, легли. А у нас парень такой был, сейчас он в четырнадцатую дивизию ушел, вторым номером, так вот он, как у нас водилось, начал на ночь сказку сказывать. Ну, сказки, сами знаете, какие, все больше про поповских дочек да работников, скоромные сказки.
Сержант опять полез было за табаком, но капитан торопливо достал пачку «Беломора».
— Вот мы слушаем да ждем, как нашему отделенному-то, с подвернутыми рукавами, интересно ли будет? Ну, досказал он, помню, до того места, как барыньки велели работнику в речку лезть… Встала она, на него глядит: «Ну, а дальше что?» Тогда у нас светло было — фонарь «летучая мышь» горел. Он язык-то заглотил. Молчит. А она: «Говори, говорит, дальше! Я тебе приказываю». Молчит. «Совести не хватает?» — «Не хватает говорит, совести, товарищ старший сержант…» — «Ну, то-то». — Да.
Дневальный надел первые попавшиеся валенки, взял топор и быстро вышел на улицу.
— Значит, с достоинством держалась? Не тушевалась? — снова как-то странно спросил капитан. — Начальство довольно было?
— Куда там! Крепше мужика была. Вот случилось раз с этим Симаковым… — сержант кивнул на дверь. — Недавно, в аккурат в день Красной Армии… Ну, известное дело, выпили, поплясали. Вдруг Симаков подходит к ней, взял руки по швам и докладывает: «Разрешите к командиру взвода обратиться?» — «По какому такому делу?» — «Хочу, говорит, на передовую проситься. Надоело, говорит, вслед машинам руками махать». Ну, сами понимаете, если бы наша воля, — все бы на передовую ушли. Стала она ему объяснять про то, какую мы пользу приносим, складно говорила, долго, а он заладил: «Пойду на передовую» — и баста. Видит она — не уговорить его, командует: «Кругом! Спать, шагом марш». Мы-то ее все слушались, ровно ребятишки малые. А Симаков не то что хулиган какой, а со своим понятием человек. Как сейчас вижу: кулаки сжал, стоит, не шелохнется. Она опять: «Кругом!» Он стоит.
И по кулакам видать — не повернется ни в жисть. Команда-то уж больно зазорная, да еще баба командует. К тому же выпивши человек. Тут она побелела вся, как бумага. «Трое суток, говорит, гауптвахты» и ушла. По телефону комбату звонила, а трое суток припаяла. Комбат разрешил. Ну, увели Симакова в баню. Стали мы на покой расходиться, только гляжу — командира нашего нет и нет. Пождал я, вышел во двор, постоял на приступочке. Слышу, — в темноте притулившись, сморкается, сердечко-то все-таки бабье. Потянуло меня, старика, ее утешить. Подошел потихоньку, встал, как полагается, и говорю: «Зря вы, товарищ старший сержант, из-за него расстраиваетесь». А она мне: «Вы что здесь?» — да со злобой такой, не дай господи. Я хотел уже назад, подальше от греха, а она хвать меня за рукав: «Слушай, говорит, Порфирий Фомич, о том, что я ревела, чтоб никому, понял?» Гордая была…
Капитан сидел, опустив голову, и непочатая папироса торчала между пальцами. Солдаты храпели, изредка бредили, и один, тот самый, который кашлял, лежал теперь на спине, полуоткрыв рот, и тяжело дышал. В груди его точно потрескивал и ломался валежник.
— Ну, Симакову-то я все же рассказал… С тех пор стал парень в лепешку расшибаться. А теперь тоскует по ей пуще всех нас.
Дневальный вернулся, вывалил возле печки охапку звонких, как стекло, досок и молча уселся на прежнее место.
Сержант с флажками хотел было достать табак, но раздумал, догадавшись, что капитан опять предложит свои плохие, слабые папиросы, от которых неловко будет отказываться. Лежащий на спине снова закашлялся, и рука его задергалась.
— Тоже из ее сынков, — кивнул сержант. — В санчасть не ложится. Возьмем, говорит, Городец, тогда пойду.
Хлопнула дверь. Вошел молодой регулировщик в заиндевевшей ушанке, с твердыми, как яблоки, красными щеками.
— Автобатовские подъехали, — сказал он, — кому тут до второго эшелона?
Ветер выл. По-комариному зудело треснутое стекло. Капитан сидел, не двигаясь, опустив голову и сжимая ладонями виски.
ПЕРЕД ОТЪЕЗДОМ
В старой даче стало пусто.
Почти все офицеры уехали: одни демобилизоваться, другие — в Москву, за новыми назначениями, и в большой комнате, где помещалась техническая часть дорожного отдела армии, остались только инженер-майор Юрцев — бывший начальник отдела — и старший сержант Нина Бокова, работавшая в отделе чертежницей.
Неделю тому назад бумаги были подготовлены к отправке, но вагонов для имущества штаба все не подавали, и комната была завалена ящиками и пакетами.
Инженер-майор Юрцев, оставшийся следить за отгрузкой, сидел у окна, поглядывая в сад.
День был серый, осенний. Клены равнодушно роняли желтые, заскорузлые листья. Шел мелкий, холодный дождь. Над деревьями тянулся серый дым. У калитки, поеживаясь ходил часовой.
— Можно мне на станцию сбегать, Александр Дмитриевич? — спросила Нина. — Может быть, вагоны подали. — Идите, — разрешил он.
Сквозь слезящиеся стекла было видно, как Нина зигзагами пробежала по мокрой аллее, прищемив пальцами ворот шинели под подбородком, и свежие следы медленно наполнялись мутной водой.
Инженер-майор затворил дверь, ведущую на террасу, достал лист бумаги и стал писать. «Милая Нина! — писал он, — хотел сказать все это словами, но на бумаге получится спокойней и обстоятельней. И, кроме того, прочитав это, вы сможете без поспешности и опрометчивости подумать и решить, как вам будет угодно».
Склонив голову набок, он перечел написанное. Ему не понравилось слово «милая» и он его вычеркнул. Не понравился и восклицательный знак после слова «Нина». Ему не двадцать лет!
«Во время войны я потерял жену и сына. Я совсем один».
Ему стало жаль себя и он зачеркнул эти строки, чтобы не вызывать у Нины такой же жалости. Ему не нужно от нее жалости.
Подумав немного, он написал:
«Мы с вами давно живем под одной крышей. Я привык к вам настолько, что мне страшно представить, как я теперь останусь без вас».
Инженер-майор долго колебался, прежде чем написать эти слова. В сущности он, занятый и днем и ночью, никогда не обращал на Нину внимания, и только теперь, когда начальник тыла уехал, связисты унесли телефон и приказы увязаны в папки, он словно впервые увидел ее и внезапно догадался, как незаметно и умело больше двух лет она облегчала его беспокойную фронтовую жизнь.
Во время войны у них были странные отношения.
Нина была хорошей чертежницей, но часто совершала мелкие провинности, раздражавшие инженер-майора.
Он вызывал ее к себе, предварительно напустив на свое добродушное, обрюзгшее лицо выражение официальной строгости.
— Как вы стоите, старший сержант? — обыкновенно начинал он.
— А как стою? — оглядывая свои большущие сапоги, спокойным, уютным голосом отвечала Нина. — По уставу стою, Александр Дмитриевич.
— Да вы в уставе, кроме обложки, ничего не читали… — продолжал инженер-майор, сердито глядя на чернильницу. Когда ему приходилось отчитывать Нину, он всегда почему-то смотрел на чернильницу. — Это вы из полотняной кальки носовые платки понаделали?
— Да, Александр Дмитриевич, — признавалась Нина.
— Не Александр Дмитриевич, а инженер-майор. А я вам что говорил? Говорил, чтобы без моего разрешения кальку не брать?
— Говорили.
— А вы взяли?
— Взяла.
Возникало молчание. Инженер-майор обдумывал, как ругаться дальше.
— Так я для вас платок сделала, Александр Дмитриевич. Вы все их растеряли, — вздыхала Нина.
— Да что у нас тут швейная мастерская?!
Инженер-майор в сердцах бросал карандаш на стол, раздражаясь от этого уютного голоса.
— Ну, извините меня, дорогая, — наконец говорил он, — но мне надоело вызывать вас каждый день… Все… Завтра же отправляйтесь в роту… Вы, верно, забыли, что на военной службе находитесь, милостивая государыня… Все… Завтра же…
Вечером она приходила снова.
— Ну, что вам надо? — хмуро встречал ее инженер-майор. — Вы в роту собирайтесь.
— Я уже собралась.
— Так что вам от меня еще нужно?
— А ничего не нужно, Александр Дмитриевич. Я вот на бумажке написала, где вещи ваши лежат. А то вы сами ничего не найдете. Кружка и помазок — в крашеном сундучке нивелирном, белье — в ящике, где винтовки, а «Мадам Бовари» под ножку чертежного стола подложена…
— Найду, найду, идите…
А ночью прибегал посыльный от начальника тыла с пакетом, надо было поднимать весь отдел, составлять срочные сведения, готовить схемы коммуникаций, и Нину снова приходилось оставлять в штабе.
«Странно, — подумал Александр Дмитриевич, — как часто мы замечаем в человеке плохое и как редко — хорошее».
Письмо он закончил так:
«И если вы и впредь согласитесь не покидать меня, согласитесь быть моей женой, я буду благодарен вам всю жизнь».
Он качнул пером, чтобы расписаться, но отдернул руку.
«Написать: „Инженер-майор Юрцев“» — не годится.
Это не приказ о выходе замуж. «Александр» — рано. Она еще не жена. «Саша» — слишком по-лейтенантски. «Александр Дмитриевич» — уж очень подчеркивает дистанцию в возрастах. Просто «Юрцев» — сухо.
Поломав голову, он решил не подписываться никак. Ему почему-то казалось, что Нина ждет от него этого письма.
Инженер-майор переписал письмо и положил на тумбочку, возле гребня, в котором застрял, свернувшись пружинкой, золотой волосок.
Как только конверт оказался на тумбочке, инженер-майор начал волноваться.
Он походил из угла в угол, посвистел.
Волнение возрастало. Он вышел на террасу.
Дождь кончился. На дорожках лежали овальные лужи, блестящие, как зеркала. В воде отражалось синее небо и серые тучки. Кошка брезгливо, на цыпочках, прошла вдоль забора, где свисали черные листья крапивы, мятые и грязные, как тряпки.
Хлопнула калитка. По аллее бежала Нина.
— Утром обещают вагоны! — крикнула она радостно. — Наконец-то!
Инженер-майор смотрел в сад через большие разноцветные окна террасы. Он посмотрел через синее стекло — в саду наступила ночь, посмотрел через красное — сад загорелся.
Он смотрел в сад, а видел, как Нина в комнате, подпрыгивая, сняла шинель, как подошла к тумбочке поправить прическу, как вынула из конверта письмо и, стоя, стала читать его.
— Александр Дмитриевич, сюда кто-нибудь приходил? — услышал он.
— А что?
— Так. Вася из автомобильного отдела не приходил?.
— Нет… Впрочем, не знаю. Меня не было в комнате минут пять.
— Александр Дмитриевич, можно мне в автомобильный отдел сбегать?.. Мне очень, очень нужно. Я скоро вернусь.
— Идите… — сказал инженер-майор и посмотрел через красное стеклышко — сад загорелся.
До сих пор он думал, что его сорок пять лет значат только то, что он сорок пять раз вместе с землей обернулся вокруг солнца. Оказывается, сорок пять лет значат гораздо большее…
Вот теперь Нина убежала к технику из автомобильного отдела, а он, инженер-майор Юрцев, остался один на этой террасе с разноцветными окнами, и, хотя кончился дождь, капли тукают вокруг по доскам, падая с дырявого навеса, и жестяные листья осины залетают на террасу, и над высокими деревьями галдят и табунятся грачи, собираясь в теплые края.
Нина вернулась грустная.
— Что с вами? — спросил ее инженер-майор, — что вы такая?
— Ничего, Александр Дмитриевич, ничего, — ответила Нина, быстро проходя в комнату, — мне сегодня очень даже весело.
— Неужели я так поглупел от старости, Ниночка, что ничего не вижу и не понимаю? Не стоит грустить, Ниночка, из-за того, что Вася не отвечает вам взаимностью. Подождите немного. Придет время, и какой-нибудь другой Вася, такой же молодой и красивый, сам придет к вам, возьмет вас за руки и скажет все, что надо сказать словами, простыми и ясными, которых не надо обдумывать и зачеркивать.
Инженер-майор хотел добавить еще что-то, но в горле у него словно застряла корка, и он поспешно отвернулся.
А Нина сидела в комнате, упершись в кулачки подбородком, смотрела на Александра Дмитриевича и думала:
«Славный дяденька. Когда-нибудь он догадается, что я не могла не узнать его почерка. Но он не будет сердиться…»
ЗНАКОМЫЙ
Военный пришел, видимо, издалека. И сапоги его и даже брови были густо покрыты пылью. «Неужели он узнает меня?» — подумала Тоня. Но военный спросил: «В какой избе живет Елена Васильевна?» и пошел дальше. «Не узнал ведь… — с облегчением подумала Тоня, глядя ему вслед. — Не узнал… Вот и хорошо».
Деревня еще спала. На вершинах высоких берез уже начиналось утро, но земля была по-ночному сырая и студеная, и на поле, в низинах покачивались длинные, словно расчесанные гребнем, ленты тумана.
Военный перешагнул через спящего на крыльце черного пса и скрылся в сенях.
— Ну и ладно, что не узнал! — вслух повторила Тоня, и ей снова вспомнилось то, что случилось более трех лет тому назад в деревне, оккупированной фашистами.
К фашистам она попала в начале войны, когда гостила у тетки в Минске. Вместе с другими жителями ее погнали в деревню Островки. Там, в сенном сарае, она и прятала этого военного, раненного в ногу. Когда она дотащила его до сарая, он уже не шевелился, и только часы тикали на его руке. Ей подумалось даже, что он умер. Она заботливо уложила его, укутала сеном и сама села возле изголовья.
Согревшись, он начал говорить. Сначала он сказал: «Вася, мундштук бренчит». Но это он бредил. По-настоящему он стал говорить, когда рассвело. Открыв глаза, он сказал: «Пить!» Она сразу подала ему чашку, и он стал глотать воду так, что в горле его защелкало.
Тоня принесла кислого молока. «Ого, простокваша!» — сказал он и съел целую кринку. Видно, он любил простоквашу.
Потом он сказал: «У тебя холодные пальцы», и велел положить руку ему на лоб.
Потом он спросил: «Как тебя звать?» — «А на что вам?» — ответила Тоня. — «Как на что? Хочу познакомиться». — «Это не обязательно», — сказала Тоня. — «Ишь ты, какая дикая!»
Она долго сидела, положив руку ему на лоб и прислушиваясь, не ходят ли за гумном враги. Вечером ему стало легче. Он сказал: «Извини, что я тебе доставил столько хлопот», и Тоня помнит, как слезы выступили у нее на глазах от этих слов. Ведь если разобраться, он для всех, кто теперь под фашистами, старается, для нее старается, жизнь свою не бережет, может быть, без ноги будет, а вот говорит: «Извини».
— Чего уж… — ответила Тоня и стала придумывать, что бы такое сказать ему получше, и придумала, но он уже заснул и ничего не слышал, когда она говорила.
Она наклонилась, тихонько коснулась губами его лба, на который налипли кусочки сена, и пошла в избу.
Утром ее выследил хозяин — староста, у которого она жила. Как только она вошла в горницу, он спросил мрачно: «Ты где блудишь?» Она начала говорить что-то несуразное, но он оборвал ее: «Нескладно врешь! Комендант спросит — поскладней что-нибудь придумай…» Он походил из угла в угол, пожевал бороду. «На-ка вот, — сказал он, наконец. — Снеси в сарай. Если понемногу пить — помогает…» — И подал ей бутылку коньяка.
На другой день у раненого снова разболелась нога — до того сильно, что он выдирал вокруг себя пучки сена и мял их в кулаке. Но все-таки он поел и уснул.
Было совсем тихо. Часы уже не тикали на его руке, остановились, и сиреневый ночной свет цедился через маленькое окошко, и на дворе с крыши мягко падали в снег капли.
Тоня поцеловала его в щетинистую щеку. Он подул, скривив губы, словно сгоняя муху. Она затаила дыхание. Но он спал. Тогда она снова украдкой, по-воровски, поцеловала его в лицо.
Она целовала пожилого незнакомого ей человека и говорила ему разные глупые слова, а длинный сиреневый луч колдовал на ее руке, и ветер наполнял сарай крепким мартовским лесным духом.
Вдруг раненый открыл глаза.
— Я все слышу, — сказал он. — И вчера слышал…
Она отскочила, сильно ударившись затылком о балку, но совсем не чувствуя боли. Ей стало так совестно, что даже теперь, когда она вспоминает это, жарко делается ее щекам.
На следующее утро к старосте пришли два фашиста — один низенький, другой высокий и красивый. Они осмотрели горницу, слазили на чердак, потом вышли во двор и отправились к сараю. Тоня, еще не одетая, выбежала на крыльцо, хотела броситься в сарай, но староста схватил ее за плечо.
— Обожди, — сказал он. — Еще не твой черед на перекладине болтаться.
Высокий немец отворил дверь сарая и стал стрелять в сено. Потом оба врага скрылись внутри. Они долго ходили там и, ничего не сказав, ушли.
Как только за ними захлопнулась калитка, Тоня бросилась в сарай.
Там никого не было.
Раненый ушел, уполз на одной ноге к своим…
Вспоминая все это, Тоня увидела, что военный вышел из избы и снова направился к ней.
— Вы не туда показали, — сказал он. — Там две какие-то женщины спят, и больше нет никого.
— Как не туда? Туда. Ступайте, я сведу.
Тоня сбежала с крыльца и торопливо пошла вдоль палисадника. Они вошли в избу.
— Тетя Дуня! — позвала Тоня.
— А я! — ответили из-за полога.
— К вам!
По ситцевому пологу пошли волны. Натянув платье, с кровати соскочила Женя, и хотя она не совсем еще очнулась от сна, — цыганские с искрой глаза ее уже искали случая над чем-нибудь посмеяться. За ней вышла ее мать, тетя Дуня, сухая и стройная.
— Елена Васильевна здесь живет? — спросил военный.
— Здесь, — ответила тетя Дуня.
— А где она?
— В город уехала. Хлебные карточки получать. Завтра вернется. А вы кто ей будете? Не муж ли?
— Муж. С Лялей уехала?
— С Лялей.
Военный подошел к перегородке. За перегородкой виднелась прибранная по-городскому кровать Елены Васильевны и зеркальце, около которого сидели две маленькие куколки.
«Вот ведь как, Елена Васильевна, значит, жена его, — радостно подумала Тоня, — приедет завтра, сразу скажу ей, как его тащила…»
Тоня дружила с эвакуированной из Ленинграда Еленой Васильевной, слушала рассказы о большом городе, приходила спрашивать, как решить трудную задачку, и часто пыталась отблагодарить эту грустную, задумчивую женщину за ее заботы, да все как-то не могла придумать, чем отблагодарить…
— Вот приедет, я и скажу ей, — повторила Тоня и вдруг спохватилась: — Хотя, нет! Я-то, дура, целовала его.
Он, конечно, не разберется, что это я делала от нежности к воину нашему… к человеку, который страдал за нас. Вот смеяться-то будет, если вспомнит меня… Скажет: «Влюбилась, дурочка». Нет, ничего нельзя говорить Елене Васильевне.
Она хотела уйти и не могла, а так и сидела в углу и следила за военным. Он взял в руки куколку, вздохнул.
— Почти пять лет не видел… — сказал он глухо, — и теперь не довелось повидаться. Завтра рано утром — ехать. Выросла, наверное, Ляля?
— Во второй класс перешла, — ответила тетя Дуня. — Шустрая такая. Вы мешок положите, Леонид… нс знаю, как по отчеству. Ни разу вас Лена по отчеству не называла.
— Семенович, — сказал военный.
В избе набралось много народа. Все прослышали о приезде военного и зашли расспросить, не видел ли он их родни на фронте.
— Вы не приставайте к нему сейчас, бабы, — строго сказала тетя Дуня, когда военный пошел умываться. — Тоскует он… Отдохнет, тогда спросите.
— А как же, спросим, спросим! — пробубнила глуховатая Степанида.
— Ты, бабка, сиди да помалкивай, — закричала тетя Дуня, и все наперебой начали растолковывать бабке, что надо сидеть и молчать и ни о чем с военным не разговаривать.
Когда Леонид вернулся, тетя Дуня позвала его завтракать.
Он сел к столу, начал есть горячую картошку без соли, без хлеба.
— Вот соль, Леонид… Опять забыла, как по батюшке… — сказала тетя Дуня.
Он ел, а гости тихо говорили между собой.
Грохнув дверью, вошел грузный Федот Иванович и громко сказал:
— Приятно кушать.
На него сердито посмотрели.
Оглядевшись, как бы чего не своротить, он плотно уселся на скамью и на всю избу высморкался.
— Шумлив ты больно, — недовольно сказала тетя Дуня: — Шел бы на свое дело.
— Мое дело на неделю вперед исполнено, — ответил Федот Иванович. — А вы чего застыли, ровно вас на карточку снимают?
Не обращая на Федота Ивановича внимания, Леонид сидел, склонившись над тарелкой.
«А может быть, это другой, похожий только?» — подумала Тоня и сказала Жене на ухо:
— Ты ему кислого молока подай. Если у вас нет, сбегай к нам, на окне стоит.
Внезапно на дворе посветлело. В комнату через окно ударил граненый луч, и блестящие мухи стали летать вдоль луча — греться.
Женя принесла кринку.
— Ого, простокваша! — сказал Леонид.
«Он!» — чуть не вскрикнула Тоня.
Она долго смотрела, как старший лейтенант морщит лоб, поднося к губам ложку, и даже сама приоткрывала рот перед каждым его глотком.
— Чего ты его передразниваешь? — спросила Женя.
— Вот еще… Выдумала… — Тоня смутилась. — Ты не оставляй, Женька, его одного. Скучать будет. Ты его, как на косьбу пойдем, позови с нами.
— Ишь ты! Тебе, я вижу, на него полный день глядеть надо, а я — зови! Сама позови!
— Нет. Я боюсь.
— Эх ты! Бука!
— Погоди, начальник, чего я сейчас покажу, — сказал Федот Иванович, подмигивая сам себе.
Завалившись на бок, он полез в брючный карман и вынул крест на грязной муаровой ленте.
— Гляди-ка, какая штука. Георгиевский кавалер. Император Николай второй пожаловали. Сейчас ее цеплять можно?
— Почему же нельзя? При царях тоже герои были, — сказал Леонид.
— Вот и я говорю…
— Ну, будет тебе, Федот! — прервала его тетя Дуня. — Солнышко-то вон где! Пошли, бабы!
Женщины стали подниматься одна за другой, зашумели. Тоня толкнула Женю локтем.
— Крепко ты о нем тревожишься! — Женя усмехнулась и, подойдя к Леониду, сказала:
— Товарищ старший лейтенант, пойдемте с нами. У нас там веселей на поле. Хотите, мы и подушку захватим.
— Зачем подушку? Пойдемте, — ответил Леонид, — поработаю.
— А вы и косить можете! Я думала, вы только стрелять умеете.
Вслед за женщинами они вышли из деревни.
Повсюду, куда хватал глаз, виднелись луга и пашни. Густые, как сметана, облака неподвижно висели ярусами над горизонтом. Пахло земляникой.
На пологом, уже надкошенном откосе ближнего холма бархатно синела кошевина. Женщины в белых, желтых, красных платках вразнобой размахивали косами и, наверное, оттого, что над ними висели огромные крутые облака, казались маленькими, как куколки на столике Елены Васильевны.
Поодаль, в дырявой тени кустарника, сидела бабка Степанида, окруженная узелками, корзинками и малыми ребятами. Там же на боку лежал черный пес Жучок.
Вытянув ноги с шишковатыми, исцарапанными, как камни, ступнями, бабка сгоняла комаров с ребенка в чепчике, сидящего у нее на коленях.
— А-а-а!.. — тянул маленький, подаваясь вперед.
— Да… Это солдатик, светлая душа, пришел нашим бабам пособить… А это Женька-насмешница…
Леонид с Женей, а за ними и Тоня подошли к кустарнику. Жучок поглядел на Леонида, потом на бабку, глазами спрашивая, надо ли лаять. Но бабка спокойно разговаривала с малышом, и Жучок всласть потянулся, зевнул, широко разинул пасть, и язык его завернулся крючком.
Леонид снял скользкие от росы сапоги с приставшими к голенищам лепестками куриной слепоты, скинул китель.
— Только, коли взялся косить, чтобы норму выполнить— тридцать пять соток, не менее, — сказала Женя, — а то на черную доску тебя вывесим. Смотри. Ославим на весь район.
— Не бойся, — ответил Леонид, — не менее твоего намахаю…
— Гляди, какой горячий! Хочешь на обгонки? Давай перекашиваться!
— Давай. Попробую, — безразлично сказал Леонид.
— Только, гляди, подрядья не оставлять! Давай побьемся… Я бусы поставлю, а ты… Ну, вот, хоть часы…
— Часы, так часы, — сказал Леонид.
Тоня слушала, поправляя косу и грустно улыбаясь. Вот как случается: вспоминала о нем чуть не каждый день, военным в лица заглядывала, а теперь, когда он рядом, приходится прятаться от него. И перед ним совестно, и перед Еленой Васильевной, которая Тоне, сироте, стала вроде матери, тоже совестно. А Женька сегодня утром в первый раз человека увидела и уже спорит и пересмеивается, да болтает с ним, как будто век знакомая.
Женя побежала на луг. Старший лейтенант, не привыкший ходить босиком, пошел за ней, поеживаясь, словно ступая в холодную воду. Тоня видела, как Женя начала ряд, а старший лейтенант смотрел на нее, примеривался. Женя косила ловко, чуть боком переступая перед каждым замахом, и, казалось, косовище само водит ее блестящие бронзовые руки.
Она прошла уже шагов десять, а старший лейтенант все еще стоял, наблюдая за ней. Она оглянулась, что-то крикнула и пошла дальше, и складка на ее блузке равномерно качалась то слева направо, то справа налево, и все новые и новые полукруглые полосы травы валились под ноги, былинка к былинке, словно уложенные руками.
— А ну, держись! — сказал старший лейтенант и, поплевав на ладони, начал свой ряд.
Женя взвизгнула и пошла быстрей.
Тоня тоже принялась косить, стараясь не обращать внимания на идущих впереди. Но это не удавалось: то и дело она посматривала на старшего лейтенанта.
«А не хромает нисколько, — словно гордясь перед кем-то, думала Тоня, — срослась нога…»
Она вспомнила, как нашла его в лесу, раненого, и несла ночью в деревню. Он был тяжелый, с противогазом и винтовкой, очень тяжелый. Она тащила его на спине по лесу, а он цеплялся перебитой ногой за кусты и стонал. Было страшно. Рядом могли быть враги. А снег в эту ночь скрипел оглушительно, как неразношенные сапоги. Когда до деревни оставалось меньше километра, он стал ругаться.
— Тише, тише, что ты! — шептала Тоня. — Молчи, а то брошу.
А он все ругался — громко, отрывисто, нескладно… Каким-то чудом никого не встретив, она дотащила его до сарая, а потом сидела, прикладывая к его лбу то одну, то другую руку…
Старший лейтенант почти догнал Женю и крикнул:
— Шевелись быстрей! По пяткам полосну!
«Позабылся», — радостно подумала Тоня, но, спохватившись, что люди могут заметить ее радость, решила вовсе не смотреть вперед и принялась косить.
Она шла, упрямо глядя на отрывисто свистящее лезвие, мокрое от травяного сока и белого молока одуванчиков, и только тогда подняла глаза, когда Женя с потным, красиво-усталым лицом, проходя мимо, крикнула:
— Гляди, Тонька, нам покосу оставь! Полдничать!
Со всего поля тянулись к кустарнику колхозницы.
Рядом с бабкой уже сидела тетя Дуня и резала круглый каравай, прижав его к животу. Жучок поумневшими глазами смотрел на хлеб.
— Женька! — позвала тетя Дуня.
Дочь ее сняла ломоть с каравая.
— Военный!
Леонид тоже снял с каравая толстый, в два пальца, мягкий, в дырочках ломоть.
Женщины одна за другой усаживались в тени. Увидев матерей, ребятишки закапризничали. Откуда-то налетели мухи. Стало шумно. Все наперебой стали предлагать Леониду еду. Тетя Дуня почти насильно сунула ему в руки кружку.
— На-ка вот, отведай-ка, — говорила она, торопливо снимая платок с кринки. — У меня оно сладенькое.
И боясь, что кто-нибудь раньше ее нальет Леониду молока, нагнула кринку, и в кружку потянулась широкая белая струя со складкой посередине.
Леонид лежал, опершись локтем о землю. Женя подстелила ему платок и села рядом, играя березовым прутом. Он ел, макая в молоко хлеб, а Тоня смотрела, как чуть заметно двигаются его уши.
— Гроза с самого, почитай, утра грозится, да все не идет, — сказала тетя Дуня, поглядев на небо. — Вишь ты, сушь какая стоит.
Вдруг она вскочила и, опрокинув кринку, закричала:
— Змея-я!
Прежде чем Тоня сообразила, что надо делать, Женя перекатилась на бок, хлестнула прутом и, вытянувшись, схватила что-то левой рукой.
— Пусти, уязвит! — кричала тетя Дуня. — Не трогай, тебе говорят!
— Пускать нельзя, — сказала старая Степанида, — кому она путь перейдет, тому беда будет…
Женя встала, сжимая пальцами шею гадюки. Хлестнув серым, похожим на кнутовище телом, змея в два круга обвила Женину руку и застыла, мелко шевеля остреньким хвостиком.
Любопытная Маша поднесла к змеиной морде травинку. Гадюка смотрела в упор злющими глазами и сквозь закрытый рот выбрасывала черный, рогатинкой, язык.
— Ой, ты, окаянная! Да души ты ее! — сердилась тетя Дуня.
— Убивай, убивай, матушка, — твердила бабка Степанида. — Кто гадюку убьет, тому сорок грехов простится.
— Да у меня и нет столько, — улыбалась Женя. — Ну, чьи грехи на свою душу принимать? Твои, Федот Иванович?
— Куда там мои… На мои грехи удава не хватит… Лучше у молодых грехи сыми.
— Тогда у Тоньки. Сколько, Тонька, грехов?
— У меня их и вовсе нет, — ответила Тоня.
— Ну да, нету. На чужих мужиков заглядываешься, — это тебе не грех?
— А на кого она заглядывается? — спросил кто-то.
— Мы знаем, на кого! — и Женя косой отхватила гадюке голову.
Тоня почувствовала, что краснеет, и отвернулась. Но на ее счастье разговор этот оставили.
— Молодчина ты! — сказал Леонид Жене.
— А чего молодчина, — они на жаре разомлевают, еле ползают. Хватай за шею и все…
— Она у нас на всю деревню сорви-голова, — сказал Федот Иванович. — Прошлым летом сама немца привела. Да еще парашют, слышь, заставила его тащить. Да на работе она два раза нас обойдет да наперед всех запятую поставит.
— Это я и сам вижу. Плачут мои часы.
— Ты себе подсобницу возьми, — задорила Женя. — Вон Тоську возьми. Я вас обоих перекошу.
— Вы согласны? — обернулся Леонид к Тоне.
Она вся похолодела под его взглядом и смогла только переспросить: «Я?»
— Не бери ее, начальник! — крикнул Федот Иванович. — Гляди, я покажу, как она до обеда косила.
Он вскочил, нарочно неловко махнул два раза косой, потом уперся в косовище и застыл, глядя вперед так же, как Тоня смотрела вслед старшему лейтенанту, и состроил такую печальную гримасу, что все захохотали. Постояв так с минуту, он снова сделал два неловких взмаха и опять остановился, прислонившись к косовищу, словно убитый тяжелым горем. Он не замечал, что из-за пояса его торчала исподняя рубашка, и от этого было еще смешней.
— Вот как она сегодня косит! — сказал Федот Иванович, довольный тем, что развеселил народ.
— Полно тебе насмехаться попусту, — заметила ему тетя Дуня, — не хуже других Тоня работает. Это сегодня она чего-то не в себе.
Тоня упала на траву лицом, и ее плечи стали дергаться.
— Ты что? — спросила тетя Дуня.
Федот Иванович подошел к ней и смущенно сказал:
— Слышь, девка, за шутку не серчай, в обиду не вдавайся.
— Не лезь ты к ней, — позвала его тетя Дуня. — Она сама лучше успокоится. Пошли, бабы!
Колхозники отправились на луг.
У кустарника, на травке, замусоренной яичной скорлупой и клочками бумажек, осталась бабка с ребятами, лежащая в отдалении Тоня да пес, вываливший сухой язык.
— Ты уйди оттуда, касатка, — сказала бабка, — там змей лежит, как бы не было чего. Иди, здесь доплакивай. Змей хоть и без головы, а пока солнышко не зайдет, — живой.
— Чего они смеются около меня, бабушка? — Тоня поднялась. — Никогда не смеялись, а как свежий человек появился, так и начали насмехаться. Чего они меня перед ним позорят?
— А ты поплачь, поплачь, касатка. Иди сюда да поплачь. Это хорошо… — говорила бабка тихонько и ласково, и Тоня знала, что ничего-то она не слышит и не понимает. Но ей так захотелось рассказать о старшем лейтенанте, что она стала вспоминать вслух все по порядку.
— Я, бабушка, попалась оккупантам в Островках, — говорила Тоня. — Раз в марте месяце пошла я под вечер в лесок собрать хворосту. Вот пошла я за хворостом, а наши, слышно, уже близко стреляют. Собираю я хворост — слышу: кусты шумят. Напугалась я тогда страшно. Легла в снег, не шелыхаюсь. Лежу, а слышу — за кустами кто-то таится. Полежала я, полежала, надо, думаю, домой ползти, подальше от беды. И вдруг кто-то на меня сверху — хлоп, рот рукой зажал. А от руки махоркой пахнет. Перевернул он меня, белую хламиду с головы снял, и вижу: каска зеленая: «Батюшки, думаю, свой, стриженый!» А была я тогда оборванная, грязная. Это не потому, что нечего было надеть, кое-что у меня схоронено было, да так мы, все девки, извозившись, ходили, чтобы фашисты меньше приставали.
Вот стоит наш солдатик, глаза выпучивши, после еще двое подходят, и один из двух — вот этот, старший лейтенант. Подошли, подняли его на смех: «Хорошего, говорят, „языка“ поймал».
А этот оправдывается: «Больно ловко, говорит, ползет». Они посмеялись еще, дали хлебушка русского, поспрошали, где тут немцы стоят и собрались идти.
Тень уже далеко уползла от того места, где сидела Тоня, а бабка держала на руках малыша и задумчиво глядела на поле, вспоминая, как и она, бывало, косила на этих холмах.
— Ну, так вот, — продолжала Тоня, — собрались они идти, а я за ними. «Ты куда?» — спрашивает этот старший лейтенант. — «С вами пойду». — «Как с нами?» — «А так. Нет, говорю, мочи больше терпеть». Тогда этот старший лейтенант подошел ко мне и начал объяснять, что с ними нельзя, что они — разведчики, что это по уставу не положено, что скоро Красная Армия всех нас освободит. Я все дослушала, а как они пошли, — опять за ними. Тут ихний самый длинный велит мне домой идти. А я уперлась, и все тут. Тогда наставляет он на меня автомат, пугает. Я сказала: «Убейте меня тут, а обратно я не пойду».
Ну, поговорили они между собой, видят, делать больше нечего, велели идти. Идем лесом. Надо дорогу переходить. Старший лейтенант меня подозвал. «Выйди, — говорит, — на дорогу, погляди, нет ли там фрица».
Я вышла. Вижу, вдали один стоит около столба, а другой, рыжий, сидит на мостике, ноги свесивши. А на откосе мотоциклет лежит с желтым номером. Немцы меня тоже увидели, велели подойти. Спросили, что я тут делаю. Я показала: хворост, мол, собираю. Они поговорили по-немецки, потом тот, который возле мотоциклетки стоял, показал пальцами по рукаву, дескать, скоро побегут русские. А я пальцами по своей руке показала — ваши, мол, побегут. Он замотал башкой, но ничего, пустил.
А второй сел на мотоциклетку и уехал. Я думала, что и этот, рыжий, уйдет, — нашим иначе через дорогу не пройти, — а он все сидит на мостике, ноги свесивши.
Я пошла к разведчикам, велела им пока схорониться. А старший лейтенант усмехнулся, и я только дивилась, как складно у них все выходило. Длинный подлез тихонько под мостик, двое по ту сторону дороги за сугробами легли. Длинный подлез под мостик, да как дернет рыжего за обе ноги. Тот и крикнуть не успел, только руками махнул да свалился. Увязали его под мостиком, как посылку, чтобы не убег, да и собрались дальше впятером идти. Только собрались идти — едет обратно мотоциклетка. А за мотоциклеткой машина, а в машине ихние солдаты. Остановил враг свою мотоциклетку у моста, оглядывается, рыжего ищет. Машина тоже остановилась. И получилось так: трое наших с рыжим по ту сторону насыпи, а я — по эту. Лежу, слежу: фашисты в животы автоматы уперли — ходят. Найдут, думаю, наших. И решилась я на себя навлечь врагов. Побежала в лес, зашумела. Кинулись они за мной. Стреляют. Догнали. Схватили меня, вывели на дорогу, а наши как начали стрелять, прямо беда. Я кричу им: «Уходите, милые, не бойтесь, ничего мне не будет!» А они не слушают. Забегали фашисты. Шофер в канаву забился. Меня бросили. Я — в лес. Сперва немцы с автоматов стреляли. Потом гранату кинули. Видать, дело у наших плохо. Потом вижу — идет рыжий, хромает, на одной ноге у него веревка болтается, идет, руками размахивает, объясняет что-то. Понесли своих убитых. Потом несут одного нашего, — видно, мертвый. Потом второго. Думаю: сейчас третьего понесут, а тут наша артиллерия стрелять начала. Сели в машину, да на полный ход! Дождалась я, когда все утихло, перебегла дорогу. В лесу светло — луна светит. Сладко порохом пахнет. Кровь снег проела. Ходила я, ходила — нет никого. Остановилась. Прислушалась. Слышно — стонет. Пошла на стон — вижу, лежит этот старший лейтенант и от ног у него пар идет. Вот, я, бабушка, его и понесла.
Бабка сидела, все так же покачиваясь, твердила что-то тихим, одной ей слышным, голосом, а ветер перебирал ее желтоватые редкие волосы. Младенец подавался вперед, пускал пузыри и тянул свое: «А-а-а!»
А Тоня рассказала, как прятала старшего лейтенанта, рассказала все без утайки.
— Я его сразу признала, бабушка, сразу, как он в деревню вошел. Слышишь, бабушка?
— Кто?
— Да он, старший лейтенант.
Над полем полосами пролетел ветер, пригибая траву и перекрашивая ее в пепельный цвет. Облака потемнели и толпой тронулись за холмы.
«Не поняла она, — думала Тоня, — а может быть, и поняла, да сказать ничего не хочет. А в деревне разболтает».
И, рассердившись, Тоня подсела совсем близко к бабке и с каким-то отчаянием стала кричать ей в ухо все снова, от начала до конца. Ей показалось, что бабка усмехается. Но бабка не усмехалась — просто морщилась оттого, что щекотно было ее уху.
— Ну, так и что же, касатка, — сказала бабка, дослушав и совсем не удивляясь, как будто такие истории рассказывали ей каждый день. — За чем дело стало? Поди, признайся. Порадуй его.
— Так я же целовала его, бабушка. А он женатый, невесть что может подумать!
— Ты его от смерти спасла. Сама не понимаешь своего геройства. А целовала от чистого сердца. Над сердешными людьми только дураки смеются. Ступай, не бойся!
Тоня взглянула на бабушку и сама удивилась тому, что боялась сказать старшему лейтенанту, кто она такая. Она собралась было побежать к нему сейчас же, но подумав, решила дождаться вечера, когда Женя уйдет доить корову, а тетя Дуня — в правление, и он останется в избе один.
Наточив косу, она пошла на свой ряд и спокойно работала до тех пор, пока не подошла тетя Дуня замерять.
Оказалось, что старший лейтенант и Женя накосили поровну. Замер, конечно, был неверный — Женя наработала раза в полтора больше. Но тетя Дуня, видно, нарочно кусок Жениной полосы записала старшему лейтенанту, чтобы часы при нем остались, и Женя не спорила.
Тоня сорвала ряску пахучего белого цвета купыря, утерла им шею и руки, чтобы отбить запах пота, и пошла домой.
Наскоро поужинав, она переоделась в праздничное платье и выбежала во двор. Было душно. Пахло акацией. Воздух стал темным, все изменило цвет — как бывает, когда смотришь сквозь темное стеклышко. Стали темными и песчаная дорога, рябая от копыт прошедшего стада, и лопухи с большими листьями, мягкими, как телячьи уши, и дальние березы.
В окнах крайней избы виднелся слабый свет, спокойный и ласковый. За закуткой молочные струи мерно пилили железо, и, кроме звона молока о ведро, ничего не было слышно.
Тоня ступила в сени. «Я скажу: „Вы возле Островков служили?“» — повторяла она заученные слова. Он скажет: «Служил». — «А меня признаете?» — «Не признаю». — «А кто вас из леса, раненого, тащил — позабыли?» — «Нет, — скажет, — не позабыл». — «Так вот, я она и есть». Что скажет на это старший лейтенант — Тоня не могла придумать. Она постучала.
— Войдите, — сказали из комнаты.
Она отворила дверь. Старший лейтенант сидел за столом и что-то писал.
— Кто это? — спросил он, отклоняя голову от лампы, и у Тони снова захватило дух.
— Я, — сказала она, пугаясь того, что разговор начался совсем не по-заученному.
— Кто это «я»? — спросил старший лейтенант.
— Соседка ваша.
Наступило молчание. И вдруг, неожиданно для себя, Тоня сказала:
— Вы кислого молока хотите?
Он ничего не ответил, упорно продолжая рассматривать ее.
«Как бы убежать отсюда, — совсем растерявшись, думала Тоня. — Нет, убежать плохо. Подумает, дурочка какая. Нет, надо говорить. Скажу, а там пускай, как хочет».
Она уже открыла рот, но снаружи зашуршало, видно, кто-то отыскивал скобу. Дверь отворилась, и в горницу вошел Федот Иванович.
— Это кто тут? — спросил он. — А, Тонька! — и, осмотревшись, как бы чего-нибудь не своротить, подошел к столу.
— Ты, слышь, не сердись на меня, начальник, что я тут полный день возле тебя зубы скалил, — начал он непривычно серьезным голосом. — Позабыл я, что тебе не до шуток. Выбило из памяти…
— Я не сержусь, Федот Иванович. Что ты…
— А не сердишься, так ладно. Я вот, слышь, баньку стопил. Может, сходишь, попаришься? Веники я на это дело припас свеженькие.
«Вот принесло его! — досадливо подумала Тоня. — Сейчас бы я сказала все».
— Баня? — переспросил старший лейтенант. — Вот спасибо, Федот Иванович. Сейчас же иду. Обязательно.
Он сбросил китель, достал из вещевого мешка мыло и полотенце, и они вышли.
— Видно не судьба мне с ним говорить, — вздохнула Тоня. — Ладно, завтра, когда Елена Васильевна приедет, обоим им сразу и скажу. Только, наверно, не поверит Елена Васильевна. Нет. Надо сперва ему сказать. Может быть, он уже позабыл про это, и меня не узнает.
Прикрутив лампу, она вышла на крыльцо. Дождь обманул, прошел стороной. Стало прохладней. С дальних озер подул ветер, принес запахи ряски и сырого песка. Тучки растрескались, и сквозь кривые трещины просвечивало лунное небо.
— А вот скажу! — упрямо твердила она про себя, глядя на две темные фигуры. — Дождусь, когда он вымоется, и скажу. Сяду возле бани и буду караулить…
И с таким же злым упрямством, какое овладело ею, когда она тащила раненого в сарай, она сняла туфли и быстро зашагала вслед. Идти надо было в другой конец деревни, к речке. По дороге Тоню встретила любопытная подруга и стала расспрашивать, куда она идет, зачем несет туфли. Тоня не могла отвязаться от нее минут пять. Наконец она вышла к берегу. Банька Федота Ивановича, окруженная кустами орешника и чернотала, стояла в отдалении, на крутом мыске между рекой и глубоким оврагом. Узкая ступенчатая тропинка вела от низкой, в две доски, двери к речке. Белый пар сочился по всей соломенной крыше.
Старший лейтенант, видимо, уже парился. Тоня издали услышала голос Федота Ивановича:
— Теперь, слышь, я на полок полезу, а ты подбрось ковшичек.
Раздалось громкое шипенье каменки, пар над крышей закручивался.
— О-ох… хорошо… — застонал Федот Иванович. — Еще-е…
Бревна треснули. Силой пара отворилась дверь, и стало слышно, как в бане круто бурлит кипяток.
— Прикрывай! — закричал Федот Иванович испуганно. — О-ой, смерть моя! А ну еще!..
Тоня села в кустах на корягу. Минут через пять Федот Иванович выбежал голый, дымящийся, в пятнах березовых листьев, сбежал по тропинке так быстро, как будто за ним гнались, с разгону влетел в реку и, сложив крестом на груди руки, присел три раза. Потом потихоньку вернулся, прикрыл за собой дверь.
«Теперь скоро», — подумала Тоня.
Загремели шайки.
— Что это у тебя, слышь, с ногой? Раненый? — донеслось до Тони.
Она замерла.
— С этой ногой целая история, — ответил старший лейтенант.
— Вон что. А я тоже, слышь, раненый был, в японскую. Вот тут видать?
— Нет, не видно ничего.
— А тут?
— И здесь не видно.
— Ну, тогда, значит, заросло, — с сожалением сказал Федот Иванович. — Позабыл, слышь, в какое место и ударило. На мне, как на сосне, дырки заплывают. А было это вот как: лежали мы в Маньчжурии, в окопах. Был у нас подполковник Стенбок. Зверь — царство ему небесное. И была у него сучка махонькая, карманная, ровно крыса, под названием «Дезик». А солдатики, слышь, ее окрестили «Беда», потому что, если она бежит, значит, подполковник недалеко, ну и, конечно, кому-нибудь будет неприятность или в морду. Берег ее подполковник пуще жены. Кто-то ему, слышь, нагадал, что если эта сучка подохнет, — не будет ему в жизни удачи. И нам было строго-настрого приказано сучку не обижать и беречь ее всячески. Ну, ладно. Лежу я в окопе. Вижу — бежит эта «Беда». Выскочила она из окопа и пошла, слышь, прямо к японцу. «Ну, думаю, придет сейчас подполковник, будет всем нам за милую душу». Осенился я крестным знамением и пополз за ней. Зову тихонько: «Беда, Беда!» Она остановилась, на меня глядит. Хитро глядит, стерва. Подполз я к ней совсем близко, рукой достать, а она опять на аршин отбегла. Я к ней, и так и сяк. Сухарь достал. Подманиваю. А она на сухарь глядит и смеется. Что ей сухарь, — к ней повар из Питера приставлен был…
Тоня прислушивалась к плеску воды, бряканью шайки, и ей становилось все грустней и грустней, а из бани глухо доносился голос Федота Ивановича:
— Ну, ладно… Поглядела на меня сучка, кажись, даже подмигнула и побежала к японцу. Я за ней. И так оно, слышь, вышло, что стало до нас далеко, а до японца близко. Ладно еще, что там росла кукуруза — гаолян по ихнему, а то снял бы меня японец. Ползу я и ползу. Я к ней — она от меня. Заметил японец — гаолян шевелится. Наверное, подумал невесть что. Стал шимозой бить. Осерчал, слышь, я тогда, вскочил в рост, изловчился, накрыл сучку шапкой и побег домой. Вот тогда мне в это место и вдарили. Ну, полежал я дня три и обратно — в окоп. Ну, ладно. Узнал подполковник об этом деле, приезжает в нашу роту. Построил нас. Мы тогда, в начале войны, все в белое выряжены были, чтобы японцу видать лучше. Стоим мы все одинаковые, как папиросы в коробке. Ротный на цыпочках бежит докладывать. А подполковник скинул очки и говорит: «Не надо докладывать. Я, слышь, сам хочу узнать, кто сделал это геройство».
Прошел по шеренге один раз, второй. Мы на него, как на магнит, морды воротим. Потом подходит ко мне, тычет пальцем и спрашивает ротного: «Этот?» — «Этот, ваше благородие!» Так мне удивительно стало, что он, ничего не знавши, меня признал, — три дня за ротным ходил, выспрашивал. До тех пор за ним ходил, пока он мне наряда не в очередь не посулил. И по сю пору не знаю, как этот подполковник, царство ему небесное, меня признал.
— Видишь, как просто тогда было героя угадать, — сказал Леонид. — Теперь так не угадаешь. Теперь все герои. Не за это ли дело тебе Георгия дали?
— Нет. Что ты! Это когда мы у речки Шахе стояли, я зараз двух японцев приволок. Егорьевский крест редко кому давали. Ну что, намылся? В реку пойдешь окунуться? Ну, тогда одевайся да пойдем к моей старухе, у нас там полбутылочки очищенной.
«Нет, видно, уходить надо, — вздохнула Тоня, — правда не судьба мне с ним побеседовать».
Она поднялась и отправилась в деревню. Возле ворот беседовали и щелкали семечки девчата. Тоня шла домой, держа в руках туфли, и луна кралась за ней, прячась за крыши.
— Не знаешь, где Леонид Семенович? — окликнула ее Женька.
— С Федотом Ивановичем моется, — ответила Тоня. — А потом к нему пойдет ужинать.
— Вон как. Ты за ним как за ухажером смотришь.
— Не смейся, — грустно сказала Тоня. — Ты бы ему на мундир пуговицы покрепче пришила. Болтаются пуговицы. На ужин — кислое молоко дай. Да когда стелить ему будешь, под голову повыше положи, он любит, чтобы изголовье высоко было.
— Да ты знакома с ним?
— Знакомая! Лучше вас всех его знаю! А вы и подступиться не даете!
И, ничего больше не сказав, она побежала к своему крыльцу. Тетка ее уже спала. Тоня тоже легла, но ей не спалось. Она оделась и вышла на улицу. Окна крайней избы светились.
«Может быть, он вернулся?» — подумала Тоня.
Она пошла, хоронясь в тени, вошла в палисадник и заглянула в окно.
Старшего лейтенанта еще не было.
По комнате ходила Женька. Вот она сняла с вешалки пальто, понесла его за перегородку. «Под голову кладет. Правильно». Вот она вышла, села к столу, придвинула лампу и стала подшивать к кителю пуговицы.
И вдруг так завидно стало Тоне, что пуговицы подшивает не она, а Женька, что она чуть не заплакала. Между тем Женя кончила дело, откусила нитку и, повесив китель на спинку стула, накинула платок, вышла на улицу и направилась к девчатам.
Тоня прислушалась. В тесном закуте ударила ногой по воротам корова, тяжело дыхнула и затихла. Тоня бесшумно вошла в избу. За пологом спала тетя Дуня.
На цыпочках Тоня прошла к стулу, на котором висел китель с вывернутым рукавом. Сердце у нее билось так сильно, что она боялась, как бы от этого стука не проснулась тетя Дуня. Она сняла китель, тяжелый от орденов и медалей, как тулуп, села на то место, где сидела пять минут назад Женя, и отрезала ножницами одну за другой все пуговицы. Одна из них упала и покатилась, бренча, как погремушка. Тоня подняла ее, выдернула зубами нитки.
Потом она стала, аккуратно примеривши, пришивать пуговицы на прежние места и, чем дальше шила, тем светлей и радостней становилось на ее душе.
Тоня пришила последнюю пуговицу. Чему-то улыбаясь, она вышла на крыльцо и остановилась, пораженная сиянием ночи. Было так светло, словно тысячи лун сияли с неба. Было так светло, что можно было пересчитать все зубья у грабель, прислоненных к сараю. Стуча когтями, по ступенькам взбежал серебряный пес и бросился ей на грудь.
— Светло, Жучок… — сказала Тоня, — светло… светло…
Она долго гладила проволочную собачью шерсть и смотрела на белую дорогу, уходящую за околицу, в седые овсы. Потом она пошла спать, и, когда проснулась, было уже позднее утро.
Улыбнувшись, Тоня побежала к тете Дуне повидать Елену Васильевну и рассказать ей и старшему лейтенанту, кто она такая.
Удивляясь своему радостному спокойствию, она вошла в избу. Никого, кроме Жени, в комнате не было.
— А где старший лейтенант?
— Уехал, — ответила Женя.
— Врешь!
— Нет, правда. Вон жене записку оставил… Пойдем, что ли, уже все ушли.
— Я сейчас. Ты иди.
Оставшись одна, Тоня взяла лежавшую на столе записку.
Там было написано:
«Родная моя! Жалею, очень жалею, что не застал. Эшелон стоит сутки. Сегодня в 10.00 едем дальше, на восток, кончать с Японией. Скоро увидимся — насовсем».
Дальше было написано много всего, а на третьем листе сказано:
«И еще одно. Помнишь, я писал тебе о девушке, которая спасла меня в 1942 году. С того времени я встречал сотни девушек, которые могли бы сделать это. Всех их я спрашивал: „Были ли вы в Островках?“ И все они отвечали, что не были. Почему-то мне кажется, что дочь твоей хозяйки, Женя — моя спасительница. Меня навело на эту мысль пустое обстоятельство: она потчевала меня простоквашей, которую я так люблю. Но Женя уже спит, и мне не хочется будить ее. Спроси, пожалуйста, была ли она в Островках при немцах?»
Тоня взяла карандаш и, оглянувшись, приписала сбоку, на полях записки: «Елена Васильевна! Это я велела Жене подать ему простоквашу.
Антонина Тимофеева».
1947
ДВА АВТОМАТА
Несмотря на то, что тащить ослабевшего от потери крови Никонова по лесной чаще было тяжело, Степан Иванович не решался податься ближе к опушке, в редколесье. Там по шоссе проходили вражеские транспортеры.
И Никонов, и Степан Иванович были ранены. На шинелях у них топорщились солдатские погоны, но хромовые, шитые по ноге сапоги Никонова обличали в нем командира.
Левая нога Степана Ивановича была в ботинке и обмотке, а правая, толстая, как бревно, двигалась, не сгибаясь в колене, запеленутая грязными тряпками и берестой.
Они шли по густому лесу. Ели, осины, сосны и березы стояли так тесно, что корни их вытесняли друг друга и лежали в траве неподвижными, словно припаянными к земле петлями. В лесных закоулках было сумрачно и тихо, и только плоские голубые лучи, пронзавшие листву, напоминали о том, что где-то за деревьями сияет солнце.
Степан Иванович тащил Никонова, раздвигая головой еловые лапы. За спиной у него болтались два автомата: один почти новенький, вороненый, а другой потертый, с поцарапанным прикладом. Новенький автомат принадлежал Никонову, а потертый — Степану Ивановичу.
То, что рана Никонова очень опасна, было известно им обоим, и оба они относились к этому с тем возвышенным спокойствием, которое свойственно только обстрелянным солдатам.
— Давай отдохнем, — хрипло проговорил Никонов и остановился.
Степан Иванович с беспокойством замечал, что после каждой остановки сдвинуть Никонова с места становилось все труднее.
— Надо бы идти, — сказал он, — командование ждет данных разведки.
— Скорее всего эти данные придется докладывать не мне, а тебе…
— Кто знает, может, дойдете… — просто и грустно сказал пожилой солдат, не желая оскорблять командира ненадежными утешениями.
— Может, дойду. А ну, все-таки, повтори.
— Есть, повторить, — послушно начал Степан Иванович. — К мосту через реку Тихая согнали женщин. Мост усиляют стойками диаметром примерно двадцать два — двадцать четыре сантиметра, после усиления по мосту свободно пройдет полковая артиллерия… В деревне Воскресенское в школе расквартирована пехота — во дворе сушатся шестьдесят две нижние рубашки… Вы слушаете, товарищ лейтенант?
Никонов молчал.
— Товарищ лейтенант…
— Ты, Степан Иванович, Наде сразу скажи, как ее увидишь. Без всяких выдумок и постепенной подготовки… Ни к чему это. Она все равно догадается.
— Я, товарищ лейтенант, врать неспособный, — хмуро ответил Степан Иванович.
Надя была лейтенант медицинской службы в той самой части, куда недавно прибыл из училища Никонов. Они оказались знакомыми еще «по гражданке». Решив не дожидаться конца войны, они поженились и, скопив офицерские пайки, справили свадьбу прямо в землянке, между двумя вражескими атаками.
— Что ты затосковал, Степан Иванович? — спросил после некоторого молчания Никонов.
— Вы бы лучше молчали, — ответил Степан Иванович, — тяжело раненым разговаривать не положено…
Отталкиваясь локтями от стволов, разведчики вышли на полянку, красную от земляники. Они молча прошли ее, давя ягоду, и снова углубились в сырые лесные сумерки.
— Ведь вот как нескладно получилось… — начал Степан Иванович. — У человека только жизнь начинается, а его в грудь, под вздохи. А я, как бы сказать, свое прожил — а меня в ногу. Правду говорят: пуля-то — дура…
— А что, у тебя нет никого, Степан Иванович?
— До войны все было, как у людей. И жена была, и дочка. Враги сожгли их подо Мгой. И теперь, товарищ лейтенант, я не муж и не отец. Теперь у меня одно название — бобыль… И слово какое-то… немытое… И вот… как бы вам получше объяснить… — он остановился и подумал: — Совестно мне, что я живой останусь, а вы… У вас жена — любовь, одним словом.
— Это ты неверно, Степан Иванович, — сказал Никонов, — тебя тоже любят.
— Никто меня не любит.
— Народ любит…
— A-а, вон вы про что… Общественная любовь — это я понимаю. А я про другое… Я вам говорю — у меня родни нету.
— Весь наш народ тебе, Степан Иванович, родня… Самая близкая родня… — командиру было трудно говорить, в груди его хрипело и хлюпало. — И горести у народа и у тебя — одни, и радости одни… И любовь эта, как воздух, всегда с тобой, Степан Иванович.
— То-то оно и есть… Как воздух… ее, как воздуха, и не видать…
— А ты меня любишь? — неожиданно спросил Никонов.
Степан Иванович оглянулся. На белом, осунувшемся лице командира темнели губы, ломкие, как яичная скорлупа.
— Чего мне вас любить? Я — не Надежда Павловна…
— Так зачем же ты меня тащишь? Сам еле идешь, а тащишь.
Степан Иванович снова повернул к Никонову скуластое, заросшее по самые глаза свинцовой щетиной лицо и удивленно посмотрел на него:
— Как же я вас брошу? Что вы…
— Ну, вот… А ты говоришь… нету.
— Чего нету?
— Любви, говоришь, в тебе нету…
Не трогаясь с места, Никонов медленно оглянулся по сторонам. Каждый шаг давался ему со страшным трудом.
А впереди начинался тяжелый подъем, лес поредел, и тропинка ровной лентой тянулась на бугор.
— Ну, идемте… — нерешительно повторил Степан Иванович.
— Сейчас… Это что?.. — спросил Никонов, кивнув на землеройку, наколотую на сучок. Он явно тянул время.
— Это птаха такая есть. Сорокопут. Поймает лягушку или мыша и накалывает, про запас, значит… Идти надо, товарищ лейтенант… товарищ лейтенант!..
— Сейчас… Пошли! — сказал Никонов, привалившись к дереву, и стал плавно садиться. Он сел, раскинув ноги, и уронил голову на грудь.
Степан Иванович вздохнул и стал ждать. В лесу было тихо. Изредка доносился шум вражеских самоходок и автомобилей. Минут через десять Степан Иванович нерешительно коснулся пальцем плеча Никонова и проговорил:
— Вам бы не надо сейчас отдыхать… Километров пять осталось… Там бы и отдохнули.
Никонов сидел все так же, уронив голову на грудь, словно заснув. Степан Иванович попробовал поднять его. Раненый застонал так громко и страшно, что Степан Иванович торопливо опустил его и оглянулся по сторонам — не услышали ли враги?
— Худо дело… — сказал себе Степан Иванович. — Как быть-то?
Никонов лежал, запрокинув голову, словно указывал острым подбородком в небо, и белая, незагоревшая шея его вылезла из-за воротника.
Немного подумав, Степан Иванович решительно перекинул оба автомата на грудь и, не обращая внимания ни на боль в ноге, ни на близкий лязг стальных гусениц, ни на стон и ругань Никонова, взвалил его на спину и, придерживая так, как придерживают, катая на спине, малышей, побрел вперед, то и дело сбиваясь с тропинки.
— Это еще что? — проговорил Никонов очнувшись. — Опусти… Сейчас же…
— Молчите. От разговора снова кровь пойдет.
— Опусти… Опустите, сержант… Я вам… приказываю.
— Да что там приказывать! Молчите уж…
— Немедленно опустите… Оставьте меня здесь и идите докладывать… Я вам приказываю… Я тебе приказываю, Степан Иванович… Не опустишь — кричать буду… — последние слова его звучали совсем по-детски.
— А вот, поглядите-ка, товарищ лейтенант, еще мышонок без головы, в развилке ветки зажатый, — сказал Степан Иванович ему, словно ребенку.
Никонов замолчал.
— Это тоже сорокопута дело… Маленькая такая птаха, сивенькая, грудка беленькая, так волной и летает, вверх, вниз, вверх, вниз…
Внезапно Степан Иванович остановился. Несколько минут тому назад Никонов так жарко и часто дышал ему в шею, что она потела. А теперь — шея холодная. Степан Иванович осторожно опустил лейтенанта на траву. Лейтенант был мертв.
Степан Иванович оттащил труп в ложбинку, в землянку, прикрыл валежником, приметил, на всякий случай, место и, широко размахивая правой рукой, словно отталкиваясь от воздуха, захромал дальше.
Одному идти стало труднее. Пока с ним шел Никонов, Степану Ивановичу недосуг было обращать внимание на себя. А теперь он чувствовал, что нога стала тяжелая, как ведро с водой, и в бедре, казалось, стучало второе сердце.
Лес постепенно поредел и перешел в просторный сосновый бор. Неподвижно и тихо стояли оранжевые сосны. Птиц не было слышно, в таких местах птицы почему-то не водятся. Земля, устланная скользкими сосновыми иглами, казалась чисто подметенной. «Тут бы тебе, Леша, легче идти было бы!» — вздохнул Степан Иванович.
К вечеру он добрался до опушки. Отсюда до нашего переднего края оставалось не больше километра. Степан Иванович увидел и рыжую горку, вдоль которой проходил окоп четвертой роты, и беловатый песчаный холм, за которым сгружали концентраты. До всего этого было не больше километра. Однако на протяжении всего этого километра расстилалось ровное, как стол, картофельное поле, а метрах в четырехстах, слева на холмах, виднелись вражеские дзоты; в одном из них слышались звуки патефона — играли краденую русскую пластинку «Катюша».
Дождавшись, пока стемнело, Степан Иванович перевесил один автомат на грудь, а другой на спину, чтобы они не стукали друг о друга, взял в руки две кривые палки (без палок он не мог уже двигаться) и отправился, подаваясь вправо, к болоту. Высокая острая трава на краю болота росла вроде забора, и, двигаясь вдоль того забора, разведчики легко попадали домой. В эту ночь темнота была до того непроницаема, что Степан Иванович, хотя и шел медленно, все время боялся на что-нибудь наткнуться. Пройдя шагов двести, он остановился. Ему показалось, что где-то шевелится человек. Прислушавшись, Степан Иванович понял, что совсем близко от него, метрах в десяти, сидят два гитлеровца, выкапывают прошлогоднюю картошку.
Степан Иванович начал бесшумно отходить, но, сделав шагов пятьдесят, спохватился: с какой же стороны болото?
Вокруг было тихо. Патефон у фашистов играть перестал. Лягушки на болоте молчали. Плотная тьма окружала Степана Ивановича, и он не знал, куда идти.
Дело было плохо. Ходить наугад разведчику не положено. Дожидаться рассвета нельзя: с ногой становилось все хуже и хуже, и Степан Иванович понимал, что утром не сможет сделать ни шагу. Нужно идти.
Степан Иванович подумал, тяжело вздохнул, упер приклад автомата в живот и громко спросил:
— Эй вы, фрицы, где тут к нашим пройти?
— Was? — испуганно отозвался один из гитлеровцев, копавших картофель. Второй, ни слова не говоря, выстрелил, и Степан Иванович увидел маленькую кисточку огня.
— Я же вас по-хорошему спрашиваю, сукины вы дети, — печально проговорил Степан Иванович и, снова тяжело вздохнув, нажал на спусковой крючок. Гитлеровец застонал. Слышно было, как пустое ведро подпрыгнуло два раза и покатилось. Через минуту постепенно стало светлеть. За спиной Степана Ивановича поднялась ракета, по картофельному полю зашевелились тысячи теней, оно побелело и стало похоже на море. Ничейную полосу осветили наши. Степан Иванович повернулся и торопливо заковылял. Ракета погасла. Из вражеских дзотов бесшумно и медленно полетели красные трассирующие пули. Пули погасли, и после этого долетел резкий треск выстрелов. А потом снова над четвертой ротой поднялась осветительная ракета. Степан Иванович рассердился: «Хватит вам светить-то!»
До его ушей донеслись торопливые слова команды. Враги, видимо, догадались, что идет разведчик, и решили задержать его. Степан Иванович оглянулся. С горушки, от дзота, в его сторону бежали, пригибаясь и трусливо забегая друг за друга, человек двадцать в коротких куртках и заправленных в ботинки штанах.
«Поймают», — подумал Степан Иванович и еще сильнее заработал палками. С нашей стороны, одна за другой, три ракеты поднялись в небо и застучал пулемет. «Лебедев музыку играет», — прислушиваясь к ритмичному стуку пулемета, догадался Степан Иванович.
В том месте, где находились окопы четвертой роты, словно из-под земли, выскочили солдаты и побежали навстречу. Среди них была и Надя, жена лейтенанта…
— Да скорей вы, скорей! — закричал Степан Иванович. И в это время что-то прожгло его под правой лопаткой, и он упал, больно ударившись спиной о диск автомата.
Через полчаса Степан Иванович лежал в землянке, воняющей йодом и спиртом, на чем-то белом и очень мягком, до того туго закрученный бинтами, что ему было трудно дышать. В ногах сидела Надя в белом халате, выпачканном кровью, и держала его за руку. Лицо ее было бледно, волосы выбились из-под косынки, и черные, бархатные в полутьме глаза смотрели поверх головы Степана Ивановича.
— Сейчас запрягут и отправят вас в госпиталь… Недели две вам придется полежать. Не волнуйтесь.
— Я и не волнуюсь, — ласково сказал Степан Иванович, глядя на ее худенькие, бледные пальцы, слабо придерживающие его руку. — Надо бы, пока не забыл, данные передать разведки…
— Так вы же передавали. Командир роты все записал…
— Передавал? А я думал, это во сне.
— Нет, не во сне…
Она сидела, следя за его пульсом, и все так же упорно смотрела поверх его головы. До сих пор она ни слова не спрашивала о самом дорогом ей человеке. «Не потому ли, чтобы не волновать меня, она не спрашивает?» — подумал Степан Иванович, и ему вдруг так по-отечески жалко стало эту молодую женщину, что он понял: сказать ей о смерти Никонова он не сможет.
— Лейтенанта еще нет? — осторожно спросил Степан Иванович.
— Нет еще, нет… — ответила Надя, все так же, не мигая, глядя поверх его головы.
— Наверно, скоро придет… Егорова-то убили… А лейтенант придет. Тут вышла загвоздка… Когда нас фашисты в риге выследили, так лейтенант меня домой послал… донесение снесть… сам с Егоровым остался… Я уж не знаю, зачем он остался…
— Наверное, он решил навлекать на себя огонь, — сказала Надя. — Вы молчите… Вам трудно говорить…
— Да, вот, вот, огонь навлекать. Я-то, в леске схоронившись, все видел. Лейтенант-то из автомата их косит и косит. Фашисты лежали, лежали, отстреливались, а тут бегут какие-то деревенские, да на них. Партизаны… Потом, вижу, лейтенант выходит, смеется, дает им закурить своего… как это…
— «Беломора»… — подсказала Надя. — Вы молчите…
— Да, «Беломора», а потом он с ними ушел, с партизанами. А я сюда пошел. Только, я думаю, он теперь не скоро будет…
— Конечно, раз он к партизанам попал — не скоро будет… — сказала Надя, взглянув на Степана Ивановича, и он увидел, как в глазах ее дрожат слезы.
Вошли два солдата с носилками. Когда Степана Ивановича, переворачивая, клали на носилки, он мельком увидел, что на нарах стояли два автомата: один потертый, блестящий, Степана Ивановича, а другой новенький, со свежим воронением автомат Никонова. «Что же это я автомат не спрятал?» — мелькнуло в сознании Степана Ивановича.
И внезапно он понял, как старалась эта женщина скрыть от него, что давно догадалась о смерти мужа, как заботится она, чтобы Степан Иванович не догадался об этом, и как в этой заботе сияет та самая любовь, о которой говорил командир.

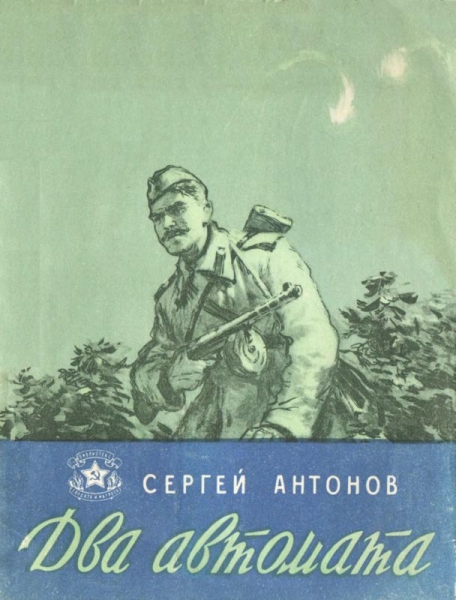

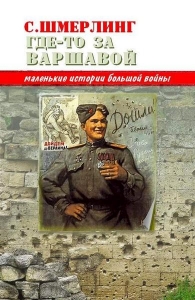


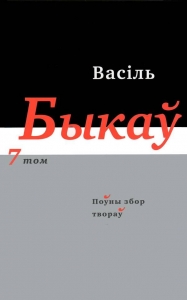

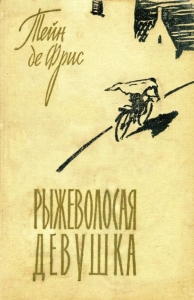





Комментарии к книге «Два автомата», Сергей Петрович Антонов
Всего 0 комментариев