Николай Бораненков ВЕРБЫ ПРОБУЖДАЮТСЯ ЗИМОЙ Роман
Брату моему Иллариону Егоровичу,
погибшему в боях за Родину, посвящается.
АвторЧАСТЬ ПЕРВАЯ
1
В майскую просинь грустно смотрели пушки. Они уже столько выплеснули раскаленной мести, что давно и небу было жарко, и земле невмоготу. Но там, в грудах развалин, в хаосе вздыбленных балок, кто-то из обреченных, безнадежно проигравших все еще верил в несбыточное чудо. И тогда пушки опять подняли свои жерла и выжидающе застыли.
— По недобитым!.. Взрыватель фугасный! Прицел…
На балкон обгорелого дома выскочил с телефонной трубкой в руке связист наблюдательного пункта батареи. Блескучие глаза его восторженно горели.
— Стой! Стой! — закричал он, размахивая руками. — Кончилась! Кончила-а-сь, братцы!
Привыкшие к точному исполнению команд артиллеристы, все эти годы только и занимавшиеся тем, что по сигналу вели губительный огонь, теперь же, не веря своим ушам, не понимая, как это вдруг умолкнет их батарея, не выстрелят заряженные пушки, оторопели. Но вот один из них подскочил к орудию, хлопнул шапкой о землю и на глазах ошеломленных товарищей выстрелил.
Качнулась земля. Дрогнули в белой вязи яблони. С клекотом и гулом пошел снаряд через притихший город.
Эхо разрыва трескуче прокатилось по опустелым улицам, прозвенело в глазницах зданий, и воцарилась такая тишина, что стало слышно, как гудят в яблонях пчелы.
К пушке, еще окутанной дымом, подбежал, запыхавшись, командир батареи.
— Кто стрелял? — крикнул он сиплым голосом.
Расчет быстро выстроился у широко, по-рачьи раскинутых станин. Все пятеро, понурив головы, извиняясь за нелепый выстрел, молчали. В окоп, свежеотрытый и уже обваленный, промыв дорожку, журчаще стекала полая вода.
— Кто стрелял? — не получив ответа, еще раз спросил командир.
Из строя вышел старый, сутулистый артиллерист с кустисто-раздвоенной бородой.
— Я, товарищ командир, — сказал он глухо, с придыханием.
— Отбой слыхал?
— В точности слыхал.
— Тогда зачем же выпалил? Кто просил?
Артиллерист вздохнул. Впалые, глядящие из-под растрепанных бровей глаза его непримиримо уставились на могильные холмы развалин.
— В древней Руси обычай был, — сказал он, не чувствуя вины в содеянном. — Схоронив нечистую силу, кол осиновый в могилу ей забивали, чтоб не воскресла.
Комбат, заломив ушанку, удивленно посмотрел на солдата. Злость как рукой сняло. В другой раз он бы не простил этого ослушания. Но теперь, в этот час, когда и само небо ликующе расцвело, да еще услышав такой ответ, наказывать солдата он счел за великий грех и потому, смягчаясь, сказал:
— Кол, говоришь? Ну, что ж… Пусть им будет и кол. Только насчет воскрешения зря вы. Не воскреснут. Не за тем мы воевали.
— Дай бог, — вздохнул солдат. — Поживем, увидим.
На позицию откуда-то подвалила шумливая, возбужденная, одуревшая от долгожданной радости пехота. Над головами взвились шапки, пилотки, затрещали салютные залпы винтовок. Кто-то притащил двухрядку, к ней пристроился аккордеон, и загудела под кирзовыми сапогами чужая мостовая, выплеснулась на нее вся радость человечьих душ.
…Три дня и три ночи на улицах и площадях поверженной Германии гуляла, веселилась, щедро раздавала кашу победившая в сражениях Советская Русь. А на четвертый все как-то сразу стихло, все приняло тот строгий вид, которому и надлежит быть в сильной, железной армии. Те, кому было приказано остаться, занялись своим нелегким на чужбине делом, многие же покидали побежденную Германию и направлялись в эшелонах, в пешем строю домой.
В числе других уходила из-под Берлина и армия генерала Коростелева. По безлюдным, казалось, вымершим улицам дачного городка, мимо островерхих кирх и каменных, местами исковерканных снарядами домов двигались, гудели военные обозы. Вначале стремительно промчались мотоциклы и легкие бронетранспортеры со спаренными пулеметами. Следом за ними, устало качая длинными стволами, проползли оспенно-рябые танки и с пушками на прицепах лобастые тягачи. Потом бесконечным потоком потянулись обшарпанные, прошедшие полсвета, заваленные военным скарбом полуторки, трехтонки, горбатые автобусы, трофейные «оппель-капитаны», тарахтящие двуколки — все виды транспорта взбудораженной Европы.
На повозках, грузовиках, с венками на пилотках, охапками цветов — подкрашенные солнцем и дорожной пылью армейские девчата. Улыбчивы их губы, счастливы лица, но в глазах приглушенная боль разлуки, смешанная с радостью скорого свидания.
В замыкающей колонне скрипучая повозка. В пей важно восседают сержант-артиллерист и миловидная, со стрельчатыми строгими бровями медсестра с медалью «За отвагу». Сержант правит одной рукой конями, другой бережно поддерживает встреченную на распутье дорог подругу. Рябоватое лицо его горит довольством. Глаза прикованы к ней. И, кажется, нет сейчас у него другой заботы, как уберечь ее, не расплескать свое счастье.
За транспортом двигалась в пешем строю матушка- пехота. Колыхались в такт шагу винтовки и автоматы, звенели начищенные до огненного блеска медали. Сотни, тысячи наград. Будто собран был здесь весь цвет армии, словно хлынула напоказ вся гордая слава России. Шли навстречу солнцу, сбереженным радостям солдаты, сменяли песню песней, пока не появлялся какой-нибудь шутник и не вскрикивал: «Воздух!» Иные кидались привычно в кюветы, а вслед им летел взрыв мужского хохота: «Го-го! Ложись! Седалище пониже прижимай». Спохватится тут же оплошавший и — скорее в строй, глаза под каску.
А параллельно войсковым колоннам, стесняясь своего жалкого вида, текла река освобожденных из плена. Опираясь на палки, костыли, поддерживая друг друга, шли люди в изношенном до лоскутов военном, в полосатых с клеймами халатах, рваных куртках, пиджаках…
Худой, длинный, как жердь, человек, в истлевшей на спине гимнастерке, подпоясанной офицерским ремнем, счастливо подставив ветру и солнцу белесо-седые волосы, хромая, ковылял по шоссе и взмахом руки приветствовал обгоняющих солдат. Его то и дело теребил за рукав обросший человек в рубахе, сшитой из мешковины.
— Нет, ты скажи, скажи, комиссар, что нас ждет? Что с нами будет?
— Известно что, — вздохнул человек, названный комиссаром. — Трусов и перебежчиков не пощадят. Их ждет тюрьма, Сибирь… Такое не прощается, браток.
— Тех пусть. Те пес с ними… Сами в плен бежали. Но мы? Почему мы должны страдать за чью-то бездарность?
— Ты о чем это?
— Все о том же, комиссар. О том… Сколько нашего брата попало в окружение под Минском, Киевом, Харьковом, в Крыму! Сколько было кинуто на произвол судьбы! А кто за это в ответе? Кто?
— Не кипятись. Побереги нервишки. История разберется, виноватых найдет…
— Найдет, — грустно усмехнулся человек в мешковине. — Пока найдет, они вволю в славе накупаются, а вот мы…
Шли, брели обделенные судьбой солдаты, думали тяжкую думу свою. В их толпе — с узелком на руке, бледная до желтизны девчонка. Сколько ей было, когда ее бросили в вагон на глазах у кричащей и рвущей волосы матери? Четырнадцать? Шестнадцать? Три года разлуки, и она уже седая.
У водопроводной колонки, опершись на палку, отдыхал костистый, долговязый, с распущенными до плеч волосами русский священник, в истрепанной рясе и немецких кованых сапогах. На груди у него висел массивный оловянный крест. К куску веревки, которой подпоясана ряса, приторочены фляжка в зеленом чехле и закопченный котелок.
К колонке подвалила рота. При виде попа солдаты заулыбались, обступили его. Встретить батюшку здесь было для них подобно тому, что увидеть цаплю на севере. В фашистских концлагерях томились в основном военнопленные, партизаны. Но этот… Как он сюда попал? Откуда?
Напившись из фляжки и утерев рукавом гимнастерки губы, к попу ближе всех подошел плечистый, крепкого сложения солдат, с потрепанной скаткой через плечо, из-под которой поблескивали два ордена Славы. Один потускневший. Другой совсем новенький, цвета ясной луны.
— С праздником, батя! С победой! — сказал солдат огрубелым и сильным голосом.
Поп приложил исхудалую руку к груди:
— Благодарствую. И вас со светлым праздником, христово воинство. — Он низко поклонился. — Премногое спасибо. Коль не ваш приход, терпеть бы нам тут муки адовы.
— Откуда, святейший? Из каких концлагерей? — подступили с расспросами бойцы.
— Всяко пришлось. Хлебнул исчадья в разных «теремах». Последний год в карьере… Камень дробил.
— За что же вас сослали? — любопытствовал плечистый.
— Молебен в погибель Гитлера отслужил. Ну и взлютовали. Дьяка расстреляли, матушку в петлю. А меня вот сюда. На страшные тернии.
— Да-а, — вздохнул солдат. — Фашисты на это мастера.
Поп замахал рукавами:
— Свят, свят… Ни в коем… Не вспоминайте о них. Это анафема. Змеиное племя. — Он вскинул руки к небу, закатил глаза. — Да сгинут вовеки! Да разверзнется под ними земля!
Солдату стало жалко этого одинокого человека. В его глазах это был уже не поп, которых он, кстати-то, и недолюбливал, а просто человек, пострадавший за землю свою. И потому солдат с мягким, душевным участием спросил:
— Куда же вы теперь, отец?
— Да уж не знаю, — вздохнул священник. — Иду, куды очи зрят. Одна мечта на душе: до матушки Россеи стопы донести, а там… Волосы срежу. Крест в омут…
— Верно! Мудрое решение! — поддержали солдаты.
— Из вас бы нотариус вышел.
— Выйдет аль нет, а службе моей крест. Не доходит пасторский глас до бога. Не чует он люд земной. Не чует…
— Обюрократился. Зазнался, — подшутили солдаты.
— Без критики ведь живет.
Раздалась протяжная команда: «Стано-ви-сь!»
Солдаты, напутствуя потерявшего веру в бога попа, заторопились в строй. Широкоплечий достал из кармана клок бумаги, карандаш, быстро написал записку и протянул ее священнику.
— Возьмите адресок, отец. Пригодится. Коль негде будет устроиться, просим к нам в Рязань… В колхоз. Работа найдется.
Поп, не читая записки, сунул ее за пазуху, благодарно поклонился:
— Бесконечное прославление. Не забуду вовек.
Снова гудит слитный шаг. Идет через город армия, спалившая своим огнем орды Гитлера, утвердившая в Европе мир. Все больше и больше немецкого населения на улице. Осмелев, вышли девушки. Светловолосые, как одна. Вездесущие ребятишки вытащили на тротуар своих бабушек и мамаш. И кажется, нет уже той вражды, которую сеял фашизм годами. Немцы улыбаются, машут шляпами, что-то приветливо говорят. Но среди этих дружески настроенных людей не трудно было заметить и тех, кто скрывал за улыбкой недоверие, растерянность, а то и страх.
Один из таких стоял на крыльце своего небольшого кирпичного дома. К какому сословию он принадлежал в Германии, сказать было трудно, но по виду это был рядовой, изголодавшийся немец, которых так много встречалось после войны. Бледный, измученный, в потрепанной одежде, он походил на нищего, которому нигде не подают, а только отовсюду гонят.
Войска давно прошли, миновала дом последняя рота, а он все стоял и стоял, опершись на лопату, виновато улыбаясь, хмуря в досаде лоб.
* * *
В хвосте колонны тихо катился открытый «газик». В нем ехали двое. Солдат-водитель в зеленой пилотке набекрень и майор Ярцев — командир роты, назначенный начальником тыловой походной заставы.
Солдат, откинувшись на спинку сиденья, легко крутил баранку и поглядывал на молоденьких девушек, стоявших на тротуаре. Майор же больше рассматривал дома немецкого городка, любовался садами, которые все еще цвели, хотя стояла пора первых завязей. Лица немцев ему наскучили. Он видел их и в диком испуге, и недоверчиво настороженными, и вот теперь улыбчивыми, дружелюбными. Чувство мести, отношение к немцам как к врагам у него исчезло еще с тех дней, когда вошли в первую германскую деревню. Немцы как немцы. Им также осточертела война, как и русским. Пока шли до Берлина, Ярцев вдоволь наговорился и с рабочими и с крестьянами. Теперь же он просто отдыхал, думая то о милой девушке, которая где-то идет в батальонной колонне, то о родной Смоленщине, где не был уже четыре года.
Неожиданно взгляд майора задержался на пожилом, обросшем рыжеватой щетиной немце, который стоял на крыльце каменного дома, поврежденного снарядом. Он показался ему чем-то знакомым, напомнившим что- то ужасное, но счастливо минувшее.
— Останови! — крикнул майор шоферу.
Машина отвалила к бровке дороги, скрипнула тормозами и остановилась под старой липой. Майор, облокотись на дверцу, пристально всмотрелся в немца и попытался вспомнить, где он видел этого человека. Мысли быстро пробежали по дорогам войны. Сальск, Ростов, Валуйки, Щигры… Постой, постой… а не под Курском ли мы встречались, когда я был в плену? Не этот ли немец возглавлял команду русских военнопленных по заготовке крестов?! Кажется, он. Нет, не он. Ганс Пипке, как помнится, не умел думать. Тот только щелкал каблуками и браво кричал: «Хайль Гитлер!» А этот вон думает. Даже мучительно сморщил лоб.
— Поехали, — сказал майор и, глянув еще раз на немца, отвернулся.
— Кого-то узнали? — спросил водитель, когда машина нагнала строй.
— Да показалось, будто знакомый немец, а это не тот. Жаль…
— Почему, товарищ майор?
— Долгий сказ, браток. Долгий… Эх, если бы увидеть его!
— А может, ошиблись? Может, он и был?
Майор вздохнул:
— Нет. Того бы я сразу узнал. Тот не умел думать. Тот был робот. А этот… думающий немец.
2
Майор Ярцев ошибся. То был не кто иной, как Ганс Пипке. Совсем недавно он действительно не умел думать и ни о чем не думал. В памятке солдату было прямо сказано: «Солдат не должен думать. За него обо всем думает фюрер». И он, Пипке, лишь безропотно, как послушная лошадь, делал то, что велел фюрер. Да что там фюрер! Пипке во всем полагался даже на ротного фельдфебеля. Приказывал тот молчать по-рыбьи — молчал. Велел кричать «Хайль, Гитлер!» — кричал. Заставлял маршировать по улицам — маршировал, хотя не имел никакого бравого вида и в мешковатом мундире больше пригодился бы пугать в огороде ворон.
Пять последних военных лет прожил Пипке вот так, не утруждая себя раздумьями, заботясь только о котелке каши, сухих портянках, похвале начальства и письме из дома. И только теперь, когда не стало фюрера, а фельдфебель, спасаясь от русских, утонул в Шпрее, Пипке стал мало-помалу шевелить мозгами. Да и было отчего. Дома сидели голодные жена и дочь. Снарядом разворотило угол дома, и его надо было чем-то латать. Да и сам после похода на Восток остался раздет, разут. А аппетит такой, что съел бы мешок сосисок. Но где их взять? Сейчас, пожалуй, во всей Германии не найдется мешка сосисок. Даже высокопоставленные чиновники пухнут с голоду.
Все это навевало на Ганса Пипке грустные, очень грустные раздумья. А тут еще этот тощий пес. Вылезет из будки, задерет морду в небо и скулит — чтоб его волки съели!
Пипке сошел с крыльца, зло пнул сапогом собаку.
— У-тю, паршивая. Ишь расскулилась. И без тебя хоть вой.
Рябая, исхудалая до костей собака, согнувшись в три погибели и поджав хвост, виновато повизгивая, полезла в будку. Пипке стало жаль безвинную дворняжку, и он, присев на корточки, начал ласково гладить ее.
— Обижаешься? Не кормят тебя. Бьют. И меня, брат, тоже не кормят. Некому кормить. И нечем. Довоевались мы. До ручки. Я ведь тоже, как ты… голодный пес.
Собака лизнула руку Пипке, и он, потрепав се за шею, встал. Тут же за будкой, в сухом хворосте, откопал большой, обмотанный толем сверток и, прихрамывая, заковылял в глубь своего небольшого, окружившего сарай и домик сада. Там, в зарослях крыжовника, под старой грушей, он, торопясь и оглядываясь по сторонам, вырыл неглубокую яму, устлал дно ее половинками кирпичей и бережно, точно гроб с покойником, опустил гуда сверток. Надо бы закопать таинственную поклажу, пока в сад кто-нибудь не пришел. Но Пипке медлил. Ему вдруг захотелось еще раз взглянуть на то, для него бесценное, что вот-вот будет похоронено в яме, и он, торопясь, достал сверток, размотал толь, брезент, бумагу и вынул из фанерной коробки старый мундир с. «Железным крестом».
— «Железный крест». Награда фюрера. О, мой бог! — прошептал он, прижимая к груди мундир и поглаживая холодный, гладко отполированный кусок металла. — Сколько мозолей набито за тебя! Какую безумную радость испил, когда слушал поздравительную речь герр майора! «Вы, старый солдат Пипке, показали на Восточном фронте истинное прилежание в труде, — говорил он, вручая „Железный крест“. — Ни одна могила славных егерей нашего полка не осталась необозначенной».
О, как стучало в ту минуту сердце! Как радостно было на душе! Казалось, ничего в жизни больше не надо. Нацепить на мундир этот «Железный крест» и вернуться домой невредимым. Ночами мечтал, как станет ходить с крестом на груди по городу, как придет с женой и дочерью в пивную тетушки Герты и все, кто будет там, вдруг увидят его и с завистью воскликнут: «Взгляните! Да это же наш Пипке! Столяр Пипке. И надо же! Хромой, а „Железный крест“ заработал!»
Так думал он совсем недавно, мастеря на Восточном фронте кресты и копая могилы. И вот… этот «Железный крест» теперь не только нельзя носить, но и приходится по-воровски прятать. Другие солдаты побросали свои награды при капитуляции. Им, конечно, можно. Они нахватали крестов и медалей много, пощеголяли, похвастались вдоволь. А у Пипке всего лишь единственный крест, и тот с таким трудом достался!
«Нет, нет. Пусть, что будет, то и будет, а я поберегу. Повременю немного, — думал Пипке, протирая рукавом рубашки запотевший от жаркого дыхания крест. — Еще неизвестно, как оно все обернется».
Довольный такими мыслями, Пипке снова вложил мундир в коробку, упаковал в толь, опустил в яму, перекрестился и поспешно начал зарывать свой драгоценный узел.
Мягко ступая войлочными ботинками, к Пипке неслышно подошла одетая в линялый халат жена Марта — белокурая, полногрудая женщина, с сильными, короткими руками. Она была лет на десять — двенадцать моложе мужа, но и у нее на крутом лбу, под серыми большими глазами уже залегли глубокие, потемневшие морщины.
— Мать моя! — всплеснула она руками. — Вшивый мундир закапывает, старый дьявол.
Ганс вздрогнул, оглянулся и, увидев жену, сердито шикнул на нее.
— Ш-ш! Соседи услышат.
— И пусть слышат, — нарочито громко шумела Марта. — Дураков меньше станет. Тупых фанатиков. Им-то, нацистам, куда ни шло. А ты куда попер? Тебе зачем все это? За что вшей в окопах кормил?
Пипке развел грязными, худющими руками:
— Ах, Марта! Да ведь «Железный крест»… Награда.
— Молил бы бога, что под деревянный не попал.
Пипке сухо закашлял в кулак, задыхаясь, побагровел.
— Ты… Ты это брось, Марта. Брось, я говорю. Подумай лучше, чем накормить ребенка и меня.
— Чем накормить Эмму, я уже подумала. Я сдала в утиль твою паршивую шинель.
— Мою шинель?
— Да, представь, твою. Ну, а что касается пропитания вашего величества, то я советовала бы лучше заняться своим старым столярным делом. Надеюсь, ты не забыл, мой милый, как делают комоды и стулья?
— Эх, Марта! Ну кому нужны мои комоды и стулья, когда у людей нет крыши над головой?
— Тогда ступай в русскую комендатуру и попросись на работу. Нам завтра нечего есть.
— Марта! — простонал Пипке. — Подумай, что ты говоришь? Да меня же как награжденного «Железным крестом» сразу сцапают, упекут в Сибирь. На каторгу. О, неужели тебе не жалко мужа? И притом больного.
— Таких, как ты, в комендатуре ежедневно бывает до сотни, и я что-то не вижу, чтоб кто-то из них отправился в Сибирь. Днем разбирают в развалинах кирпичи, а вечером точат лясы за эрзац-пивом.
Пипке молча притоптал ногами яму, маскируя ее, высыпал на рыжий суглинок корзину прелых листьев, расправил примятые прутья крыжовника и побрел следом за женой.
В садик, размахивая синей косынкой, вбежала в короткой, выше колен юбчонке чем-то возбужденная Эмма. Крупные темно-синие глаза ее сияли. Густые, светло- желтые, как у матери, волосы, волнисто спадающие на плечи, развевались.
— Вот, смотрите! Чистый хлеб. Вкусный хлеб. И вовсе без опилок, — сказала она и протянула на ладони большой ломоть черного хлеба.
— Где взяла? — подступил к дочери отец.
— Там, на кухне. Русский повар дал.
— Русский?
— Да. Мы стояли, а он разрезал буханку и дал. Всем дал. Вот бог.
— Брось! Он отравлен! — крикнул Пипке и притопнул ногой.
Эмма громко рассмеялась.
— Мама! Ты слышишь? Отец сказал: «Брось хлеб, он отравлен». А я уже ела. Он вкусный. Очень вкусный.
Пипке выхватил из рук дочери хлеб, бросил его под ноги и ударил каблуком. Эмма, закрыв ладонями глаза, горько заплакала, как слепая, побрела к веранде.
— Ты чего? — выглянула с веранды мать.
— Хлеб… Хлеб отец растоптал.
— Какой хлеб? Где?
— Мне русский дал. Я принесла домой. Показала… А он закричал «отравлен». Вырвал из рук и растоптал.
Марта спустилась с крыльца, обняла дочь за плечи, вытерла подолом клетчатого фартука ее мокрые, как черника после дождя, глаза.
— Не плачь, Эммочка. Иди в столовую, пей кофе, милая, а я с отцом поговорю. Иди…
Она проводила дочь в дом и подошла к Гансу, который к этому времени поставил в сарай лопату и, склонясь у веранды над тазом, смывал с рук липкую глину.
— Зачем хлеб отнял? — жестко спросила Марта, подперев кулаками крутые бедра.
— Нечего брать отраву. Говорят, пять человек уже отравилось.
— А Ганс Пипке ест русский суп и живет преспокойно.
Пипке, задержав в ладонях воду, недоуменно глянул из-под руки.
— Какой суп? Откуда?
— Да хотя бы тот, что с русской кухни носим.
В это утро Пипке впервые пил желудевый кофе молча, не глядя в глаза жене и дочери. Потом он надел старую рабочую куртку и направился в русскую комендатуру, расположенную недалеко от дома, на городской площади. По дороге к нему присоединился бывший булочник Карл Брюнер, служивший в какой-то пехотной части санитаром. Ганс страшно обрадовался этой нежданной встрече и, пока дошли до ратуши, успел услышать много новостей. Оказывается, господин Борман бежал, доктор Геббельс отравился (во что Пипке, конечно, не поверил). Что же касается его, простого булочника Карла Брюнера, то он вовсе не собирается делать ни того, ни другого. Ему в пору печь эрзац-баранки и поставлять в новые бары, которые растут, как грибы, с любезного разрешения русских.
Прощаясь, Карл Брюнер протянул газету, издающуюся оккупационными властями для немцев, и ткнул пальцем в одну из статей.
— Вот тут. Все написано. Прочитай.
Пипке пообещал. Но сейчас ему решительно было не до газет. Все его мысли вертелись вокруг одного — как бы устроиться на работу и прокормить до нового урожая семью. В июле — августе вырастет картошка, которую посадила тут без него каким-то чудом Марта. Тогда можно будет как-то жить. А вот теперь… Как существовать теперь? В кладовках, кроме трех фунтов чечевицы и желудевого кофе, ничего уже не осталось.
Спросив, кто последний, Пипке стал в очередь на прием к русскому начальству. Длинная, загнутая за угол шеренга двигалась совсем незаметно. Желающие получить работу лениво обменивались новостями, расспрашивали, какие где цены на сигареты, конину. И удивительное дело — о только что минувшей войне, о пережитых ужасах почему-то никто не вспоминал; словно люди стыдились того позора, который навлек на их головы Гитлер.
Пипке, скучая, подумал о том, о сем, потом достал из бокового кармана куртки газету. К нему сейчас же подошли двое, потом еще несколько человек.
— Свежая?
— Да.
— Читайте вслух.
Пипке отыскал ту статью, о которой говорил Карл Брюнер, повернулся спиной к ветру и начал вполголоса читать:
— «Продовольственное положение в Берлине и Дрездене. В Берлине, да и на сотни километров вокруг города царит голод. Немцы умирают от истощения. Продуктов нет. Дело в том, что гитлеровцы давали по 180–220 граммов хлеба в день. Жители резали убитых лошадей и ели их мясо…»
— Верно, — проговорил кто-то над ухом. — По двести граммов, да и то с опилками.
— Тише. Не перебивай.
— «Поэтому, — продолжал читать Пипке, — Советское командование в Берлине и Дрездене приступило к организации нормальной жизни в этих городах. Открылись портновские мастерские, аптеки, молочные магазины. Полным ходом идет восстановление колбасных предприятий…»
— Первая часть правильна. Вторая — пропаганда, — сказал угрюмый мужчина с рассеченным подбородком.
— Почему?
— А где вы видели колбасу, молоко, сосиски?
— Да, этого нет.
— И не будет. Чтобы восстановить эти развалины, — он повел рукой на груды кирпичей, — и накормить нас, потребуется не меньше ста лет.
— Не хнычь, молодой человек, — похлопал по плечу мужчину человек в черных очках. — Германия — живучая страна. Не пройдет и пятнадцати лет, как она обретет свою силу.
— Да, но фюрер…
— Будут и фюреры и рейхсминистры…
Слушая разговоры и думая о своем, Пипке не заметил, как оказался в комендатуре возле обитого синим плюшем барьерчика. Из-за стола встал офицер в новом кителе с тремя рядами планок на груди. Распахнув дверцу оградительного барьера, он учтиво, на чистом немецком языке пригласил к столу:
— Прошу вас. Садитесь.
Пипке послушно щелкнул каблуками, отвесил поклон, сел в мягкое кресло и уставился глазами в офицера, который в эту минуту читал какую-то бумагу. Так вот он каков, русский офицер! Впервые он видит его так близко, что даже мурашки бегут по спине и сердце замирает. Нет, он не лохматый, не обросший волосами, как медведь, о чем не раз писали в геббельсовских газетах. Он строен, подтянут, белолиц, гладко причесан и даже, черт возьми, чем-то красив. Чем же? Синими глазами? Ровными рядами белых зубов? Нет, скорее всего, мягкой улыбкой и привычкой держать с легким наклоном голову. Все это, конечно, так. Но что у него на душе? Пошлет ли он на работу?
Офицер отложил бумагу, поднял голову.
— Слушаю вас.
Пипке скомкал на коленях кепку, взволнованно заговорил:
— Я Ганс Пипке с Югендштрассе. Мне бы работу. Небольшую работу. Я сейчас болен. Слаб. Но я не отказываюсь. Я готов на любую… Куда пошлете.
— Ваша специальность?
— Я столяр. Потомственный столяр, герр офицер.
— Так. Понятно, — побарабанил пальцами по столу офицер. — Состав вашей семьи?
— У меня жена и дочь. Дочери только шестнадцать.
Офицер записал что-то в блокнот и как-то сразу в упор спросил:
— Где были во время войны?
Пипке давно ждал этого вопроса и потому тут же, не моргнув глазом, соврал:
— Я инвалид. На фронте не был.
Офицер обернулся к бритоголовому старшине, сидевшему за соседним столиком.
— Карпов! Подай-ка форму номер один. Да не эту. Ту, что составил немецкий Комитет содействия.
— Слушаюсь, товарищ майор, — ответил старшина и сейчас же передал офицеру толстую, в синем переплете книгу.
Майор отыскал нужную страницу, изучающе посмотрел на нее, почесал за маленьким, как у девушки, ухом, промычал: «Гм-м, да-с», захлопнул книгу и, встав во весь рост, сказал:
— К сожалению, господин Пипке, работы для вас нет.
— Как нет, господин майор? — опешил Пипке. — Ведь только что была. Других посылали.
— Да, посылали. А вас не можем.
— Почему?
— А вот об этом вы и подумайте на досуге.
3
На другой день, надев платье с декольте, устраиваться на работу пошла сама Марта. Только уже не в комендатуру, куда ходил Ганс, а прямо в воинскую часть, которая только что прибыла откуда-то и заняла освободившиеся казармы.
Пипке проводил жену до ворот военного городка и вместе с дочерью начал прохаживаться по тенистой липовой аллее вдоль невысокого каменного забора.
Стоял душный, солнечный день. На деревьях беспокойно кричали грачи. В просохшие лужи слетались бабочки. Из бомбовых воронок ласточки несли к своим гнездам глину. Где-то в военном городке горласто пели русские солдаты.
Коротая время, Пипке медленно ходил по аллее и думал о своем. Хорошо там, где есть фабрика или завод, где можно устроиться на работу. А в этом дачном Грослау? Одна лишь колбасная, и та на замке. Хотя бы Марту взяли на работу. Все-таки было бы облегчение. Но где там! Разве примут! Жена солдата, награжденного «Железным крестом».
Из ворот военного городка вышла Марта. Эмма бросилась к ней.
— Мамочка, как?
Мать быстро спрятала в сумочку носовой платок, облегченно вздохнула.
— Все хорошо. Работа есть, дочурка.
Пипке, растерянный, смущенный, подошел к супруге.
— Ты… Тебя приняли?
— Да. Я буду уборщицей. В гостинице офицеров.
— Ты? В гостинице русских?
— А что? Ты недоволен?
Пипке ничего не ответил. Всю дорогу до дому он гадал: а хорошо это или плохо, осудят его горожане за то, что жена будет работать в гостинице у русских, или теперь до этого никому нет дела?
Только дома, за обедом, он, все еще боясь, что жена рассказала о спрятанном «Железном кресте», спросил:
— Что ты говорила там обо мне?
— Я сказала, что ты сидел дома и набивал обручи на бочки.
— А еще?
— А еще, что ты бунтовал с костылем против Гитлера и кричал: «Долой войну!»
Пипке благодарно поцеловал руку жены.
— Ты умница, Марта. Не зря я на тебе женился.
— Да уж, видит бог, не ошибся.
Ганс был в восторге от находчивости жены, от того, что она так ловко обвела русского офицера. А между тем беседа Марты с русским политработником Кольцовым протекала совсем иначе. О, Марта никогда не забудет этот день, этот час! Усталая, голодная, она шла по военному городку с твердым намерением любой ценой найти работу. И потому, как только солдат, сопровождавший ее до кабинета, удалился, она упала на колени перед молодым майором и, стыдясь, задыхаясь от слез, заговорила:
— Я Марта Пипке. Жена ефрейтора. Он служил в похоронной команде. Награжден «Железным крестом». Верит в чудо. Прячет крест в яме. Но при чем мы? Мы с дочерью. Дайте мне работу. Возьмите все. Я перед вами. Я еще молода…
Бледное, с темной родинкой на щеке лицо майора залила краска. Он отвернулся и тихо, но сердито сказал:
— Встаньте. Иначе я не буду вас слушать.
Марта встала. Стыд жег ее лицо. Ей было очень неудобно и за свое платье с большим декольте, и за те слова, которые, стоя на коленях, сказала этому молоденькому, в сыновья гожему майору. О, что он подумает о ней? Может, скажет: непорядочная женщина, легкого поведения? Какой позор!
Марте почему-то вспомнился случай из ее девичьей жизни. Ей шел еще только пятнадцатый год, когда в помещичье имение, где она работала прислугой, приехал сын помещика Карл, окончивший пехотное училище. Марта и раньше подмечала, что он неравнодушно посматривает на нее. Теперь же Карл вовсе не давал проходу. То ущипнет за руку, то потреплет за волосы. А однажды, когда в доме никого не было, полез целоваться. Она не могла стерпеть нахальства этого самодовольного, пропахшего пудрой и духами офицера. Хотя непослушание и грозило увольнением со службы, она, нисколько не задумываясь, влепила сынку помещика звонкую пощечину. О, она никогда не забудет, как ему было стыдно! Он стал красным, как вареный бурак, и тут же вылетел из спальни.
Вот такое же чувство стыдливости охватило сейчас и ее. К нему примешалось отчаяние (это была последняя надежда получить работу), и она, не выдержав, заплакала.
Майор подал стакан воды.
— Выпейте. Успокойтесь. Ну!
Потом он расспросил о дочери, о том, как жили в последний год при Гитлере, поинтересовался, чем занят теперь муж, и, о чем-то подумав, сказал:
— Хорошо! Мы примем вас на работу. Уборщицей. В гостиницу офицеров. Вы согласны?
— О герр майор! Я так рада! Так рада… Вы истинный человек. Вы…
Майор протянул на прощание руку.
— Желаю вам счастья, Марта Пипке! — И улыбнулся своими грустными глазами.
Под впечатлением этого разговора с русским майором Марта и уснула в ту майскую ночь.
4
Еще не просыпались птицы, еще сонно дремали под серым пологом неба березы, а воинский эшелон, идущий из Германии на восток, уже всколыхнулся. Около зеркала, поставленного на перекладину вагонной двери, заглядывая через плечи и головы, торопливо скреблись сразу пятеро солдат и пожилой ефрейтор. Лысый, с родинкой на макушке сапер приспособился у лезвия лопаты. Усатый старшина уже побрился, опрыскал себя одеколоном и теперь яростно начищал полой шинели созвездие медалей. В ход пошли щетки, иголки, чистые подворотнички.
Скоро граница. Родина. Россия.
Быстро бегут последние километры. И вот уже нырнул в зеленую вязь моста паровоз, кинулись навстречу старушки-ракиты, дохнуло хмелем черемух, росных берез.
Здравствуй, земля родная! Нет тебя милее. Нет чище воздуха твоих полей. Нет синее неба твоего.
По рукам пошли фляжки, кружки, выворачивались вещевые мешки с припасами съестного, сбереженного к этому красному дню. Подхриповато, с торопливой одышкой грянули гармошки, загремели по вагонам песни… То разудалые, подмывающие ноги, то грустные, щемящие сердце.
Не все возвращаются домой. Тысячи солдат остались в сырой земле, на чужбине, тысячи полегли здесь, на границе. О них даже и в сводках толком не сообщили. Дали всего несколько строк. «На Белостокском и Брестском направлениях после ожесточенных боев противнику удалось потеснить наши части прикрытия и занять Кольно, Ломжу, Брест». Но сколько перестало биться в этом «потеснении» чистых, верных сердец! Где они, те люди, с последней обоймою патронов прикрывавшие Кольно, Ломжу, Брест?
Старшина первой роты Максимов, которого солдаты любовно и просто звали Максимычем, долго сидел молча, не начиная завтрака, зажав в кулак усы и глядя на проплывающие перелески, песчаные холмы, болота. Потом, подгоняемый нетерпеливыми взглядами солдат, отяжелело встал и поднял свою самодельную кружку.
— Выпьем, хлопцы, за тех, кто первым вот тут… — он кивнул на высотки, — принял на себя непосильный удар. За тех, кто не дожил до нашего дня. За пропавших без вести. За безымянных героев сорок первого!..
Все встали. Походные кружки столкнулись над головами. Кто-то тяжело вздохнул:
— Вечная память им…
— А нам урок на всю жизнь, — добавил старшина и первым выпил все, что было налито в кружку.
Помолчали. Но недолго. От радостного чувства, что вот наконец-то и на своей земле, все в вагоне развеселились, заговорили. Только один, прошедший всю войну, солдат Иван Плахин сидел отчужденно на нижних нарах и, понурив голову, молчал. К нему с кисетом в руках подсел старшина.
— Закуривай, Иван Фролович. Хорошая махорочка.
— Только что курил.
— Еще за компанию. Вижу, что-то приуныл. С чего бы?
— Да так, пустяки, — отозвался нехотя Плахин.
— Ну, а все же? — не отставал Максимыч.
Плахин грустно улыбнулся, невсерьез сказал:
— Да думаю завтра смертоубийство совершить.
Старшина знал, что Иван Плахин не из таких, кто идет на это, и потому также в шутку спросил:
— И кого же надумал прикончить? Полицая или старосту? Из бывших, имею в виду.
— A-а, на кой они хрен сдались, — крякнул Плахин. — Их и без меня могила найдет. Я по другой линии месть решил учинить. По женской.
— Ну, это на тебя не похоже.
— Похоже не похоже, а сразу троих и прикончу. Жену, тетку и тещу.
— Это за что ж ты их кончать собрался? — свесил с нар голову солдат Решетько. — Чем же они тебе досолили?
— А это уж дело мое. Личное, так сказать. И я отчет давать тебе не намерен.
— Э-э, нет, брат, — прицепился Максимыч. — Как говорится, назвался груздем, полезай в кузов. Давай-ка выкладывай, что у тебя. Начнем с жены. За что так возлютовал на нее?
— Долгий сказ.
— Говори, говори, — наседали солдаты.
Кто-то подал Плахину свою порцию водки, и он, выпив, чуть подбодрясь, согласился.
— Ладно. Шут с вами. Расскажу. Дело перед войной было. Вернее, когда о войне никто и не думал. Так вот в это самое время и надумал я, дурак моченый, жениться. Мать меня отговаривает: «Повременил бы, сынок. Куда тебе торопиться. Молод еще. Погуляй годочек». А я заупрямился, как козел, и ни в какую. Жени, и баста. Иначе печь разломаю. Это угроза у нас такая издревле повелась. Если родители воспрепятствуют женитьбе, сын печь ломает. И тогда позор. Последняя баба хозяйку засмеет. У нас же дело до разгрома печи, правда, не дошло. Спросила мать, кто невеста, и говорит: «Ну что ж. Женись, коль приспичило. Да только смотри. Красивая да бойкая она. Как бы маяты не набрался». А я и сам знал, что она, вертихвостка, чертовски красивая. С фонарями, как говорится, не сыщешь такой. Да вот она, смотрите.
Плахин вынул из кармана фотокарточку и пустил ее по рукам.
— О! Ничего!
— Хороша бабенка.
— С перчиком, — зашумели солдаты.
— Это после женитьбы. А месяцем раньше лучше была, — пояснил сдержанно Плахин. — Оттого я таким темпом и форсировал женитьбу. Боялся, как бы кто не отбил. Эх, если бы знать, чем все это кончится! Ну, да что ж теперь. Сошлись мы. Месяц как во сне пролетел. А тут война. Повестку мне из военкомата на третий день доставили. Мать, конечно, в слезы. Она на шею. «Миленький, такой-сякой. Что же мне теперь делать? Я так к тебе привыкла. Возвращайся, мол, поскорей. Я буду ждать. Письма стану каждый день отписывать».
И правда. Смотрю, валом повалили письма. Как в первый год службы наряды от старшины. В конвертах, в угольничках тетрадных. Да что вам говорить. Вы сами знаете. Никто их больше не получал, чем я. Был, прав- да, один перерыв. Руку она себе сломала. А потом опять пошли. И я ей тоже в аккуратность отвечал. Ведь правда же, товарищ старшина?
— Верно, — кивнул Максимыч. — Долгу за тобою не было. Загонял ты с письмами меня. Девчата с почты полевой даже подозревать начали — не шлю ли я дамочке какой любовные послания под чужой фамилией.
— Вы уж извините меня, — смутился Плахин. — Такое дело вышло. Думал я, что ей, жене, пишу, а оказалось — какой-то чужой девчонке.
— Как девчонке?
— А вот так. За три дня до конца войны получаю вдруг письмишко. Да вот оно.
Плахин похлопал ладонью по звенящим орденам Славы, не торопясь, расстегнул пуговицы еще не ношенной гимнастерки, достал из бокового кармана небольшой листок и, багровея, хмуря подпаленный солнцем лоб, начал читать:
— «Уважаемый Иван Фролович! Вы, может, ужасно удивитесь и будете проклинать меня, но я вам теперь скажу всю правду. Все письма Вам писала я — девушка, эвакуированная из Ленинграда и временно проживающая в доме Вашей умершей матери. А жена Ваша два года назад вышла замуж за разъездного инспектора и куда-то с ним уехала. И про то, будто она руку себе сломала, когда воз сена везла, я Вам наврала, чтоб Вы не раскрыли обман. А теперь прощайте. Не осуждайте меня, пожалуйста. Мне было Вас очень жаль. Лена».
Плахин сжал в кулаке листок, скрипнул зубами.
— Ух! Ну, попадись она мне. Я ее, эту мерзкую девчонку, растерзаю! Задушу! В бараний рог согну!
— А ее-то за что? — крикнул с полки Решетько. — Она тебя от смерти спасла, дурачину. А то с горя, может, бросился б на пулемет. А ты «задушу», «растерзаю». Медведь ты нетактичный и больше никто.
— А насмехаться над человеком это тактично? А водить за нос его два года это хорошо? Да я же ей в письма всю душу вкладывал. Все в откровенность говорил. Мужчина ты или чурбан? Тебя бы заставить два года писать вместо любимой телеграфному столбу. Посмотрел бы я, как ты запел после такого. Посмотрел…
— Успокойся. Успокойся, Иван, — сказал Максимыч.
— Да не успокаивайте. Задушу и баста. Я уже и телеграмму дал, чтобы встретить вышла. Командир на сутки отпуск дал.
— Ну, хорошо, — примиряюще сказал старшина. — С этим мы разобрались. На тетку зол за что?
— Да как же. Все женятся чин по чину, а она меня обкрутила, как теленка вокруг кола. Как только услыхала, что я собрался жениться, тут же за тридцать верст примчалась. Как сейчас помню. Ходит вокруг и все в ухо мурлычет: «Племянничек, дорогой. Послушайся умного совету. Сходи в церковь. Обвенчайся. Что толку с того загсу. Что ни день, то развод, что ни месяц — разводное заявление. А ты по-старому. По-нашему. Для прочности. Так-то оно, с божьей помощью, вернее будет. Церковных расторжений браку нигде ты не найдешь. Там как обвенчался, так и намертво. Волами не растащишь. Кипятком не разольешь. Вся твоя, как шуба наизнанку. Вот Христос».
Солдаты покатились со смеху. Решетько, ухватясь за живот, стонал:
— Ой, лишеньки! Уморил… Ой, чертушка, подсыпал!
— Ну чего смеетесь? Чего зубы скалите? — потряс рукой Плахин. — Учились бы на горе чужом.
Старшина поднял руку.
— Тише! Говори, Иван.
— Что говорить? И без слов понятно. Обвенчался я. Ночью венчался. Днем стыдно было. Еле уговорил попа.
— Сколько же он с тебя содрал? — крикнул кто-то.
— Поп сходчивый попался. За двести обтяпал. Торжественно все было. Свечи горели. Кадильный дым… Но только тошно мне с той поры. Мутит вот тут. Горький чад в нутре. Не скрепил я свой брак законной печатью. На филькину грамоту променял.
— Это что же за грамота?
— Поп там шпаргалку дает. Уведомленье рабу божьему, что он не осел. Не в полном смысле, но примерно в этом роде. Была такая грамота. Да что с нее. В одно место с нею сходить. С загсовским браком повертелась бы, голубушка, у меня. На суде бы с глазу на глаз сошлись. А так… с пустым словом «венчается раба божия» ищи свищи. Заливается где-то птахой. Смеется над обманутым дураком. Ну, эта тетка! Держись у меня! Обвенчаю я ее, сестру божию, скалкой от ворот. А потом и до бывшей тещи доберусь, Ох, доберусь!
— А теща-то тут при чем?
— Теща, — горько усмехнулся Плахин. — Ты еще не знаешь, парень, что это за ушлое существо. Хитрее тещи только бог Саваоф да рыжая лиса. А для замужней дочери — это бронебойный щит от всех осколков. Как бы та ни провинилась, мамаша все сокроет.
— Ты про всех иль только про свою? — спросил старшина.
— За всех не ручаюсь. А про свою распрожеланную скажу. Шельма из шельм. В иглу слона протащит. Вокруг пальца обведет, и не узнаешь как. Ей бы только с зайцами состязаться, следы запутывать. Уверяю, что любого б обошла. Знала же, что дочка юбкой крутит. Знала. А в письмах: «Сыночек. Ты не сумлевайся. Тосенька хорошо себя блюдет. Да и я с нее глаз не спускаю». Ух, ведьма старая! За космы б тебя да носом в эту стряпню, чтоб не болтала на старости лет.
— Ты спокойнее, Иван. Спокойней. Ну, что ты право…
— И не просите. Приговор свой все одно в исполнение приведу. Я им устрою Юрьев день.
Худощавый Степан Решетько свесил с нар босые ноги. При свете солнца он был совсем рыжим и конопатым. Маленький вздернутый нос его морщился в улыбке.
— Ну чего? Чего ты разбушевался? Раскис, как гриб в пресной воде, — сказал он, держась на почтительном расстоянии. — Жена ушла. Подумаешь, беда какая. Да с твоей физиономией и убиваться нечего. Любая с радостью пойдет и еще спасибо скажет.
Увидев, что ответного удара не будет, Решетько, осмелев, слез на пол.
— У меня вон тоже жена ушла. И что с того? В петлю полез я, что ли? Или в прорубь кинулся башкой? Как же! Поищи, милашка, дураков. А я и без тебя распрекраснейше живу.
Все в роте знали, что у Решетько не было ни жены, ни невесты. Даже знакомых девушек не имел. Но он с упрямством, достойным восхищения, вот уже третий год продолжал уверять, что были у него и невесты и жена и что девчата от него просто без ума. Сохли от любви.
Вот и теперь он на полном серьезе начал развивать свою версию о якобы гуманно отпущенной им жене.
— На третий день после свадьбы все случилось. Проснулась она и говорит: «Ухожу я, миленький, от тебя. По дальним соображениям». — «Это по каким же, — спрашиваю ее, — соображениям?» — «Да не подходишь ты мне по одной статье».
Солдат заинтриговало. Весь вагон столпился вокруг Решетько. Поднялись даже любители поспать. Наиболее нетерпеливые начали дергать Степана за рукав.
— А по какой? По какой не подошел?
Решетько обернулся к одному из них:
— Так я тебе и сказал, скалозубому чудаку. Это личная тайна, брат. И ее тебе доверять ни в коем разе нельзя.
— Это почему же?
— Язык у тебя — помело. Завтра разметешь по белу свету. А мне это вовсе ни к чему. Мне, друг, жениться надо. Скоро домой отпустят. Девчата ждут. Как вы считаете, товарищ старшина, отпустят нас из армии или погодят?
— Думаю, отпустят, — подбодрил Максимыч. — И в первую очередь вот таких, как ты…
— Слыхал, — кивнул Решетько. — А ты говоришь. Так что об этом не спрашивай меня. Не скажу. А насчет жены дело дальше вот как пошло. Подумал я, прикинул в уме и этак спокойненько говорю: «Ну, что ж, дорогая, уходи. Лучше, пожалуй, ничего и не придумаешь. Детей у нас нет. И не могло быть за три дня их. Ты еще молодая. Чего тебе. Выйдешь замуж за другого, да и я не оплошаю. Вещички тебе когда собрать? Нынче или еще поживешь денек?» — «Нет — говорит, — зачем же лишний стаж себе наживать. Я уж сегодня, как стемнеет, и уйду». Проводил я ее до лесочка, поцеловал на прощаньице горячо, да так и разошлись. Друзьями по сей день. Теща даже зятем не перестала звать. А ты «убью», «прикончу». К чему такой феодализм? Гуманней надо. Вот так, как я.
— Ты вот что, гуманист, — глаза у Плахина зло сверкнули, — мотай-ка, друг, на полку. А не то я, извиняюсь…
Решетько юркнул за спину старшины.
Паровоз, дав протяжный гудок, резко затормозил.
5
Вслед за эшелонами и шумными военными обозами к родной границе подходили пестрые толпы оборванных, измученных, не узнающих друг друга людей. Безусыми юнцами, девчонками со школьными косицами пересекли они два-три года назад Западный Буг и Неман, а возвращались стариками, согбенными старухами. Но не всем довелось дожить и до этого. Тысячи, бессчетные тысячи погибли под пулями, умерли в страшных муках голода, сгорели в печах Бухенвальда, Майданека, Освенцима…
Мертвые не встанут.
Мертвые не увидят победы.
Шагали эти. Видели эти. Мирно колышется флаг на крыше погранзаставы. Голуби вьются над ним. Летит тополевый пух. На синей ферме железного моста алеет протянутый на веревках кумач с белыми, написанными мелом словами: «Добро пожаловать! Слава победителям!»
У полосатого столба молоденький офицер в зеленой фуражке, солдат с винтовкой у ноги. Ракита, кинувшая тень через булыжник. А за ней березки. Благословенные березки… Мать русская земля.
Размахивая кепками, платками, люди хлынули через мост. Загудели железные фермы, закачался настил. Все ближе, ближе пограничный столб. И вдруг… громом над головами: «Стой!»
Люди в недоумении остановились. Многие под напором толпы попадали. Перед их глазами медленно опустилась, преградив дорогу, полосатая красно-зеленая жердь.
Солдат вскинул винтовку и снова крикнул:
— Стой! Ни шагу!
К лейтенанту-пограничнику протиснулся обросший до глаз человек в полосатом халате.
— В чем дело, сынок? Почему не пропускаете?
— Проверять вас будут, папаша. Особая тройка из Москвы, — ответил лейтенант и, подойдя к столбу шлагбаума, нажал кнопку.
Из придорожной будки вышел не по возрасту располневший майор. Сощурив правый глаз и сладко зевнув, он потянулся, раскинув кулаки, будто что-то отмерял, посмотрел на склоненное к закату солнце, на людей, сбившихся на мосту, и призывно поднял руку.
— Внимание! Минуточку внимания, граждане военнопленные. Прежде всего, прошу соблюдать порядок. Станьте вправо и не мешайте транспорту.
Толпа медленно отвалила к барьеру.
— Хорошо! Молодцы! — весело похвалил майор. — Сразу вижу дисциплину.
— Не отвыкли! Помним! Готовы в строй, — зашумели с моста.
— Насчет строя повременим. И вообще… Все вы должны пройти проверку.
— Какую проверку? Нас Гитлер проверял огнем.
— Кожа и кости. Разве не видно?
— Все вижу. Все, — заслонялся ладонью майор. — Но порядок есть порядок. Возможно, среди вас… И вообще. Это граница. А граница должна быть всегда на замке.
— До войны бы покрепче имели замок! — выкрикнул кто-то.
— Что-о?
Все молчали.
— Ну так вот. Прошу всех пройти на площадку под березы и приготовить документы.
— Какие документы? Кто их нам дал?
— Неважно. Приготовьте что есть.
Он обогнул будку и, поддерживая большую, как окорок, кобуру, побежал ленивой рысцой под березы, где за столом, накрытым красной скатертью, играли в шахматы лысоватый, лет тридцати, капитан и пожилой человек в гражданском.
— Кончай, ребята. Новая партия пришла, — сказал майор, подойдя к столу.
— Погоди, Замков. Дай доиграть, — отмахнулся человек в гражданском, снимая у заглядевшегося капитана пешку.
— Народу много, Чуркин. До ночи не управимся. Кончай.
К столу, с котомкой за плечами, слегка прихрамывая, подошел обросший седой щетиной, истощенный человек в красноармейской гимнастерке, латанной в локтях и на плечах рыжими лоскутами. Четыре вмятины от угольничков были еще хорошо видны на выцветших петлицах. Он вытянулся по-солдатски, вскинул руку к потрепанной фуражке с облинялым голубым околышем.
— Бывший старшина эскадрона первого кавполка Особой кавалерийской бригады Фетисов!
Замков заглянул в толстую, прошитую шпагатом книгу.
— Брось врать. Особая кавбригада расформирована еще в апреле сорок первого. Лошади сданы казакам, а люди вошли в состав танковой бригады Васильева.
— Все так, — ответил Фетисов. — Только мы и в танковой были кавалеристами.
— Чушь несете. Вам был присвоен новый номер.
— Номер-то был, а вот танков…
— Кого вы знаете из командиров? — спросил вежливо капитан.
— Командир эскадрона Антонов. Комиссар Лукьянов. Комполка Авдеев, — без запинки ответил Фетисов.
— А из солдат?
— Васечкин, Калюжный, Федоренко, Черенков…
Капитан обернулся к Замкову:
— Честный. Не врет.
— Посмотрим. Не торопитесь. Как попали в плен, Фетисов?
— Не помню.
— Как так не помнишь? Я за вас буду помнить, что ли?
— Я был контужен, — виновато опустил голову Фетисов. — И потом нога…
А майор Замков встречал уже нового репатрианта — девушку лет восемнадцати — двадцати. Она подошла легкими, неслышными шагами, доверчиво улыбаясь, и остановилась у стола под березой. Все на ней — от парусиновых туфель до шерстяного платка, накинутого на плечи, — было дыряво-старым. Цветастое платье с блеклым рисунком русских матрешек латано и перелатано. Платок держался на сплошных узлах. Однако даже эта жалкая одежда не скрадывала природного обаяния ее лица. Может, лишь немножко старила. Чужим на ней была только крикливая, пестрая шляпа с длинным павлиньим пером да латунная брошка на груди.
Замков брезгливо покосился на шляпу, кивнул Чуркину:
— Видал?
— Да! Новоявленная принцесса. Кареты только нет.
— Будет и карета, — усмехнулся Замков и с ходу задал девушке свой неизменный вопрос: — Как попали в плен?
— Я не пленная, а угнанная.
Замков тут же усомнился:
— А может, сама завербовалась, уехала с фрицем каким?
В глазах девушки блеснули слезы. Дрожащими пальцами ома с трудом развязала на груди узел платка, протянула истертое до дыр свидетельство о рождении.
— Да вот же. Вот в метрике написано. Мне лишь шестнадцать было.
Замков, не глядя в документ, вернул его назад.
— Спрячьте. И слезы тоже. Москва слезам не верит. Чем занималась там, в Германии?
— Работала прислугой в имении барона.
— Оно и видно. Принарядилась, как баронесса Труляли.
Девушка не приняла насмешку всерьез. Она все еще находилась в том состоянии, когда человек, вернувшись после долгих лет разлуки домой, смотрит на все восхищенными глазами и на какое-то время бывает, не в состоянии трезво оценить представшее перед ним. Эти люди, сидящие за красным столом, были для нее сейчас самыми дорогими, самыми желанными. Они были первыми, кого она встретила на родной земле и кого по праву своей мечты готова была расцеловать. Все, что спрашивали они, она считала нужной минутной формальностью, за которой последует доброе напутствие и отправка домой. Однако вскоре она увидела, что дело принимает какой-то печальный оборот. Толстоватый майор начинает все больше злиться. За что?
— Кто подтвердит, что была прислугой? — спросил он, насупив брови.
Девушка пожала плечами:
— Я, право, не знаю. У меня подружка была, но…
— Что, но?
— Погибла она, — вздохнула девушка. — Трех дней не дожила…
В глазах девушки помутилось. Белая береза вдруг стала черной. Черной, как ночь. Замков сунул в руку девушки стакан воды и, торопясь, позвал очередного:
— Следующий! Подходи-и…
К столу степенным, некрупным шагом подошел долговязый священник в пропыленной рясе, с оловянным крестом на груди.
— Мир вам земной, — перекрестясь, поклонился он до пояса. — Священник храма божьего, Денисий Коломенско-Казанский. Дозвольте пострадавшему от супостата возвернуть стопы в лоно земли-матери.
Увидев попа, Замков обрадовался, как будто встретил своего давнишнего приятеля. Как и когда-то в тридцатые годы — времена закрытия церквей и жарких атеистических дискуссий — его охватил мальчишеский азарт подшутить над попом, поддеть, его за живое. Факты? Да вот же сам батюшка, не убереженный богом, попавший в плен.
— Так говорите, ваше священство, — начал Замков, — от супостата пострадавшие?
— Истинный Христос, — мотнул рукавом по лицу Денисий. — Такое пережито! Такое видано! Не доведи господь.
Замков укоряюще покачал головой.
— Ай-я-яй, святейший! Что ж вы не убереглись? С вами же бог. На вас крест. Куда же ваш всевышний глядел, когда немцы палили церкви, жгли детей? Выходит, что бога-то нет. Тю-тю. Все это миф.
— Истинно, сын мой! Истина глаголет вашими устами. Нет бога в небеси. А был бы, не допустил бы страданий людских.
— Вот то-то и оно, — обрадовался словам попа Замков. — Правильно рассуждаете с политической точки зрения. Давно бы вот так. Поближе к истине. Ну, да ладно. Это дело ваше. Куда же теперь?
— А уж не знаю. Иду, куды очи зрят. Храм спалили. Да и что с него!
— Документики какие есть?
— Свят бог, — вздрогнул поп. — Какие же документы? Яко наг остался. Есть только письмишко от солдата. Он меня из заточенья вызволял. Как вывел, тут же враз и написал. Езжайте, гуторит, батюшка, к нам, в Рязань. В колхозе люди нужны.
— А ну-ка, покажите, что он вам написал.
— Пожалте…
Замков бегло прочитал записку и, не показав ее своим напарникам, торжественно вернул отцу Денисию. Потом вышел из-за стола, щелкнул каблуками и подал руку.
— Желаю здравствовать, отец Денисий! Направляйте дальше свои стопы.
6
Вместе с воинами-победителями возвращался на родину старший инструктор по кадрам полковник Дворнягин. Неделю провел он на фронте в армии Коростелева, штурмовавшей. Берлин, и теперь, выполнив все поручения, ехал в штабном эшелоне в Москву.
Настроение у него было преотличное. Еще бы! Ехал в войска со значком ПВХО, а возвращался с орденом. А это уже иное дело, С такой наградой не стыдно и на службе появляться. Теперь-то уже никто не скажет «тыловик», не ухмыльнется ехидно, глянув на довоенный значок. А как встретит Асенька из машбюро? Сделает, наверное, удивленные глазки и воскликнет: «Ой, Лукьян Семеныч! У вас орден!» И перед начальством поднимется авторитет. А как же! В боях за Берлин отличился. Оно, если в сущности разобраться, никакого отличия и не было. Ехал в обозе — и только. А командир дивизии, добрейший, по всему, человек, оценил. Видать, само присутствие представителя из Москвы было для него очень важно.
Надо бы спать. За окном давно уже чернела ночь, но Дворнягин, лежа на нижней полке, все думал и думал. Наплывали приятные воспоминания то о сытных завтраках у командира дивизии, то о тайных свиданиях с Асей в глухих переулках Москвы, то вдруг показалось, что кто-то тащит чемоданы из купе. Испуганно глянул вниз. Нет, все в порядке. Солдат, выделенный для сопровождения, как и было приказано, спал на полу, разметав руки и ноги по чемоданам.
Дворнягин потянул чемодан. Солдат что-то пробормотал во сне, причмокнул губами и, не проснувшись, затих.
«Этак можно и без чемоданов остаться», — подумал Дворнягин и встал.
— Солдат!
— Что? А! — вскочил парень.
— Крепко спишь. Вот что.
— Извините. Умаялся. Целый день грузились.
— Умаялся! Солдату не положено умаиваться. Ложись на мое место и спи.
— А вы?
— А я на полу. Жарко тут, — приврал Дворнягин. — И что-то кусает.
Гнездился Лукьян Семенович долго. Сначала снял с верхней полки медную люстру и привязал ее куском провода к вентилятору. Потом слез и разложил на полу три самых больших чемодана. Два обитых железными обручами поставил по бокам. Кожаный саквояж с хрусталем втиснул у изголовья. И только после этого разостлал шинель и лег.
Уснул он уже на рассвете, когда заалело небо и в окно потянуло туманной прохладой. Но спать долго не пришлось. Резкий толчок разбудил его. Эшелон остановился. Под окнами послышались детские крики:
— Дяденьки! Дяденьки! Дайте хлебца.
— Солдатики, помогите!
Дворнягин сбросил с себя чью-то солдатскую шинель и начал ошалело считать чемоданы.
— Один, два, три, четыре. Пять… А где шестой? Где люстра? Медная люстра? Сперли. Сперли, черт побери!
Холодный пот прошиб его. Сердце заколотилось в злобе. Он схватил спящего солдата за сапог, тряхнул его.
— Эй, раззява!
Солдат вскочил, продрал глаза. Еще не понимая, в чем дело, что случилось, вытянулся перед разгневанным полковником.
— Где люстра? Саквояж? — затряс кулаками Дворнягин.
— Какая люстра?
— Моя. Люстра моя. И саквояж. Куда дел? Застрелю!
Из служебного купе вышел пожилой санитар.
— Извините, товарищ полковник, — сказал он, держа руку у обрыжелой шапки. — Все цело. Саквояжик я убрал, чтоб стекло не звенело, вам спать не мешало. А люстру снял. Качалась сильно. Могла сорваться.
Дворнягин вытер ладонью лоб.
— Чтоб вам… Глядеть надо, товарищ рядовой.
— Да их и так никто не возьмет, — ответил солдат.
— Не возьмет. Вон сколько попрошаек под окнами ходит.
В вагон, запыхавшись, вбежал знакомый посыльный командарма.
— Товарищ полковник! Хозяин приглашает на завтрак вас.
Дворнягин одернул китель.
— Скажите, сейчас приду. Только умоюсь. — А сам подумал: «Вот как. Сам командующий со мной считается, не может позавтракать без меня. Видать, понимает толк в инструкторах. Да что инструктор. Я бы теперь инспектором потянул, а то и начальником отдела… А почему бы нет? Разве Сизов-Черкезов умнее меня? Нисколько. Только и ума, что квадратная голова».
Подошел с мылом и полотенцем в руках санитар. Дворнягин выглянул в окно и, увидев, что поезд стоит на какой-то большой станции, с досадой сказал:
— Поздно. У командарма умоюсь…
Командарм Коростелев и член Военного совета Бугров за стол еще не садились. Одетые до форме, но без головных уборов, они стояли у раскрытого окна, курили и о чем-то разговаривали между собой.
Дворнягин поздоровался с обоими. Командарма назвал по воинскому званию, члена Военного совета, равного в звании, по-свойски — Матвей Иванович.
— Как отдохнули? — спросил командарм, пожав руку и чуть качнув бритой головой.
— Великолепно, — приукрасил Дворнягин. — Я, знаете, от перин отвык. Все время в разъездах. По фронтам. А там всякое бывало.
— Это верно, — кивнул генерал и, выглянув в окно, заговорил с подошедшей к вагону женщиной. Та что-то рассказывала сквозь слезы, а командарм понимающе качал головой, глухо отвечал: «Да. Конечно. Понимаю». Через минуту он обернулся в вагон, хмуро крикнул:
— Артем!
Из купе выглянул низенький крепыш в белом колпаке и подвязанном, как у кухарки, фартуке.
— Слушаюсь, товарищ генерал!
— Буханку хлеба сюда.
— Последняя, товарищ генерал.
— Сухари давай и сахар. Да живо!
Повар послушно нырнул в купе и тут же вынес оттуда в бумажном мешке сухари и кулек сахара. Генерал передал все это женщине и, сутулясь, сказал:
— Раздайте ребятишкам. Прошу вас, — и отвернулся от окна.
Отошел и Бугров. Он не мог смотреть на голодных, оборванных, обиженных войной детей. Может, вот так же выпрашивает сухарик и его дочь. В последнем письме жена писала, что впроголодь живут, капли хлопкового масла в супе считают.
Тягостное молчание прервал Дворнягин.
— А где мы стоим, Матвей Иванович? — спросил он беззаботно.
— У Великих Лук.
— Что вы? Как же мы сюда попали? Нам же ближе через Минск — Смоленск…
— Та дорога занята. Идут составы поважней. Американцам надо на востоке помочь. А то никак с японцами не справятся. Воюют, воюют, а конца не видать.
— Ну, об этом не стоит, — оглядываясь по сторонам, поспешил замять Дворнягин. — Окна открыты. Могут подслушать.
— А какой тут секрет? Весь мир говорит об этом.
— Мир-то мир, но все же… Тайну надо хранить, Матвей Иванович.
— Это верно, — подтвердил Бугров. — И не пустячную. А главную, на чем государство стоит. А то, что ж получалось. В частях шапку-ушанку держат в секрете, а в высших штабах все секреты крадут.
Поезд тронулся. Командарм помахал кому-то рукой, обернулся расстроенный, мрачный.
— Артем! — крикнул он негромко. — Как завтрак?
— Все готово! Можно к столу, — вскинул руку к белому колпаку повар.
Командарм, приглашая, повел рукой.
— Пройдем. Закусим малость.
Вошли в столовую. Здесь была недавно приемная санитарного поезда. Теперь тут стоял обеденный стол, накрытый клеенкой, и два мягких дивана по сторонам.
Командарм сел справа по ходу поезда. Член Военного совета и Дворнягин — на другом диване, ближе к окну. Повар поправил разложенные вилки, ножи, тарелки со скудным набором еды — хлебом, жареной картошкой, селедкой, ветчиной, открыл пол-литра, длинную бутылку французского рома и вышел.
Командарм на правах хозяина наполнил водкой тонкие стопки, поднял свою.
— За ваше здоровье!
Дворнягин встал.
— Разрешите мне, товарищ командующий, — начал он, заискивающе глядя в глаза Коростелеву, — выпить за ваше большое полководческое искусство. За то, что ваша армия первой форсировала Днепр и (первой вышла к границе нашей Родины.
Коростелев поморщился.
— А я бы скорее выпил за то, — сказал он, поставив стопку на стол и не выпуская ее из рук, — за то, чтоб армия не форсировала Днепра и не выходила к границе.
— Я вас что-то не понял, товарищ командующий, — пожал плечами Дворнягин. — Вы, может, оговорились?
— Нет, не оговорился. Гораздо лучше бы стоять ей намертво на месте. На границе, имею в виду, и не завоевывать свои же города. Как думаешь, Матвей Иванович? Возможно это было?
— Вполне, — живо согласился Бугров. — Если бы заранее предприняли кое-что. Не дойти бы Гитлеру до Волги наверняка.
— Если б знал, где упасть, и соломки бы подложил, — попытался прервать разговор Дворнягин, чтоб скорее выпить и поесть. — Гитлер-то начал войну внезапно, по-воровски, без объявления… Сам ведь Сталин об этом сказал.
— Да-а, внезапность, внезапность… — о чем-то думая, вздохнул командарм. — Дорого обошлась она нам… Очень дорого.
Молчали. Поезд, грохоча на стыках, с шумом летел под уклон. Мелькали темные ели, запыленные, как после дальней дороги, березы, зеленые снопы можжевелин, ушастые телеграфные столбы…
— Да что ж мы сидим? — вздрогнул, точно очнулся, Коростелев. — За разговором и про еду забыли. Выпьем, друзья!
Чокнулись. Принялись за еду.
От стопки водки Коростелев заметно повеселел. На полном, но очень усталом лице его появилась улыбка, заиграл румянец. Он с аппетитом ел жареную картошку с ветчиной, расспрашивал о Москве, сдержанно шутил.
Дворнягин же был рассеян, не в духе. Ему не понравился разговор члена Военного совета. И потом из головы не выходил случай с люстрой и чемоданом. Так ли было, как сказал санитар, или взявшие чемодан не успели все перепрятать? И вообще, сколько же всего чемоданов? Два с бельем, один с отрезами шерсти, четвертый с обувью и гардинами, пятый с хрусталем. А шестой? С чем же у меня шестой? Ах, да. В нем же плюш, содранный с диванов. И на кой ляд я взял его. Неприлично все же, да и что толку с него. Сущая дрянь. Не могли для представителя ковер достать. Скряги, а не друзья. Заелись там. Должного уважения к старшим нет. А чуть что случится, прижмет — бегут за помощью: ах, выручи, Дворнягин, помоги. Ничего. Я вам еще припомню эти конские попоны. Вы у меня узнаете, как подсовывать всякую дрянь. Вот Гавриил Прокофьевич совсем не чета этим мелким крохоборам. Солиднейший человек. И поступил солидно. Сам лично упаковал хрусталь и в номер гостиницы привез. «Прими, дорогой Лукьян Семенович, и не забывай». И разве забыть его? Ни в жизнь. Такого не грех и на должность лучшую послать и в списочек на присвоение звания вперед других просунуть. А эти… Тьфу!
— Что такое? — спросил Бугров.
— Кажется, кость попала, — схитрил Дворнягин.
— А вы ветчиной закусите. Ветчинкой с хреном, — предложил Коростелев. — Это, знаете, редкость. Где-то с килограмм Артем достал. А я, признаться, люблю ветчину, наш тамбовский окорочек. И особенно, когда он хорошо прокопчен, дымком пахнет. Меня, бывало, дед всегда с собой брал окорока коптить. Помню, в овине дымище, глаза режет, а я сижу, деда за рукав тормошу: «Ну скоро? Дедушка, скоро?» — «Терпи, — отвечает дед. — Еще не поспели. Вот когда зарумянится шкурка и прослезится, тогда и добро». Но сколько я ни сидел, окорока никогда не слезились.
— Это почему же? — спросил Бугров.
— Да уж больно поросята тощие были. Кожа да кости.
— Теперь и такие не скоро будут, — вздохнул Бугров. — Сколько разрушено, сожжено! Одних только городов полторы тысячи. А сколько сел и деревень! Сколько предприятий!
— Пустяки! — махнул рукой Дворнягин. — Все восстановим.
— Нет, брат, это не пустяки, — возразил Бугров. — На это много сил и времени уйдет. Очень много…
Командарм разлил по стопкам ром.
— Попробуем, что ли?
Покрасневший от обиды Дворнягин встал и, как бы в пику Бугрову, влюбленно обратился к командарму:
— Разрешите мне, товарищ командарм, выпить все же за вас. За ваше…
Коростелев поспешно прервал его:
— Уж если пить, то давайте выпьем за наш народ. Ни одно бы государство не выдержало такой войны, не имея такого народа. Ни один правитель не удержался бы у трона, не имея таких стойких и верных людей. За наш народ!
Дворнягин сконфуженно сел. Не хочешь и не надо. Тоже, как видно, гордец. Что ему какой-то полковник с орденом, когда у самого нет места для орденов. Но зря. Зря вы, товарищ Коростелев. Бывает, что и маленькая пчелка больно кусает и от нее зависит судьба большой пчелы.
7
Не ожидал Сергей Ярцев, что ему придется так внезапно расстаться с ротой, со своим эшелоном, с медсестрой Верочкой, которую очень любил, с бойцами, ставшими родными за время войны, а вот пришлось. В Москве, когда эшелон стоял на Белорусском вокзале, ему принесли пакет из политотдела. В нем оказалось нежданное командировочное предписание: «С получением сего предлагается явиться в распоряжение начальника Военно-политической академии имени В. И. Ленина» — и записка от члена Военного совета армии Бугрова. «Сергей! Без личного согласия посылаю на учебу, — говорилось в ней. — Думаю, что это тебя не огорчит, а обрадует. Поучиться тебе надо, браток. Смотри не откажись. Желаю всяческих удач. Не забывай однополчан. Пиши. Дружески обнимаю. Бугров».
Жаром вспыхнули щеки Сергея. И радостно ему стало, что он будет учиться в Москве, в прославленной академии, и грустно от того, что придется расстаться с ротой, с милой Верочкой, с которой только что мечтали после войны с Японией поехать сначала к ее родным в Орел, а потом на Смоленщину, к нему.
Торопливо, стараясь успеть все сделать и сказать, Сергей оделся, запихал в вещевой мешок пожитки и приказал старшине Максимову выстроить у вагонов роту.
Увидев своего командира в шинели, с вещевым мешком за плечами, солдаты притихли, насторожились, а старшина как-то сразу сгорбился, почернел и, выстраивая, ровняя у вагона солдат, командовал, как никогда, хрипловато и глухо. Он был единственный из кавалеристов, подчиненных Ярцева, оставшийся в живых. Майор Ярцев был всю войну для него не только командиром, но и той живой ниточкой, которая все еще связывала его с красивой, лихой кавалерией, где он прежде служил. С уходом же Ярцева его роднила бы с прошлым разве длинная, до пят, шинель да фуражка с выцветшим голубым околышем, которую носил с личного дозволения командира полка.
Ярцев вышел на середину строя, расправил под ремнем складки шинели, быстрым взглядом пробежал по родным, виданным в пыли и смертном дыму лицам, отыскал среди них милого солдата с русыми косами под заломленной пилоткой. «Эх, Верочка, Вера! Черноглазенькая моя. Не довелось нам вместе… Но да не все потеряно. Спишемся, увидимся. Может, приедешь сама. Так, что ли? Молчишь. Не знаешь ты еще, что расстаемся. И не сказал бы я тебе, чтоб душу не терзать. В письме бы лучше все объяснил. Но нельзя. С солдатами проститься надо».
Он расстегнул перед строем воротник гимнастерки, пригнул козырек фуражки и, волнуясь, кашлянул в кулак.
— Тут, товарищи, вот какое дело. Проститься надо. На учебу… в академию посылают меня, и я бы хотел вам сказать кое-что. — Он еще плотнее натянул фуражку. — Много мы с вами прошли дорог. В каких только пеклах не бывали. Враг нас и бомбил, и жег, и свинцом решетил, а мы вот… живем. Живем и здравствуем всем чертям назло. Не все, правда. Многих, очень многих нет среди нас. Из старослужащих вот только трое остались — Плахин, Максимов и Решетько. Но рота крепка. Крепка потому, что такие люди — цемент нашей армии. Да и все вы молодцы. Спасибо за службу!
Покачнулся в слитном ответе строй. Ярцев прощально глянул на солдат, запоминая их, пробежал глазами от лица к лицу и задержал взгляд на глазах Веры. Влажные, милые, они глядели прямо на него, и было в них столько печали, что Сергей отвернулся и, еще больше кручинясь, сказал:
— Где бы я ни был, куда бы ни увели меня дороги жизни, я всегда буду рад вас видеть, узнать о вас хоть слово. Земля велика. Можно и затеряться. Но при желании можно и сохранить нашу связь. Пишите, приезжайте. Буду очень рад. И еще, товарищи, просьба. Она к вам, молодым солдатам. Берегите наследие роты. Равняйтесь вот на них. — И Сергей указал на правый фланг, где стояли Максимов, Плахин и Решетько.
Торопясь, поглядывая на вспыхнувший зеленью семафор, он прошел на фланг строя и начал прощаться. Расцеловался с Максимовым, Решетько, с щемящей сердце жалостью крепко обнял Плахина.
— Ну, Иван… Прощай, браток! Не терзай себя. Шут с ней, с этой блудной женой. Парень ты правильный. Хорошая девушка найдется. Счастья тебе.
— Спасибо, товарищ командир.
А вот и Вера. В ясных глазенках блестят слезы. Она с трудом сдерживает их. Побледневшие губы крепко стиснуты. Расцеловать бы и эти глаза, и эти милые губы, но очень стыдно перед солдатами.
Сергей подал Вере руку.
— До свидания. Больше бодрости. Мы еще увидимся. Только пиши. Непременно пиши.
— А куда? — с трудом проговорила она.
— Адрес я пришлю. Пока.
— До свидания, — кивнула Вера и что-то прошептала.
Сергей взял под козырек и, круто повернувшись, зашагал вдоль вагонов. Старшина скомандовал: «Рота, смирно! На командира равняйсь!» — и, приложив руку к фуражке, долго стоял так неподвижно, провожая своего последнего командира из отшумевшей конницы.
Когда Сергей миновал головной вагон и перед тем, как выйти на привокзальную площадь, оглянулся, строй все еще стоял по команде «смирно», а по перрону, звонко стуча каблучками сапог, с разметавшимися по плечам волосами, бежала Вера.
Сергей остановился. Вера с разбегу кинулась к нему на шею и прижалась холодными, солеными от слез губами.
— Прощай, Сережа. Помни обо мне. Я тебя любила. — И, оторвавшись, пустилась к вагонам.
* * *
…В сером, невзрачном с улицы здании на Садово-Кудринской царило праздничное оживление. Позванивая медалями, скрипя кожей ремней, кобур и сумок, важно расхаживали по коридорам и пустующим классам, толкались у киосков фронтовики. Наиболее смелые и уже обвыкшие перебрасывались лукавыми словечками с гардеробщицами, продавщицами газет. Иные же знакомились с классами, заглядывали в библиотеки, читальные залы.
Раздевшись и расправив перед зеркалом гимнастерку, Сергей, нигде не задерживаясь, поднялся на третий этаж, в приемный кабинет общевойскового факультета.
В дверях ему встретился высокий, щеголеватый майор, с густой русой шевелюрой, заостренным, чуть горбатым носом и хитроватыми, веселыми глазами.
— Вы ко мне? — спросил он быстро, с налету.
— Не знаю. Мне к майору Семенкевичу. Начальнику курса.
— Я Семенкевич и есть. Что у вас? Новичок? Давайте документы. Живо, майор!
Сергей достал предписание, удостоверение личности.
— Вот. Пожалуйста. Только удостоверение старое. Не успел обменять. С эшелона прямо.
— Ничего. Сойдет Федора за Егора. — И, обернувшись, крикнул в зал, откуда только что вышел: — Макар! Товарищ Слончак! Примите новичка и оформите в общежитие на Пироговку.
Человек, которого Семенкевич назвал Макаром, был еще молод — лет тридцати восьми — сорока. Но борода у него развевалась, как у старика времен крепостного права, длинная, лопатистая, закрывавшая всю грудь и распластанная на разложенных по столу бумагах. Сквозь густые, смолистые расчесы ее виднелось три ордена и несколько медалей. По всему чувствовалось, что Макар гордится своей бородой. Он то и дело поглаживал ее от шеи тыльной стороной ладони, убирал пряди с бумаг, чтобы не запачкать их чернилами.
— Сидай, — сказал он просто, по-свойски. — Да не подумай, шо я тоби якыйсь начальных. Я такой же новичок, як и ты. Тилькы повинность ось отбываю. Регистрирую прибувших.
— А почему вы? — спросил Сергей, сев перед столом.
— Да начальнику ця канцелярия надоила, як горька редька, так вин нас по очереди мобилизуе. А сам бигае, як заець в морози. То одне шукае, то друге… А ще Овчаренко, голова факультету, есть. В войну начальником политотдела був. Тоже хлопець — душа. Побалакать любит!.. Галушками не корми. А бильш про охоту або рыбалку. Ты, часом, не рыбак?
— Нет.
— Жаль. А то бы первым другом ему був. Я вже з ним дважды рыбачив. Три ведра щук и плотвы наловили. Эх, и уха была! Тильки водочки маловато. Цена шкодлива на чертовку. Пятьсот рублив пивлитра. Не разгуляесся. Ты деньжат много накопил?
— Не старался. Все в фонд обороны отдавал.
— Вот и я тэж. Тильки за три месяца сберег. А то все туда.
— Жалеете?
— Ты шо? З глузду зъихав? Як бы это я, заместитель командира полка по политичной части, скупидомом був? Та мене б куры засмиялы. А потом сознание. Я бы, брат, на победу последнюю рубашку отдав. А иные… Ну, да не об этом. Давай-ка зарегистрируем тебя. Ты з якого фронту?
— Начинал войну на Северо-Западном, а кончил на 1-м Украинском.
— А по должности?
— Был замполитом роты. Потом командиром…
Макар заполнил все клеточки в списке, положил в папку командировочное предписание, достал из конверта два желтых листочка и, встав, сказал:
— Шагай, хлопче, в баню, а писля поидеш на пятнадцатом трамвае в гуртожиток на Большую Пироговку. Со мной в комнате будешь. Хлопець, як бачу, ты добрый. Щук будемо вместе ловить. И на лося пойдем. Бувай. Увечери побачимось.
Он протянул листки, пожал руку и удовлетворенно, чему-то радуясь, погладил свою разметанную бороду.
8
Эшелон подходил к Рязани — краю хлебных полей, кирпичных хат и березовых рощ, унизанных шапками грачиных гнезд. Черный, лоснящийся паровоз то мчался вдоль речек, чуть не сшибая трубой зеленые космы ракит, то круто огибал озера, и тогда были хорошо видны все вагоны, увешанные обвялой зеленью и кумачом.
Двери теплушек распахнуты настежь, но людей не видно. Полуденный зной доконал их и разбросал где попало — на нарах, лавках, впокат на полу. А Плахин так и не прилег от самой Москвы. Думы о бежавшей жене, сумасбродной девчонке, терзали его. Уже в который раз за дорогу он припоминал и первое знакомство с Тосей, и первый хмельной поцелуй у плетня, и ту сладкую ночь в амбаре, куда их заперли под замок сваты. Сколько было счастья! Казалось, не будет этому конца. И вот… Кто встретит на перроне? Кто обнимет тебя, Иван? Ты столько ждал. Столько думал! Глаза отводил от других. А она… Не утерпела. Снюхалась. Эх!
Плахин нещадно курил. Искры и пепел летели ему в лицо. Гимнастерка с двумя рядами орденов и медалей стала грязной от пыли и паровозного дыма. Но сейчас он этого не замечал. Глаза его торопили, гнали вперед паровоз. А он, как назло, полз медленно, лениво, будто ему никакого нет дела до того, что творится у Плахина на душе.
«И эта девчонка тоже хороша, — бормотал Плахин. — Кто ей дозволил письма слать? Что за издевка? Ну, только бы на станцию пришла. А там я расквитаюсь. Я ей „любящие поклоны“ покажу. А вдруг не придет? Вдруг телеграмму не получила? Уехала в Ленинград?..»
Эшелон подтягивался к вокзалу. Назад отваливались горбатые цехи депо, подпудренное белой глиной пустое зернохранилище, похожая на опрокинутый кувшин водокачка, железный забор, за которым стояли пароконные подводы, амбарушка — камера хранения, киоск… И вот уже она — знакомая, родная матушка Рязань.
Бегут шустрые женщины в плисовых коротайках и беленьких платочках, шаркают в стоптанных сносках усталые старики.
— Нет ли сыночка, родные?
— Нет ли сынка?
— А как фамилия его, папаша?
— Ларивонов. Ларивонов Степан.
— Нет. У нас такого нету.
— Ах, какая беда…
Плахин сунул огорченному старику цигарку, одернул гимнастерку и выпрыгнул из вагона. Старшина, наблюдавший за ним с нижней полки, шепнул двум бойцам:
— Ребята, за мной. Следом пойдем. А то как бы и в самом деле не натворил чудес. Ревность — она слепа. И зрячего в омут заведет.
Они незаметно вылезли из вагона, на почтительном расстоянии пошли вслед за Плахиным. Тот, стуча каблуками, звеня медалями, тучей двигался по перрону и, как коршун, высматривающий добычу, шнырял глазами по сторонам. Сутулая спина его распрямилась. Угловатые руки сжались в огромные кулаки, будто нес он в ник по пудовой гире.
— Хана. Убьет девчонку, — испуганно проговорил Решетько. — Один раз стукнет — и конец.
— Он не из таких, — сказал старшина, — а потом не найти ему. Народу столько. Поищет, поищет и вернется ни с чем.
Но Плахин не отступал. Обойдя один перрон, перешел на другой, что ближе к вокзалу, обогнул газетный киоск и вдруг круто повернул к забору.
У Решетько так и обмерло сердце. Там, под белой акацией, у забора стояла одна-единственная девчонка, быть может, та, которую и разыскивал Иван. Она была такая молоденькая, хрупкая, что ни о каком ответном ударе и думать было нечего. Босая, в белом ситцевом платье, с непокрытыми светлыми волосами, она походила издали на забытый кем-то снопик льна.
Плахин подошел к девчонке.
— Ты?
Девушка вздрогнула. Обветренные щеки ее заалели. Длинные лучи ресниц часто, как будто в глаза что-то попало, замигали, но вдруг остановились и застыли под вскинутыми бровями.
— Да. Я… Здравствуйте, Иван Фролович.
Плахин взял девушку за рукав.
— А ну-ка идем. Идем, говорю. Побеседуем «по душам».
Девушка подхватила с травы ботинки и, как пойманная с поличным, едва поспевая, покорно засеменила рядом с плечистым, багрово-налитым Плахиным.
— Разрешите спасать? — обратился к старшине перепуганный Решетько.
— Погоди, не спеши. Стань сюда и смотри. Надо будет — дам сигнал.
Старшина, Решетько и молодой солдат стали у входа в сквер, куда только что проследовал разгневанный Плахин. Из-за редкого куста запыленной сирени им было видно все.
Потрясая пудовыми кулаками, Плахин кричал. Желваки на его лице нервно ходили, глаза разъяренно горели.
— Как ты смела? Что за нахальство? Да я тебя расшибу!
Девушка, сжавшись в комочек, плакала. Худые плечи ее, прикрытые латаным ситцем, вздрагивали, руки прижимали запыленные ботинки к груди. Она силилась что-то сказать, но не могла. Слезы душили ее. А Плахин, войдя в гнев, все бушевал, требовал отчета и один раз даже тряхнул девчонку за плечи. Потом гнев его как-то сразу угас, голос стал тих и снисходителен. Он уже не кричал, не размахивал кулаками, а только хмурился и мягко укорял:
— Дурешка ты. Глупышка несмышленая. Да разве можно такие письма женатому писать?
Он взял из рук ее ботинки и по-хозяйски начал осматривать стертую подошву, сбитые до деревяшек каблуки.
Старшина кивнул солдатам.
— Пошли, ребята. Все в порядке. Смертоубийство не состоится.
9
Задали задачу солдату девчонкины ботинки. Остолбенело, тяжко склонив голову, стоял он с ними в руках, будто теперь был во всем виноват только он, Иван Плахин. И в том, что его земляки пообносились за четыре года, и что чумазые ребятишки шныряют под вагонами, собирая селедочные головы и хлебные корки, и что почернели, словно с горя, пристанционные дома, и вот что она, эта хрупкая девчонка, стоит босая, в трижды перелатанном платьишке.
— Побудь здесь. И никуда не уходи, — очнувшись от раздумий, сказал Плахин. — А я сейчас, в момент вернусь.
— Ладно, — кивнула Леночка. — Я буду здесь.
— Вот и хорошо. Договорились.
Кинулся Плахин в ближний обувной магазин. Народу в нем мало, и от туфелек, ботинок полки трещат. «Вот красота какая! Бери, что надо. Выбирай». И продавщица в синем халате так любезна, глазами приглашает: «Подходи, солдат».
Прикинул Плахин на глаз размер ботинок, спросил:
— Мне бы туфельки. Тридцать шестой размер.
— Пожалуйста. Есть каблук на пробке, есть из прорезины.
— Да мне попроще какие, чтоб по грязи…
— Есть и такие. Вот посмотрите. Фасон старый, но практичный. — И протянула желтые, грубо сшитые туфли из свиной кожи.
— И сколько они стоят?
— Тысячу двести. Вам завернуть?
Плахина прошиб пот. У него в кармане лишь пятьсот рублей, которые скопил в последний год ко Дню Победы. О желтых туфлях и думать нечего.
Извинился. Сутулясь, как оскорбленный, пошел от прилавка прочь. На грязном крыльце задержался, с болью подумал о Лене. «Поди, невеста чья-то, а не во что одеться. Босиком. А они… такую цену ломят! Где же столько взять?»
Глянул на проходящих людей. Безучастны. Торопятся куда-то. И нет им дела ни до обиды солдата, ни до девчонки, что ждет в пристанционном садике. И туча, как нарочно, хмурая ползет. Как бы дождь не пошел.
Заторопился Плахин, прямо в лужу с крыльца шагнул.
— Гражданочка! Где здесь рынок? Поближе какой.
Женщина тут же остановилась, провела за угол, указала на рыжий забор.
— Обойдите кругом. А там как раз и рынок. Вам, вижу, тот, где вещи продают.
— Да, примерно.
— Вот это он и есть.
— Спасибо.
— Пожалуйста, сынок.
От участливых слов потеплело на сердце. И уж верилось, что туфли для девчонки будут. Непременно будут, а иначе какой же он солдат.
Воскресный рынок гудел. Сутолока, давка резали глаз. Телеги с сеном, соломой теснили машины с картошкой, бураками, лотки с мороженым, пирожками, инвалидные коляски и цистерны с морсом. А мимо них сновали с узлами, мешками, тряпками, безделушками, горшками люди, и чудилось, будто сюда, в этот тесный загон, съехалась вся Рязанщина, от Ряжска до Спас-Клепиков. Съехалась унять нужду, порожденную долгой войной.
Зайдя за воз соломы, Плахин достал из вещевого мешка старую гимнастерку и надел ее вместо новой. Ордена и медали завернул пока в тряпицу, положил в боковой карман. Заодно снял и погоны. Неудобно солдату по базару ходить.
Не успел все упрятать, как покупатель пожаловал. Глаза с хитринкой, плутовато бегают по сторонам. Видно, матерый перекупщик.
— Сколько, служивый?
— А сколько не жалко?
— Пять возьмешь?
— Семьсот. Новая. Еще не носил.
— Шесть с полтиной.
— Ну, шут с тобой.
Отдал перекупщик деньги, на мешок косит глаз.
— А еще? Нет ли чего ходовитенького?..
— Махорку возьмешь?
— Какая? «Смычка»? Аль «Красный партизан»?
— Типа «Смычки». Первый сорт.
— Сколь просишь?
Прикинул Плахин. Если папироска с рук стоит целковый, то за пачку не грех содрать с этого спекулянта и пятьдесят. Не обеднеет. Карман от денег распух.
Достал Иван четыре пачки. Нарочито для затравки поиграл ими в руках.
— Ну? Берешь? Иль нет?
— Э, давай. Где наше не пропадало, — крякнул с поддельной досадой спекулянт.
— Деньги на кон.
— Получай.
Слюнявя пальцы, отсчитал перекупщик деньги, сунул табак за пазуху и был таков.
Тошно на душе у Плахина. Так и хотелось мерзавцу в ухо дать. Но черт с ним. Свяжешься с грязью — сам в грязь попадешь. Главное сделано, деньги в кармане. Теперь-то девчонке босой не ходить. Сложил их все в кучу, зажал в кулаке, поскорее с базара.
У самых ворот девушка лет семнадцати — к нему.
— Дяденька, продайте!
— Что?
— Да туфли. Туфельки эти.
И только тут вспомнил Плахин про старые Леночкины туфли, которые с собой для примерки носил. Снял их с плеча, улыбнулся.
— Нет, не продам.
— A-а… Извините. — И пошла, обиженно сжав губы.
— Да погоди же, — окликнул Плахин. — Гордая какая. Я так их тебе отдам.
Сунул девушке сноски в руки, шагнул в толпу. «Будь ты проклята, война. Проклята тысячу раз!»
…Разморенная солнцем, Леночка спала. Голова ее склонилась на плечо, пышные волосы сползли на спинку лавки, на белой обнаженной шее чернела ниточка каких-то неказистых бус. Маленькие налитые груди вздымались ровно и спокойно.
Плахин сел рядом, поставил у ног девушки коробку, снял фуражку, расстегнул воротник гимнастерки и откинулся на спинку лавки. Как легко на душе! Куда девались злость, досада, бешеная ревность. Отчего-то стали светлее дома, зеленей деревья, улыбчивее люди… Не от того ли, что минула гроза и погоже засинело небо? А может, сегодня всем… всем в Рязани вот так же чертовски хорошо!
Леночка, вздрогнув, проснулась.
— Ой, я, кажется, уснула! Простите меня.
— За что же? Вы столько прошли… устали…
— Да, немножко. Я сегодня встала… в три утра.
— А почему так рано?
Она вздохнула:
— Так… Не спалось просто.
Отчего-то по-мальчишески робея, смущаясь и торопясь, Плахин раскрыл коробку и протянул девчонке новенькие туфли.
— Вот, возьми. Подарок от меня.
— Ой, за что же?!
— После разберемся. Обувай.
Довольная, смущенная нежданным дорогим подарком, Лена надела туфельки, прошлась в них по дорожке и, вернувшись, глянула на Плахина благодарными глазами.
— Спасибо… Спасибо, Иван Фролович.
— Ладно. Не за что. Не жмут?
— Нет, как раз по ноге.
— Ну и добро. А теперь идем.
— Куда же мы с вами?
— В город. На Оку!
10
Так уж издревле повелось. Чем-нибудь да славились московские дворы. Одни — старинными лавками, амбарами, где бородатые купцы торговали баранками. Другие — пропахшей капустой и кислыми огурцами, которые продавались весь год. Третьи, уже в наше время, — спортивными площадками, где с утра до ночи билась горластая пионерия, а не то и усатая рать. Четвертые— буйной зеленью сирени, клумбами цветов и дивно красивыми невестами, в честь которых исписывались плюсами заборы и не умолкали летом серенады до утра.
И пожалуй, только замоскворецкий двор, где жил полковник Дворнягин, пока еще ничем не был знаменит. Разве лишь кустом бузины, заполнившим всю глухую стенку, отделившую двор от мира, да воробьями. Воробьев здесь водилось превеликое множество. Гнездились они в дырявой церкви по ту сторону каменного забора. Там и питались вместе с курами и индюками попа Василия.
Куст бузины был тоже весьма примечательным. На нем всегда, даже в дождь и туман, традиционно висело что-либо из женского белья. Сегодня шелковая сорочка с белоснежными кружевами, завтра блузка или платье, послезавтра бюстгальтер или натянутые на специальные дощечки чулки. И все это отчего-то оказывалось как раз на той стороне куста, куда выходило окно квартиры холостяка Дворнягина.
В иные дни появлялась тут и сама обладательница столь разнообразного женского туалета. Была она по летам еще молода, свежа, кругла собой. Жгуче-черные волосы, смуглое лицо и темное пятно на лбу делали ее похожей на миловидную индианку. Она гордилась этим и старалась одеваться в платья восточного стиля. Смущала ее только правая нога, которая была немного короче левой, и потому Нарцисса слегка припадала набок, будто подталкивая кого плечом.
Подойдя к кусту, она долго топталась около него, развешивая, прилаживая так и сяк какую-нибудь мокрую вещицу, и при этом украдкой посматривала на окно. Если же оно было закрыто, женщина принималась что-нибудь напевать или громко звала кота.
В это майское утро она снова появилась с мокрым полотенцем на плече. Но ее излюбленный уголок двора был уже занят. Сегодня тут спозаранку хозяйничал сам Дворнягин. Надев полосатую пижаму и разноцветную тюбетейку, он расхаживал в войлочных тапочках по траве и, весело мурлыкая себе под нос, развешивал на кусте, веревках, спинках стульев свои фронтовые трофеи. Чего тут только не было! На верхней веревке, протянутой метров на двадцать, от стенки до крыльца, висела ослепительно синяя шерсть. Чуть ниже, на медном проводе, распластался серый драп. На кусте бузины повисли рубашки, сорочки, костюмы, черное пальто с сизым барашковым воротником, куски тюля, гардин, куний мех и еще невесть какие тряпки и лоскуты.
На траве огромной скатертью раскинулся красный бархат, а на нем… и рюмочки, и бокальчики, и графинчики, и какие-то неведомые сосудики в виде бочек и колб — и все это переливалось, сверкало, играло на солнце всеми красками радуги.
— Ой, Лукьян Семеныч! — воскликнула соседка, остановившись перед полотняным барьером и разглядывая вещи. — Сколько добра у вас! Какое богатство! Из Германии, поди, привезли?
— Да уж какое там богатство, — скромничал польщенный Дворнягин. — Тряпки одни.
— От таких тряпок и я бы не отказалась. Вы хотя бы мне уступили вещицу одну.
— А на что она вам? У вас и своего хватает.
— Да не жалуюсь, — поиграла шелковой косынкой на плечах соседка. — Но хотелось бы заграничненького.
— Так уж и хочется?
— А почему бы и нет. Я еще молода. Надо же перед кавалерами пофорсить. Подарили бы туфельки одни.
— Какие, Нарцисса Станиславна?
— А вот те, беленькие.
— Ишь ты. Самые красивые заметили.
— Жалко. Тогда подарили бы хоть босоножки.
— А что вы мне взамен?
— Да что ж я могу вам? — лукаво повела плечами раскрасневшаяся соседка.
— Так уж и нечего?
— Право, не знаю, Лукьян Семеныч. Вы скажите, а я отвечу.
— А если про это сказать нельзя.
— Отчего же?
— А вдруг откажете?
Дворнягин посмотрел на соседку. Лицо ее все пылало, зеленоватые с косинкой глаза блестели, как у кошки, которая высмотрела добычу и теперь приготовилась к решающему прыжку.
— Вам, может, помочь, Лукьян Семеныч? — спросила она, потупив глаза.
— Если не трудно…
— Отчего же? Я сегодня совсем не занята. Выходная.
— В таком случае я бы попросил вас протереть посуду.
— С удовольствием. Одну минутку.
Она кинула на куст косынку, сбегала домой и вскоре появилась в длинном, до пят, халате, с полотенцем через плечо.
— Куда складывать чистую? — спросила она, подойдя к посуде.
— А вот на скатерть. Рядом лежит.
Нарцисса приподняла подол халата, присела на корточки и проворно, с нарочитой бережливостью взялась протирать хрустальные рюмки, продувая их и просматривая на солнце.
Дворнягин же уселся поодаль на плетенное из белой лозы кресло, сосредоточенно задумался:
«Что же подарить Асеньке? Босоножки? Отрез на пальто или куний мех? А почему бы не подарить? Все равно ведь поженимся, все будет моим. А вдруг не захочет? Что тогда? Прощай куний мех и отрез, плакали добрых пять тысяч. Нет уж. Наряжать тебя для дяди — дудки. Повременим. И в простеньком пальто походишь, меньше будешь нравиться другим. А для меня ты и так хороша. Получай-ка пока босоножки».
— Лукьян Семеныч! — окликнула нежным голоском соседка.
— Что, Нарцисса Станиславна?
— Жарко. Я халат сниму.
— А это уж дело ваше, Станиславна, — не отрываясь от блокнота, ответил Дворнягин. — Хозяин — барин. Хочет живет, а хочет…
— А вы не постесняетесь?
— Я отвернусь.
— Да не пугайтесь. Я не съем.
Она сбросила с себя халат и, оставшись в легкой, просвечивающейся насквозь блузке, продолжала работу, теперь уже протирая хрустальные вазы.
Дворнягин взглянул на нее только раз, да и то, когда звякнула посуда. Ему было не до Нарциссы Станиславовны. Ом думал о том, что вручить Кондрату Титычу, от которого зависит и генеральское звание, и более высокая должность. С пустячной вещью к нему, конечно, не пойдешь: Хорошо бы дать, скажем, швейцарскую двустволку. Она, знамо, пришлась бы ему по душе. Но как ее передашь в открытую? Рискованно. Можно в два счета погореть. А вот люстру на новоселье, пожалуй, куда ни шло.
Дворнягин вытащил из картонной коробки сверкающую медью люстру, тщательно протер тряпицей изогнутые рота, продул плафоны и, держа ее на коленях, задумался:
«Люстра. Милая люстра. Что значила бы ты у меня под потолком? Простое украшение, кусок чистой меди, скрепленный шайбами, проводами, и все. Но совсем другое дело, когда ты будешь висеть над головой начальника. Ты станешь постоянно напоминать ему о том, что живет на свете Лукьян Семеныч, что он, как и все простые смертные, нуждается и в повышении по службе, и в лишней благодарности, и в генеральской папахе. Ты, моя голубушка, за меня будешь незримо присутствовать в доме начальства, и, глядя на тебя, он не раз испытает угрызение совести за то, что не уважил, не отблагодарил. И однажды придет он на службу, сядет за стол и сочинит проект приказа: „Инструктора по кадрам Дворнягина Лукьяна Семеновича назначить для пользы службы…“ И вот у него уже большая должность, высокий чин…»
С этими мыслями, сидя в кресле, Дворнягин не заметил, как и задремал. Очнулся он минут через двадцать, когда где-то близко разрывом снаряда ударил гром.
Дворнягин вскочил, оглянулся. Нарцисса давно вымыла посуду и ушла. На траве осталась только ее забытая косынка да полотенце, сохшее на бузине.
* * *
«Нет совести у бога. Не может он счастье правильно распределять. Одной сразу пять женихов подсунет, и она куражится над ними, дерет нос. А другой ни одного. Иная тебе не успеет взглянуть на какого, как уже приворожила, слушает объяснение. А какая годами по парням стреляет глазами и никого не может завлечь. Взять хотя бы меня, — рассуждала сама с собой Нарцисса. — Который год пытаюсь завлечь соседа, и все впустую. Не говорит ни да, ни нет. Серьезный жених, если не нравишься, либо намекнет об этом, либо напрямую, коль привяжешься, к черту пошлет. А этот… И что за непонятный мужчина! За сорок перевалило, и все не женится. Чего он ждет? О чем думает? Какие у него планы на жизнь? А может, выкинуть его из головы, на Викентии Павловиче остановиться? Викентий Павлович хотя, правда, и староват, но обходителен, нежен и, чувствуется, будет семьянином».
Нарцисса вспомнила бухгалтера треста массовых озеленений, где она работала секретаршей, мысленно представила, как он придет завтра раньше всех на работу, чтоб наедине поговорить с нею, и, довольная, улыбнулась.
— Соседушка! — послышался голос за окном.
Нарцисса откинула штору. Под окном с синей хрустальной вазой стоял Дворнягин.
— Дарю вам, Станиславна, от всей души, — сказал он, подавая вазу. — Пусть в ней никогда не вянут цветы любви.
— Ой, спасибо, Лукьян Семеныч! Большое спасибо. Я ее на дачу отвезу. Там у нас много цветов.
— На какую дачу? — удивленно посмотрел Дворнягин. Он никогда не слыхал об этом.
— Да на свою же. Дядюшка генерал на даче у меня живет.
Дворнягин опешил.
— У вас? Дядюшка генерал?
— Да. Лет пять уже генерал. В Малаховке живет, а служит в Москве. Точно не знаю где.
«Вот те и раз, — сокрушался Дворнягин. — Сколько живу и не знаю, что у нее дядюшка генерал. А вдруг он занимает высокий пост?»
11
Приятны соловьиные ночи на Волге! Бесподобны они на Донце, на Днестре, на Горани, за Вислой-рекой. И все же нет краше ночей соловьиных, чем на тихой Оке. Все здесь привольно, все мило душе. Воздух чист и хмелен, в ясном небе недвижна луна. Цветы и травы, вымахавшие выше колен, мокры от росы. Тысячи разноцветных капель блестят, переливаются на них. В болотных низинах рядятся в кисею тумана чопорные ольхи, водит хороводы раскосая лоза.
В широком ложе сонно разметалась синеглазая Ока. Устало дремлют над ней нянюшки-ракиты. Шепчут ей что-то косматые берега, моют для дара звонкие монисты. Ничто не нарушает ее покоя. Лишь изредка прошлепает лопастями сияющий огнями пароход, стукнет где-то весло о лодку, прокричит невесть кем вспугнутый чирок, и снова дивная, первозданная тишина.
А в черемушных, калиновых топях, где властвует еще дыхание апреля и пахнет прошлогодним хмелем, буйствует вовсю лихая соловьиная любовь.
— Цах-цах-цах-цах, — заливается раскатисто один.
— И-ех-ех-ех-ех, — разгоняется на длинной ноте невдалеке другой.
Минутная тишь. Посвист совы. И снова в нежном околдовании зазывные обрывистые звуки:
— Ти-тю. Ти-тю…
Спеши, подруга. Гнездо уже готово. В самом царственном месте свил для тебя — в необломанном кусте черемухи, на островке, окруженном чистой полой водой, в которую загляделась даже старая, с щербиной луна.
— Зря, зря. Зря, зря… — дразнят своих соседей бессонные коростели.
Сколько их, далеких странников, вернулось пешком на родину свою! Из каких только мест не сошлись они сюда! На каждом болотце, на каждой луговой поляне, даже в низинных посевах только и слышны их голоса. Вся Приокская пойма в коростелиных криках, в хмельных соловьиных щелканьях.
Слушает их Иван Плахин, бередит душу думой своей. А рядом девчонка. Плечом к плечу. Сквозь руку слышно, как часто стучит ее сердце. Стук-стук. Стук-стук… О чем думает она? Может, о Ленинграде, об озаренной огнями улице, где жила? Что ей какие-то Лутоши и эти шальные соловьи? Привыкшего к городу трудно удержать в глуши. А я вот возьму и удержу. Не пущу. Не пущу, и баста.
Иван стукнул себя по колену, тронул девчонку за плечо.
— Ты вот что… Оставайся тут, в Лутошах. В хате нашей живи. Будь как хозяйка. Слышь?
Она промолчала. Только кивнула головой и еще ближе прильнула к плечу.
— А уедешь, — продолжал Плахин, — все одно найду. Где б ни была. А что накричал на станции… забудь. Сгоряча то. Лют я был на тебя. Дюже лют. А теперь вот… вишь, как все обернулось.
Он взял ее маленькую, легкую руку, зажал в своих ладонях.
— Вишь, как вышло. Ты извини. Красивых слов не знаю. Но прямо тебе скажу. И ты верь. Слышишь, верь! Все в душе, вот тут, перевернулось, как увидел тебя.
— А Тося? Вы же любите ее.
— Да, любил. Страшно любил. Но баста. Нет ее у меня. Все сгорело. Пепел. Лишь пепел остался. Одна лютость к ней. И ты, пожалуйста, не напоминай мне о ней. Никогда. Слышь?
— А если она сбежит от того? Узнает, что живой. И вот… — она потрогала у него на груди звенящие медали, — награды у вас.
Плахин разжал руки, вздохнул:
— Сомневаешься? Ну, что ж. Это неплохая вещь. Девчонке надо сомневаться, надо нас, чертей, проверять. Да только знай: душой не кривлю и сподманывать не собираюсь. Э, да что говорить…
Он вдруг вскочил, поднял ее на ноги, глянул с бесшабашной решимостью в испуганные, но покорные глаза.
— Идем!
— Куда?
— В Рязань. Расписываться пойдем. И кончено. И баста! В дом вернешься. Моей… На всю жизнь.
— Да куда ж мы?.. Ночь уже, Ваня… — И шепотом добавила: — Милы-й…
Пошатнулся Иван, как в дреме глаза закрыл. Счастье-то какое! Какое слово из девчонкиных уст! Ах, какая ж ты… рязаночка моя.
Он взял ее за плечи и крепко прижал к себе.
…Ночевали они в рыбацком шалаше на берегу Оки. До Лутош двадцать километров не дошли. И возвращаться в город не стали. Тут, у дубков, и распрощаться сговорились. Она домой. Он на станцию, чтоб сесть в один из эшелонов своей армии, как и было приказано.
Ночь выдалась теплая, сухменная. С заречья тянуло запахом парной земли, резанной для посадки картошки, зеленого лука и разнотравья.
Лена, свернувшись калачиком на плащ-палатке, подложив под щеку ладонь, скоро уснула. А Иван, сняв сапоги, ремень и расстегнув гимнастерку, сидел у ее изголовья, задумчиво курил.
Светлая радость охватила его. Сердце сладко замирало при одной лишь мысли, что рядом такая нежная, чудесная девчонка. Не ее ли милые глаза видел он там, в окопах, в сыпучих снегах, когда было особенно тяжело? Не ее ли мягкие, пышные волосы приснились однажды и потом долго не выходили из головы? Так вот оно какое, судьбой посланное счастье!
И Плахин живо, до всех подробностей представил, как они станут жить, работать в Лутошах в колхозе. Она по-прежнему будет на ферме, а он опять сядет за руль трактора. И уж непременно купит себе мотоцикл, чтоб ездить домой с полевого стана.
Перед глазами встала пленяющая душу картина. Вот он, в синем комбинезоне, подкатывает к дому. Из вишневого садика, зачуяв треск мотоцикла, бежит ома. Светлые волосы растрепались, глаза сияют. И прямо с лету — на шею. «Ванечка! Ой, как я заждалась!»
А потом они сидят на открытой веранде и ужинают. Или идут в садик под вишни, стелят там на траве одеяло и долго лежат, обнявшись, любуясь друг другом и звездами над головой.
А однажды подкатит он на председательском легко- вике к районной больнице, и вынесет она, довольная, счастливая, такого же курносенького, синеглазого, как она, мальчонку. Нет, зачем же одного. Двух, чтобы не обидно было. Мальчонку и девчонку. «Принимай, Ванюша, свое потомство. Славные малыши. И на тебя похожи». И огласится дом горластым детским криком. Продлится корень Плахиных, выживший в огне, не истребленный Гитлером.
Но вспомнил Иван о том, какой теперь дом у него, и сердце захолонуло. Обветшали стены, матица., провисла, как рассказала Лена. И крышу бы чинить пора, вишни пообрезать. Задичали небось.
Домой бы. В родные Лутоши. А не отпускают вот… Нужен еще Иван Плахин в армии. Нужен. А зачем? Кто ж его знает. Может, чтоб передать молодым солдатам, как он сто смертей пережил, питался одним сухарем, шлепал по грязи в рваных сапогах, не видел солнца от пыли и дыма, а верил, бился и все-таки Гитлера доконал.
А может, везут его, Ивана Плахина, на Восток, чтоб и там утвердил он покой на земле, вогнал самурая в могилу. Что ж… Раз надо, значит, надо. Не настала еще, выходит, твоя пора для плуга и ремонта крыши. Не настала. И обезумел ты от счастья, может, преждевременно, Иван. Уйми свою радость, припрячь. Щеки у тебя горят и лоб как в огне. Иди лучше умойся, освежись. Легче станет, друг.
Встал Иван, по мокрой траве пошел. Спрыгнул с некрутого обрывца, вниз по течению посмотрел. Курилась, ластилась вода, катилась в неведомую даль. Туман, никший над нею, поднялся, рассеялся частью и лишь белел еще в заводях у кустов.
Притихшие на какой-то час соловьи, спохватясь, защелкали опять. Коростели, так и не передразнив своих ночных соперников, замолчали. Где-то зачихал трактор. Запоздало прокричал петух. Небо на восходе зарумянилось, посветлело, распахнулось у горизонта в неоглядную синь.
Снял Иван гимнастерку, рубашку нательную. На куст ивы все повесил. Выбрал поудобнее местечко с гривкой травы, потрогал пальцами ноги воду. Хороша! В самый раз освежиться. Мутновата малость. Видно, где-то в верховьях еще не сошла лесная вода.
Вытянул руки над головой, взмахнул ими, бросился в серую гладь, поплыл наперерез течению. Хотел сразу на тот берег перемахнуть, да плыть оказалось трудно. Течение еще сильно. Круто свернул с быстрины, отмеривая саженки, вдоль берега пошел. У протоки в заводь заметил развесистый куст весь в белом. Подплыл туда. Так и есть. Черемуха! Другие давно отцвели, а эта, в северянке, под крутым обрывом хорошилась вовсю. Набрякшие за ночь ветви ее, облепленные белой кипенью, гнулись к воде. На пышно-зеленых листьях, снежно-чистых вязях и прямо на сучках крупными слезами лежала, висела роса. У корня дерева таял, заваленный наносом, последний клок зимы. От него тянуло легкой прохладой, прелью корней.
Иван взобрался на скрученный из палок, мха, ивовых прутьев дром, не спеша, выбирая самые лучшие ветки, наломал большую охапку пахучей, кидающей в хмель апрелицы и тем же берегом, по песчаной бровке, вернулся к месту, (где раздевался.
Не успел надеть гимнастерку, как к обрыву подошла Лена.
— Ваня! А я тебе вот постирала. — И протянула чистые портянки.
— Вот спасибо. Я сам хотел. А ты… опередила.
— Давай и рубашку. А?
— Нет, нет, — поспешил застегнуть пуговицы гимнастерки Иван. — Не стоит. Ну ее. Лишь бы до вагона, а там мне новую дадут. Ты вот возьми-ка. Первый, но не последний. — И протянул черемуху.
— Ой, куда же столько?
— Бери, бери. В Лутошах ее нету. Подружкам раздашь.
— А я не пойду в Лутоши.
— Как?
— Тебя провожу.
Иван развел руками:
— Вот те и раз. Шли, шли. Пятнадцать верст отмерили и вдруг назад. Нет уж. Иди-ка, Ленок. А мне пора. Проводил бы до дому. Так охота в Лутошах побыть! Да время… Не успел бы никак. Так что ступай. Я тебя до той горушки провожу.
— Нет, — качнула головой Лена. — Не пойду.
— Ну что с тобой поделать, — развел руками Иван. — Ох, и упрямая ж ты!
И мерили они вдвоем пройденные километры. Он с вещевым мешком. Она с букетом. И почти всю дорогу держались за руку, чтоб никогда не расстаться.
…Эшелон им ждать долго не пришлось. Шли поезда с короткими интервалами, как и прежде, останавливаясь на водозабор в Рязани.
Плахин сбегал к начальнику эшелона своей дивизии и скоро вернулся довольный, но грустный.
— Вот я и еду, Ленок, — сказал он, подойдя. — Как быстро пролетели сутки. Точно сон какой. Но я рад. Очень рад, что увидел тебя. А ты?
Девушка опустила глаза.
— Не надо об этом. Ты все знаешь, Ваня.
— Да, это верно. К чему слова…
Паровоз дал протяжный, рвущий сердце гудок. Грохотом пронесся рывок по вагонам. Скрипнули колеса…
Иван обхватил вместе с охапкой черемухи девчонку, цепко припал к ней — маленькой, поникшей и совсем своей. Торопясь, боясь опоздать, жарко поцеловал ее в губы. Хотел еще раз, но кто-то крикнул из вагона: «Эй, медведь! Задушишь девчонку!» — и Плахин с трудом оторвался, схватил вещмешок, разбежался и, подхваченный руками солдат из своей дивизии, прыгнул на железную подножку.
Лена какую-то долю минуты, не успев опомниться, растерянно смотрела вслед убегающему вагону, но тут же, будто кто подтолкнул ее в спину, пустилась вдогонку. Запыхавшись, изнемогая, она настигла вагон, поравнялась с дверью и кинула в протянутую чащу рук всю черемуху. Она не знала, досталась ли хотя бы веточка Ивану, успел ли он что-либо подхватить. Но все равно. Ей стало легче. Как-то сразу отлегло.
Там, в солдатском вагоне, в ветках черемухи была частица ее сердца, ее любовь.
12
Суровая война научила большие и малые штабы хранить тайну сосредоточения войск. Ни командующий армией Коростелев, ни член Военного совета Бугров не знали точно, куда идут эшелоны, какую предстоит решать задачу. Надеялись уточнить все сразу же по прибытии в Москву, но это оказалось не так-то легко. Таких, как они, несведущих, не знающих, что и когда, тут набралось немало. В коридорах генштаба толпились люди, только что прибывшие с отгремевших фронтов: осененные славой салютов и сводок командармы; внешне сдержанные, тихие, но готовые по первому слову своих командующих кинуться к черту на рога начальники штабов;- вечно озабоченные проблемой «что где достать» тыловики; опечаленные, пригнутые нежданной вестью о расформировании командиры фронтовых дивизий и просто офицеры, генералы, вызванные по каким-то неотложным делам. Одни чинно сидели на стульях и с жаром вспоминали былое. Другие прохаживались по длинному скрипучему коридору. Третьи спешили куда-то с папками, листами бумаг. И было в этом многолюдье, в этом гуле и суетном движении что-то похожее на октябрьские дни в Смольном. Только там боевые части создавались, получали задания и уходили в бой. А здесь… Вот только что из крайнего кабинета вышел костистый полковник, перекрещенный желтыми ремнями. Седые усы у него печально повисли, глаза как-то неестественно блестели.
— Ну, как, Геннадий Власович? — подбежал к полковнику молодой офицер.
— Все… Винтовку к ноге, браток.
«Винтовку к ноге, — подумал Коростелев, идя по коридору. — Может, и нас за этим вызвали? Войду сейчас к начальнику генштаба, и он скажет: „Ваша армия расформировывается. Боевые знамена сдать“. Жалко будет, но в интересах дела держать столько войск, конечно, нет смысла. Накладно. А впрочем, посмотрим».
Начальника генштаба Коростелев не застал, хотя явился, как и было сказано, к двенадцати дня. Маршал пришел только через два часа — очень усталый и бледный. В последний раз Коростелев видел его в академии имени Фрунзе перед самой войной. Он приезжал тогда читать лекцию о стратегии Красной Армии и был, несмотря на свои шестьдесят лет, еще крепок. Теперь же спина его старчески сутулилась, лицо стало одутловато-дряблым, под глазами провисли синеватые мешки, голова совсем поседела. Увидев среди ожидающих Коростелева, он сейчас же подошел к нему, подал руку, провел в кабинет.
— Извините. Задержали. Только что в Ставке был. Прикидывали, что куда. — Он положил папку в сейф, вытер носовым платком лицо. — Запарился. Столько войск. Столько частей! Вся Русь ведь поднята была. И не сразу разберешься теперь, где что размещать. Казарм нет. Лагеря где разбиты, где сгнили… А солдатам отдых нужен. Хотя, бы маломальский. Он намерзся, нахлебался вволю пылюки, наш русский солдат. Он заслужил добрый отдых. Но ничего. Устроимся. Обживемся. Могу вам пока не для огласки сказать. Готовится решение правительства о первоочередном восстановлении Минска, Смоленска, Ленинграда, Одессы — в общем, двадцати пяти крупных городов.
— Это очень хорошо, — искренне обрадовался Коростелев. — Правильное решение. Все сразу на ноги не поставишь. А вот так, по частям… дело быстрей пойдет.
Начальник генштаба пригласил Коростелева сесть и, сев за стол сам, начал расспрашивать о состоянии дивизий, их укомплектовании, вооружении, наличии транспорта, настроении солдат, поинтересовался здоровьем самого командарма и уже потом встал, медлительной походкой подошел к висевшей на стене карте, сдвинул с нее белую шелковую штору.
— Вы, видимо, догадались, куда идет ваш караван? — спросил он, устало хмуря мохнатые брови и слегка улыбаясь.
— Да, примерно, товарищ маршал. Готовится разгром Японии.
— Вот именно. Разгром. И это в силах сейчас сделать лишь наша армия. Американцы пустили в ход весь свой тихоокеанский флот. Но увы! Они не в состоянии справиться со своим противником. У японцев, как вы знаете, сильна сухопутная армия. А у американцев такой нет и так скоро не будет. Подготовить армию для действий в пустыне, в горах, на неприступных островах — это не блин испечь, не научиться танцу «румба». Время. Время нужно, да и опыт. А у них его, выражаясь языком Суворова, видит бог, нет. Но это все к слову.
Маршал взял со стола толстый красный карандаш.
— А теперь ближе к делу. Ваша армия через восемь суток сосредоточивается вот здесь, — он обвел карандашом несколько мелких населенных пунктов и крупный город, — дислоцируется и поступает в распоряжение командующего Забайкальским фронтом.
— Уже и фронт есть? — спросил командарм.
— Да, есть. И там ждут уже вас. Ваша армия составит главную ударную силу фронта.
— Понятно, — кивнул Коростелев и перевел взгляд на тысячекилометровый Хинганский кряж, растянувшийся от Амура до Порт-Артура. Всего лишь три-четыре небольшие дороги перерезали его, а дальше к югу шли сплошные пески, и ни одной речки на пути.
Начальник генштаба заметил тень озабоченности на лице Коростелева, не утешая, кивнул:
— Да, вам предстоит их брать. С боем брать все эти хребты и пики. Ни одна армия здесь еще не проходила. Все двигались вдоль дороги Хайлар — Байчен. Нам же обходить некогда. Будет дорог каждый час. Поэтому, Алексей Петрович, сразу же по прибытии подготовка и еще раз подготовка.
— Ясно, товарищ маршал!
Начальник генштаба зашторил карту, подошел к столу и легонько постучал концом карандаша о стекло.
— И чтоб все предусмотрели, как должно. От переброски техники до фляжки воды.
— Все сделаем, товарищ маршал. Опыт у нас есть. Карпаты, Судеты…
— Я верю вам. И надеюсь на вас, товарищ Коростелев. Ваша армия действовала прекрасно. Я исключаю, конечно, год сорок первый и отчасти сорок второй. А в остальном — молодцы!
— Спасибо, товарищ маршал, — благодарно поклонился командарм.
Что-то вспомнив, начальник генштаба улыбнулся, снял очки и глянул подобревшими глазами.
— Признаюсь, мне было приятно докладывать о вас Верховному. На его вопросы я всегда уверенно отвечал: «Продвигается», «Заняла»… Он однажды даже усомнился в этом. Приказал своим порученцам проверить: а так ли это? Поволновался я тогда.
— Почему, товарищ маршал?
— Да как же… А вдруг да отошли, оставили город. Что тогда? Обман? Очковтирательство? Погоны долой. А не то и голова. Но, к счастью, все обошлось. Не подвели. И надеюсь…
— Можете положиться, товарищ Маршал Советского Союза! — встал, как положено солдату, Коростелев. — Люди у нас золотые. Отваги и стойкости не занимать.
— Очень рад. За вас, Алексей Петрович, и за нашего русского солдата, — сказал проникновенно маршал. — От души желаю вам больших боевых удач.
Он стиснул обеими ладонями руку Коростелева и долго прощально тряс ее приговаривая:
— Желаю удач. Желаю удач…
— И вам, товарищ маршал. Желаю здравствовать.
Маршал грустно усмехнулся:
— Рад бы, но… всему свое время. Стар я, да и здоровье… Свидимся ли…
— Свидимся, — ободрил Коростелев. — Новую победу праздновать будем.
Маршал вздохнул:
— Да, громкое слово это — победа. И приятна для всех. Но не легко дается она. Не легко…
Коростелев поклонился:
— Разрешите идти?
— Да, да. В добрый час. Поторапливайтесь. Вас ждет самолет. Завтра утром должны быть там. Немедля свяжитесь с офицерами генштаба и — за работу.
Коростелев понимающе кивнул.
— Ясно. Разрешите в связи с этим спросить.
— Да, слушаю вас.
— Вместе со мной здесь член Военного совета. Разрешите и ему лететь?
— Пожалуйста, — кивнул маршал, не отрываясь от просмотра каких-то бумаг. — Скажите, что я разрешил.
* * *
В тот же день под вечер Коростелев и Бугров вылетели в далекое Забайкалье — к месту дислокации своей ударной армии.
Серебристый ИЛ-14 шел на восток прямым курсом. Под его распластанным, испещренным мелкими заклепками крылом кучерявились сплошные снежно-чистые облака. Солнце, как в зимний день, заливало их, и казалось, что самолет не летит, а мчится с горы на гору по рыхлому снегу.
Чарующа была эта картина полета над облаками. Увлекательна. Но никто из трех пассажиров на нее не смотрел. Не до нее теперь. Каждого занимали свои думы, свои дела.
Коростелев мысленно прикидывал, где теперь находятся воинские эшелоны, как их лучше и скрытнее рассредоточить по фронту, как наладить подвоз боеприпасов, в какой боевой порядок построить первый эшелон. И еще ом думал о предстоящей встрече с китайской Красной армией, о том, какое ликование охватит ее бойцов. Ведь это будет великая помощь народу Китая в разгроме японцев и изгнании гоминдановских банд. Так, что ли, Матвей?
Коростелев посмотрел на сидящего рядом Бугрова. Тот, расстегнув китель, устало сложив руки на груди, тихо и ровно посапывал носом.
«Набегался, бедняга, наволновался, спит, — подумал Коростелев. — Ну, пусть, пусть отдыхает. Завтра у него уйма дел. Подготовка партактива, инструктаж офицеров политотдела, выдача партдокументов. Так что спи, спи, дорогой Матвей».
Третьим пассажиром был сухощавый, длинноносый подполковник-грузин. Он только что сдал в Москве знамя расформированного стрелкового полка и теперь спешил принять в Забайкалье новый, мотомеханизированный полк. В управлении кадров ему коротко рассказали, что это за часть и по каким дальним дорогам она прошла. Но хотелось знать о ней больше, и он очень сожалел, что не имел времени заехать в Москве в госпиталь и поговорить со старым командиром полка. И еще он печалился тем, что не смог увидеться со своей Илико. Она была вызвана в Москву телеграммой и уже выехала с пятилетней дочерью скорым, но генштабовский самолет отбывал на сутки раньше, и пришлось лететь. Жену и дочь, конечно, встретит офицер из управления кадров и все, что просил, им передаст. Но как бы хотелось самому их повидать!
В салон вошел бортмеханик в заячьей безрукавке, в серых унтах выше колен.
— Пролетаем Волгу, — сказал он и, подойдя к Бугрову, уточнил: — На горизонте Куйбышев, товарищ полковник. Вы просили вас разбудить.
— Да, да, спасибо, — сказал Бугров и прильнул к окну.
Под крылом самолета вилась серая лента. А за ней безбрежно раскинулось море огней. Огней родного города.
13
К концу седьмых суток отставший от полка Плахин догнал свой эшелон. Стоял он за Читой на маленькой станции, загнанный в лес на запасные пути.
Вечером, хотя и было темно, Плахин, идя вдоль вагонов, увидел у насыпи, под деревьями, походные фронтовые столики, скамейки, разборные щиты на длинных ногах и уже по одному этому понял, что полк остановился, как видно, надолго и что, может быть, тут и придется ждать увольнения в запас, если, конечно, не начнется война с Японией.
В роте встретили Плахина с той неподдельной радостью, с какой встречают близких в семье людей, а на фронте благополучно вернувшихся с задания разведчиков. Были тут и крики «ура!», и жаркие рукопожатия, и поцелуи… Плахин только отбивался, польщенно махал рукой.
— Да ну вас. Будет. Вот еще… Давно не видали…
Старшина Максимов снял с полки котелок и тут же отправился на кухню за ужином, потому как все давно уже поели и надо было самому выпросить у поварихи Катри порцию каши.
Плахину же не хотелось ни есть, ни пить, ни разговаривать. Он смертельно устал за дорогу, измотался, бегая по комендатурам, разузнавая про эшелон, и теперь с нетерпением ждал той минуты, когда он наконец-то уляжется на знакомых, пропахших шинелями и. ружейной смазкой нарах. Но увильнуть от расспросов оказалось не так-то просто. Друзья, гадавшие, строившие различные предположения насчет рязанской девчонки, жены Плахина и его тещи, только и ждали, чтобы заговорить об этом. И едва он присел на лавку, намереваясь снять сапоги, как его обступили со всех сторон.
— Ну, как с девчонкой?
— Где же ее, бедную, захоронили?
— А как с теткой?
— А с тещей?
— Всех, говорят, перебил подчистую.
Плахин вздохнул.
— Легко сказать… А глянешь — и не поднимется рука…
— Чего же? Ай заколдовала?
— Колдовала, не колдовала, а не смог. Глянул я на нее, на разбитые ее ботинки, и такая жалость взяла, что нутро перевернуло.
— Ботинки, — ухмыльнулся курносый парень. — Сказали б лучше, ножки. Ножки ее очаровали.
Плахин незлобиво глянул на солдата.
— Черт ты мохнатый. Я даже новые ей купил. Продал вот гимнастерку с себя.
— Немудрено. Мог и в трусах приехать.
Плахин спокойно, устало посапывая, снял сапог, осмотрел его, потрогал пальцем подметку, поставил его у нар и, уже стаскивая другой, о чем-то думая, с грустной ноткой сказал:
— И если б надо — ничего не пожалел.
Парень почесал за ухом, завидуя, вздохнул:
— Да-а… Вот это любовь!..
С нар спрыгнул в белой нательной рубашке Степан Решетько. Пригладив рукой растрепанный чуб, он подсел на лавку и дружелюбно протянул Плахину руку.
— Дай пять, Иван.
Плахин был еще зол на Решетько за ту насмешку в вагоне, когда подъезжали к Рязани, и потому руки не подал, только глянул недоуменно.
— Это с какой такой стати я должен руку тебе подавать, скалозубому краснобаю?
— А с такой, что мы теперь с тобой родня, Ванюша.
— Какая такая родня?
— Самая настоящая. По душевному сходству. Послушал я, как ты расправился с женой, теткой и тещей, и пришел к приятному убеждению. Характер у тебя, ну как две капли воды на мой похожий. Изнутри дым валит, а огня не бывает. Али как гром. Гремит, гремит, а дождя ни капли.
— Спасибо за комплимент.
— А чего спасибо? Я правду говорю. Сердце твое, Иван, в точь, как мое. Восковое. Не в полном смысле, конечно, а отходчиво, я имею в виду. Я ведь тоже жену прикончить хотел.
— Вот брехло, — покачал головой Плахин. — Да ты же говорил, отправил с миром ее. Добровольно отпустил.
— Да я о том, что до свадьбы было. Когда еще ухаживал за ней.
— Мели, Емеля, твоя неделя, — махнул рукой Плахин и полез на полку.
14
Долго собирался Дворнягин разнести свои подарки, да все не знал как. Только спустя неделю набрался смелости, наконец раздал их. Солнце бросало прощальную тень на облинялую луковицу церкви, когда он вернулся в свою обитель. Был он измучен, утомлен и до того расстроен, что дергались жилки в подглазье и руки дрожали, будто только что совершил поджог или кого-то убил.
Выпив у порога кружку воды, Лукьян Семенович, не снимая плаща и мундира, грузно опустился на кушетку и устало вздохнул:
«Ух ты! Ну и дела-а. Запарился, как в бане. И голова трещит с перепугу. Нет, что ни говори, а давать взятку тяжело. Дьявольски тяжело. Кажется, что такого передать Марье Ивановне лишние босоножки, а Сидору Петровичу пустячный эликсир от выпадания волос, а поди подступись, попробуй. Сердце так и лезет в пятки, и в лицо будто плескают кипятком. Эка раньше было хорошо дарить всяким судьям, генералам да городничим. Они сами себе градоначальники. Брали все, что бог на душу пошлет. Можно было запросто подсунуть даже гусака или поросенка, стойлого жеребца или коляску. А теперь иди-ка, вручи попробуй. У каждого нынешнего „городничего“ за спиной партком, местком и комсомольская организация. Сто глаз за одним начальником смотрят. Да и сознание теперь совсем не то, что раньше. Иной голодный будет сидеть, а крошки не возьмет. Высокоидейный! Попробуй, скажем, ты подсунуть хабара Федот Федотычу. Да он тебя в бараний рог скрутит, загонит за Можай. Или только намекни об этом Василию Евсеевичу. В скулы двинет, Не соберешь костей. Нет, что ни говори, а тут искусство надо! Надо знать, к кому как подойти, на какой козе подъехать. Иного простофилю можно купить за поплавок, а к другому с такой пустячиной и не суйся. Меньше пианино или автомобиля, сукин сын, и не берет. Взять того же Кондрата Титыча Захарова. Какую статью в газете против взятки закатил. Прочитаешь— свят бог. Бери и в икону. Готовый праведник. А ведь берет, сквалыга. Тихонько, не сам, а берет. Так и думалось, что Марья Ивановна его разразится бранью, запустит люстрой вдогонку. Семь этажей бежал и думал, что вот сейчас загрохочет по ступенькам берлинская медь. Но нет… все обошлось как надо. Понравилась, видно, вещица, пришлась по душе. Асенька тоже взяла босоножки без всяких яких. Даже воскликнула от радости: „Ах, какие милые!“ По сему поводу недурственно и чарку пропустить».
Дворнягин встал, торопливо разделся, повесив плащ в гардероб у порога, а китель на спинку стула, достал из серванта графин с коньяком, рюмку на тонкой, куриной ножке и кусок похожего на мыло немецкого сыра. Сел, выпил, не торопясь, желая продлить удовольствие, начал закусывать.
На колокольне зазвонили к вечерне. Большой медный колокол с косым крестом и какими-то потускневшими буквами, тихо качаясь, лениво выговаривал:
— Гав, гав. Гав, гав…
Годом раньше Дворнягин терпеть не мог этого церковного трезвона. Дважды ходил в милицию жаловаться на попа, писал даже заметку в газету. Но постепенно звон вошел в привычку, не резал ухо и не будил уже по утрам. Бывали случаи, когда Дворнягин, изрядно подвыпив, устраивал над попом Василием злую шутку. Он раскрывал настежь окно, ставил на подоконник радиолу и, как только отец Василий поднимался с Евангелием в руках на клирос, включал на полную мощь джазовую музыку.
На этот раз церковный звон не настроил на шалость Дворнягина. Он лишь вверг его в подавленно-гнетущее состояние, от которого не могла избавить и выпивка. В голове неотвязно вертелось: «Примет дар Кондрат Титыч или нет? Если примет, то все возможно будет, как рассчитано, а если нет? Что тогда? Рухнут все планы, все мечты о генеральской папахе, а не то еще и разразится скандал. Возьмет и объявит о люстре на собрании. А потом парткомиссия, с работы долой…»
Дворнягин выпил еще рюмку водки, разделся и лег спать. Однако и во сне ему не было покоя. То снилось, что идет собрание и все возмущенно его ругают, то виделся вагон поезда и люстра над головой. Она, как маятник, качается из стороны в сторону и всё скрипит, скрипит…
15
Армия Коростелева, расположилась на советско-маньчжурской границе за Борщевочным хребтом. Две дивизии заняли старые укрепрайоны, летние военные лагеря. Другие же так и остались в вагонах на случай быстрой переброски к месту наступательных боев.
Первую неделю люди томились от безделья, неясности своего назначения, ловили рыбу, охотились, спали, раскинув в тени под кедрами шинели и плащ-палатки, судачили насчет мирного договора с Германией, затянувшегося увольнения в запас, вспоминали фронтовые дни. А на вторую пришел приказ — развернуть учебу, подготовку из молодых солдат специалистов для штурмовых групп.
В бывшей роте Сергея Ярцева создали штурмовую группу по уничтожению дотов. Старшим в нее назначили бывалого сапера-подрывника, мастера по ночным вылазкам Степана Решетько.
Провожая его на первое занятие, оставшийся временно за командира роты старшина Максимыч сказал:
— Хороший ты солдат, Степан Назарович. Старательный. Пороху вдоволь понюхал и знаешь, что такое солдатский пот. Неплохой бы и командир из тебя вышел. Да уж больно болтлив. По всякому поводу и без повода чешешь язык. Не гоже это. Нынче же кончай побаски и берись за ум. Теперь ты в своем роде командир. Понятно?
— Так точно, товарищ старшина! — вскинул руку к пилотке Решетько, и медали на его груди весело зазвенели. — Не будет больше ни шуток, ни прибауток;
— Вот и хорошо! Занятие проведешь на голой сопке, где сараюшка из камня стоит; Вот ее и будешь штурмовать. Ну, а как делать это, сам знаешь.
— Да уж будьте покойны, — польщенно улыбнулся Решетько. — Я их столько за войну перетряс, что и ста чертям бы не под силу. Небось и досель разбирают кирпичи. Помню, на Зееловских высотах…
— Ну ладно, ладно, — оборвал Максимыч. — После расскажешь. Ступай. Занятие начинать пора.
— Есть начинать! Когда прикажете кончать?
— Сигнал подаст горнист.
Решетько расцвел.
— Вот это да! Давно я не слыхал горниста. Мирная учеба, значит.
Он восхищенно помотал головой, круто повернулся на стоптанном каблуке сапога и рысцой, перепрыгивая через серые камни, побежал к солдатам, сбившимся в кружок у подножия сопки.
Первые дни Решетько проводил занятия уплотненно. Солдаты возвращались с высоты усталые, запыленные, с вытертыми до белого лоска локтями, коленями. На спинах гимнастерок у них толстым слоем лежала соль. Дождавшись с трудом отбоя, они замертво валились спать. А утром многих из них приходилось расталкивать, трясти за плечи. Но и проснувшись, они устало зевали, щупали лопатки, колени, охали, как путники после утомительной дороги.
Максимыч сиял. Он был доволен, что его слова повлияли на Решетько и тот так хорошо, до седьмого пота, обучает молодых солдат. Но вскоре Максимыч заметил совсем иную картину. «Бомбардиры дотов» второй уже день возвращались в лагерь чистенькие, подтянутые и такие бодрые, будто не было ни земляных работ, ни изнуряющей жары. Сам Решетько шагал сбоку строя в новой гимнастерке, при всех орденах, медалях, дирижировал прутиком и браво запевал:
— Ой, ты, ласточка-касатка сизокрылая, Ты, родимая сторонка наша милая…И вечером, после отбоя, в «вагоне, где спали подчиненные Решетько, уже не стало той непробудной тиши или повального храпа. С нар доносились смешки, шепот, приглушенный разговор.
„Что-то тут неладно, — подумал Максимыч. — Не может быть, чтобы молодые солдаты так быстро втянулись и легко переносили десять часов занятий. Надо проверить, подсмотреть“.
На следующий день, справив все неотложные дела, Максимыч, минуя рассыпанные по ковыльной низине стрелковые отделения, двинулся на голую сопку. День, как и прежде, дышал зноем. В белесом, выцветшем небе низали незримые кольца орлы. Иссохшие травы под сапогами хрустели, кремнистые камни, сбегая вниз, тонко и грустно звенели. Серые в темных крапинках ящерицы шмыгали под валуны и, оставшись там в тени, пугливо и жарко дышали. Бурый подпалый суслик, отбежав шагов на двадцать, свечкой застыл у норы.
Выйдя из-за камней, Максимыч увидел желтый от степной пыли сарай без ворот и крыши. Возле него, в косом лоскутке тени маялся с винтовкой на плече солдат. Он переваливался с ноги на ногу, лениво посматривал по сторонам.
Опытный, видавший виды Максимыч сразу понял, что дело тут нечисто. Иначе зачем же было выставлять охрану, а самим прятаться в сарай? Теперь у него появилось лишь одно желание — незаметно подобраться к постройке и подслушать, что там делается. Занимаются решетьковцы или, разморенные зноем, завалились спать?
Метров триста Максимыч шел, согнувшись, прячась за камни, перебегая. Когда же валуны кончились, снял ремень, расстегнул воротник гимнастерки, потрогал рукой раскаленный щебень и, прижимаясь к нему, пополз. Ему хотелось, чтоб солдат все же увидел его. И тогда бы он сегодня же вызвал этого лопоухого паренька из строя и объявил ему благодарность. Но нет. Приставив ладонь ко лбу, щурясь от слепящего солнца, солдат осмотрел восточные скаты и побрел в спасительную тень. А Максимыч тем временем рывком, на цыпочках, преодолел последние пятнадцать метров и припал к пышущей жаром стене.
За грубыми, наспех сложенными кирпичами неугомонный балагур Решетько, забыв о своем обещании, спять расписывал свое новое выдуманное похождение.
— И вот прихожу я в соседнее село на игрище. Зимние гулянья у нас в Брянске так зовут. Да. А там девчат! Стайками так и ходят, так и вьются…
Максимыч встал. „Шут ты гороховый. И где ты только эти побаски берешь? Вот уже четыре года лепишь одна на одну. И что же с тобой делать „популярный“ жених?“»
…Весь день провел в штурмовой группе старшина, сам занятие проводил. А вечером, после ужина, опять в вагон к молодым солдатам пришел.
Решетько, как именитый гость, сидел в окружении солдат на лавке перед открытой дверью, смачно тянул цигарку и говорил:
— С девчонкой познакомиться — это пустяк. Лично для меня никаких трудов не составляет. «Здравствуй, милая. Привет вам от бабушки. Поклон от дедушки…»
— И мое почтение от старшины, — добавил Максимыч, влезая на железную ступеньку.
Все засмеялись. Решетько смутился, загасив папиросу, встал.
— Товарищ старшина! Личный состав группы…
— Сиди, сиди. Продолжай. Уж очень хорошо рассказываешь. Пришел послушать. О чем это им?
— Да это к слову пришлось. Спор тут зашел. Что труднее — дот захватить или с девушкой познакомиться?
— И до чего доспорились?
— Да лично для меня ни то, ни другое труда не составляет.
— Все может быть, — кивнул Максимыч. — Только я что-то не верю вам.
— Это почему же, товарищ старшина? — растерялся от столь резкой оценки Решетько.
— Да что ж… Хвалитесь вы, хвалитесь, а вот к поварихе Катре подойти боитесь.
— Кто? Я? — вскочил Решетько. — Да когда это было, чтоб я боялся ее? И с какой такой стати мне перед нею в зайцах ходить?
— Это все слова, — подзадорил Максимыч. — А ты на деле докажи. Вот поди к ней в вагон и вечерок посиди. Кстати, она что-то нынче спрашивала про тебя.
— А что? — тряхнул рыжим чубом Решетько. — Вот возьму и пойду. Только чтоб после не ругали, коль оставит… на ночь меня.
— Нет. За что же? — повел плечами Максимыч. — Парень ты холостой, близко не стой, да и она невеста. Так что ступай. На всю ночь увольнение тебе даю.
…Вечером, когда стемнело, Решетько надел новое обмундирование, окропил себя одеколоном и отправился на свидание к поварихе Катре. Однако минут через десять он вернулся в вагон злой и молчаливый. Тихо сняв сапоги, попытался было незаметно влезть на полку, но его окликнул старшина.
— Ну как, сходил?
— Сходил, — буркнул Решетько. — Советую вам сходить.
Старшина понимающе улыбнулся. Свидание состоялось. Подосланный вместо Катри Иван Плахин, видно, крепко намял Степану бока.
16
Незадолго до наступления на Квантунскую армию у главкома советских войск на Дальнем Востоке состоялось совещание командующих войсками фронтов и армий. Пробыл на нем Коростелев два дня и вернулся сияющий, довольный. Сразу же из машины зашел к члену Военного совета Бугрову.
— Ну, Матвей, приговор по Квантунской объявлен, — сказал он еще с порога. — Завтра трогаемся.
— А как наш замысел? — спросил Бугров.
— Все утверждено с небольшими поправками. Давай твою карту.
Бугров расстелил на рабочем столе большую, свисающую до пола карту дальневосточного театра военных действий. Коростелев с карандашом в руках склонился над ней.
— Главный удар наносится по флангам Квантунской армии, — начал он. — С востока силами 1-го и 2-го Дальневосточных фронтов и с запада — войсками Забайкальского фронта и частями монгольской армии. Обе группировки в районе Чунчиня соединяются и закрывают котел. Одновременно вот сюда и сюда выбрасывается крупный воздушный десант и… здравствуй Порт-Артур!
— Чудесно! — похвалил замысел главкома Бугров. — Смело и реально. Ну, а как у нас со временем?
Коростелев посмотрел на часы.
— В двадцать ноль-ноль во машинам. Ты со мной или передумал?
— Нет, как условились. Я с гвардейским корпусом.
Коростелев протянул руку.
— Ну, добро. До встречи на сопках Маньчжурии!
17
В назначенный час войска армии двинулись в исходный район для наступления. Нелегок был путь через леса и горы. Едва преодолевали одну, выжженную, подметенную ветрами гору, как вновь вырастала другая, и, как назло, еще более высокая и пуще прежнего крутая. Жара и кручи изнурили бойцов, и они молча брели по узкой, вьющейся спиралью дороге. Только бывалый ефрейтор Степан Решетько, протопавший с ротой от Волги до Эльбы и убереженный судьбой от всех пуль и осколков, не унывая, вызванивал подковками сапог и был не прочь побалагурить с новичками.
В роту пришло много новобранцев. Чудесные ребята попались. Лучших собеседников и не сыскать. А особенно этот низенький веснушчатый, будто посыпанный коноплею Егорка. Как он заразительно смеется! Маленький нос сморщит, девичьи глазки, стесняясь, сузит и заливается до слез. А глядя на него, и другие хватаются за животы. Старшина уже дважды предупреждал, чтобы Степан прекратил в строю, как он выразился, «молоть языком». А что поделать, когда черт подмывает, когда так хочется этим курносым смешной случай рассказать!
«Ах, старшина, старшина! — досадует в душе Степан. — Лучше бы он без каши, без сухарей оставил, чем запрещать такое. Что хорошего грустить, молча, по-ишачьему тащиться в гору? Конечно, когда речь идет о маскировке, скрытности передвижения, то тут иной табак. Молчи, как рыба. А так… За разговором и дорога бежит быстрее, и шагается легче. Это же факт!»
Решетько оглядывается назад. Следом за ним, согнувшись под тяжестью винтовки, скатки и вещмешка, понуро плетется Егорка. Нос его в росе, по щекам текут ручьи пота. Над спиной, опаленной солнцем, поднимается пар.
Решетько ставит на свое место одного из солдат, пристраивается к Егорке, берет у него скатку, вещевой мешок, ободряюще толкает локтем.
— Крепись. Нет таких гор, которые не перешел бы русский Егор. Разумеешь?
Егорка усмехнулся:
— Веселый вы, товарищ ефрейтор. С вами и на смерть легче идти.
— Это на какую такую смерть?
— Сами знаете. Не к теще на блины едем. Самураи — они сильные. Американцы с ними уже пятый год воюют. А китайцы и целых десять.
— Война войне рознь, браток. И Федора воевала у забора. Она Дарью веником, а та решетом. А у нас вон, слышишь, какие «веники» под горой грохочут? Все к едрене фене сметут.
— Взаимно, — вздохнул Егорка. — Кого-то мы, а кто- то и нас.
Решетько дружески тронул за локоть Егорку.
— Вот в точности такая же хандра и на меня перед первым боем напала. Обмяк я, как мочалка в бане. От преждевременного испуга даже заикаться начал. Дрожь в коленях образовалась, как у новорожденного телка.
Иду по траншее, а командир отделения смотрит на меня и, улыбаясь, говорит: «Что это вы, товарищ Решетько, кренделя задом выписывать начали, как форсистая кокетка?» Стыдно было сознаться, так я на вывих в коленной чашечке все свалил. «Еще с детства у меня такая дамская походка, — говорю, — неизлечимая». А сам сел на ступеньку траншеи и давай прощальное письмо своей ухажерке писать. «Так, мол, и так, дорогая. Кончается наша распрекрасная любовь, гаснут зорьки поцелуйные. Через несколько минут меня и в живых не будет. В точности я еще не знаю, чем кокнет меня — пулей иль осколком, но чую сердцем и коленями, что приходит каюк. Рад бы сказать точно, где будет могилка моя, но не могу. Неизвестно еще, на каком фланге будет наступать наша рота. Сообщаю лишь на всякий случай общие ориентиры. Горелый лес правее Дунькина, не доходя семь верст до Распрягунькина. Тут-то и найдешь ты меня в безымянной могиле. А в точности, где меня закопают, тебе полковые писаря отпишут. Моя же просьба к тебе предсмертная. На том месте, Грунюшка, где мы с тобой полюбовно встречались, посади на память обо мне рябинушку. Только молю тебя всеми святыми: не води туда кого-то другого, а иначе… Ты знаешь — я человек решительный, ревнивый, и трудно сказать, что будет со мною. Либо его убью, либо тебя прикончу».
— Как прикончите? Вы же погибать собрались? удивился Егорка. — Несуразица выходит.
— Вот то-то и оно, что несуразица. Написал я все это и задумался. «А ведь чем черт не шутит, когда бог спит. Возьмет Груня да и приведет на обрыв другого. Не лить же ей вечно слезы. Благо и погибну я, как видно, без подвига. А коль вовсе узнает, что пал по трусости, еще и перекрестится: „Туда ему и дорога, зайцу косорылому“».
Четыре худощавых паренька, идущих впереди, впервые засмеялись, пошли веселей. Правофланговый оглянулся. Решетько подмигнул ему:
— Вот так-то, брат. Кисло мне стало. Вся картина живо представилась. Небо в звездах. Малиновый закат. Речка в лилиях. Ошалелые соловьи в кустах. И такое тут зло меня взяло, что вибрации в коленях как не бывало. Перекрестил я, братцы, все написанное и внизу размашисто приписал: «Глупость эту насчет моей погибели ты выкинь, Грунюшка, из головы. Не таков я, милашка, олух царя небесного, чтобы смотреть с того свету, как кто-то будет тебя под соловьиный свист целовать. Не выйдет! Сто смертей пройду, а к тебе приду, Грунька моя разлюбезная».
Под скаткой у Решетько жарко блеснули два ордена Славы. Егорка с завидным восторгом посмотрел на них и подумал: «Счастливый. И вправду к Груньке своей дойдет. Полсвета вон прошел, и ни одна пулька не зацепила».
— Решетько! — раздался окрик справа. — Вы опять за свое!
Степан оглянулся. Потный, седой от пыли старшина, шагая по обочине, предупреждающе грозил пальцем:
— Ох, и получите у меня. Получите, уважаемый кавалер Славы.
— Молчу, товарищ старшина. Как рыба, молчу, — ответил Решетько. — Беру рот на замок.
Как ни трудно было удержаться от соблазна, а до нового привала Решетько молчал. Зато едва в голове колонны прозвучало: «Привал!», как он сейчас же закурил для пущей важности папироску и, подсев к трем изнывающим от жары и усталости новичкам, заговорил:
— Вот так, ребятки, учись приказ выполнять. Сказал командир: «Замри», — и замри. Сказал командир: «Лезь в огонь», — и лезь. Приказ — это святая святых для солдата. Это веление твоей земли, которую отечеством зовем. Чуть же ослушался — пиши пропало. Шельма неисполнительность в такие дебри заведет, что и во сне не снилось. Со мною лично случай был. Сплошной курьез.
Несколько солдат, сидевших в стороне, придвинулись поближе. Веснушчатый Егорка уже заранее сморщил в улыбке нос.
— Смешной? Аль грустный?
— Какой там смех. И рассказывать неохота.
— Ну все равно расскажите.
— Так я и говорю. Шли мы по Украине. Не просто, разумеется, шли, а с боями, обхватами и обходами, как это геройской армии и полагается. Одно село от фашистов очистили, другое… А в третьем догоняет нас бабенка лет тридцати. Чернявая такая, кругленькая, с ямочками на щеках. Увидела командира взвода и к нему: «Ой, лишеньки! Помогите. Вызвольте из беды». — «Что такое? Из какой беды?» — спрашивает взводный. «Мины в саду у меня. Мины, якись черт насував. Ни в хату войти, ни в клуню. Разминуйте меня. Слезно прошу. Ну, что вам стоит одного солдатика послать. Ну, хотя б вот цего хлопченка, — и показывает пальцем на меня. — Он, мабуть, отважный, сообразительный. Он швидко (то бишь— скоро) с минами справится. Там их штук пять, не больше». — «Пять так пять, — говорит командир и подзывает меня — Ступай-ка, Степан, разминируй. Да будь осторожен. Как бы ловушек да „лягушек“ не было. А как кончишь, не мешкая, догоняй. От развилки на Хорол пойдем. Понял?» — «Так точно! — ответил я. — Все извлечем. И „лягушек“ и „квакушек“. Пошли, гражданочка. Где там у вас заложен фугас?»
Решетько посмотрел на пригорок. Там, сидя, лежа на скатках, прислонясь спиной к камням, маялись разморенные жарой солдаты из второго взвода. Степану жалко стало этих, еще не втянувшихся в походную жизнь парней, и он, желая их подбодрить, отвлечь от изнуряющей жары, заговорил еще громче:
— Ну, вышли мы за околицу. На отшибе, у подсолнухов хатенка стоит. Стены обшарпаны, крыша грибами поросла, сад и двор в запустении, сразу видно: хозяйство без мужчины. Скособоченная калитка так и просит гвоздей и молотка. Но я тороплюсь. Не до калиток. Мне мины врага подавай. Надел я наушники, миноискатель в руки и пошел по саду. Туда, сюда поворачиваю, прочесываю местность вдоль и поперек. Но что за чудо! Нигде не пищит. Ни звука. Только в одном месте попался кусок от лемеха. Вхожу осторожно в хату, шарю в углах, под лавками, под столом. Прослушал даже гору подушек и мягкую постель. Ни единой. Даже зло взяло. «Вы что ж, — говорю, — морочили мне голову, гражданочка? Какие мины? Где они? Сон вам, что ли, приснился? Сколько времени потеряно впустую. Ночь уже на дворе. Беги теперь, догоняй свою роту, солдат». А она, чернявая, этак горестно вздохнула и говорит: «Прости меня, солдатик, что про мины наговорила. Их и вправду нема в саду. Не затем я звала тебя. Не затем, коханый. Просто угостить мне одного из вас хотелось. Отблагодарить за вызволение от ворогов поганых. И я богом молю тебя, солдатик, посиди за моим столом, отведай, что сберегла для праздника такого. Не обижай горьку вдову. Три года в хате мужчинского духу не было. Не на бойком месте хата стоит. Как отступали, мимо прошли, и теперь… Ты хоть покури тут. Покури, солдатик. Пусть хоть дымком твоим попахнет, родимый».
…С пригорка откололся большой косяк солдат. Кто-то уже придвинулся так близко, что дышал в затылок. Безучастен был лишь старослужащий Иван Плахин. Он-то наслушался за четыре года войны решетьковских побасок и давно уже знал, что нет у него ни Груньки, о которой тот только что рассказал, не было, как помнилось, и случая с Галкиными минами… А вот поди ты, верилось. Верилось потому, что, выполняя приказы командиров, Степан и в самом деле был до самозабвения исполнительным и не раз кидался в пекло боя, что называется, лез в огонь и в воду.
А Решетько, ликуя в душе, что вот и еще солдат к нему подвалило, как ни в чем не бывало продолжал развивать историю.
— И встал я, братцы, в тупик. Что делать? И роту надо догонять, и вдовицу жалко. Поступишь грубо — чего доброго, кинется сдуру в петлю. Женщины — они ведь народ отчаянный. Не то что некоторые солдаты перед боем. Опасности ни шиша, а у него уже в пятках душа. Ну думал я, думал и решил: посижу часок, а там сниму сапоги и айда босиком на большак. В общем — сели за стол. По чарке выпили. Разговорились. Я то да се, о дороге, о строгостях начальства речь веду, а она горячим плечом прислонилась и, чую, все больше к лирическим темам клонит разговор. Вот, мол, пух о подушках отборный, из жирных гусей, а в перине и того лучше — смесь куриного с индюшачьим и что поспать, мол, солдату на такой постели после того, как он три года на хворосте провалялся, и сам бог повелел.
— А вы-то что? Вы? — спрашивали позади.
— Да что ж я. Посмотрел на перину, подушек гору и говорю: «Постель ваша богата, но не для солдата. Извините, Гарпина Петровна, а мне пора». И только встал я, а она цоп меня за рукав: «Не пойдешь ты, солдатик. На коне поедешь. Конь у меня добрый есть. Мигом до Хорола домчит». — «Ох, обманываете вы меня, Гарпина Петровна. Откуда же взялся у вас конь? Я же все клуни проверил. Там и духу конского нет». — «А я его не в клуне, а в подсолнухах держу, — отвечает она. — Идемте, сейчас покажу». Приходим за хату в подсолнухи, а там и вправду конь. Слышу — фыркает, что-то жует. Для пущей точности я еще гриву его ощупал, ноги, хвост. Нет, конь как конь, без подвоха. Садись и скачи. Вот удача-то, черт побери! И выспаться можно и вовремя на большак успеть. Взял я вдовицу под ручку и говорю: «Остаюсь, Гарпина Петровна. Так уж и быть. Проверим, каков он, индючий пух…»
Решетько многозначаще пригладил кулаком воображаемый ус.
— Ну, обложила она меня подушками, как императора, сама села рядком. Голова колесом пошла. Одурел я, братцы, и уже не помню, что дальше было. Скажу лишь одно, Слово свое Тапка в точности сдержала и разбудила меня ни свет ни заря. Конь с подвязанным вместо седла мешком соломы уже стоял у крыльца. Хозяйка расцеловала меня на прощанье, сунула в руки узелок с какой-то снедью, трижды назвала село, чтоб не спутал после войны дорогу к ней, и я, хлестнув коня хворостиной, помчался. Как вихрь помчался. Но… — Решетько тяжело вздохнул. — Не успел я, братцы, и версты отъехать, как Гапкин мерин с лихого галопа перешел на мелкую рысь, а потом и вовсе остановился, чтобы его волки драли.
Слез я с него, ощупал опухлые ноги. Так и есть. Опоенный, скотина. Дохлого подсунула. Как дурака надула. Ах, шельма чернокосая! Чтоб тебе тошно с этим мерином было! Сунул я в брюхо коня сапогом: «У, клятущий!» А он повернул ко мне голову с мутными глазами и только тяжело вздохнул: «Эх, дурень, ты, дурень. Разве я виноват, что ты бабьей ласке поддался, пронежился на перине? Стар я да и слеп, и ничего ты из меня уже не выжмешь. Ступай-ка, братец, на своих двоих. Спасай свою репутацию моченую».
Решетько покачал головой, умолк. Вокруг него уже собралась вся рота. Егорка тронул за плечо.
— И что же вы? Как?
— Да что же я… Снял сапоги, включил свой вездеход на третью и пошел. Только ветер в ушах, только пыль из-под пят. Сорок семь верст отмахал без передыху. Все подушки с перинами проклял, час и день соблазна. И когда нагнал роту, гимнастерка на мне, верьте иль нет, вся в клочья полезла. Пот съел ее подчистую.
— Зря бежал, — заметил один из солдат. — Рассказал бы. Простили.
— «Зря бежал». Эх, парень! А совесть где? Слово солдата? Нет, брат, коль дал командиру слово, то дух вон, кишки на телефон, а сдержи его. Так, хлопцы, что ли?
— Так! Конечно! — зашумели вокруг.
А тут горнист и подъем грянул. Встали с пчелиным гулом бойцы, вспоминая Гапку, на дорогу весело повалили. Словно и марша не было, и усталость с плеч.
Подошел старшина, тронул ус кулаком:
— Ну и бес ты, Степан. Спасибо!
18
В ночь на девятое августа 1945 года на советско- маньчжурской границе очень долго и беспокойно выли шакалы. Бойцы объясняли это всяк по-своему. Одни говорили, что, мол, шакалы услыхали запах кухонь и всполошились, другие утверждали, что причиной всему кусачие блохи, третьи строили предположения насчет устрашающей выдумки японцев. Кто-то даже пустил слух, будто по всей японской армии издан приказ, предписывающий всем солдатам выть по-шакальи, чтоб русские не могли уснуть и набрались перед боем страху.
Степан Решетько, заинтересованный в крепком сне не меньше, чем другие, опроверг все эти слухи и домыслы начисто. Высунув голову из-под плащ-палатки, он оглядел лежавших вповалку по траншее бойцов и тоном знатока сказал:
— Все, что тут говорилось, — брянская липа. Сказки моей бабушки.
— Это почему? — спросил, повар из комендантского взвода.
— А потому, что почитай Фому. Понятие в животных надо иметь. В деревне каждая баба знает, что собака воет к беде, к погибели своей. А шакал, он кто? Та же собака, только дикая. И воет он вовсе не по твоему гороховому супу, дорогой шеф-повар. Нюхать он его хвостом хотел. Он, брат, избалован на куропатках да на оленях. Ему фазана подавай. А ты суп, концентрат. Не зазнавайся, милок.
— Да и ты не загибай, — отозвался повар. — Там люди с голоду мрут, собак поели. А ты… фазаны.
Решетько быстро поправился.
— Ну, не фазаны, так еще что-нибудь. Какая разница. Только не с голоду. Уверяю. Голодные скулят, лают. А эти слышь? На погибель императора Хирохито воют.
С ближних пограничных сопок донесся нагнетающий тоску и жуть вой нескольких шакалов. Они тянули разноголосо и в разных местах.
— Ав-ав! А-у-у! — гнусаво выводили старые.
— Тяв-тяв! Тя-у! — подпевал молоденький голосок.
— Чтоб вы подохли, — выругался Егорка, натягивая на голову полу шинели. — Поспать, проклятые, не дадут.
— Ничего, — проговорил Решетько. — Пусть напоследок повоют. Недолго им осталось. Часика три, четыре…
В предсказаниях Решетько была большая, доля истины. В ту ночь шакалы выли на маньчжурских сопках и в самом деле в последний раз. В шесть утра, когда на небе только что заиграли первые солнечные блики, безмолвные солки Маньчжурии вдоль Амура и Уссури содрогнулись от тяжелого удара тысяч русских орудий и лавинного обвала гвардейских минометов. Языки огня кромсающе заплясали по голой, иссохшей земле. В небо взлетели тучи пыли, камней и дыма. С траншей, расположенных на южных скатах, было хорошо видно, как огневой вал, сметая все на своем пути, ползет все выше и выше на сопки, окутывая их черным саваном. Но вот огонь перевалил за сопки, и сейчас же над изготовленными к бою ротами, батальонами, пехотными и танковыми полками повисли красные сигнальные ракеты, означающие одно лишь всемогущее слово: «Вперед!»
Дымные хвосты еще таяли над головами, а солдаты уже выскочили из траншей, укрытий и, вытягиваясь цепью, беря на изготовку оружие, двинулись на почернелые от разрывов вражеские сопки. Бежать тут было нельзя. Круто, да и с полной выкладкой тяжело. Каждый нес большой запас патронов, воды, противотанковых и ручных гранат. Люди просто шли чуть ускоренным шагом, одни, слегка пригибаясь, прячась за камни, другие, надеясь, что у врага все перепахано снарядами, во весь рост.
Степана Решетько судьба-злодейка свела в наступлении с Иваном Плахиным — человеком, который совсем недавно мял ему в вагоне бока. Не хотелось попадаться ему на глаза, да что поделать. Приказ командира— закон. А закон этот гласил: «Солдатам Плахину и Решетько обеспечить продвижение роты по тропе к перевалу. В случае оживления дота скрытно подползти и уничтожить его».
Вначале Решетько надеялся, что артиллерия разнесла в пух и прах японские укрепления на высоте и ему не так уж долго придется напарничать с Плахиным. Займет рота перевал, и он, как и прежде, будет идти вместе с молодыми солдатами. Но это предположение не оправдалось. Не успела рота пройти и ста метров, как с голой сопки, куда вилась дорога к перевалу, ударил крупнокалиберный пулемет. Солдаты посыпались наземь.
Плахин свалился за камень, чуть высунувшись из-за него, осмотрел скат высоты. Увидеть дот днем было трудно. Всюду в хаотическом беспорядке валялись камни, чем-то напоминающие огневые точки. Но все же натренированным, опытным взглядом Плахин успел отличить красный куст травы от пляшущего языка пулемета. Это же заметил и Решетько. И они оба, не сговариваясь, поняв друг друга без слов, поползли.
Путь им предстоял дальний и трудный — метров триста по открытой местности, усыпанной обвальными камнями и острым кремнем. Во время тактических учений на преодоление такого расстояния уходило добрых минут тридцать. Сейчас же вдобавок ко всему над головой свистели пули, и, прежде чем двинуться дальше, приходилось тщательно выбирать надежное укрытие.
Плахин полз торопко, далеко выбрасывая вперед правую руку, зажавшую автомат, молча посапывая и сплевывая сбитый с сухотравья песок. Решетько же ни ползти, ни лежать молча не мог. Молчание для него было мучительнее, чем острые камни под коленками. Он уже не обижался на Плахина. Нет. Сейчас ему даже стало жалко его. Он, Иван Плахин, и под пулями, поди, думает о ней — рязанской девчонке. Да и как не думать, когда до нее, может, осталось каких-то пять, десять дней воины: с самураями-то долго цацкаться не станут — опыт какой, да и сила! А на пути вон хлещет и хлещет проклятый пулемет, словно пронесло его, будто патронов там горы.
Решетько плечо в плечо поравнялся с Плахиным и, чтобы как-то заглушить душевную тоску товарища по девчонке, отвлечь от нелегких мыслей, весело кивнул:
— Эх, и случай был у меня с молодкой одной!
Плахин подтянулся на локтях вперед, вздохнул:
— Ах, черт! Даже под пулями неймется тебе. Ползи. Там рота ждет, батальон…
— И сие мне известно, — ответил Решетько. — Может, сам командующий стоит сейчас на сопке и смотрит, как два солдата ползут у смерти на виду.
Рядом листом разорванной бумаги треснула мина. Мелкие камни секанули по каске. Ослабный осколок, нудно пропев над ухом, шлепнулся где-то близко у ног. В нос ударила гарь. Решетько чихнул:
— Вот и правда. Будь осторожней, Иван. Очнулся Хирохито. Как бы не заметил, гад.
— Ты за собой гляди. Прижимайся ниже.
— Ладно, — буркнул Решетько и, обогнав Плахина, быстро пополз впереди него по лощине.
«Мне-то, в сущности, и погибнуть не грех, — рассуждал он. — Кроме вымышленных и выдуманных невест, никто и плакать не будет. А ему никак нельзя. Его и Рязани девчонка ждет. Как, говорят, она бежала в тот раз за вагоном! Как бросала цветы! Неспроста. Влюбилась, видать».
И еще думал Решетько о тех необстрелянных молодых солдатах, которые лежат там, позади, и смотрят первый раз смерти в глаза, о командирах, ждущих, когда захлебнется дот и войска хлынут через перевал, о том салюте, который, может быть, сегодня хлобыснет в вечернем небе Москвы и озарит заплаканные в радости глаза матерей.
Плахин же, как никогда, волновался за Решетько и старался обогнать его, прикрыть собою. «Случись что, — думал он, — и рота осиротеет. Где есть еще весельчак такой? А потом Катря. Какая-то искра горит у нее к нему».
До дота оставалось метров двадцать. Сбоку, из-за камня, Плахин уже отчетливо различал в амбразуре скуластое лицо самурая. Он злорадно скалил редкие зубы, щурил раскосые глазки и, широко поводя стволом, строчил, не жалея патронов. Тело пулемета, установленное на треноге, тряслось как в лихорадке, рвалось из рук, захлебывалось огнем. Пустые гильзы сыпались, как остья из молотилки.
— Ах, шакал! — скрипнул зубами Плахин. — Ну погоди же.
Он быстро обогнал Решетько и в тот момент, когда тот, лежа на боку, вынимал из чехла противотанковую гранату, первым вскочил на ноги, пробежав еще шагов пять, чтоб сблизиться и попасть наверняка, чуть прицелившись, метнул в пасть дота тяжелую «толкушку». Качнулась земля. Вздыбились камни. Умолкла японская «молотилка». Но еще минутой раньше, когда граната летела в дот, скуластый самурай успел рвануть ствол вправо и нажать на гашетку.
Рой пуль прошил ноги Плахина. Он сразу потерял опору и рухнул как подкошенный. В первые секунды ему показалось, что на ноги кто-то просто плеснул кипятком. Но когда попытался вскочить, страшная боль резанула по телу, и он, корчась, обнимая колени, мучительно застонал:
— У-у… что же это? У-у…
Подбежал Решетько, склонился над Плахиным.
— Ваня! Что с тобой?
— Ноги… Да не стой же. Беги. Там еще дот. Слышь?!
Решетько вовремя плюхнулся за камень. По нему справа ударил другой пулемет. Откуда он взялся, было непонятно. Либо пулеметчик из основного дота остался жив и подземным ходом перебрался в запасной, либо это появилась отдельная огневая точка. Гадать было некогда. Рота уже поднялась в атаку, а он, дьявол, уже снова остервенело строчит.
— Ах, гад!
Решетько распластался по земле и кошкой пополз к доту, оборудованному под огромным материковым камнем. Швырять туда гранату было бесполезно. Точно в амбразуру не попадешь, а камень и пушкой не свернуть. Надо подползти. И только туда. Только к самому гнезду.
Оно уже близко, совсем близко. Лижет щебень своим змеиным языком пулемет.
Перед амбразурой ни единого камня. Решетько свернул вправо, прополз немного как бы назад и, зайдя к доту с тыла, взбежал наконец-то на него. За камнем, как в наливной цистерне, торчал круглый железный люк. Решетько попробовал его приподнять, но не смог. Люк был плотно задраен. Что же делать? Как заткнуть твою пасть? Да вот же чем, а ну-ка! Решетько с трудом приподнял большущий камень.
— За Ивана! — И ударил по изрыгающему огонь стволу.
Пулемет умолк. На сопке на какие-то секунды наступила тишина, но сейчас же снизу донеслось нарастающее «ура!». Обрадованные солдаты хлынули на высоту. Решетько смахнул рукавом гимнастерки пот с лица, спрыгнул к люку и деловито постучал прикладом в чугунную крышку.
— Эй, господа! Вылазь. Кончилась ваша власть.
Тишина. Лязг железа. Всхлипывание. Опять тишина.
— Ну, я долго вас буду ждать, шакалы? — обозлился Решетько и еще сильнее забарабанил прикладом.
Люк медленно приподнялся, и из него показались тонкие, почти детские руки, закованные в цепи, а за ними и перепуганное, желтое, как печеное яблоко, лицо японца.
— Я. Моя… Хирохито. Не я… — залопотал он, кивая вниз, на пулемет.
— Вылазь. Не оправдывайся. Стрелял же, рыжий черт. Убивал. Ну!
Японец замотал головой, подергал цепь. Конец ее зазвенел где-то у пулемета.
— А! Смертник! — догадался Решетько. — Прикован, значит. Не доверяет тебе Хирохито. На цепь посадил, как собаку. Ну и сиди, черт с тобой.
Подбежал, запыхавшись, Егорка. Лицо его было и перепугано и безмерно радостно.
— Товарищ ефрейтор! Степан Назарыч! Живы?!
— А куда ж я денусь. Черта вот поймал. Погляди за ним. А я побежал.
— Куда?
— Иван там… Плахин ранен.
На том месте, где лежал раненый Плахин, было уже пусто. Только валялся кусок окровавленного бинта да меж камнями случайно выпавший портсигар. Плахина же, как видно, успели унести подоспевшие санитары.
Решетько поднял расписанный незамысловатыми цветками портсигар, грустно повертел его в руках. Это все, что осталось у него от друга, с которым прошел всю войну, которого так любил. Как там он? Успеют ли довезти в медсанбат? Доведется ли увидеться когда?
19
Первый звонок. Но первый ли? Сидя за академической партой, Сергей Ярцев припомнил давно минувшие дни учебы и незабываемый школьный звонок. Был первый звонок в техникуме, на курсах трактористов, в пехотном училище и вот теперь в самом высшем военном учебном заведении — в академии. Долго, величаво льется торжественная мелодия колокольца. Сердце учащенно бьется. Когда-то с братом Костей мечтали об академии, институте… Костя не дожил до этого, погиб под Нарвой. А Сергею вот повезло. Он уже слушатель, большой человек. Радуйся же и за брата и за себя. И ничего нет стыдного, что щеки горят, что места не найдешь своим рукам. Не один ты волнуешься сейчас, как первоклассник. Макар Слончак вот старше тебя, а нервно комкает бороду, затаенно глядит на дверь. Алексей Проценко расчесывает, в который раз, свои густые, как шапка таджика, волосы. Только Яков Азарсков внешне спокоен. Он все еще верит, что его скоро демобилизуют и он опять будет учительствовать в своей Алгасовке.
В класс вошел пожилой бледнолицый полковник с большими вразлет усами, распушенными на концах. На гимнастерке у него поблескивал орден Красного Знамени. Орден был без ленточки, видимо за Хасан или вовсе за гражданскую войну. Все встали, затихли в ожидании команды.
— Прошу садиться, — положив — папку на стол, сказал полковник и подал знак кивком головы. — Начнем наше первое занятие, товарищи. Занятие по тактике. Ну, а до этого давайте познакомимся с вами. Я начальник кафедры. Фамилия моя Сентюрин. Величать Кузьмой Демьянычем. Воевал на границе, под Москвой. А после ранения вот тактику преподаю. Вот коротко и все обо мне. Учиться нам еще долго. После поближе познакомимся.
Полковник раскрыл папку, взял из нее толстую рабочую тетрадь и, ставя цветным карандашом точки, начал называть фамилии. Азарсков! Груздев! Ефремов! Моторин! Мороков!.. И каждого офицера преподаватель окидывал быстрым, изучающим взглядом, напутствовал доброй улыбкой и мягким словом «так». А когда список оказался исчерпанным, встал, удовлетворенно разгладил кулаком усы, заговорил:
— Вижу я, ребята вы боевые. Пороху понюхали изрядно и отведали, почем фунт лиха. Грудь вон у каждого, как говорят, в крестах. Герои! Орлы! Все это радостно, конечно, и хорошо. Но, дорогие мои, давайте на время забудем, что мы Чапаевы, Багратионы, а станем гем, кем и должно быть, — слушателями, учениками. Так будет и вам проще, и мне полегче. Что же касается ваших фронтовых знаний, то их складывать в вещевой мешок не следует. Делитесь ими не скупясь. Не обедняете. На занятиях будьте посмелее. Спорьте. Ну, а если где я ошибусь, поправьте. В тактике не может быть шаблона. Тут творчество нужно. Уразумели?
— Уразумели, — прогудел класс.
— Ну, а раз так, то и начнем. Кто из вас желает выйти к доске?
Зал молчал.
— Нет желающих? Боязно в первый раз. Сам был таким. Да-а… Тогда придется по списку. — Он заглянул в тетрадь и громко выкрикнул: — Товарищ Слончак!
— Я! Есть! — бодро встал Макар-бородач.
— Прошу вас, товарищ подполковник. Давайте с вами небольшую задачу решим. Определим наиболее выгодную позицию для обороны стрелкового взвода.
Звеня медалями, высокий, плечистый Макар Слончак широким шагом подошел к доске, деловито разгладил бороду и, глянув на рисунок трех высот, улыбнулся.
— Це проще пареной репы. Я на фронти таки задачки мигом решав.
— Вот и хорошо. Вам и карты в руки, — протянул кусок мела полковник и, обернувшись к доске, пояснил: — В районе обороны нашего батальона две высоты. Прошу определить, какую из них лучше занять стрелковому взводу. Только непременно, чтобы высота господствовала над другими.
Макар качнул бородой.
— Як же я определю, если на них нема отметки, не указано, яка высота?
— А уж это я не знаю. Решайте.
— Тоди я б у вас карту попросив.
— Карта есть. Но на ней по каким-то обстоятельствам высота не проставлена.
— Тоди я пешком пиду, поднимусь на одну из них и побачу, яка з них най выше.
Все засмеялись, а полковник дружески положил руку на плечо Макара.
— Дорогой мой практик, ходить-то некогда. Надо сейчас, в штабе батальона решить, чтобы предварительно прикинуть, что и где разместить.
Макар недоуменно пожал плечами.
— Як же тут буты? Отметок же нема. И надо ж було топографам цифры поставить забыть!
— В таком случае, — вздохнул полковник, — как на Бородинском поле, попросим помощи. Кто желает помочь?
— Я! — поднял руку Сергей.
— Ваша фамилия?
— Майор Ярцев.
— Прошу, товарищ майор. Помогите товарищу, попавшему в беду. Вы, кстати, кем на фронте были?
— Рядовым бойцом, политруком стрелковой роты и там же командиром.
— Очень кстати. Командир роты обязан это хорошо знать.
Сергей взял из рук Макара указку и мел.
— Для того чтобы определить, какая высота господствует над какой, надо прочертить линию по вершинам от точки А до точки Б. — И лихо черкнул мелом по доске.
Полковник усмехнулся в ус.
— Новый практик. Хорошо. А ответ неточный. Да, да, товарищ майор. Поверхностный, как эта ваша линия, и неточный. Во-первых, на местности линейкой по воздуху не будешь чертить. А во-вторых, нам нужно определенно знать, на сколько высота Безымянная поднята больше Круговой.
Сергей смутился. Глаза уставились в исклеванный сапогами паркет. Где-то над ухом тяжело вздыхал и растерянно бормотал Макар Слончак.
— Шоб ты сказалась. Шоб ты сгинула. Легче сапоги тачать. Ох…
Сергей помнил, что когда-то в эскадроне решали эту задачу, определяли высоту многих гор. Но было это в сороковом году, и за время войны он все забыл. Все подчистую. И как ни напрягай мозг, вспомнить, видно, не удастся! Какая досада! Это уже второй провал в первый же день. Час назад на предварительной проверке по русскому языку сделал восемь ошибок и получил кол. А теперь вот еще… Не слишком ли много для тебя, Сергей? И что теперь будет? Не отчислят ли из академии, как уже отчислили троих?
Сергей на минуту представил, как он, не солоно хлебавши, не проучившись и недели, возвратится в часть, как поползут ужом насмешки, с каким огорчением встретят его провал Вера, полковник Бугров, и еще ниже опустил голову.
Барабаня пальцами по столу, минут пять молчал и преподаватель. Потом за спиной тяжело проскрипели его сапоги, послышался безнадежный вздох и кратким приговором протяжное «да-а-а».
20
Майская встреча с Плахиным все перевернула в жизни Лены. Куда делись грусть одиночества, тоска по родному городу! Теперь она и вовсе не думала об отъезде в Ленинград. Тихие, маленькие Лутоши стали для нее самыми близкими, самыми отрадными, без которых она уже и не мыслила жить. Старенькая хата, крытая с улицы железом, а с надворья тесом, была теперь для нее своим домом, будто родилась здесь и росла.
А Плахин?.. Был он перед ее глазами неотступно, неукрытно, как солнце ясным днем, виделся он ей во сне почти каждую ночь. Он то одарял белокипенной черемухой, то шел рядом смущенный и от счастья немой, то обнимал своими сильными, горячими руками. А когда пытался поцеловать, Лена почему-то испуганно вскрикивала: «Ой, не надо!» — и просыпалась. А потом, вздыхая, обнимала подушку и очень жалела, что обидела его. Если бы это было наяву, разве так бы поступила она!
Лежа в постели, Лена в тысячный раз думала о том, как встретит его, какие скажет слова, как будет с ним вместе, мысленно пыталась представить его там, на дальневосточной границе, среди тех улыбчивых, веселых солдат. Пыталась и не могла. Мысли уводили ее снова и снова к весенней Оке. Только один раз ей приснились дальневосточные сопки, точно такие, какие видела однажды в кино. Только над ними не светило солнце, а плыли черные, как печной дым, тучи. Шел дождь, и Плахин сидел под кедром, укрывшись плащ-палаткой, грустный и очень бледный.
Утром Лена рассказала об этом сне Архипу. Тот задумчиво помял бороду, успокаивающе сказал:
— Печалится он о тебе. Глядишь, и письмецо напишет.
Письмо и вправду пришло. Плахин писал, что у них все пока без перемен, идет мирная учеба, но в одном месте намекнул, что тучи сгущаются и, наверное, будет гроза. Но тут же успокаивал: «Не волнуйся. Все будет, как надо. Не промокнем. Любую грозу перенесем. Береги себя. А я приеду. Непременно приеду. Пешком с края земли к тебе приду».
Это было последнее письмо от Плахина. Тщетно ждала Лена хоть какой-нибудь вести от него. С надеждой встречала почтальона Витьку. Бывало, он еще издали размахивал письмом и кричал: «Танцуйте! Танцуйте! Вам письмецо». Теперь же только качал головой и сочувственно вздыхал: «Опять нету».
Вот уже и война кончилась с Японией. Всего только несколько дней прогрохотала она. Снова, как и в мае, в Рязань прибывали эшелоны с демобилизованными. А Ивана все не было. И писем — ни одного.
«Что же с тобой случилось, Ваня? Где ж ты затерялся? Почему молчишь, миленький мой? — в тысячный раз спрашивала Лена. — Не верю, что ты погиб. Не хочу верить. И разлюбить ты меня не мог, и нашу ночь в шалаше не забыл. Ты не такой. Ты самый хороший. Это, наверно, почта во всем виновата. Ты пишешь, а письма где-то пропадают. Такое было и у подружки Ани. Шесть писем от ее жениха заслали вместо Лугоши в Лаптеши, а потом принесли все сразу».
Убедив себя, что во всем виновата почта, Лена попросила у председателя колхоза Веры Васильевны лошадь и поехала в город сама. Девушки из районной почты перерыли все залежалые корреспонденции, звонили в Лапте- ши, но писем со знакомым почерком и угольником «полевая почта» нигде не было.
Печальная, растерянная, возвращалась Лена в заокские Лутоши, ставшие теперь далекими и сиротливыми, непонятно зачем построенными в такой бездорожной глуши.
Моросил мелкий дождь. Грустно попискивали в кустах синицы. Старый, горбатый конь, поскрипывая хомутом и дугою, лениво брел по дороге, загребая ногами опалую листву. Колеса, чавкая в ступицах дегтем и пьяно качаясь, не спеша отмеряли свои извечные метры узкой колеи.
Укрывшись ряднухой и поджав под себя озябшие ноги, Лена сидела в передке, безучастно глядела на пожелтевшие деревья и думала о нем — запропавшем, оставившем ее одну под этим серым, беспросветным небом.
Как дальше быть? Что делать ей, не бывшей замужем и дня, но прозванной всеми в деревне «Ивановой женой»? Уехать теперь из Лутош она, конечно, не в силах. Слишком глубоко в душе живет память о вокзальной встрече, ночь на Оке и вот этот его подарок — желтые туфли. Она носила их только в праздники, а теперь и вовсе положит в сундук, как самую дорогую память. Если бы знать, что его нет в живых, она бы сегодня надела и всю жизнь носила черный, платок, пусть бы звали вдовою. Но сердце почему-то не верит, что его нет, что он не вернется. Мысли упрямо возвращаются к предстоящей встрече. Первыми, конечно, его замечают на улице ребятишки. Они все бегут к хате и кричат: «Тетя Лена! Лена! Ваш дядя Ваня идет». Она выхватывает из шкафа платье и успевает надеть его. Нет, она бежит ему навстречу в чем есть, такая, как есть, и с лету виснет у него на шее. Они целуются долго, тысячу раз. А люди смотрят в окна, с палисадников, крылец и, завидуя, вздыхают: «Счастливая. Дождалась…»
Из придорожных кустов на дорогу вышел заросший косматыми волосами человек в черном пальто и солдатским вещевым мешком за плечами. Лена вздрогнула и растерянно натянула вожжи, не зная, что ей делать: повернуть назад или огреть коня кнутом и попытаться проскочить мимо? А пока она думала, космач подошел ближе и приветливо махнул широким рукавом:
— Мир вам, божье дитя. Не пугайтесь. Священник я, как видите, — и вытащил из-за пазухи крест на оловянной цепи, — священник Денисий. Из странствий…
У Лены отлегло от сердца. До смерти напугал бородач. Думала, разбойник какой, а это безвинный поп. Этого можно и подвезти. Пусть едет. Старому человеку идти тяжело.
Она подъехала ближе, остановила коня.
— Садитесь, батюшка, подвезу. Вы, кажется, в Заречье идете?
Поп, приподняв легкую, из черного шелка рясу, полез в шарабан.
— Премного благодарен. Умаялся. Но бог милостив. Вот вас прислал. Далеко ли держите путь?
— В Лутоши.
— А это далече отселе?
— Километров двадцать. А вы разве не здешние?
— Нет, божье дитя. Из дальних странствий я. К сестре своей иду, Варваре-лесничихе. Может, слыхали про нее?
— Знаю, как же. В Заборье живет. Мы туда ходим по ягоды, грибы… Добрая тетушка. Приветливая.
Поп, усаживаясь в задке поудобнее, ухмыльнулся в бороду. Знала б ты ее добродетель. Она, бывшая старостиха Прокла, таких, как ты, двадцать душ под Вязьмой сожгла живьем. Зимой в сорок втором году постучались они, голодные, полуобмерзшие, попавшие с медсанбатом в окружение. «Тетушка, обогреться пусти. На рассвете уйдем». Любезной прикинулась, зябко повела плечами: «Холодно тут у меня. Пойдемте, я вас лучше в баньке размещу. Там парной еще дух». Всех сама уложила и сама же вместе с баней сожгла. За муженька-старосту, вздернутого на осинку, мстила, даже не обернулась на девичий предсмертный крик. А потом пришла в полицию, работала уборщицей, а заодно и опознавала пойманных партизан. Вот она какая добрая-то, Варвара, кроткая лесничиха с кружкой ключевой воды. Да и тот, кто сидит за твоею спиной, наивное дитя, совсем уже не божий безвинный агнец. Не поповская ряса была на нем, а полицейская шинель. Не крест носил он на шее своей, а немецкий автомат. Кого только не косил им! Бог ты мой! И подпольщиков, и партизан, и женщин со стариками, случалось, стрелял и в детей. Сколько лежит их в сырой земле! Один бог только знает да собственная голова. Все шито-крыто, поросло муравой. И никого не жалко. Нет. Только вот такая беленькая, как эта, досель перед глазами стоит. И слова ее, тихие, умоляющие, предсмертные, звучат в ушах: «Не убивайте. Я жить хочу. Жить…» Пощадить бы, пустить на все четыре, но нет. Ударил прикладом по рукам, уцепившимся за спасительную перекладину, и ушла под лед с голубоватыми, полными ненависти глазами.
Тяжкие воспоминания прервала, к счастью, девушка- возница.
— Батюшка, вы в бога верите? — вдруг спросила она, обернувшись и глядя в упор.
— Верю, — вздохнул поп.
— А я нет. И не поверю. Никогда!
— Отчего ж, дочь моя?
— Да как же? Вот бывают люди, которые не делают в жизни никакого греха, а судьба наказывает их, приносит им столько бед. За что? Почему? Куда же смотрит бог, если он есть?
— Грешно так говорить. Грешно, — укорил Денисий. — Бог есть. Он там. В небеси. — И ткнул пальцем в небо.
— Нет, не верю. Нет его. А если бы был, — она глубоко вздохнула, — не допустил бы такого.
— Вижу я, — начал поп, — бог чем-то тебя прогневил. Муторно у тебя на душе. Кромешно. А ты не таи, не прячь свою боль. Выложь ее. Расскажи… Полегчает. Свят бог.
Лена обо всем рассказала. Внимательно, с искрящимся в глазах интересом выслушал ее отец Денисий, а потом положил руку на девичье плечо, кротко сказал:
— Не кручинься, божье дитя. Я помогу развеять беду. Вот Христос: — И перекрестился трижды, что-то шепча.
Лена усмехнулась.
— Чем же вы поможете мне?
Отец Денисий вздохнул:
— А уж это болячка моя. Не гнушайся. Верь. Облегченье придет.
Он слез с телеги, поблагодарил девушку за то, что подвезла его, перекрестился, задрав бороду в небо, и направился к бревенчатому дому, грустившему на полянке под кудлатой сосной.
* * *
Варвара-лесничиха появилась в лутошинском обходе два года назад. Привез ее из Рязани овдовевший лесник Ермила и три дня на радостях пил и лутошинских мужиков поил.
— Счастье мне подвернулось. Клад в руки попал, — хвастался он мужикам. — Гляньте, какую бабу сыскал. Ваши что? Тощие, прогончие. Обхватишь одной рукой. А эта — бомба. Комяга. Зад с мельничный жернов. Пять мужиков нужно, чтоб обнять.
— Ох, гляди, Ермила, — качал головой дед Архип. — На такую комягу надоть и овса того…
— Ничего, сват. Я еще крепкий. Если что, и комягу в дугу согну.
Гнуть из жены дуги Ермиле не пришлось. Через месяц он как-то загадочно и странно умер. По словам Варвары, пришел с обхода, лег, не раздеваясь, прямо в лаптях на лавку и не встал. Местный участковый фельдшер посоветовал ей свезти покойника в Рязань, сделать вскрытие, узнать причины, но она только махнула рукой.
— Нечего живодерничать. Пусть цельным в землице лежит. — И в тот же день похоронила мужа у дороги, под сосной.
Еще до похорон приезжий лесничий сказал, что теперь лесником будет кто-нибудь из лутошчан, чтобы был ближе к народу и знал, у кого какая нужда в бревнах, дровах. Но, переночевав у лесничихи, назавтра объявил, что лесником по наследству назначается Варвара.
Пост этот никого из земледельцев по-настоящему не привлекал, недовольных, протестующих не было, и стала грузная, плечистая, с мужскими подусниками Варвара полновластной хозяйкой лутошинских лесов, а заодно зверья и дичи, водившихся в них.
Лутошинские женщины и в руки боялись взять ружье, а эта проявила такие охотничьи способности, что видавшие виды деревенские егеря только руками разводили да таращили на трофеи глаза. Варвара пачками косила белок, связками пойманных в капканы кротов. За ее спиной болтались лисьи хвосты, заячьи ноги, головы барсуков, и ни одна шкурка не была попорчена. Варвара неизменно стреляла только в глаз. Говорили, будто она прибирает помаленьку и редких лосей, а мясо продает тайком скупщикам из Рязани. Однако прямых улик не было, и слух этот постепенно заглох.
Дважды приезжал туда участковый. Ехал насупленный, злой, готовый перевернуть все вверх дном, а возвращался смиренный, веселый, и почему-то каждый раз за его пролеткой увивались пчелы, норовя проникнуть в прикрытый ковриком задок.
У Варвары всегда водилась водка, и мужики из окрестных деревень при острой нужде посылали к ней то за поллитровкой для гостя, то за чекушкой на болящий зуб. Простудится, закашляет ребенок — опять к Варваре за ложкой меда. Хозяйка никому не отказывала. Всех оделяла то стопкой водки, то ложкой меда, а заодно и страшными вестями об атомной войне или всемирном потопе, о светопреставлении или море скота. Ей, озлобленной в прошлом, просто хотелось мстить людям, делать так, чтобы они жили в страхе, чтобы не шли впрок ни воцарившийся мир, ни радости спокойного труда.
Сегодняшний воскресный день не пропал в этом смысле даром. Она вдоволь напичкала лутошинскую бабку Евлоху, приходившую за нюхательным табаком, сверхужасающими слухами о предстоящем сошествии на землю господа бога.
— Сначала три дня и три ночи будет грохотать гром, — объясняла она. — От этого грома и молоньи осыпятся все листья с дерев и оглохнут люди. После пойдет огненный дождь и спалит все дома и машины. А тогда, как только спадет жара, и случится пришествие — спустится на землю всевышний и кинет клич: «Все живые и праведные, придьте ко мне, поклонитесь в ноги, и я вознесу вас туда». И вот тогда, если будешь, бабка, живая, скорее беги, а не успеешь — бог, поднявши праведных в небо, вообще разнесет в крошки всю землю.
Услышав такое, бабка Евлоха до того перепугалась, что нижняя челюсть у нее задрожала и начала вытанцовывать мелкую дробь. Накинув на плечи шаль, крестясь и охая, она кинулась к двери.
— Ох, господи! За что ж такое? До Лутош бы поспеть ноженьки донести.
Проводив за дверь старуху, Варвара зажгла лампадку и опустилась на колени перед Христом Спасителем.
— Да разнеси, господи, молву о сошествии, огненном дожде и громе по всем хатам и дворам. Да всели в души люда скориотный страх и потрясения. Да отплати им горькими слезами за петлю моего Терентия. Да…
Из сеней донесся стук в дверь. Варвара встала, задула лампадку и поспешила на повторный, уже более продолжительный и настойчивый стук.
— Кто тут? — спросила она настороженно, хотя на дворе было еще совсем светло.
— Открой — увидишь, — ответил кто-то очень знакомым голосом.
Варвара открыла дверь, взглянула на пришельца и обмякла, будто ее ударили по голове долбнею, прислонилась к стене.
— Ты?
— Я, мамань. Я…
— А доченька?.. Палашенька где?
— Погоди. Все объясню. Впусти сначала.
— Ну, что ж… Заходи.
21
Трескучей зимой сорок второго года, когда немецкие войска откатывались от Москвы, в дом старостихи Проклы пришел обер-полицейский Маркел Лизун. Поставив у порога винтовку, он снял черную шапку и позвал Проклу в прихожую.
— Стеснялся говорить я, — начал он, блудно отводя глаза. — Да что ж теперя… Беда на дворе. Откроюсь. Давно мы с вашей дочкой любимся. Ну, как бы поточнее… В общем живем.
Прокла обмерла, покачнулась как подрубленная. Ее родной Палаше не было еще и восемнадцати, а он, этот конопатый пьяница, говорит, что «давно живем». Лютая злоба вспыхнула у нее в груди. Будь ее воля, она бы разорвала этого Маркела в клочья, горло бы перегрызла зубами ему. Не такого зятя хотелось ей. Давно уже приглядела в Вязьме сынка бургомистра. Молодой, красивый, учится на попа. А этот… В два раза старше, сед, конопат. И как только понравился такой, как Палаша ему отдалась! Видно, подпоил, стервужник, и застращал, «Баню» бы устроить за это. Ну, да что после драки… Злостью дело не поправишь. Смириться надо, принять все, как есть. И, подумав так, она сказала:
— Бог вам судья. Только не вовремя это. Красноармейцы вон идут. Вчера уж пальба была слышна.
— Затем и пришел, маманя. Обговорить надо, — сел на лавку Маркел. — Нельзя вам оставаться тута. Никак нельзя. Запросто побьют. На ракиту вздернут. Тикать надо. Ехать, покель не поздно.
Прокла, подумав, вздохнула:
— Нет, Никуда я не поеду. Будь что будет. Как-нибудь перебьюсь, А вы езжайте. Бог вам попутчик.
Утром, на рождество, к дому Проклы подкатил возок, устланный белыми овчинами, с горой чемоданов и узлов в передке. Убитая горем Прокла вывела из дому бледную, заплаканную дочь, сама усадила в возок, накинула ей на голову еще одну шаль, укутала ноги в дерюжку, цепко припала к ее стылым губам.
— Доченька! Кровушка моя… Увидимся ли? Услышу ли твой голосочек?
Маркел хлестнул коня. Возок, сухо скрипнув, рванулся, сбив с ног Проклу. Рука ее прощально скользнула по плечу Палаши, потом по розвальне и безвольно упала в снег. Прокла не пыталась встать. Так и лежала, уткнувшись в снег, целуя горячий след полоза, провожая глазами возок, уносящийся в неизвестность.
Эта неизвестность была хотя и мучительна, но все же сносна. В груди еще теплилась надежда, что дочь жива, что, может быть, они с Маркелом до поры до времени где-то скрываются, а как все забудется, уляжется, авось и возвернутся домой. Но вот… Маркел явился, а ее, родной Палашеньки, нет. Что с ней? Где она? Что принес с собой этот невенчанный зять? Радость ли на старости лет или тяжкий камень на сердце?
Собирая на стол и вот теперь, сидя за ним, она и ждала весточки о дочери, и как огня боялась ее, стараясь продлить то прежнее состояние, в котором она находилась. Но постепенно терпение ее иссякало и эта неизвестность стала уже невмоготу.
Маркел же, как назло, был до отвращения молчалив. Навалившись на ветчину и сало, он слюнтяво чмокал губами, облизывал жирные пальцы, подобно грызущей кость собаке, клал голову то на одно плечо, то на другое. Худые, заросшие сизой щетиной челюсти его ходили, как мельничные жернова. Глаза жадно бегали по столу, ища, что повкуснее.
Проклу бесили и эти ненасытные глаза, и эти волчьи скулы. Ей порой хотелось стукнуть кулаком по столу и крикнуть: «Да перестань же жрать! Скажи, где дочь? Не царапай душу». Но она скрепя сердце окаменело молчала.
Наевшись досыта, Маркел заговорил сам. Он понимал состояние Проклы, знал, что ее сейчас ничто не интересует на свете, кроме дочери, и потому заговорил об этом.
— С той поры, мамань, как ты проводила нас, все шло слава богу. Немцы особых мне заданий не давали. Где деревню там сжечь. Где угнать корову. И мы с Палашей так аж до самого Смоленску неразлуч отъезжали. Потом удар был откель-то с северу, и нас повертали на юг — через Гомель до Киеву. Опять мы ехали ничего, без происшествиев. Только, правда, за Гомелем партизаны на нас налетели. Вещички мы там потеряли, коней…
— Вещички? — вздрогнула Прокла. — Неужто все оставили?
— Оставили, мамань. Бог с ними.
Прокла перекрестилась.
— Господи! А ведь там колечко было венчальное. Иконка в золотой оправе. И нитка жемчуга. Помнишь, что нашли возле бани?
— Помню, маманя. Как же. Все на дороге осталось. А так мы хорошо до Винницы доехали.
— Как же? Ты только что сказал до Киева?
— Да, мамань, ехали на Киев, а попали в Винницу. Под Киевом тоже удар был, так нас повернули на Винницу, чтоб потом на Одессу. Хорошо мы там зажили. Как в сказке, маманя. Сало. Вино… Палаша было поправилась, порозовела. Ну и тут нам пожить не дали. Опять, сволочи, погнали нас. И уж как погнали! До самой Румынии не зацепились нигде. Верст триста бежали.
— Господи, — вздохнула Прокла. — На чем же вы? На телегах иль на машинах?
— Э-э, маманя! Какие там машины. Пехом все шли. В грязи по колено. Сколько страданий, мук перенесли. Один только бог знает. И бомбили нас, и снарядами крыли…
— Доченька! Милушка моя, — скрестила руки на груди Прокла. — Сколько горюшка перенесла! Но говори же… говори!
— Да я и говорю. Верст триста по грязи бежали. А тут еще немцы взбесились. «Шнель! Шнель в окопы!» — кричат, свиньями нас обзывают. К Палашке начали приставать. Ну, вижу, плохо дело. Словил в поле двух коней, сели верха и айда. В румынскую дивизию перебрались.
— А они-то как? Помягче иль тож?
— Эти по первости ничего. Палашу даже госпожой звали. А потом в окружение под городком Хуши мы все попали. Тысяч тридцать немцев, румын и нас, полицейских, на малом островке собралось. Стянули красные вокруг нас артиллерию, минометы и давай гвоздить, маманя. В ад кромешный островок превратили. А тут, как на беду, Прут разлился. Глубина с головкою. Никуда не сунешься. И что там было! Что только было! Крик, ругань, стоны, повальный перед смертью попой…
— А вы-то где? Вы где спасались с Палашей? — ломала в волнении руки побледневшая Прокла, все еще надеясь, что дочь ее жива.
— Где ж нам быть? Сквозь землю ведь не провалишься, по небу не улетишь. В дремных кустах копенка старого сена стояла. Так мы с Палашей ночь и скрывались там. А как развиднелось, рота солдат и привалила сюда. Увидели они Палашу и, как зеленые змеи, к ней. Я винтовку вскинул: «Не подходи!» Но где там! Только одного и успел. А другие…
Маркел умолк, виновато и стыдливо опустил глаза. Прокла схватила его за грудки, с силой тряхнула.
— Ну, говори же! Говори, что с ней?
— За… задушили они ее, — с трудом произнес Маркел. — Изнасильничали.
Прокла вцепилась ногтями в горло Маркела.
— А ты? Ты бросил ее? Кинул, скотина! Шкуру свою спасал. О, чтоб вы все пропали за доченьку мою! Чтоб на вас погибель черная пришла…
Она в бешенстве отбросила Маркела к стене и, упав всей грудью на стел, рвя волосы на себе, дико заголосила.
Маркел не утешал ее. Он жалел лишь себя. Чужая боль до него давно уже, а точнее, с тех пор, как он первый раз спустил курок на человека, не доходила. Философия фашистов убивать не содрогаясь, делать то, что приятно тебе, вытравила из него всякую жалость. Он знал, что и Прокла из той же затверделой породы, что эта слабость у нее не надолго. Пройдет минута, другая, и она снова превратится в камень.
Так оно и вышло. Проревев минут пять, Прокла оторвалась от стола, вытерла сухие глаза и, присмирев, тихо спросила:
— Ты-то как жив остался? Да и попом, гляжу, стал.
— Э, какой из меня поп, — отмахнулся Маркел. — Ширма одна. Пристукнул там попика, — Он перекрестился. — Пухом могилка ему. Из пленных был. Ну, и того… В его кафтан облачился вот.
— А как дознают?
— Не сумлевайся. Все шито-крыто. Свят я. От всех грехов очищенный.
— Кто же это очищал тебя? Может, срок отсидел?
— Зачем же срок? Бог милостив. Без срока обошлось. Молился я. День и ночь челом бил. Вот господь и узрел меня. Взял за руку и сказал: «Ступай себе на все четыре. Нет грехов за тобой».
Прокла нахмурила мужицкие брови.
— Не путай заячьи. Толком кажи.
— Вот и говорю. Очистился. Проверочку на границе прошел. И подтвержденьице, что от фашизма пострадал, имею. Солдат своей рукой написал.
— Та-а-к, — растянула задумчиво Прокла. — Значит, очистился. Так… А дальше-то как будешь жить? В Вязьме-то нельзя. Опознают.
— Да, — вздохнул Маркел. — На родиму земельку стеженьки нет. Ни мне, ни тебе. Надысь, когда ночью забегал к хрестной своей про тебя разузнать, сказывала та, что ищут нас, будто сам начальник областной милиции сказал: «Найдем под землей».
Прокла еще пуще насупилась.
— Меня неча искать. Я умерла. В вяземской книге похорон усопшей значусь. А вот тебя сцапать могут. Зачем, баран безрогий, рясу надел? Поп, он у всех на виду, Как бугор в поле приметный. Кто ни идет, тот и глянет.
— Погоди, не горячись, — обиделся Маркел. — Не думай, что я таковский. Мы тоже свой намет имеем.
Прокла допила остаток самогона, закусила хрустящим огурцом и глянула осоловелыми глазами.
— Ну, и какой же у тебя намет?
— Если не супротив ты, то прежде тут останусь, — несмело объявил Маркел. — Поживу с годочек.
— Ну, положим, не супротив. А дальше что?
— А дале притворюсь немым, вроде бы блаженным. На людях звать меня станешь не Маркелом, а Денисием. Братом своим.
«Братом, — подумала Прокла. — Чтоб тебя черви ели за доченьку мою. Волки бы кости таскали твои. Не привечать, а гнать бы надо тебя. Да что поделаешь. Видно, скрутил нас бог веревкой одной. Вместе и в могилу стащит. А пока притворяйся блаженным. Недолго уже осталось…»
22
Вечером после занятий в общежитие академии приехал начальник курса майор Семенкевич. Был он чем-то расстроен и сердит. В карих с белесыми ободками глазах его стыла досада. На переносице и узком крутоватом лбу залегли хмурые складки. Чертыхаясь и что-то бормоча себе под нос, он, как разгоряченный Чапаев, прогромыхал каблуками по коридору и, ворвавшись в одну из комнат, еще из прихожей крикнул:
— Подполковник Слончак!
Все слушатели повскакали с коек, Макар растерянно спрятал ножницы, которыми подправлял у зеркала, перед шифоньером, бороду, пугливо вытянулся столбом.
— Я! Слухаю вас, товарищ подполковник.
— Садись. «Слухаю», — передразнил Семенкевич. — На занятиях бы лучше «слухал» да поменьше лишнего болтал.
Он говорил строго, зло, обращаясь на «ты», но в голосе легко угадывалось сочувствие, доброта. Эту доброту начальника курса хорошо знали слушатели, и потому его резкие слова никогда не вызывали обиды. Вот и сейчас Макар Слончак нисколько не обиделся, а лишь пристыженно покраснел, часто заморгал своими большими подпаленными ресницами.
— А що… що случилось, товарищ начальный? — испуганно спросил он.
— Скандал на всю академию, вот что.
— Який скандал?
— На вопрос преподавателя по истории партии отвечал?
— Да. Вин подошел и пытае: «А як вы понимаете этот вопрос? Може ли капитализм сам по себе сойти в могилу?» Я рассмеялся. Да разве вин дурень який, шоб сам полез в могилу. Его подтолкнуты треба туда. Ну вин за мене и учепився, як репей до спидницы. «Значит, каже, вы отрицаете манифест, учение Маркса, общую гибель капитализма, движение материи? А шо Геракл по этому поводу говорил?» А я, товарищ майор, убей бог, этого Геракла не читав.
— Не Геракл, а Гераклит Ефессийский, — поправил Семенкевич и растянул по слогам: — Ге-рак-лит. Один из оригинальных философов Греции, живший в шестом веке до нашей эры. Знать надо, а не болтать.
— Слушаюсь, товарищ майор!
— «Слушаюсь». А зачем в разговор вступал? Околесицу нес?
Семенкевич тяжело опустился на стул, обхватил голову руками. Видно, в академии уже был подобный случай, когда за неправильный ответ, грубо искажающий политический смысл, слушателей брали на карандаш, а начальнику курса давали нагоняй.
— Что будет? Что будет теперь? — сокрушался Семенкевич. — Позор на весь курс. На весь факультет. Да что там… На общих собраниях начнут и тебя, чудака, и меня во всех падежах склонять. «Вредные разговоры развел». «Политику исказил».
Сергей не выдержал, вышел вперед.
— Позвольте, Борис Романович. Какие вредные разговоры? Какое искажение политики? Человек неточно выразился, не так сказал. Зачем же ему приписывать черт знает что? И потом — почему это неправильный ответ слушателя должен расцениваться как какой-то нездоровый выпад? Ведь это же слушатель, ученик. Он пришел в академию не с готовыми знаниями, а чтобы их получить. И пусть он спорит, свободно излагает свои мысли, говорит, что знает. Пусть его поправляют, убеждают. А иначе зачем и на занятия ходить.
— Ну, вы это бросьте, — вступил в разговор майор Грудинин. — Борис Романович правильно указал. «Не знаешь — не отвечай». Нечего под видом Иванушки-дурачка протаскивать вредную идеологию.
— Вы бачите? Бачите? — оглядываясь на товарищей, ища у них защиты, проговорил Слончак. — Вин сказився. З глузду зъихав.
— Определенно, — поддержал Сергей и напустился на Грудинина: — Да ты понимаешь, что говоришь? И на кого? На героя-фронтовика наговариваешь. Да у него ж борода седая и грудь в орденах.
— Ну вы, сцепились! — встал Семенкевич. — Кончайте базар. И чтоб этой брани не было. В субботу на рыбалку поедем. Всем курсом. А вы, Макар, с утра в политотдел. Объяснение дадите. Да не будьте дураком, не лезьте в пузырь. Особо с уполномоченным. Скажете, ошибся, не понял вопроса, а то в нелепую историю попадете. Ясно?
— Так точно, товарищ майор!
— Вот так и действуй, «Геракл». А я после сам с начальником поговорю. Боюсь, как бы не отчислили тебя.
— И мы с Макаром пойдем, — заявил Сергей.
— Кто это «мы»?
— Я. Ну и остальные вот, — провел рукой Сергей, показывая на Бирюкова, Проценко, Азарскова.
— Коллективные жалобы запрещаются.
— А мы не жаловаться. Мы спорить пойдем.
— С кем?
— С начальником политотдела.
— И с уполномоченным, — добавил длинноносый, на вид угрюмый Бирюков.
— С начальником можно. А с уполномоченным не рекомендую.
Бирюков, сидевший в продолжение всего разговора у стола над раскрытой книгой, встал.
— А что он за шишка такая, что нельзя с ним поспорить?
— Он не подотчетен нам.
— А он где находится? На луне или в коллективе?
— Ну, вы полегче, — тихо предупредил начальник курса. — Знайте, о ком говорите.
— А чего мне бояться. Я у бога теленка не съел.
— Бойся не бойся, а осторожность имей. С ним долго не наспоришь.
— Извиняюсь! — взметнул руку Алексей Проценко. — Как же так понимать, Борис Романыч? С одной стороны, нас учат принципиальности, объективности, диалектическому подходу, а с другой — говорят, нужна осмотрительность, осторожность, а точнее, прежде чем сказать, пугливо осмотреться.
Семенкевич подошел к Проценко, взял его дружески за плечевой ремень.
— Уважаемый Алексей Григорьевич, на ваш вопрос я отвечу словами одного из древнейших полководцев: «Не кидай в бой вооруженное племя, не изучив обстановку и время».
— Я вас понял, Борис Романыч. В переводе на наш украинский язык це означае: «Не пидымай кума Христина на всяку теляку хворостину, бо будут трудными дороги, попадешь быку на роги».
— Чепуха это, — махнул рукой Сергей. — И бодливым быкам рога сбивают. Можно и шею свернуть.
Семенкевич пристально посмотрел на молодого, с живыми, решительными и очень смелыми глазами, худощавого, с кривоватыми ногами майора и подумал: «Этот пойдет. К черту на рога полезет. Дров бы не наломал почище Макара».
23
Прав был в своем предвидении майор Семенкевич. Наломал Сергей Ярцев дров, да такую вязанку, что на кафедре тактики поднялся переполох. Что же это такое! Яйцо курицу учить взялось. «Преподавание трафаретное. Тактика отсталая. Боевой устав пехоты сорок второго года изжил себя». Да это же выпад против авторитетов, грубые нападки на опыт войны.
Больше всех шумел преподаватель майор Галкин. Тощий, сухой, с щеточкой усов под острым, как у курицы, носом, он расхаживал взад-вперед по рабочей комнате и, нервно хрустя пальцами, ворчал:
— Нет, я этого не прощу. Я не позволю какому-то неучу подрывать мой авторитет. Я до начальника академии дойду, а выскочку проучу!
— Зачем к начальнику академии? Ты к Сентюрину иди, — посоветовал капитан Евтеев. — Он с ним в два счета. Не гляди, что покладист.
— И пойду! Сейчас же пойду.
Тихий, всегда сдержанный полковник Белоконь остановил Галкина.
— Не впадайте в ребячество, Савелий Савич. Вы же серьезный человек. Преподаватель. А поступаете по- мальчишески. Подумаешь, слушатель возразил, решил задачу по-своему. Что ж ему теперь, завязать глаза и слепо идти за вами? Или повторять, как попугаю: «Утлом вперед, углом назад»?
В спор вступило сразу несколько человек. Взгляды резко разошлись. Одни доказывали, что Галкин прав, что нельзя позволять слушателю оспаривать мнение преподавателя. Оно должно быть решающим и безоговорочным, ибо это мнение апробировано на кафедре и согласно с действующим уставом. Отклонение же от устава надо рассматривать как нарушение порядка и дисциплины. Другие же преподаватели напрочь опровергали эти суждения и стояли на том, что академия не церковноприходская школа, где заучиваются библейские писания, а творческая кузница, где переплавляется, пересматривается по винтику все старое, извлекается все нужное и выковывается что-то новое, свое.
Спор ни к чему не привел, и майор Галкин, совсем расстроенный, подогреваемый желанием отомстить за дерзость, заявил, что перенесет спор в кабинет начальника кафедры.
* * *
Сергей Ярцев любил занятия по тактике. Любил за то, что они были близки ему как командиру роты, что проводились в синих подмосковных далях, на академическом полигоне, где пахнет порохом и малиной, где дышится и думается легко.
По-мальчишески был влюблен Сергей в топографическую карту. Он мог часами раскрашивать ее, всматриваться в начертания незнакомых дорог, высот, речек, мысленно путешествовал по незнакомым селам, городам, пытался представить, кто там живет, по-хозяйски оценивал, а хороши ли у них мосты, переправы, какова густота лесов, быстро прикидывал, где и что можно разместить, и потому Сергея нельзя было застать врасплох. Он читал карту так четко и быстро, будто на местности бывал много раз.
В академии собралась бесценная библиотека. На деревянных до потолка стеллажах хранились полевые уставы, справочники, бюллетени, документы известных и безымянных боев… И все это с ненасытной жадностью стремился перечитать, сердцем познать Сергей. Его русая, расчесанная пальцами шевелюра просовывалась в оконце библиотеки через каждые три дня, и беленькая девушка в синем халате без лишних слов шла к стеллажу с надписью: «Опыт Великой Отечественной войны».
Книгу за книгой читал, конспектировал Сергей, и постепенно все шире и дальше распахивался перед ним горизонт представления о минувшей войне. Теперь ему уже стало ясно, что никакого внезапного нападения не было, многое знали, но чего-то ждали, что Минск, Смоленск, Вязьму и другие города оставили в сорок первом не с тем, чтоб заманить противника в глубь страны, как это тогда казалось, а под нажимом превосходящих сил, что некоторые бои, в которых он участвовал и которые считал тогда с позиций ротного командира главным сражением, были вовсе не главными, а лишь обычным отвлекающим маневром.
Постепенно вырабатывалось у Сергея и критическое мышление, трезвый анализ отгремевших операций. В боевом уставе пехоты говорилось одно, а в бою выходило во многом иначе. В сорок третьем Сергей видел однажды, как бойцы шли в атаку углом вперед и углом назад, уступом вправо и влево. Это оказалось очень выгодно немцам. Вначале они разбили один угол, а потом и подошедший другой. То же самое стало и с уступами. Их легко размели по частям. Комбат Еремин, построивший такой боевой порядок, с горя застрелился. Другие от этих «углов» и «уступов» отказались. Они только распыляли силы, мешали массированному удару.
Когда в классе решалась задача, Сергей учел этот трагический случай и по-своему построил боевые порядки батальона… Это не понравилось майору Галкину. Перечеркнув карту, он поставил на ней двойку. Сергей вгорячах обозвал преподавателя «трафаретчиком от науки» и вот теперь, понурив голову, шел следом за Семеновичем, как выразился тот, «на расправу».
В кабинете начальника кафедры преподаватели по тактике уже были в сборе. Галкин сидел особняком, ближе к столу Сентюрина. За два дня он сильно похудел. Нос его совсем заострился, как точеный карандаш, И без того тонкая шея по-гусиному вытянулась, и воротник рубашки свободно болтался на ней, как плохо подогнанный хомут на лошади. Деланно умные глаза враждебно глядели куда-то в сторону.
Сентюрин, напротив, был все таким же сдержанно спокойным. На столе у него Сергей узнал свою карту. К ней был подколот рапорт Галкина с чьей-то размашистой резолюцией «Согласен».
Пока Сергей докладывал о прибытии и гадал, кто и в чем согласен с Галкиным, Сентюрин поздоровался с Семенкевичем, спросил у него о здоровье дочери, которая, судя по разговору, вывихнула ногу, и обратился к преподавателям:
— Начнем, товарищи?
— Да, пора. Сегодня ведь суббота.
— Кому суббота, а кому и черная пятница, — вздохнул Сентюрин, обращаясь к Сергею. — Начнем с вас, товарищ Ярцев. Чем вызван ваш поступок? Почему вы так грубо обозвали преподавателя? Мы считаем ваше поведение недостойным, порочащим высокое звание слушателя.
Сергей вытянул руки по швам.
— Я приношу извинения товарищу майору. Грубить мне не следовало. Это нехорошо. И я готов понести наказание. Любое. В остальном же судите, как угодно, но я остаюсь при своем мнении. Устав сорок второго года устарел. А значит, и преподавание… с Макаровой бородой.
— Вот, вот, товарищ начальник. Послушайте его. Он вам еще не то скажет. Обнаглел. Не учась ученым стал.
— Погодите, Савелий Савич. Давайте спокойно разберемся. Вам, товарищ Ярцев, не нравится построение боевых порядков или вообще весь БУП?
— Нет, зачем же, — смутился Сергей. — В нем есть много хорошего. Даже те боевые порядки, если их применять, учитывая местность и оборону противника. А в других случаях они не годятся. Строить их только ради буквы устава бессмысленно. В бою только нести лишние потери. И я могу это доказать на фактах.
— Не нужно. Я вас понял, — кивнул Сентюрин, что- то записывая в блокнот. — Еще что?
— Еще много писанины у нас. Если сосчитать, сколько перед боем и в бою надо подготовить документов, то и воевать некогда. В пору лишь бумаги писать.
Сентюрин почесал седой висок.
— Да-a… Критика серьезная. Ну, а конкретно? Что именно лишнее из бумаг?
— Да взять хотя бы боевые донесения во взводах и ротах. Кто их в бою с посыльными отсылал? В редких случаях. А в остальном радио, телефон, ракеты. Нас же учат в будущей войне ваньку-посыльного по полю боя с бумажками гонять. Но ведь это же смешно, товарищи, — обратился к преподавателям Сергей. — Сами вы ведь в это не верите. Сами против этой отжившей практики, а молчите… Я в одном журнале вычитал, что в будущем намечено каждому солдату рацию иметь. И это будет так. К этому идем.
Осмелев и решившись на любой исход, Ярцев выкладывал все, что думал сам, о чем судачили, спорили в курилках и общежитии слушатели курса. Он говорил о тех больших скоростях, которые возрастают в воздухе и на земле, выставлял резкие контрасты — самолеты ПО-2 и ракетные двигатели, конницу Буденного и танковые армии, укорял за то, что на занятиях нет разговора об атомном оружии.
Обращаясь к преподавателям, Сергей видел одобряющие глаза Белоконя, Портянкина, Орлова, Семенкевича, сидящего рядом. Остальные же были в смятении. Галкин, весь красный, с испариной на лбу, жевал гонкие губы и сквозь них цедил:
— Нет, надо гнать. Определенно гнать…
24
В жизни Эммы Пипке, может, ничего особого к семнадцати годам и не случилось, если бы не заболела мама. Однажды утром она позвала ее в свою спальню, усадила рядом на деревянную кровать и сказала:
— Доченька, тебе придется пойти за меня поработать.
— Хорошо, мама.
— Ты знаешь, где отель офицеров?
— Да, мама. Но пустят ли меня?
— Пустят. Я уже сказала. Только прошу тебя: делай все чисто, аккуратно. Никаких офицерских вещей не разглядывай и не трогай. Сначала, как придешь, вскипяти чайник. Офицеры бреются по утрам.
— Хорошо, мама.
— В номер без стука не входи.
— Нет-нет, мама.
— Если что попросят — сделай.
— Хорошо, мама.
В первый день Эмма очень стеснялась и, кажется, меньше работала, чем кланялась офицерам. Они шли по длинному коридору, и она усердно перед каждым делала реверанс и любезно улыбалась. А это было не так-то легко. Надо вовремя и щетку поставить, и вытереть руки, чтоб за кончики юбки взяться. К вечеру она до того устала, что почувствовала под коленками и в пояснице ломоту и уже лишь кланялась, но не улыбалась. К счастью, подошел пожилой, с седыми висками офицер и сказал, с трудом подбирая слова, по-немецки:
— Не делайте так. Зачем кланяться по сто раз? Занимайтесь своим делом.
На другой день Эмма работала уже смелее. Только почему-то щеки у нее очень горели, когда проходили мимо молодые, стройные и красивые офицеры, на которых все скрипело, сверкало. Она стеснялась глядеть на них открыто, а смотрела только из-под руки или сквозь упавшие на лицо локоны волос. И офицеры, как приметила Эмма, оглядывались и улыбались. Вначале она думала, что выпачкала чем-то лицо, и торопилась к зеркалу. Но нет. Лицо было чистым. А они по-прежнему все улыбались. Чудаки! И чему улыбаются? Может, их девушки какие-то иные?
В комнате одного офицера Эмма увидела на тумбочке фотокарточку девушки в белом и, выключив пылесос, присела на корточки перед ней.
— О, какая красивая! Брови дужками и черные. Носик вздернутый. Губы строгие. Глаза ясные и веселые. Наверно, очень счастливая. Любят ее. А косы? Какие восхитительные косы! Толстые, черные и длинные, до самой груди. И почему у меня нет таких?
Она подошла к раковине, где висело круглое, величиной с решето, зеркало, собрала в две ровные пряди свои рассыпанные локоны, примерила их через плечо и, довольная, улыбнулась. И ее косы так же, как у русской девушки, доставали до груди.
В понедельник, после выходного, Эмма пришла в гостиницу в белом платье, с волосами, заплетенными в две толстые, переброшенные на грудь косы. Подвязав легкий пестрый фартук и подобрав выше колен подол платья, она легко, точно майская бабочка, порхала с тряпицей в руке из комнаты в комнату и весело, беспечно напевала:
Меня мама не пустила танцевать Трансвааль, Гансик, Гансик, милый Гансик, как мне тебя жаль!Она подбегала к зеркалу, поправляла косы, брови, трогала себя за нос, грозила сама себе пальцем и, протирая спинки стульев и кресел, продолжала распевать:
Но не надо обижаться, накликать беду. Гансик, Гансик, милый Гансик, завтра я приду.Убрав комнату, Эмма открыла запасным ключом дверь соседнего номера и с грохотом (офицеры ведь все ушли) потащила туда пылесос.
Меня мама не пустила танцевать Трансвааль, Гансик, Гансик, милый Гансик…В углу скрипнула кровать. Эмма оглянулась и обронила шланг. На койке, у окна, лежал укрытый пуховым одеялом молодой человек с очень бледным лицом, взлохмаченными волосами и впалыми глазами. На пересохших губах его была улыбка. Судя по кителю, который висел тут же на стуле, это был лейтенант-танкист. Бледность лица и мелкая испарина на лбу подсказали девушке, что он болен. Строгий наказ мамы гласил, что в подобных случаях убирать комнату нельзя и надо немедленно уходить. Офицеру нужен покой и отдых. Можно только спросить: «Не надо ли товарищу офицеру что- либо принести, подать?» Но Эмма не могла ни спросить, ни уйти. Язык ее словно онемел, а ноги приросли к паркету. Преодолев первое смущение, она, не отрываясь, смотрела на офицера.
— Вы больны? Вам что-нибудь подать? — заглушая стук своего сердца, спросила наконец она.
Он опять улыбнулся, свободно по-немецки сказал:
— Вы очень хорошо поете.
Эмма удивилась.
— Вы? Вы знаете немецкий язык?
— Не совсем хорошо, но знаю.
— О, я очень рада! Очень, — краснея и смущаясь, проговорила она и, вздохнув, добавила: — А я, к сожалению, ваш не знаю. Но я выучу. Я уже и учебник достала.
Лейтенант протянул руку к девушке, потрогал белый лепесток банта, вплетенного в ее косу.
— Откуда вы? Как к нам попали?
— Я временно. Вместо мамы. Марты Пипке.
— Вы очень на нее похожи. Как вас звать?
— Эмма. А вас?
— Петр. Петр Макаров. Запомните?
Эмма понимающе кивнула, шепотом повторила: «Петер, Петр» и, спохватись, спросила:
— Вам, может, чая? Пилюли?..
Петр удержал ее.
— Нет-нет. Спасибо. Мне ничего не надо. Мне. стало лучше. А с вами совсем хорошо. Спойте еще ту песенку: «Гансик, Гансик, милый Гансик, как мне тебя жаль».
Эмма смутилась. Пухлые щеки ее зарделись.
— Я плохо… Очень плохо пою. И потом… Извините. Я вас стесняюсь.
— Тогда я вам спою. Хотите?
— О, я очень люблю ваши песни. Мы с мамой дома «Катюшу» поем.
— А я вам спою про Россию. Про Ленинград. Хорошо?
Она согласно тряхнула кудряшками, притихла в ожидании. Он взял с тумбочки стакан с водой, отпил несколько глотков, подложил под голову руки, задумчиво глядя своими утомленными глазами в звезды на потолке, тихо, чуть грустновато, уводя куда-то вдаль, запел:
За заставами ленинградскими Вновь бушует соловьиная весна, Где не спали мы в дни солдатские, Тишина кругом, как прежде, тишина. Над Россиею Небо синее…Эмма сидела как завороженная, не шелохнувшись. Она не понимала слов песни, ее смысла, но чувствовала, что офицер поет о чем-то хорошем, светлом и очень нежном. Ей хотелось, чтоб эта песня никогда не обрывалась.
Офицер кончил петь, приподнялся, ласково обнял Эмму за плечи, спросил:
— Ну как? Понравилась наша песня?
— Да. Очень. Только я не знаю, о чем она.
— А хотите знать?
— Да.
— Тогда садитесь ближе. — И он указал на угол кровати. — Вот здесь. Я вам сейчас расскажу.
…В этот день Эмма пришла с работы позже обычного, и щеки ее стыдливо горели.
25
На исходе зимы Лена получила наконец-то письмо от Плахина. Ласки и нежного слова ждала она в нем. Но было оно, на удивление, сухое, холодное.
«Я ранен. Стал калекой, — писал он отрывисто и небрежно. — Ждать меня вам нечего. Вы молоды, красивы. Мужа себе найдете. А я был бы вам обузой. Прощайте. Дом можете продать. А впрочем, как хотите. Иркутск. Военный госпиталь. Плахин».
Горючие слезы упали на листок. Кинулась к Архипу, припала лицом к его груди.
— Дедушка, что же это? Как жить-то? Что делать?
Архип и сам толком не знал, как быть, чем помочь горю. Он только гладил озябшей рукой голову Лены и говорил:
— Ну, будет. Не плачь. Авось обойдется. Авось и не такая беда. Ну-ну…
— Да калекой же стал! Калекой…
— Э, сказала. Калека калеке рознь. Сват Митрий после японской до ста лет без ног прожил. А бабка Власиха от мозоля скачурилась. Так что погоди. Прояснится. Ежели руки есть и письмо пишет, значит, не полный калека.
— Да по мне хоть какой, лишь бы приехал. Но он и не думает. Хату, пишет, продай.
Архип опустился на лавку, скомкал в кулаке свою редкую бороденку, закачался, как березовый пенек под ветром.
— Ах, беда-то какая! Какая беда!
В солдатском белом полушубке в хату вошла Вера Васильевна — председатель колхоза. Чтобы не затоптать только что вымытый пол, остановилась у порога.
— Лена! Я опять за тобой, — сказала она, снимая с головы платок. — Завтра чуть свет в Сходны за соломой, милушка моя. Сено приберегем для тельных, а эти пусть жрут солому. Все одно от них молока, как от быка. А Лысуху надо на веревки подвесить. Ноги затекут — пропадет корова.
Сев у порога на лавку, Вера Васильевна заговорила о том, что неплохо бы смешивать ржаную солому с пшеничной или просяной, пожаловалась, что ей не удалось достать для отелых коров воза два клевера, повздыхала, что от плохого корму падает надой молока, а на совещании в районе жмут — давай повышай сдачу…
Лена слушала рассеянно. Она лишь поддакивала, соглашалась, а перед глазами был милый Иван, попавший в беду Иван. Она пыталась представить его на костылях, с забинтованной головой, но не могла. Он виделся другим.
— Да ты что, не слушаешь? — удивленно глянула Вера Васильевна. — Чем расстроена? Что стряслось?
Лена молча протянула письмо. Вера Васильевна подошла к лампе, прочла листок раз, второй, как-то сразу сменилась в лице, покачала головой, присмирев, села рядом с Леной, по-матерински обняла ее. Этого с нею никогда не было. Рано овдовевшая (муж погиб в боях под Москвой), обремененная заботой о своей тройне и колхозными нехватками, она всегда ходила хмурая, злая и за малейший промах на ферме крепко ругала. Теперь же она неузнаваемо смягчилась, будто чужое горе коснулось лично ее.
— Так вот что, милая, — сказала она вздохнув. — Собирайсь-ка и езжай.
— Куда? — вздрогнула Лена.
— В Иркутск. В госпиталь. И вези его, как есть. А дома, как говорится, и углы помогают. Вылечим. Тут воздух один чего стоит. Да ласка твоя. Так я говорю, Архипыч?
— Знамо, так, — отозвался с лавки дед. — На родной сторонушке и соловьем поют воронушки.
— Вот слышишь, что старые люди говорят. Значит, думать нечего. Езжай. Это в том разе, — она испытующе посмотрела на Лену, — если он нужен тебе. А то привезешь калеку, а потом откажешься.
Лена вскочила.
— Да я… Ну, что вы…
— Коли так, то с богом. Завтра пораньше на станцию. Деньжонок на дорогу я дам.
— Спасибо.
— Не за что. Только оденься потеплей! В Сибири не то, что у нас. Да будешь вертаться — телеграмму дай.
— Спасибо, Вера Васильевна! Непременно дам.
* * *
Привез Лену на станцию дед Архип. Мороз стоял лютый. Небо горело, как отсвеченное пожаром. Красные пятна все ширились и густели. Дым валил из труб без единого хвоста — столбом в небо и таял на лету.
Хотя и тепло был одет Архип — в сером армяке поверх шубы, валенках выше колен, телячьем треухе, но озяб. Потоптавшись минут пять у саней, похлопав рукавицами, он привязал кобылу к забору, кинул ей клок овсяной соломы и побрел в вокзал погреться и посмотреть, как у Лены дела с билетом. За углом к нему сунулся деревенский парнишка с большой корзиной, прикрытой куском дерюги.
— Дедушка, купите цветы… Зимние цветы. Ух, какие!
— Что за цветы? — остановился, косясь на корзину, Архип. — Ну-кась, кажи.
Оглянувшись по сторонам и убедившись, что милиционера поблизости нет, мальчонка отвел Архипа к саням, приоткрыл корзину.
— Вот. Мировые! С югу привезенные. С теплых морей. Вам один пучок аль два?
Архип взял веничек голых прутиков с распушенными, как пух на молодых гусятках, почками. Это были ветки обыкновенной вербы, которой спокон веков полны русские луга, канавы и низинные места. Дед узнал бы их даже с завязанными глазами. Узнал бы по мохнатым почкам, по тончайшему запаху весны. Не вызывало удивления и то, что мальчишка назвал эти прутки цветами. (Их в деревне помещают в бутылки, вазы и ставят на подоконники, столы.) А вот появление очнувшейся вербы в такую рань растрогало и удивило. Еще лежали косые сугробы, еще трещали по утрам морозы, а она уже проклюнулась, улыбнулась… Видно, солнышко в полдни пригрело ее.
— И сколь же тебе за нее? — спросил Архип, хитровато щурясь и делая вид, что впервые видит такие диковинные цветы.
— Сколь дадите. Я не скупой, — шмыгнул носом мальчишка.
Архип достал из-за пазухи кошелек, потряс его над ухом и, достав серебряную монету, протянул мальчишке.
— Вот те пятиалтынный. Только, чур, допрежь не врать. По правде живи, чижик с теплых морей.
Подбежала с чемоданчиком Лена.
— Дедушка, где вы были? Я обыскалась. Поезд пришел, а вас нет.
Архип кивнул на парнишку.
— А я с мальчонком вот по душам калякал…
— Калякал… Да мне же садиться надо. Поезд всего десять минут стоит.
— А билет?
— Плацкарты нет. В общий взяла. До свидания. Побегу.
Архип ткнулся бородой в укутанное платком лицо Лены.
— Ну, с богом. Поклон от меня и вот… — Он сунул ей в руки пучок вербы. — Свези ему, чтобы не забыл Лугоши.
— Спасибо. Счастливо доехать домой.
Она помахала рукавичкой и побежала к заиндевелым, припорошенным снегом, манящим домашним дымком вагонам.
Началась ее дальняя дорога, пугающая неизвестным и полная больших надежд.
* * *
Лене посчастливилось занять место у окна. Она еще с детства, когда жила в Ленинграде, любила сидеть вот так и смотреть в окно. Бывало, каждое воскресенье мать и отец брали билеты и увозили ее то на морской залив, то в дачные перелески со смешным названием Лисий Нос. Мама с папой в дороге читали, разговаривали, а она, усевшись на столик и высунув голову в окно, смотрела, как бегут назад деревья, красивые дома с балкончиками и голубятнями, как цепляется за кусты паровозный дым, подставляла ветру ладошки и ловила росинки с кустов.
Иногда к окну подходил папа, поправлял бант на голове и ласково говорил:
— Вырастешь большая — далеко тебя повезу. К бабушке на Черное море. Там увидишь пальмы, кипарисы… А потом на Урал поедем. Покажу тебе Медную гору, где растет волшебный каменный цветок и в хрустальных озерах плавают гуси-лебеди.
Но поездку все откладывали. То болела мать, го отец был занят на заводе. А потом в жутком вое сирен и слезах людей пришла война. Погиб отец под Лугой, а через три месяца не вернулась с окопных работ и мать.
Знакомая женщина из детдома помогла выбраться из горящего города к эвакопоезду. До Ярославля ехала с детдомовцами. А там разлетелись, как птицы, кто куда. Одни поехали в ремесленные училища на восток, другие остались работать в Костроме, Ярославле. Лена отправилась было к бабушке в Сочи, но за Москвой, под Рязанью, эшелон с беженцами попал под бомбежку, и она решила дальше не ехать. Пошла в обком комсомола и попросила направить на работу в село.
Это был последний этап трудного, дальнего пути. Он пережит, уже немного забыт. И вот новый, еще более дальний и, может, тоже не легкий.
Лена сидит у окна и, подперев голову кулачком, смотрит <в заснеженную даль. Так же, как и в детстве, отваливают в сторону телеграфные столбы, бегут, спотыкаясь в сугробах, заметенные сосны, летят на кусты клочья овечьей шерсти. И гудок паровозный такой же. Только не волнуется, не замирает, как раньше, сердце.
Один человек был на свете и тот… Ах, Ваня, Ваня! Какой же ты гордый и глупый! Думаешь, что я тебя разлюбила, что ты мне не нужен такой. Но знал бы ты, как я жду тебя.
Пухла голова от думок. Сердце щемила печаль. Она плела уже свои сети беспросветной тоски, бубнила в уши:
«Не найдешь его, не найдешь…» Но мир не без добрых людей. Не пришлось Лене долго грустить. Появился паренек с гитарой, веселая тетка с плетеной кошелкой, из которой сейчас же извлекла кусок сала, горшок с варениками, каравай хлеба, кувшин моченых яблок и бутыль с вином. Все разложила тихо, мирно, а бутылью лихо стукнула о стол:
— Геть, хлопцы! Сидай, вечерять будемо. Бо шлях довгий, титка Ганна может похудеть.
Уступая место у стола, Лена отодвинулась на край полки, но Ганна сгребла ее в охапку и водворила на прежнее место.
— Да ты що. Сидай, сидай, дивчинка. А що? Чего грустить? Та хай ему буде лихо, слезному життю. Кончилось воно. Згинуло. А зараз «Гоп, мои грычаныки» будемо спивать.
Из соседнего купе выглянул мужчина в черной толстовке, подпоясанной армейским ремнем. Увидев бутылку, провел ладонью по губам.
— Ай да тетка! Какой стол соорудила. И как это меня в другое купе пронесло?
— Э-э, бачила. За молодкой погнався, — погрозила пальцем Ганна.
— Та нет же. Билет у меня сюда, — оправдывался тот.
— Хай ему билету. Ходь и ты до нас. Всим харчу хвате. У мене ще гуска жарена е.
Мужчина подсел к Ганне, кивнул на выставленную еду.
— И откуда у вас столько? Целый продмаг.
Тетка Ганна теперь уже бойко зачастила по-русски:
— К сыну с невесткой в Брест было поехала. Всего наварила, нажарила, а их в Германию служить перевели. Что делать? Пошла к коменданту. Может, меня туда пропустят. А он мне и говорит: «Сматывайся, тетка, пока тебя в кутузку не посадили за стремление перебежать границу».
Ганна потрясла над головой увесистым кулаком.
— Ну, так я ему показала «заграницу». Будет помнить и деткам закажет.
Говорливая тетка Ганна развеселила Лену. Как-то сразу забылось горе, отлегло от сердца, и не такой уж страшной показалась дальняя дорога. Из окна вагона перед ней раскрылся целый невиданный мир с большими городами, шумными станциями, раскиданными по земле деревнями и селами — то богатыми, с электричеством, магазинами, каменными скотными дворами, то еще бедными, как бы забытыми среди полей, с ветхими избами, сараями, крытыми соломой и чем попало.
Белоснежная, задумчивая проплыла под колесами вагона красавица Волга. С высокого моста была хорошо видна ее разгульная ширина. Мачты электропередач едва перешагнули ее пятью гигантскими шагами. Даже лютый мороз не смог справиться с ней. Бугрила она его, ломала, нагромождала торосами, растопляла своим дыханием. И там и сям виднелись огромные полыньи. Пар валил из них, сизой проседью оседал на кустах, чистым серебром сверкал на солнце. А над дальними полыньями висели радуги, и казалось, что мчатся по Волге под свадебными дугами резвые тройки.
На вторые сутки пошли Уральские горы. Выплывали они в своем суровом убранстве одна красивее другой. То поросшие темно-голубыми мохнатыми елями, то в меди сосен, то вовсе голые, с навалом камней, заросших мхом.
Косые, нетронутые сугробы сползают с тор, дыбятся белыми конями, кутают молодые ели. Тонкие березы согнуты в дуги. Медведь ли катался на них, или дерево, падая, пригнуло. Рябина стыдливо краснеет у мохнатого валуна. Благословенна здесь тишина. Только поезд разносит гулкое, морозное та-та-та-та, та-та-та…
А за Уралом потянулась бескрайняя, неоглядная, как небо, равнина с редкими березами на горизонте. Ни дорог тут, ни следа. Все заметено, залито ослепительным солнцем. Долго не встречается ни жилья, ни признаков жизни. Лишь вспорхнет испуганная грохотом стая куропаток да мелькнет вдали огненным хвостом мышкующая лиса.
Здравствуй, Сибирь! Как примешь ты рязанскую девчонку? Что скажешь ей?
26
Много дней утекло с тех пор, как пулеметная очередь японского смертника подрубила Плахина и он попал в Иркутский военный госпиталь. Уже давно выписались, разъехались по домам фронтовики. В палату приходили теперь мирные воины с мирных тактических полей — с ушибами, травмами, вывихами ног. А он все лежал и лежал, прикованный к койке, потерявший надежду когда-нибудь встать, пройтись хоть с палочкой, на костылях по родной земле.
Долгими зимними вечерами снились ему знакомые тропки, дороги, по которым ходил, выгон, где пас гусей и бегал до стука в ушах с дружками наперегонки, майский берег Оки, где целовал девчонку, и тогда еще муторнее становилось на сердце, еще мучительнее тянулся день, и он, лютуя на свою беспомощность, на бессильных что-либо сделать врачей, от всех отворачивался, иногда не принимал еду и, чтобы не расплакаться, не выдать молодым солдатам своей минутной слабости, уткнувшись в подушку, кусал руку, скрипел зубами.
Сегодня ему снова приснились Лутоши. Он играл с ребятами в лапту, собирал на лугу щавель, а потом всей гурьбой пошли на пересохшее болото и там долго лазили по елям и собирали в гнездах вороньи яйца. Когда ими уже была набита полная пазуха, прилетел черный ворон с луком в когтях. «За разорение гнезд я тебя убью», — сказал он человеческим голосом и, натянув тетиву, выпустил стрелу. Она попала прямо в сердце, и Плахин, не удержавшись, грохнулся на коряги. Откуда-то прибежал доктор в белом халате, со шприцем и куском марли в руках. Потом он исчез, и на его месте появилась девушка. «Вставайте же. Ну, вставайте, — сказала она тихим, ласковым голосом, подав руку. — Вы же здоровы. Совсем здоровы». — «Нет! — крикнул он ей в лицо. — У меня пробито сердце и подрублены ноги. Не обманывай, лукавая. Убью!» — И тут же очнулся.
В палате уже никто не спал. Были те самые утренние минуты, когда после ночи люди нежились, разгадывали сны, думали о предстоящем дне, любовались зарей и ждали дежурную медсестру со стаканом термометров в руках.
— Ох, и кричали вы во сне, товарищ сержант, — сказал с соседней койки молоденький танкист с загипсованной рукой. — Наверное, что-то страшное приснилось?
— Еще бы, — усмехнулся Плахин. — С такого сна закричишь, брат. С елки падал, когда за вороньими яйцами лез.
— Ворона — пустая птица, — свесив с койки ноги, заметил военторговский сторож дед Евмен, который вот уже неделю собирался рассказать, кто ему ребра поломал, да все почему-то откладывал, тянул.
— Не совсем пустая, — возразил танкист. — И от нее какая-то польза есть.
— А я те говорю, пустая, — злился Евмен. — И сон об ней пустой, как та бочка из-под капусты. А вот если б ты увидел фазана или глухаря, тогда бы да. Тогда бы вышел толк.
— Какой, папаша? — высунув голову из-под одеяла, спросил солдат с обожженным лицом.
— А такой, милок. Глухарь — это умная птица, и предсказание сну должно умное быть. Либо вести получишь, либо денежный интерес.
— Вот и неверно! — воскликнул один из больных. — Я фазана видел, а три наряда вне очереди получил. Так что плохо вы разбираетесь в снах, отец, и в них я не верю.
Евмен откинул одеяло.
— Да я в снах разбираюсь, как дьякон в псалме. Могу любой тебе разгадать. Приснилась девица — будешь дивиться. Приснилась баба — скулу свернут набок. А пуще всего опасайся в снах попа. Поп — хоть во сне, хоть повстречается наяву — хуже черной кошки иль пустого ведра. Не оберешься хлопот. Быть беде.
— Вы бы, папаша-а, — сладко зевнул больной у двери, — рассказали, какой сон видали, когда подрались?
— Не дрался я, мил человек, отродясь, — ответил степенно Евмен. — И понятия об том не имею. Я как увижу драку, за семь верст от нее бегу. Дерется кто? У кого кровь взбешенная или пустая голова. А что побит я да измордован, так это дело такого редкого случая, какой приключается в мильон лет раз.
— Так вы расскажите. Все обещаете…
— Да уж придется, — вздохнул Евмен и, втянув, как наседка, ноги под себя, заговорил: — А было это вот каким макаром. Как-то заходит ко мне прямо с охоты кум Егор. С большой добычей пришел. Пять соболей подбил и белого песца. «Пойдем, — говорит, — куманек, обмоем удачу. А то будет скучно одному». — «Не могу, — отвечаю, — мне на пост заступать. Лавку военторга стеречь». — «А ничего, — говорит. — Мы немножко. Теплее на морозе будет». Заколебался я было в согласии, но соблазн посидеть в чайной, граммофон послушать подмыл-таки… К тому же, признаться, спиртиком хотелось себя взбодрить, кости ломило. Ну, пошли мы. Сели за столик. Наська, официантка, бутылочку нам принесла, груздей миску. Сидим, балакаем про то, про се. А за разговором и другую клюнули. Вижу, граммофон стал двоиться, а нос кума Егора как-то вовсе делится пополам. Пора, значит, надо кончать. Распростился я с кумом, он там допивать бутыль остался, а я на пост. Прихожу, дверь впотьмах облапал. Замок цел. Пломба висит. Значит, все в ажуре. Можно службу начинать. Походил вокруг амбарчика, побродил. Нет, что-то ноги не держат. Дай-ка посижу. Сел на крылечко, ружье на колени, воротник тулупчика отвернул, песню тихонечко запел. Не то про Ермака, не то про бродягу, бежавшего с Сахалина, не упомню сейчас. В общем, что-то мурлыкал под нос. Но недолго. Чую, сон меня начинает брать. Прямо так и слепляет веки, чертов смутьян, так и сластит глаза. Дескать, вздремни, дедок. Поспи, милый. Эка умаялся ты за свой век, сколько трудов перенес! «Э, нет, — думаю, — шута лысого ты меня сподманишь. Хоть медом мажь глаза — не усну. Вот разве только одним глазом вздремну, это да. Тут ничего опасного нет. Один глаз будет зрить, а другой поспит. А потом проделаем все наоборот».
Евмен показал, Как это было, и продолжал:
— Ну, проделал я сей експеремент один раз, другой, а на третий, скажу вам, уже не пришлось. Уснул я. Форменным образом заснул. Да еще во сне подлючий голос слышу: «Поспи, дедок. Отдохни. Все равно в военторге ни бельмеса нет». Вот каналья… Как кто нарочно в ухо дул. Про все на свете забыл. Про берданку, лавку, старуху свою. Сплю непробудно — и никаких! Только вдруг кто-то цап меня за шиворот и в сугроб. Сажня на три махнул с крыльца. Очнулся, вижу — у дверей человек, плечистый такой, в шапке с ушами, на кума похож. Не вылезая с сугроба, кричу: «Кум, Егор! Ай ты сдурел? Это за что ж ты меня с крыльца скинул, чертов долдон? И без жалостей совсем. Чуть шкуру с шеи не снял. А еще называется родня».
— А он что? — нетерпеливо спросил танкист.
— А ничего. Молчит мой кум Егор, только сопит да плечом нажимает на дверь: «Ах! Ох! Ах! Ох!» Вот, думаю, набрался кум до чего. Амбар за свою хату принял. Ломится в чужую дверь. Не иначе как еще бутылку с дружками, выдул. Подхожу я к нему и за шубу его: «Окстись, кум! Куда лезешь? Это же лавка военторга, а не хата твоя». А он хвать меня по морде. Я с копыт долой. Не своим голосом взвыл. Кровь из носа брызнула. В глазах круги пошли. Лежу на снегу, рукавом утираюсь, от обиды реву: «Спасибо тебе, Егор. Благодарствую, куманек. Здорово ты меня по родству угостил. Век не забуду теперь. Закатил бы я заряд гороху тебе, чтоб знал, как на служебное лицо нападать, на государственный пост, да пьян ты вдрызг, шут с тобой. Побейся головой о дверь, может, в разумность придешь». Нет, не приходит. Еще пуще ломится, аж с досады ревет. Слышу, уже дверь трещит, притолока срывается с пазов. Ах, язви тебя. Вскочил я и к нему: «Кум, уйди от греха. Уйди! Сорвешь пломбу — посадят в тюрьму. Слышишь?» Тяну я его за рукав, а сам думаю: «Определенно мой кум от спирту сдурел. Даже одежду попутал, чудак. Вместо фуфайки Наськину доху надел. Вот побегает девка, поищет». И только я так подумал, как он кинется на меня. Да за грудки! Бог мой…
Припоминая страшное, Евмен отшатнулся к стенке, закатил глаза, широко раскрыл в деланном ужасе рот.
— Глянул я на кума — и душа в пятки. Куда и хмель девался. Волос шапку поднял.
— Отчего?
— Что случилось? — спросили сразу двое.
Евмен, кряхтя, слез с кровати, сунул ноги в тапочки, накинул на плечи теплый халат, ощупал спину, бока и, найдя себя в лучшем состоянии, криво усмехнулся:
— Кхе-е, отчего? Смешной задаете вопрос. Да разве вы не поняли? Не кум то был. Не родич Егор, а медведь.
— Медведь? Да они же зимой не ходят! — воскликнул один из солдат.
— Верно, не ходят. А этого леший пригнал. Мед в кадке учуял. А может, кем вспугнутый был… Шатун.
— И как же вы с ним? Что дальше было?
— Как в сказке, сынок. Вкатил я в пасть ему заряд гороху и тягу. Да снег глубок. Настиг он меня на десятом шагу и ну шмутовать, отделять от костей кожу. Я в крик. Богу душу сготовился отдать. Да, спасибо, на выстрел солдаты прибежали. Весь караул. Медведя прибили, а меня чуть живого вынули из-под него. А ты говоришь — не ходят. Ходят. Только усни.
Дверь распахнулась. В палату вошла сияющая, румяная с мороза санитарка.
— С добрым утром! — И сразу к койке Плахина, шепнула на ухо: — Танцуйте, Ваня. К вам приехала жена.
Плахин побелел. В глазах у него помутилось. Зачем она? Зачем? Разве не знает, в каком я состоянии. Ведь я бревно, неподвижный чурбан. Я же не нужен ей. Не нужен. Ах, понимаю. Она не верит. Приехала посмотреть, убедиться, не наврал ли, а может, вовсе, чтоб проявить жалость. Но это же издевка, мучение для меня. Я же люблю ее. Люблю. И лучше не видеть, лучше забыть.
Он схватил санитарку за руку.
— Танечка! Танюша! Может, скажешь…
— Поздно, — улыбнулась Таня и кивнула через плечо.
Да, было поздно. Лена уже стояла на пороге палаты. Стояла с пучком распустившейся вербы в руке, растерянная, смущенная, в беленьком, накинутом на плечи халате, красной кофте, плотно обтянувшей грудь, и в им купленных в Рязани туфельках. Вскочить бы сейчас, кинуться к ней, подхватить на руки, закружить милую, сотни раз виданную, целованную. во сне. Но Плахин, откинувшись навзничь, подтянувшись на подушки, лежал неподвижно и до боли сжимал стальные прутья койки.
Она несмело, путаясь, точно зная его мысли, боясь самого страшного — его отказа, но в то же время несказанно радуясь тому, что увидела его живым, подошла к койке и тихо, еле слышно проговорила:
— Вот и приехала. Здравствуй.
Больные, гремя костылями, восхищенно крякая, поспешили вон из палаты, хотя никто их об этом и не просил.
Плахин приподнялся, глотнул застрявший в горле ком.
— Ты… Ты зачем? Кто просил?
— За тобой, Ваня. Просим все…
— Кто это «все»?
Лена, не ожидавшая такого вопроса, смутилась:
— Ну, я… дедушка Архип… Вера Васильевна. Весь колхоз.
— А ты… вы знаете, что я калека? Инвалид на всю жизнь?! — закричал Плахин.
— Неправда. Я была у доктора. Он сказал, что надеются, будут лечить.
Плахин горько усмехнулся.
— Надеются. Будут лечить. Лечат они. Всем лечат. Вызывали сто докторов. А толк-то какой? Где сдвиг? Как лежал чуркой, так и лежу.
— Но неправда же! Неправда, — возражала Лена. — Тебя вылечат. Ты будешь здоров.
— А если нет? Что тогда? Что?!
Лена села на край койки, обняла его.
— Ну, тогда я буду с таким. Какой есть.
Плахин вздрогнул, откинул руку Лены.
— Да понимаешь ли, что говоришь?! Я же недвижим. Прикован. На колясочке, что ли, будешь, как младенца, возить?
— Буду. Хоть всю жизнь…
Плахин расслабленно и безвольно откинулся на подушку. Глупая. Несмышленая девчонка. Не дает отчета своим словам. Не понимает, что значит калеку содержать. Ни встать, ни лечь, ни помыться… От одних «параш» можно с ума сойти.
Лена словно догадалась, о чем думает Иван, и вдруг с полной решимостью сказала:
— А хочешь… хочешь я останусь тут? Пока не поправишься… А?
Эти слова вовсе обезоружили Плахина. Еще минута, и он бы кинулся к ней на шею, жарко обнял бы ее, наговорил бы тысячу ласковых слов за то, что она такая самоотверженно хорошая. Но твердая убежденность в том, что он будет страшной обузой для нее, для этих маленьких, хрупких рук, остановила его, и он, сжавшись в комок, мучаясь, произнес:
— Ленок, уезжай. Уезжай ради бога, прошу тебя.
Заплаканная, расстроенная ушла из палаты Лена. А назавтра она снова пришла и снова услышала железное, рвущее душу «нет!» Не помогали ни ее горячие просьбы, ни уговоры его товарищей. Плахин упрямо стоял на своем. Как тяжело было уходить ни с чем. Лучше бы умереть у него на глазах. Лучше бы ей остаться тут, прикованной к койке. Она в последний раз, уже от двери, глянула на Плахина — свою первую и, может быть, последнюю любовь, пошатнулась с горя и, чтоб не разрыдаться, не выказать людям своих слез, круто повернулась и пошла. Пошла тихо, надеясь, что, может, в эту последнюю минуту он окликнет ее, сжалится над ней. Но нет. Вот уже и кончился коридор, два шага осталось до двери, а голос его так и не прозвучал.
Плахин же дважды порывался произнести то слово, которое бы вернуло ему девчонку с милыми прядками льняных волос, но последним усилием воли сдержал себя. Приподнявшись на локтях, он слушал, как затихают ее шаги, как тоскливо и больно, будто оторвали что от сердца, проскрипела за ней дверь. И когда она гулко захлопнулась, схватил с тумбочки вербу, бросился на подушку и зарыдал.
* * *
Под вечер, на пятые сутки после прощания с Плахиным, Лена уже была в Лутошинском урочище. Возле дома лесника ее окликнула Варвара:
— Девонька! А ну-ка зайди. Передохни минутку.
Лена обрадовалась приглашению. Снег был глубок на дороге, не накатан, и она смертельно устала, проголодалась, еле тащила ноги. Войдя в хату, тихо села на лавку, по-старушечьи скрестила руки на животе. Варвара тут же подала ей кружку чаю и ломоть свежего, только что из печи, хлеба.
— Съешь-ка, подкрепись. Да расскажи, как оно, что?
— Что рассказывать, — вздохнула Лена. — Все кончено. Не приедет он.
Варвара подсела рядом, положила руку на плечо.
— А ты не майся. Обойдется все. Вернется твой Иван. Никуда не денется. Только богу молись. Он услышит твой зов, возвернет тебе дружка.
— Да я б… если б вернулся.
— А ты не обещай. Не надо. Слова— они ветер. Сказал — и нет. Ты делом свою стражду кажи.
— Каким, тетя Варвара?
Варвара погладила Лену по голове.
— Земным, милая, земным. К нам каж вечер старушки на моленье приходят. Святой Денисий, — она кивнула на закрытую в светелку дверь, — с богом учит их говорить.
— Денисий? — удивленно глянула Лена. — Разве он не уехал? У него же где-то храм, говорил.
— Нет, милая, не уехал. И не уедет теперь. Онемел он. Бог голос у него забрал, чтоб через него разговаривать с нами.
Лене стало смешно. Глупость какая-то, чепуха…
Варвара поспешила рассеять сомнение Лены.
— Вот так и бабка Евлоха не верила, — заговорила она полушепотом. — Думала, пропал на войне сынок. А Денисий погуторил с богом и сказал: «Не раньше как через пять ден придет». И точно — на пятый пришел. Да и тебе сколь он предвестий сделал! Почти каждое письмо предсказал.
Неверие Лены пошатнулось. Слишком все было правдиво, все обстояло так, как сказала Варвара. Все новости, все предвестия бед к радостей узнавались, исходили отсюда, из этого лесного дома. Не знала Лена лишь одного: как добывали их его тихие обитатели — Варвара и брат Денисий. Все это было для нее загадочно и любопытно.
Уже в поздние сумерки добралась она наконец до Лутош. Нежилым духом встретил ее старый плахинский дом. Архип, как видно, не ожидал такого скорого возвращения Лены и печь не топил, спал в своей избушке. Она была хотя и ветхая, холодная, а все же нет-нет да и сманивала туда старика.
Положив узелок у порога, Лена нашла на припечке коробку спичек, зажгла лампу, села у пустого стола на лавку и подперла голову озябшими кулаками. Как жестока бывает жизнь. Сколько горя обрушивает она на одного человека! Он уже придавлен, подмят, а на него, как камни с горы, все сыпятся и сыпятся беды. Может ли он выстоять под этой страшной тяжестью или будет безжалостно смят?
В печной трубе о чем-то голосила последняя зимняя метель.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
1
Как ни схожи птичьи дороги, как ни раскиданы по лику земли их гнездовья, а, верные инстинкту самозащиты, долго летят крылатые страдники вместе, сбиваясь в ломкую стаю, сообща минуя опасности и капризы погоды. И только когда уже где-то близко жилище и становится невмоготу, с грустным криком отваливают парочками в сторону и торопятся в родные, извечно облюбованные места.
Точно так было и с фронтовиками. По пять-семь лет провели они вместе, в одних полках, батальонах. Тысячи дорог прошли, бессчетное число смертей побороли в нерасторжимом братстве. И вот теперь, один за одним, разлетались по домам, милым сердцу сторонкам.
Уехал в свою белохатную Полтавщину новый ротный командир Ракита. Увез куда-то на Смоленщину медсестрицу Наташу комбат Сычугов. Проводили со всеми почестями в далекую Вытегру командира полка. Старик долго стоял на колене перед расчехленным, в муаровых лентах знаменем, целуя алый шелк, прижимая к груди бахрому. А потом вытер украдкой оброненную слезу, обернулся к притихшему строю.
— Солдаты! Товарищи! Через час я уезжаю из полка. Признаюсь, мне очень трудно расставаться с вами. Роднее сынов вы мне стали за четыре военных года. Любил я вас, отчаянных и бесшабашных, но и спрашивал строго. Были минуты, когда и на верный конец отсылал. Но что поделать. Так надо было. Иначе бы не одолеть нам врага, не водворить земного покоя. Так что простите, если на кого и прикрикнул, оружием пригрозил. Простите. — И полковник низко поклонился. — Простите и за то, что вот покидаю вас. Сжился я с вами, сросся душой. Послужить бы… Да стар я стал. Не те уже годы.
Он посмотрел на склоненное в прощании алое полотнище и сказал:
— Берегите эту святыню. Мы пронесли ее сквозь кромешные огни и не опозорили ничем.
Проходили солдаты в последний раз парадным маршем перед своим дорогим командиром, равнялись на него, косили восхищенными глазами на его грудь, где было тесно орденам и медалям, а он, весь седой и поникший, стоял на лужке, и усы его, в первый раз обмякшие, тихонько вздрагивали.
В тот же день перед строем батальона объявили, что увольняется в запас и младший сержант Решетько. Все кинулись поздравлять его, стали качать. А он не выразил по этому поводу ни малейшей радости. Напротив, с лица его исчезла былая улыбка, плечи поникли, и весь он как-то сразу присмирел, будто его подменили.
С утра все ушли на занятие в поле. Его же теперь не пригласили в строй, не сказали, чем ему заниматься, и ему стало до боли обидно, как-то не по себе.
Сняв пилотку и прислонясь спиной к березе, долго стоял он на лагерной линейке, по которой уходила рота. Затихала, отдалялась песня, уносила сердце с собой. Отходил ты в строю. Отпел свою песню, Степан. Новые дороги ждут тебя, другие песни.
Он лег на траву и долго так лежал, тоскуя, радуясь и думая. Кто-то тихо подошел и тронул его за плечо.
— Степан! Решетько! Ты спишь?
— A-а! Нет, просто прилег, — отозвался Решетько.
— Тебе вот письмо. Из Брянска…
Вскочил Решетько, вырвал из рук дневального засаленный конверт, уставился неверящими глазами в обратный адрес. «Так и есть. Из Брянска. Неужто кто жив?»
Писала крестная мать Настасья.
«Родимый Сгепушка! Крестничек мой! Шлю я тебе нижайший поклон и благословение в службе твоей и здоровье. Слава богу, что хоть ты, мой сынок, разыскался. Теперь только и осталась мне от тебя утеха. Будет кому могилку землей засыпать. А других родственников наших и родителей твоих никого не осталось в живых. Все они приняли лютую смерть от супостатов. Даже неизвестно, где они и лежат в землице сырой. Сказывали, будто матушка твоя и батя, а тако ж сватья и свахи на годуновском большаке перебиты и в озере потоплены. И села нашего нету. Живу я одна среди леса, в шалаше, на старой усадьбе. А других дворов нет. Все подчистую спалили. А улица, где вы гуляли, позаросла крапивой. И поля с лугами. Некому их ни пахать, ни косить».
Помутилось в глазах Степана. Зримо крапивник на улице представил, луга, зарастающие кустами, и одинокую Настасью в шалаше, неумело сделанном женскими руками. О гибели родных он узнал год назад из ответа, присланного сельсоветом. Но голос Настасьи тронул старую рану, заставил пережить все снова.
Куда же податься! Где ждут тебя, Степан? Думал в соседнее село возвратиться, хату себе поставить да вместе с селянами возродить былое. И вот… Нет, оказывается, селян. Не с кем пробуждать дичалую землю. «В Денисовке, правда, люд уберегся, и трактор там уже пашет», — пишет Настасья, но ехать в чужое село неохота. Место не по душе. Песок да ямы. Или в армии остаться, послужить сверхсрочно? Нет, куда теперь. Приказ уже подписан, да и возраст не тот. Двадцать восьмой пошел.
Неслышным, мягким шагом к березе подошла Катря. Степан сидел, привалясь спиной к стволу, опираясь локтями о поджатые колени, закрыв лицо руками.
— Здравствуй, Степа, — сказала она тихим, грустным голосом и, не дожидаясь ответа, подобрав юбку, села. — Уезжаешь?
— Да, уезжаю.
Решетько не глядел на Катрю. Он даже пожалел, что она пришла и мешает ему посидеть наедине, обо всем подумать. Никогда еще не чувствовал он себя таким одиноким, несчастным, как теперь, человеком, у которого нет уже ни армии, ни родного крова.
— Куда же поедешь, Степа? — спросила после недолгого молчания Катря.
— Не знаю, — вздохнул Решетько. — Куда-нибудь поеду. — И назло добавил: — У меня много знакомых.
— Так уж много?
— Не считал. Некогда было.
— Обижаешься?
— За что?
— Сам все знаешь. И пострадал за меня. И потом насмешки…
— A-а… Это меня не волнует.
Катря нервно сломала прутик. Пухлые губы ее, дрогнув, дернулись. Высокая грудь качнулась.
— А… а если других… Других вот волнует.
Решетько удивленно поднял подпаленные брови.
— Это… Это кто же за меня так сильно переживает? Не вы ли случайно считаете меня распропащим? А?
Катря, не пряча грустных глаз, покачала головой, повязанной косынкой.
— Нет. Не считала. — И, помолчав, добавила: — Я о тебе другого мнения, Степа.
— Какого же, если не секрет?
Катря опустила глаза, погладила ладонью иссиня- зеленую бархатную мураву.
— Ты… Хороший ты, Степан.
Решетько от смущения покраснел. Он решительно не ждал такой оценки себе. Да еще от кого? От злой, неподступной поварихи Катри, которая только и обжигала его всегда каким-то испепеляющим взглядом. Что это с ней? С чего бы? Уж не подослал ли кто ее подшутить на прощание? И как бы желая убедиться в этом, он пристально посмотрел на повариху и предостерегающе изрек:
— Шутить не вздумай. И тому, кто подослал тебя, скажи: Решетько сам сто баб обведет.
— «Баб», — скривила в горькой усмешке губы Катря. — Все меня бабой считают. Ну и пусть. Только я бы хотела, чтоб ты правду знал.
— Я? — опешил Решетько.
Катря не ответила. Густая краска залила лицо ее, даже мочки ушей заалели.
Сколько за время войны напрашивалось в дружбу к ней! И молоденькие пареньки, и женатые. Приставали и с прямыми намеками: «Лови, мол, момент, а то отцветешь, и никто не посмотрит». Но ни один из них не стал близок сердцу. Чуть-чуть нравился, правда, офицер из саперной роты. С ним месяца три дружила. Да вот он — этот балагуристый, ершистый Степан. В разговорах с ней он был остер на язык, подсыпал и шутки, но никогда не позволял плохого. Может, потому и понравился. Когда это случилось, она точно сказать не может. Год минул или два? Степан проник в сердце как-то незаметно, и она вдруг стала замечать, что скучает по нему, переживает, когда он уходит в бой. А когда же появлялся с термосом за спиной или котелком в руке и еще издали вскидывал руку: «Салют, Катерина!», день становился солнечнее, ночь светлее и щеки горели огнем.
Тянулись дни, месяцы молчаливой любви. И вот теперь она, как подземная вода, вырвалась наружу. Когда Катря услыхала, что Степан уезжает, ей вдруг сделалось страшно. А как же она? Да она же теперь и дня без него прожить не сможет. Степан — это ее первая любовь, окопная молодость, счастье, которое она не может, не должна упустить.
Она вдруг встала на колени, взяла его руку и горячо, страшно волнуясь, чему-то радуясь и чего-то страшась, сбивчиво заговорила:
— Степушка… Степа. Не обманываю тебя. Никем не подослана. Сама я пришла. Как видишь. Как есть. Поедем со мною. В Крым поедем. Под Симферополь. Тетка там у меня. Свой дом. Садочек…
Решетько растерялся. Слишком все было неожиданно, слишком заманчивы слова, которых никто ему никогда не говорил и в которых он не успел еще так быстро разобраться. А она все говорила и говорила, и в черных, как слива, глазах ее светилась горячая мольба и просьба.
— Да как же мы? Без любви… без сговору?..
— Да все есть. И будет… Ты только скажи.
Решетько подумал: «А чего мне и в самом деле мотаться по свету, искать кого-то? Чем она не пара? И лицом неплоха. И в фигуре… Я, правда, ей низковат. Поди, до подмышек. Но не беда. Обвыкнем. Лишь бы любила. И потом ребята. Да я ж им нос сегодня утру. Вот будет диво!»
— Так как же, Степа? — с потерянной надеждой спросила Катря.
Решетько вскочил, поднял повариху за руки, сверкнул счастливыми глазами.
— Катря!
— А?
— Дай мне твой платок.
Катря подумала: «Зачем ему мой платок? Посмеяться? Похвастаться над „побежденной“ Катрей? Ну и пусть. Пусть делает, что хочет, а я его люблю и мне ни капельки не стыдно».
Она решительно сняла с головы платок и с доверчивой нежностью повесила его на шею Степану.
* * *
Вечером, когда рота вернулась со стрельбища в лагерь, Решетько вышел на поляну, где отдыхали солдаты, и, дав понять, что он собирается сказать что-то важное, загадочно почесал за ухом.
— Тут кое-кто после случая в вагоне посмеивается надо мной, — заговорил он, косясь на старшину. — Дескать, Степан Решетько только горазд на побаски, а на деле, мол, боится женщин, как новобранец свиста мин. Ну, так я должен перед отъездом поправочку дать. Выдумка это, друзья. Так сказать, поклеп.
— Факты давай!
— Чем подтвердишь? — зашумели весело солдаты. — Факты!
— Факты? Будут вам и факты, — крякнул Решетько и взметнул над головой Катрин платок. — А ну, кто еще захочет смеяться над Решетько?
Увидев знакомый красный платок, солдаты раскрыли рты от удивления, в смятении загудели. Взять у Катри платок — это было так же неслыханно, как одолжить у бога бороду. А Решетько и впрямь бережно свернул легкий шелк, положил его в боковой карман и, подкрутив воображаемый ус, с достоинством сказал:
— Так вот. Женюсь я на ней, ребята, и приглашаю всех в Крым на свадьбу.
…В тот же вечер Степан и Катря уехали из полка.
2
К середине апреля армия Коростелева, прошедшая дальний боевой путь от Волги до Эльбы, Хингана и Порт-Артура, была расформирована. Командарм уезжал принимать пост командующего Туркестанским военным округом. Члена Военного совета Бугрова отзывали в Москву.
На прощальном ужине в Доме офицеров Коростелев был разговорчив, весел. Бугров же, хотя и выпил две стопки водки, грустил. Тяжело было прощаться с армией. Ведь с ней столько пройдено, пережито… Принимал первый полк и вот теперь проводил последний. И потом этот непонятный отзыв с Дальнего Востока в Москву. Командарм звонил в управление, интересовался — зачем отзывают. Там ответили: «На беседу. Предполагается назначить с повышением». Может, оно и так, но на душе почему-то тягостно, сердце грызет какое-то недоброе предчувствие.
За столик к Бугрову подсел Коростелев.
— Что закручинился, Матвей?
— На душе что-то скверно, Алексей Петрович.
— Не вижу для беспокойства причин.
— Да и я не вижу, но… — Бугров пожал плечами. — Сердцу не прикажешь.
Коростелев обнял рукой Бугрова.
— Все будет хорошо. Быть тебе, Матвей, начальником политуправления. Эх, если бы ко мне в Туркестан! Другого бы и не надо.
Бугров грустно улыбнулся.
— «Начальник политуправления». А черное пятно?
— Какое пятно?
— О котором шла речь у Гусакова.
— Забудь. Простое недоразумение.
— Я-то забуду, а вот кадровики… В личном деле давно небось пометка стоит: «вызывался».
— Зря ты. Лишнее говоришь.
— Нет, Алексей Петрович, не лишнее. Разве вы не знаете, как иной раз бывает? Бросит какой-нибудь клеветник тень на плетень, и пошла гулять подозрительность. И недоверие к тебе, и искоса смотрят… Хоть лбом о стенку бейся, а сразу не докажешь, что ты чист. Много, ох как много времени уходит, чтобы развеялся смрадный дым!
Бугров повертел бокал с боржомом. На поверхность всплыл черный уголек.
— Вспомните, как пришлось отбиваться комиссару гвардейской дивизии от клеветы Филиппова. Заведомую ложь написал ради сведения личных счетов, а что было? Комиссия за комиссией, расследования, опросы… Хорошо, что вы вступились.
— Да-а, — растянул Коростелев. — Насчет Филиппова ты прав. Такой мерзавец и родную мать оболжет ради своей карьеры.
Коростелев налил бокал нарзану, выпил его и, стуча дном о стол, нахмурился.
— А вся беда, брат, что за шиворот не берут таких негодяев. С рук им сходит. Вот и распоясались. Пиши, отравляй людям сознание. За это ничего не будет.
— Будет! — жестко сказал Бугров. — Настанет такое время. В назидание потомству дегтем будут Филипповых и Замковых мазать. Вот за это давайте, Алексей Петрович, и выпьем.
— И за таких, как Матвей Бугров, — добавил командарм.
Они встали и прощально подняли бокалы.
3
На шестые сутки Степан и Катря сошли с душного, переполненного мешочниками и демобилизованными воинами пассажирского поезда. За пачку махорки шофер довез их в кузове грузовика до окраины города, а дальше они пошли пешком по узкому извилистому ялтинскому шоссе.
Катря в шинели, перехваченной брезентовым ремнем, в коротких кирзовых сапогах и зеленой пилотке, из-под которой выбились тугие, связанные в кольцо черные косы, шагала обочиной впереди. Степан с шинелью на руке, чемоданом, вещевым мешком за спиной брел шагах в трех позади.
По обе стороны дороги тянулись задичалые, со старыми приземистыми яблонями и грушами сады в цвету. Черная, с серыми проплешинами земля была кое-где вскопана, местами же оставалась нетронутой, заросшей травой и зелеными кустами нераспустившихся маков.
Людей в садах у глинобитных домиков не было видно. Редкий старик покажется в них с лопатой или ножовкой. Зато в колхозном яблоневом массиве, сбегающем с пригорка, там и сям мелькали платья, слышались голоса, рокотал не то движок, не то трактор. Ручей нес с гор свои светлые воды. В низине предвечерне щелкали соловьи.
Верстах в трех впереди теснились лысые и в редких кустарниках горы, за ними виднелись немного повыше, и где-то из синего, переходящего в малиновый цвет горизонта вырастала похожая на стол гора-великанша.
— Степа! — окликнула, оглянувшись, Катря. — А смотри, какие тут горы! Вот красота-то. А сады! Правда, красиво?
Степан молча кивал головой, соглашался, но смотрел на все безучастно. Только раз подумал: «А далеко ли здесь море?» — и сейчас же ушел опять в свои думы.
Что у нее за тетка? И как она примет? Катря что-то за всю дорогу ни разу и не вспомнила о ней, будто в свой дом едет. И вообще, о чем она сейчас думает? Что у нее на душе? Своего старого ухажера-саперика вспоминает, что ли? Кто знает, что у нее с ним было? Хорошо, если только знакомством обошлось, а вдруг…
Жгучее чувство ревности охватило его. Тогда, на Дону, он не обращал никакого внимания на этого сапера. А теперь… Трудно сказать, что бы сделал, попадись он на дороге. Измолотил бы… Загрыз зубами.
Подумав так, Степан вспомнил, как он год назад дразнил за ревность Плахина, и устыдился своих дум. «Эка взбредет чертовщина! Да пес с ним, с этим сапером. Вот же она идет со мной. Моя насовсем. Ишь ладная какая!»
— Катря! Катюша! — уже бодро окликнул он жену. — А скоро тетка твоя? Что-то идем, идем…
Катря обернулась, замедлила шаг, успокаивающе, ласково сказала:
— Скоро. Потерпи. Вот минуем гору, а там и село.
— Ну, ну. Веди, семейный мой командир. А я у тебя как ординарец.
— А может, помочь? Давай чемоданчик, Степа.
— Нет, нет, — запротестовал Степан. — Шагай. Я не устал. Нисколько. Ты не смотри, что я такой… Я сильный.
— Какой есть.
— Не рада?
— Глупенький. Да где ж мне было тебе радость показать?
Она обняла его за шею и, слегка нагнувшись, чмокнула в щеку. Степан оглянулся, зардел.
— Катя! Увидят…
— А пусть. Я тебя при всем народе могу.
— Да неудобно.
— Боишься?
— Не из пугливых.
Потом шли молча, взявшись за ручку чемодана. Катря отчего-то становилась все грустнее и грустнее. Степан же от теплых слов и поцелуя повеселел. Теперь и предгорья ему казались дивно красивыми, и предстоящая встреча с Катриной теткой не такой уж неловкой.
«А чего стесняться? — подбадривал себя Степан. — Выпьем по чарке, поговорим… Сначала, конечно, у нее пожить придется, а потом свой дом поставим. Камня тут много. Была бы глина. А если тетка старая, то и строить жилье не надо. Одной семьей в ее доме проживем».
— Катя, а сколько тетушке лет? — спросил он.
— А? Что ты? — встрепенулась о чем-то мечтавшая Катря.
— Тетушка старая, говорю?
— Да уж старенькая.
— А домик как у нее?
— Да так… Ничего. Подходящий.
«Ну, если и плох, подремонтируем, — рассуждал сам с собой по-хозяйски Степан. — Немного колхоз поможет, ссуду в госбанке возьмем. Закон вон об этом вышел. Фронтовиков в обиду не дадут».
Под вечер, когда ущелье заволокло густым туманом, они наконец пришли в село, где, по словам Катри, и жила ее родная тетя. У белых хат, вытянувшихся вдоль шоссе, мелькали огоньки костров. От них тянуло приятным дымком и жареным луком.
— Степа, ты постой здесь, а я побегу спрошу. Давно не была, хату забыла.
— Беги, да только скорей. Есть охота.
— Сейчас!
Она поставила у каменной стенки чемодан, кивнула на лавку под вишней и, по-девичьи откидывая в разные стороны ноги, побежала к крайним хатам.
Степан снял с плеч вещевой мешок, размял отекшие плечи, стряхнул пыль с гимнастерки, брюк, начистил бархоткой сапоги, достал кисет и, крутя цигарку, присел на лавку.
— Здравствуй, служивый, — вышел из палисадника низенький, костистый дед, тронув за козырек смятой кепки. — Нет ли закурить? Без курева просто беда.
— Найдется, — живо отозвался Степан, радуясь первому знакомству. — Вам покрепче или послабей?
Старик, устало двигая ногами, горбясь и подхриповато дыша, подошел к лавке, опять приподнял козырек кепки и сел рядком.
— А давай покрепче, чтоб продрало.
Пожалуйте. Вам свернуть?
— Да коль не трудно… А то в руках дрожь. Просыплю небось.
Степан свернул толстую, с палец, цигарку, прикурил ее от своей папиросы и подал старику. Тот сладко, глубоко затянулся, закашлял, содрогаясь до слез.
— Ух ты! Ну и зол табачок. Ух ты! Давно не курил такого. Почитай, с начала войны. В лесу больше палили мох.
— Это в каком же?
— Да в нашем. Брянском.
— В Брянском? — уставился на старика Степан. — Из какого же вы района, папаша?
— Из-под Навли, что меж Брянском и Орлом.
— Как же вы сюда?
— Нужда заставила. Переселились. Немец жилье спалил, так вот мы сюда. Да тут нас много переселенцев. И курские, и орловские… А большей частью с Украины.
— И как же вы тут? Обжились?
— Обжились. Русский мужик живушой. Как верба. Обруби ее всю, засуши, а сунь в землю — снова оживает.
— Значит, неплохо?
— Да вроде бы ничего. И хата есть, и садик. Только вот климат не тот. Не тот. — Старик щелкнул языком. — Ц-ц, да. Никак не привыкну к степи. К горкам этим. Душно тут и той приятности нет. Все меня в лес свой тянет. Во сне даже вижу нашенские боры. То бабку по грибы зову, то по чернику…
— Зато здесь винограда много.
— Э-э, да какой виноград, — крякнул старик. — Кошачьи слезы. Один куст за версту другой скликает.
— Новый надо сажать, папаша.
— А кому сажать-то? Кругом одни бабы. А тут силенка нужна. Камень вон какой!
— Машины будут.
— Э, да коли б машины…
Старик помолчал, затянулся и, как бы спохватившись, спросил:
— А вы чей же? Отколь?
Степан хотел рассказать старику, кто он, откуда, думал расспросить о Катриной тетке, но тут подошла сама Катря. Была она бледна и растерянна.
— Степа! Пойдем, — позвала она тихо и виновато.
— Нашла?
— Сейчас расскажу.
По узкой тропинке, петляющей в белой кипени каких-то пахучих кустов, она провела Степана на придорожный взгорок и, остановись Под грушей, печально сказала:
— Нет тетки, Степа: Уехала она.
— Как? Куда? — отшатнулся Степан.
— Не знаю. И никто не знает. Продала свой дом и уехала.
Степан тяжело опустился на чемодан.
— Вот те и раз. Ехали, ехали… Как же теперь?
Катря, прислонясь к груше плечом, уткнув голову в ладони, заплакала. Плечи ее тихо вздрагивали, и стала она какой-то низенькой и жалкой.
Степан тронул ее за плечо.
— Ну, чего ты? Брось. Шут с ней, с теткой. Что мы, дети? Не проживем?..
— А где жить-то будем?
— А тут. Тут вот, под грушей.
— Ты что, Степа? Да разве мы цыгане? Пойдем. Я уже договорилась. В хате переночуем.
— Никуда не пойдем, — ответил решительно и строго Степан.
— Да холодно спать тут, Степа. Весна-то капризная. Ночью будет иней.
— Эх, ты! Нашла чем пугать. Будем спать тут, на свежем воздухе.
Он достал из вещевого мешка плащ-палатку, широко разостлал ее на покатине под старой, еще не отцветшей грушей, снял шинель, положил ее в изголовье.
— Погоди. Я подушки принесу, — сказала Катря и нырнула меж кустов к белевшей на фоне взрытого чернозема свежеподмазанной хате. Минут через пять она вернулась, неся на плече две небольшие подушки в цветных наволочках и белую, аккуратно сложенную простыню на руке.
— Где ж ты взяла?
— У знакомых попросила.
Катря постелила простыню, взбила подушки, положила их и обернулась к Степану.
— Есть хочешь?
— Нет. Перехотелось.
— И мне. Будем спать или посидим?
— Ты ложись. Ложись, Катюша. А я посижу. Покурю…
Вертя цигарку, он слышал, как раздевается за спиной Катря. Вот она стащила сапоги, повесила на куст шиповника портянки. Вот сняла гимнастерку, с трудом сдернула через голову зауженную в талии юбку, расстегнула лифчик, залезла под шинель, вытянулась, вздохнула.
Степана охватила оторопь. Сердце, замирая, учащенно стучало. Сотни брачных историй рассказывал он, выдавая себя за героя. А тут… словно веревками его связали. Он не мог ни лечь, ни пошевелиться. Стыд жег все нутро. Время текло. Надо было что-то делать. Но что? Не сидеть же вот так всю ночь и не бежать с позором! И тут, совсем неожиданно, ему на ум пришла спасительная идея.
— Катя? — окликнул он глухим, не своим голосом. — Ты спишь?
— Нет. А что?
— Сказать тебе хочу…
— Что, Степа? Говори.
— Спать я, как видно, не лягу.
— Почему? — приподнялась удивленная Катря.
— Да, видишь ли… Не привык я к тебе и опять же саперик… Не верю я, что он так тебя отпустил. Не верю…
Катря обхватила Степана за плечи и, повалив его в постель, целуя горячо, зашептала:
— Милый ты мой. Дурачина. Да я ж ни с кем… Никогда. Родимый…
Степан обнял Катрю за шею и, замирая, будто летя с качелей, коснулся ее обжигающих губ.
…Проснулся он поздно, когда солнце уже сияло над вершинами гор и они, подсиненные небом, маняще, сахаристо белели. Катря, чуть улыбаясь припухлыми губами, непробудно спала. В черных, растрепанных волосах ее застрял сваленный пчелами белый лепесток.
Вдыхая чистый, бодрящий воздух, Степан поднялся на высокую, крутолобую гору, откуда перед ним распахнулась неоглядная даль. Ветер покачивал его. В голове, как с похмелья, шумело. Но никогда, никогда ему не было так хорошо, как. теперь. Он чувствовал себя на этой горькой и милой земле самым сильным, самым счастливым.
4
Давно уже не видели мраморные, увешанные картинами сражений, портретами полководцев залы Центрального дома Советской Армии такого многолюдья, пестроты военных мундиров и гражданских костюмов, как в этот июньский день. По лестницам, длинным коридорам, устланным мягкими дорожками, степенно двигались, улыбчиво беседуя с женами, старыми друзьями, почтенные генералы, прославленные маршалы, седовласые преподаватели, профессора. Но больше всего тут было старших и младших офицеров в парадных мундирах, с новенькими академическими знаками на груди, на которых виднелась одна лишь надпись: «ВПА им. Ленина».
На балконе играл оркестр. Мягкие, величавые звуки полонеза растекались по залам. В распахнутые настежь окна летел тополевый пух. Схожий с ливнем шум машин сливался с гулом людских голосов. Офицеры то двигались следом за генералами, то сближались в круг, поздравляя друг друга.
Невысокий генерал в зеленом мундире с потускневшим витым ремнем, видимо отставник, остановив авиа- тора-капитана, держась за его пуговицу и крутя ее, точно желая убедиться, прочно ли она пришита, что-то ему с увлечением рассказывал. Офицер, утомленный долгим рассказом, попытался отделаться от старика, но тот цепко держал его теперь уже за ремень.
Пышноволосая, крашенная под цвет осенней травы женщина с двумя взрослыми дочками, следуя на почтительном расстоянии от коренастого генерала, придирчиво рассматривала офицеров и наряды на офицерских женах.
Оркестр на какую-то минуту умолк. По залу прокатился шепот: «Министр… Министр!» — и все обернулись к парадному входу. По лестнице, поскрипывая сапогами, поднимался в сопровождении свиты полковников, генералов седой, крупнолицый, с мешковатыми отеками под глазами маршал. На левой стороне груди от погон до пояса пестрели планки боевых наград. Справа на лацкане кителя краснел депутатский значок.
Министр обороны выглядел усталым. Суровые серые глаза были чем-то недовольны и озабочены. Он кивал на приветствия и скупо улыбался, а когда заиграл оркестр и офицеры зааплодировали, поднял скрещенные в пожатии руки и потряс ими над головой.
К министру присоединились маршалы, генералы. Все потянулись к празднично накрытым столам. Загремели стулья, качнулись, вызванивая бокалами, столы. Длинные шеренги людей, ставших по обе стороны богато накрытого стола, застыли в ожидании команды.
Начальник академии, одетый в голубой мундир, подал знак головой:
— Прошу сесть, товарищи! Начнем наш прощальный ужин.
Все сели. К Сергею присоединился тот отставной генерал, который что-то рассказывал в фойе капитану в авиационной форме.
— Когда мы под Воронежем заняли штаб-квартиру генерала Шкуро, — начал он рассказывать Сергею, — мои орлы-кавалеристы увидели стол с выпивкой длиной в полкилометра. Ну, конечно, были обрадованы. Три дня ничего почти не ели. Все кинулись к столу, начали уплетать жареных поросят, гусей… Треск костей пошел, точно танк по сухому хворосту поехал. А от пробок залпы, залпы… Так в потолок и летят. Брызги шампанского, точно в Бахчисарайском фонтане. Да что Бахчисарай! Петергоф! Ниагарский водопад! Ну, вижу, дело плохо. Перепьются мои изголодавшиеся ребята. А пить нам, сами понимаете, нисколько нельзя. Семен Михайлович пьяных рубак терпеть не мог. С меня бы голова долой. — Генерал резанул ребром ладони по морщинистой, будто обтянутой полотном решета, шее и продолжал:
— Эх, думаю, где наше не пропадало! Вскочил я на коня и галопом на стол. Да как дал аллюр три креста, все бутылки так и посыпались. А конь у меня был… Таких коней теперь и в помине нет. Я вам про него сейчас всю историю расскажу.
Генерал взял Сергея за пуговицу, и тот понял, что теперь от собеседника скоро не отделаться. Придется выслушать всю лошадиную историю. Выручил начальник академии. Поправив микрофон, он встал и заговорил:
— Дорогие товарищи, выпускники прославленной академии! Разрешите от имени командования, политотдела, профессорско-преподавательского состава поздравить вас с окончанием…
Все захлопали. Отставной генерал умолк.
— Пять лет провели вы в стенах этой военной кузницы и благодаря постоянной заботе нашей партии, правительства, министра обороны, Главного политического управления, стараниям преподавателей получили прочные военно-политические знания. Ваш боевой опыт и знания — это большое богатство. Находясь в частях и на кораблях, не тратьте же это богатство напрасно. Отдавайте его на укрепление могущества нашей армии, на воспитание стойких, преданных Родине воинов. От души желаю вам в жизни, работе больших удач. За ваши успехи, друзья! За ваше здоровье, уважаемые гости!
Зал в едином порыве встал. Тонкий малиновый звон прокатился дважды по столам. Блеск хрусталя слился с блеском боевых наград, нагрудных знаков.
Сергей чокнулся через стол с друзьями.
— С окончанием, Алексей. Тебя, Никола, и тебя, Макар.
— За твое упрямство, Сергей.
— За продолжение дружбы!
— За то, шоб був ты всегда таким! — донеслось с другой стороны стола.
Воспользовавшись затишьем (все, выпив, закусывали), отставной генерал, торопясь, дожевал колбасу, опять схватил Сергея за пуговицу.
— Когда мы заняли под Воронежем штаб-квартиру генерала Шкуро…
— Вы об этом уже рассказывали, — улыбнулся Сергей.
— Ах, да! Это я рассказал.
— И про коня тоже, — пытался замять разговор Сергей. С минуты на минуту ему надо было выступать с благодарственным словом от имени слушателей.
— Нет, зачем же, — не отступал генерал. — Я хорошо помню. Про коня я еще не рассказал. А с конем-то у меня и случилась самая забавная и, если хотите, редчайшая история.
— Я извиняюсь, товарищ генерал. Охотно бы послушал, но мне сейчас выступать, — сказал Сергей, уловив предупреждающий кивок начальника курса подполковника Семенкевича.
— Пожалуйста. Не беспокойтесь. Я обожду, — отнял руку от пуговицы генерал.
Сергей достал из кармана листок с речью, заготовленной для него, поднялся во весь рост, обратился к министру обороны:
— Разрешите мне сказать несколько слов, товарищ Маршал Советского Союза.
Маршал выпрямился, как показалось Сергею, одобрительно улыбнулся и кивнул. Сидевший с ним рядом генерал-полковник тоже утвердительно качнул головой и что-то сказал на ухо министру.
— Дорогой товарищ министр! — начал громко, заученно Сергей, держа перед собой листок. — Дорогие товарищи из Главного политического управления! Наши глубокоуважаемые профессора и преподаватели! Разрешите мне от имени и по поручению всех выпускников академии горячо поблагодарить вас за то большое внимание, которое вы уделяли нашей военной, политической учебе, всемерному поднятию и повышению… — На этих словах Сергей осекся и покраснел. Он почувствовал, что говорит явно не то, что хочется сказать совсем другое — искреннее, теплое, выношенное в груди. И он, скомкав в кулаке листок, глядя на сидевших в одном ряду профессоров, преподавателей, уловив их подбадривающие взгляды, заговорил: — Нет таких слов, которыми можно было бы выразить благодарность вам, наши дорогие воспитатели, наставники. Спасибо вам и земной поклон за все, за все, что вы нам дали за эти годы. И где бы мы ни были, сколько бы ни прошло времени, мы никогда не забудем вас, ваших стараний и трудов.
Взрыв аплодисментов заглушил последние слова. Выпускники разом встали. Сотни благодарных, счастливых глаз уставились на заметно постаревших преподавателей. Поднялись, смущенные, взволнованные, и преподаватели. В добрых глазах начальника кафедры Сентюрина блеснули слезы. Инженер-полковник Белоконь растерянно, точно ему было душно, поправлял воротник. Рука его заметно дрожала.
— Спасибо тем, — продолжал Сергей, — кто нес нам новое, восставал всем сердцем против дряблого, кто, не жалея сил и времени, пекся о нашем будущем и научил нас смело глядеть вперед. Ну, а тому, кто потчевал нас заплесневелым, мы не скажем доброго слова. Нет!
Министр поднял руку.
— А что, разве есть в академии такие?
— Есть, товарищ Маршал Советского Союза. Как квочки на болтнях, так кое-кто из них сидит на старом, отжившем.
— И всё ждут, когда цыплята появятся, — засмеялся министр и обернулся к начальнику академии: — Что же будем делать с квочками?
— Придется квочек заменить, товарищ министр, — развел руками начальник академии. — Ну, и соответственно яички.
— Верно. По-народному с ними. За крылья — и вон из лукошка. А не то, чего доброго, вместо цыплят блох разведут.
Все засмеялись. Министр кивнул:
— Вы продолжайте. Продолжайте, товарищ майор. Извините, что перебил. Извините.
Но Сергей не знал, что дальше говорить. Кровь прилила к лицу, язык онемел. И тогда встал министр.
— Как говорится, придется пойти на взаимную выручку, — сказал он, улыбаясь. — Проявить долг товарищества и на практике показать силу взаимодействия между маршалом и майором. Но это присказка. Мне же хочется как бы продолжить прерванную речь. Вы не возражаете?
— Нет! Просим, товарищ министр!
— Разрешите сердечно поздравить вас с успешным окончанием учебы. Теперь в вашем багаже вместе с храбростью, мужеством, боевым опытом лежат и прочные знания. Вы теперь своего рода академики, сами с усами. Это хорошо. Но… — министр погрозил пальцем, — не зазнавайтесь, товарищи, не кичитесь наградами и значками. Будьте пытливыми, цепкими к новым знаниям. Иначе можете и не заметить, как вас обгонят другие, обскачет летящая вперед жизнь. Да, да, товарищи! Мы должны всегда быть диалектиками и помнить, что ничто не стоит на месте. Если еще недавно главной огневой силой были артиллерия, танки, пулеметы, то теперь уже атомное и ракетное оружие. А там, если не будет покончено с войнами, может появиться и еще невесть какая техника сражений. Так что учить есть и будет что. Надо только не дремать, не сидеть, как те некоторые, отставшие от жизни преподаватели-квочки.
Он налил бокал нарзану, отпил несколько глотков, вытер носовым платком губы и, торопливо сунув его в карман брюк, продолжал:
— А чего греха таить? Есть еще такие. Есть. Недавно мне довелось побывать в одной из академий на лекции по тактике. И что бы вы думали? Преподаватель, как и десять лет назад, ратовал за наступление в пешем строю так называемыми цепями. И это во времена бурного развития техники, массовых поражающих средств. Спрашивается: кто же из наступающих пешком достигнет цели? Конечно, все будет подавлено и разбито. Или возьмите вы вопрос о мобилизации. Один лектор читает: «Военкоматы будут рассылать повестки, уведомлять призывников через проводную связь». Спрашивается: какие повестки, какая проводная связь, когда все горит и рушится?
Министр говорил долго. Слушая его, Сергей убеждался, что у этого на вид суховатого, недоступно строгого человека светлый ум и очень доброе, волевое сердце. Именно таким он и представлял себе высшего начальника. До войны он тоже видел одного из военных министров. Тот выступал перед кавалеристами в Хамовнических казармах и всю свою речь посвятил мытью портянок, бритью голов и желтому песку на линейках. Теперь же взгляды старших начальников были шире. Мелочи не заслоняли им того главного, что нужно будет на случай войны. И Сергей от души порадовался этому. Нет, не повторится горький опыт прошлого, не погрязнет в рутине родная армия… Устами министра говорит партия. Слушай же! Слушай, подполковник Галкин. Рушится твое отсталое представление о будущей войне, гибнет твоя заскорузлая тактика.
Сергей отыскал глазами тощего, плосколицего человека с щеткой усов под острым носом и толкнул локтем Алексея Проценко.
— Смотри. Сидит и не краснеет. Будто его не касается. Вот дубина.
— Да. Этого не прошибешь. Старый консерватор. А Грудинин-то наш, Грудинин! Гляди-ка, к дочкам начальника управления кадров подсел, бисером рассыпается.
— Да. Этот далеко пойдет.
— Уже пошел.
— Куда?
— В адъюнктуру рапорт подал.
Сергей улыбнулся.
— Жук ползет обогащать капусту. Пойдем покурим.
— Идем!
Они вышли на балкон. Над парком висела полная, сверкающая чистым серебром луна. В купах деревьев качались белые шары-плафоны. По синей чаше озера легко скользили лодки. Брызги воды из-под весел взлетали серебром. Где-то за озером играл оркестр. Десятки ног лихо вымолачивали краковяк.
— Тебя куда назначили? — закурив папиросу, спросил Сергей у Алексея.
— В Ульяновск. На Волгу. А тебя?
— Меня еще не вызывали. Куда-нибудь пошлют. Мне все равно.
— Почему? Ты же хотел в Забайкалье?
— Была причина, — вздохнул Сергей, — но теперь ее нет.
— Какая?
— Девчонка там у меня служила. Хотел поехать к ней, но…
— Уволилась?
— Если бы…
— Вышла замуж?
Сергей с шумом выпустил дым, зло придавил о перила горящую папиросу.
— Погибла… Под Харбином.
— Что же ты молчал?
— А что говорить? Разве поможешь?
— Да, — вздохнул Алексей. — Война, война… чтоб ты не повторилась. — Рука его легла на плечо Сергея. — Да ты не переживай. Брось, Сережа, у всех было горе. Слышь?
Сергей молчал. Он смотрел на гуляющие по аллеям парочки и думал: «И она могла бы вот так… в белых туфельках, воздушном платье. И для нее играл бы оркестр…»
Кто-то тронул за пуговицу хлястика. Сергей оглянулся. Рядом стоял кавалерист-генерал. Глаза его сияли. Даже шрам на лбу стал меньше.
— Батенька! А я тебя обыскался, — обрадованно воскликнул он. — Если бы не ноги ваши, не нашел бы. Вы в кавалерии случайно не служили?
— Да, пришлось немного.
— Так и знал, — обрадовался генерал. — Такие прогнутые ноги только у кавалеристов. И осанка — грудь колесом, голова в зените. Вот так.
Генерал подпер спину кулаком, браво выпрямился и, стукнув себя в грудь, пробасил:
— Гвардии гусар! Ги-и, да-с… Однако же я отвлекся. Про коня-то я не рассказал. А с ним редчайшая история была…
Сергей хотел отделаться от навязчивого рассказчика с его историей, но тут же подумал: «А чего над стариком смеяться, зачем его избегать? Может быть, бой под Воронежем и нерассказанная история с конем были в жизни этого человека самыми значимыми, самыми неизгладимыми. А чем больше отдаляется время, тем сильнее желание вспомнить о легендарном прошлом. Да и сам-то я сколько раз ворошил былое!»
Сергей согласно кивнул головой и приготовился слушать седовласого генерала.
5
В воскресенье утром Ярцев приехал к своему старому знакомому по фронту полковнику Литвинову, жившему в каменном двухэтажном домике на Хорошевском шоссе.
На звонок вышла жена полковника Александра Васильевна — приземистая, располневшая женщина с толстой косой. Обрадованно улыбнулась, приветливо сказала:
— Проходите, пожалуйста. Лаврентьич дома.
— Спасибо.
Сергей шагнул через порог, шутливо щелкнул каблуками, взял под козырек.
— Представляюсь по поводу окончания академии!
— Очень рада. Поздравляю, Сереженька, молодчина!
— Шура! Кого это ты поздравляешь? — раздался из комнаты голос полковника.
— А ты выйди, сам увидишь.
Шлепая тапочками, в коридор вышел Владимир Лаврентьевич. Он был таким же бодрым, смуглолицым, чернобровым красавцем, как и год назад, когда Сергей заходил к нему в политуправление войск ПВО страны, где он работал начальником отделения информации. Только немного пробилась седина на висках да запали щеки. Одетый в широкую зеленую пижаму, он был похож сейчас на парубка гоголевских времен.
— A-а! Явился беглец. Проходи. Проходи, не стесняйся. Собак злых нет, и ковры не замараешь. Ни того, ни другого нема. Да ты что стоишь? Ждешь поздравления? Не будет. К шутам. Звание получил — не обмыли. И академический значок решил зажилить. Не выйдет.
Сергей достал из кармана завернутую в бумагу бутылку.
— Извиняюсь и исправляюсь.
— О, це дило! Как кажут у нас на Кировоградщине, сидай, куме, з бутылем побалакаем.
Он взял бутылку, потряс ею над головой.
— Шура! Сооруди-ка нам закусить.
— А что вам подать, Володя?
— Действуй по-украински. Что есть в печи, то на стол и мечи.
— Пива подать?
— А как же? И пиво, и воблочку… Я ж не тот кум, которого кума одним табаком угощала.
На столе появились графинчик в виде пингвина, три бутылки запотевшего в холодильнике пива, тарелки с колбасой, сыром, маринованной селедкой и плетеная корзинка с вяленой воблой.
Лаврентьевич взял одну из рыбин, смачно понюхал ее, покачал головой, крякнул:
— Ах, хороша! Люблю чертовку. В нашей деревне был дьяк. Так тот, бывало, всегда за голенищем тарань носил. Вытащит, о подметку постучит и: «Дай боже на завтра тоже».
— Володя! Опять ты с анекдотами. Угощай же.
— Ничего, обождет. Я его больше ждал.
Человек, который первый раз попал бы сюда в гости, мог обидеться на эти слова. Но Сергей знал, что полковник всегда шутит, что ему не так дорога выпивка, как веселая, пересыпанная анекдотами и украинскими поговорками беседа. Он мог пересказывать анекдоты часами, словно черпал их из бездонного сундука.
Вот и теперь он наполнил рюмки, заткнул пробкой рот пингвину и, откинувшись на спинку стула, сказал:
— А перед этим новый анекдот. Про попа. Нанял как-то батюшка в церковь звонаря. Но звонарь попал горький пьяница. Одну обедню на колокольне проспал, другую… Обозлился святой отец. Вызывает ослушника в алтарь и давай его отчитывать. Час ругает, другой. Устал звонарь, еле стоит. От жажды сухие губы облизывает. А на престоле у батюшки графин с водой. Чистая. Ключевая. Не выдержал звонарь. Один стакан налил, выпил, другой, третий. У попа глаза на лоб полезли. В ларец руку сунул и подает звонарю кусок колбасы. «Здорово зелье пьешь, раб божий. Меня на стакан обошел. На-кось вот, закуси».
Сергей поднял рюмку.
— Не будем уподобляться ни попу, ни звонарю, а просто выпьем по чарке, как на Руси повелось. За ваше здоровье, Владимир Лаврентьевич. И ваше, Александра Васильевна.
— За окончание учебы, — чокнулся полковник. — Как говорится, дай нашему казаче новой удачи.
Закусив селедкой, полковник уже без шутки, озабоченно спросил:
— И куда ж теперь? Назначение получил?
— Да вот пришел к вам посоветоваться, — заговорил Сергей. — Сегодня «сватали» меня.
— Кадровики? Или из войск?
— Из управления кадров.
— И куда же? Что предлагают?
— Инструктором в Центральное управление.
— В управление? — настороженно поднял брови Литвинов. — А в какой отдел?
Сергей назвал.
— Что это они? То в войска предложили, а теперь сюда.
— Представления не имею. Говорят, сам начальник управления так решил.
— А ты? Ты-то как на это смотришь?
— Двояко. И поработать в таком органе заманчиво, и хочется послужить в войсках.
— Согласия еще не дал?.
— Нет. Вашего совета жду. Вы уже столько в центральных управлениях… Знаете, почем фунт лиха.
Полковник встал, вынул из серванта пачку папирос, закурил, вернулся к столу.
— Значит, ждешь совета? Ну, что ж… Дам тебе совет. Только вначале ответь мне на три вопроса.
— Каких?
— Во-первых, можешь ли ты засиживаться?
— А что это такое?
— Поясняю. Рабочий день окончен. Все идут домой к своим семьям, невестам. Ужинают, наряжаются, спешат в кино, театры, в лес. А ты, раб божий, сидишь за канцелярским столом и с тоской смотришь в окно. Тебе хочется уйти. Но ты не можешь, потому что не ушел твой начальник. А начальник сидит оттого, что еще не уехал его начальник. А тот начальник торчит за столом из-за того, что торчит старше его начальник. Вот и луна уже поднялась над крышами. Погасли в домах огни. Черти вышли биться на кулаках, а ты все сидишь. Впрочем, не сидишь, а дремлешь. Спишь, проще говоря. И снятся тебе, рабу голодному, щи и жареные гуси. И начальник твой спит. И его начальник тоже. Все ждут, когда в окошках у Верховного погаснет свет. А он все не гаснет и не гаснет потому, что Верховный работает по ночам. Но вот где-то внизу хлопнула дверца, взревел мотор, и все очнулись. Загрохотали суматошно дверцы сейфов, защелкали дверные замки и все как очумелые, перегоняя друг друга, ринулись вниз к последним троллейбусам, трамваям. Вот что значит уметь засиживаться. Понял, чем дед бабку пронял?
Сергей с тоской посмотрел в окно, вздохнул. Нет, эта перспектива засиживания не очень его привлекала. Он не дряхлый дед и не любитель кабинетной жизни. А полковник, хитровато улыбнувшись и выпуская клубы сизого дыма, как назло расписывал:
— И если ты будешь исправно засиживаться, не будешь докучать начальству просьбами уехать пораньше, то и в аттестацию тебе запишут: «Усидчив». И пошел ты по служебной лестнице, как звонарь на колокольню. А коль не сможешь, считай пропало. Начнут тебя, грешного, склонять во всех падежах и лицах.
— Ясно-о, — протянул Сергей. — Ну, а второй вопрос?
— Сейчас, кума, будет и вторая сума, — открывая пиво, отвечал полковник. — Можешь ли ты слизывать языком кляксы и бегать антилопой?
— Нет, не умею. Не приходилось.
— Вот видишь. А иным работникам это как раз и надо.
— Зачем?
— Как зачем? Ну, допустим, принес ты на подпись бумагу, а руководящий товарищ возьми да и оброни кляксу на нее. Недолго думая, ты подхватываешь лист, — смеясь, полковник выхватил бумажную салфетку, — и кляксу языком — раз! Ты доволен, что труд не пропал, а начальник вдвойне. Он увидит и усердие твое, и канцелярское искусство.
— А антилопой бегать зачем?
Полковник кивнул: пей, дескать, пиво. Опорожнил бокал сам и, очищая воблу, пояснил:
— Начальник едет на совещание, а в голове мыслей готовых нет.
— Нет, и не езжай, — качнул плечом Сергей.
— Э-э, дружок! А подхалимы зачем? Только станет известно, что начальнику нужна речь, он тут как тут. «Товарищ начальник, позвольте мне написать». — «Ну, ну, давай. Только надо бы побыстрей». — «Будет сделано сей миг». И пошла писать, монтировать заранее припасенные на пожарный случай цитаты. Не успеет начальник и стакан простокваши съесть, как речь готова. В папочку сложена, угольничком скреплена, и на нем даже голубок для красивости нарисован. Мчится подлиза на полном ходу, лбом двери сшибает. «Извольте, товарищ начальник. Речь ваша готова». Начальник взвесит на ладони листы, глянет на потный лоб составителя и осчастливит его улыбкой.
— Понятно, — еще больше мрачнея, ответил Сергей. — Ну, а третий вопрос какой?
— Дай воблу доем, потом расскажу. И ты не зевай. А то мы живо управимся с ней.
Сергей взял маленькую плоскую рыбицу, с трудом содрал с нее кожуру, задумчиво пожевал серую остросоленую дольку.
— Так я третьего вопроса жду.
Полковник встал, надел на горбинку носа роговые с черными дужками очки, оперся кулаками о край стола.
— Сможешь ли ты произнести на собрании своих сотрудников вот такую речь? — Он тронул пальцами кадык и сразу изменил свой грубоватый бас на визжаще-умиленный голосок: — Товарищи! Такой глубокой, такой умной и целенаправленной речи, которую только что произнес наш уважаемый Кузьма Иваныч, я отродясь не слыхал. Она доставила мне не только духовное наслаждение, но и натолкнула на большие государственные раздумья, вдохновила меня и мою семью…
Александра Васильевна потянула мужа за хлястик пижамы.
— Володя, брось чудить.
— Подожди. Я только начал. Г-м-м. Да, да, товарищи! Именно вдохновила. У меня появилось столько ценных мыслей, что потребуется не менее пяти лет, чтобы воплотить их в жизнь. Спасибо вам, Кузьма Иваныч, за такую светлую речь.
Полковник снял очки, сел, похлопал Сергея по плечу.
— Вот так. После этого ты можешь смело сидеть пять лет в своем кресле и никакие штатные сокращения тебя не коснутся.
Сергей покачал головой.
— Неужели все так?
Полковник дружески обнял его.
— Конечно, не так. Многое я преувеличил, приукрасил, но кое с чем из этого ты можешь встретиться. Не все кристально честные люди там. Я часто бываю в том управлении, многих знаю давно. Есть там добрейшие, светлые головы, хотя они и занимают небольшие посты. Это Меньшиков, Бородин, Борисов… Да всех разве сочтешь. Их большинство. Начальник управления умный человек. Но есть и такие, на которых смотреть тошно. Извиваются, ябедничают, лебезят. Таких остерегайся, Сергей. Ни за что продадут.
6
Как и было приказано, Сергей Ярцев явился к десяти утра в бюро пропусков и позвонил инструктору по кадрам Дворнягину.
— Вы просили сказать о своем согласии, так вот я подумал…
— И что?
— Вы извините меня, — подбирая слова помягче, начал Сергей, — но я бы просил послать меня в войска. В любой округ.
— К сожалению, ничем помочь не могу. Приказ уже подписали.
— Как подписали? Я же согласия не давал.
— Не будьте глупцом. Вам оказана высокая честь. За такое место люди зубами грызутся. Скажите спасибо генералу Хмелеву. Он приказал вас взять. Выступление ваше на выпускном вечере ему понравилось.
— А изменить приказ нельзя?
— Нет. Идите начальнику представляйтесь. И не валяйте дурака.
Короткие гудки возвестили, что разговор окончен. Сергей повесил трубку, опечалено прислонился к фанерной стенке телефонной будки. «Вот те и раз. Без меня меня женили, а я на мельнице был».
В будку постучали.
— Товарищ? Вы скоро?
Сергей вышел, извинился перед полковником инженерных войск, получил в одном из оконцев пропуск и зашагал к парадному входу серого восьмиэтажного здания с башней на крыше.
Перед широкой деревянной лестницей, исклеванной тысячами военных сапог, Сергей остановился. Хотя и не хотелось ему тут работать, все еще тянуло куда-то в степь, в лагеря, на полигоны, а сердце взволнованно и приподнято забилось. Здесь, в этом здании, мозг и центр всей политработы в армии. Отсюда идут живые нити в войска. Сюда стекается все лучшее, новое. Здесь от имени ЦК руководили талантливые люди. Отсюда в пороховые годы уходили цементировать ряды полков простые коммунисты и прославленные комиссары. По этим крашеным ступенькам, быть может, шагали Фрунзе, Чапаев, Фурманов… Может, был тут и Бугров? Интересно, что бы он сейчас сказал? Поворачивай назад, Сергей, или шагай вперед смелее? Ну, конечно, вперед. Не боги же лепят горшки. Ошибусь — поправят.
Найдя на пятом этаже названную солдатом-часовым дверь, Сергей постучал и, услышав короткое «да!», вошел в узкий, небольшой, пропахший табачным дымом кабинет с одним широким окном, задрапированным от солнца. Возле окна, за письменным столом, заваленным панками, в беспорядке разбросанными бумагами, сидел низенький, бледный, как ростки погребной картошки, полковник, с редкими льняными волосами. Одной рукой он что-то торопливо зачеркивал, сердито бормоча: «Вот забор… Вот горожа…», другой же поминутно скреб затылок.
— Товарищ полковник! По указанию отдела кадров прибыл в ваше распоряжение! — доложил Сергей.
Полковник, не отрываясь от бумаги, качнул головой:
— A-а, старик! Погоди. Посиди немного. Тут срочная бумага… Ах, штоб тебя! Ну, кто же так пишет? Через пень колоду. Ну погоди, Серегин!
Ярцев стоял, не зная, что делать. Выйти или здесь обождать? Коротая у порога время, он еще раз рассмотрел кабинет. Теперь уже заметил, что обои на стенах давно почернели, местами облезли, а у стола были до лоска вытерты спинами посетителей. Слева у двери оказался вмонтированный в стенку железный сейф. Под ним деревянный ящик с подшивками газет и журналов. На тумбочке у окна — два телефона. Трубка на одном была разбита, и кусок от нее валялся под столом. Жирные пятна на зеленой скатерти свидетельствовали, что она давно не мыта. Большая плетеная корзина доверху забита окурками и клочьями бумаг.
Сергей перевел взгляд на своего нового начальника. Тот продолжал ожесточенно кромсать текст кем-то неудачно составленной бумаги. Лоб его от напряжения страдальчески сморщился, в глазах чуть ли не проступали слезы, и Сергею вдруг стало жалко этого человека, высохшего, изнуренного бумагами. Хотелось подойти к окну, распахнуть шторы и сказать: «Да отдохните же вы! Подышите воздухом свежим и бросьте курить. Пальцы от курева уже пожелтели».
Минут через десять полковник вскочил и с листком в руке шмыгнул из кабинета.
— Я сейчас. Снесу на машинку, старик.
Он вернулся сияющий, довольный.
— Ну что, заждался? Ничего, привыкай. У нас тут пожары бывают. Помоги-ка вот папки в сейф запихнуть.
— Пожалуйста, товарищ полковник. — И Сергей подхватил крайнюю стопу.
— Вот так. Хорошо, старик. В угол их. Под замок. А теперь идем, я тебе рабочее место покажу. Побеседуем после, как с совещания вернусь.
По пути в комнату инструкторов полковник завернул в машинописное бюро.
— Зайдем. С машинистками познакомлю. А то, черти раскосые, печатать тебе не будут.
За деревянной перегородкой, обшитой белым полотном, раздавался бойкий перестук машинок, приглушенные женские голоса.
— Валечка, смени копирку.
— Асенька, кончай доклад.
Полковник заглянул в оконце и распахнул дверь.
— Девушки-красавицы! Представляю вам молодого человека, нового сотрудника и, между прочим, холостяка.
Шесть сидевших по углам машинисток перестали печатать и с любопытством посмотрели. Только одна, молоденькая, пышноволосая, в белой с голубыми цветочками блузке, не оторвала от машинки ни пальцев, ни глаз. Она тряхнула длинными локонами волос, перевела каретку и опять застучала, как из пулемета.
— Идем, старик. Идем! — тронул за рукав полковник. — А то понравишься какой, приколдует. Особенно Ася. Глаз у нее влюбчивый, черный. Как глянет, так и готово.
Полковник шел по длинному кривому коридору и показывал, где размещаются инспектора, заместители, секретари, а Сергей, на ходу запоминая сказанное, думал:
«Какая же из них Ася? Не та ли, что не глянула на меня? А впрочем, какое мне дело до нее. Ася она или Тася…»
Зашли в комнату с двумя выходящими во двор окнами. Сидевшие за столами молодой улыбчивый капитан второго ранга и лет сорока полковник с исхудалым лицом и впалыми веселыми глазами встали.
— Познакомьтесь, старики! — обратился к ним начальник отдела., — Ваш однокашник.
Сергей протянул руку капитану второго ранга:
— Ярцев Сергей.
— Михаил Бородин, — ответил тот и добавил: — Сухопутный моряк с прошлого года.
Полковник с веселыми глазами подошел сам.
— Василий Евсеич Серегин, — представился он, подав руку. — Твой сосед по столу.
— Очень рад, — не зная почему, ответил Ярцев. — Только какой сосед? Тут два пустых стола. Справа или слева?
Начальник подошел к старому, почернелому столу, стоявшему ближе к порогу, хлопнул ладонью по забрызганной чернилами крышке.
— Вот, старик, твое место. Занимай его и приступай к делу. — Он вытащил из синей папки маленькое, на четвертушке бумаги, письмо и, вручая его, сказал: — Рассмотришь и доложишь. Приступай.
Прежде чем сесть за стол, Сергей вытряхнул из ящиков пыль, клочья бумаги, окурки, налил в мраморный прибор чернил. Василий Евсеевич принес откуда-то лист цветной бумаги и застелил крышку. Бородин торжественно поставил настольный календарь.
Сергей поблагодарил товарищей за помощь и, между прочим, заметил:
— А начальник у вас добрый. Всех запросто «стариками» зовет.
Бородин улыбнулся.
— Мягко стелет, но жестко спать.
— Столами наш Афоня не бросается, но телефоны на пол летят, — добавил Серегин.
— Вид у него усталый. Может, от этого? — рассудил, не зная причин, Ярцев.
— А кто виноват? — помрачнел Серегин. — Сам себя изводит. Переписывает по двадцать раз пустячную бумажку. Белого света не видит, сутками сидит. И как это от него жена не ушла?
Ярцев углубился в чтение письма. Заместитель командира какой-то стрелковой роты спрашивал: обязательно ли ему находиться в воскресенье в подразделении? Сергей сразу же написал ответ: «Нет, необязательно. Вы можете выходной день провести по своему усмотрению. Но, чтобы в роте и без Вас культурно-массовая работа шла по плану, Вам надо опираться на актив, заранее давать ему задание…»
Через час Ярцев понес составленную бумагу на доклад.
Прочитав ее, полковник Зобов поморщился и единым махом перекрестил ответ черным карандашом.
— Плохо, старик. Не пойдет.
— Почему? — удивился Сергей.
— Почему — почитай Фому. Такие векселя мы давать не можем. Он получит завтра ваш ответ и начнет им козырять перед всеми. «Мне из центра сказали: в воскресенье необязательно работать».
— Так это же правильный ответ, — попытался отстоять свое мнение Сергей. — Зачем же каждый раз торчать в роте, если можно организацию досуга поручить активу?
— Ты слушай, что старшие говорят, — прервал Зобов. — Я на этих ответах собаку съел. В нашем деле осторожность нужна. А вдруг да бумага вернется назад да попадет в руки начальства? Что тогда? А ну-ка, скажут, подать нам растяпу. Кто без согласования с нами бумагу послал? Да за жабры тебя, за штаны… Нет, старик, этого допустить я не могу. Я, как вратарь на воротах, отбиваю каждую бумагу. И, слава богу, ни одной еще в сетку не пропустил.
— Так что же делать с письмом?
— Отошлем его в округ. В политуправление. Пусть там и разбираются, любые разъяснения дают.
Ушел Сергей, сел за стол, задумался: «Что за наваждение? Откуда у Зобова такая робость? На простой вопрос боится ответить. Запуган, что ли? Обжегся на чем? Или, может, хитрит, не. желает ответственность брать на себя? Тогда за каким дьяволом и кресло начальника занимать?»
7
Деревянная стружка. Простая стружка из-под фуганка. Знаете ли вы, как приятно пахнет она! Не знаете? Тогда скорее спешите в столярную мастерскую Ганса Пипке. О! Уж он-то знает запах этой стружки.
Вжи, вжи, вжи… — вылетает она, завиваясь колечками, из оконца фуганка. Лучи раннего солнца надают на нее, и она кажется то золотыми венчальными кольцами, то прядями кудрявой девушки, то наручными браслетами тончайшего литья. А какой источается запах от нее! Бог мой! Нет слаще этого запаха на земле.
Пипке берет горсть золотых колечек, подносит их к носу и с шумом, причмокивая губами, вдыхает тончайший аромат сухой березы.
Никто не ворчит, не подгоняет. Только разве Марта выглянет в окошко, крикнет: «Ганс! Да кончай же. Кофе остыло».
Гансу хочется и чашку кофе испить, и лишнюю доску профуганить. Руки так и рвутся к верстаку.
Вжить-жить. Вжить-жить… — выговаривает фуганок.
Так, так, так… — подбадривает за садом соловей.
А над крышей синее, как таз из-под вишневого варенья, небо. Воздух настоен на яблоневых цветах. Как жить хорошо! А почести какие! Только и слышится от клиентов: «У вас золотые руки, Пипке!», «Дай вам бог здоровья, Пипке!», «Ах, какой вы мастер, господин Пинке!», «В таких кроватях просто молодеешь!».
Старый Пипке доволен. Тает доска под фуганком. В прошлую неделю сделал одну кровать. В эту — две. И еще день в резерве на беседу в пивном баре остался. Снял Пипке фартук, убрал стружки под верстаком, собрался домой. Но в это время дверь распахнулась, и в столярную с трудом втиснулся грузный человек на костылях. По одутловатому, бледному лицу его катился пот.
— К вам можно? — уже в сарае спросил он.
— Пожалуйста. Прошу вас. Я очень рад, — засуетился Пипке, сметая фартуком со стула.
Мужчина сел, вытер рукавом мундира лицо.
— Не… не смогли бы вы, господин Пипке, сделать мне для ноги колодку. Старая негодна. Голень в кровь стираю.
— Один момент, — присел на корточки Пипке. — Покажите.
Мужчина приподнял штанину. Под ней был тупой забинтованный обрубок с бурыми пятнами проступившей крови.
— Вот смотрите. Выше колена. Был человеком, кочегарил, а стал…
— О, да! Высоко. Где же вас укоротили?
— Известно где. В России.
Безногий опустил штанину.
— Так как же? Возьметесь?
Пипке почесал затылок:
— Новое дело. Не занимался.
— Напрасно. Теперь столько безногих. Можно хорошо заработать. Марки так и посыпятся.
— Нет, — вздохнул Пипке. — Таких марок мне не надо. Я сам еле ноги унес. А колодку я сделаю вам.
— Спасибо. Когда прикажете зайти?
— Зайдите на той неделе. Нет, зачем же мучиться? Приходите завтра к вечеру.
Безногий заковылял прочь. Пипке тоже бы надо идти завтракать, но он сел на доски и глубоко задумался.
8
В житейских заботах, в бумажной писанине текло у Сергея время. Как вешнюю льдину, все дальше и дальше уносило его от армейской жизни. Уже забыл он, чем пахнут лагерные травы, как клубятся под колесами машин степные дороги, не помнил, когда в последний раз слыхал полковую зорю, сигнальный рожок и те бодрые песни, от которых теплеет сердце и тверже становится шаг. Только по рассказам инспекторов, ездивших в командировку, и докладам на собраниях слыхал он, какие произошли в войсках перемены. Говорили, что в частях уже нет конного транспорта, что поршневые самолеты заменяются реактивными и что солдаты теперь ходят на учения не пешком, а ездят на машинах.
Как хотелось побывать в войсках самому, посмотреть на все своими глазами! Но все попытки вырваться в командировку разбивались о железное упорство Зобова. Всякий раз, когда Сергей приходил с просьбой послать его хотя бы на неделю в войска, тот откидывался на спинку стула, скрещивал руки на животе и начинал:
— Старик! И на кой ляд тебе ехать, глотать лагерную пыль, спать на соломенном матраце, вставать чуть свет, жариться на солнцепеке и есть военторговский супешник? То ли дело тут. Тепло, светло и комары не кусают. Сиди себе и пиши, отвечай на входящие.
— Но ведь нельзя же сидеть безвылазно. Так можно превратиться в писаря.
— Ну, ладно. Ладно, старик. Представится случай — пошлю.
Ждать пришлось долго. Прошло еще полгода. Но однажды Зобов вызвал Сергея в кабинет и торжественно объявил:
— Собирайся, старик. Завтра едем в командировку.
— Куда, Афанасий Михайлович?
— В Прибалтику. На десять дней. Поедем новый опыт внедрять.
Радость окрылила Сергея. В ту ночь он долго не ложился спать в своей гостиничной комнатенке. Начищал пуговицы, пряжки, пришивал к кителю новые погоны, складывал дорожные вещи в чемодан. А утром первым явился на Рижский вокзал.
В командировку выехала группа, занявшая полвагона. По распоряжению начальника управления Зобов возглавил ее. На вокзал он приехал в сопровождении майора Табачкова. Тот с трудом тащил в продырявленном мешке железный ящик.
— А это зачем? — спросил Сергей у Зобова, когда поклажу водрузили в сундук под нижнюю полку.
— Надо, старик. Надо, — таинственно ответил Зобов. — Не к теще в гости едем, а в воинскую часть.
Как только поезд тронулся, Зобов собрал представителей от купе на совещание.
— Товарищи! — деловито начал он. — Объем работы у нас большой, а времени мало. Поэтому не теряйте драгоценных минут, садитесь и составьте личные планы проверки.
— Афанасий Михайлович! А зачем они? — спросил Бородин. — У нас же есть подробный рабочий план.
— План планом, а личные наметки надо иметь. Идите и составляйте. Нечего без толку в окна глазеть.
Выйдя из купе, Бородин покачал головой.
— Ну, силен, полундра. Без бумаги, как сом без омута.
…В соединение приехали утром, как и было рассчитано. Зобов первым делом осмотрел помещение и, найдя самой лучшей комнату начальника политотдела, сказал:
— Приличная комнатушка. Недурна. Вот здесь, Семен Григорьевич, я буду работать. А вы, пожалуйста, подыщите себе на время другое местечко.
— Пожалуйста, товарищ полковник, — любезно ответил начальник политотдела. — Мне только партбилеты вручить, а так, чего же…
— Да нет уж. Вы где-нибудь в другом месте вручите.
Полковник пожал плечами.
— Что ж. Найдем местечко. Где прикажете разместить ваших товарищей?
— Они займут комнаты инструкторов и парткомиссии.
— Есть! Какие будут еще указания?
— Я хотел бы изложить план нашей работы..
— Пожалуйста. Я сейчас соберу офицеров политотдела.
— Нет, погодите. Я хотел бы потолковать в расширенном масштабе. С участием политработников подразделений.
Начальник политотдела задумался, вынул пачку папирос, предложил Зобову, закурил сам и только потом ответил:
— Пожалуй, можно. Соберем!
В полдень политработники и секретари парторганизаций собрались в кабинете Семена Григорьевича. Одни сели за длинный стол, накрытый красной скатертью, другие разместились на стульях и лавках вдоль стен. Человек шесть примостились на низких подоконниках. По мокрым на спинах гимнастеркам, запыленным сапогам и вспотевшим лицам можно было сразу определить, что люди оторваны от жарких дел и очень торопились. Исключение составляли человека три-четыре, прибывших в наглаженных кителях и сверкающих сапогах, ботинках.
Вошли Зобов и начальник политотдела. Все встали, с любопытством посмотрели на незнакомого, седоволосого, как посыпанного пудрой, представителя из Москвы. Он слегка поклонился, важно прошел к столу и сел в кресло. Начальник политотдела, став рядом, подал знак рукой.
— Прошу сесть, товарищи. Извините, что пришлось срочно вызвать. К нам приехала группа работников из Москвы во главе с Афанасием Михайловичем Зобовым. О целях этого приезда сейчас нам и расскажут. Прошу, Афанасий Михайлович.
Зобов неторопливо встал, пригладил пятерней и без того прилизанные волосы, уперся кулаками в край стола, чуть подался вперед.
— Товарищи! Все вы знаете, какое колоссальное внимание уделяется на данном этапе контролю и проверке исполнения, как велико их значение в свете сегодняшнего дня. Еще в древнюю старину говорили: семь раз отмерь (то бишь проверь), а один раз отрежь. Только ставя во главу угла, в центр внимания эти вопросы, держа в фокусе их, мы сможем добиваться в решении стоящих задач решительно больших успехов.
Бородин толкнул локтем Сергея.
— Пошла писать губерния.
— Да-а, — вздохнул Сергей. — Канцелярия.
Сидящий впереди офицер цыкнул на них, и они, смутившись, краснея, умолкли. А Зобов, подняв палец в потолок, говорил:
— Но, товарищи! Как бы ни хороша была проверка исполнения, как бы мы ни переносили на нее центр тяжести, все равно она не может одна поднять всю сумму возложенных на нее актуальных вопросов. В дополнение к этому нужна конкретная, целеустремленная, повседневная и, я бы сказал, деловая помощь. Или, как это говорится в народе, не подмажешь — не поедешь, не поможешь — не пойдешь.
Довольный вставленной в речь поговоркой, Зобов улыбнулся, ожидающе глянул в зал. Все, опустив головы, молчали. Лишь любимчик Зобова майор Табачков заискивающе глядел в глаза и улыбался.
Холодность офицеров не понравилась Зобову, и он, мрачнея и злясь, заговорил уже более строгим, начальственным басом:
— Мы прибыли на десять дней. За это время мы пробудируем ряд вопросов. Вам, в частности, будет оказана помощь в обобщении опыта, планировании, проведении собраний, семинаров и других мероприятий.
— Очень приятно.
— Добро пожаловать, — раздались голоса.
Зобов поднял руку.
— Но, товарищи! Для плодотворной работы нам нужны кое-какие справки и материальчики. Вот вам списочек их. Раздайте. А это… — он протянул перечень справок начальнику политотдела, — для ваших подчиненных. Тут все расписано.
Листы пошли по рукам. С подоконника встал капитан с ершистой прической.
— Товарищ полковник! Когда же писать эти справки? Да тут и недели не хватит.
— А это уж не наше дело, — развел руками Зобов. — Вы хозяева, а мы гости. Подумайте. Найдите время. А вслепую оказывать вам помощь мы не можем. Нам надо все взвесить, проанализировать, знать слабые места. Только тогда мы сможем бить в одну точку, латать прорехи.
— Дай бог нашему теляти… э-э волка съесть, — зевнул кто-то.
— Съест, — вздохнул другой. — С их помощью.
Сергей сгорал от стыда. Ему хотелось, чтоб под ним вдруг провалился пол. Но нет. Пол лишь сухо скрипел под ногами уходящих людей.
9
Вторая палата иркутского военного госпиталя опустела. Давно выписались из нее солдаты, лежавшие с травмами и ожогами, лечившие ревматизм, уехали с цветами от пионеров последние два фронтовика, и остались в ней только дед Евмен да Иван Плахин.
Дела у них шли на поправку досадно неодинаково. Дед Евмен уже «подремонтировал» из трех помятых медведем ребер два и теперь целыми днями разгуливал по госпитальному скверу. Плахин же, похудевший, небритый, неизменно лежал на своей железной койке и часами молча глядел в потолок.
На тумбочке у него еженедельно росла стопка писем в белых, синих, голубых конвертах, тетрадочных заклейках, совсем тонких, будто пустых, и пухлых, чем-то набитых, пахнущих цветами… Но были вскрыты лишь некоторые из них. Другие так и лежали нетронутыми, будто тот, кому они адресовались, не видел их, будто они вовсе его не касались.
С тяжкой болью смотрел на эти письма, на страдающего, окаменевшего в лютости Плахина дед Евмен. Тщась надеждой, что в душе парня рано или поздно перекипит, что он долго так не выдержит, Евмен не заводил разговор о письмах и читать их не понуждал. Однако жалость к той миловидной девушке, которая приезжала из Рязани и вот теперь неотступно слала письма и не получала ответа на них, вывела из терпения старика, и он, обозлясь, однажды сказал:
— Господи! Да что ж ты за чурбан такой? Да прочти же их. Отпиши. Не мучай девчонку, обормот.
Плахин промолчал, не огрызнулся, как это было с ним раньше, и Евмен, возрадовавшись этому, сел рядом на стул.
— Негоже быть таким, Ванек. Письмецо от родителей или от невесты надобно ценить. В нем те не клок бумаги запихнутый, а, может, само сердце, по тебе иссохлое. А сколь там бывает вздохов да слезных капель? Она, может, каждая строка, слезьми обмытая, к тебе вопит. А ты… Цены письму ты не знаешь, Ванек. От иного обормота мать и батька месяцами весточки ждут, пороги у почтальона пообивают, а он и ухом не ведет и не чешется. А все это оттого, что баловства много пошло. Оно, собственно, не баловство, а удобство. Ныне хочешь депешу отбей, хочешь по телефону покалякай. А бывало…
Евмен расстегнул полосатый байковый халат, полусогнувшись, оперся локтями о колени.
— Призвали меня при царе Николашке в солдаты. Это в тот год, когда он сдуру нашего брата в окопы погнал. Ну, в эшелон скорей и на русско-германскую. Не одного, знамо. В селе у нас всех мужичков подчистили. И почти у каждого жена осталась. В ту пору их больше солдатками звали. А быть раньше солдаткой — это то же, что и (вдовой. Ни пособий тебе, ни утешения. Мыкай горюшко, как знаешь. Царю до тебя, как свинье до неба. Ну, ждут нас солдатки год, другой… Это, звиняюсь, теперь такие нетерпеливые жены пошли. Проживет неделю без мужа, глядишь — уже невмоготу ей, примчалась, торчит у проходной. А тогда мы по десять лет служили, и солдатки не канючили. Вот только с письмами была беда. Соскучится бабенка, пожелает ласково словечко муженьку сказать, да не может. Сама грамоте не обучена, а к грамотею не подступись. К черту в гости скорей попадешь, чем к нему.
— Почему же? — улыбнувшись, спросил Плахин.
— Да все ж одна причина. Солдаток много, а грамотный один. В кой день им отпишешь всем. А потом, паря, какой писарь еще попадет. Один душевно горю поможет, а иной и в кураж войдет. То ставь ему пол-литра, то тащи петуха. А не то, прости меня грешного, и в срам бабенку готов вогнать.
— Не может быть, — не поверил Плахин.
— «Не может», передразнил Евмен. — Да ты погодь. Дай доскажу. Был в нашем селе писарек один, Епишкой звали его. На вид плюгавенький, искосороченный такой. Шла молва, что мать не хотела рожать его. Оттого и народился божий урод. Так вот Епишка этот косой из баб-солдаток черт-те что вымогал. Водку, мед, сало… а пуще прочего щупать молодух любил. Попросит какая письмецо написать, а он ей условию встреч: «А пощупать дашь?» Плюнет иная и за дверь. А другая покраснеет, помнется… «Э, да леший с тобой…» Так и шло у него. Шло, пока не нарвался на старуху мою. А скажу вам, она бедовая была. Да и личиком… кхе… — кашлянул в кулак Евмен. — И вот приходит как-то к писаришке она и с мольбою: «Епишенька! Голубок. Дай весточку Евмеше моему. Отпиши, мол, доченька хворает у нас». «Отпишу, — говорит, — только как бы с тебя…» И этак намек свой нахальный подает. А баба, то бишь молодайка моя, не будь дура и на крючок его. «Уважу, Епишенька. Только ты сначала напиши и в конвертик заклей».
— Хитрая она у вас, — заметил Плахин.
— Э-э, в том-то и соль. Слушай дальше, что было. Отписал он, значит, все честь по чести и к хозяйке моей. «Старался-де в поте лица. Каждый аз выводил. Надеюсь, и вознаградишь лучше всех». — «Да уж постараюсь, — ответствует она. — Только боязно в хате. Увидит кто. Давай-ка лучше в прикладбищенском лесочке повстречаемся. Приходи, как стемнеет. Буду ждать тебя». Примчался Епишка. На рысях прибег. А вскорости и Маня моя пришла. Он к ней. Она: «Боюсь, мол, как бы кто не увидел. Может, в часовенку зайдем». Зашли. Раздеться она его заставила. А сама бельишко в руки и шмыг за дверь. А рядом палка припасенная. Кол с забора. Она дверь на кол и кричит: «Сидеть тебе тут, мерзкий щупальщик, три дня и три ночи, выть волком за издевку над солдатками. Пусть тебя ведьмы целуют, сучий хвост!» Взвыл Епишка, в дверь кулаками стучит: «Манечка, открой! Не покидай. Я мертвых боюсь… чертей». А Мани и след простыл.
Плахин повернулся на бок.
— Убежала?
— Да.
— И что ж потом?
Евмен зажмурился, потряс головой:
— Комедия была. Спектакль целый. Уж не упомню, в какой день это — на другой или на третий. Но в общем родительская суббота подпала к тому. А скажу вам, в нашем селе таежном это большущий праздник. Стар и млад на могилки идут. Покойных родителей поминают. Расстилают там скатерти, полотенца, молятся, блины с яичками едят. Тут же батюшка с дьяками ходит. Кадит, отпевает. Словом, люду собирается невпрогляд. Торжественно все. Мы, бывалыча, в ребятишках всегда бегали на могилки блины есть. И уж так наедались, что животами болели по три дня. Вот и на этот раз народу набралось на кладбище! Баб, проще говоря. Кругом платки, платки… и среди них батюшка с дьяками. В золотой ризе, веселый такой. В кружку церковного старосты так и сыпятся медяки, да и по чарке перепадает через две могилы на третью. Короче, все шло чинно, и, может, спектакля так бы и не было, если б не старушка одна. Уже под вечер спохватилась она, что в часовенке никто свечку не зажег. И только сунулась, как оттуда человек нагишом да через могилы, через холсты… Мать моя! Царь небес! И что там было! Что попалось! Старушка тут же замертво. Ктитор, выпивавший близ часовенки, подавился блином, а бабы с диким визгом, криком: «Мертвец! Мертвец!», теряя юбки, вдоль по селу. Впереди всех, сказывали, задрав рясу, мчался во весь дух батюшка. До этого смелый поп был, а тут… Говорят, с испугу промчал мимо попадьи, церкви и образумился аж в другой деревне.
— Вот это да! — потряс головой Плахин. — Редкая комедия. А писарек же как? Что с ним?
— Отщупался. Рука с испугу отнялась, — ответил Евмен и встал. — Вот так-то, Ванек. А ты говоришь — письмецо. Его, брат, надобно ценить. Письмо — это стук сердца! Это жизнь!
Думалось деду Евмену, что услышав эту печальную быль, Плахин проникнется жалостью к своей невесте и прочтет ее письма. Но когда он вернулся с прогулки, стопка писем все так же лежала нетронутой и сиротливой.
* * *
На другой день санитарка Таня принесла Плахину еще письмо и, как всегда, потрясла им над головой.
— Плахин! Опять вам.
— От кого?
Девушка осмотрела белый, исклеванный штемпелями конверт.
— Обратного адреса нет, но на штампе стоит «Москва».
Плахин подскочил, выхватил из рук Тани письмо, торопясь, разорвал конверт, вынул небольшой, вдвое сложенный листок и начал читать. Письмо было от Сергея Ярцева. Ровным, спокойным почерком он писал:
«Дорогой Иван Фролович! Извини, что произошла задержка с ответом. Не я виноват. Письмо долго блуждало в поисках адресата и только в конце этого месяца наконец нашло меня. Пишу тебе на второй день. Я очень опечален случившимся и долго ходил под впечатлением твоего письма, не мог прийти в себя. Потерять ноги — это, конечно, очень тяжело, а еще тяжелее свыкнуться с мыслью, что ты не можешь ходить по родным дорогам, полям… Но что поделать, дорогой Иван? Не один ты был ранен в боях. Сотни, тысячи людей остались такими. А других и вовсе унесла война. Они бы предпочли за счастье жить хотя бы инвалидами. Ведь жизнь-то неповторима, одна».
«Это верно, — подумал Плахин. — В другой раз на свет не появишься. Каждому жить охота. Но и так тяжело. Ох, как тяжело, дорогой командир!»
Ярцев, как бы предчувствуя душевную боль Плахина, продолжал в письме: «Признаюсь, мне не понравилось твое настроение, Иван. Что за апатия? Почему такая обреченность? Неужели ты забыл тяжело больного, но не выпускающего из рук разящего пера Белинского, прикованного к постели Николая Островского, безногого летчика Алексея Маресьева, комбайнера на протезах Нектова? Они не пали духом и навсегда остались, как говорил Маяковский, в атакующей цепи. А ты?.. Крепкий парень, с руками, зрением, трезвым умом, с надеждой на благополучный исход лечения, и так опустился. Мне стыдно за тебя, Иван. Стыдно и больно. Как ты можешь лежать, не сопротивляясь болезни, не атакуя ее? Ведь ты же солдат. Самой смерти кости ломал. Помнишь, как под Курском пробивались вперед?»
Плахин улыбнулся.
«Помню. Как же, товарищ командир… Такое вовек не забыть. По пять танков на каждого шло. Да сверху чуть не крыльями давили. А выжили… Перемололи».
«И с девушкой ты наиглупейше поступил, — писал далее Ярцев. — Разве можно так безжалостно отталкивать любовь? Другое дело, если бы она тебе была не по нраву. Но ты же любишь, по письму вижу, любишь, чертушка, ее. Словом, мой совет тебе, Фролович: кончай хандрить. Не такой уж ты израненный, чтоб калекой себя называть».
В это утро Плахин впервые за много дней внимательно ощупывал и мял свои одеревеневшие и неподвижные ноги.
10
Нет, не принесла Сергею Ярцеву радости командировка. Вернулся он из поездки мрачным, еще более убежденным, что не выйдет из него не только инспектор, которого посулил кадровик, но и рядовой писарь. Зобов все время требовал собирать факты о недостатках и докладывать о работе за день «в письменном виде». А Сергей на это упрямо не шел. Он возвращался из подразделений усталым, изнуренным, черным от пыли, и блокнот его был неизменно пуст.
Вечером, подводя итоги, Зобов подолгу хвалил тех, кто больше всего собрал броских, как он выражался, «жареных» фактов, и в заключение хмуро, недовольно говорил: «Ну, а товарищ Ярцев пришел снова гол как сокол. Непонятно, чем он там занимался весь день?»
— Помогал, — отвечал Сергей. — Мы же приехали помогать.
Однажды при подведении итогов слово взял Табачков.
— Я, товарищ начальник, сегодня имел возможность наблюдать за стилем работы товарища Ярцева.
Зобов оживился.
— Ну-ну, старичок. Это интересно. Расскажи.
— Да что рассказывать. Стыдно было смотреть. Вместо того чтобы быть на высоте положения, давать людям указания, подмечать недостатки, требовать устранять их, он ходит, как бедный родственник. Никакого вида, что представитель из Москвы. Планы пишет ротным секретарям, речи им готовит, разговаривает с одиночным солдатом по два часа. Да что там! На брюхе ползает в штурмовом городке.
— Ах, чистюля! — вскочил Сергей. — Да ведь показное занятие с офицерами шло. В белых перчатках, что ль, его проводить?
— Вот-вот, — хихикнул Табачков. — Марай наш авторитет. Топчи его в грязь, вытирай на брюхе. А разве так должен вести себя в войсках инструктор? Тот ли у него масштаб?
Зобов пожевал губами, осуждающе покачал головой.
— Да-а… Это действительно черт знает что! Так можно докатиться, что нас начнут проверять, нам будут указания давать.
— А что тут плохого, если и нам подскажут? Не бароны, — дерзко бросил Сергей.
Зобов стукнул кулаком по столу.
— Довольно! В Москве поговорим.
Но в Москве Зобова снова закружила бумажная метель, и он по непонятным причинам не заводил разговора о случившемся. Сергея же терзал тот спор. Обида и неясность жгли ему душу. В который раз он снова и снова припоминал случай, когда ему пришлось ползти по-пластунски.
В одном из батальонов он вместе с комбатом проводил показательное занятие по преодолению штурмовой полосы. У проволочного заграждения выстроились молодые офицеры. Некоторые из них только что прибыли из училища и еще щеголяли в новом, парадном обмундировании. Сергей вышел вперед и, основываясь на опыте войны, объяснил, как надо обучать солдат преодолению препятствий. А уже потом, обращаясь к одному из разодетых лейтенантов со смешными, упрямо не растущими усиками, сказал:
— А в парадном на занятия ходить неприлично. Надо полевую форму надевать.
— Есть полевую! — ответил лейтенант и, как только Сергей отошел, недовольно пробурчал: — Сам бы поползал. Указания легко давать.
Сергея взорвало. Он обернулся и скомандовал лейтенанту:
— Вперед! За мной…
И вот они оба, разгоряченные, сильные, чуть не касаясь плеча друг друга, бегут по полосе. Почти одновременно перемахнули ров, трехметровый забор… А вот и десять рядов запутанной, низко прижатой к земле колючки. Точно такая же была под Берлином, на Зееловских высотах, и каждый ее метр находился под пулеметным огнем.
Вспомнив, как брался каждый ряд той колючки, Сергей кинулся лицом в песок, слился всем телом с ним и быстро пополз. Глаза его запорошились пылью, на зубах скрипел песок. Земля, как раскаленная печь, дышала жаром, и было трудно дышать. Пот лил градом, промокла спина. А Сергей все полз и полз вперед, считая пройденные столбы.
— Шесть… Семь… Девять…
Вот и последний. За ним зеленый луг, манящая прохладой река, зеленый клин колосистого жита. Сергей вскочил, оглянулся. Лейтенант с усиками, не преодолев и трех кольев, пятился раком назад. Мундир и рубашка на нем вывернулись наизнанку, и казалось, что он пытается вылезть не из проволоки, а из собственной одежды.
Сергей подполз к лейтенанту, помог ему выпутаться из объятий колючки, и они несколько минут лежали рядом, отдыхая и каждый думая о своем.
Отдышавшись, встали. Лейтенант стряхнул пыль с разорванного на спине мундира, виновато опустив голову, сказал: «Извините», и молча побрел в строй.
А потом, после занятий, Сергей просматривал планы работы секретаря ротной парторганизации. В них из месяца в месяц намечались одни беседы да собрания. И конечно, пришлось просидеть весь вечер с секретарем. Были беседы и с солдатами, и под бронетранспортеры лазил (хотелось новую технику посмотреть). «Но что тут плохого? Неужели всем этим я принизил авторитет инструктора? — рассуждал Сергей. — Да не может этого быть. Не верю! Разве генерал Доватор, джигитовавший с клинком в зубах, потерял свой авторитет? Разве Семен Михайлович Буденный, показывавший кавалеристам, как надо чистить коней, перестал быть любимым маршалом? А Ленин? Великий Ленин бревна на плечах носил. А вы — Зобовы, Табачковы? Ожирели вы. Оторвались от жизни, бюрократическим мхом обросли. Оттого и нос от соленой солдатской рубахи воротите. Ну, да шут с вами. Гудите, как комары. Нойте. Все равно по-вашему не быть. На моей стороне Бородин, Сычев, Серегин… А может, они просто подбадривают меня, как новичка, чтобы не обидеть? В глаза говорят: „Ты прав, Сергей“, а за глаза другое».
С этими мятущимися мыслями Сергей ехал в метро на работу. Всегда он выходил на Арбатской. Теперь же, размечтавшись, прокатил мимо и сошел на Смоленской.
Утро было солнечным, теплым. Люди шли на работу не торопясь, любуясь чистым небом, умытыми мостовыми, слушая воркованье голубей, вдыхая аромат цветущих лип. Сергей же брел по тротуару, опустив голову, обходя или перешагивая оставленные водовозом лужи.
В сквере на Гоголевском бульваре его кто-то схватил за руку. Сергей оглянулся и сразу узнал знакомого отставного генерала. Он сидел с газетой в руках на лавочке под кленом в легком белом костюме и домашних войлочных тапочках. Серые живые глаза его, как в тот раз, весело блестели. Пышные белые усы браво топорщились.
— С добрым утром, кавалерия! — сказал он и чуть тронул кулаком усы.
— Здравия желаю, товарищ генерал! — обрадовался Сергей.
— На работу?
— Да. Я здесь рядом…
— А я в этом доме, — указал генерал на серое громоздкое здание с облезлыми балконами. — Выхожу вот по утрам, на солнышке греюсь.
— Вот как! — удивился Сергей. — Сколько ходил и ни разу не — встретил вас.
— А я однажды видел тебя. Но, жаль, издали. Историю-то с конем я не досказал.
— Да, — вздохнул Сергей. — Прервали нас.
Генерал, уступая место, подвинулся на край скамейки, даже упавшие листики клена смел.
— Так я теперь доскажу. Садись. До девяти еще целый час.
Сергей охотно сел. Торопиться ему было некуда. Письма все вчера были отосланы, а новые Зобов еще не разметил. Единственно, что ему хотелось, — это встретиться наедине с Асей. Но вряд ли она будет одна. С ней идет то сестра, которая каждое утро носит ребенка в ясли, то какой-то капитан-связист, названный ею не то в шутку, не то — всерьез «соседом». Лучше посидеть здесь с этим добрым, неунывающим человеком.
— Так вот, — начал генерал. — Когда мы захватили штаб-квартиру генерала Шкуро, был у меня конь по кличке Ревнитель. Красавец конь. Весь вороной, а ноги, представляете, белые. Белые, как пух у лебедя. И на лбу, под челкой, такая же звездочка величиной с кулак. Шея дугой. Глаза орлиные с косинкой. А резвость… феноменальная. На месте, бывало, не стоит. Землю копытом роет. Ах, ах! И фырчит. Злится, что не сажусь. Ох, и любил же скакать под седлом! Овсом не корми. И уж как скакал… Как он скакал! По воздуху птицей летал. Забор ему не забор, стена не стена… Только поводья опусти да покрепче держись. А уж как увидит беляка, удержу нет. Весь вытянется в струну, ноздри раздует— и пошла- Только ветер свистит в ушах. Руби, не зевай. Сам для ловкого удара подвозит.
Генерал рубанул ребром ладони воздух, крякнул и продолжал:
— Умный был конь. В рубке незаменим. А коль преследование началось, и беспокоиться нечего. Любого беляковского коня догонит. Да! На что под адъютантом Шкуро был конь чистых арабских кровей, а и того настиг, грудью сбил с копыт долой. Мне и делать было нечего. Но это присказка, а вся история еще впереди. — Генерал пристально посмотрел на Сергея. — Нет, никакой истории рассказывать я не буду.
— Почему, товарищ генерал?
— Не нравитесь вы мне сегодня, молодой человек. Не тот у вас вид. Что случилось? Почему грусть в глазах?
Сергей не любил говорить о своих горестях, неудачах, все таил в душе. А тут он не мог устоять перед участливым, добрым взглядом генерала и рассказал обо всем.
Нервно, сочувственно слушал старый генерал исповедь Сергея, все крякал, качал головой, щипал растрепанный ус. А когда тот кончил, стукнул кулаком по колену и ругнулся.
— Быдлы! Чапаева на них нет. Но ты вот что… Послушай меня, старика. Один в атаку не бросайся. Не сносить тебе головы. Срубят в два счета. А вот вместе со всеми — клинок в руки и аллюр три креста. Руби, не бойся. Будет кому поддержать.
— Я не понял вас, товарищ генерал.
— Не понял. Поясню. Зобов твой не бог и не самодержавный царь. И над ним начальники есть.
— Да, я хотел поговорить с генералом Хмелевым, но он в отпуск уехал.
— И это все? А партбюро? А общее собрание? Да я б их так расчихвостил, что полетела бы шерсть. И коль ты прав — поддержат. Управление не из Зобовых состоит.
Сергею стало как-то сразу легче. И в самом деле. Чего он раскис? Чего молчит? Эх, кавалерия!
Он поблагодарил генерала за добрый совет, пообещал ему рассказать, чем закончится вся эта история, и зашагал на работу.
…Партийное собрание в управлении состоялось только через две недели. Доклад на нем делал Зобов. Более часа стоял он на широкой с золотым гербом трибуне и расписывал, как была им организована в Прибалтике помощь подразделениям и как после этого «оживилась политработа и дела веселее пошли».
— Наша поездка, — говорил он в заключение, — была весьма плодотворной. Мы подсекли корни многих недостатков и влили в жизнь подразделений живую струю.
В перерыве Ярцев попросил председателя собрания Серегина записать его для выступления, но только вторым или третьим. Однако желающих выступать первым не оказалось, и Серегин предоставил слово Ярцеву.
Торопливой походкой Ярцев взошел на трибуну. Перед ним раскинулся весь зал клуба, наполовину заполненный офицерами. Лица почти все были знакомые (за месяцы они примелькались), но тех, кого знал хорошо и на чью поддержку рассчитывал, пришло несколько человек. В первом ряду с журналом в руках сидел Бородин. За ним, чуть правее, инспектор Борисов. В дальнем углу одиноко маячил высокий, как каланча, Корчев. Меньшикова что-то было не видно.
Сергей старался сохранить спокойствие. С третьего ряда, толкая кого-то в бок, сощурив глазки, ехидно улыбался Табачков. Сергей до боли нахмурил лоб.
— Товарищи!
Проскрипели стулья, смолкли голоса. Зал постепенно затих.
— Я выступаю перед такой аудиторией впервые и очень волнуюсь.
— Чего волноваться?
— Выступай! Тут все свои, — подбодрили из зала.
— Но все же, — продолжал Сергей, — здесь сидят люди и старше по возрасту, и опытнее меня… Так что, если что и скажу не так, прошу поправить. Или, как у нас в Смоленске говорят, неумелой молодице подсказка пригодится.
По залу прошел легкий одобрительный смешок. Это ободрило Сергея, и он уже без всякой робости заговорил:
— В той «плодотворной» командировке, как ее назвал Афанасий Михайлович, довелось участвовать и мне. Называлась она громко. «Командировка по оказанию помощи». Но я бы ее назвал, товарищи, иначе… «Экспедиция за крамольными фактами». Только так. И это отвечает истине. Десять дней с нас требовали, как с каких-нибудь ищеек, вынюхивать недостатки. Тех же, кто возвращался без них, ставили по команде «смирно» и брили под ерша.
— Неверно! Никто вас по команде не ставил! — выкрикнул из зала Зобов.
— Да, ставили, может, и не всегда. Но кричать не забывали. Ваша забота была набить сундук бумагами, собрать для докладной начальству побольше сногсшибательных фактов. Мало того, местных политработников вышибли из колеи. Они целую неделю всякие справки для комиссии собирали. И это называется помощь. Какая помощь? Где она? Где, Афанасий Михайлович? Сами же вы не верите в нее. Что изменилось после нашего приезда? Кому стало легче? Кому? Кто нас помянет добрым словом? Кто скажет спасибо?
Сергей глотнул воды.
— И потом, к чему такая напыщенность? Такое высокомерие? «Мы комиссия», «Мы с верхотуры»… А кто мы? Боги, спустившиеся с небес? Ангелы в погонах?
— Факты! Факты давай! — выкрикивал Зобов.
— Есть и факты. Пожалуйста. Начальника политотдела выселили из кабинета — раз. Людей по пустякам вызывали — два. С солдатами не говорили — три. Да что считать. Тошно. Муторно. Противно было смотреть. Разве этому нас учат? Нет, не этому. Не так надо работать в войсках. Я не берусь давать рецепты. Еще молод, не дорос. Но я сердцем чувствую, что многое делается не так, что положение надо исправить.
Зал сковала мертвая тишина. Даже стулья не скрипели. Только на заднем ряду кто-то шумно протянул:
— Да-а… Вот это бомба!
На трибуну, не ожидая вызова председателя, мелкой рысцой взбежал возбужденный, красный до ушей Табачков.
— Я не знаю, скажет ли товарищ Ярцев мне спасибо, — начал он. — Но его выступление было от начала до конца злопыхательским и неприличным для ответственного работника. Оно бросило тень на всеми уважаемого нами человека. Мы знаем Афанасия Михайловича не один год и не два. Это опытнейший, вдумчивый начальник, который любит свое дело и отдает ему всего себя. Когда бы мы ни пришли, он всегда трудится, всегда за рабочим столом. Честно скажу: не всякий смог бы вот так с зари до зари…
Табачков обиженно скривил губы.
— И вот этому человеку вместо того, чтобы сказать спасибо, платят черной неблагодарностью. И кто? Это только подумать! Человек работает без году неделя, а уже лезет старших поучать. Их стиль работы критикует. Нет, товарищи, такого оскорбления прощать нельзя. И я, как член партии, требую принять по этому вопросу особую резолюцию.
— У вас все? — спросил Серегин.
— Да, я кончил.
— Кто желает выступить еще? — обратился в зал Серегин.
Встало сразу несколько человек. Выше всех тянул руку Бородин, и председатель собрания предоставил слово ему.
Капитан второго ранга заговорил тихо, сдержанно, очень тактично.
— Нельзя сказать, что группа, которую возглавлял Афанасий Михайлович, мало работала, что мы ходили там руки в брюки. Нет, товарищи. Все трудились честно и много. Нам даже времени порой не хватало. Но во имя чего? По замыслу — ради улучшения политработы, воспитания людей. А вышло — ради сбора фактов для общей докладной. Пятьсот листов мы привезли. Полный сундук. И не малый сундук. Для уточнения скажу, что в нем бы богатая невеста все наряды вместила.
По залу прокатился хохот. Бородин улыбнулся тоже.
— Смешно это и горько. Очень горько, дорогие друзья.
Бородина сменил Корчев. Высокий, тонкий, он, как сосна под ветром, с минуту раскачивался из стороны в сторону, потом лег грудью на трибуну, обхватил ее длинными руками и, кого-то высматривая, сказал:
— Ярцев прав. Все мы работали на сундук. Ну, на кой ляд нам столько бумаг?! Солить их, что ли? Или начальству они нужны? Чепуха! Начальнику пять страниц, а шестьсот пять пугливым заместителям на перестраховку.
Сергей взглянул на Зобова. Он сидел красный, растерянный и промокал платком лоб.
11
Много рек на земле — больших, раздольных. Но ни у одной нет такой завидной судьбы, такой широкой славы, как у русской вольготницы Волги. Пожалуй, не найти того человека в России, который бы не знал о ней, не мечтал повидаться с нею. Вся его жизнь, начиная с люльки и кончая закатом, чем-то да связана с этой великой рекой, что-то ему несет, что-то напоминает.
Далеко Волга от речонки Вихлянии, петляющей в Залужье на Смоленщине. Но и здесь, в глухих лесах, испокон веков гуляет слава о Волге-матушке. Еще в босоногом детстве слушал Сережа Ярцев дивные сказки про золотые струги, скользящие по Волге, про лихого атамана Стеньку Разина, который бросил княжну в набежавшую волну, жадно ловил слова волжских песен. Их пели смоленские девчата в хороводах, бабы за свадебными столами, захмелевшие мужики, приезжие городские певцы.
С Волги был и местный поп Анисим. Он очень реки любил. Отслужив заутреню, бывало, брал бредень и направлялся с дьяконом Никодимом на Вихлянку за карасями. А так как караси в чистой воде не ловились, воду надо было постоянно мутить, то отец Анисим скликал ребятишек:
— Месите, божьи дети, заводь. По копейке дам.
Ребята хныкали:
— Батюшка, там пиявок много. Заплатите по две.
— Ладно, ладно, ерухи. Оплачу по две. Только чтоб отменно. Как тесто, взмесили.
После изнурительного труда отец Анисим все же платил по копейке, так как, по его словам, грязь была недостаточно взмешана и большой карась якобы остался на дне.
Когда же ребятишек поблизости не оказывалось, отец Анисим и Никодим раздевались догола и месили грязь сами. Потом раскидывали на всю заводь бредень и долго тянули. Дьякон был худой, немощный (батюшка мог двух таких взять в охапку и унести), то и дело спотыкался, ронял «клячу», и Анисим сердито покрикивал на него:
— Ах, чтоб тебя! Да тяни же, тяни, ради Христа. Хлебов ты, что ли, не ел?
— Да тяну, ваше священство. Всей мочью тяну.
— Тянешь ты, яко конь, не евши овса. На Волгу бы тебя, к рыбакам. Враз бы выбили лень. Ах, мать божья! Опять, анафема, сверх сиганула. Да держи же мотню! Держи!
Наловив карасей, они варили тут же на берегу уху, распивали бутылку, и захмелевший батюшка раскатисто пел:
— «Ой ты, матушка, ты раз-доль-ная! Утопи ты в ней грусть-тоску мою…»
Приезжали на все лето с Волги цыгане — черные, загорелые, а с первыми прихватами уходили снова куда-то под Астрахань, где, по их словам, зимой тепло, как на печке, и в верстовых затонах рыбы ловятся семипудовые.
В сознании Сергея долго не вмещалось представление о размерах Волги и таких огромных рыбах в ней. Самой большой речкой он считал свою Вихлянку, потому что никогда ему не удавалось переплывать ее. А попавшего однажды в сачок усатого налима — самой великой рыбой. Соразмерно было понятие и о кораблях. Лодка отца Анисима считалась сказочным дредноутом, и, когда удавалось украдкой, с большим риском (отец Анисим больно сек крапивой) покататься на ней, радости не было конца.
Уже много позже, когда учился в школе, узнал Сергей правду о Волге, и восторженное чувство охватило его. Захотелось побывать на родине Ленина и Горького, своими глазами увидеть Жигулевские горы и песчаные плесы, по которым когда-то брели бурлаки, походить по степному прибрежью, где звенели сабли, скрещенные в бою, поплавать на лодках в астраханском царстве пуганных птиц.
И вот теперь, на тридцать втором году жизни, сбылась давнишняя мечта Сергея. Он ехал на Волгу — волнующую сердце Волгу.
Маленький штабной автобус, как и остальные три, был переполнен офицерами из управления. Все, за исключением женщин, везли с собой рыболовецкие снасти — удочки, спиннинги, подхватки, кружки. Табачков, сопровождающий на массовку Зобова, тащил даже надувную лодку и бредень.
Сергей же поехал с пустыми руками. Его не интересовали большие уловы, за которыми пустились в такую даль многие рыбаки. Он хотел только одного — увидеть Волгу, покупаться в ней, побродить (если удастся, конечно) с Асей по берегу. Девушка ехала во второй машине, где сидел с трофейным аккордеоном шофер генерала Хмелева. Даже сквозь гул моторов слышался ее звонкий голосок:
«Ты учти, что немало других на меня обращают внимание…»
«Да, — вздохнул украдкой Сергей. — На тебя-то и впрямь обращают… Вот и мне хочется побыть с тобой, взглянуть на тебя».
Солнце поднялось над березами, бросило снопы света на мокрый асфальт. Под колесами машин весело шумели лужи. Вскоре деревья поредели. Березняк сменился зарослями калины, лозняка, а за ним показался широкий, в бугристых взметах и камышовых ложбинках луг. У ложбин, как старухи на посиделках, грелись на солнце озябшие за ночь ракиты. Из озерных чаш тянулся дымок, будто они были налиты чем-то горячим.
Огромный, плечистый дуб с двумя разлатыми, протянутыми к солнцу сучьями казался издали великаном, благословляющим с крутояра кого-то в путь.
Машина подкатила к дубу, круто развернулась, и все вдруг закричали:
— Волга! Волга! Ура-а!!!
Сергей выпрыгнул из машины и не помня себя, как когда-то в детстве, пустился к обрыву. На какую-то минуту у него захватило дух. Сердце колыхнулось. Он увидел ее — желанную Волгу. Далеко разошлись берега под ее могучим напором. Добрый километр между ними. Но и этого было ей мало в весенние денечки. Вдоволь погуляла, как видно, по лугам и пашням, оставив примятые кусты, зеркала озер и золотые гребни. Теперь же она была тиха и спокойна. Незримо несла свои чистые воды куда-то в раздолье, в голубую даль.
Белый, как лебедь, пароход рассекал острой грудью плавкое стекло. Чайки с пронзительным криком, сверкая на солнце крыльями, носились за его кормой. Навстречу пароходу, шлепая лопастями, черный трудяга-буксир тащил сцеп из трех барж, груженных тракторами. У берега мягко плескалась волна. На ней, позвякивая цепями, качалось несколько лодок и маленький катер с ласковой надписью «Миленок».
Неоглядный простор, ширь речная ошеломили Сергея. Сняв фуражку и расстегнув воротник кителя, он стоял на высоком обрыве, глядел и не мог наглядеться на могучую реку.
— Товарищи! Прошу не расходиться. Все сюда! — раздался позади голос Зобова.
Сергей подошел к машине. Зобов стоял на подножке в войлочной шляпе, кремовой рубашке, белых парусиновых брюках и теперь совсем был похож на бухгалтера сельпо.
— Прошу внимания! — поднял он руку. — Коротенький инструктаж. Во избежание всяких ЧП требую далеко не уходить, глубоко не заплывать, луга не топтать, лодки чужие не трогать и вообще советую не забывать, откуда вы и кто вы.
— Афоня-я! Афоша-а! — окликнула Зобова супруга. — Глянь-ка, каких цветов нарвала?
Зобов сердито махнул рукой.
— Отстань. Я занят.
Супруга виновато пожала плечами и, спрятав цветы за спину, поспешила прочь. А Зобов еще строже и грознее предупредил:
— В случае чего, пеняйте на себя. Я вам сказал, предупредил, а за остальное Зобов не ответчик.
— Разрешите идти? — стукнул в шутку каблуками один из парней.
— Да, ступайте. Начинайте, товарищи, мероприятие. Начинайте…
Аккордеонист грянул марш, и люди, прибывшие на массовку, оживленно комментируя зобовский инструктаж, подшучивая друг над другом, повалили с узелками, снастями к реке.
К Ярцеву подошел Бородин, одетый в штатский костюм. На плече у него качались две удочки из бамбука.
— Сергей! Рыбачить пойдешь? Удочку тебе достал.
— Спасибо. Но я покататься решил.
— А может, пойдем? У меня и поллитровка есть.
— Лови. А на уху и к поллитровке успею.
— Ну, как хочешь.
В брезентовой куртке и в забрызганных цветочной пылью охотничьих сапогах подбежал запыхавшийся офицер.
— Что случилось? Зачем собрали?
Бородин крикнул через плечо:
— Афоня инструктаж давал.
— Тьфу, что б те намочило, — плюнул офицер. — А я бежал. Удочки с поклевом бросил. — И, смачно выругавшись, пустился через луг.
По песчаному скосу Ярцев сбежал к реке. Сюда, к лодкам, как ему показалось, минут десять назад спустилась Ася. Это был очень удачный момент пригласить ее покататься на лодке. Но, к удивлению, Аси там не оказалось. Сергей прошелся по намыву вправо, влево, встретил трех машинисток (искупавшись, они сидели на песке), но Аси нигде не было.
Сергей нервничал, злился. Черт бы его побрал с этим инструктажем. Пока слушал нравоучение, кто-то из парней увел девчонку. Да и то сказать: не интересуется, шут с ней. Чего убиваться. Покатаюсь один.
Он подошел к безбородому старику, сидевшему у костра и гревшему в котелке смолу для заливки лодок.
— Папаша! Лодочку можно?
— Бери осьмую, — кивнул старик, жмурясь и плача от дыма. — Да только далечко не угоняй. Да в кустах не дремли. А то волной хлюпнет — и понесло. Ищи свищи тоды посуду.
— Понял, папаша. Все в целости будет.
— «В целости». Все вы отвечаете так. А возвернетесь — то весло утеряно, то уключина выдрана с гнездом. Один едешь? Аль с кем?
— Один!
— Один-то ничего. То терпимо. А коль с зазнобой какою, жди неприятность.
— Почему, папаша?
— Баловства много на воде. Иная ведь не сидит в с покое, а вертится, как сорока на колу. То хвост норовит окунуть, то клюнуть носом. Лодку раскачает — и ку- вырк… Пошла, милая, ко дну. «Ах, ах! Спасите!» Достанешь глупую, обругаешь. А что толку? Ей бы хворостиной по мягким местам. Да таких дозволений нет. Вот она, какая картина.
Старик надел рукавицы, снял с углей котелок и, шаркая сапогами, побрел к опрокинутой лодке.
Сергей разделся до пояса, сложил на сиденье китель и майку, вывел лодку из затона и поплыл вниз по течению. Сейчас не требовалось грести. Могучая вода несла утлый челн, как пушинку. Легкая зыбь чуть покачивала его, косо сносила все дальше на быстрину.
Запрокинувшись навзничь, полулежа, Сергей смотрел на небо. Чисто оно с утра, будто кем старательно вымыто. Только раскинув коромысла-крылья, парили над водой чайки.
«Легко им, — подумал Сергей. — Качнул крылом — и в небе. И дорога чиста. Ни кочек, ни ухабов. Лети во все стороны. Ширь неоглядная. И подножку никто не подставит. А тут вот на каждом шагу неприятности. Сколько их было уже! Словно черт их под ноги кидает. Постой, что я говорю? Бессловесной птице завидую. А разве у человека нет крыльев? А его мечта? А дерзания?!»
По иссиня-чистому небу слитно, с лавинным гулом шли реактивные истребители. За ними тянулись три светлые шелковые нити, будто их хотели подвесить там, на огромнейшей высоте.
«Да вот же они. Куда поднялись! И какие крылья у них! Совсем недавно на поршневых летали, а теперь…»
— Э-ге-гей! А-у-у-у-у! — пронесся над водой женский голос.
Сергей оглянулся на крик. Метрах в двухстах от него кружилась на месте лодка с двумя девушками. Одна из них, в темной юбке и белой блузке, стояла и размахивала косынкой. Другая, пытаясь направить лодку вверх по течению, гребла.
Сергей налег на весла и быстро подплыл к терпящим «бедствие». В лодке оказалась Ася и пухлощекая, черноволосая девушка с кудряшками.
— Помогите, Сергей Николаевич, — жалобно попросила Ася. — Никак съехать не можем. Крутит нас.
— A-а! Попались, — радуясь, воскликнул Сергей. — Не будете уезжать куда не надо.
— Мы не хотели. Нас унесло, — оправдывалась Асина подруга.
Сергей взял ремень, нарастил его к цепи, подал пряжку Асе.
— Держитесь. Да крепче. Поплыли.
Несколько сильных рывков — и лодки, срезав под плавным углом быстрину, причалили к песчаному берегу с редкими ивовыми кустами.
— Надька, давай искупаемся, — вскочила Ася. — Тут берег отлогий.
Надя смущенно отвернулась.
— Да ну те, Аська. Я купальник забыла. — И направила лодку к пристани.
Ася спрыгнула на берег, попросила:
— Сережа, отвернись, я разденусь.
Сергей деликатно кашлянул и, закуривая папиросу, свернул за низкорослый ивовый куст. Там он разделся до трусов и склонился над обмундированием, складывая его на зеленой гривке. В эту минуту вкрадчивыми шажками подошла Ася и, зачерпнув пригоршню воды, озорно плеснула на спину Сергея.
Сергей от неожиданности вздрогнул и взглянул на Асю. В ее карих глазах блестели бесенята.
— Ах ты! — рванулся Сергей.
Ася кинулась в воду, взвизгнула, круто повернула к берегу и, видя, что Сергей настигает ее, помчалась по луговой поляне. Загорелые полные ноги ее мелькали в густой траве. Русые длинные волосы рассыпались по плечам.
Сергей, давно не бегавший так быстро, безнадежно отстал и, пожалуй, не догнал бы быстроногую девушку. Но тут случилось непредвиденное. Ася влетела в высокую купу ромашек и, запутавшись в них, упала. Сергей настиг ее и жарко обхватил вместе с ромашками. Сердце у Аси билось, как у пойманной птицы. Заслонясь рукой, она ласково прошептала:
— Сережа, пощади…
* * *
Подруга Аси Надя Коренкова принадлежала к числу тех девушек, которые, увидев красивого пария, не млеют перед ним, не стараются поскорей познакомиться и даже, если влюбятся, не открывают враз своих чувств, а долго прячут их, скрытно берегут в девичьей тайне.
Хорошо это или плохо, Надя толком не знает. Она еще никого не любила и никто ей сильно не нравился. Роза из соседнего двора как-то говорила, что это плохо, что современной девушке нужно быть посмелее и даже понахальнее, иначе она будет обделена судьбой и останется вековухой. Она так и поступала. Если ей встречался парень по нраву, делала все, чтоб с ним познакомиться. И когда это удавалось, восторженно хвалилась, говорила, что ничего подобного она не видала. Однако проходила неделя, другая… и на лице Розы появлялось разочарование. «Нет, не то. Серо и скучно». И тут же принималась развенчивать то, чем вчера еще восхищалась.
Надя так поступать не могла. У нее был совсем другой характер, другое понятие о любви, о жизни. Она чаще всего была молчаливой и любила наедине помечтать. Тут, на Волге, все располагало к этому. Она повернула лодку к невысокому, поросшему лопухами обрыву, сняла кофту, юбку и легла на сиденье, чтоб хоть немножко загореть.
Над рекой северил ветерок, и сидеть раздетой было прохладно. Здесь же, под обрывом, держалась зáтишь, приятно пригревало. Лодку, мягко качая, ласкала волна. В прибрежье зрело-томились овсы. Ветер нежно трогал их, и они тонко вызванивали серебряными колокольцами.
Закрыв глаза, Надя вслушивалась в эти нежные, трогающие сердце звуки и пыталась припомнить, где и когда она их слыхала. Что-то было похожее. Память что-то воскрешала из детства. Но нет. Она не помнит своего детства. В деревне она жила до шести лет или в городе?.. В сознании просветлялся лишь единственный отрезочек детства, да и то тягостно печальный. На какой-то пустынной среднеазиатской станции, где нет ни кустика, ни травинки, стоит их вагон с железными решетками на окнах. В вагоне страшная духота, вонища и ни глотка воды. Мать протягивает сквозь решетку руки и обращается к женщинам, сидящим на перроне: «Люди! Дайте хоть кружку воды. Ребенка напоить». Женщины подходят к вагону. «Кто вы? Куда вас везут?» — «Не знаю. Ничего не знаю», — отвечает мать и, припав лицом к решетке, горько рыдает. Сопровождающий офицер поясняет: «Враги народа».
Уже годами позже, когда подросла, Надя узнала, какие то были страшные слова и почему мать и ее так называли. Тетушка Марина, которая увезла ее из Ташкента в Москву и у которой она воспитывалась, передала предсмертное письмо матери. «Милая моя дочурка Наденька! — писала она. — Я прощаюсь с тобой и хочу, чтобы ты знала правду об отце. Когда тебе было пять годков, его, нашего дорогого, арестовали мочью дома, как врага народа, как иностранного шпиона. Нет ничего страшнее этого клейма! Но ты знай и помни, милая. Никогда твой папочка не был врагом своего народа, так же как никогда он не встречался с иностранцами и не был шпионом. Он любил свой народ, свою Родину. Он был честным командиром и верным семьянином. Тебя же он любил пуще жизни и не выпускал из рук. Помни о нем, Надюша! Он погиб напрасно. Что же перенесла я, перетерпела я, того не желаю и злому лиходею. Жить мне осталось недолго. Увидеть бы тебя, прижать напоследок к груди, но… не суждено, как видно. Прощай, дочура. Твоя мама».
Горько было читать это письмо. До слез жалко безвинно погибшего отца и еще пуще умирающую где-то в песках Кара-Кумов мать. Сердце рвалось туда, к ней. Хотелось обнять ее, пожалеть, вытереть ей слезы, но о поездке в далекий Казахстан, где находилась в ссылке мать, не могло быть и речи. Пенсии тетушки Марины едва хватало на хлеб и крупу.
Через год не стало и тети. Умерла она на рынке, в очереди за дешевой, кооперативной картошкой. Как присела с сумочкой у лотка, да так и не встала.
А потом детский дом, ткацкая фабрика, курсы мастеров, комсомольско-молодежная бригада, Доска почета, первые цветы и, конечно, первые поклонники. Всего три парня в цехе, и все трое за ней. Хорошие парни. Ася как увидела их, так и ахнула: «Дурочка, да разве можно таких упускать! Это же мечта, а не кавалеры». Но Наде почему-то никто не нравится, а раз не по нраву, то нечего и забивать кому-то голову. В шутку, на три дня, зачем же дружить?
Солнце нырнуло в тучу. Ноги обнял холодок. Надя приподнялась, протерла кулаком глаза и пристально осмотрела весь правый берег. Ни Аси, ни Сергея.
* * *
…Лодка номер восемь причалила к пристани только под вечер. Ася сидела с охапкой ромашек и венком на голове. На щеках ее пламенел румянец. Опушенные длинными темными ресницами ее карие, блестевшие счастьем глаза украдкой останавливались на Сергее и сейчас же с застенчивым смущением бежали в сторону.
Из дощатой, исхлестанной ветрами будки вышел разомлевший лодочник в белой рубахе и латаных серых штанах. Шмыгая босыми ногами по высохшим доскам, он подошел к причалу, глянул из-под руки и, нагнувшись, гремя цепью, проворчал:
— Вот и верь вам. Уехал один, а вернулся с кралей.
12
Летом началось новое сокращение армии. В третий раз после войны расформировывались полки, дивизии, упразднялись учреждения, из войск уходили старые фронтовики, прославленные боевые люди. С почестями провожали их. Сами командующие вручали благодарственные грамоты, ценные подарки. Иногда и обнимались по-братски.
Много приезжих людей собралось в эти дни в управлении кадров в Москве. Комнат для ожидания не хватало, и офицеры толпились в коридорах, сидели на подоконниках, ступеньках глухих лестниц, курили, вели жаркие споры. Одни с улыбкой встречали свою судьбу, у других на глазах блестели слезы.
Проходя вестибюлем, Сергей неожиданно увидел чем- то знакомого полковника. Остановившись, он внимательно присмотрелся и радостно раскинул руки:
— Макар! Слончак?!
Старые друзья долго мяли друг друга, колотили кулаками по спинам. Потом отошли в сторону, где было меньше людей и тише.
— Ты как сюда попал? Зачем? — спросил Сергей.
Макар грустно развел руками.
— Да вот… увольняюсь.
— Ты? Увольняешься? — опешил Сергей.
— Не я увольняюсь. А меня увольняют, — с горькой иронией поправил Сергея Слончак.
— Шутишь, Макар. Недавно кончил академию.
Слончак похлопал Сергея по плечу.
— Эх, Серега! Сидишь ты, как вижу, в келье своей и ни шиша не видишь. Разве я один такой? Вон сколько их…
Сергей посмотрел на толпившихся в коридоре офицеров. У многих ромбиками белели академические значки.
— Но это же глупо. Глупо, Макар. Столько людей учили, тратили на них средств… и на тебе — увольняют. Нет, тут что-то не так. Уверяю тебя, ошибка.
Макар усмехнулся.
— Уверяй, Серега, уверяй. А я пошел. У меня уже… — он похлопал по штанине, — обходной в кармане.
…Из машбюро, читая на ходу какую-то бумагу, стремительно вышел полковник Дворнягин. Сергей и раньше примечал, что этот человек неравнодушен к Асе. Теперь же, когда девушка сама рассказала об этом на Волге, у Сергея никаких сомнений не оставалось. Дворнягин влюблен в Асю и ходит в машбюро не просто по служебным делам.
«Интересно, правду ли сказала Ася, что она смеется над ним, голову ему морочит? — подумал Сергей. — Или между ними что-нибудь есть?»
Дворнягин заметил Ярцева, окликнул его:
— Ярцев?
— Я, товарищ полковник!
— Зайди-ка. Дело есть.
— Когда зайти?
Дворнягин взглянул на часы.
— Минут… минут… Впрочем, давай часика в три.
В назначенное время Сергей зашел к Дворнягину. Тот, небрежно развалясь в кресле, глядя холодными глазами в потолок, слушал сидящего перед ним уже немолодого, с седыми висками офицера.
— Поймите же. Войдите в мое положение, — чуть не плача, старался убедить Дворнягина офицер. — Я всю жизнь отдал армии, всю молодость…
— А кто ее не отдал, — не отрывая глаз от потолка, парировал Дворнягин.
— У меня больная жена, дети.
— А у кого их нет?
— У меня нет квартиры.
— А у кого она есть?
— Была бы специальность…
— Приобретете.
— Да когда же теперь? Здоровье подорвано, потеряны годы…
— А кто их не потерял?
— Но я же многого не прошу. Дайте дослужить. Три месяца всего. Уволите — без пенсии останусь.
— А кто из вас не просит. Все просят!
Офицер встал, горестно покачал головой.
— Чурбан вы! Бесчувственная колода! — И, хлопнув дверью, вышел.
Дворнягин закрыл дверь на ключ, вернулся к столу, подчеркнуто тяжело вздохнул:
— Вот видите, с кем приходится иметь дело. Так и норовят в карман государства залезть.
— А я бы дал дослужить, — сказал напрямую Сергей.
Дворнягин скривил в усмешке пересохшие губы.
— Смотри-ка! Какой добряк нашелся. Я инструкцию выполняю. — Он взял из сейфа личное дело, сел за стол, полистал его, нашел нужную страницу и обратился к Сергею:
— У меня к вам вопросик. Садитесь…
— Слушаю.
— Я вот тут в соответствии с циркуляром просматривал личные дела. Ваше тоже проверил и, к сожалению, обнаружил весьма неприятную для вас историю.
— Какую? — спокойно, не чувствуя за собой никакой вины, спросил Сергей.
— Не сходятся у вас, мил человек, концы с концами, — глянул подозревающими глазами Дворнягин. — Где вы были в трудные дни сорок второго года? В частности, когда немцы рвались к Волге?
— Сидел на печи и считал кирпичи, — ответил Сергей.
Дворнягин нахмурился.
— Шуточки в сторону, товарищ Ярцев. Дело тут серьезное. Горелым пахнет. У вас нет подтверждающих документов на целых полгода. Где вы были с июня по ноябрь сорок второго?
— В госпитале.
— А чем вы это докажете?
— Двумя шрамами на спине и дыркой в голени.
— Шрамы к делу не приложишь. Справочки. Документики нужны.
Сергей хлопнул ладонью по колену.
— Вот, черт возьми! А я-то дурень. Воевал и про справки не думал. Какая жалость. Оказывается, надо было на все случаи жизни справки припасать.
Дворнягин встал, сердито захлопнул дело.
— Комиксы брось. Ты не Суворов и я тебе не дурашливый царь. Всерьез предупреждаю. Не подтвердишь документально — плохо будет.
Сергей встал тоже.
— Мои документы — раны.
— Рана у барана… Еще неизвестно, где вы ее получили. Может, ящик упал на горб.
Сергей сгреб стул.
— Ах, ты!..
Дворнягин отшатнулся. Лицо его помертвело. Еще бы секунда и… Ярцев, стиснув зубы, сдержал себя. Рука его опустила стул.
— Полегче. Не угрожай, — посмелев, проговорил Дворнягин. — Времена Чапаева прошли.
— Времена прошли, но дух остался. Найдутся и на вас Чапаевы. Запомни!
Сергей круто повернулся и вышел. В душе у него все клокотало. Ему захотелось поговорить с товарищами по работе, излить им обиду, но Бородин и Серегин еще обедали, и он, терзаемый мыслями, догадками, устало сел на диван. Зазвонил телефон. Сергей поднял трубку.
— Да. Ярцев слушает вас.
— Это Зобов, — раздался поддельно добрый голос. — Старик, зайди.
Зобов встретил у порога, любезно подал руку, сокрушенно закачал головой.
— Как же так случилось, старик? Такой ты ляп допустил?
— Какой, Афанасий Михайлович? — спросил Сергей и подумал: «Не заслал ли куда по ошибке бумагу? В последние дни они пачками шли».
Зобов с досадой всплеснул руками.
— Ну, подвел ты меня. Ох, подвел! А я-то надеялся. Думал, все в порядке у тебя…
— У меня да. А у него, — Сергей кивнул на четвертый этаж, — еще разобраться надо.
— Какой же к шутам порядок? Шесть месяцев, старик, ты где-то пропадал.
— В госпитале был, Афанасий Михайлович. В гос-пи-тале.
— А может… — недвусмысленно намекнул Зобов.
Сергей насупил брови.
— Товарищ полковник, я ношу в кармане партийный билет.
— Были случаи, старик, когда и с партийными…
Сергей отвернулся.
— Тогда мне не о чем говорить.
Зобов понял, что взял круто, немного помягчел.
— Не горячись, старик. Я вполне тебе сочувствую. Но пойми и мое положение. Могу ли я держать у себя человека, если у него не все гладко в личном деле? Не могу. При всем желании не могу! Так что не обижайся, а выкручивайся, старик, бумаги ищи.
Прислонясь спиной к дверному косяку, Сергей рассеянно слушал Зобова, в словах которого легко угадывалось злорадство, смешанное с наигранным сочувствием, и думал: «Человека укусила змея. Ее убивают, а яд ее высасывают. Но что делать с теми, кто вот так больно жалит исподтишка за сердце? И как удалять тот яд, которым его отравляют?»
13
К справке об отсутствии у Сергея доказательств о ранении и лечении в госпитале был подшит рапорт Зобова «О слабой войсковой подготовке подполковника Ярцева», и вскоре ему зачитали приказ об отчислении из управления и откомандировании в Туркестан.
Сергей не знал, какую новую должность уготовил ему кадровик, и встретил приказ мужественно, без особой обиды. «Шут с ней, с этой работой. Я и не просился сюда, — подумал он. — Моя стихия — люди, походная жизнь частей. Жалко только расставаться с Асей. А может, увезти ее с собой, поговорить с ней об этом? Ну, конечно, чего бояться? Сегодня же и поговорю».
…Вечером после работы Сергей подождал Асю в сквере у памятника Гоголю, и они пошли переулком к Арбатской. Раньше при встрече глаза девушки светились радостью, щеки ее горели. Шагая рядом, она без умолку рассказывала дневные новости, дразнила несуществующими знакомствами с новыми кавалерами. Теперь же Ася была почему-то молчалива, встретила с холодным безразличием и, пока шли до улицы, не проронила ни слова.
«Сожалеет, наверно, что уезжаю, — подумал Сергей. — Глупенькая, что жалеть? Не всем же работать в центральных управлениях? Сколько вон однокашников служат в частях! И неплохо живут. А я чем хуже? Здоровье есть. Знания тоже. А практика добудется».
Ася обернулась.
— Чего улыбаешься?
— Товарищей вспомнил. А ты что грустная?
— Я? Да ни капли. О ком грустить?
— Ну хотя бы обо мне. Ты ведь знаешь…
Ася не ответила, сделала вид, что она ничего не знает. Но о том, что Сергея отчисляют из управления и посылают в Туркестан, она знала раньше других. Неделю назад в машбюро зашел Дворнягин и подозвал ее к оконцу: «Ася, у нас в отделе заболела машинистка. Отпечатай, пожалуйста, эту бумажку, только о содержании не распространяйся. Хорошо?» — «Хорошо», — ответила Ася и тут же начала печатать. Раньше в смысл рукописей она особо не вникала, стараясь только не пропускать слов и печатать грамотно. Теперь же ее будто кто подтолкнул внимательно прочесть все. Это было представление на увольнение Сергея с работы и привлечение его к строгой ответственности. В нем говорилось, что в трудные месяцы войны Ярцев отсиживался неизвестно где, а затем, видимо, самочинно присвоил себе первичное звание лейтенанта, так как никаких приказов по тридцать седьмой армии не найдено.
Прочитав документ, Ася окаменела. Ее отец сражался на фронте и погиб. Ее дяди, ровесники Сергея, тоже лежат в могилах. А он… Как же она могла так слепо довериться ему! Почему получше его не разглядела?
— Ася! Что ж ты молчишь? — прервал раздумье Сергей.
— А о чем говорить? Что заслужил, то и получил.
Сергей остановил ее. Кровь ударила ему в лицо.
— Ася! Ты что говоришь?
— Что слышишь.
— Значит, и ты? И ты плохо думаешь обо мне?
— А чего мне думать? — выдернула руку Ася и пошла.
Сергей не догонял ее. Оглушенный, растерянный, с горящими обидой и болью глазами, стоял он на тротуаре и качал головой.
— Ася. Ася. А я-то думал… Выходит, не веришь сердцу, которое чисто перед тобой…
…На следующий день он сдал свои дела, оформил документы, купил билет на вечерний поезд и передал Асе записку. В ней было несколько слов: «Ася! Сегодня в восемь вечера уезжаю. Я очень прошу тебя прийти на Казанский вокзал. Поезд ташкентский. Вагон седьмой».
Он очень сожалел, что не остановил ее вчера на Арбате, не взял за руку, не увел в тихий уголок на лавочку и не рассказал обо всем чистосердечно. Ну, конечно, она бы поняла его и ей можно было доказать свою правоту. Но еще не все потеряно. Она придет, и все станет снова ясным. А если не придет?..
Терзаемый мыслями об Асе, о предстоящем разговоре и прощании с ней, Сергей собирался в дорогу кое-как. В магазинах купил не то, что надо, вещи запихал в чемодан и вещмешок как попало. Сухо, — рассеянно попрощался с горничными пятого этажа гостиницы, сел в такси и уехал на вокзал.
До отхода поезда оставалось тридцать минут. Сергей сунул вещи в купе, взял в киоске несколько бутылок пива, минеральной воды, поставил все на столик и вышел на перрон, чтобы встретить Асю. В эти минуты он снова вспомнил Волгу, берег в цветах, Асины руки, сплетенные на шее, ее глаза, ее горячее, порывистое дыхание на своей щеке… Нет, не может девушка не прийти после того, что было.
Пассажиров на перроне становилось меньше и меньше. Редко кто пробежит с чемоданом в руке и спросит на ходу:
— А где девятый?
— Где восьмой?
Вот уже и провожающие повалили из вагонов, столпились у раскрытых окон, дверей, спешат обменяться напутствиями, прощальными поцелуями. Дрогнула минутная стрелка на последнем делении, а девушки с русыми, длинными, до плеч, волосами все нет и нет…
Сергей закурил, затянулся, бросил папиросу в урну, прошелся вдоль вагона, опять закурил и опять швырнул дымящуюся цигарку.
— Гражданин! Осталось две минуты, — предупредил проводник. — Садитесь. Поезд трогается без сигнала.
Сергей, не торопясь, все еще надеясь, что Ася придет, поднялся в тамбур и в последний раз выглянул из вагона. Сердце дрогнуло. По перрону, тряся кудряшками, с большим букетом ярких цветов бежала Надя.
Поезд уже тронулся, когда она наконец подбежала к вагону и протянула цветы.
— Это вам… От Аси, — переводя дыхание, проговорила она. — Счастливого пути, Сережа!
— А где Ася? Ася?! — крикнул Сергей.
— Она не смогла. Меня прислала.
— Что с нею? Что случилось?
Надя что-то крикнула в ответ, но Сергей ее не понял. Грохот колес безжалостно заглушил ее слова. Он только видел грустное лицо Нади, ее раскрытые в крике губы и синюю косынку, поднятую над головой.
— Хорошая девушка, — похвалил проводник. — По наш узбекски — персик. Сладкий кишмиш.
— Да, хорошая, — нехотя ответил Сергей и, расстегнув воротник кителя, пошел в купе.
* * *
В Туркестане Сергея встретили с непонятным сочувствием. Начальник отдела кадров — лысый, располневший полковник, чем-то напоминающий доброго дядьку из пьесы «В степях Украины», надолго бегал куда-то, то к одному начальнику, то к другому, дважды разговаривал, как стало ясно из отрывочных фраз, с Москвой, озадаченно чесал затылок и под конец вернулся с папкой в руке, сердито кинул ее на стол.
— Шоб вам лишенько було! Вперлись як волы перед кручей.
— Что, товарищ полковник? — спросил уставший от ожидания Сергей.
— А то, хлопче, что жалко мне тебя. Думал я на замполита полка тебя сосватать. Все данные на то есть. Фронтовик. Академию окончил. Не стар… А они… шоб вы сказились. На роту тебя предложили. И что ты там натворил?
Сергей коротко рассказал. Полковник, выслушав, вздохнул:
— Чудеса в решете! Замутили бесы воду, да не в ту погоду.
14
Разные метели приходилось видеть Сергею: снежные — зимою, бумажные, когда немцы сыпали с самолета листовки, тополевого пуха — весною, а вот песчаную завируху — впервые.
С утра над захолустным городком держалась синева. Неподвижно дремали, вдыхая утреннюю влагу, деревья. Но вот небо посерело, нахмурилось, солнце заволокло густой дымкой, и оно начало быстро темнеть. С пустыни потянуло горьким жаром. Деревья закачались, тревожно зашумели, и вскоре на город со свистом и скрипом обрушилась песчаная буря. От сухого, раскаленного сыпуна не было спасения. Он пробивался сквозь ставни, стены, залетал в трубы печей, прошивал густые кроны тополей. За каких-нибудь полчаса на тротуарах, у заборов образовались пепельно-серые сугробы. В номере гостиницы, где остановился Сергей, все было запылено, присыпано песком.
Люди шли по улице, укутавшись в шали, платки, куски белого полотна. Те же, кто вышел без покрывал, либо были в очках, либо двигались, заслоняя локтем лицо.
Долго ждал Сергей, когда утихнет песчаная буря, да так и не дождался. Надвинул на глаза козырек фуражки, поднял, как на холодном ветру, воротник кителя и зашагал на окраину в военный городок, где теперь ему предстояло жить и работать.
Горячий песок хлестал в лицо, настырно лез в нос, в глаза, скрипел на зубах. Ноги вязли в наметах, подошва сапог скользила и ходьба напоминала какой-то нелепый бег на месте. Вчера от вокзала до гостиницы дошел за пятнадцать минут. Теперь же за это время не прошел и половины пути, а ветер все усиливался, все сильнее грохотал железными крышами, завывал в ушах.
— Чертова завируха. Тьфу! — отплевывался Сергей. — Легче метель переносить, чем эту дрянь. Вот уж поистине «кто в Туркестане не бывал, тот и службы не видал». Ишь как разгулялась! Ну и аллах с тобой. Секи, свисти, все равно когда-нибудь уймешься. Не может быть. Увидим и мы погожее небо.
В будке, неуклюже сложенной из серого булыжника, громко именуемой контрольно-пропускным пунктом, Сергея остановил сержант с маленькими раскосыми глазами.
— Разрешите узнать, товарищ подполковник? — сказал он с туркменским акцентом, взяв под козырек зеленой шляпы. — Вам в какое подразделение?
— Мне в политотдел, товарищ сержант.
— Одну минуту, — поднял он руку и, глянув за дверь, кому-то крикнул: — Вичаус! Ян Вичаус!
— A-а. Ну, что тебе? — лениво отозвался человек за стеной.
— Иди сюда. Быстрей!
Из каморки КПП, зевая и лениво потягиваясь, вышел долговязый, белолицый солдат в гимнастерке с отложным воротником и помятой легкой шляпе с выгоревшей добела звездой. Слабо затянутый ремень с. притороченной фляжкой перекосился набок.
— Ну что тут? — все еще не продрав заспанные докрасна глаза, спросил он.
— С товарищем офицером пойдешь. В политотдел ему надо.
— Ладно. Отведем, — проворчал солдат и заковылял к выходу. Сержант остановил его.
— А заправляться кто будет? Я за тебя? Сколько раз говорил — ремень подтяни!
Вичаус недовольно поморщился, но ремень затянул потуже и шляпу поправил на коротко остриженных светлых волосах. Потом оглянулся и тихо сказал:
— Пойдемте, товарищ подполковник. Тут недалеко.
Сергей и солдат шли через широкий плац, густо обсаженный тополями, кленами, акациями и какими-то низенькими редколистыми кустами. С трудом сдерживали эти кусты напор пустынного суховея, и если б не они, плац и дорожки, видимо, давно бы замело. А теперь вот даже в буран шли строевые занятия. Растянувшись цепочками, солдаты старательно вышагивали под команды офицеров и сержантов. Ветер трепал на их спинах просоленные гимнастерки. Поля шляп, как листья подсолнуха, загибались.
«Вот молодцы-то! — подумал Сергей. — Ни жара им нипочем, ни песчаные бури. Занимаются, и баста. А я-то… чуть не захныкал. К черту! Выше голову! Жизнь никакими бурями не остановишь. И, быть может, это вовсе хорошо, что попал я в эти пески, сам себя еще раз на прочность проверю».
Веселее зашагал Сергей, рассматривая на ходу глинобитные одноэтажные, без крыш казармы, легкие, из камыша навесы для танков, орудий и бронемашин, какие-то сборно-щитовые сараюшки под пломбами, спортивные площадки…
— Что же вы так отвечаете сержанту? — спросил Сергей, когда вышли в затишье между домами.
— А что я сказал ему?
— Грубите. Отвечаете не по уставу.
— Они тоже хороши. Только и суют наряды. В строй опоздал — наряд. Не так повернулся — тоже.
— И много у вас этих нарядов?
— Не считал. Много.
— Что же вы так? Парень как парень, а служите плохо.
Солдат промолчал и на другие вопросы Сергея не ответил. Только когда подошли к белокаменному зданию, обсаженному тополями, остановился и сказал:
— Вот здесь. Третья дверь по коридору направо. Разрешите идти?
— Благодарю вас. Можете идти, — ответил Сергей и потянул руку: — Желаю избавиться от нарядов, товарищ Бичаус.
— Вичаус, — поправил солдат и повернул на аллею.
Сергей посмотрел ему вслед. «А сердце у него чем-то ранено и, видимо, от соли, которой подсыпают, не может зажить. Свихнется парень, если не вылечить сейчас».
Сбив фуражкой пыль с кителя, брюк, почистив тряпицей сапоги, Сергей вошел в вестибюль. В небольшом углублении у зачехленного знамени застыл с автоматом на груди стройный, лихо подтянутый солдат. Ни один мускул не двигался на его возмужалом, загорелом лице. Только изредка вздрагивали брови.
Отдав честь знамени, Сергей прошел вправо по коридору, отсчитал три двери и остановился в растерянности и радостном оцепенении. На обитой черной кирзой двери в рамочке под стеклом висела надпись: «Полковник Бугров М. И.».
Шесть лет назад, как расстался с ним на Белорусском вокзале. Шесть долгих лет! И вот снова встреча. А может, это не он? Может, случайное совпадение?
Сергей постучал и, услышав приглушенное «да», вошел в кабинет. За небольшим, накрытым красной скатертью столом сидел он — Матвей Иванович. Как сильно изменился он за эти годы! Похудел, на впалых щеках и лбу пролегли косыми бороздками складки, волосы осыпал густой иней. Только глаза по-прежнему горели молодо, задорно, с неистребимой жаждой жизни.
С минуту смотрели они удивленно и радостно друг на друга. У полковника влажно блеснули глаза и еле заметно дрогнули губы. Потом они почти одновременно шагнули навстречу и так же, как это было когда-то при прорыве блокады под Ленинградом, крепко обнялись.
— Сергей! С какими ветрами?
— Матвей Иваныч! Вы ли это?
— А как же! Ты что, меня из списка вычеркнул? На пенсию услал?
— Что вы! Я просто не ждал вас здесь.
— Не ждал? Хорошо. А я вот забрался в пески и воюю. Всем сусликам назло. Да ты проходи, проходи, дорогой! Садись.
Сергей сел в камышовое кресло.
— Как же вы сюда попали, Матвей Иванович? Вы же в Забайкалье служили.
— Не попал, а сам попросился.
— Вот как! И что же вас сюда потянуло?
— Да, понимаешь… Армию расформировали. В Белоруссию было посылали. А я попросился вот сюда, в самый дальний гарнизон. Захотелось доказать, что у нас, в Советской Армии, не может быть захудалых гарнизонов.
— И давно вы здесь?
— На плацу деревца видал?
— Мимо них шел.
— Так вот… Сколько лет им, столько и я здесь.
Он прошел к окну, глянул на небо и толчком распахнул две створки.
— Сыпучка унялась. Можно открыть, — сказал он, вернувшись к столу и сев рядом. — А ты все там? В Москве?
— Нет, — покачал головой Сергей. — Уже не там.
— Скромничаешь. Небось проверять приехал?
Сергей встал, вынул из бокового кармана вчетверо сложенный листок и, не подымая глаз, как бы извиняясь, сказал:
— Прибыл в ваше распоряжение, Матвей Иванович. Для дальнейшего прохождения службы.
Бугров взял листок и очень долго, кажется, целый час, молча читал. Сергей не смотрел на полковника. Ему, как перед отцом, было стыдно за то, что он в чине подполковника прибыл на должность заместителя командира роты по политчасти. Он только слышал, как Матвей Иванович нервно барабанит пальцами по стеклу. Потом под ним скрипнули стул, стельки сапог, рассохшаяся половица — и на плечо Сергея спокойно легла рука.
— Ты садись. Садись. В жизни всякое бывает, браток. Ну, что ты, право, раскис.
Сергей поднял виноватые, но в то же время горящие обидой и гневом глаза. Туго сжатые кулаки нервно вздрогнули.
— Да если бы за дело… Снимай, наказывай. А то…
Бугров втиснул Сергея в кресло, протянул стакан воды.
— Выпей, успокойся.
Сергей жадными глотками выпил воду, поставил стакан на тумбочку, вытер носовым платком разгоряченное лицо, виновато улыбнулся.
— Извините, Матвей Иванович. Не могу забыть.
Бугров собрал со стола бумаги, положил их в сейф и обернулся к Сергею.
— Рассказывай. Все как есть.
Они отошли к окну, сели на потертый скрипучий диван.
— Ну, слушаю тебя.
…Было уже совсем темно, когда Сергей закончил свою исповедь. Ни разу не перебил его, не прервал Матвей Иванович, только понимающе качал головой. Теперь же, когда Сергей умолк, он встал, прошелся, заложив руки за спину, по кабинету и, остановившись, вдруг выпалил:
— Глупец ты! Нестойкий боец, Сергей. Да как же ты мог струсить перед какими-то двумя чернильными душонками? Как не мог принять новый бой? Да на твоей же стороне была правда! Тебя поддержал коллектив. А ты на все рукой махнул, сдался на милость бюрократам, лапки перед ними поднял.
Бугров достал из пачки последнюю папиросу, склонился над зажженной спичкой, но папироса сломалась, и он, с досадой бросив ее в урну, опять подступил к Сергею.
— Ты не имел права отступать, Сергей. Не имел! Ты коммунист, политработник. Ты обязан был сражаться до последнего за правоту. Почему не пошел в партбюро? К генералу Хмелеву? Почему не попробовал разыскать меня и тех, кто знает, где ты был?
Сергей, опустив голову, молчал.
15
Нелегко обошлась встреча с Сергеем Ярцевым полковнику Бугрову. Весь вечер он был в плохом настроении да и ночью долго не мог уснуть. Судьба Сергея всколыхнула, взволновала его.
За что же избили, измутузили человека? Откуда такая несправедливость? Ну другое дело, был бы он симулянт, где-то отсиживался в тяжкий час, спасал свою шкуру. А тут…
Матвей Иванович живо припомнил все, как было. В жаркий полдень, когда, как обычно, на переднем крае наступило затишье и солдаты улеглись в траншеях отдыхать, на окопы обрушилась лавина артиллерийского и минометного огня. Прибрежные высоты затянуло пылью и дымом. В небе появились самолеты. Откуда-то из окрестностей Новгорода ударили тяжелые мортиры. Деревья взлетали на воздух, земля тряслась и гудела, будто по ней бежали табуны железных коней. Проводная связь с батальонами была оборвана. По рации стало трудно говорить. Вокруг свистело, стонало, ухало. В наушниках слышался сплошной треск и заглушающий лай немецкой речи.
Из первого батальона прибежал окровавленный посыльный.
— Немцы переправились на наш берег, — выпалил он.
— Сколько? Где? — попросил уточнить Бугров, оставшийся в те дни за командира полка.
Посыльный склонился над разостланной на столе картой.
— Вот тут, в лощине, до роты. Сюда кустарником просочился взвод, не более. Но на воде их много. Вплавь и на лодках, товарищ комиссар.
Солдат облизал запекшиеся губы, поправил бинт на голове.
— Огоньку бы. Комбат просил.
Бугров снял фляжку с ремня.
— Попей.
Солдат жадно, гулко глотая, выпил всю фляжку, утерся грязным рукавом.
— И еще бы подмогу. Хоть небольшую. Там мало осталось нас.
— Назад добежишь?
— А как же. Хоть мертвый, а назад. — Он вскинул на ремень винтовку, пригнувшись, сунулся в дверь.
— Погоди! — окликнул Бугров.
Солдат вернулся.
— Скажи комбату: будет и огонь и подмога. Сбросим в Волхов собак.
Повеселевший посыльный убежал. Бугров вызвал командира роты автоматчиков Сергея Ярцева.
— На участке первого батальона немцы переправились на правый берег, — сохраняя спокойствие, начал Бугров. — Пока их там чуть больше роты. Но переправа продолжается. Они хотят создать плацдарм и затем ударом на восток перерезать шоссе Ленинград — Москва. А этого нельзя допустить.
— Ясно, товарищ комиссар! — кивнул Ярцев. — Без шоссе нам нельзя. Все снабжение по нему.
— Так вот, — продолжал Бугров. — Приказываю уничтожить вражеский десант! Наступление поддержим огнем. Ну, что молчишь?
Лейтенант Ярцев уперся головой в сосновый накатник блиндажа.
— Жив не буду, а уничтожим, товарищ комиссар!
— Что значит — не буду?
— Это вроде клятвы у нас.
— A-а! Ну, то-то!
— Разрешите идти?
— Да!
А спустя час лейтенанта Ярцева, забинтованного, бледного, с запекшимися от крови волосами, привели в блиндаж два автоматчика. Возбужденный, злой, он оттолкнул их в стороны, выпрямился и, еле держась на ногах, шатаясь, доложил:
— Приказ выполнен! Десант уничтожен.
Своими руками укладывал отважного лейтенанта на носилки Бугров. Сам же и встречал его после госпиталя в полку. Был он еще долго слаб. Больше месяца с палочкой ходил. А потом уже в политотделе, когда начальником стал, нашивки за ранение ему вручал. И вот теперь нашелся чиновник, под сомнение кровь людскую взял. Ах, какая бесчестность! Какой наглец!
— Ты что вздыхаешь, Матвей? — толкнула в бек жена. — Может, заболел?
— Нет. Ты спи. Спи…
Он натянул на плечо жены простыню, тихонько встал и, закурив, вышел на открытую веранду. С дальних барханов все еще тянуло сухим жаром, но он был уже гораздо слабее вечернего. Горный воздух, смешанный с запахами талых вод, теснил его. Временами он прорывался сквозь обвившие веранду кусты винограда, и тогда оголенное по пояс тело охватывала бодрящая свежесть. Редкие крупные звезды предутренне бледнели. Над землей мигали крошечными фонариками светлячки. В гараже комдива не умолкал сверчок.
Сев в кресло, Бугров продолжал свои раздумья. Вспомнился ему разговор с Дворнягиным в эшелоне, его слащавый тост за столом: «Разрешите, дорогой товарищ командующий, выпить за ваше полководческое искусство, за ваш светлый ум!» Еще тогда не понравился он своим заискивающим поведением. Возможно, тогда и поспорили за это? А потом содержание спора стало известно работникам Гусакова, и задержали. А не дворнягинские ли это проделки? Не он ли возвел клевету, а потом при встрече кричал: «Вот сволочи! Вот клеветники! На кого руку подняли…» Да, это он. Только он. Зря я, грешным делом, на повара подумал. Зря. Прости меня, Артем, прости. Забыл я, что и в высоком дереве водятся короеды. И когда хотели назначить заместителем начальника политуправления, он, Дворнягин, как видно, свинью подложил. Генерал Хмелев одобрил назначение, а к Дворнягину попало дело, и началось. «Не клеится, Матвей Иванович. Тормозят. Но я пробью. Непременно пробью», — уверял чертов хамелеон.
Так и «пробивал», шельмец, пока не расформировали армию. Хорошо, что сам попросился сюда, в Туркестан. А то, чего доброго, мог бы, шельмец, и увольнение из армии подстроить. Письмо, что ли, Хмелеву написать? Подумаем. А пока Сергея надо выручать. Сергея…
Рано утром, придя на работу, Бугров позвонил командующему округом Коростелеву.
— С добрым утром, Алексей Петрович, — услышав голос Коростелева, начал он. — Не помешал?
— Ты что, Матвей! В коем веке ты мне мешал?
— Молчу и поднимаю руки.
— То-то же. Как вы там, не испеклись? У нас с утра тридцать один.
— Вчера был буран, а сегодня тишь. С гор холодок. Прилетели бы, Алексей Петрович, на денек. На форель бы сходили. Эх, и форель!
— Приеду. Только не на денек. И не на форель. Непременно буду. Жди! Да, а ты что так рано? Мог не застать.
— Дело небольшое есть.
— Слушаю! Какое такое дело, что спать не дает?
Бугров вкратце, торопясь, чтоб случайно не прервали разговор, рассказал о Сергее, проделках Дворнягина, своих догадках, и в конце попросил:
— Нельзя ли вместо роты назначить Ярцева на саперный батальон? Замполитом. Я звонил начальнику политуправления, но он где-то в войсках. Посоветоваться с вами решил.
Немного помолчав, Коростелев спросил:
— Так, значит, на батальон?
— Да, Алексей Петрович. Я прошу поддержать. И место вакантное как раз есть.
— Хорошо! Я за.
16
Ранней весной, после долгих лет лечения, Иван Плахин возвращался наконец-то домой. И хотя ноги его еще совсем не окрепли, хотя был он еще очень слаб, необыкновенная легкость охватила его при виде родных лесов и полей. Как никогда, отчетливо выросли картины детства — ребячьих игр, поездок с отцом на базар, первых встреч и свиданий.
Что-то невероятное случилось с больными ногами. Забыта и боль, и палка, служившая опорой. Все быстрее, быстрее несут они, чтоб скорее мог увидеть речку в ракитах, где ловил раков и пас гусей, дощатую крышу отцовского дома, с которой когда-то хотел увидеть край света и гонял голубей, околицу и лесок, где гулял с девчатами и произнес первое «люблю».
А в небе, под кромкой тучи, так же спешат запоздалые журавли. От левой нити отделилась пара, закружилась, курлыкая и гадая: сюда ли? Это ль болото? Ну, конечно, сюда! Вот же березки на нем, ольха… И с радостным криком натянутыми луками пошли на снижение. А вот там, по траве меж кочек, бежит длинноногий странник — коростель. Тысячи верст, через леса и болота бежит он пешком на свою родину. Есть ли еще такая, более сильная привязанность к своей земле, как у этой неказистой трескучей птицы! От травки к травке, от кочки к кочке. Скорее, скорее туда, где прошлый год впервые увидел небо над головой!
Вот так же спешил домой и Плахин Иван. Спрямляя дорогу, через кочки, канавы и лужи шагал он к видневшимся на пригорке милым Лутошам. Позади остались сухой мшаник, поросшее ольхой болотце, утыканный кустами вербы луг… А вот и речонка шириной в три шага. Извечно журчит она в травянистом шелке, качает редкий камыш. Все так же, как и десять лет назад, лежит кладка через нее. Полуистлевшая, подточенная ветрами, но еще крепкая и широкая, как добрая лавка в хате твоей. Ложись на нее животом, свесь голову и пей. Чуть горьковатая была вода, отдающая торфом и травой. А теперь… Нет в мире вкуснее этой воды, нет живительней ее. Глоток за глотком, глоток за глотком… Хмелеешь, и хочется пить.
А помнишь, как когда-то лежал ты тут, глотая воду и роняя чуб? А с другой стороны бревнушки — она, веснушчатая Тося. Шея с пушком вытянулась. Губы мокрые, глаза искристо горят и чуть косят на тебя.
— Цыцьки намочишь, Тось, — вдруг говоришь ты ей дерзко и стыдливо.
— Дурак! — бросает она в ответ и, зачерпнув в пригоршни воды, плескает на тебя.
Это было твое первое увлечение, первая ревнивая весна на твоей дороге. А теперь у тебя другая, более осознанная, более сильная любовь.
Чавкая сапогами по теплой воде, Плахин жадно рвет цветы, но вдруг вспоминает старое поверье и все кидает под ноги. Желтое ж к измене. Черемухи бы где букетик.
Но ее уже нет. Весь приметный куст другие влюбленные пообломали. Только веточка вот осталась. На козырек фуражки ее — и скорее к деревне, откуда уже доносится кудахтанье снесшихся кур, мычание телят, звон бидонов и знакомые выкрики матерей:
— Сань-ка-а! На завтрак скорей, а то хворостиной.
— Петька, пострел! Ты что же теленка не го-ни-шь…
А вот черным сукном блеснула на солнце пахота — колхозные огороды. Мелькают белые блузки, пестрые платочки. Садят бабы раннюю рассаду. Плахин останавливается, пытается издали различить, которая же из них его, и тут ли она сейчас или в другом месте, или ее вовсе нет. Учащенно стучит сердце, глаза перебегают от одной к другой, третьей… Но вот и женщины заметили его. Сначала одна, потом другая… и через минуту все уже прекратили работу, тоже смотрят, гадают: чей же это? кому несет судьба нежданное счастье?
Еще минута замешательства. Еще сто саженей под ногами. И вдруг одна из них, бросив тяпку, сорвав с головы платок, размахивая им, что-то крича, бежит к Плахину, кидается ему на грудь и жарко целует в губы, щеки, глаза, глотая слезы, путано сыплет скороговоркой:
— Ваня! Милый. Родной… Не ждала. Думала вовсе… навсегда. А ты…
Лена снимает с плеч Плахина вещевой мешок, скатку шинели, и вот они идут плечом к плечу, навстречу заплаканным, обиженным своей судьбой, но довольным чужим счастьем женщинам.
— Здравствуйте, бабоньки! Земляки родные, — снял фуражку Плахин. — Принимайте запоздалого фронтовика.
— Долгонько ты шел, сынок, — утирая фартуком слезы, говорит вдова Мария. — Заждалась она тебя.
— Чуть замуж не выдали! Погрыз бы локоток! — кричат девчата.
Подходит крестная мать Федосея. Пересохшие губы ее дрожат. Усталые серые глаза полны слез.
— Ванюша… Крестничек мой, — говорит она и, уткнувшись в звонкие медали, долго вздрагивает костистыми, худенькими плечами.
Лена находит в толпе бригадиршу.
— Как же мне, Наташа? Может, как-нибудь без меня…
— Да иди. Иди уж, — толкает в плечо Наталья. — Какая там рассада.
* * *
Весть о возвращении Ивана Плахина разнеслась по деревне, как осенний лист в ветреный полдень. Посмотреть на фронтовика, Ленкиного жениха — кавалера трех орденов Славы, пришли чуть ли не все односельчане. И между прочим — не с пустыми руками. Одна прихватила кочан моченой капусты, другая — миску грибов, третья — кусок сала, четвертая — десяток яиц. Нашлось для такого случая и кое-что из хмельного. Дед Архип вытащил из подпола запеленатую, как дитя, четверть самогона. Он не спеша, боясь уронить, распеленал ее, начисто вытер запотевшее стекло, вынул залитую смолой пробку и торжественно водрузил на стол, как он выразился, свой «главный резерв».
— Семь лет такого праздничка ждал, — сказал он, погладив бока бутыли. — Сколь раз тянуло распить. Но, слава богу, удержался. К делу пришлась. Гуртуйтесь-ка, гости дорогие. Отметим приход солдата в отчий дом.
Все, кто был в хате, шумно разговаривая, гудя, как на свадьбе, расселись за сдвинутыми столами. Ивана и Лену усадили в красном углу, на самом видном месте.
Ожила, улыбнулась всеми углами старая плахинская хата, не слыхавшая десять лет мужских голосов, звона стаканов. Жизнью повеяло из нее, глянуло в синь вечера яркими огнями.
— За победу, дорогие земляки!
— С возвращением, Ваня!
Дед Архип тянет к лампе граблисгую руку.
— Дай мне речу сказать.
— Говори, дед! Давай!
— А реча моя такая, гражданы. Давайте выпьем сразу за двух солдатов. За того, кто там в баталии живот свой не жалел и возвернулся героем. И вот за нее — солдатку, — дед указал на Лену. — Неспроста у ней огрубели руки и смолоду морщины. Ей некогда было етот самый маникюр наводить. Она отсель… из Лутош подпирала победу.
— Резон, Архип!
— Верно! — подтвердили гости.
— И не только она, — продолжал Архип, — а вон их сколько! Вдовы, да горем согнутые. А не сломленные. Нет. Все державе родной отдавшие. Выпьем за них. Баб геройских и мужиков наших.
Выпили. Кто-то из девчат крикнул: «Горько!»
— Э-э, нет, — погрозила пальцем Вера Васильевна. — Два праздника не будем комкать в один. Мы по осени настоящую свадьбу закатим, правда, дед Архип?
— Знамо. Какая ж свадьба по весне.
Немного закусив, председатель колхоза Вера Васильевна обернулась к смущенному такими почестями Плахину:
— Ну как здоровьице, Ваня? Вижу, ходишь ничего.
— Да как будто произвели ремонт. Думал, не встану.
— По медалям вижу — в разных странах побывал. Не разлюбил Рязань-то свою?
— Что вы, Вера Васильевна. Да я… В общем, дайте- ка слово скажу.
Вера Васильевна позвонила ложкой о бутыль. Гости притихли. Плахин встал, одернул гимнастерку.
— Вот тут Вера Васильевна спросила у меня, — начал он хрипловатым голосом, — не разлюбил ли я, шагая по чужбине, Рязань свою.
— Вот, вот. Скажи-ка, скажи, — закашлял от горчицы дед Архип. — Как там оно да что?
— Много говорить не стану. Одно скажу: во многих странах я побывал. По-своему хороши они. Но землю русскую, Рязань свою я ни на какие заграницы не променял бы. У нас тут простор, широта и душе, и ногам, и мыслям.
— Верно, внучок! — воскликнул подвыпивший Архип. — Пошли ты эту заграницу, извиняюсь… Не могу вслух сказать.
Под общее одобрение выпили за родную Рязань, за Лутоши, потом опять за прибывшего.
Давно не выпивавший Плахин захмелел и в разговоре не заметил, как гости разошлись по домам. Вера Васильевна распрощалась и тоже поспешила к ребятишкам. Лена хлопотала у деревянной кровати, стелила постель. Плахин из-за стола восхищенно смотрел на нее и думал: «Какой же я был дурень, что отказывался от тебя, не хотел возвращаться! А возможно, и не вернулся б, если бы не твои письма, не твоя любовь, беляночка моя».
Он подошел к Лене, взял у нее избитую подушку и, нежно прижавшись к горячей девичьей щеке, сказал:
— На полу ляжем. Кровать никудышняя, да и надоела она в госпитале мне.
…Они постелили на полу у кровати. Плахин открыл окно. В дом дохнуло ромашками, уличной пылью, свежей пахотой, листвой ракит и вишен. В лугах звонко заливался соловей.
Иван разделся первым и сел на постель. От счастья, от половодья нахлынувших чувств у него хмельно кружилась голова. Он завороженно смотрел на Лену и ждал, когда она снимет свое легкое, подсвеченное луной платье. Но Лена стояла притихшая и молчаливая. Она смотрела в окно на косяк луны, на мерцающие звезды и слушала, как поет соловей, как шепчутся деревья.
Прошла только какая-то доля минуты этого молчания, а Ивану показалось, что Лена уже давно стоит в этой нерешительности. Он понимал ее состояние, ее девичью стыдливость и, боясь, что она вот так и будет стоять до утра, порывисто обнял ее за тугие, теплые ноги и припал к ним пересохшими губами.
Она, как деревце под налетевшим ветром, дрогнула в испуге, чуть отшатнулась, но сейчас же подалась вперед и жарко стиснула его за шею.
— Ванечка… Долгожданненький мой.
Мягкий ветер тронул верхушки вишен. Дремная листва в саду нежно и таинственно зашепталась. Ночная птица стремительно прошуршала крыльями. Тоскливо ухнул филин. Но они уже ничего не слыхали. В эти мгновенья все было позабыто. И война, и разлука, и недомолвки, и горести жизни.
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ
1
В крымском небе мягко прокатились грозы. Теплые дожди омолодили горы, зажгли в долинах розовые зори зацветшего миндаля, принарядили чопорные вишни. Даже старые, сгорбленные груши повеселели в мокрые зори.
Над виноградными лозами густела паутина шпагатных и проволочных нитей. По утрам на них висела бусами роса и перелетные пичуги справляли свадебные спевки. Иногда сюда, на высокие колья, садились степные орлы и часами дремали, укрепляя натруженные крылья.
Там, где на колья еще не легла паутина, появлялся на трехколесном тракторе белобрысый, лет шестнадцати паренек и, насвистывая, что придет на ум, разрисовывал вкривь и вкось виноградник черными бороздами. А потом сюда приходили с мотыгами, мотками нитей женщины, и долго тогда, почти до звездных сумерек, не утихало их щебетание, их грустноватые напевы.
Степан Решетько все минувшие годы работал с брянским дедом в предгорном лесу: строгал для виноградников дубовые колья, долбил в местном карьере камень и вывозил его на тачке на дорогу, заготовлял из старого повалья дрова. Там же и жил в землянке, встречая в неделю раз свою располневшую перед родами Катрю.
Этой весной в лес приехал председатель колхоза Дыня. Он не спеша осмотрел заготовки, обошел отведенный колхозу лесной участок, посидел у костра за кружкой чая и, уже уезжая, сказал:
— Ты вот что, Степан. Завтра поутру на заседание правления приходи. На виноградческую бригаду будем тебя утверждать. Хватит тут зимовать. Чего доброго, одичаешь.
— Что вы, — смутился Решетько. — Какой из меня бригадир? Я с одной бабой толком не управляюсь. А там их сколько!
— Ничего! Командовал взводом — покомандуешь и бригадой.
На заседании правления Степан тоже упирался, доказывал, что у него никаких задатков на бригадирство нет. Но не помогло. Все проголосовали за его избрание, и стал Степан Решетько, как сказал дед Прохор, бабским командиром.
Нескладно поначалу пошли у него дела. Не знал он телком, и как ставят подвески к лозам, и как обрезают, густят черенки. Часто путался с оформлением нарядов, подсчетом трудодней. Но самым тяжелым для него оказалось укрепить дисциплину. В бригаде числилось по списку тридцать шесть женщин. На работу же, как ни звонил Степан в рельс, как ни гонял конного посыльного по селу, выходило лишь пятнадцать — двадцать человек. А что с этой силой сделаешь, если земля, как камень, если за время войны почти все сгнило, заобложело, одичало. Тут и сто тридцать шесть человек не управились бы.
В конце марта в бригаду дали два новых трактора. Сразу стало легче с подвозом кольев, воды, ядохимикатов, вспашкой междурядий. Но в людях, как и прежде, была большая нехватка. Без них в бригаде задыхались. А они, эти десять — пятнадцать женщин, почему-то не шли.
Махнув на рельс и посыльного, в одно утро Решетько отправился по хатам сам. Первой на его пути стояла одинокая мазанка Груни Подветровой. Она не появлялась на винограднике вот уже третий день и, как сказал посыльный, на его стук в окно ответила: «Пошли своего бригадира к теще варить щи».
Одернув гимнастерку и поправив на груди начищенную «Славу», Степан подошел к распахнутому настежь окну и легонько постучал батогом о горшок герани:
— Аграфена Дмитриевна! С добрым утром вас.
В углу скрипнула кровать, белая штора раздвинулась, и из-за нее выглянула молодая женщина лет двадцати семи, в белой рубашке, обнажившей крепкое, загорелое плечо.
— Чего стучишь? Что тебе? — сердито спросила она грудным голосом.
— Почему не ходите на работу, пришел спросить.
— Нежусь. Подушку обнимаю четвертый день.
— Я вас всерьез!
— И я не в шутку. Ты Катрю обнимаешь, а я вот ее, — выхватила она из-под головы мокрую от слез подушку. — Гляди! Чего ж ты, бригадир!
Решетько пристыженно опустил глаза. Что скажешь этой молодой, в такую рань овдовевшей женщине? Чем утешишь горе ее? Ей бы сильными нежными руками обнимать мужа, ребенка, а она вот долгими ночами, который год уже, солит слезами эту подушку. Повернуться бы, уйти. А как же работа? Как с теми растрепанными и поникшими лозами винограда? Кто поднимет их, даст им жизнь? Нет, нельзя уходить. Чем-то облегчить горе женщины надо.
Степан подходит ближе к окну и, сделав вид, что последних укорных слов он вовсе не слыхал, пристально и ласково смотрит на Груню.
— Ну, что уставился? — не выдерживает взгляда Груня.
Решетько заламывает облинялую фронтовую ушанку:
— Да вот любуюсь вами. Эх, какие чудные косы! Пол-Европы прошел, а таких не видал.
Груня, сунув в зубы заколку, тихо улыбнулась:
— Да уж выдумал. Косы как косы.
— Э-э, не скажите, — потряс головой Решетько. — Это только мужчины могут ценить. Они-то знают в них толк. — И протянув руку, потрепал за кончик косы.
Груня, посветлев, шлепнула Решетько по шапке.
— Иди уж… Иди. Сейчас приду.
Она подходит к зеркалу и, становясь то одним боком, то другим, начинает впервые за много дней рассматривать свои редкие, издерганные расчесом, косы. А Степан Решетько уже разговаривает у калитки с другой вдовицей.
— Танечка! Золотко. Как ты похорошела! Морщинки разгладились, щечки порозовели. Вот что значит весна. Да что весна… Возраст-то у вас невестин.
— Женихов только черти съели, — улыбается польщенная бледнолицая и усталая Татьяна.
— Будут. Не все еще потеряно. Не все кавалеры с фронта вернулись. Ведь недаром и в песне поется… — Решетько умиленно закрывает глаза и артистически поет: — «Еще не вся черемуха к тебе в окошко брошена…»
— Черт, а не бригадир, — смеется Татьяна. — Ну как тут не пойти на работу?
В заросшем лопухами подворье грузная тетка Пелагея, подоткнув подол юбки, по-мужицки гахая, колет и никак не расколет сучкастое полено. Решетько подходит к ней, берет из рук топор.
— Дайте-ка. Попробуем.
Пелагея критически, через плечо, смотрит на маленького, хилого на вид Решетько:
— Где тебе. Еще поленом придавит.
— Маленек, да удаленек. Отойдите-ка…
Он вонзает топор в полено, плюет на ладони, растирает их, рывком вскидывает пудовое полено над головой и с силой бьет по колоде. Две половинки с треском разлетаются по двору.
За поленом разваливается еще и еще… Пелагея восхищенно качает головой:
— Ай да парень! Ай да муженек! Недаром Катря так держится за тебя. Ловкий, рыжий черт. — И тут же спрашивает в упор: — Зачем пришел? Говори!
— Знамо. На работу позвать.
Пелагея, чуть прищурив хитроватый глаз, изучающе смотрит на нового бригадира.
— А дровишек подбросишь?
— Привезем, Пелагеюшка, и наколем.
— Без обмана?
— А я разве кого обманул?
— Ты-то? Пока не было, а там кто вас знает. Тот демон, чтоб ему икалось, любил обещанками кормить. «Я тебе, Палагея, привезу. Лично доставлю». Пол-литра выжрет и был таков. Лишь лупает глазьми: «А я разве обещал?»
Решетько вскинул руку к шапке.
— Будьте покойны. Такого не будет. Слово фронтовика.
Из пятнадцати вдов на работу вышли пятнадцать. Даже злостная прогульщица Марья, которую давно вычеркнули из всех колхозных списков и присвоили титул спекулянтки первого разряда, и та явилась разодетая в цветной сарафан курортного сезона.
Когда все собрались на усадьбе под старыми тополями, Решетько построил женщин в шеренгу, рассчитал, как солдат, на первый, второй. Причем делал все это он в шутку, а исскучавшимся бабам такая веселая затея бригадира понравилась, и они, хохоча над своим неумением, охотно делали то, что он говорил.
Скомандовав «смирно!», Решетько важно, как главнокомандующий, прошелся вдоль строя и вскинул руку:
— Бабоньки! Солдаточки! Бойцы трудового фронта! Сегодня мы уходим в бой. В наступление на пустыри и дичары… В бой за наш солнечный крымский виноград!
— Войско маловато! — выкрикнула Татьяна. — Один взвод, и тот в юбках.
— Ничего, бабоньки. Не беда, — продолжал Решетько. — Суворов говорил: воюют не числом, а уменьем.
— Тракторов бы парочку еще.
— Будут и трактора. Дай заводы восстановим и новые построим. Жизнь-то какая пойдет!
— Доживем ли?
— Доживем, милушки. Непременно доживем. Мы голодом мореные и огнем прокаленные. Нам никакой черт не страшен.
Груня, глядя восхищенными глазами на Решетько, вздохнула:
— Вот демон-то. Мертвого на ноги подымет. — И громко сказала: — Да веди же. Веди…
Решетько дал команду. Женская бригада уходила в горы.
2
Дрéмна тишина в предлесье Крыма. Угрюмо молчаливы горы. Без устали греют они свои спины, и днем и ночью думают горькую думу. Им бы шуметь садами, дарить людям корзины груш, винограда, удивлять мир розами, а они, будто в насмешку, плодят лишь скудные травы да кусты колючего шиповника.
Никому не нужны были эти сохлые в рыжих подпалинах горы. Только изредка отдохнет на них усталый орел, да разве влюбленный парень уведет повыше девчонку, чтоб были видны звезды и расплесканный синевою безбрежный мир. Люди веками хлопотали у тех кусков земли, которые поближе к воде, а на те, что подальше, смотрели с боязнью. Но вот пришел черед и до них.
Степан Решетько скинул с плеч пиджак, положил на камень шапку, солдатский ремень и, взяв в руки мотыгу, обратился к покатой горе:
— А ну-ка, вставай! Хватит дремать, родная. — И со всего размаху вогнал мотыгу грунт.
В ряд с Решетько стали с кирками, мотыгами бабы. Загудела гора. Зазвенели на ней шутливые голоса.
— Степан, берегись! Грунька на пятки наступает.
— Она знает, кому наступать. У Степана пятка широкая.
— И что с того, кума?
— Как что? У кого пятка широка, с тем и ноченька сладка. Правда, Степан?
Степан, как петух, ходил возле баб. Одной поможет набить соскочившую кирку на цевье, другой — мотыгу наточит, третью — словечком подбодрит, а не то и ущипнет за крутое бедро. А вдовушкам только такой бригадир и нужен.
Незаметно прошел день. Вот уже начало темнеть, с гор холодком потянуло. Уходить бы пора, но хочется Степану еще одну плешину раскорчевать, и он опять — с улыбкой по цепи:
— Любушка! Грунюшка! Пелагеюшка, маков цвет. Еще чуточек. Еще немножко. Где наше не пропадало!: Постараемся. Взмотыжим гривку.
— Устали. Руки гудят.
— Верно, устали. Вижу, милушки. Но зато какой будет виноград! Сколько вина! И шампанское. Наше колхозное. Крымское… Родное… Пробки будет рвать. Бутылки в крошки…
Вздыхая и улыбаясь, бабы поворачивают к нераскорчеванной делянке.
— Да темно уже, Степан, — замечает одна из них.
— А я костерчик… Костерчик разложу.
И Степан сломя голову бежит в ближний кустарник, как муравей, тащит оттуда трескучую охапку хвороста. И вот уже взвился птицей костер, озарил пугливым светом ломкую цепь женщин, устало мотыжащих высоту.
С «добитого» клина бабы спускаются умываться к ручью. Степан, довольный и усталый, идет позади. Дорога в долину освежает его, усталость проходит, и у него вдруг появляется мужской азарт подшутить над какой-нибудь вдовицей.
В полуобороте к нему, красиво выгнув гибкий стан, плескалась в воде Груня. Желтая кофточка, казавшаяся при лунном отсвете белой, плотно обтянула ее полную грудь. Округлая, с ямочкой щека от холодной воды молодо горела. Из-под вздернутой юбки выбивались белые кружева рубашки, и оттого ноги ее казались еще чернее.
Степан тихонько сорвал колючую ветку шиповника, осторожно, ползком по траве, подкрался сзади и, спрятавшись за камень, несильно стегнул ею по ногам.
— Ой! Мамонька! — вскрикнула Груня.
— Ты чего? — выглянула из-за куста Пелагея.
— Укусил кто-то. Ой! Прямо за ногу.
Пелагея кивком указала на камень, но, чтобы не спугнуть Степана, возразила:
— Прямо уж. Нужны твои ноги…
Догадавшись, Груня глянула за камень и кошкой прыгнула на Степана.
— Бабы! Сюда! Хватай его. Держи!..
Решетько и опомниться не успел, как оказался распластанным на траве, окруженный толпой вдовиц. Одни, распяв его, как Иисуса Христа, держали за руки, ноги, другие с хохотом стаскивали с него штаны. Кто-то с азартным визгом сыпал под рубашку песок.
Поняв, что шутка теперь обернулась против него самого, Решетько, визжа от щекоток, взмолился:
— Вдовушки! Цыпоньки. Голубушки. Клюковки с помадкой. Черти разнокосые. Да пустите же! Как не стыдно? Разойдись!
— Лежи, лежи, — прижимала Груня.
— Стаскивай! Тяни, кума! — кричала Люба.
— Воды! Воды давай, — горланила над самым ухом Татьяна.
Лежа на спине, Степан смотрел на баб. Прямо на нем, до боли прижав собою ноги, сидела Груня. Глаза ее, как у кошки, поймавшей мышь, озорно горели. Слева давила своими коленями руку Люба. Правую цепко ухватила в запястье и прижала не то к камню, не то к острому корневищу Татьяна. А дальше Степан видел только хохочущие лица, белые ряды зубов да разгоряченные глаза.
Вырваться из такого плена было, конечно, невозможно. Рассчитывать на чью-то помощь тоже нечего. В шутливой свалке были все, исключая старую Пелагею и пугливую Марью-базарку. Вызволить сейчас могла только лисья хитрость, и Решетько тут же пустился на нее.
— Бабоньки! Милые, — начал он ласково, как только мог. — Погодите. Дайте слово сказать. Новость важную.
— Говори!
— Слушаем…
Решетько лизнул пересохшие губы.
— Дуры вы! Дуры безрасчетные. Ну какой вам толк истязать меня?
— Мы не истязаем. Жалеем, Степушка, тебя, — пропела над ухом Груня.
— Вижу жалость твою. Да не щипайся, черт!
— Ах, ты огрызаться. Хватай его!
— Да погоди. Не все сказал.
— Говори!
— Так вот и говорю. Ну, защекочете вы меня. Еще прибавится одна вдова — Катря моя. А я ведь о всех вдовах думаю. Как замуж выдать вас. У меня и планы уже есть.
Руки баб ослабли. Люба, Татьяна и Нина отступились. Только Груня, не слезая, сидела верхом на ногах и зорко следила за каждым движением бригадира, готовая к новой борьбе.
— Какие планы? Выкладывай, — скомандовала она и для пущей острастки стукнула кулаком по груди Степана.
— Самые чудесные, бабоньки. Самые светлые, — повеселев, начал расписывать Решетько. — В том полку, где я служил, по моим подсчетам, не меньше тридцати холостяков. Есть среди них такие орлы, как я, есть и кое с какими дефектами. Шрам там на лице. Опаленные брови. Но в целом же кавалеры что надо. Прошли все огни и воды, пролезли все медные трубы.
Решетько передохнул, попросил, чтобы ему смахнули пот с лица, и, когда Грунин фартук освежил его, снова молол:
— Все эти тридцать гренадеров по милости войны остались без кола, без двора и теперь сидят и ждут себе тихого пристанища. Каждому хочется обрести теплый очаг, обнять вот такую, как Груня аль Таня. Но, но, но…
— Что «но»? Чего занокал?
— Задушили б вы меня, и никто б не узнал о вашем существовании.
— Миленький, да кто же тебя душить-то будет? Глупый, — чмокнула Степана в щеку раскрасневшаяся Груня. — Ты только уладь. Смани их сюда.
— Вот это другой разговор! Вот это практичный подход, — приподнялся совсем освобожденный Решетько. — Я, конечно, за всех не ручаюсь. Нет. Какой-то процент из них, может, и не поедет. Но женихов пятнадцать, слово даю, завлеку. Нынче же письмо напишу.
— Степушка! — крикнула сидевшая на отшибе Марья-базарка. — А для меня там не найдется какой- нибудь завалящий?
Прихрамывая, сгорая от стыда, Степан удалился за кусты, ощупал помятые бока, штанины и уже издали крикнул:
— Всем найдется. Только Грунька-шельма получит шиш.
— Это за что же?
— За красивые косы, синяк в одном месте и порванный клеш, — ответил Степан и погрозил в темноту кулаком.
3
Долго ждал Дворнягин повышения за люстру, но так и не дождался. Захаров словно в рот воды набрал, будто вовсе ему ничего не дарили, хотя люстра и поныне висела в его квартире и теперь напоминала о проявившем заботу. Наоборот, вопреки всем ожиданиям, он стал каким-то сдержанно чужим. При встрече сунет молча руку, отвернется и пойдет. Или буркнет при докладе: «Ну, что у вас?» — и сердито сопит.
«Экая неблагодарная свинья, крыга ледяная, — злился Дворнягин. — Получил ни за что ни про что дорогую люстру и спасибо даже не сказал. Пень с корнями бы тебе к потолку подвесить, чтоб знал, как за добро платить добром. Самому, что ли, разговор о люстре завести, полюбопытствовать, как она горит? Нет, неудобно. Пес с ней, с люстрой. Что с воза упало, то пропало. Надо другие тропки к генеральскому чину находить. Но какие? Где они? Постой, постой. А дядюшка Нарциссы. Он же работает в Генеральном штабе, занимает высокий пост. Почему бы не попытать счастья через него? Взять да и поехать вместе с Нарциссой в гости к нему. Ведь это же блестящая идея!» И Дворнягин ухватился за дядюшку Нарциссы, как необученный ездок за гриву брыкучего коня.
С трудом дождавшись конца работы, он прихватил по дороге бутылку коньяку, букет хризантем и на такси подъехал к двухэтажному домику, где в кругу многодетных семей жила, как и прежде, Нарцисса. Окно ее комнатушки было на первом этаже. Дворнягин стал на бревно, где по вечерам сидели старухи, и легонько постучал в стекло.
— Соседочка! Вы дома?
Створки распахнулись, и в окне показалось розовое, полное, в мелких подпудренных прыщах лицо Нарциссы. Раньше эти прыщи Дворнягин видеть не мог. Сейчас же они показались ему не только гармоничными с пухлыми щеками, округлым лбом, но и привлекательными. Без этих пупырышков она, пожалуй, много бы потеряла. Да и вообще в глазах Дворнягина она стала не просто хромой соседкой, выдававшей себя за индианку, а племянницей видного генерала, той золотой рыбкой, которую послал бог, чтоб починить разваленное корыто.
— Что вы на меня так смотрите, Лукьян Семеныч? — не выдержав долгого взгляда, спросила Нарцисса.
— Давно не видел вас, соскучился.
— Ой ли?
— Честное слово. Примите букетик.
Нарцисса просияла:
— Спасибо. Ой, какой роскошный! Подождите минутку, я его в воду поставлю.
Дворнягин придержал ее за рукав халата.
— А, может, заодно оденетесь? Я ведь за вами заехал.
— За мной? И куда же мы?
— Туда, куда вы приглашали.
— Я что-то не помню, — повела плечами Нарцисса.
— Ну, как же. Вспомните. К дяде на дачу вы приглашали меня. Он, надеюсь, там?
— Да. Но лучше бы в субботу. В воскресенье по ягоды можно сходить.
— Никаких суббот. Поехали. У меня сегодня чертовски чудесное настроение.
— Раз так, то я готова. Одну минутку.
…Солнце еще не зашло, а Нарцисса и Дворнягин были уже в подмосковном дачном поселке, раскиданном в царстве кудрявых сосен, старых лип с засохшими верхушками и вишневых, яблоневых садов.
Дача генерала Курочки приткнулась к опушке густого осинника, переходящего постепенно в сосновый бор. Она была небольшая, в два этажа, по три окна на каждом, но опрятная, с розоватыми каменными стенами и зеленой, свежекрашенной крышей, над которой дремотно свесили рыжие кудри разлатые сосны. Еще издали привлекали взор желтая расписная лесенка, ведущая на второй этаж, навесной открытый балкон с круглым плетеным столиком на нем и зеленые ветки хмеля, вьющиеся по водосточным трубам до самой крыши. Плотный забор с острозаточенными вверху досками, косо огибающий строение, живо напоминал ограждения феодальных времен. За ним сейчас же сонно покачивали метелками несколько можжевелин, куст рябины и ветви яблонь, подпертые палками.
На лязг железной щеколды из дачи вышел жилистый, лет шестидесяти мужчина, с утомленным, почти восковым лицом. Сразу было трудно определить его род занятий. Глядя на чисто выбритое лицо, гладко причесанные светлые волосы, синие жилки, выступающие на лбу, его можно было принять за человека, проводящего дни и ночи в глубоких раздумьях. Если же смотреть на белую нательную рубашку с засученными выше локтей рукавами, то он скорее был похож на косаря с единоличной делянки. Короткие полосатые шаровары из-под пижамы обращали его в ловца пескарей — подростка, которому мать перелатала порванные брючки и сделала одну штанину безбожно короче другой. А между тем это был не кто иной, как сам генерал Курочка, только что оторванный от любимых садовых занятий. Увидев племянницу, он обрадованно воскликнул:
— A-а! Наконец-то дошла молитва до бога. Вспомнила про дядю. У-у, бессердечная цыганка!
Нарцисса чмокнула дядюшку в щеку, успев при этом застегнуть ему пуговицу рубашки, и кивнула на притихшего с кульком в руках Дворнягина.
— Зато теперь не одна. Принимайте гостя, дядюшка.
— Очень рад. Честь имею… — протянул руку генерал.
Дворнягин отрекомендовался по-военному, не забыв при этом сказать, что он давно знает генерала по рассказам Нарциссы и много слышал о нем на службе, как о боевом командире и талантливом работнике генштаба.
Курочке этот комплимент понравился. Минутная неприязнь к жениху тут же рассеялась, и он, проникнувшись уважением, как давнишнего знакомого повел Дворнягина по саду, рассказывая, что и где посажено, какой с каждого дерева снимается урожай.
— Вот это китайка, — хлопал он по стволу тонкого деревца. — Плоды от нее невелики, но очень вкусны. А это наша знаменитая антоновка. В прошлую осень дала центнер яблок. А это… — он подвел Дворнягина к небольшой канаве. — Это навозная яма. Здесь хранится коровий помет, смешанный с конским. Каждые десять дней делаю жидкий компост и поливаю.
Дворнягин обратил внимание на длинные нити, унизанные для просушки дольками груш, яблок и разнообразных грибов, начиная от сыроежек и кончая пухлыми моховиками. Ими был увешан буквально весь двор, местами в два яруса и так низко, что приходилось пригибаться.
По узкой, посыпанной желтым песком аллейке подошли к большой бетонной чаше, заполненной наполовину водой.
— А это вот бассейн, — пояснил генерал, присев на край чаши и зачерпнув в ладонь воды. — С рыбками, конечно. И обратите внимание — не с прочими заграничными. Терпеть не могу заграницы. Тут исконно наши. Плотвички, окуньки… Стойкая рыба. В лед вмерзает, а живет. Не то что заграничный шереспер.
Из сада генерал Курочка провел гостя в дом, сначала в прихожую. Здесь почти во всю стенку красовалась в дубовой раме картина «Сражение русских войск под Аустерлицем». На переднем плане стоял в пышном красном мундире и белых, плотно обтянувших ноги панталонах генерал с бакенбардами и наблюдал за полем сражения.
— Люблю и преклоняюсь, — сказал Курочка, проходя мимо картины. — Умнейший был генерал. Ценил пехоту.
По скрипучей внутренней лестнице, застланной синей дорожкой, поднялись на второй этаж, залитый заходящим солнцем. Здесь стоял лишь кожаный диван да плюшевое, потертое в подлокотниках кресло. Остальное место в трех больших комнатах занимали южные цветы, очень запыленные и изнуренные.
— С тех пор как умерла жена, я на втором этаже не живу, — пояснил генерал. — Захожу только цветы поливать. А так весь этаж пустует. Зову жить Нарциссу — не едет. Хоть досками этаж забивай.
Так же как и в саду, генерал начал объяснять, как называются цветы, какая от них польза. Дворнягин же лишь кивал головой, поддакивал, а сам в это время думал о другом. Его изумил и генеральский сад, и тихий шепот подступивших к даче сосен, и, главное, пустующий этаж. Да это же целый клад! Фабрика здоровья. Как уютно тут можно устроиться! В одной комнате спальня, в другой — столовая, в третьей — рабочий кабинет. Да плюс балкон, где можно посидеть на солнышке и попить чайку. И как же это я раньше не пронюхал, нос от Нарциссы воротил? Ах, дурная башка!
С первого этажа раздался помолодевший голос Нарциссы:
— Мужчины! Ужин готов.
Курочка взял Дворнягина под локоть.
— Пройдем, повечеряем. У меня чудные грибки есть. Собственного засола.
— А мы коньячка прихватили.
— И великолепно. По рюмочке. А потом чайку попьем с малиновым листом. У меня, как изволили видеть, всякие сушености есть. Страсть как люблю разную всячину сушить. Все собираю. Малину, крушину, липовый лист…
— И веников вы насушили? — тронул Дворнягин одну из шуршащих березовых метелок, развешанных на веревке вдоль лестницы.
— Да. Своими руками.
— Зачем же так много, товарищ генерал?
— А спросите меня, я и сам не знаю. Привычка. Все сушу, что под руку подвернется.
Шагая следом, Дворнягин посмотрел сверху на генерала. Сейчас он и сам ему показался таким же сухим, увядшим, как один из березовых веников. Особенно тонка и суха была его шея. Морщины перепутали ее, сделали похожей на облинялую шею старого, растрепанного ветрами индюка. Босые ноги его были тоже иссохшие, и Дворнягин с двойным чувством — жалостью и радостью — подумал, что хозяин дачи долго не протянет и что все его достояние вместе с зеленью и сушеностями, если только не воспротивится Нарцисса, вскорости перейдет в его, Дворнягина, подчинение.
…За ужином разговорились о службе. Осторожно намекая насчет перевода на новую работу, Дворнягин пожаловался, что ему очень трудно, что его буквально осаждают письмами, и в большинстве пустячными. Курочка, услышав это, даже любимые грибы отодвинул.
— Вы совершенно правы, Лукьян Семенович. Жалобщиков прорва развелась. Откуда смелость берется? Мы, бывало, к унтеру боялись подойти, поджилки дрожали, а теперь, чуть что, обращаются к министру. Демократия, мол. Пишу для пользы службы куда хочу. А какая же тут, к дьяволу, польза, если через головы старших обращаются, устав попирают!
— Верно, товарищ генерал. Сейчас плохо следят за этим. Оттого высшие штабы и задыхаются от писем.
— Это еще что, — продолжал Курочка. — Как говорят, куда ни ехало. Меня другое возмущает. Глупые новшества в армии. Возьмем, к примеру, матушку пехоту. Давно уже доказано и минувшей войной проверено, что ей пристало пеше противника атаковать. В лучшем случае — десантом на танках. Так нет же. Находятся теоретики, которые доказывают, что пехоту надо втиснуть в бронетранспортеры. Ну, а если впереди болото или трясина? Как тогда? Полезет ли солдат через нее? Не полезет. Он этому будет не обучен. Он привык к машине.
— Да, — поддакнул Дворнягин. — Забывается суворовская наука побеждать. Забывается. А старик не дурак был, когда еще говорил: «Там, где не пройдет олень, там пройдет русский солдат!»
— Совершенно верно, — закивал Курочка. — Явное забвение. Или возьмите вы авиацию…
— Дядюшка, ешьте, — перебила Нарцисса, подсунув Курочке тарелку с грибами. — Картошка остынет.
— Подожди. Дай же поговорить, — нахмурился Курочка. — Дядя твой одичал тут без разговоров. Все вечера один, один… не с кем переброситься словцом.
Дворнягин взглянул на раскрасневшуюся от рюмки коньяка Нарциссу, осуждающе покачал головой:
— А-я-яй, племянница, разве можно так относиться к дяде? Хотя бы в неделю раз приезжала.
Курочка безнадежно отмахнулся:
— Э, что с нее. Зеленая… Так об авиации. Сейчас в ее развитии наступил предел. Моторы сказали свое последнее слово. Вот вам наш возможный потолок, вот наша максимальная скорость. А практически больше и не нужно. Для боя и этого вполне хватает. Так нет же, моторные самолеты побоку, давай реактивные.
— Это теперь модно, — подтвердил Дворнягин. — Говорят, по дальневосточной трассе первые пассажирские пошли.
— Пассажирские? Ну, что ж. Кому к спеху, пусть рискуют. На дальних расстояниях, может, такая скорость и нужна. Но в бою? На фронте? Можно ли при такой быстроте танки или пушки подбивать, атаковать в воздухе друг друга? Да он же промелькнет и ни шиша не увидит. Раз — и нету. Пустой челнок.
Изображая полет реактивного истребителя, Курочка пронзил вилкой дымок от картошки и снова сделал заход над столом, но уже плавный, выбирающий цель.
— И совсем другое наш старичок ПО-2, или ИЛ-2, или «Петляков». Идет себе тихо, размеренно. Увидит цель — спикирует. От него и одиночный солдат не уйдет. Помните, как на фронте было?
— Конечно, товарищ генерал. Совсем другой эффект.
Курочка подцепил на копчик вилки грибок, проглотил его.
— Вы вот разумно понимаете, по-хозяйски рассуждаете, а другим приходится доказывать, что дважды два — четыре, а конь — без рогов. Я как раз на этом участке стою и скажу откровенно: смертельный бой веду. Отбиваюсь, как на флешах Багратион. Да вот вам живой примерчик, если хотите.
— С удовольствием послушаю, — льстиво глянул в глаза Курочки обрадованный таким вниманием Дворнягин.
— Прислал на днях письмо командующий Туркестанским округом Коростелев, — начал Курочка. — Лично министру адресовано, но я по долгу службы перед докладом это письмо прочел. Прочел и за голову взялся. Умный вроде бы человек, в солидном звании, а предлагает, простите, чушь. Вычислительные машины для управления боем. «Счетно-решающие устройства», как он их назвал. А попросту говоря, для командиров сундуки. Садись, дорогой комдив, возле этого сундука и распивай чаек. Командовать будет за тебя сундук.
— Это сейчас модно, — опять подтвердил Дворнягин. — На Западе, там вовсю пропагандируют электронику и кибернетику.
Курочка побагровел, худые скулы у него нервно передернулись.
— На Западе пусть с жиру бесятся. А я русский. Я не перевариваю заграничного.
— Правильно, товарищ генерал. Что и говорить.
— Вся эта глупирнетика нужна только бездельникам, буржуа. Они привыкли чужими руками жар загребать, ничего не делать. А мы, брат, все добываем своим трудом.
Нарцисса зажала Курочке рот.
— Дядюшка, я запрещаю тебе говорить. У тебя совсем расшатаны нервы. Помолчи.
— Ну, хорошо, хорошо. Молчу.
Несколько минут Курочка ел грибы с вареной картошкой молча, но потом опять заговорил:
— А с сундуками Коростелева целая беда. И докладывать министру надо, и боюсь. Вдруг прочтет и скажет: «Что вы чепуху суете мне?».
Дворнягин вспомнил про свое давнишнее обещание «укусить» при случае Коростелева и подумал, что более удобного случая ему, пожалуй, и не сыскать, что с помощью Курочки командующему округом Коростелеву можно подставить подножку, досадить. Он будет думать о своих «сундуках», ждать ответ от министра, а письмо его покроется пылью в канцелярском архиве. Курочка засушит его так же, как те веники. И, поразмыслив, он сказал:
— Да тут и печалиться нечего, товарищ генерал. Суньте его в архив, и кончено. Мало что этому Коростелеву в голову придет. Он вон, говорят, шляпы своим солдатам ввел. Вы представляете солдат в шляпе! Это же курам на смех.
Курочка помял подбородок.
— Значит, в архив?
— Конечно. Чего с ним делать? Только свою репутацию перед министром марать.
Курочка хлопнул ладонью по столу.
— Будь что будет, а ходу письму не дам.
Обрадованный, Дворнягин разлил коньяк по рюмкам, как когда-то за столом в вагоне командарма, встал.
— Разрешите, товарищ генерал, выпить за вас? За ваш истинно русский патриотизм. За то, что даете бой лженоваторам!
Взволнованный Курочка выпил до дна и долго, скрипуче кашлял в кулак.
* * *
В этот вечер в саду под яблоней Дворнягин предложил Нарциссе руку и сердце. Засидевшаяся невеста обрадовалась, но сдержанно ответила, что подумает, посоветуется с дядей. Она слишком долго ждала от Дворнягина этого предложения и теперь решила немножко покапризничать. Будет крепче любить.
4
В доме Пипке шла предпраздничная суета. Марта и приглашенная в помощь крестная Эммы тетушка Кернер месили тесто, пекли ватрушки, крутили мясорубку, толкли в ступке мак, носились из комнаты в комнату с тарелками и кастрюлями, весело покрикивали на шкодливого кота.
Сказав жене о покупках, Ганс надел пижаму, подоткнул. под шею салфетку и с настольным зеркалом, бритвенным прибором пришел на кухню. Раньше он всегда брился в ванной у специального столика. Теперь же примостился на ящике у холодильника. Ему не терпелось поговорить о женихе дочери, хотелось проведать, знает ли что о нем Марта или для нее это тоже сюрприз.
Как только крестная вышла в соседнюю комнату, он обернулся и спросил:
— А как думаешь, Марта, кто он? Сын булочника, колбасника или пивовара?
— Внук царя Фердинанда, — съязвила Марта.
— Нет, я серьезно. Должны же мы знать, кто он и на что можно рассчитывать.
— Рассчитывай на себя и свои руки.
— Стараюсь, Марта, стараюсь. Но руки уже не те. Быстро устают. Но ночам ломота.
— Поменьше бы выслуживался перед фюрером.
Ганс взмахнул руками:
— Ах, господи! Да оставь ты меня в покое. Все кончено. Крышка. Капут!
— А «Железный крест» зачем бережешь?
— И креста нет. В земле он. В могиле.
— Ну хорошо. Больше не буду, — примирительно сказала Марта. — Иди одевайся. Сейчас появится твой зять. Ты понимаешь?
— О, да! — поднял палец в потолок Пипке. — Это я отлично понимаю. И, надеюсь, он меня поймет тоже. — И уже из другой комнаты добавил: — О, мы найдем с ним общий язык! И в политике, и в столярном деле.
Стол был еще не совсем накрыт (крестная еще не расставила тарелки), когда в палисаднике скрипнула калитка и звонко залаяла собака.
Ганс выглянул в окно и отшатнулся. К дому шел русский офицер в новом, сверкающем пуговицами и ремнями мундире, с кобурой на боку.
«Не за мной ли к господину коменданту? — подумал Пипке. — Он на днях обещал подыскать работу. А может, за Мартой? В гостинице что-то случилось?» Пипке прислушался. Офицер о чем-то говорил по-немецки, Марта смеялась. Потом голоса стихли, послышались шаги, и уже из прихожей донесся веселый голос Марты:
— Ганс! Папаша!
— Я, дорогая.
— Иди-ка сюда.
Ганс одернул костюм, поправил галстук, вышел в прихожую. Рядом с офицером стояла смущенная, растерянная, с пылающими щеками и опущенными глазами Эмма.
— Папа! — рванулась она вперед. — Знакомьтесь. Это мой жених.
Пипке пошатнулся. Разных женихов для своей дочери рисовал он в своем воображении, сидя на верстаке. То он виделся ему знаменитым художником, который увешал весь дом дорогими картинами и открыл свой салон по продаже их. То рьяным помощником в столярном деле, продолжающим традиции Пипке. На худой конец он был согласен на простого трамвайщика, полотера, полисмена… Но такого!.. Нет, убей гром, он такого не ждал и во сне не видел.
— Папа! Да знакомься же, — потащила дочь за рукав.
— Ах, да, — очнулся от остолбенения Ганс. — Мне… мне очень приятно… — И, не глядя, протянул руку.
— Я тоже рад с вами познакомиться, — сказал офицер, крепко пожимая руку. — Звать меня Петр. Ну, а как вас, я знаю. Мне Эммочка рассказала.
— Понимаю, господин офицер. Понимаю, — сухо отозвался Ганс и повернул на кухню.
Марта толкнула его в бок.
— Помоги раздеться. Индюк.
Ганс деланно улыбнулся гостю.
— Прошу вашу фуражку, господин офицер.
Петр сиял фуражку, немного задержал ее в руках.
— Зовите меня лучше Петр или товарищ. Только не господин. У нас, русских, это не принято. Мы господами себя не считаем. Мы все товарищи. Братья.
Ганс пожал плечами.
— Что поделать. Нам тоже кое-что непривычно.
Он повесил фуражку, прошел на кухню и тяжело опустился в кресло.
— Марта! Я ничего не понимаю. Ни-че-го! Не то мир перевернулся, не то мои мозги?
Открывая консервную банку, Марта сказала через плечо:
— И то и другое.
Ганс вскочил.
— Но ты подумала, к чему это приведет?
— К свадьбе и внукам. — И, проходя мимо, потрепала Ганса за ухо. — Дедушкой придется быть. Агу-у!
* * *
Пипке в эту ночь не спал. Его терзали думы о судьбе дочери, о жене, которая смотрит на все происходящее с легкой душой, о крутых переменах в родном Грослау, в Берлине и во всем поднебесном мире.
Не ждал он беды, считал, что она уже миновала. Но нет. Все-таки бог привел ее в дом. Единственную дочь отдал в руки русского офицера. О боже, боже! За что же ты наказал старого Пипке? Будто и вины за ним нет. Не жег он, не убивал, даже никому не грозил винтовкой…
Но так ли уж ты безвинен, Пипке? Не радовался ли ты, когда читали сводку о захвате русских городов, не потирал ли руки, глядя на чужие черноземные степи? Радовался, боже, и зубы скалил на чужое горе. И почему-то ни разу не представил: а каково бы тебе видеть отнятой землю и горящим свой дом? Прости меня, боже, за это. Одурманен был глупой победой.
Пипке покаянно скрестил руки на животе и, глядя в побеленный отсветом луны потолок, снова задал себе вопрос: все ли ты сказал богу, Пипке? во всем ли покаялся? Кажется, во всем. А уворованная на хуторе под Полтавой курица? Не ты ли голодным волком забежал во двор, схватил ее и, устыдясь вышедшей на шум старухи, сунул последнюю живность под полу шинели? Я, о мой боже! В тот момент только о своем животе и подумал, а не о старой женщине, у которой, быть может, кроме этой курицы, ничего и не осталось на свете. Прости меня, бог, за все это. Отныне и до конца дней своих не улыбнется Пипке на чужую беду, не позарится его глаз на чужое добро.
Марта, лежавшая рядом, тихо спросила:
— Ганс! Что ты ворочаешься, как на гвоздях?
— Спи, родная. Спи, — погладил мягкие волосы жены Ганс и опять задумался.
А чем этот русский Петр не зять? Чем он хуже немца? Эг-е! Такого в городке еще поищешь. Вежливый, любезный, с благородным лицом. А как хорошо воспитан! Кто бы мог подумать, что какой-то сельский парень, бывший пастух, отлично говорит по-немецки, знает нашего Шиллера, Шумана, Гете, прекрасно играет на пианино! Крестная Эммы, слушая Баха, даже прослезилась. А офицеры фюрера?..
Пипке вспомнил зимнюю ночь на Днепре. В тесной украинской мазанке расположилась на ночлег зондеркоманда. Хата бедная, плохо обставленная, но в углу стоит пианино. Больной очкастый учитель из Баварии открывает крышку, ударяет по клавишам, и комната наполняется согревающей душу мелодией.
С шалью на голове вошел молодой лейтенант.
— О! Пианино. Прекрасная музыка! Дайте-ка мне топор.
Ефрейтор Глобке принес ему тяжелый колун. Лейтенант оттолкнул учителя и со всего размаху ударил колуном по пианино.
В комнату с криком вбежала девочка и птицей повисла на руке офицера. В залитых слезами глазах ее смешались мольба и ужас. Она что-то показывала, говорила, заслоняла пианино собой. Но напрасно. Лейтенант отбросил ее, разбил в щепки весь инструмент и, довольный собой, сказал:
— Вот вам и дрова. Печь согреет лучше, чем паршивая музыка. И вообще запомните: для немецкого солдата самая лучшая музыка — грохот пушек.
Бедный старый учитель! Он всю ночь проплакал, а под утро выстрелом из автомата покончил с собой. Ах, как бы вспомнить, что он сказал мне за час до этого? Что-то насчет объяснения, сравнения. Ах, да! Он сказал: «Не надо жить слепым. Надо видеть и сравнивать». Сравнивать! Вот я и сравниваю, милый учитель. Впрочем, хватит. Крышка. Капут. Я, кажется все уже сравнил.
Пипке поднялся, надел тапочки, пижаму, нащупал на тумбочке спички.
— Ты куда? — проснулась Марта.
— Я сейчас. Один момент.
Он вышел во двор, с минуту задержался, вдыхая бодрящий яблочный воздух, глядя на небо. За садом занималась погожая заря. Старая яблоня приветливо махала отяжеленной веткой. От ракит с низины, просыпаясь, тянулся туман. Где-то на окраине хрипло кричал петух.
Взяв в ящике лопату и канистру, Пипке прошел в сад, отыскал в мокром, дурно пахнущем бурьяне приметную, чуть осевшую яму, торопясь, откопал из нее мундир с «Железным крестом», облил все керосином и, послав ко всем чертям третью империю, с чувством облегчения поджег.
5
Время, время. Как томительно долго тянется оно, когда чего-то ждешь, когда хочешь что-то поскорее сделать.
В начале года командующий войсками округа Коростелев послал министру обороны письмо, где высказался об управлении войсками в бою. Он был уверен, что ответ придет скоро. Но судьба письма, однако, сложилась иначе. Шли дни, месяцы, а ответа из Москвы все не было.
Волнуясь за судьбу предложений, Коростелев несколько раз порывался позвонить министру и всякий раз отговаривал себя, успокаивал тем, что у руководства не один командующий, и не один из них обращается с важными делами, и, может, все они вот так же, понимая занятость министра, терпеливо ждут. Министр, конечно, не запрещает звонить. Наоборот, много раз подчеркивал, чтоб поменьше прибегали к бумаге, а почаще по неотложным делам звонили. Коростелев так и поступает. Он не из робкого десятка. Действует по пословице: «За спрос не бьют в нос». Когда надо, звонит, советуется. Но сейчас? Надо ли беспокоить? Раз ответа так долго нет, значит, министр о письме знает, значит, оно в движении. Позвонишь — еще обидится. «Вы что ж, — скажет, — думаете, все делается по щучьему велению? Не волнуйтесь. Рассматриваются ваши предложения. Ученые изучают их».
Так думал Коростелев. Думал и еще больше убеждался в разумности своих предложений. Как в прошлую войну управлял командир своими полками на марше?
Почти что методом времен Суворова. Либо стоял на обочине, пропускал колонны, давал указания, либо объезжал их на Пегашке или на машине. Нельзя так. В будущей войне возрастет намного скорость движения, протяженность колонн. Значит, надо дать командиру другое средство — вертолет, самолет, чтобы сверху он видел колонны и по радио ими управлял. Это не значит, конечно, что командиру не нужна легковая машина. Нет, Коростелев не склонен так думать. Она еще долго будет в строю. Но помимо нее уже теперь командиру нужны быстрые крылья. Он так и в письме написал: «Дайте командиру крылья. Поднимите его над дорогами, над полями сражений».
Твердо убежден был Коростелев и в необходимости упростить работу штабов. Бывая на учениях, он видел, в каких муках рождаются приказы, сколько у офицеров штаба уходит времени на подготовку их, обработку разных бумаг. Одни собирают сведения. Другие с карандашом в руках считают, вычисляют. Третьи до седьмого пота раскрашивают карты… А нельзя ли все это механизировать, упростить? Поставить на КП машину, и пусть ломает «голову», «потеет» за людей. Нажал кнопку — получай сведения о противнике. Нажал другую — вот тебе карта с обстановкой. Экран, подобный телевизионному, наглядно показал тебе местность в полосе атаки. Чудная машина! Как она нужна штабам! Но ее нет. Она пока что в голове Коростелева, в схемах, чертежах, которые он с письмом направил. Примут ли их? Должны принять. Там сидят ведь не какие-нибудь тюхи, а вдумчивые люди. Нос держат по ветру. Да и грешно было б такую новинку не подхватить.
Жизнью подсказана.
Верил, надеялся Коростелев. Сердце не предвещало промаха. И вдруг… провал. Полный и конфузный провал. Ни одно предложение не принято. Все сочтено не подходящим для войск. Об этом только что узнал Коростелев из письма генерала Курочки.
Ошарашенный и повергнутый в смятение, он прошелся взад-вперед по кабинету, распахнул окно, дверь на балкон, сбросил с себя китель и снова начал читать ответ, но уже более внимательно, вдумываясь в строки и комментируя их на ходу.
«Уважаемый Алексей Петрович! — начиналось послание Курочки. — Ваше письмо, адресованное на имя министра обороны, нами получено и рассмотрено (канцелярский запев). В изучении изложенных предложений принимали участие компетентные лица (хотел бы я видеть эти лица!). Они сочли, что Ваша забота о повышении боеготовности войск, оснащенности их новейшим оружием (ни о каком оружии и речи не шло)… заслуживает признательности и одобрения (иезуитский реверанс перед плевком в душу). Однако при всем большом уважении к Вам мы не можем признать Ваши предложения-подходящими для войск (с этого бы и начинал, свинья!). Во-первых, о вертолетах и самолетах. Испокон веков русский солдат привязан к своему командиру, он привык видеть его рядом с собой так же, как видел Суворова, Кутузова, Буденного (про боевые колесницы бы еще вспомнил, старый хрыч!)… Это влечение к командирам вполне оправдано и объяснимо. Это исторически сложившийся воинский ритуал. Вы же поднимаете командира в облака, отрываете его от солдат. Поступив по-вашему, воин будет лишен возможности лицезреть своего командира, перенимать его лучшие волевые качества (командир не обнаженная Энесса, чтоб на него глазели; пусть его лишний раз и не увидит солдат, но почувствует железную силу руки). К тому же, надо заметить, товарищ командующий, что поднятый Вами в воздух командир будет незамедлительно сбит противником. Так что пусть лучше он шагает по матушке земле (вот уж воистину: рожденный ползать летать не может). Теперь о счетно-решающих машинах, или, как Вы пишете, облегчении работы офицеров штабов. Мы понимаем, что в современном бою нагрузка на штаб возрастает, что нужно изыскивать способ облегчения штабного труда. Но за счет ли предлагаемых Вами громоздких машин, этаких сундуков? (Сам ты, как видно, сундук!) Не лучше ли поискать что-то другое? Сундуки же эти, честное слово, смешны. Нам ли, русским людям, сынам рабочих и крестьян, бояться чернового труда (ну, тумак, настоящий тумак!). Пусть в буржуазных армиях, где во главе стоят сынки богатеев, увлекаются этими сундуками. Им от природы свойственно жить за счет чужого труда и ума. У нас же, как Вы сами хорошо знаете, есть свой светлый разум (есть ли он у вас, генерал Курочка? Не выдохся ли?). Поймите нас, Алексей Петрович, правильно. Мы…» Я понял вас, Курочка. Отлично понял. Вы ярый приверженец старого. Вы, как филин, боитесь дневного света и держитесь за дряхлый пень. Мало того, вы еще и других клевать собрались. Шалишь! Не выйдет!
Коростелев подошел к столу, снял трубку прямого провода с Москвой.
— Прошу соединить меня с министром. Коростелев говорит. Хорошо, я жду.
Минут через пять раздался продолжительный звонок, означающий, что министр освободился и ждет у телефона.
Услышав знакомый, хозяйски спокойный голос, Коростелев поздоровался и попросил разрешения доложить о важном для войск деле.
— Пожалуйста, Алексей Петрович. Слушаю вас, — сказал министр, и в голосе его прозвучала удовлетворенность. — Давно не слыхал вас. Давно. Редко звоните, говорю. Может, войну объявили телефонной связи?
— Бумагам да, а телефон пока в резерве оставил.
— Ну, ну. Слушаю, Алексей Петрович.
Коростелев докладывал, волнуясь, обидчиво, с трудом сдерживая себя, чтоб не упрекнуть в косности генштабистов, самого министра. Ведь он тоже тут виноват в чем-то. Либо в спешке выслушал доклад и как следует не разобрался, либо этот Курочка, не поставив в известность, сам ответ состряпал, что тоже не делает чести министру. Нечего поручать слепому сычу сторожить бахчу. Дальнозорких, смелых людей ставить надо.
Министр слушал Коростелева не перебивая, изредка лишь вставляя «да, понимаю, да», но и по этим коротким «да», по тому, как все жестче и досаднее они звучали, Коростелев понял, что министр ничего о письме не знал и что над теми, кто его упрятал, видимо, грянет буря.
Спросив, когда отослано письмо, когда получен ответ, министр прервал разговор и сказал, что он лично разберется и через час позвонит. Однако не прошло и тридцати минут, как в столовую, куда ушел обедать Коростелев, вбежал запыхавшийся капитан-порученец и сказал, что на проводе министр обороны.
Коростелев поспешил к телефону.
— Слушаю вас, товарищ маршал!
— Так вот какое дело, Алексей Петрович, — заговорил министр. — Телефонным разговором дело уже не поправишь. Надо бы вам приехать. Выступить на совещании командующих с содокладом. Как ваше здоровье? В понедельник самолетом сможете?
— Смогу, товарищ маршал!
— Тогда ждем вас. Всего доброго, Алексей Петрович.
6
Курочка проснулся в холодном поту и никак не мог вспомнить, где он, что с ним, утро теперь или вечер, надо ему собираться на службу или он совсем недавно со службы пришел. И только соседский петух, имевший, шельмец, привычку залетать по утрам в чужой сад и клевать на противнях сушености, вывел генерала своим криком из непонятного состояния. Курочка сразу вспомнил, что уже утро и, благодарение судьбе, находится он не где-нибудь, а у себя на даче. В другой раз, не медля, поднялся бы с постели и огрел мерзопакостного петуха суковиной, специально припасенной для этих целей. Что-что, а сушености Курочка оберегал пуще глаза. И когда, случалось, на дачу залетал петух или пробиралась в подворотню свинья, он кидался на них с ожесточением суворовского гренадера, штурмующего Фокшаны. Но сегодня ему было решительно не до сушеностей. Навались на них все дачные петухи, все свиньи, он и тогда бы, пожалуй, не вышел. Пес с ними. Главное теперь не в этом. Главное — выкарабкаться из беды. А беда нагрянула нежданно-негаданно.
Еще вчера до полудня канцелярская жизнь текла тихо, размеренно, как и год и десять назад. В кабинет изредка входили с бумагами на подпись подчиненные офицеры, за дверью, в приемной, позванивали телефоны, и секретарша Лизочка мягким голоском отвечала: «Он занят. Позвоните попозже». На подоконнике мирно ворковали голуби. Яркое солнце и «сводка» о настроении начальства обещали спокойный день. И вдруг грянула буря. В кабинет позвонил начальник канцелярии и голосом, не предвещающим ничего хорошего, сказал: «Вас срочно вызывает министр».
Министр редко когда вызывал начальников отделов. Все вопросы решал в большинстве с начальниками управлений, и это еще пуще повергло в смятение Курочку. Не помня зачем, он схватил пустую папку для докладов и семенящей рысцой поспешил по длинному коридору в кабинет министра. В приемной он хотел было спросить, зачем, по какому вопросу его вызвал министр, но поджидавшие его порученцы и слова сказать не дали.
— Скорее! Скорее! Где вы так долго?
Они распахнули дверь и почти втолкнули перепуганного, растерянного Курочку в ярко озаренный солнцем кабинет. Министр ходил по ковровой дорожке, заложив руки за спину и похрустывая пальцами. Ботинки на нем жестко скрипели.
Заслышав шаги вошедшего, он резко обернулся и, пронзя не терпящими лжи и лукавства глазами, спросил:
— Где письмо Коростелева?
Курочка еще пуще вытянулся, словно собрался вытянуть себя из самого себя.
— В делах. У нас, товарищ министр.
— В делах я понимаю — в деле, в работе. Но оно же в архиве.
— Так точно, в архиве-с…
— Вы знали, что письмо адресовано лично мне?
— Знал-с…
— Вы обратили внимание, что там подняты жизненно важные для судеб армии вопросы?
— Так точно!
— Так на каком же вы основании взяли на себя смелость решать вопросы за министра, походя отвергать ценные предложения? Или вы считаете, мы здесь не в состоянии разобраться, что хорошо для войск, а что плохо?
Склонив голову, как перед казнью, Курочка подавленно молчал. Холодный пот прошибал его. Колени, как ни старался удержать, зябко дрожали. Многое из того, что говорил министр, он, как оглохший, плохо понимал. Он думал лишь о том, что теперь будет с ним. Хорошо, если бы все кончилось взысканием, а то еще уволят без пенсии (фронтовой-то выслуги нет, все годы в канцелярии просидел). Снимет сейчас телефонную трубку и скажет начальнику управления кадров: «В приказ его. За невозможностью использовать на штабной работе». Так и закончится, Курочка, бесславно служба твоя. А за что? За никчемную выдумку фантазера. Он, Коростелев, видите ли, решил революцию в военное дело внести. А какую революцию, если разобраться? У нас одна есть революция — Октябрьская, а других не дано. Не пыжься. Не прорастут твои «зерна», Коростелев, не найдут себе почву. Засохнут.
Министр тем временем отошел к окну, постоял с минуту молча и, вернувшись к Курочке, все тем же убийственно спокойным голосом сказал:
— Я бы жестоко наказал вас, генерал. Вы этого заслужили. Но взысканием тут не помочь. Не один вы со своими отсталыми взглядами на развитие войск. Не один. Лечить вас надо. И учить. Ступайте.
Курочка не помнил, как дошел до кабинета, что делал до конца рабочего дня, как и на чем приехал на дачу. В голове у него беспрестанно вертелись слова министра: «Лечить вас надо и учить». И хотя смысл их был, казалось, понятным, он снова и снова вдумывался в них, гадал: а не кроется ли за ними какого подвоха, чего-то, таящего опасность, отвлеченно сказал министр или определенно, на учебу он намерен послать или на медкомиссию?
Курочка так разволновался, что заболела голова, и он проворочался до рассвета. Лишь выпив порошок снотворного и стакан настоя сухого шиповника, он наконец уснул. Теперь же, очнувшись, он был вовсе не рад, что прервалось это безмятежное состояние.
«И дернула же меня нелегкая сунуть это письмо в архив, — ругал Курочка себя. — Лучше бы оно лежало без ответа и привета, покрывалось пылью, как многие другие. А все Нарциссин кавалер насоветовал. Сунь да сунь в архив. Вот и сунул на свою голову. Министр и вправду не накажет. А приедет Коростелев? Возьмет да взбунтуется, жалобу напишет. Упредить бы… смягчить удар. Но как? Пойти в гостиницу, где он остановился? Неудобно. Написать записку, извиниться? А что, если подождать его в коридоре на подступах к министру да замолвить, как бы между прочим, несколько словец? Ну, конечно, это же блестящая идея. Что ж ты лежишь, старый хрыч? Ведь уже девятый час. А в десять Коростелев должен быть у министра».
Курочка вскочил с постели, торопливо оделся, наказал соседу-сторожу убрать с противней арбузные семечки, а взамен их высыпать на просушку позавчерашние лисички и помчался на электричку.
Коростелева он чуть не прозевал из-за оплошности таксиста, который проскочил не в тот переулок и, пока обвез вокруг, потерял добрых восемь минут. Едва забежал в кабинет и, повесив фуражку, вышел на площадку, как поднялся лифт и из него вышел одетый в белый летний китель с легкой папкой в руке генерал Коростелев.
— Здравия желаю! — бросился наперерез Курочка. — С приездом, Алексей Петрович.
Коростелев буркнул что-то невнятное и, нахмурившись, зашагал по коридору. Курочка поспешил следом за ним.
— Как здоровье, Алексей Петрович? Где остановились? В гостинице ЦДСА? Машинку вам закрепили?
Коростелев промолчал и, как показалось Курочке, зашагал еще быстрее. Длинный коридор предательски сокращался, и Курочка, торопясь высказать обдуманное в электричке, чуть-чуть сдерживая Коростелева, зашагал на полшага вперед.
— Вы извините, Алексей Петрович. Занятость. Текучка подвела. Подчиненный написал, а я, не глянув, подмахнул. Понадеялся. Поверил. Думал, и вправду какой пустяк. А глянул… В глазах помутилось. Такие предложения! Такие раздумья! А-я-я-яй! Да это же целый переворот! Революция! Новый базис…
Коростелев шагнул в приемную и с грохотом захлопнул дверь. Курочка, наткнувшись на нее, растерянно остановился.
7
У каждого человека есть своя мечта, которая зовет и манит то в бескрайние степи, то к мерцающим звездам, то в мир больших открытий, а то и просто к земным житейским делам, без которых нельзя обойтись.
У полковника Дворнягина была тоже своя сокровенная мечта. Она, правда, не уносила его в звездное небо, к неведомым мирам и не спускала на дно кратеров. Нет, зачем же? Пусть туда стремятся другие. Ему и на земле хорошо. Его давно уже влекли другие, более близкие звезды, а точнее, шитые на золотой парче — генеральские.
О, если бы только их возложить на плечи, вшить намертво нитками в генеральский мундир! Узнали бы тогда, кто такой Дворнягин, походили бы вокруг него. Та же Асенька, которая нынче нос дерет, двадцать бы раз прибежала, чтоб встретиться и умиленно произнести: «Здравствуйте, товарищ генерал!» А главное, почет какой, уважение!
Через неделю Дворнягин уже представил себя на месте начальника управления, генерал-лейтенанта. Он сидит в кабинете за большим столом, а к нему идут и идут с бумагами на подпись подполковники, полковники, генералы… А он только утвердительно качает головой и цветным карандашом размашисто наносит резолюции.
С кресла начальника управления соблазнительница- мечта вознесла Дворнягина на пост командующего всеми сухопутными войсками. Он стоит на вышке Н-ского полигона, украшенной хвоей, и руководит большим тактическим учением. «Танки, вперед! Огонь из всех калибров! В атаку!..» — командует он и тут же устыжается: «Фу, какой бред! Что это я? Пора и совесть иметь. Отделением не командовал, а в полководцы пру. Мне вполне хватит и генерал-майора. Присвоили бы это звание. А то чем черт не шутит, когда бог спит. Найдется какой-нибудь скептик, посеет сомнение: а на что ему звание генерала? Канцелярскому работнику и полковника хватит. И вот тебе палка в колесах. Прощай, мечта!»
Ко всему прочему надо добавить, что Дворнягин не только мечтал о генеральском чине, но и постепенно приноравливался к нему. Прежде всего он сшил себе генеральские сапоги и подложил под подошву для скрипа сухой бересты. Вслед затем он купил на базаре две шкурки серого каракуля. Одну на папаху, другую на генеральскую бекешу. Это на тот случай, если на складе произойдет какая-либо заминка с выдачей готового. Шить пока ни то, ни другое Дворнягин не стал. Он все же слегка сомневался: а вдруг да и не присвоят генерала? Но все было заранее раскроено и готово к немедленному пошиву. Дома в сундучке лежали у него помимо этого и новенькие генеральские погоны. Купить их Дворнягину стоило больших мучений. В секции вещей военного быта Центрального военторга всегда кто-либо крутился из покупателей. Одни что-то выбирали, другие кого-то ждали, а третьи глазели на хорошенькую продавщицу. И Дворнягину никак не удавалось выбрать подходящий момент. Он опасался, что кто-нибудь из знакомых офицеров может застать его за столь необычной покупкой, и тогда не оберешься стыда.
Пять раз кидался он к опустевшему на минуту прилавку, держа наготове деньги, чтоб сгрести погоны и затеряться в толпе. И все пять раз ему кто-либо мешал. То в дверях мелькнет чье-то знакомое лицо, то вдруг покажется, что поодаль стоит человек и наблюдает за ним, то подойдет молоденький лейтенант и, купив банку ваксы, начинает расточать комплименты продавщице.
Наконец настал момент, когда подступы к прилавку опустели. Дворнягин рванулся к нему, ткнул пальцем в стекло.
— Мне генера… вот генеральские прошу.
— Простите, я не расслышала.
Дворнягин оглянулся по сторонам, торопясь, прошептал:
— Генеральские. Генера-а…
Девушка потянула ящик на себя.
— Две звездочки или одну?
— Да одну же. Одну, — чуть не простонал Дворнягин. — Прошу вас.
Девушка посмотрела большими серыми глазами и улыбнулась:
— Я вижу, вы в первый раз. Волнуетесь. Понимаю. Такая радость. Вас можно поздравить, товарищ генерал.
— Гм-м, да. Конечно, — пробормотал Дворнягин и выругался в душе: «Чтоб тебя с поздравлением. Болтает. Удержу нет».
— С вас… — девушка назвала сумму и, получив деньги, начала завертывать погоны в бумагу.
Дворнягин оглянулся. Прямо к прилавку широкой, развалистой походкой шел старший инспектор Меньшиков. Еще минута, и он все увидит. Какой ужас! Дворнягина кинуло в жар. Он заметался возле прилавка, не зная, куда деть себя, а продавщица, как на грех, нисколько не торопится. Она оторвала клок бумаги, разгладила ее, положила погоны на середину, потом на край, опять на середину и уж только после этого завернула и подала. Тут бы ей промолчать, ведь миссия ее исчерпана. Так нет же. Словно кто дернул ее за язык, и она во весь голос пропела:
— Пожалуйста, товарищ генерал. Носите на здоровье.
Как встретился с Меньшиковым и выбирался из военторга, Дворнягин не помнил. Образумился он только дома и долго гадал: «Знает о покупке генеральских погон полковник Меньшиков или нет?» А потом снилось, будто о купленных погонах стало известно офицерам управления и все, как над чудаком, смеялись.
«Ну и пусть смеются. Леший с ними, — успокаивал себя утром Дворнягин. — Главное, вырваться в генералы, а там мы еще посмотрим, кто посмеется над кем».
С не меньшим задором рвался к генеральскому чину и Афоня Зобов. В кабинете у себя он постелил от стола до двери ковровую дорожку и через каждый час работы прохаживался по ней. На прием к себе он никого сразу не впускал, а отвечал, что занят, и заставлял обождать, зайти попозже. Но и впустив человека, долго не приступал к беседе. Просматривал бумаги, протирал очки, звонил куда-нибудь по телефону и только после этого кивал:
— Ну-с… Слушаю вас.
Каждый вошедший без слов понимал, что от прежнего простачка Зобова не осталось и следа. Он как бы преобразился, и ждал, как и его приятель Дворнягин, очередного звания.
…Весть для них обоих пришла тихо и неожиданно. Вначале о ней сообщали шепотом на лестничных площадках и в коридорах. Потом немного погромче уже в кабинетах и, наконец, заговорили во весь голос:
— А слыхали?
— Что?
— Дураков-то наших…
— Да ну?
— Приказ уже подписан. Спета песенка их.
* * *
Дворнягин пришел с работы злой и печальный. Приказ об увольнении из армии ошеломил его. Ждал повышения в должности, звания генерала и вот… Как же все случилось? Что послужило причиной к увольнению? Формально, конечно, причины есть. Нет высшего военного образования, не был на фронте. Но ведь есть среднее гражданское образование, пятнадцатилетний опыт штабной работы, наконец, способности. Любую бумагу готовил с налету. Сколько благодарностей получил! И нате вам…
Дворнягин пошел к Зобову, наедине поговорить с ним, утешиться. Но расстроился еще хуже. Оказалось, что Зобов отделался легким испугом. Его только отругали, а из армии не уволили и даже с работы не сняли.
Зобов утешал Дворнягина:
— Что поделаешь, старик. Злой рок. Это тебе Бугров свинью подложил.
— Бугров?
— Точно, старик. Один человек мне по секрету сказал, что он жалобу на тебя написал. Ну, каша и заварилась.
Теперь, когда Дворнягин знал, кто добивался его увольнения, он обрушил всю злость на Бугрова, а заодно и Ярцева. Всю дорогу до Малаховки поносил он их бранными словами да и на даче разбушевался.
— Шакалы! Ямокопатели! Мало я им солил, — шагая по комнате, бормотал он. — За Можай бы загнать!
— Лукьяша, что с тобой? — увидев мужа разгневанным, спросила Нарцисса. — Ты зол, как тигр.
— Будешь злым.
— Но что же случилось? Ты можешь толком сказать?
— Из армии уволили. Вот что.
— Тебя? Из армии?
— Ну, а кого же? Стал бы я портить нервы за других.
Нарцисса повисла на шее у мужа.
— Миленький, так это же очень здорово, что тебя уволили.
Дворнягин раздраженно отстранил жену.
— Здорово, здорово, свинья целует борова. А пенсия где? Без пенсии уволен я.
— Без пенсии? Как же так? Другим же дают.
Дворнягин тяжело опустился в мягкое кресло, вздохнул.
— Другим-то дают, а мне вот года не дали до пенсии дослужить.
Нарцисса откинула полу цветного халата, села на подлокотник рядом с мужем, обняла его правой рукой.
— Не горюй. Проживем. Я буду работать, а ты по хозяйству. Дядюшка опять вон в госпиталь лег. Дача без присмотра.
— «Дача». Мне деньги надо.
— И деньги будут.
— Откуда?
— Пристройку твою продадим, а мою комнату на всякий случай оставим.
— Пристройку? — повеселев, глянул Дворнягин. — А что? Это идея. Твою продать нельзя. Казенная. А моя — частная собственность. Только где покупатель?..
Нарцисса прижалась к мужу щекой.
— Я уже и покупателя нашла. Вернее, он меня нашел.
— Кто же?
— Да твой сосед, поп Василий. Вчера, как в Москву ездила, гляжу, возле пристройки похаживает. То с одной стороны зайдет, то с другой, а потом ко мне: «Не уговорили бы вы своего мужа сие жилье мне продать?»
У Дворнягина загорелись глаза.
— Ну и что же он? Что еще говорил?
— Больших денег, говорит, у меня нет, но тысчонок сорок дать бы мог.
Дворнягин улыбнулся.
«Тысчонок сорок. Э, нет, святейший. Больно прытко скачешь. Я еще с тобой поторгуюсь. Тряхну твою мошну. А будут денежки — и работа будет. Только куда бы это получше устроиться? Специальности-то нет никакой. А что, если пойти финансовым агентом? Я здорово когда-то выколачивал налоги».
8
Судьбы людей. Как они изменчивы, как непохожи! Четыре человека в купе скорого поезда Берлин — Москва — и четыре разные судьбы. На верхней полке, справа, дамочка с крупными веснушками, лет двадцати восьми. Два года назад она ехала в Группу войск в Германии поработать и выйти замуж (там много офицеров-холостяков). Ее мечта сбылась. Она не только обрела мужа, но и везет своим родителям новость. Скоро ее мама будет бабушкой, а папаша — дедушкой.
Там же, наверху, по соседству, беспокойно ворочается майор-медик. Он не совсем счастлив. Положенный срок за границей отслужил, едет на родину, но не туда, куда бы хотелось. Просился в Киев, а направляют в Читу. Конечно, и в Чите он будет честно служить, но все же хотелось бы в родные края.
На нижней полке расположился грузный, лет шестидесяти полковник в полосатой шелковой пижаме. Судя по его сияющему лицу и обрывкам песен, которые тихонько напевает, он всем доволен и счастлив. Еще какие- нибудь недели три хлопот, хождений по медкомиссиям, кабинетам отдела кадров — и он в отставке, в тихом тещином доме на берегу Оки.
И наконец, четвертый пассажир — тощий молодой лейтенант со впалыми щеками и очень грустными глазами, похожий на обиженного козленка, которого только что ни за что выгнали за ворота и он, стукнув по ним раза два рогами, гордо и независимо идет прочь, не зная еще зачем и куда.
В этом лейтенанте нетрудно узнать Петра Макарова. Три часа назад его вызвал уполномоченный майор Чуркин и, не пригласив даже сесть, заявил:
— За нарушение оккупационного режима вам надлежит немедленно покинуть Германию и выехать в Союз.
Макаров уже знал примерно, о чем с ним будет разговор, и потому спокойно, не выдавая своего волнения, веря, что он ничего худого не сделал, спросил:
— Чем я нарушил режим? Мне непонятно, товарищ майор.
Офицер, склонив голову на плечо, щуря правый глаз, криво усмехнулся.
— Он не знает. Какая наивность! Святой Иорген. Не прикидывайтесь простачком. Вы все великолепно знаете, лейтенант.
— Но я бы хотел услышать от вас, товарищ майор.
— Слушать тут нечего. Вас любит немка. Вы встречаетесь с ней.
— И что же тут плохого?
Чуркин достал из стола отпечатанный на машинке лист.
— А вы знаете, что на этот счет есть бумага? Инструкция! — И постучал тыльной стороной ладони по листу. — Она категорически запрещает подобную связь.
— Никакая бумага не запретит любовь.
Чуркин отложил инструкцию.
— Вы что, против приказов?
— Я против глупостей. Какой вред Родине, если нас любят? Что плохого в связях с местным населением? Ведь каждый наш солдат — это живой пропагандист наших идей, нашего образа жизни. Об этом мы на политзанятиях говорим.
Чуркин зло стукнул кулаком по столу.
— Хватит! Я не хочу вас слушать.
— Тогда разрешите идти?
— Ступайте. И чтоб через двадцать… Отставить… — Он взглянул на ручные часы, расписание поездов, висевшее на стенке. — Чтобы через четыре часа вас в Группе не было.
Чуркин, размахивая бумагой, что-то говорил насчет получения пропуска, железнодорожного билета, сдачи оружия, но Петр его уже не слушал. Он пытался подсчитать: успеет ли вернуться из школы Эмма, удастся ли ему повидать ее, сказать хоть несколько слов? Уроки кончатся в два. Сейчас десять тридцать. Она успеет проводить. Она будет до последних минут. Но что же я?.. А дорога? Ей же ехать до дому больше полчаса. Какой ужас!
Петр глянул на расписание, потом на Чуркина.
— Прошу вас… очень прошу прибавить мне час. Я выеду до Бреста, а там пересяду до Москвы.
— Для каких целей нужен час?
— Я хочу увидеть ее, не скрывая, ответил Петр.
Чуркин понимающе улыбнулся.
— Если бы вы сказали, что вам надо помыться, упаковать чемодан, я бы прибавил час. Так и быть. А для этих целей, — он щелкнул пальцами, — не разрешаю. Никаких свиданий не может быть.
Петра передернуло. Хотел крикнуть: «Да человек ли ты или чурбан? Какая бездушная мать тебя родила?», но удержался, подавил боль и вышел, не сказав ни слова.
Перед самым отъездом Макарову удалось только повидать тетушку Марту и передать ей записку для дочери.
Всплакнула добрая женщина, узнав об отъезде Петра, как-то сразу поникла и состарилась. Волосы растрепались, и она их уже не подбирала под свой чепец. На лбу, кажется, прибавилось морщин. Всю дорогу до вокзала молчала, о чем-то думая, качала головой. Только когда раздался свисток, обняла, как сына, и сквозь душившие ее слезы сказала:
— Вы хоть пишите ей. Пишите, Петр. Она так любит вас. Богом молю…
Поезд тронулся. Петр вошел в свое купе и выглянул в окно. Мать Эммы неподвижно стояла на опустевшем перроне и провожала печальными глазами набирающий скорость поезд. Ветер безжалостно трепал ее белые от седины и света волосы, расстояние сгладило черты лица, и Петру вдруг показалось, что это не Марта, а Эмма, светлокудрая, нежная Эмма.
В вагоне уже шла новая жизнь. Пассажиры играли в домино, обедали, знакомились, судачили, а Петр все еще никак не приходил в себя от случившегося. Он в сотый раз перебирал свое поведение, поступки и никак не мог понять, за что ж все-таки его отчислили из Группы войск. Перед мысленным взором его, не уходя, не расставаясь, стояла милая светлокудрая девчонка. И чудилось столько горя, обиды, отчаяния в ее глазах, что сердце у Петра мучительно сжималось.
— Эммочка, Эмма… — шептал Петр. — Как ты там? Что будет с тобой? Увидимся ли когда-нибудь?
9
Как долго не зарастает подрубленное дерево, так долго не выздоравливал и Плахин. В малейшую непогодь нудно и больно ломило ноги, и тогда он всю ночь ворочался и, чтобы не причинять беспокойства Лене, только скрипел зубами да до боли кусал губы. В солнечные дни было намного легче, ломота стихала. Но и тогда двигался он медленно, опираясь на палку, выбирая место, куда ступить, поровнее.
На работу в колхоз он не ходил. Попробовал однажды забраться на трактор, но упал, ушиб ногу, и Вера Васильевна сказала:
— Не приходи больше, Иван. Поправляйся.
Сидеть дома без дела Иван не смог. За долгое распутье он кое-как проконопатил хату, перебрал пол, выкрасил белой краской рамы, а голубой — наличники, подремонтировал крыльцо. Все делал сидя, опираясь на палку, через каждые пять — десять минут отдыхая. Когда же подсохла земля, взялся за сад. Дел там было непочатый край. За четыре года войны одичали, полузасохли вишни. Еще совсем молодые яблони без присмотра обломали мальчишки, стволы обглодали зайцы. Забор во многих местах покосился. Земля под деревьями заобложела, поросла крапивой и лопухами. Лишь под самыми окнами Лена рыхлила две грядки, и там из чернозема проглядывали зеленые луковицы каких-то цветов.
Раздобыв у деда Архипа плохонькую косу, Иван прежде всего выбил и сжег бурьян. Потом приспособил на палку садовый нож, обрезал у яблонь и вишен сухие сучья. Собрался целый ворох, которым почти неделю топили дом.
Самым трудным оказалось вскопать землю. Налегать на лопату ногами Иван не мог. Приходилось каждый раз наваливаться грудью. Днем, когда угоняли коров и доярки отдыхали, помогала Лена. Она долго и участливо упрашивала обвязать ручку лопаты тряпкой, чтоб не так давило грудь, но Иван, стесняясь, отмахивался.
— Ладно, не в первой…
Когда сад был вскопан, Плахин заборонил его граблями, под каждым деревцом сделал лунку и влил туда по два ведра разжиженного навоза, смешанного с торфом.
В пятницу под Первое мая Лена принесла с фермы ведро белой глины. Разбавив ее водой и смастерив из мочалы квач, Иван вышел пополудни в сад. Пригревало солнце. В белой кисее стояли вишни. Яблони еще не зацвели, но из тугих бутонов уже проглянули нежно-алые цветки. Молодостью, жизнью веяло от воскресшего сада. Сразу какими-то другими стали и дом и деревенская околица. И все же саду чего-то не хватало. Тих он был и скучен.
Не торопясь, все еще любуясь деревцами, Иван надел халат и, привалясь спиной к забору, завязывал на рукавах тесемки. Неожиданно за спиной послышалось все нарастающее, слитное гудение. Иван оглянулся. Низко над землей быстро двигалась желто-бурая туча. В голове ее вился золотой клубок, просвеченный солнцем. Длинный хвост тащился почти по бахче.
«Беда! Саранча летит, — мелькнуло в голове Ивана. — Пропал сад. Что делать?» — Он схватил квач и начал размахивать им, пытаясь сбить летящих с пути. Но что такое? Туча не только не свернула, а еще больше сгустилась и ринулась прямо на растрепанный сноп из лыка.
— Ба! Да это же пчелы, — вырвалось из груди Ивана. — Чей-то беглый рой. Неужели сядет? Ну, конечно, садится. Прямо на квач. Мать честная…
Воткнув палку в землю, Иван, размахивая руками, попытался отбиться от пчел, но они накинулись еще злее. В лицо, шею, руки посыпались обжигающие укусы.
«Дело плохо, — подумал Плахин. — Надо бежать. Но куда? До хаты пока доковыляешь, искусают всего. — Он испуганно, ища укрытия, глянул кругом. — Да вот же рядом старый сарай. Скорее туда. Скорей!»
Сбив плечом дверь, Иван упал в прелую солому и долго лежал, отдыхая после непривычного бега. Лицо жгло, как каленым железом. По всему телу разливался жар. Пчелы-преследователи постепенно затихли. Лишь одна все еще озлобленно гудела в волосах. Иван осторожно выпростал ее и, повернувшись к свету, попытался рассмотреть пленницу, но, к великому удивлению, не смог. Глаза разнесло так, что остались только узкие щелочки, сквозь которые с трудом различалась стенка дома.
Добравшись на ощупь до соседней хаты деда Архипа, Иван постучал в окно:
— Дедушка! Вы дома?
— А где ж мне быть? — отозвался с лежанки Архип. — Как говорят, лежу на печи да грею кирпичи.
— Вас на минутку можно?
— А чего же нельзя. Завсегда можно. Чай не царь, не емператор. Надоело лежать, охо-хо-хо… Хотя бы скорее бахча поспевала, пошел бы в сторожа.
Шмыгая босыми пятками по набивному полу, Архип вышел на крыльцо, щурясь от солнца, глянул из-под ладони и удивленно всплеснул руками:
— Мать моя! Кто ж тебя так разукрасил? Ай, осы покусали?
— Пчелы, дедушка.
— Пче-лы? Да откель же им быть? Тут по всей Рязани и улья не найдешь. Низвели чьей-то милостью пчелку. Низвели-и…
— Не совсем, видать. Рой сел у нас в саду.
— Рой?! — дед закачал головой от радости. — Мать моя! Счастье-то какое!
Иван крякнул:
— A-а, к шутам это счастье! Чуть не заели. Не вижу вот ничего. Не ослеп бы…
— Что ты, что ты, — замахал руками Архип. — Да меня тыщу раз кусали и, слава богу, живой, невредимый. Пуще того, бывалыча, хворь выгоняли. Тяпнет тебя в нос какая — смотришь, и чих пропал. Глотнул ложку гретого меду — и грудь отложило. А зимой, после бани? Нет приятнее испить чайку с медом. И в пот тебя вдарит, и силушку прибавит. Ух, мать моя!
От умиления дед потряс бородой, сощурился, отчего складки на лице собрались в пучок у переносицы, будто кто связал их бечевою, причмокнул заросшими губами и, видимо не веря услышанному, опять переспросил:
— Так, значит, сел роек?
— Сел, чтоб ему! — с досадой и раздражением ответил Иван, мучаясь от укусов.
Архип шмыгнул за дверь.
— Я сейчас. Живо. В сей миг с ним управлюсь.
— А глаза. Глаза-то чем полечить? — крикнул вдогонку Иван.
Громыхая кадками, Архип крикнул из сеней:
— Примочку! Тряпицу положь… Полегчает.
Что было дальше, Иван не помнит. Остаток дня и всю ночь лежал он в бреду, ничего не видя, лишь временами чувствуя прикосновение рук Лены и слыша ее ласковый голос. А когда утром вдруг открылись глаза и он посмотрел в окно, в саду под старой яблоней стоял синий домик и у него хлопотливо сновали присмиревшие пчелы.
Надев гимнастерку, Иван вышел в сад. Сад был неузнаваем. К буйному цветению вишен майская теплынь прибавила порошу яблонь, и теперь все было белым- бело, как в мягкую метелицу. В слепящих блюдечках лежали яхонты росы, переплетались нити солнца, и над всем этим царством красы и дива гудели пчелы.
«Нет, неистребима жизнь на земле, — подумал Плахин. — Вот погубили в деревне по чьей-то тупости пчел, а они опять появились. И сколько радости хлынуло с ними! Мальчишки вон во все щели глазеют. Да и старики с утра судачат под окном. „Эх, кабы в каждом доме по парочке ульев! Да в колхозе огромную пасеку заиметь. Сколь бы меду собрали! Какая прибавка в зерне!“ И в самом деле, почему бы не иметь пчел? Ведь хлеба они не просят и никого не объедают».
Подошла Лена. Она была по-праздничному одета в повое белое платье с короткими рукавами.
— Ой, как у нас хорошо! — прижав к груди ветку яблони, воскликнула она. — Вот бы у каждого дома такое.
— Да, неплохо бы, — ответил Иван, а сам подумал: «Сад бы колхозный посадить да пасеку туда же».
Лена подбежала меж тем к улью, уселась шагах в трех на корточки, начала наблюдать за лотком, на который то и дело опускались отяжелевшие от взятка пчелы.
Иван сел рядом, обняв жену за талию, кивнул на улей:
— Как же вы с ним управились? Не искусали?
— А их дедушка головешкой подкурил. А потом прямо деревянной ложкой в кузовок соскреб.
— А в улей как пересадили?
— О, это трудно было! До вечера они в погребе стояли. А как солнышко село, дедушка высыпал их на простынь, и мы стали матку искать. Пчелиную матку. Ты понимаешь?
— Ну, конечно. Она такая тонкая и длинная. Длиннее всех.
— Вот, вот. Дедушка так мне и объяснил. Он сам плохо видит, я ее искала.
— Долго?
— Ой, не говори. Пчел же тысячи. И все куда-то бегут, бегут, в клубочек липнут. Но все-таки нашла. Раскопала клубочек, а она там. Ну, дедушка тут же ее в клетушку.
— В маточник, — поправил Иван.
— Вот, вот… в маточник. А как положил ее в улей, пчелы сами и поползли туда. Как интересно!
— Понравилось?
— Угу.
— Может, пчеловодом будешь?
Лена вскочила, потрепала Ивана за волосы и, чмокнув в щеку, защебетала:
— Буду, буду… И еще кем-то буду.
Иван обернулся.
— Кем?
Наклонясь, Лена обхватила мужа за шею и таинственно, жарко дыша, шепнула на ухо:
— Ма-мой.
Иван вскочил, обнял жену, глянул в ее сияющие глаза, переспросил:
— Это правда? А?
Она ответила легким кивком головы, закрыла глаза и счастливо вздохнула.
10
В саперном батальоне Сергею досталось тяжелое наследство. Его предшественник, попавший на политработу с упраздненной должности начальника вещевого снабжения, занимался по старой привычке хозяйственными делами, а воспитание людей совсем забросил. Проведет собрание, составит план показа кинофильмов и опять за свое.
Эта его слабинка пришлась по душе комбату Лихошерсту. Он с первых же дней использовал политработника на побегушках. В штабе только и слышалось: «Корнеич, обеспечь дровами», «Корнеич, добудь стекла», «Корнеич, в котельной лопнула труба». И Корнеич, вскинув растопыренную руку к уху, молча поспешал выполнять распоряжение. Однажды он намекнул насчет своих уставных функций, но Лихошерст так отчитал его, что тот больше и не заикался об этом.
— Я тебе покажу такие функции, Корнеич, что в глазах потемнеет, — заявил комбат. — Я тут царь и бог, и позволь мне определять, что делать моим помощникам и заместителям. А не нравится, можешь писать рапорт и уходить.
Лихошерст не любил политработу и полагался во всем на себя, на силу своего единовластия, насаждал порядок железной рукой, и уж если кто попадался под нее, то рубил не жалеючи, сплеча. Его нисколько не смущало, что в батальоне растут взыскания. Он, напротив того, считал, что чем больше объявлено солдатам взысканий, тем крепче воинская дисциплина, тем виднее командирская власть.
А между тем дела в батальоне шли все хуже и хуже. Росли пререкания, самовольные отлучки, иные солдаты каким-то чудом доставали вино и появлялись вечером в клубе под хмельком. Когда же старшина выстраивал роту и спрашивал, откуда появилось в казарме вино, все молчали. Действовал закон круговой поруки.
О многом из этого Сергей знал давно из рассказа полковника Бугрова. Но ему хотелось самому разобраться во всем, познакомиться ближе с комбатом, с людьми, с их многотрудной жизнью. Он не торопился со своими выводами, предложениями, а день за днем, ниточка по ниточке искал причины воинских нарушений, распутывал клубок командирских промахов, заблуждений, его осечек и перехлестов. Ему нравился майор Лихошерст. Молод. Горяч. Бесшабашен. Любит командовать. Влюблен в свой батальон. Но истрепан. Не в меру нервный, раздражительный и оттого рубит сплеча. Советовался с врачом. Тот сказал: «У Лихошерста осколок в легких. Давно пора на операцию. Но не идет». И потом, как понимал Сергей, люди… Сколько прошло через батальон людей! Сколько разных характеров, трудных судеб, дурных привычек, и как много сил надо, чтоб всех — и плохих и хороших — сделать настоящими солдатами, дать им путевку в жизнь!
Зная об этом, Сергей старался быть обходительнее, при резких словах Лихошерста сдерживал себя и многое смягчал либо делал вид, что не заметил, не расслышал. Стремление комбата обзавестись новым Корнеичем незаметно пресек безобидной шуткой: «Боюсь, Григорий, что из меня получится хозяйственник, как из лыка тяж. Лучше я своим делом как следует займусь».
После этого Лихошерст хозяйственными делами Сергею не досаждал. Но линию свою продолжал гнуть. Строгие взыскания все возрастали, хотя в этом и не было уже неизбежной необходимости. Кое с кем из нарушителей можно было просто серьезно поговорить. И это в конце концов вывело Сергея из терпения.
Однажды в воскресный день, придя утром в городок батальона, он увидел странную картину. Солдат-казах, одетый в комбинезон, стоя на ступеньках раздвижной лестницы, мазал дегтем верхние планки забора, опутанные колючей проволокой. Густые черные полосы, расползаясь, текли по желтым, недавно крашенным доскам.
Сергей подбежал к солдату.
— Что вы делаете? Кто приказал?
Маляр прекратил работу, вытер рукавом потный лоб, улыбнулся сахарно-белыми зубами:
— Это? Это товарищ комбат приказал, чтоб солдаты не ходили в самоволку.
— В самоволку? — переспросил, не веря сказанному, Сергей.
— Так точно, товарищ подполковник! В прошлый раз мы тут колючку натянули. Мал-мало помогало. Меньше самоволок было. А потом несознательные солдаты проволоку порвали, и опять самоволки стали.
Сергей горько усмехнулся.
— Выходит, дегтем теперь будем самовольщиков пугать?
Солдат пожал плечами.
— Возможно, так. Товарищ комбат сказал: «Дегтем забор мажем, товарищ Темербаев, солдат в самоволку не полезет. На рубахе деготь виден будет».
— А по-вашему как? Полезет в самоволку солдат? — спросил Сергей, желая узнать мнение рядового.
Казах хитровато сощурил чуть суженные, черные, как спелая слива, глаза.
— Глупый барашек везде пойдет. Умный — без забора в кошаре будет.
— Верно, товарищ Темербаев. Зачем марать забор из-за одного-двух глупых баранов? Другим средством приучим к порядку.
Темербаев растерянно заморгал.
— А… а… как же приказ? Мне сам товарищ комбат приказал.
— Ступайте в казарму, — ответил Сергей. — Я комбату доложу.
Темербаев весело спрыгнул с лестницы.
— Спасибо, товарищ подполковник. Выручили вы меня. А то бы не отдыхал. Все воскресенье на этот деготь отдал.
Сорвав у забора лопух, Сергей обмотал им ручку дегтярки, подхватил ее и направился в штаб батальона.
Лихошерст сидел за столом и, откинувшись на спинку обтянутого серым полотном стула, с кем-то мягко и сердечно разговаривал по телефону.
— Да. да. Конечно. Верно, — соглашался он, весь сияя. — Ну что за вопрос? Сделаем. Пожалуйста. Сколько угодно.
Сергея передернуло. Вот черногуз. Журавль длинноногий. Ведь может по-человечески говорить и голос не повышать. А тут чуть что — кричит, кулаком по столу. Нет, не во всем нервы твои виноваты. Видно, под твою косу не всегда нужно травку, а порой и камень сунуть не грех.
Шагнув решительно от порога, Сергей с грохотом поставил дегтярку на стол.
— Что это, Григорий?
Лихошерст вытаращил глаза от удивления. Он никогда еще не видел таким своего замполита. Да и вообще с ним никто еще так не разговаривал. А тут… Как он смел? Да еще грязную дегтярку на стол.
Не дождавшись ответа, Сергей снова и еще грознее повторил:
— Я спрашиваю, что это, Григорий Фомич?
— Ты что, не видишь? — вскочил Лихошерст.
— Вижу, но хочу знать, какой чудак, если не дурень, придумал это?
— Ну, я придумал. Я, — постучал в грудь кулаком Лихошерст. — Что дальше?
— А то, что глупость это. Несусветная, Григорий.
— Глупость? — И без того широкие ноздри комбата расширились. — Кто вам позволил обзывать глупостью мой приказ?
— Я обзываю не приказ, а негодный метод работы. Так не укрепляют дисциплину, не воспитывают людей.
— Ах, так! Вы еще учить меня! — Комбат вытянулся под потолок, худые скулы его нервно задергались. — Я приказываю покинуть мой батальон!
Сергей усмехнулся.
— Во-первых, он не ваш, а вверенный вам. А во-вторых, никуда я из батальона не уйду. Не вы меня назначали.
Глаза Лихошерста забегали растерянно по комнате и остановились на ведре с дегтем.
— Отдайте деготь солдату!
— Не отдам.
Лихошерст скрипнул зубами, сжал кулаки.
— Вы! Вы… ослушаться! Посажу. Под арест. На двадцать суток!
— Не имеете права.
— Ах, не имею… — Он рванулся к телефону, но Сергей накрыл трубку ладонью.
— Не дури.
— Прочь!
— Не смеши людей.
Лихошерст схватил ведро.
— Прочь!
Сергей не шелохнулся. Ведро загремело в угол. Деготь хлынул по затоптанному паркету. Брызги вырябили меловую стенку у порога. Едкий запах заполнил маленькую комнатенку.
Сергей распахнул половинки окна, кивнул на черную лужу.
— А теперь натирать начнем. Вы от порога, я от окна. Согласен, Григорий?
Комбат сидел за столом и, опустив голову, молчал. Сергей закрыл дверь на ключ, тоже сел у стола, достал коробку папирос, протянул Лихошерсту.
— Кури.
Тот, как и следовало ожидать, отодвинул коробку.
Но не враждебно, а обидчиво, как это делают частенько дети, которым и хочется взять конфету, и жалко потерять свою гордость, так быстро забыть перенесенную боль.
Сергей сам был таким же, понимал состояние Лихошерста и потому не торопился с разговорами, давая комбату время остыть, долго и молча курил, выпускал дым в окно, глядя на бездонно-синее небо. Потом неожиданно для себя загасил недокуренную папиросу, обернулся к комбату.
— Я понимаю тебя, Григорий. Тебе тяжело. Командирский хлеб не из легких. Это только внешне кажется, что вашему брату легко. Командуй, распоряжайся. Отдал приказ и ходи руки в брюки. А на самом деле мало отдать умный приказ. В него душу вложить надо, чтоб люди поняли его и так же, с душой, выполняли. И к тому же ты за все, как говорят, перед богом в ответе. Это тоже понять надо.
Немного помедлив и как бы подведя черту под сказанным, Сергей продолжал:
— Но, если честно разобраться, Григорий, многие трудности ты создал себе сам.
Комбат повернул голову, глянул сквозь пальцы, как бы говоря: «Это какие еще там трудности я себе придумал? Лиходей я, что ли, себе?»
— Да, да, Григорий, — подтвердил Сергей. — Сам, не ведая того, ты их создал. Ты поступал, как тот герой из сказки: сам и швец, сам и жнец, сам и на дуде игрец. Короче, все делал сам, не опирался на актив.
— Откуда ты взял? — очнулся комбат.
— Из жизни видно. В батальоне, кроме собраний, ничего ведь не было. Воспитание заменено нарядами, арестами…
— А ты что же хотел, убаюкивать? Сосочку в рот нарушителям совать? Не выйдет! Провели собрание, разъяснили — будь добр, выполняй.
— Но ведь люди-то разные, — напирал Сергей. — Один побыл на собрании — понял, а другому нужно, помимо того, растолковать.
— Вот ты и растолковывай. Коровью жвачку им жуй.
— Воспитание, Григорий, не коровья жвачка, а великая цель.
— Я не против воспитания. Против текучки. Страсть не люблю по сто раз убеждать.
Сергей вздохнул.
— Вот в этом и беда. Хочется побыстрее, в приказном порядке или вот с помощью дегтя, а не получается. И не получится, Григорий, пока требовательность и воспитание не научимся сочетать. Пока не сумеем души людей раскрывать.
— Намек на лейтенанта Макарова?
— Не только намек, а прямой вопрос. За что на пять суток арестовал?
— За пьянство. За появление на занятиях в нетрезвом виде.
— А ты знаешь, отчего он пьет?
— Знаю. Накопил в Германии денег и пьет.
— А я думаю…
— Ты можешь думать сколько угодно, — резко оборвал Лихошерст. — А мне думать некогда. У меня инспекция на носу. Не научу людей наводить переправу — кожу сдерут.
Сергей задумчиво побарабанил пальцами по столу.
— Болен ты, Григорий. Серьезно болен. В госпиталь надо ехать тебе.
Лихошерст вздрогнул, точно его в чем-то уличили. Исхудалые щеки его совсем побелели.
— Хочешь место занять? В комбаты прешь? — вдруг вскрикнул он надрывисто и зло.
— Глупость. Выдумка, Григорий.
— Не выйдет. Сдохну за столом. Амфибию поставлю у дверей, по не дам. Не допущу! Я душу вложил в батальон. Ду-шу!
— Знаю. Верю. И тем не менее надо идти лечиться.
— Никогда! До последнего дыхания. До капли крови…
— Глупый героизм. Никчемный, — вздохнул Сергей. — Кому он нужен? Кому?
— Родине. Мне. Им вот. — Лихошерст указал на солдат, шагающих с песней в столовую. — Им я нужен. Им! А ты… подножку, В госпиталь… На слом меня. Не вый… не допу…
Сильный приступ удушливого кашля схватил его, и он, мучительно корчась и содрогаясь, заходил по кабинету. Слезы покатились по его щекам.
Сергей протянул стакан с остывшим чаем.
— Успокойся. Выпей воды. Ну же. Двужильный черт.
Комбат, не отрываясь, выпил весь стакан, долго сидел опечаленный у окна и, не поднимая головы, тихо, со вздохом сказал:
— Да-а. Ты прав. Кому нужен такой героизм?
11
В серой, продутой ветрами шинели идет по военному городку Сергей Ярцев. Солнце еще не взошло. Молчат птицы. Спят в казарме солдаты, а ему не спится.
Почти всю ночь провел он в томящем раздумье. Не смог он заглянуть в душу солдата Вичауса, переведенного из центрального городка в саперный батальон. И так и сяк пытался, со всех сторон подходил, но не получалось, хоть плачь. Так и не удалось узнать, отчего солдат бывает то каким-то странно веселым, то вдруг так мрачнеет, что все валится у него из рук. И никто не узнал. Все отказались от Яна Вичауса. Грешным делом, и самому хотелось махнуть на него рукой. Но в сердце цепко теплилась надежда: «Откроется. Не может быть. Нельзя мне отступать. Не имею права».
И вот теперь шел Сергей в роту с еще одним неиспробованным вариантом. Шел и думал: «А удастся ли он? Признается упрямец или нет?»
Прозвучала команда: «Подъем!» Загремели по лестницам сапоги.
— Живей! Живей! — поторапливают солдат сержанты и шутят. — Несмелым солнца не достанется. Воздух разберут.
Смотрит Сергей Ярцев, как выходят на зарядку солдаты, и хмурится. Не зарядка, а маята. Одни уже построились, побежали, а другие едва бредут. Отчего бы это? Да что тут гадать? Там, где сержант повеселей, командует с огоньком, и солдат шустрей. А где крик да сонливая вялость, там и проволочка.
Достал Сергей блокнот, записал в него: «Поговорить с сержантами о бодрящем слове. Нельзя уставы механически исполнять. Ведь даже вспыльчивый Чапаев и тот шутку любил». А потом зашел в помещение, радиста подозвал:
— Отныне перед зарядкой бодрую музыку включать.
— Запрещено, товарищ подполковник.
— Кем?
— Да был тут поверяющий один. «Чтоб не слыхал, — говорит. — Тут вам не санаторий».
— И не дом для престарелых, — добавил Сергей. — А молодежь. Боевая армейская молодежь.
В казарме первой роты Ярцева встречает дежурный, докладывает, как положено, по уставу. А потом они оба идут меж коек, разговаривают.
— Как спали солдаты? — спрашивает Сергей. — Никто не кашлял? Вчера сильный ветер был.
— Нет, никто.
— А стекло почему разбито? — замечает Сергей выщербленный косяк и, подставив руку, добавляет: — Передайте старшине, чтоб застеклил. А койку на ночь отодвиньте.
В ленинской комнате Ярцев задержался дольше всего. Проверил стенд, в который раз надписи перечитал. Сел на стул, задумался. Который год одни и те же стенды, доски, витрины. Стандарт. Надоел он, поди, солдатам, примелькался. Обновлять бы почаще. А где фанера? Картон? Красное полотно? Да и художников подходящих нет. Но что-то надо делать! Непременно делать. Может, собрать комсомольский актив да поговорить? Молодежь все сделает, все раздобудет, только зажги.
Вошел секретарь партбюро батальона.
— А я вас ищу по всему батальону.
— Что-нибудь случилось?
— Задание на сегодня хотел получить.
Сергей посмотрел на молодого секретаря парторганизации, подумал: «Нет, брат, никаких инструкций и заданий ты от меня сегодня не получишь. Поднатаскал я тебя, подучил, и хватит. Сам теперь себе задания давай. А не то в птенца превратиться можно, станешь ждать, когда готовое положат в рот». А вслух сказал:
— Сегодня, Анатолий Павлыч, совещаться не будем. Работайте по своим планам.
Ушел секретарь партбюро, а следом за ним и Сергей. Зашел в умывальник, расспросил у старшины, нет ли больных, хватает ли туалетного мыла. А оттуда прямо в столовую зашагал. Подсел к солдатам, кивнул:
— Как харч, орлы?
— Как у доброй тещи.
— А все же?
— Ничего. Хватает. Но готовить лучше можно.
И появилась в блокноте Сергея новая запись: «Побеседовать с поварами. Рассказать, какие были на фронте расторопные повара. Как готовили даже из скудного запаса вкусный харч».
По дороге в роту, где служит рядовой Вичаус, зашел в гараж. У раскрытого капота грузовика стоял молодой паренек в промасленной куртке и озадаченно чесал лоб. На лице его застыли досада и растерянность.
— Что? Не ладится? — спросил, подходя к машине, Сергей.
— Не заводится никак. Целый час уже бьюсь.
— А ну-ка посмотрим. — И Сергей, подстелив на радиатор кожух, подступил к мотору.
Минут через пять он захлопнул капот, вытер паклей руки и весело подмигнул:
— Заводи!
Загрохотал грузовик. Заулыбался водитель. Сергей опять к кабине подошел.
— В кружке заниматься желаете?
— А кружка-то нет.
— Будет. После рейса заходите в комсомольское бюро. Договорились?
— Есть, товарищ подполковник! Обязательно приду.
А вот и рядовой Вичаус. Как и чувствовалось, он снова навеселе, не в меру улыбчив, глаза неестественно блестят. Вошли в канцелярию роты. Сергей круто обернулся к солдату и сразу, как задумал, резко спросил:
— Анашу курили?
— Да. Нет… Не курил, — замялся солдат.
— Вывернуть карманы! Все на стол.
Солдат растерянно посмотрел на подполковника. Сколько раз разговаривал он с ним, и все тихо, спокойно, уговаривал, просил… А тут вдруг — выворачивай! Глаза суровы и требовательны. От них уже никуда не скрыться. Никуда.
Вичаус кладет на стол пакетик с дурманным куревом, молча опускает глаза.
— Вот. Это все. Остальное скурил.
Сергей берет пакетик, облегченно вытирает вспотевший лоб. Нитка найдена. Теперь размотать бы клубок.
— Где взяли дурман?
— Дружок прислал… Чтоб горе затуманить…
— Горе? А ну-ка садитесь. И говорите все. Все, как есть.
— Нет, не скажу, — вздохнул Вичаус.
Ярцев ждал этого отказа и решил, что настал момент выложить все, что он узнал о солдате, что предполагал. И пусть у него нет еще веских доказательств, пусть факты и расплывчаты, но где-то они зацепятся за душу Вичауса, в какой-то момент дрогнет его нервная бровь.
— Можешь не говорить. Я все знаю, — нахмурился Сергей. — Да, да, товарищ Вичаус, знаю. Вы не втянулись в армейскую жизнь. Вы тяготитесь ею. Она вам страшна и не под силу. Вы скучаете по дому. По дружкам… По жене…
Бровь солдата дрогнула, на лбу в переносице с болью сжались складки. «Значит, что-то неладно с женой».
— Почему вы стали редко писать жене?
— Она на рыбном промысле. Куда ей писать?
— Неправда, Вичаус. Вижу по глазам. Поссорились. Из-за чего?
— Да пошла она… свистушка, — вспылил солдат. — Как провожала, клялась: «Ни на кого не гляну». А не успел уехать — снюхалась…
— Откуда известно?
— Дружок написал.
— А вы ему верите больше, чем жене?
— Верю.
— Вот точно так и я когда-то слепо поверил своему дружку. А потом разобрался — брешет лысый барбос. Девчонка моя и в глаза того «ухажера» не видала. Да что говорить! Некоторые мужчины хуже базарных баб… Верить надо в чистую любовь. Верить!
Ушел солдат. Но чувствует Сергей, что одного разговора мало. Помочь надо парню в размолвке разобраться. Чем-то помочь.
Через час рота ушла на стрельбище. Вместе с ней отправился и Ярцев. Там он успел поговорить и с парторгом и с коммунистами, помог редакторам выпустить «боевые листки», заставил мастеров огня поделиться опытом, шагал от стрелка к стрелку, показывая, как надо целиться, стрелять. А после и сам вышел на огневой рубеж.
Глаз у него далеко не тот, что десять лет назад, когда был на фронте. От ветра слезится, не так уже различает яблочко в мишени. По и при этом Сергей знает, что ему, политработнику, никак нельзя промахнуться, что за ним смотрят десятки глаз.
На какую-то минуту он вспомнил бой под Вязьмой. Летит сквозь кромешный огонь и дым танк. Послушен он в умелых руках механика-водителя. Разворот — и рушится окоп. Рывок — и пулемет с прислугой в блин. И вдруг удар. Пламя Вспыхнула машина. Десант, вместе с которым был Сергей, посыпался с брони. Ложись! Сейчас громыхнет взрыв. Нет! Назад, Сергей! В танке же механик-водитель. Скорее! Скорее за ним! И вот уже два человека, охваченные огнем, выбросились из машины. С одежды сбито пламя, а теперь в укрытие, дружок! Пули свищут над головой, косят все живое. А он, Сергей Ярцев, все тащит и тащит товарища к своим…
Вытер кулаком глаза Сергей, губы стиснул, весь слился с оружием, мишенью и выстрелил. Раз, второй, третий… Затем встал, стряхнул пыль с гимнастерки, вперед к мишени пошел. А ее уже обступили солдаты, через плечи, шапки глядят. И отлегло от сердца. Понял: не подвела фронтовая закалка. Метко попал.
На огневом рубеже разыскал Вичауса.
— Идемте со мной.
— Куда, товарищ подполковник?
— На телеграф. Будете говорить с женой.
— С женой? — удивился Вичаус.
— Да! Я заказал разговор.
И вот они на городском переговорном пункте. Напевный девичий голосок то и дело бойко объявляет:
— Квитанция двадцать седьмая. По вызову Киева. Пройдите в шестую кабину.
— Гражданин Тилимбаев, вас вызывают Мары. Вторая кабина.
Сергей сидит за столиком с газетой в руках, вслушивается в голос дежурной телефонистки и думает: «Рад бы я был услышать сейчас голос Аси или нет? Видимо, нет. К чему? Если б хотела, давно бы вызвала или прислала письмо. Не знает адреса? Чепуха. Адрес есть у Нади. А она-то с ней встречается каждый день».
Отгоняя мысль об Асе, Сергей бегло просматривает газету. В ней сообщается о восстановлении двадцати пяти городов, об ударной стройке Куйбышевской ГЭС, комментируется план полезащитных полос, дается информация о вооружении западногерманских реваншистов. Черт бы их побрал! Вот уже сколько лет не сходят со страниц эти реваншисты!..
Сергей в сердцах свернул газету, бросил ее на стол, посмотрел на Вичауса. Тот комкал шляпу и, хотя в зале было прохладно, весь вспотел.
Нервничает. Волнуется. Как бы не нагрубил, не прервал разговор. Но ничего. Пусть выяснит, сам с ней поговорит.
— Квитанция тридцать первая. Рига на проводе. Первая кабина.
Вичаус торопливо вошел в кабину, схватил трубку, крикнул:
— Мариете! Это ты, Мариете?
Сергей закрыл тяжелую боковую дверь и, отойдя на почтительное расстояние от кабины, стал наблюдать за солдатом.
В первые минуты он что-то резко и дерзко говорил по-латышски, кричал, но постепенно голос его становился тише, мягче, а скоро на губах появилась и улыбка.
Сергей подошел к окошечку, подал девушке-узбечке десятку и, уходя, шепнул:
— Продлите первой кабине еще пять минут.
12
Прошло два года, как Плахин вернулся домой, и все эти два года ему не поручали в колхозе трудных дел. То давали чинить сбрую, то вить вожжи, тяжки. Он никогда не отказывался даже от маленькой работы и вроде был этим доволен. В душе же Плахин очень тяготился своим положением. Он не мог спокойно смотреть, как пожилые женщины, молоденькие девчата таскают бревна, возят торф, ставят срубы, а он, взрослый мужчина, сидит за мелким ремеслом.
— Хожу в инвалидах последнюю зиму, — решительно заявил он жене и председателю колхоза. — И баста. К шутам болезни. Хватит в шорниках прозябать. На трактор сяду. Буду пахать.
Напрасно уговаривала Лена подождать еще годок, как врач из районной больницы велел. Плахин и слушать не стал. Еще в марте отремонтировал старенький ХТЗ и, как только с песчаного поля согнало снег, надел солдатскую шинелишку и выехал пахать.
Весну и часть лета провел он в поле. Там у трактора неделями и ночевал. На кого же еще положиться? МТС пока что не могла выделить колхозу несколько тракторов. К уборке, правда, прислали еще один залатанный тракторишко. Но разве в хозяйстве нужны только два?
Обе машины пустили таскать сцепы жаток. Плахин же перешел на самоходный комбайн. Это была его давнишняя мечта. Сколько раз стоял он мысленно за штурвалом, ведя голубой корабль по родным полям! Думал он об этом и в холодных окопах, и в госпиталях… И вот теперь все это сбылось. По двадцать часов стоял он на мостике комбайна, убирая то ячмень, то рожь. Давно были перекрыты все нормы, забыт и отдых, и баня, куда звала Лена не раз, а работы прибавлялось. Вслед за рожью поспела пшеница, да как-то так сразу, что в два-три дня пожелтела, неоглядным морем разлилась.
Перешел Плахин на пшеничный массив. Ночью работал при свете прожекторов. Да разве управишься один?
Сбросив рубашку, бронзовый от загара и чумазый от машинного масла, Плахин стоит за штурвалом, в который раз тревожно окидывает взором пшеничное поле. Никнет колос. Течет золотое зерно. Будут клевать его птицы, потащат по норам мыши, зальют дожди. Прорастет оно толстой шубой, запашется, сгниет. А ведь где- то люди еще вдоволь не наелись хлеба, не видели булки в глаза. Подмогу бы. А ее все нет и нет. Значит, где-то непорядок, кто-то не знает, что стоил солдату сухарь. Ну, пусть нехватка комбайнов, немец много заводов сжег. А где же косы? Серпы? Какой идиот сбросил их со счета? Почему в сельских лавках днем с огнем не найти серпа? Может, скажут, некому их держать, не умеют? Пустая демагогия. Сколько в городах бездельников! Баклуши бьют день-деньской. А им бы, нахлебникам, косы, грабли в руки. Трудись, чертов сын, хоть готовому добру не дай погибнуть. Да и сельских клуш бы приструнить. Косу в руки взять ленятся, за позор считают. «Ах, теперь не те времена! Ах, и без нас уберут комбайны! Станем мы спины гнуть». А хлеб есть по-старому не стыдится никто. А булки посветлее требовать горазды. Чуть появится в магазине буханка темного, как подымают шум: «Безобразие! Не могут хорошего хлеба испечь».
Плахин рванул вправо чуть не сбившийся с гона комбайн. Из-за кустов навстречу вылетел мотоцикл. На нем мчалась непереодетая, прямо в белом халате, Лена. Лицо ее чем-то встревожено, омрачено. Она замахала рукой, прося остановиться.
Плахин заглушил мотор, спрыгнул с комбайна, подбежал, не помня себя.
— Что случилось, Ленок?
— Пчел… Пчел забирают.
Плахин вытер рукой потный лоб.
— Фу ты! До смерти напугала. Думал, с мальчонкой что… а пчелы… Шут с ними. Не до них.
— Как не до них? Ты же хотел пасеку, а их забирают. На машину грузят уже.
Плахин устало присел на багажник мотоцикла, безразлично спросил:
— Кому это понадобились они?
— Из района агент райфо приехал. Какой-то Дворнягин. Акт на тебя написал.
Плахин встал. Черные, исхудалые скулы на его лице нервно передернулись.
— Какой акт? За что?
— Вроде тунеядец ты. Пчел развел для спекуляции. — И Лена, закрыв лицо ладонями, заплакала.
— Ах, вот как! — Плахин сжал кулаки. — Я спекулянт, тунеядец… Ну погоди…
Он сбегал к комбайну, сказал что-то двум девушкам, стоявшим у соломокопнителя, и, вернувшись, застегивая на ходу рубашку, вскочил на мотоцикл.
— Ну я им покажу и мед и патоку.
В груди у него все кипело. Страшная обида жгла сердце. Как же так? Он, больной человек, трудится день и ночь, даже обедает, не останавливая комбайн, повесив кувшин на колесо штурвала, и вдруг — тунеядец. По чьей же милости это? Кто возвел такую ложь? Кому неизвестно, как появились эти ульи?
Мотоцикл подкатил к дому. В саду уже вовсю шла расправа с пасекой. С забора было снято звено, и машина подогнана к ульям. Двое незнакомых мужчин тяжело тащили по деревянным стеллажам синий домик. Третий, лысый, в черном костюме, зажав под мышкой желтый портфель, помогал плечом и весело выкрикивал:
— Раз, два, взяли! Еще взяли! Сам поедет. Сам пойдет!
Плахин стал между стеллажами, грудью заслонил борт кузова.
— Не поедет и не пойдет, — сказал он грозно и решительно.
Грузчики остановились. Лысый человек вышел вперед, ударил ладонь о ладонь:
— Вы кто такой?
— Я комбайнер. Хозяин пчел. А вы-то кто? Как смели?
Лысый достал из кармана потрепанную книжечку с золотым тиснением, поднял в ладони ее.
— Агент райфо. Или, как говорится, государственное лицо.
— Вы не агент, а разбойник, — сорвался Плахин. — И лица у вас нет. Лощеная доска вместо него.
— Понятые? Понятые! — закричал агент, оглядываясь по сторонам и ища кого-то. — Будьте свидетели! Нас оскорбляют. Позор!
Он подбежал к улью и, нажимая плечом, закричал на безучастно стоявших рабочих:
— Чего торчите? Грузить! Немедля грузить!
Плахин с силой сунул улей назад. Агент райфо упал навзничь. Краем улья ему прижало ногу, и он заохал.
Лена подбежала к Плахину, схватила его за рукав, потянула назад.
— Ванечка! Ваня. Не надо. Уйди. Умоляю тебя.
Агент выбрался из-под улья и пустился в пролом забора, теперь уже храбрясь и грозя:
— Вы это попомните! Ответите. Узнаете, как на государственных лиц нападать.
— Валяй, валяй! Не оглядывайся, — пригрозил Плахин кулаком. — «Государственное лицо». Тошно государству от вас.
Грузчики тут же уехали. Подошел дед Архип. Он был подавлен и огорчен случившимся. Помогая поставить улей на место, охал, взмахивал руками.
— Вот горе-то какое. Вот беда…
— Какое горе, Архип Архипыч? О чем вы? — спросил Плахин.
— Скандал-то вышел. Засудят!
— Я его не трогал. Не за что судить.
— Так-то оно так. Только бывает, и правду в кривду обращают, сынок. Пес с ней, с пасекой. Отдал бы от греха.
— Ни за что.
— Да уж вижу. Нашла коса на камень. Ах ты, какая беда!
Кряхтя, качая головой, дед Архип тихо побрел домой. Он еще пуще сгорбился и как-то сразу намного постарел, стал странно маленьким, худым. Ветер свободно трепал холщовую рубашку на его спине, латаные брючишки.
С мальчонкой на руках подошла Лена. Глаза ее были заплаканы.
— Что же будет, Ваня? — спросила она тихо и жалостливо.
Плахин взял сына, потрепал его за светлые, как у матери, волосы, посадил на плечо.
— Пасека будет, Ленок. Большая пасека. Правда, сынок?
— Лав-да, — с трудом выговорил мальчишка.
— Ты все смеешься, — упрекнула Лена. — А как осудят? Что я буду делать одна?
— Дед Архип говорил: «Бог не выдаст, свинья не съест».
Лена молчала. Что ему говорить? Все в шутку обращает. А разве это шутка? Грозил-то как. «Я его загоню, где Макар коз не пас. Откуда назад не приходят». А вдруг да правда? Что будет тогда?
Плахин обнял жену.
— Не горюй. Выше голову.
— Но нельзя же так.
— Можно. А унывать нельзя. Никогда.
Лена внимательно посмотрела на мужа. Он совсем стаж другим. Совсем. От прежней грусти нет и следа. Смеется, шутит, только изредка бывает злым и хмурится, увидев в доме или в колхозе беспорядки.
Проводив мужа до мотоцикла, она взяла его, как когда-то на станции, за руки, глянула успокоенно и счастливо.
— С чего ты такой? Скажи?
— Какой?
— Ну, неунывающий.
Плахин вздохнул.
— Был у меня дружок на фронте. Степаном звали. Уж не знаю, где он теперь. Но по смерть не забыть. Четыре года с ним протопал. Где мы только, в каких заварухах не побывали, Но никогда, ни разу я не видел его унылым. Даже под пулями, у смерти на глазах и то он смеялся.
— Значит, ты от него таким стал?
— Да, Лена. Ему спасибо. И тебе большущее.
Он поцеловал жену, сынишку, пообещав покатать его, когда уберет пшеницу, сел на мотоцикл и умчался в поле.
* * *
В тот час, когда агент районного финансового отдела Дворнягин пытался забрать у Плахина пчел, к домику лесничихи Варвары подкатил на старом, дребезжащем велосипеде мальчишка-почтальон. У калитки палисадника его встретила сама хозяйка.
— Витенька, соколок, — залебезила она. — Умаялся? Экую даль отмахал… Иди отдохни чуток. Медом тебя угощу. Ступай, желанный.
Варвара сняла с плеч доверчивого Витьки набитую газетами, журналами сумку и повела его к столу, где уже стояло блюдце с ароматным медом и лежала краюха ржаного, пахнущего тмином хлеба.
Витька снял кепку и, как у себя дома, навалился на еду. Он уже привык к угощениям. В доме Варвары каждый раз его ждало что-либо вкусное. То пирог с калиной, то рулет из каши, то шмат ветчины, а то вот и блюдце с янтарным медом. А пока он лакомился Варвариным угощением, за стенкой в его сумке вовсю орудовал брат Денисий. Он ловко вскрывал деревянным ножичком письма, бегло прочитывал их и, если там было что-то интересное, совал письмо в свой волшебный сундук «божьих вестей». Туда же складывались и газеты с особо важными статьями. Денисий придерживал тут их дня два-три, а за это время к нему на моление приходили старухи, и он им с «божьей» точностью предрекал события, горькие и радостные вести.
Однажды Витька заметил, что немой Денисий тайком вытащил из его сумки газеты и спрятал в сундук. Мальчишка пожаловался Варваре, но та успокоила:
— А ничего, сынок. Ничего страшного. Завтра раздашь. Все одно лутошинцы их не читают. Скуривают только.
Так и стал Витька-почтальон невольным поставщиком «небесных» новостей для «говорящего с богом» Денисия.
Из уст этого же Витьки узнал Денисий о происшествии в плахинском саду. И когда за советом к Варваре пришла Лена, он мимикой и жестами объяснил, что обо всем уже знает и нынче же обратится к богу за помощью. Ей же он велел молиться всевышнему и почаще заходить.
Варвара почему-то злилась.
13
Однажды в гостинице Сергею вручили письмо. В первую минуту он подумал, что оно от Аси. Но сразу узнал почерк Нади. Однако еще теплилась надежда, что в него вложены листки от Аси, и Сергей нетерпеливо разорвал конверт. Нет. В нем только один листок с мелким кружевным почерком Нади.
«Здравствуйте, Сережа! — начиналось ее письмо. — Передаю Вам скромный привет от себя и огромный от Аси. Извините, что долго не отвечала на Ваше письмо. Вот, скажете, какая. Даже двух слов не могла написать. Зазнайка. Но это, Сережа, вовсе не так. Просто в эти дни меня не было дома. Я лодырничала в доме отдыха под Москвой. А как приехала и прочла письмо, сразу отвечаю. Вы спрашивали: „Как там Ася? Каково у нее настроение?“ Что я могу Вам сказать? Зря Вы с ней поссорились. Ася девчонка хорошая, и мне кажется, она любит Вас. Нагрубила же она Вам, может, нарочно, чтоб Вы крепче ее любили…»
Сергей горько усмехнулся, покачал головой. «„Нарочно, чтоб крепче ее любили“. Нет, Надюша, это было не нарочно. Сердце не обманешь. Она говорила вполне серьезно». А Надя как назло продолжала развивать эту мысль.
«И то, что с Дворнягиным однажды прошлась, — вовсе ничего не значит. Он не нравится ей. А вот о Вас она часто вспоминает. Особенно Волгу. Помните?»
«Неужели обо всем рассказала Наде? Похвасталась? Проговорилась?» — с тревогой подумал Сергей. Нет, он не хотел бы этого. И неужели она такая глупая, чтоб обо всем говорить? Не может быть. Девушки в таких случаях бывают скрытные. Даже лучшим подругам не признаются. Но почему все же про Волгу намекнула Надя и дважды подчеркнула слова «особенно Волгу»? Возможно, дальше объяснит. Нет. Совсем другой разговор: «В доме отдыха было что-то скучно. Мало молодежи. Больше пенсионеров. Но я каталась на лодке, ходила в лес и чуточку вспоминала Вас. Надя».
Сергей мысленно перекинулся в березовое Подмосковье, живо нарисовал в своем воображении девушку в зеленом спортивном костюме, красной шапочке с белым помпоном, и ему вдруг стало жаль, что Надя вспоминала о нем только «чуточку». Почему?
14
В середине бабьего лета Плахина судили. На суд было приглашено из окрестных сел и деревень более ста человек. Финансовым властям хотелось, чтоб на суде было как можно больше людей, чтоб молва о деле Плахина разнеслась по всему району и недоимщики, устрашась, безропотно платили налоги. Однако в здание городского клуба, где назначался суд, собралось всего человек тридцать. В погожие дни все торопились убрать картошку, снять свеклу, выхватить с лугов до осенних разливов последние копны сена.
Из Лутош приехали четверо: Плахин с женой, председатель колхоза Вера Васильевна и приглашенный в качестве свидетеля дед Архип. Вначале они сидели все вместе в последнем ряду, но, когда начали выкликать приглашенных по делу, Плахин ушел на скамью подсудимых, а поближе к нему перебралась и Лена.
Суд начался с формальностей, предусмотренных процессуальным кодексом. У обвиняемого и потерпевшего спросили, нет ли у них отвода составу суда, свидетелям, не имеется ли каких особых заявлений или оправдательных документов. И на все эти вопросы Плахин отвечал одним словом: «Нет!»
— Может, вы желаете иметь защиту? — спросил судья, подавшись всем тощим и длинным телом вперед, готовый чуть ли не перевалиться через стол.
— Нет! — снова ответил Плахин. — Я сам сумею себя защитить.
Судья, пожав плечами, сел, о чем-то посовещался с заседателями, те ответили утвердительно, и он начал оглашать обвинительное заключение.
— Гражданин Плахин Иван Фролович в нарушение существующего закона, грубо попирая его, завел на приусадебном участке пасеку из четырех колод. Наличие указанной пасеки стало известно финансовым органам, и они, руководствуясь шкалой о налогоначислении…
Плахин не слушал обвинительного заключения. Оно много раз зачитывалось ему во время следствия. Сейчас он изучающе смотрел на судью, заседателей и гадал: кто же из них поддержит его, кто будет справедлив?
Судья внимателен, вежлив, чувствуется, опытен и не лишен ума. Седые виски и жиденькая курчавая бородка придают ему иконное благородство. Но он чем-то смахивает на картинного меньшевика и уж как-то лебезит перед прокурором.
Справа от него — девица лет тридцати. Когда-то, видно, была круглолица, красива. Парней, пожалуй, привлекали ее пышные волосы, большие синие глаза, пухловатый рот. Сейчас же она поддерживала былую красоту с помощью цветных карандашей, пудры и перекиси водорода. Причем применялось все это в больших дозах. Пудра на щеках лежала толстым слоем. Ресницы от краски слиплись. Даже здесь, за столом суда, она продолжала манипуляции над собой. То поправляла брови, то подпиливала рашпилем ногти, и, конечно, рассчитывать на ее поддержку не стоило. Она была ленива, сонлива и занята собой.
Рядом с ней смиренно сидели две пожилые колхозницы в серых простеньких костюмах. Это были те женщины, которые с бесшабашной удалью трудятся на колхозных полях, ходят там полными хозяевами, бывает, и пустятся в ругань из-за курицы или пустого ведра, но, попав вот так за стол президиума или избранные в какой-то орган, страшно стесняются своего нового положения и долго, пока не привыкнут, не осмотрятся, держатся робко, не смея проронить и слова.
Вызывали уважение и внушали какую-то надежду парень в солдатской гимнастерке без погон и угрюмый, с натруженными руками рабочий в брезентовой куртке, видимо, только что с завода. Они сидели особняком, слева от судьи, и держались как-то просто и независимо. Рабочий по-хозяйски поправил красную скатерть, чернильницу, стопку чистой бумаги, затем взял у судьи дело, полистал его и, вернув обратно как совсем ненужную для него вещь, скрестив руки на столе, о чем-то задумался. В окаймленных красными веками глазах его отражались усталость, тревога и какая-то глубокая внутренняя боль.
Парень в гимнастерке был повеселее и, как показалось Плахину, далее подмигнул ему. Прокурора он слушал рассеянно. Все больше смотрел в правый угол зала, где, наверно, сидела красивая девушка или кто-то из его знакомых.
Изучив заседателей, Плахин перевел, наконец, взгляд на прокурора и, к удивлению, не увидел его. Желтый портфель, туго набитый чем-то, скрыл обвинителя. Торчали только его ершисто-короткие волосы, и Плахину на какую-то минуту показалось, что там шуршит бумагами еж.
— Помимо этого, — продолжал читать судья, — гражданин Плахин нанес физическое оскорбление налоговому инспектору офицеру запаса товарищу Дворнягину. Во время погрузки конфискованных ульев он грубо оттолкнул и ударил…
Плахин первый раз посмотрел на Дворнягина, сидящего справа у окна. Трудно было поверить, что этот человек когда-то был офицером. В душе, в сознании жили еще те люди в офицерских погонах, которые делились последним сухарем, патроном, строго спрашивали с солдата, но никогда зря его не обижали. Сколько их было за время войны! И старших, и младших, и суровых, и мягких, но ни один не был похож на этого. Ни один. И Плахин невольно подумал, что судья оговорился, — Дворнягин никогда не был офицером.
Позади всхлипнула Лена. Плахин обернулся.
— Ты что?
— Да… да как же? Разве не слыхал?
— Что?
— На… на пять лет тебе дал статью прокурор.
Плахин и в самом деле прослушал, что объявил в заключении судья. Но он знал и раньше, еще на допросах, что обещали ему, и потому встретил эту весть о пяти годах без удивления и страха.
— Не плачь. Не все прокуроры, что в Спас-Клепиках. И повыше их есть.
Между тем, судья о чем-то посовещался с прокурором, разложил перед собой уголовное дело и обратился к Дворнягину:
— Гражданин потерпевший! Суд просит вас чистосердечно рассказать обо всем, как было. Предупреждаем, что за дачу ложных показаний вы будете нести уголовную ответственность по статье… — И судья объявил статью Уголовного кодекса.
Дворнягин ответил, что он будет во всем объективным, что за свои слова полностью отвечает, и, поправив похожий на скумбрию галстук, начал показания:
— Однажды, собирая налоги в Лутошах, я увидел, граждане судьи, летящих с колхозной гречихи пчел. Признаюсь, меня это страшно удивило. По спискам райфо, ни у кого в Лутошах, да и во всем районе не числится пчел. Налоги за них никто не платит, а пчелы откуда-то летят. Я немедленно начал наводить справки и вскоре обнаружил две незарегистрированные пасеки. Одну в колхозе из двух колод и другую в саду гражданина Плахина — тоже из двух. Спрашиваю: «Гражданин Плахин, откуда у вас взялись неучтенные пчелы?» И что бы вы думали? Он без зазрения совести, будто перед ним стоит мальчишка, отвечает: «С неба свалились». Но, граждане судьи, как вы знаете, с неба, кроме звезд и града, ничего не валится. Пчелы либо украдены, либо специально куплены для наживы.
Рабочий протянул руку:
— А вы пытались точно узнать, откуда у колхозника пчелы?
— Нет, это дело милиции. Я лишь начислил налоги.
— Размер их? — не отставал рабочий.
— Налоги исчисляются, как известно, из дохода, — пояснил Дворнягин. — Мы взяли средний медосбор, помножили на рыночные цены и начислили.
— Ну, а если бы пчелы не принесли столько меда? Тогда как?
Дворнягин, не зная, что ответить, пожал плечами.
— Тогда… тогда бы все равно платил. Мы же берем средний сбор. Сегодня перебрали, завтра недобрали…
— Ц-ц, да, — чмокнул губами рабочий. — Вокруг да около. Вы продолжайте, продолжайте.
Дворнягин, недовольный вопросами рабочего, нахмурился, злясь, заговорил:
— Плахину дважды посылались предупреждения. Но он не только не уплатил налога, а допустил хулиганство.
— В чем оно выразилось? — спросил судья.
— На одном из налоговых листов его собственной рукой было написано: «А не хотели бы вы патоки, трутни из райфо?»
Рабочий укоряюще покачал головой.
— Да-а, это, конечно, грубо. Финансистам ведь тоже спускают план. Они много работают. Но не у всех только честный подход.
Плахин покраснел. Да, тут он погорячился, в пылу озлобления ляпнул не то. Нельзя допускать обобщений, всех трутнями называть.
Реплика рабочего ободрила Дворнягина, и он, повеселев, перешел в наступление.
— Для таких, как Плахин, нет ничего святого, граждане судьи. Во имя корысти, во имя собственного кумира они готовы облить грязью весь государственный аппарат. Когда я прибыл с понятыми и стал грузить на машину конфискованные ульи, он, как зверь, налетел на нас. Грузчики были отброшены, а я получил удар в глаз. Кроме этого, граждане судьи, на мне был порван новый шерстяной костюм.
— Брешет он. Брешет, чертов барбос! — раздался с дальней скамейки возглас деда Архипа. — Я в близости стоял, граждане судьи. Своими очами видал. Пчела его укусила. А костюм порвал, как из сада бег. И шмат у меня остался. — Дед потряс лоскутом. — На заплатку берег.
Судья позвонил колокольчиком:
— Гражданин свидетель! Вам было сказано покинуть зал. Почему вошли без вызова?
— А вы сами пойдите, посидите там. Стар я в нетопленных сенцах сидеть. Поясницу ломит.
Судья снова позвонил.
— Гражданин свидетель! Покиньте зал.
— А вы не шибко на меня, — ответил дед. — Не заноситесь. Дед Архип вас выбирал. А будет новый срок— возьмет и против сголосует.
К Архипу подошел молоденький, с белым пушком на губе милиционер, вежливо взял его под руку.
— Такой порядок, дедушка. Пойдемте. У нас в дежурке посидите. А потом вас вызовут.
Архип натянул треух.
— Коль так, то чего ж. Могем и обождать.
15
В милицейской дежурке было и правда тепло. У кафельной полуразваленной печи весело гудела чугунная времянка. На ней предупредительно позванивал крышкой синий, похожий на селезня чайник. На отпотевшем стекле маленького окна билась муха.
Милиционер сдвинул с красноты чайник, кивнул на вытертый до пружин, замызганный дерматиновый диван.
— Присаживайтесь, отец. Прошу!
— Да и то верно, — крякнул Архип. — В ногах правды нет.
Он уселся на край, ближе к чугунке, положил на колени шапку, развязал кушак. Горячий воздух окатил озябшее тело, и Архип, протянув огрубелые руки, в блаженстве закрыл глаза. Много ли старику надо. Каплю внимания, чуток тепла, и вот уже куда делась злость на судью, на болтливого прокурора. А кружка чаю с осколком сахара, протянутые молоденьким милиционером, совсем раздобрили, смягчили душу Архипа, и он уже спокойно, умиротворенно заговорил:
— Я, милок, ведь тоже судьею был.
— Вы? — удивленно глянул милиционер, и щербатая чашка задержалась в его руках.
— Да. Свят бог. Не районным, знамо, а сельским судьей.
— A-а… Понятно-о, — распевно проговорил милиционер. — Ну, и как же? Дела как вели?
— А лучше и быть не должно. Он вот, ваш судья-то, больше в кутузку сажает, а у меня все полюбовно выходило, по согласию. Посудишь, бывалыч, рассудишь — и, глянь, помирились люди, неразливными сватами в чайную пошли. И тебя туда же ведут. Пей, судья, за мировую. Спасибо тебе. Помирил молодых — опять тебе почести. Через год крестным кумом идешь. Отсудил у жадной свекрови подсвинка — в рождестве на печенку зовут. Вот как было, милок.
Архип щелкнул языком, качнул бородой и, отхлебнув глоток, продолжал:
— Только однажды промашка вышла. По сей день не забыть.
— Какая, отец?
— Да пошел я как-то после суда имущество между драчливыми супругами делить. Понятых взял, судебные бумаги. Все честь по чести. Ну, прихожу, объявляю: так, мол, и так-то, прибыл раздел учинить. Молчат оба, ни слова. В разных углах, как бирюки, сидят. Только коли второй раз спросил, она проворчала: «Учиняй, мол, черт с тобой». Ну, начали мы. Ей ярку, ему барана. Кому ведро, кому кадку с чулана. Быстренько этак раскидали все. Дело до сундуков дошло. Отпирайте, говорю, холст начнем мерять. Опять молчат, как онемелые. Я к сундуку, достаю рулон холстины и только хотел внакид на локоть, как с визгом подлетает хозяйка: «Не дам! Караул! Сундуки грабят. Хрол, заступись. Куды ж ты глядишь?» А тут и Хрол подлетает: «Ах, вот как! В сундук чужой полез, борода седая! Любопытство тебя охватило. Марья! Держи его. Обматывай холстиной. Ноги! Ноги, чтоб не убег, крути!»
Архип усмехнулся в бороду, мотнул головой.
— Ну, скрутили меня, на пол повалили и давай молотить тем, что леший в руки подсунул. Она окомелком, а он сапогом. Кличу на помощь понятых, а их и след простыл. С перепугу разбежались бабы. Спасибо, сосед вошел, стащил их, как клещей, с меня. А то бы измочалили, антихристы. Но и то неделю в синяках ходил. Вот так-то, милок.
— Да-а, — сочувственно вздохнул милиционер. — Досталось вам.
— А не приведи господь. С той поры я от бабских дел подальше. Ну их к демону. В народе не зря говорят: «Муж да жена — одна сатана. Днем мордуются, а ночью милуются».
— Бывает и так, — улыбнулся милиционер.
— Бывает, — вздохнул Архип.
Он допил остатки, вытер рукавом усы и, ставя на стол кружку, смачно крякнул:
— Ах, красота! Погрел душу. Спасибо, сынок.
— Не за что.
— Как не за что? Да хотя бы за доброту твою. Хороший ты, видать, малый. Не разбалованный еще. А иной тебе, чуть наденет картуз с бляхой, с красным околышем, так нос выше колокольни Ивана святого дерет. Я — пуп земли. Я — всемогущая милиция. Могу и посадить тебя, и телку последнюю забрать. Оттого люди и пугаются таких. Чуть мелькнет за селом красный картуз, как мужики в кусты, а бабы в слезы.
— Что вы, отец. Чего нас бояться? Мы такие же люди.
— Так-то оно так. Только выходит иначе. Зачем едет в село милиционер? Только по двум делам. Забрать кого-нибудь аль протокол составить. Ведь так оно?
— Ну, положим, так.
— Вот в том-то и курьез. А ты, моя милиция, не только за тем приезжай. А добро пожаловать к нам на праздник, на свадьбу али по случаю новорождения. Да запросто с колхозниками за столом посиди, стопку выпей с нами, песню пропой. Вот тогда ты нам и роднее будешь и милей. А так ты кто? Божий страх. Пугало.
Милиционер встал, похлопал Архипа по плечу.
— Нельзя так говорить, отец. Нельзя. Без страха тоже не обойтись. Надо страх нагонять. Надо. На воров, хулиганов, жуликов и прочих элементов.
— На тех знамо. А я те кто? Разве елемент? Я те брат, а может, и батька. Так на кой же ляд, прости ты грешного, страх на меня нагоняешь, заставляешь по бурьянам сигать? Отчего честного парня Ивана Плахина под стражу берешь?
— Что вы, отец, — глянув в оконце, смутился милиционер. — Ни в коем случае. Мы берем под стражу только после приговора, как закончится суд.
— Суд-то суд, а в оконце все же зришь.
— То для порядка, чтоб какой пьяный не зашел.
* * *
А суд продолжался. Задав потерпевшему несколько уточняющих вопросов, судья велел ему сесть, посовещался с заседателями и обратился к Плахину:
— Гражданин Плахин, признаете ли вы себя виновным в предъявленных вам обвинениях?
— Нет, не признаю. Все, что сказано Дворнягиным, грубая ложь!
— Врет он! Так и было! — выкрикнул Дворнягин.
Судья позвонил.
— Гражданин Дворнягин, суд предупреждает вас. Не мешайте работать. При повторном выкрике будете удалены из зала.
— Ясно. Прошу извинить.
Судья обратился к Плахину:
— Подсудимый Плахин! Объясните суду, как все было. Напоминаю, что за чистосердечное признание вам будет смягчено наказание.
— Спасибо. Но меня не за что не только наказывать, но и судить. Этот суд надо мной — позор для района.
Прокурор Худопеков, побагровев, вскочил.
— Как вы смеете так говорить? Это поношение суда. Это оскорбление нас. Вы — собственник. Мелкий кулак. Паразитический элемент. А черните лучших людей. В частности, нас… Мы не позволим подрывать частной собственностью колхозные устои.
— Сами вы себя черните, — спокойно ответил Плахин. — Унижаете в глазах людей.
Судья, соблюдая формальность, с виноватой улыбкой обратился к прокурору:
— Соломон Захарыч! Ну зачем же спорить? Нервничать… Давайте послушаем. Пусть все говорит.
— Да, я скажу все, — начал Плахин. — Все, что знаю и думаю. Может, кому-то и не понравятся мои слова, кого-то они заденут, но кривить душой не могу.
— Говорите, говорите, — подбодрил рабочий. — Слушаем.
Плахин расстегнул душивший его воротник гимнастерки и, почувствовав облегчение, заговорил:
— В минулое лихо — войну мне, граждане судьи, пришлось много протопать по своей земле. Был я и на Смоленщине, и в Поволжье, и на Украине… Всякого повидал. По части ведения хозяйства имею в виду. И с хорошим встречался, и с плохим. Но по совести скажу: беднее нашего Спас-Клепикского района не видал. Даже в Пинских болотах и то люди жили до войны богаче нас. Там почти круглый год и сало и хлеб. А у нас… Мясо едим по праздникам, молоко с четверга по субботу, уха из привозной трески, а про мед и говорить не стоит. Заболеет ребенок — ложку меду в районе не достать.
— Правильно! — выкрикнул кто-то из зала. — Сады низвели…
— А ведь это же Центральная Россия! — продолжал Плахин. — Земля стопудовых хлебов, вершкового сала, антоновских яблок, гречишных медов…
Плахин перевел дыхание, заговорил тише.
— Я понимаю причины. Прежде всего война. Неуправка, нехватка людей. Сразу все не осилишь, не залатаешь прорех. Но другой наш чертов бич, наш позор — это, простите, тупость, неповоротливость, неумение брать клады из земли.
— Это что? Доклад или обвинительная речь? — насторожился Худопеков.
— Считайте как угодно, но дайте мне сказать.
— Продолжайте, — кивнул судья.
— Возьмем тех же пчел, — заломил палец Плахин. — Кому убыток, если у колхозника на усадьбе два-три улья? Государству? Ничего подобного. Разве стал бы я покупать у государства сахар? Зачем он мне. Пусть бы рабочему больше досталось. Да худо-бедно я на базар бы ведро меду привез. Но может, пчелы невыгодны колхозу? Чепуха. Пчелы колхоз не объедят. Они только приносят выгоду, поля опыляют. Значит, кто же в убытке? Кто?
— Никто! — грянул зал.
— Вот именно никто, — заключил Плахин. — Или возьмем наши колхозные фермы. Могут ли они обеспечить всех мясом, молоком? Да всякому видно, что пока не могут. Значит, ничего плохого, если колхозник будет держать корову, подсвинка, десяток уток или гусей. Даже дураку понятно, что он тогда не пойдет с кошелкой в магазин. Так нет же. Такие, как Дворнягин, считают, что мы тут в Спас-Клепиках уже в коммунизме живем, что подсобное хозяйство нам не нужно. А отсюда, граждане судьи, и дурацкие вывихи — пчел держать нельзя, коров под нож, сады под топор. Имей мужик хатенку. Сажай цветочки вокруг нее. Нюхай на здоровье.
Судья позвонил.
— Подсудимый Плахин! Не отвлекайтесь от показаний.
— Нет, что вы. Я как раз к ним и подхожу. — Плахин взглянул на Дворнягина. Тот сидел красный, как вареный бурак, и это обрадовало Ивана. Значит, пули летят в цель. Значит, надо наседать еще сильнее. Но стоит ли говорить все, что наболело? Э, была не была… Все равно ведь посадят. И он заговорил еще злее: — Вы сегодня судите меня. И это ваше право. Возможно, формально я в чем-то и виноват. А если по правде? По совести, граждане судьи? Разве меня надо судить? Я бы сажал на скамью подсудимых вот этих Дворнягиных. Дегтем бы мазал их в назидание другим. Это не хозяин земли, а собака на сене!
— Что за выпады? — крикнул судья.
— Это не выпады, а крик души. И вы обязаны прислушаться к нему.
Судья встал.
— Я лишаю вас слова.
— Лишайте, — махнул рукой Плахин. — Мне больше нечего вам говорить. Ах, да… Насчет подбитого глаза и порванных штанов. Мало ему досталось. Надо, чтоб бежал без оглядки и не показывался на рязанской земле.
Плахин сел. К столу подошла Вера Васильевна.
— Дозвольте мне сказать? — обратилась она к судье.
— Кто вы такая?
— Я председатель лутошинского колхоза.
— В родственных связях состоите?
— Нет.
Судья посовещался с заседателями и объявил:
— Разрешаем. Но недолго. Пять минут.
— Вот тут гражданин прокурор обозвал Плахина паразитическим элементом, — начала Вера Васильевна. — Но позвольте спросить у вас, уважаемый, а с чего вы так заявили?
— На основании документов. Вот их, — потряс прокурор бумагами.
— Документов. Бумаг… — горько усмехнулась Вера Васильевна. — А у живых людей почему не спросили? В сельсовете, у меня, у рядовых колхозников. Да известно ли вам, что Плахин лучший тракторист в колхозе, честный труженик. Все лето на тракторе. Керосином пропах. А подошла страда — на комбайн пересел. Не смыкая глаз работал. А ведь он инвалид. Право на отдых имеет. Изранен в войну. А вы… «собственник, кулак… пчел для наживы купил». А ведомо ли вам, гражданин Худопеков, что пчелы те были с лету пойманы. И не для наживы. Нет. Душу вы плохо знаете его. Он две колоды вон колхозу отдал, чтоб общая пасека была. А вы… И как не стыдно только!
Худопеков вскочил.
— А вы не стыдите. Зелены еще. Не доросли…
Вера Васильевна покачала головой.
— Эх, прокурор, прокурор! Сквозь землю провалиться за вас.
Зал загудел, как тронутый улей. С мест раздались выкрики:
— Позор! Безобразие! Судят кого…
— Спокойствие, граждане. Не мешайте работать, — позвонил судья.
— А вы не зажимайте рот. Зачем тогда приглашали?
Судья поспешно объявил перерыв. Он, видимо, понял, что не сделай этого — озлобление колхозников дойдет до предела и они демонстративно покинут зал, показательный суд сорвется. Надо было выиграть время, унять страсти и уже после продолжать процедуру суда. Однако за кулисами произошло что-то непонятное. Перерыв с десяти минут затянулся до тридцати, сорока, а потом и вообще случилось нежданное. На сцену вышла крашеная блондинка и, лениво зевнув, объявила:
— Суд откладывается. Можно разъехаться по домам.
16
Возвращаясь домой, Плахин тревожно думал: «Кто же прервал суд? Почему? Может, прокурору не понравился допрос? Или потребовались новые данные судье? Вера Васильевна ведь заявила: „Никого не спросили, не посоветовались ни с кем“».
А между тем, все произошло иначе. Как только судья объявил перерыв, заседатель — слесарь завода Иван Касьянович сказал, что он отлучается на несколько минут на завод, а сам тем временем через улицу и к секретарю райкома, недавно избранному из местного актива. В кабинет ворвался без стука, как на пожар.
— Кондрат Ильич! Секи голову, мордуй старика.
Секретарь райкома испуганно и недоуменно уставился на старого члена бюро. Худая, с острым кадыком шея его вытянулась из белого воротничка рубашки.
— Что случилось? За что?
— Суд приостановил. Прокурора обозвал долбней.
— Вы?
— Да, Кондрат Ильич.
— Какой суд? Почему? Ничего не понимаю. А ну-ка, садись. Да садись же, говорю.
Секретарь райкома подвел старого слесаря к креслу и, насильно втиснув его туда, сам сел перед ним на стул.
— Ну, говори. Кайся, как на духу.
— Да что скрывать-то. Все расскажу. Очумели у нас в районе. Честных людей отдают под суд.
— Каких людей? Кого?
— О трактористе Плахине слыхали?
— Плахине? Ну как же. Я недавно грамоту ему вручал.
— Грамоту, — усмехнулся Иван Касьянович. — Чихать Худопеков на наши грамоты хотел. Он его в тунеядцы записал и пять лет тюрьмы прописал.
Секретарь райкома вскочил:
— Да вы что? Не может быть.
— Не верите? А я три часа на процессе сидел. Там такую комедию затеяли, что тошнит. Народ с сел согнали.
— Но за что? За что судят-то?
— А черт их батьку знает. Парень вовсе не виноват. Четыре колоды пчел развел. Две колхозу на развод отдал, а два улья себе оставил. Ну, агент райфо заметил, раздул налог. Не платишь — пчел давай. Тот: «Не отдам. Катись к едрене». Этот в амбицию: «Грузи!» В споре под улей попал, ну и к прокурору, жалобу ему на стол. Тот по тупости не разобрался и ляп статью «Покушение на государственную личность».
Секретарь райкома бросил на стол карандаш:
— Ах, долдоны! Ах, чумаки! Да за эти штучки…
Он подошел к телефону, снял трубку и быстро набрал трехзначный номер.
— Судья? Судью мне прошу. Это вы, Зиновий Зиновьевич? Очень приятно. На ловца и зверь бежит. Вы что это там затеяли? Какой к чертям процесс? Что за трескотня? Кого судите? Что не кричи? По головке вас гладить? Дифирамбы петь? Да за это по шее надо бить. Что? Вы независимы? Ах, вот оно. Значит, можете на головах ходить, честных людей мутузить… Ну так вот что. От имени райкома я вас с Худопековым ставлю на ноги и требую: балаганщину прекратить! Людей отпустить. Все! До свидания.
Иван Касьянович вытер о подол куртки руку и протянул ее секретарю райкома.
— Спасибо за поддержку.
— Вам спасибо, Касьяныч. За партийный глаз. За прямоту!
* * *
Как бы обрадовался Плахин, что на его стороне оказались народный заседатель Иван Касьянович и секретарь райкома! Гора свалилась бы с плеч. Однако ни о чем этом Плахин не знал. Всю неделю ходил он мрачный, придавленный несправедливостью, а в понедельник на следующую встал чуть свет и начал собираться в дорогу.
— Ты куда это, Ваня? — спросила жена, разбуженная стуком упавшего сапога.
— В Москву поеду. С человеком одним надо поговорить.
— С каким?
— Есть у меня там, — сопел Плахин, натягивая сапог. — Он рассудит. Посоветует, как быть.
— А если пойти в райком?
— Ты думаешь, суд назначался без санкции райкома?
Лена пожала плечами.
— Я не знаю, Ваня. Смотри, как лучше. Тебе видней.
В этот же день Плахин был в Москве по названному в справочном бюро адресу. С волнением подходил он к большому учреждению с гранитным подъездом и красной звездой на четырехэтажной башне. Вот сейчас, через несколько считанных минут, он увидит человека, слово которого вело в огонь и дым. Они уйдут с ним ну хотя бы вон в тот сквер на лавочку и будут говорить, как родные, начистоту. И уж, конечно, он-то наверняка поймет душу солдата, как понимал ее там, в огне. Поймет и скажет, надо ли идти в атаку или обождать.
Плахин поднялся по ступенькам к двери. Мимо спешили офицеры, доставая на ходу пропуска.
— Разрешите обратиться? — остановил одного из них Плахин, по-военному вскинув руку к шапке.
— Да, слушаю вас.
— Не могли бы вы вызвать подполковника Ярцева?
— Ярцева?
— Да, Сергея Николаевича Ярцева.
— Нет, не знаю такого.
Потоптавшись с минуту в нерешительности, Плахин обратился к другому офицеру, на этот раз к улыбчивому моряку. Он показался Плахину очень добрым, чем- то напоминавшим Ярцева.
— Товарищ капитан второго ранга?!
— Слушаю вас. — Моряк окинул его взглядом с ног до головы. — Товарищ— бывший солдат, как вижу. Я не ошибся? Не снизил ваш чин?
— Нет, все правильно, — кивнул Плахин. — Солдатом служил.
— Так чем вам помочь?
— Да видите ли… Я офицера одного ищу. Сергея Ярцева. Может, слыхали?
— Ярцева? Сергея Николаевича?
— Да, да. Подполковника Ярцева.
Моряк еще раз пробежал взглядом сверху вниз и, как показалось Плахину, помрачнел.
— А вы кем доводитесь ему? — спросил он тихо и сожалеючи.
— Да никем. Он просто мой командир. Я давно не видел его и вот приехал… повидаться, поговорить.
— Издалека приехали?
— Из Рязани.
— Да-а, — вздохнул моряк. — Бывал я в Рязани. И командира вашего знаю хорошо. В одном отделе работали с ним.
Плахин почувствовал недоброе.
— A-а… а разве он не работает теперь?
Моряк коротко рассказал, что произошло с Ярцевым, извинился за излишнее любопытство и куда-то заторопился по своим делам. Плахин пошел тоже. Пошел по глухому переулку, не зная зачем и куда. Ему было до слез жалко своего командира. Он же ни разу не увильнул от боя. Все лихо вместе с солдатами перенес, а теперь нашелся чинуша, героя в дезертира превратил. Как же так? Как же так? — твердил он одно, тихо двигаясь по тротуару.
На башне Троицких ворот ярко горела малиновая звезда. А на стенке жилого здания, напротив нее мраморная вывеска: «Приемная Председателя Президиума Верховного Совета СССР».
Плахин остановился. А что если зайти да рассказать обо всем? И о себе, и о своем командире, о всем, что мешает лучше жить? Рассказать и спросить: «Есть ли правда на земле? А если есть, то как же она терпит свинскую несправедливость?»
— Иван Фролович! Плахин!! — окликнул кто-то.
Плахин оглянулся. На другой стороне улицы, у Манежа, с рулоном под мышкой стоял новый секретарь Спас-Клепиковского райкома Кондрат Ильич и махал рукой.
— Шагай сюда. Я жду!
Плахин подошел, сухо поздоровался.
— Здравствуйте, Кондрат Ильич. Слушаю вас.
— Здорово, Славы кавалер! Ты чего это здесь прогуливаешься? Там зябь надо пахать, солому скирдовать, а он…
— Э-э, какая там зябь, — буркнул обиженно Плахин. — Сами же, поди, под суд благословили.
— Правду приехал искать?
— Да хотя бы…
— Ну и как?
Плахин, потупив глаза, молчал. Широкоплечий, с большими, угловато согнутыми руками, он заслонил собой полтротуара. Пешеходы, недовольно косясь, обходили его. Секретарь райкома дружески обнял лутошица, отвел его ближе к стене.
— Вижу я, разуверовался ты, братец, думаешь, ленинской правды нет. Было такое? Говори, чертов сын.
— Было, — сознался Плахин.
— Ну так вот. Ты еще молодой коммунист, и сказать пару слов тебе не мешает. Дрянь эту выкинь из головы, и чтобы духу ее не было никогда. Знай, правда святая в партии нашей живет. И кто бы ни пытался обойти ее, она рано или поздно даст по зубам. Понял?
— Понял, Кондрат Ильич. Но ведь судят…
— А суд твой не состоялся и не состоится. Отменили мы его, дорогой товарищ.
Плахин обхватил своими большущими клешнями маленького, на вид хилого секретаря райкома.
— Кондрат Ильич!.. Дорогой… Да я… При всем народе расцелую вас.
— Ну, хватит, хватит, медведь, — смутился секретарь. — Кости поломаешь.
Плахин выпустил из объятий Кондрата Ильича и благодарно взял его под локоть.
— А теперь идемте. Идемте, и баста.
— Куда?
— В ресторан, Кондрат Ильич. Водочкой вас угощу.
— Ты же не пьешь? На прошлом празднике, когда грамоту вручал, даже пива не выпил.
— А сегодня выпью. За вас. За правду нашу!
Секретарь райкома положил на плечо Плахина руку и, увлекая его к диетической столовой, грустновато, по с надеждой сказал:
— Выпьем, Иван Фролович. Как следует выпьем, когда поднимем на ноги хозяйство района. А пока пойдем-ка борща поедим. Ну и проголодался я на этом кустовом совещании!
17
Великое дело привычка.
Все вначале казалось Сергею унылым, сиротливо-чужим. Никак не мог он сродниться с новым военным городком, отдаленным от штаба дивизии на десятки километров. Тянуло туда, где сияют огни районного городка, где по вечерам в маленьком парке гремит музыка, где есть и кинотеатры, и лавчонки со свежим пивом.
А потом привык, вжился, и как-то похорошели в его глазах казармы, веселее выглядел теперь широкий батальонный плац, уставленный плакатными щитами, и не таким неуютным стал солдатский клуб с белыми колоннами, но без крыши. Только не нравилось Сергею, что нет в городке ни деревца, ни кустика. Трава и та растет лишь оазисами возле умывальников.
А во всем виновата вода, десять километров до нее от батальона. Там в предгорье шумит полноводная река. Там проходят занятия и учения. А тут… Нет жизни без нее. Нет зелени. Жесткая норма в батальоне на воду. Десять ведер для общего питья и по фляжке в день на брата. А в батальоне служит молодежь. Ей хочется и умыться до пояса, и поплавать…
Задумался Сергей. Как достать воду? Вырыть колодец? За глубокую скважину большую сумму заломят. Устроить бассейн и навозить воды в цистернах? Хлопотно, да и менять часто воду надо, застоится, от жары загниет. А что, если прокопать арык с предгорья? Далеко. Километров двенадцать в обход горы будет. Но и солдат в батальоне немало. Если вытянуть всех цепочкой да каждому участок метров по десять-пятнадцать…
Вечером Сергей рассказал о своей заманчивой идее комбату. У того глаза загорелись.
— А что? Рискнем, пожалуй. Построим свой малый канал. Поругают, что солдатам отдохнуть не даем. Но пусть ругают. Зато, — комбат потер от удовольствия руки, — своя водичка будет. Горная. Ключевая.
Через день посовещались с активом. Все горой за стройку. Сержант Сыроватка заявил, что комсомол берет все земляные работы на себя. Тут же нашлись специалисты по арыкам, свои проектировщики, бетонщики, прорабы.
За неделю была изыскана трасса, каждому подразделению размечены участки, а утром в воскресенье молодежь батальона с кирками, ломами, лопатами, самодельными тачками высыпала в поле. Живая нить потянулась от ворот городка к синеющему вдали предгорью.
Комбат и Сергей вышли на трассу тоже. Вначале они проверили, как расставлены люди, у всех ли есть инструменты, а потом сняли гимнастерки и, вооружась лопатами, стали в ряд.
Сергей работал с азартом. Лопата в его руках мелькала, как челнок. Рыжая с желтой супесью земля летела метра на три прочь. Он по-мальчишески радовался своей удачной выдумке, а главное, тому, что скоро, через каких-нибудь двадцать дней, будет в городке в избытке вода, зазвенят в плавательном бассейне голоса саперов, зашумят деревца у казарм.
После полудня на трассу приехал на своем «газике» Бугров. Сергей еще издали увидел на его черном от. загара лице одобрительную улыбку. Он шел валким, неторопливым шагом, неся солдатскую шляпу в руке, обращаясь то к одному, то к другому солдату, кивая им, что- то говоря. Седые волосы его трепал ветер, и Бугров то и дело отбрасывал их со лба.
— Строителям «Беломоро-Балтийского»! — увидев Сергея, махнул он шляпой.
Комбата близко не было, и Сергей доложил Бугрову, чем занимается батальон и сколько людей на трассе.
— Да вижу. Сам вижу, чем занимаетесь, — прервал Бугров доклад. — Водичкой решили обзавестись. Неплохо. Прямо скажу, молодцы! Чего сохнуть, когда вода под боком. Давно бы вот так. Только канал узковат. — Он перешагнул канаву. — Один шаг. Боюсь, заметет сыпун.
— Меня тоже беспокоит это, — сознался Сергей.
— А вы кустарником обсадите. Он вам быстро русло укроет.
— О, это идея! — ухватился Сергей. — Спасибо за подсказ, Матвей Иванович. Я вижу, вы крепко здешнюю природу освоили.
— А как же, — улыбнулся с заметной гордостью Бугров. — Я ведь тут надолго… навсегда.
Он прошел под редкую тень одинокого дерева, разморенно опустился на грядку песка.
— Садись. Покурим.
Сергей сел рядом, достал папиросы. Бугров предложил из костяного портсигара свои.
— Ташкентские мягче. Попробуй.
Закурив папиросу, Бугров сунул спичку в сухой измельченный песок, затянулся, выпустил по ветру дым и как-то по-свойски спросил:
— Что новенького, Сергей?
— Особого ничего… Все идет как будто нормально.
— Как Макаров? Все пьет?
— Нет, протрезвился.
— Каким чудом?
— А я его к себе в комнату взял. Утихомирился, но переживает парень. Любит он ее, Матвей Иваныч. По- серьезному любит.
— Ту, из ГДР?
— Да. О которой докладывал вам. И она, как ом сам рассказывал, без ума. По-честному, жалко их. Нельзя ли чем-нибудь помочь?
— Думал я об этом. Думал, — ответил Бугров. — Может, что-нибудь изобретем. А точнее, министр обороны к нам на учения приезжает. Вот я и попытаюсь с ним поговорить.
Сергей вздохнул.
— Эх, если б разрешил!
— Что?
— Да туда. Туда его перевести.
Бугров посмотрел на Сергея, прижал его к плечу.
— Ах, Серега, Серега! Человечный ты мужик. Правильный. У тебя-то у самого хоть как? Девушка пишет?
Сергей сделал вид, что не слышал вопроса, и грустно уставился на запыленные кирзовые сапоги.
— Молчит, значит, — вздохнул Бугров. — В рот воды набрала. Да-а… Ну, а подруга ее? Помнишь, письмо показывал?
Сергей смутился.
— Та — да. Пишет. — Он сунул руку в карман брюк, вынул конверт с березками. — Вот вчера получил.
— Разрешаешь?
— Пожалуйста, Матвей Иванович. У меня от вас секретов нет. Читайте.
Бугров прочитал письмо и задумчиво уставился куда- то в обманчиво синеющую морем пустыню.
— А не кажется ли тебе, Серега…
— Что, Матвей Иванович?
— Что Надя…
Сергей слегка покраснел.
— Что вы… С чего?.. Она же только про Асю и говорит.
Бугров потрепал Сергея за волосы.
— Эх ты, чудачина… Возьми и почитай получше. Там строчки сердцем стучат.
18
Нет, не прошел бесследно суд для Плахина. Точно новой пулеметной очередью полоснул он по ногам, и они опять, как в тот раз на Хингане, подкосились, перестали повиноваться разуму.
Проснулся утром, хотел встать и рухнул кулем на пол.
— Ванечка! Ваня, — подскочила Лена. — Что с тобой? Что ты?
Плахин смахнул рукавом рубахи крупные капли пота, болезненно сморщился, безнадежно кивнул на ноги.
— Опять вот… отказали…
Лена подхватила его под руки.
— Отдохнешь — все пройдет. Ложись-ка. Ложись…
Плахин с трудом добрался до кровати, лег навзничь, тяжело вздохнул:
— Ах, не вовремя это! Трактор стоит.
Лена села на край кровати, убрала со лба мужа прядь волос.
— Трактор? Да если б не он, лучше б окреп. Говорили тебе, не ходи, еще отдохни, а ты пошел, да еще по три смены…
— Нет, Лена. Не трактор тут виноват. Нет. А вот те пустые головы. Ух, если б мне поручили прочистить их…
Он сжал кулаки и весь передернулся, скрипнув зубами. Лена поспешила успокоить его.
— Не надо, Ванечка. Не думай о них. Забудь. Раз секретарь райкома сказал: «Все будет хорошо», значит, так и будет. И я так думаю. Сердце об этом говорит. Вот дай руку, послушай, как оно спокойно стучит.
Плахин расстегнул белую кофточку жены, бережно коснулся ее полной, все еще по-девичьи упругой груди.
— Ленка-а! Лена! — донесся с улицы женский крик. — Кончай миловаться. Пошли!
Лена одернула кофту, вскочила.
— Ванечка, я пошла. А ты лежи. Я скоро. Коров подоим, и приду.
Она поцеловала мужа, потрепала его за ухо и, схватив со стола наглаженный халат, шмыгнула вон из хаты.
Часы пробили шесть. До прихода Лены можно было еще поспать часа три. Но как ни пытался Плахин, а уснуть не мог. Гнетущие думы терзали его. Как взломанные льды в половодье, лезли они одна на другую, рушились, шли разбитые доводами ко дну и снова вырастали, нагромождались в нерастащимый хаос.
Откуда берутся типы, подобные Дворнягину и Худопекову? Кто их породил? Советская власть? Черта с два. Мать их народила такими уродами? Нет. Значит, где-то они насмотрелись, кого-то копируют, как обезьяны, кто- то подает им дурной пример. Таких бы еще при первом пороке одернуть, носом ткнуть в мерзопакость, как того кота. Но одни не замечают, другие видят, но боятся сказать, вот и растет на горе людям держиморда, бюрократ. Сколько он нервов попортит людям! Сколько от глупостей его прольется слез! А может, в общей массе честных людей один бюрократ — пустяк? Нет, это не праздный вопрос. Это целая проблема. Взять в сущности человека. Государство ничего не жалеет для его здоровья. Бессчетные миллионы идут на это. Но появляется какой-нибудь Дворнягин, и здоровье человека — насмарку. Да что Дворнягин! Сварливая баба в кассе, в окне раздачи пищи, в справочной бюро косит здоровье сотен людей. И почему, же все это прощается, сходит с рук? Почему, если вор залез к вам в карман за пятаком, его судят и садят в тюрьму, а того, кто залез к вам в душу и надорвал ваше сердце, только журят?
19
В конце сентября в округ на полковое тактическое учение приехал министр обороны. Вначале он сказал командующему Коростелеву, что намерен посмотреть действия полка в обороне, но затем переменил решение. Полк дивизии Гургадзе был поднят по боевой тревоге и получил задачу: совершить марш-бросок через барханы и уничтожить десант «противника», выброшенный в долину реки. Времени было отведено мало, и потому подразделения очень спешили. Танки и бронетранспортеры шли полным ходом. Рыжая пыль от них кудлатилась до небес. Водители задыхались, с трудом удерживали в кромешной темноте установленную дистанцию. А приказ: все вперед и вперед…
Десант «противника» оказался незначительным, к тому же он не успел закрепиться и был с ходу уничтожен авангардом полка. Остальные же подразделения застали лишь пустое поле боя.
— Эка, сколь попусту отмахали!
— Стоило ли всем выступать? — поговаривали офицеры.
— Погодите, — улыбался комдив Гургадзе. — Это еще цветочки, а ягодки впереди. Министр выпарит всю соль на спинах. Он старый солдат.
А министр, довольный совершенным маршем, приказал объявить большой привал и, не раскрывая всех своих замыслов на предстоящие дни учения, отправился на речку порыбачить.
Поклев был удачным. Рыба кидалась не только на плохонькую наживку, а даже на пустые крючки. Однако министр долго на рыбалке не пробыл. Наловив небольшое ведро крупной рыбы, он отдал улов штабным поварам и ушел на часок отдохнуть, а Коростелев решил тем временем встретиться со своим давнишним фронтовым другом.
Повар Артем быстро соорудил возле палатки под шелковицей столик. Коростелев позвонил в штаб полка и, выйдя на лужайку, заломив руки за спину, с приятным волнением зашагал взад-вперед по тропе.
— Это кого же вы так ждете, товарищ командующий? — спросил Артем. — Лично я так волновался, когда холостяком был и невесту в гости поджидал. Глаза проглядел. Придет — не придет?
— Невеста что? — усмехнулся Коростелев. — Друга жду. Да ты ж его знаешь. Наш бывший начпоарм Матвей Иванович.
— Что вы говорите! Сколько ж вы с ним не виделись? Лет десять?
— Нет, почему же. Виделись. На совещаниях… сборах. А вот так, посидеть за столом, не приходилось.
Коростелев подошел к столу, сел, хлопнул ладонью по табуретке.
— Садись, Артем. Отдыхай. Небось набегался.
Повар сел.
— Да есть малость. — И вздохнул.
— Что вздыхаешь? Устал или неприятность какая? — спросил Коростелев.
— Ни то и ни другое, товарищ командующий.
— А что же?
— Да вот хочу вас покритиковать, но что-то побаиваюсь.
— Меня? Покритиковать? — оживился Коростелев, и глаза его загорелись от любопытства. — А ну-ка давай, браток. Давай. Скажи правду в глаза. А то, признаюсь, кроме жены и тещи, меня никто и не критикует. Все больше комплименты говорят. Ну, что ж ты? Начинай. Предоставляю тебе слово. Ну?
— Перво-наперво о званиях, — начал, потерев бритый затылок, повар. — Вы вот гостя ждете. По-братски рады ему. Это хорошо. Так и должно быть, какой бы чин ни занимал. Но не задумывались ли вы, товарищ командующий, почему ваш друг Матвей Иванович досель в полковниках ходит?
— Нет, брат, не задумывался.
— А это минус вам. Кол, товарищ командующий. Вы вот генерал-полковник, а он который год все полковник. И в должности он заморожен, как тот карась. А разве это справедливо? Разве воспитывать людей легче, чем учить их стрелять?
— Да, ты прав, Артем. Прав, браток. Но сие от меня не зависит.
— Как не зависит, товарищ командующий? Вы же с министром встречаетесь.
— Да, встречаюсь.
— Так разве вы с ним только стратегию обсуждаете? Ну, наверно же, говорите по душам?
— Говорим.
— Так что ж вы молчите, товарищ командующий? Возьмите и скажите: «До каких же, мол, пор будем на скромности политработников выезжать? Сами погоны маршалов надеваем, а им и генерала жалко дать».
Коростелев посмотрел на повара, кивнул головой.
— Говори, говори, Артем. Я слушаю тебя.
Артем поправил вилки на столе, накрыл кусочком марли нарезанный хлеб.
— К вам на прием один офицер тут приходил. Ярцев по фамилии.
— Ярцев? Помню, помню такого. Бугров мне рассказывал про него. Ну и что же?
— В Москве он служил. В Главном управлении. По разговору видно, толковый парень. Фронтовик. Академию окончил. Молодой. Ему бы в самый раз работать там. А вот поди ты. Выжили. Постарались избавиться. Больно ершист. Против шерсти гладит. Где же справедливость, товарищ командующий? Сами призывают смело недостатки вскрывать, критику развивать, а чуть что — за хомут тебя. Хорошо, если косым взглядом отделаешься, а то еще и в бараний рог согнут.
Коростелев задумчиво побарабанил пальцами по столу.
— Да-а. Есть у нас еще такое. Встречается. А вся беда, братец, в том, что иные руководители в непогрешимых богов себя превращают и не приемлют никакой критики. Иной раз наломают дров, а признаться боятся. Разве может бог ошибаться? Признаешься — чего доброго, уронишь авторитет. А это же глупость. Нет неошибающихся людей. Даже Ленин, которому по уму и развитию нет равных, умел ошибки признавать.
— Да-а, — вздохнул повар. — Если бы все, как Ленин! — И задумался.
Командующий умолк тоже и несколько минут сидел, склонив голову, скрестив руки между колен. Потом распрямился, вздохнув, спросил:
— Ну еще что у тебя, Артем? Говори. Не стесняйся.
— Чего же стесняться. Скажу. Вы, товарищ командующий, рыбу вчера ловили?
— Ловил. Как же, — просиял Коростелев. — Хорошо клевала.
— Да, здорово, — подтвердил повар. — Слишком даже. А не задумались ли вы, почему это у командующих и приезжих начальников рыба больше всех клюет?
Коростелев пожал плечами.
— Нет, признаться, и в голову не приходило. Берет и берет. Значит, удача, хотя рыбак, как знаешь, я неважнецкий.
— Вот б том-то и суть, товарищ командующий. А я задумался. И не только задумался, а кое-что и разузнал.
Коростелев глянул настороженно.
— И что же, если не секрет?
— Да рыбка-то у вас была подсадная.
— Подсад-ная? Не может быть!
— Точно, товарищ командующий. Они еще до вашего приезда наловили ее, потом выпустили в ограждение и три дня не кормили. Ну, она остервенело и кидалась на крючки.
— Кто это сделал?
— Начальник гарнизонного военторга, а саперы помогали.
Коростелев побелел. Да это же очковтирательство! Прелюдия к большому обману. Сегодня мелкая рыбешка, а завтра крупный подвох. Да как же они смели сделать такое? Меня, командующего, министра, обмануть?
Он круто повернулся к повару и сурово спросил:
— Это все точно?
Артем стал по команде «смирно».
— Точно, товарищ командующий! Ограждение из железных решет с вечера было не видно, а сейчас как на ладони вон стоит.
Коростелев шагнул к берегу, глянул под ракиту, покачал головой и сейчас же вернулся к палатке, позвонил в штаб полка.
— Роту с переправы снять! Да, да. Немедленно. И вывести в резерв. Переправу будет вести… — Коростелев увидел идущего к палатке полковника Бугрова, — другое подразделение. Да, другое!
20
Легкая, как птица, «Волга» со свистом рассекала тьму южной ночи. Снопы света низко кланялись мокрому после дождя асфальту, жухлым кустам карагача, горбатым барханам и лениво ползущим навстречу тучам.
Была уже полночь. Адъютант по особым поручениям полковник Волков давно уже спал, привалясь к дверце, держась за поручень подлокотника. На сопровождающих машинах тоже не мигали папиросы. Только министра обороны все еще не брал сон. Старый солдат, проведший полжизни на колесах, он любил ночную езду. В это тихое время, когда по дорогам шло мало встречных машин и воздух полнился свежестью и дыханием ночи, приятно было подумать, помечтать.
Весь день с небольшими перерывами шел бой с «противником». Высокие барханы преграждали путь наступающим. От жары звенело в ушах, пыль слепила глаза. Но люди шли и шли вперед, стиснув зубы, превозмогая усталость.
А потом, уже под вечер, подводились итоги первого дня учений. Командующий округом был, как никогда, строг и придирчив. Ему не понравилось ничего решительно — ни марш, ни встречный бой, ни маневр по охвату «противника». Он поднимал то одного офицера, то другого и строго отчитывал за недостатки, предупреждал.
«Не так же все плохо, Алексей Петрович», — хотелось сказать, а посмотрел в глаза (в них было не столько суровости, сколько жалости, любящей заботы) и понял: не надо этих слов. Коростелев и сам хорошо понимает, что люди старались горячо, пролили много пота. А что ругает он их, так это скорее для острастки, чтоб не зазнались, не ослабили гужи.
В сущности, это тактика не только Коростелева. На строгости вся дисциплина держится. И сам не раз скрепя сердце, до боли жалея, жестко спрашивал, крепко ругал, бывало, когда и грозил трибуналом. Но не эта ли строгость, командирская взыскательность встряхивала сонливых, опускала на землю витающих в облаках, спасала в бою горячих, вела к удачам?
Кровью обливалось сердце, когда под Ростовом посылал людей, вооруженных одними бутылками с горючим, на броню. Знал, что многие не вернутся, будут раздавлены, убиты. Но иного выхода не было. Люди отстояли город.
Так что правильно сделал Коростелев, завернув поначалу круто. Отцовская строгость не калечит, а лечит. Только вот о самовольстве шоферов он напрасно: «Притормаживают, как увидят девчонку где». А ничего, брат, не поделаешь, любовь. Все мы в этом грешны — и рядовые, и генералы…
Министр потер лоб, вздохнул. Был и с ним случай лет сорок назад. Вез он — лихой кавалерист — боевое донесение с пометкой «три креста». Донская пыль летела из-под копыт гнедка, ветер свистел в ушах. А из хутора навстречу девчонка. Солнце в пышных волосах играет. В руках — васильки. На губах — улыбка. И дрогнуло сердце, крикнуло: «Стой!» Взвился на дыбы взмыленный конь, насмерть напугал девчонку. Отшатнулась, локтем лицо заслонила.
— Тю, непутевый! Задавишь…
Наклонился с седла, за плечо тронул:
— Как звать тебя? Откуда?
— Тебе-то зачем?
— После узнаешь. Да говори же скорей. Тороплюсь я.
Усмехнулась, головой покачала.
— Нет, не скажу.
Махнул рукой с досады, дальше помчался. А вслед голосок с грустинкой. Что-то громко крикнула, но конь отнес далеко, и только название хутора Вертячьего успел расслышать.
Два длинных года согревали сердце лучистые глаза казачки. А в первопуток на третий разыскал затерянный в степях хутор Вертячий, и председатель хуторского Совета дед Ероха печатью удостоверил, что дочь хуторянина, безлошадного казака такого-то состоит в законном замужестве за красным командиром таким-то и препровождается с ним по новому месту жизни в красноармейскую часть.
Живо вспомнилось, как добирались пешком до станции (коней на хуторе не было, всех война извела), как ехали шесть суток в неотапливаемом телятнике, подстелив соломы и укрывшись шинелью, сколько лет и где жили в землянках, как по-цыгански кочевали из гарнизона в гарнизон, продавали за бесценок барахлишко, а на новом месте опять покупали втридорога. Как родился в каптерке первенец и бойцы по приказу старшины ходили мимо на цыпочках, чтоб его не разбудить.
Все это ушло, улетело в прошлое. И Наташа теперь всем обеспечена и счастлива. Только в солнечные волосы впутали те трудные годы нити паутин. Посмотрела она на них однажды и, вздохнув, говорит:
— Нет, нелегко женою министра быть.
Да, нелегка была служба. Нелегка… Может, во сто крат труднее, чем сегодня. Ни квартир с паровым отоплением, газом, ни клубов, ни магазинов… А не падали духом, не унывали. Какой был взлет, революционный дух! Откуда же теперь появляются нытики, хлюпики с расслабленной душой? Да вот хотя бы тот молодой лейтенант с Дальнего Востока, что на днях письмо прислал: «Старшие начальники получают квартиры с удобствами, а нас призывают стойко переносить трудности. До каких пор? Я уже два месяца живу с женой без квартиры».
Цыпленок. Не успел вылупиться из яйца, не принес пользы и на грош, а уже все удобства требует, старшим бросает упрек. А известно ли тебе, сколько они вынесли на своих плечах? Кем бы ты был, если бы не их революция, пятилетки, подвиги на войне? Думать об этом надо, молодой человек. Думать и закалять себя. А иначе из хлюпика вырастет предатель и трус. Да и нам есть о чем поразмыслить. Не слишком ли нежное воспитание в училищах? Помимо занятий, ведь курсант мало берется за что. Полы моет за него уборщица, цветы садит тетя Даша, обед несет официантка… Вот и растет незримо иждивенец. Училище ему рай, а часть, где нет таких удобств, адово пекло.
Вспомнилась слезная телеграмма сына-лейтенанта: «Папа, здесь невозможно. Серость и глушь. Переведи поближе к Москве». Что было бы с ним, пойди на поводу? Загубил бы парня, изнежил. А так притерпелся. Служит… Вот только жена вздыхает: «Безвластный министр. Родного сына перевести не может». И не надо. Не надо нежить. Орлица-мать не с такой кручи пускает в первый полет орлят. И ничего. Не разбиваются.
Шофер выключил скорость. Машина мягко зашуршала по траве и плавно остановилась. Министр открыл глаза. Небо чуть посветлело. Совсем близко синели лесистые горы. Низко над ними ярко горела зоревая звезда. С низины доносился гулкий стук досок, людские голоса.
В кабину заглянул адъютант Коростелева.
— Товарищ маршал, ваша палатка готова. Можно отдыхать.
Министр вылез из машины, разминаясь, прошелся по мокрой траве, попытался осмотреть местность, но в предутренней тьме увидел лишь купы деревьев да пирамиды палаток под ними.
Хорошо бы сейчас соснуть часок, другой. Вот и палатка. Чистым бельем тянет из нее, прохладой. Но к шутам все. Некогда. Идут учения. Войска форсируют реку. Надо туда — на переправу.
На берегу министра встретил Коростелев, одетый по-фронтовому — в маскхалат, и теперь его трудно было отличить от простого солдата. Министр попросил доложить обстановку в полосе наступления.
— Передовые подразделения, товарищ министр, — начал Коростелев, — форсировали водную преграду и захватили два небольших плацдарма. Решением командира полка туда переброшены легкая артиллерия и часть танков. Концентрированным ударом оба плацдарма к восьми ноль-ноль будут соединены. Сейчас саперы готовятся к переправе на левый берег…
Слушая Коростелева, министр мысленно анализировал действия подразделений, прикидывал, а как бы он поступил в том или ином случае, и все больше радовался и за командира полка, который руководит боем тактически грамотно, и за Коростелева, не утратившего своей боевой полководческой хватки. Смущала только сама обстановка на переправе. Слишком все мирно и обыденно обставлено. Изредка ухают пушки, где-то, километрах в пяти, постреливают пулеметы, и люди вот ходят по берегу, не пригибаясь, не опасаясь, что рядом грохнет снаряд или мина.
Коростелев словно догадался, о чем думает в эти минуты министр, и, глянув на часы, поспешил доложить:
— Через десять минут по району переправы будет нанесен бомбовый удар. Самолеты уже на подходе, товарищ министр.
Министр понимающе кивнул.
— Правильно. Я этою и ждал. Обстановку на учениях надо каждый раз усложнять, чтоб солдат и физически крепко поработал, и умом пошевелил, чтобы это была не прогулка, а закалка. На всю жизнь.
Похлопав по карману, он достал папиросы, спички, угостил Коростелева, закурил сам, выпустил в сторону дым.
— Я солдатом служил тридцать лет назад. А спросите про учения, которые когда-то были. Помню. Все до единого помню. И как проходили, и где, и кто из старших начальников на них был. Почему? Да потому, что это был большой праздник. Мы своему народу показывали нашу силу и мощь. И к тому же нам приходилось переносить неимоверные трудности. Да вы и сами помните, Алексей Петрович.
В небе послышался отдаленный, быстро нарастающий гул, смешанный с тонким посвистом реактивных турбин. Министр повернул голову, кивнул через плечо:
— Кажется, идут.
— Да, по времени пора, — сказал Коростелев и, посмотрев на часы, добавил: — Точно выдержали. Минута в минуту.
Гул усилился. Воздух задрожал. Берег огласился завывающим ревом сирены, к почти одновременно в разных местах раздались голоса: «Воз-дух! В укрытия! Воздух!»
Метрах в двухстах от реки ослепительно вспыхнула на маленьком парашютике люстра — ракета. Через несколько секунд на небольшом удалении от нее, оставив дымный хвост, повисла другая, потом третья, четвертая… Их с удивительно точными интервалами развешивал одиночный и совсем невидимый самолет. А следом за ним шли с тяжелым надсадным гулом бомбовозы.
Вокруг стало светло, как днем в тот час, когда после дождя подует холодом и солнце незримо светит из-за свинцовых туч. Люди на берегу заметались. Машины остановились там, где их застал свет. Из редких кустов часто, внакид застучали зенитки.
Маршал, повеселев, одернул китель.
— Добре! Настоящим боем запахло. Пойдемте-ка посмотрим, как действуют саперы.
Министр, командующий и полковник для поручений спустились по песчаному намыву к урезу реки, остановились под корявой ветлой. Справа, метрах в пяти, тихо покачивались на волнах плавающие амфибии. Они уже были готовы к переправе людей и техники.
На какую-то долю минуты гул в небе затих. Но сейчас же воздух резанул пронзительный и знакомый по военным бомбежкам свист. Самолеты один за другим пошли в пике. Низко над землей что-то ухнуло, рвануло воздух, и тотчас министр был сбит с ног и кем-то сильным придавлен на дно щели. Все это произошло так быстро и неожиданно, что министр не успел и сообразить, в чем дело, кто его сшиб. Только когда над ухом раздался горячий шепот: «Лежите. Бомбят», понял, что случилось, и, представив на минуту в таком же нелепом, но абсолютно правильном положении себя и Коростелева, от души рассмеялся.
К траншее подбежал перепуганный порученец, зло схватил за шиворот солдата и, вытащив его из щели, тряхнул перед собой.
— Ты очумел! Да я тебя… Самого министра-а…
Сидевшие под обрывом солдаты при виде этой сцены попрятались кто куда, а один, худенький, остролицый, схватился за голову, будто над ним разорвалась бомба.
— Ой, лишенько мое! Увяз Апанас на ровной дорози. Всыплят на полну спидницу. Министерску частину получе.
— За что?
— Та хиба ты не бачив? Министра в траншею свалив.
— Да война же!
— Война, — вздохнул солдат и умолк.
Отряхнув фуражку, китель, брюки, министр подошел к одиноко стоявшему солдату, который все еще недоуменно смотрел на полковника и как бы говорил: «За что же вы меня? За что?»
— Как ваша фамилия, товарищ рядовой? — спросил, всматриваясь в лицо солдата, министр.
— Ян Вичаус! — четко доложил солдат. — Из Латвии.
— Из Латвии? — переспросил министр. — Не потомок ли тех латышских стрелков, которые Ленина без пропуска в Кремль не пустили?
— Не знаю, товарищ Маршал Советского Союза. Но из мест я тех.
Министр протянул руку.
— Ну, здравствуйте, товарищ Вичаус. Так или иначе, а будем считать вас потомком… наследником тех кремлевских солдат.
Он снял со своей руки золотые, с чешуйчатой цепочкой часы и протянул их солдату.
— А вот это на память. Спасибо за храбрость, находчивость, товарищ рядовой! А нам с командующим наука. Не будем ротозейничать, условности допускать. Так, Алексей Петрович?
— Точно, — кивнул Коростелев. — Об этом надо помнить всем.
Вичаус стал еще плечистей и гаркнул взволнованным басом:
— Служу Советскому Союзу!
Министр откозырял и теперь уже занялся тем делом, ради которого и пришел сюда, к переправе.
Гул самолетов вовсе растаял. Ракеты, опустившись почти до воды, тихо гасли. Все осталось, как и должно, нетронутым. Это было условное бомбометание. Но людей на нем надлежало учить. Они, вот эти безусые, наивно-улыбчивые пареньки, должны почувствовать хотя бы часть того, что вынесли на войне их старшие братья — саперы. Всего, конечно, не воссоздашь, но все же…
Министр подозвал командира соединения полковника Гургадзе, приметного своим удивительно длинным ростом и горбато-острым носом, немножко схожим с пеликаньим.
— Во время налета разбито три амфибии. Прикажите командиру их снять.
— Слушаюсь! — вскинул руку Гургадзе.
— И два взвода солдат. Впрочем… всю роту. Какую — на ваше усмотрение.
— Ясно, товарищ маршал. Разрешите выполнять?
— Да, — кивнул министр. — Когда все сделают, доложите.
— Слушаюсь!
Гургадзе широким шагом поспешил к саперам. Министр обернулся к Коростелеву:
— А теперь можно и чайку попить. Минут двадцать в нашем распоряжении.
— Да, пожалуй, раньше не изготовятся, — согласился Коростелев.
Они прошли в крытую штабную машину, стоявшую тут же, под какими-то размашистыми деревьями. Здесь ярко горел электрический свет, пахло лимоном и свежезаваренным чаем. Повар подал на стол тарелку с сыром, сливочное масло и две чашки отливающего бронзой чая. Аккуратно расставил все и вышел.
Министр и командующий принялись за чай. Вначале пили молча, каждый думая о своем, потом, отодвинув чашку и откинувшись на спинку камышового кресла, министр заговорил:
— На Западе у нас неспокойно, Алексей Петрович. Мутит воду Западная Германия. Гляди за ней да гляди.
— Это верно, — кивнул Коростелев. — Реваншистов там набралось, как сельдей в бочке. Спят и видят атомную бомбу в руках.
— До атомной им далеко, — возразил министр. — А вот провокаций жди. — Он о чем-то подумал и, обернувшись, вдруг спросил: — А как вы смотрите, Алексей Петрович, если мы вас назначим в Германию главкомом Группы войск?
Министр с хитроватым прищуром посмотрел на Коростелева и не отвел взгляда, пока тот не допил чай и тоже не уставился на него.
— Воля ваша, товарищ министр, — ответил Коростелев. — Как прикажете. Я солдат.
— Ну, а все же? Желание как?
— Если назначите, сочту за честь.
— Вот это другое дело, — улыбнулся министр. — Главное, чтоб с душой…
В машину вошел комдив Гургадзе и доложил:
— К переправе готовы, товарищ маршал!
— Готовы? — удивился министр. — Да не прошло и пятнадцати минут.
— Так точно, — подтвердил комдив. — Не больше пятнадцати.
Министр встал.
— Идемте смотреть, Алексей Петрович. Что-то не верится. Не случилось ли, как с карасями.
Намек о карасях был не случайным. Коростелев в тот же час, как стало известно о подвохе, рассказал обо всем министру. Тот вначале посмеялся, а затем, недовольно нахмурившись, сказал: «Это распущенность. Обман старших. За это надо строго наказывать, чтоб не повадно было».
Министр уже знал, что та саперная рота отстранена от учений и переправу ведут другие саперы. Но, видимо, сомнение у него все же закралось. Коростелев же был до холодного спокойствия уверен в людях другого подразделения, в честности офицеров, которые командуют им сейчас. И хотя он не знал командира саперного батальона, он твердо надеялся на Гургадзе и Бугрова. Они не могли его подвести. Он верил им, как самому себе. Теперь его лишь подмывало узнать: каким чудом так быстро восстановлен переправочный парк?
Воздух посвежел. Развиднелось. Район переправы был как на ладони. Ровной шеренгой стояли у берега легкие и тяжелые амфибии. На них застыли в ожидании команды солдаты и офицеры.
Министр обернулся к комдиву:
— Пригласите ко мне комбата.
— Слушаюсь!
Поддерживая рукой полевую сумку, подбежал подполковник в шляпе, яловых сапогах и мокрой гимнастерке. Пока он, вскинув руку, докладывал, министр внимательно разглядел его. Он был еще молод — лет тридцати пяти. Но в висках уже пробивалась седина. Три складки на лбу прорезались глубоко и как бы говорили, что этот человек уже многое перенес и повидал. Об этом же напоминали три ряда орденских планок на груди и академический значок. Голубые, чуть выцветшие глаза, видно от усталости, покраснели, но горели удалью.
— Так, — проговорил министр, еще раз окинув взглядом офицера. — Значит, командира заменяете, товарищ Ярцев?
— Так точно, товарищ Маршал Советского Союза! Как говорится, в двух ролях.
Комдив поспешил разъяснить:
— Некого было поставить, товарищ маршал… По нужде пришлось.
— А что ж тут худого, товарищ Гургадзе. Наоборот, это очень хорошо, что политработники в нужный момент заменяют командиров. И, как вижу, выходит неплохо. Вы на фронте тоже сапером служили?
— Никак нет. В пехоте был, — ответил Ярцев.
— Тогда тем более молодец. Смотри, как быстро подготовились. Срок-то какой!
Командующий назвал время. Министр еще больше оживился, тронул Ярцева за рукав.
— Вы вот что… Расскажите-ка, как это было? Какую хитрость применили?
Ярцев пожал плечами.
— Все просто, товарищ министр. Резервный взвод заранее развернули. И как только получили вводную, сюда его.
— Так, так, — о чем-то думая, кивал министр. — Ну, а если снова бомбежка? Опять потери…
— И на этот случай есть резерв.
— Какой же?
— Три машины с досками, бревнами и готовыми плотами.
— Слыхал, — кивнул командующему министр. — Его, брат, не застанешь врасплох. Все продумал.
Министр отпустил офицера, подошел к обрыву и, глядя на переправочные машины, задумался. «Все это неплохо. Хорошая техника. По сравнению с прошлой бесспорный шаг вперед. Ну, а в будущей войне? Надежны ли эти средства? Вряд ли. Одна ракета с ядерным зарядом, — и машин как не бывало. И потом вся эта погрузка, выгрузка все же продолжительна. Как ни старайся, а на это уходят часы. Где же выход? Надо искать».
* * *
Тяжел марш в пустыне. Хотя теперь пошли и другие марши, хотя солдаты и не топают пешком, а едут на машинах, бронетранспортерах, но все же тяжело. Испепеляюще палит солнце. Жаром дышит земля. К броне не притронешься рукой. Песок бьет в глаза, хрустит на зубах, спины мокрые. И ждут не дождутся солдаты большого привала. А как его объявят, упадут с машин в тень, тащи — не стащишь с места, и лучшая каша не каша, — дай полежать солдату, снять сапоги. И уж если подсядет к ним старшина Егор Иванович — шутник и рассказчик, то лучшего отдыха и не сыскать.
А куда же старшине деваться, как не быть с солдатами. Он всегда с ними, всегда тут как тут.
— Как маршок, пехота?
— Тяжеловат! Жара. Песок надоел, — завздыхали солдаты.
— Втянетесь, — присел в кружок Егор. — Пообвыкнете.
— Где там втянешься, — вытирая вышитым носовым платком шею, грудь, сказал исхудалый от жары солдат. — Служба не мед. Поздно ложиться, рано вставать. Тревоги разные… Не то что в гражданке. Там спи сколько влезет и никто тебя не потревожит. Наоборот, жинка уговаривает: «Поспи, милок, погрей бочок».
Егор усмехнулся:
— Это только по первости, брат. В медовый месяц такие нежности раздают. А потом другая идиллия тебя ждет. Чуть заря проклюнется, кулак тебе в бок. «Дрыхнешь, черт. Рассвело уже. Солнце в пятки греет. Ступай за водой, да дров наколи, да печь затопи, да картошки начисти, да юбку мне погладь», да еще сто десять вот таких же «да». Скажешь ей слово супротив— сейчас же кинется соседа прославлять. И где только такие ангельские соседи берутся? Он и не курит, и не пьет, и с курами просыпается, и все дома делает, и управляется чесать ей пятки, и на руках ее носит. А перечислив эти достоинства соседа, на тебя напустится и как есть наизнанку все перевернет. Скажите, нет таких?
— Есть! Точно. Не одна, — разом отозвались солдаты.
— И верно, не одна, — кивнул Егор. — Пожалуй, в сотне парочку найдешь. А может, и побольше. Никто их не считал, да и невозможно. Они ведь публичные дискуссии, как в комсомоле, не ведут, под критику «чубы» не подставляют. А все больше домашние баталии заводят, бьют, так сказать, с закрытых позиций. Навалятся трое на одного — жена, тесть, теща и давай клевать, по перышку общипывать, как петуха. Попробуй отбейся.
Прячась от глянувшего сквозь ветви солнца, Егор сдвинулся в тень и опять заговорил:
— Так что не спеши жениться, хлопцы. А коль решился, так прежде посмотри, чтоб не было таких баталий.
— Ох, товарищ старшина! — вздохнул исхудалый. — И хитрющий вы!
— Чем же это?
— Да как же. Нас от женитьбы отговариваете, а сами собрались жениться.
— Есть такая наметка, — сознался Егор. — Имеется… Но мне, хлопцы, и сам бог велел. Я же солдатскую отслужил, на сверхсрочную остался. А сверхсрочник — это другой разговор. У него и права другие. Думаю, что и многие из вас будут не прочь воспользоваться ими.
Задумались солдаты. Сизый дымок повис у них над головами. Не скоро им еще до этого. Много еще надо потеть, чтобы дослужиться до сержантского чина, стать таким, как вот он, всеми уважаемый в полку Егор Иванович. Да и станешь ли? У него вот на груди звезда Героя. А звезды эти не запросто дают.
— Егор Иванович, — обращается по имени-отчеству один из солдат, зная, что вне строя старшина это разрешает, — а что нужно, чтобы героем стать?
Егор думает. Мелкая конопля на его лице постепенно темнеет.
— Совесть. Человеческую совесть, — говорит он, с силой подчеркивая это слово.
Солдаты недоуменно переглядываются. Они не поняли смысл слов старшины, и он тут же пояснил:
— По совести, говорю, служить надо. Как присяга велит. И, конечно, не ради награды, а во славу Родины, друзья.
— Все это верно, — согласился солдат. — Только какой же чудак не захотел бы героем стать?
— Ты, Федя, хотя бы отличником стал! — выкрикнул кто-то. — А то все на тройках скачешь.
— Стану, не волнуйся.
— Будем ждать.
— Зачем же ждать, — упрекнул Егор. — Помочь парню надо!
— Поможешь ему. Он у нас, Егор Иваныч, с норовом, как необъезженный конь. Ты его вправо, а он влево. Лезет напролом.
«Егор Иванович. Егор». Постойте, постойте. А не тот ли это молодой солдат Егорка, что смерти боялся как огня? Не тот ли, что завороженно слушал рассказы фронтовиков? Ну конечно же он — Егорка. И росток тот же. Только плечи пошире раздались. И то же дробное лицо в веснушках, точно посыпанное коноплей. Но что за диво! Почему в его разговоре, в манере запросто и в то же время с достоинством держаться что-то знакомое?
Прислонясь спиной к борту плавмашины, Сергей Ярцев пристально смотрел на Егора Ивановича и пытался вспомнить, у кого же из солдат-фронтовиков было вот такое в характере, в поступках.
Ба! Да это же рассудительность, степенство старшины Максимыча, сдержанная сила Ивана Плахина, а балагурство… ну, понятно, в измененном виде, Степана Решетько. Вот как оно! Из рода в род. Из поколения в поколение…
21
Утром следующего дня горнист сыграл отбой — конец тактических учений. И сразу же стало тихо и скучно на степных дорогах. Уткнулись в кусты ивняка седые от пыли танки, рассыпались по песчаным ямам бронетранспортеры, жирафами уснули под деревьями пушки, как слоны на водопое, сгорбились под брезентами «катюши». Только на крутом бархане все еще буксовала застрявшая ракетная установка. Она была в первый раз на тактических учениях, и, может, потому ей и не везло. Громоздкая, еще не освоенная, она, бедняга, то сваливалась в кювет, запруживая своей гигантской трубой всем дорогу, то вязла в песках, и потому люди к ней относились, как и ко всему неизвестному, новому, с усмешками и недоверием, но все же с любовью и любопытством.
Увидев, что ракетная установка опять застряла, солдаты, отдыхавшие поблизости, не сговариваясь, потянулись к бархану. Привалила целая рота вместе со старшиной Егором Ивановичем. Те, кто диковинку уже видел, сразу облепив корпус тягача, начали помогать. Другие же, заломив шляпы, все еще не решаясь подступиться, восхищенно галдели:
— Вот это штучка — от половника ручка!
— Да-а. От такой нигде не скроешься.
— Велика Кулина, да дура, — скептически оценил увалистый солдат с обожженным на солнце носом.
— Помолчал бы. Знаток, — укорил солдата ефрейтор. — Ну что ты в ней понимаешь?
— А тут и понимать нечего. Акулина и есть Акулина. Только дороги прудить. Ни один тягач не тащит.
К «знатоку» подошел ефрейтор, с прищуром улыбаясь, поправил на его груди заржавелый значок «Друг собаководства».
— Ты, Сема, в своей Акулине разобрался бы толком, а то небось…
Семен откинул руку язвившего дружка:
— Разберусь. Без вашей помощи.
— Смотри. А то как бы не случилось, как с Ванькой одним.
— Каким?
— Да женился в деревне Иван. Парень придурковатый был, а девчонка в жены попалась робкая. Ну, прошла ночь…
— Эй, балагуры! — крикнул старшина. — А ну, навались.
Солдаты кинулись на помощь. Заглушая крики, заревел мотор тягача. Замелькали траки гусениц, поползли, взметая пыль, по рябому бархану.
Седые от пыли, но довольные, отвалили от ракеты солдаты, шляпами, руками машут, кричат:
— Пошла, родимая!
— Вперед, гроза небес!
…После полудня, когда люди отдохнули и привели себя в порядок, на лужайке под ветлами начался разбор полкового учения. К этому времени посредники уже доложили министру результаты своих наблюдений и теперь сидели на передней скамейке, ждали, что он скажет. Офицеры полка расположились амфитеатром на склоне горы. Почти у всех были в руках блокноты.
На столе, застланном красной скатертью, лежал листов на тридцать доклад, подготовленный офицерами генштаба. Но министр им не воспользовался. Он, устало хмурясь, полистал его, выписал себе в блокнот что- то и, отложив листы в сторону, где сидели Коростелев, Бугров и Гургадзе, принялся подводить итог. Говорил он негромко, неторопливо, точно взвешивая каждое слово, пытливо всматриваясь в лица офицеров, как бы стараясь их запомнить или по крайней мере разглядеть.
В его речи не было общих, напыщенных фраз, какими нередко начинаются речи некоторых начальников. Он говорил просто и, в сущности, о том, что видел своими глазами, что думал в дороге, на переправе. Ко всему прочему он лишь напомнил о железной необходимости осваивать новую технику, драться за секунды, ибо в будущем сражения могут протекать в молниеносном темпе.
Кончая выступление, министр собрался было рассказать о подсаженных лещах, но, вспомнив обещание Коростелева лично разобраться и наказать виновных, не стал. Не хотелось омрачать приподнятого настроения людей. Они потрудились славно. И министр, поблагодарив за это всех, кивнул на соседний столик, где в красных коробочках поблескивали часы и нагрудные знаки:
— А теперь отметим лучших. Героев учений.
Щеголеватый, гладко выбритый полковник, раскрыв синюю с золотым тиснением папку, зачитывал приказ. К столу один за другим подходили смущенные, немножко растерянные неожиданной похвалой офицеры. И министр, улыбаясь, радуясь вместе со всеми, протягивал им награды, крепко пожимал руки, иных по-отцовски обнимал.
— Майор Ярцев Сергей Николаевич! — выкрикнул полковник. — Награждается…
Сергей подошел к столу. Министр протянул ему часы, Почетную грамоту, пожал руку и на минуту задержал взгляд на его погонах:
— Позвольте. А почему вы майор? Вы же были подполковником?
— Был, товарищ министр.
— И что же?
Сергей, бледнея от стыда, понурил голову.
— Разжалован, товарищ министр.
Белесые пышные брови министра поднялись. Глаза помрачнели.
— За что? В чем провинились?
За столом поднялся Бугров.
— Товарищ Маршал Советского Союза! Разрешите мне доложить вам об этом особо.
Министр обернулся к стоявшему позади порученцу:
— Запишите. Напомните мне сегодня. И офицера пригласить.
— Есть!
* * *
Ожидая вызова к министру, Ярцев ходил сам не свой. После учений надо было подвести предварительные итоги политработы, собрать перед выходом с полигона агитаторов, молодых шоферов, но все это пришлось поручить секретарю партбюро. Сам Ярцев сейчас ничего делать не мог. Неожиданный приказ о разжаловании в майоры вышиб его из нормальной колеи. Ему казалось, что все неприятности уже позади. Работай. Дерзай. И вдруг…
«Добились все-таки своего. Добились, — злясь, рассуждал Сергей. — Не забыли еще, значит, меня. Помнят критику, злобные чинуши. И за тысячу километров жжет она их. Но ничего. Мы еще скрестим с вами шпаги, Зобов и Дворнягин, дай только примет на беседу министр. Обо всем доложу. Воевать так воевать!»
Так рассуждал Сергей, готовясь к беседе с министром. Однако сбыться этому было не суждено. Сразу же после обеда министр сел в вертолет и вместе с Коростелевым улетел в Ташкент.
Расстроенный и огорченный, Ярцев поспешил к Бугрову, узнать, не докладывал ли о нем он министру. Но и тут Сергея постигла неудача. Инструктор политотдела сказал, что Бугрова срочно вызвали зачем-то в Москву и он уехал на гражданский аэродром.
22
Петр Макаров совсем потерял надежду когда-нибудь увидеть Эмму. Он знал, что однажды провинившегося, в чем-то замеченного в Германию снова не посылали. Да и на обещания замполита Ярцева махнул рукой. «Напрасные хлопоты. Разве кто разрешит? А как хочется побывать в своей части, увидеть друзей, товарищей и, конечно, ее — Эмму, хотя бы узнать, что с ней. Нет, надо уехать на месяц в отпуск на родной Енисей, закатиться с друзьями на рыбалку, пожить в шалаше, побегать босиком по росистой траве, подышать настоем таежных цветов и забыть про все».
Как только вернулись с тактических учений, Петр написал рапорт и понес его в штаб батальона. Но по дороге встретился посыльный и сказал Макарову, что приехал командир дивизии и зачем-то срочно вызывает его.
Гургадзе встретил Макарова своей неизменной доброй улыбкой, о которой в дивизии говорили: «Улыбка Гургадзе — дороже похвалы».
— Ну, дорогой, могу обрадовать тебя, — сказал он просто, сердечно, и под черными усиками у него мелькнула улыбка.
— Чем, товарищ полковник?
— Э-э, чем? Как будто не знает. В свою часть вернуться хотел?
— Да, но ведь я… провинился там.
— Провинился, верно. Но провинность та надуманная была.
Макаров пожал плечами.
— Не понимаю.
— Все понятно, как в стихах Шота Руставели. Напрасно, говорю, считали ваше поведение проступком. Да что об этом. Теперь это — дело прошлое.
— Как прошлое?
Гургадзе вышел из-за стола, скрипя новыми сапогами, прошелся от окна до порога небольшой штабной комнатенки и по-отцовски положил руку на погон офицера.
— А вот так, дорогой. По-иному все стало.
— Неужели?
— А что же тут плохого? Ведь наши солдаты — представители первой в мире страны социализма! Солдаты самой высокой идеологии! И пусть, как говорят у нас в Грузии, по-братски делятся улыбками, трубками и светлым умом. А чего же? Чем ближе, тем горячее. Не так ли, дорогой?
Макаров готов был расцеловать комдива. Слезы навернулись ему на глаза. Он был несказанно рад, что с него наконец-то свалилось черное пятно. Сразу вспомнился Чуркин, его сухие, как сама инструкция, слова. Как он себя чувствует? Что бы сказал теперь? Э, да разве он не выкрутится, не найдет оправдания своим словам?
— Министр обороны разрешил вам вернуться в свою часть, — сказал Гургадзе и протянул какой-то листок.
— Спасибо, — поклонился Макаров.
— Не мне спасибо, а Бугрову и Ярцеву. Они хлопотали за вас. А я лишь поручение министра выполняю, разрешение вернуться в часть передаю.
Собираясь уезжать, Гургадзе выключил настольный вентилятор, надел фуражку и уже у порога спросил:
— И как вы настроены? Вернетесь или?..
— Думаю, в отпуск съездить, товарищ полковник, вздохнул Макаров, — а там подумаю.
— Ну, что ж… Подумай. Говорят, что все орлы перед полетом думают.
23
В середине лета реваншисты из Западной Германии снова устроили провокацию в Берлине. Слух о ней в тот же час докатился до Грослау, и Эмма тут же прибежала в военный городок узнать, не приехал ли из России Петр. Однако дежурный по контрольно-пропускному пункту, знакомый старшина, сказал, что никто не приезжал. Разве что прямо в Берлин. И Эмма тотчас же села в электричку и поехала туда. О занятиях в музыкальной школе, конечно, не могло быть и речи. Какие там занятия!
Эмма очень боялась войны. Ведь столько было пережито, и особенно во время бомбежек. Почти месяц пришлось сидеть в темном подвале, вслушиваясь в душераздирающий свист бомб, ожидая каждую минуту прямого попадания. В подвале было холодно, сыро и спать можно было только по очереди, потому что из всех щелей выглядывали голодные крысы. Стоило кому-либо задремать, как они набрасывались на оголенное тело и начинали кусать. Заеденных насмерть, кроме больной старухи, никого не было, но дикие крики доносились то из одного угла, то из другого каждый час.
А потом потянулись томительные дни скитаний по очередям за куском хлеба и овсяной похлебкой. Чтобы первым занять очередь, приходилось вставать в три-четыре часа утра. Но и тогда у магазинов, военных русских кухонь уже стояли толпы. Очень тянуло спать и так хотелось есть, что голова кружилась и становилось дурно.
Эмма закрыла глаза и сразу же перенеслась в далекие майские дни 1945 года. В сквере у Бранденбургских ворот дымит военная русская кухня. К ней большой дугой загибается очередь голодных женщин, стариков и детей. Где-то в середине ее с котелком в руке стоит и она — худенькая, очень тихая девочка в рваном пальто. Ей так хочется есть! Под ложечкой нестерпимая боль. Во рту все пересохло. А очередь, как нарочно, движется так медленно, до кухни так еще далеко!
В голове сплошной звон. Все вокруг падает, кружится, кружится… и она вместе с деревьями, очередью, небом, домами валится на мостовую. Над головой что-то громко, наперебой говорят. Кто-то поднимает на руки и куда-то несет. Несет долго, очень долго. И вот она уже открывает глаза и видит этого человека. Он усатый, в рябинах, с печальными, но добрыми глазами. На зеленой пилотке у него красная звезда. Он осторожно усаживает ее за стол, подает стакан воды, ласково гладит по голове, улыбается, что-то говорит лысому толстому повару, стоявшему с большим, как лопата, черпаком в руках. Тот подает котелок с душистой, пахнущей сливочным маслом кашей и тоже улыбается, весело подмаргивает, говорит. Но что, она не понимает. Как жаль! И почему это люди говорят по-разному? Вот диво!
— Никакого тут дива нет, — говорит кто-то громко и зло. — Они просто бандиты.
— Неправда! — вскрикивает Эмма и, разбуженная своим голосом, просыпается от дремоты.
Немолодая женщина, сидящая в вагоне электрички напротив, удивленно смотрит сквозь очки и спрашивает:
— Почему неправда, фройлен? Вы видите, что они сделали с вагонами?
Эмма смотрит в окно. Мимо медленно ползет электричка. На дверях вагонов кто-то вывел грязными в мазуте пальцами фашистские свастики и слово «реванш!».
— Вы видите? — вторично спрашивает женщина.
— Да, — кивает Эмма. Теперь она понимает, кто назван бандитами. Только она бы их назвала не бандитами, а самыми скверными словами, какие только есть на свете. Нет, мало этого, она бы своими руками выцарапала глаза тем, кто это сделал.
Старичок с белой бородкой, похожий чем-то на ученого, чем-то на святого с иконы, грустно посмотрел в окно на проплывающие мимо вагоны.
— Глупый немец. Глупый немец… сам себе могилу копает.
Эмма вспыхнула.
— Неправда! Не все такие. Большинство немцев не хочет войны.
Старичок оборачивается, с любопытством смотрит на вспыльчивую девушку с огненными глазами.
— Разве я об этом сказал?
— Но так показалось.
— Показалось? — Он улыбнулся. — Я поясню свою мысль, фройлен. Немцы сами по себе не кровожадные люди. Они любят землю, труд. Но беда в том, что они слишком быстро поддаются влиянию отсталых и, я бы сказал, бредовых идей. Да, да, фройлен. Горько признавать. Я тоже немец, но это так. Как показала история, наш народ легко уводили в кровавый омут различные заумные авантюристы. А их было немало. Фридрих, Вильгельм, Гитлер, Аденауэр…
Он пересчитал их по пальцам, потом снял очки, сунул их в карманчик легкого парусинового костюма и еще живее заговорил:
— Сейчас, когда колесо истории повернулось и сбросило всех фюреров в уходящие века, нам, взрослым, даже детям, смешны их глупые идеи «чистой расы» и «мирового господства». Но тогда, увы! люди верили в их бред, мало того, лезли за них в огонь. Да и сейчас вот лезут. В чем же причина? А в том, фройлен, что немцу нужно просвещение. Прогрессивное просвещение.
— И палка по голове, — свернув газету, вступил в разговор мужчина лет сорока.
— Палка? — удивленно взглянул старичок. — Нет, позвольте, почему именно палка?
Между ними завязался спор. Каждый доказывал свое. Но Эмма уже не слушала их. Она с тревогой думала о Петре. Где он в эти дни? Там, у себя в России, или, быть может, уже прилетел самолетом сюда?
Электричка плавно подходила к вокзалу. Пассажиры встали. Эмма сквозь плотную толпу протиснулась к двери и первой спрыгнула на перрон.
На привокзальной площади никаких следов беспорядка. К билетным кассам шумно подкатывают такси. Носильщики приносят и уносят дорожные вещи. У подъездов чинно прохаживаются полицейские. Невдалеке под липами стоят три танка. На броне сидят, мирно балагурят немецкие танкисты.
Эмма подошла к ним.
— Скажите, пожалуйста, где мне разыскать русских танкистов? — немного смущаясь, спросила она, обращаясь ко всем.
— А зачем они вам? — лукаво спросил тот, что сидел верхом на стволе пушки и только что наигрывал на губной гармошке.
— Какой ты непонятливый, Карл, — сказал другой танкист. — Фройлен, может, влюбилась в советского паренька.
— В такую и я бы влюбиться не прочь! — воскликнул третий. — Чего стоят одни глаза!
Эмма круто повернулась. (Ей было не до шуток сейчас. Они вот весело балагурят, а у нее…) Властный голос остановил Эмму:
— Девушка!
Она оглянулась. Подошел молодой офицер с пистолетом в скрипучей кобуре.
— Идите к Бранденбургским воротам. Или на Карл Маркс-штрассе. — И добавил с мягким укором: — А на шутку обижаться нельзя.
Долго, очень долго искала Эмма своего Петра. Она побывала и у Бранденбургских ворот и на Карл Маркс-штрассе, но Петра нигде не было.
Мучительная тоска охватила ее. Тысячи людей были на улицах, а ей казалось, что в этом шумном, бурлящем городе она одна, что несчастнее и сиротливее ее нет никого на свете. А тут еще усталость. Почему-то кружилась голова и до нестерпимой боли жгло пальцы ног. С чего бы это? Туфли, что ли, малы? Или просто ноги отдавили в толпе?
Она зашла в сквер, села на скамейку, сняла туфли и, отдыхая, опустила ноги в мягкую, прохладную траву.
— О-о, кого я вижу! Эмма! — раздался чей-то восторженный голос.
Эмма оглянулась и увидела своего учителя музыки — молодого, с белым пушком на губах здоровяка. Он всегда радовался, когда встречал ее. Кое-кто в школе намекал, что учитель влюблен. Но для Эммы это было вовсе безразлично.
— Как вы здесь оказались? — спросил учитель, присев с Эммой рядом. — И отчего бледны? Вам нездоровится?
— Я просто устала.
— В таком случае пойдемте в подвальчик отдохнем, выпьем по чашечке кофе.
Эмма молчала. Она хорошо понимала, что значит это приглашение. Так всегда бывает поначалу. Сегодня чашечка кофе, завтра кружечка пива, а потом другая жизнь и грустные вздохи о первой любви.
24
Однажды стрелянный волк никогда не станет сразу шкодить в том же месте и том же стаде. Он непременно выждет, когда успокоятся, пообвыкнут овцы, забудутся пастухи, и только после этого снова возьмется за старый разбой.
Подобную тактику избрал после разгрома фашистской Германии и полицай Денисий. Вот уже который год сидел он в глухом лесничестве и выжидал, когда высохнут вдовьи слезы, зарастут могилы убитых, сгладятся в памяти очевидцев людские муки, смягчатся сердца у работников уголовных розысков и судей.
Он знал, что русский народ испокон веков отходчив, что пройдет немного лет, и уже не будет у него той лютости к ним — изменникам, притупится людской глаз и мирная волна новостроек, свадеб, хлопот об одежде, еде захлестнет перенесенное горе. Главное — отсидеться. Выжить.
Так оно и вышло. Денисий внимательно следил за газетами, жадно вслушивался в сообщения радио и в душе радовался своему предсказанию. С каждым годом все меньше и меньше судили предателей, все реже и реже появлялись сообщения о поимке, разоблачении их. Да и приговоры были уже не те, что сразу после войны. Тогда почти всех старост, полицаев, доносчиков вешали, расстреливали. Теперь же за подобные преступления лишь приговаривали к большой или незначительной отсидке.
Часто, бродя бесцельно по лесу или коротая нудные вечера в сторожке, Денисий думал о своей судьбе, строил различные планы дальнейшей жизни. Если не подведет здоровье, а оно, слава богу, до сорока пяти еще не подводило, то, пожалуй, можно протянуть до девяноста. В резерве еще полжизни. Где их провести? Здесь? С этими дохлыми старухами? С этой тумбой Варварой? Ни в коем случае! Надо выбрать тихий, милый уголок, купить дом, жениться… Ах, если б на Вазузу, под Вязьму! Нет приятнее местечка. Луга. Соловьи. Рыбешка… Но туда нельзя. Там сразу опознают. Закрыта на родину дорожка. Ну и кляп с нею. Махнем в другие злачные места. Свистнуть бы у Варвары деньжонки. Но как? Где она прячет их, шельма?
Тайник Варвары святой Денисий искал весь месяц. Как только она уходила в лес или уезжала в город, он начинал поиски. Были перерыты все ящики и сундуки, с фонарем в руках осмотрены чердаки и подполья, ощупан каждый узелок и каждая подозрительная тряпочка, перелопачен сад, огород, но кубышку с деньгами словно черт унес.
Неудача разгневала и вывела из терпения Денисия. Однажды за ужином, когда изрядно выпили по случаю удачной продажи меда, он без обиняков заговорил о деньгах.
— По моим подсчетам, почтенная Варвара, у тебя уже скопилось тысяч под пятьдесят.
— И у тебя, святой отрок, не меньше, — язвительно ответила Варвара.
— Откуда же, пречистая? Молящие старушки все натурой носят, яички, молочко…
— Ах, владыка! — покачала головой Варвара. — Ты думал, я слепа и не видела, как ты совал в рукав десятки?
— Когда же, святейшая, подскажи?
— В тот раз, когда сбывали медок на базаре и забитых кур. Может, вспомнишь, как сразу сотню свистнул со стола.
Лицо Денисия налилось кровью. Он все больше распалялся, но сдерживал себя и вел мягкую словесную дуэль.
— Ах, кроткая! — отвечал он, лютуя на расплывшуюся в ухмылке лесничиху. — Стоит ли вспоминать о том. То крохи с барского стола. А коль тряхнуть…
Лесничиха двумя руками отодвинула тарелки от себя.
— Кого тряхнуть? Не меня ли вздумал, зятек?
— Да не мешало бы вытряхнуть тысчонок тридцать.
— О! Да ты, брат Денисий, и вправду на денежки метишь. Не думаешь ли в раю местечко откупить? Домик там из калачей построить, красотку завести, вроде Ленки Плахиной… Глаз не спускаешь, как вижу, с нее.
— Мечтаю, кроткая. Мечтаю.
Лесничиха сунула под нос Денисия кукиш.
— Вот тебе. Не выйдет. И золотом не откупишься, христопродавец. Слишком много крови на тебе. Много жизней загубил, подлюга. За доченьку мою еще не рассчитался.
— А ты?! Ты святая? Сколь в бане сожгла? Припомни!
Лесничиха, развалясь, откинулась к стенке. Страшные в злобе глаза ее косились на нож, торчащий в холодце.
— Может, пойдешь доложишь? Это твоя профессия — предавать.
Денисий вскочил, выхватил из кармана пистолет:
— Молчать! Деньги!
Лесничиха побледнела. Пот крупными каплями выступил у нее на большом плоском лбу. Руки как-то сразу обмякли. Ох, как не хотелось ей умирать, хотя она, не имеющая на жизнь никакого права, прожила после тех сожженных ею девушек вот уже двенадцать лет!
— Сколь хотел, кровопивец? — проговорила с трудом она, трясясь от страха и не владея собой.
— Все! До копья! — не отводя пистолет, потребовал Денисий.
— Все не дам. Половину.
— Все!
— Не дам. Умру, но не дам, Иуда.
Денисий подумал: «Кляп с ней. Пусть отдает половину, а как только покажет, где кубышка, прибью и конец».
— Хорошо. Согласен на половину, — сказал он снисходительно. — Но при мне считаем.
Она встала.
— Идем.
— Куда?
— За деньгами. К горелому дубу. Только возьми лопату.
Они вышли в сени. Не выпуская из рук пистолет, Денисий посветил спичкой и, увидев на полу лопату, нагнулся за ней. В эту же минуту лесничиха бросилась на него грузным телом и прижала намертво к доскам. Теперь она хотела схватить его вооруженную руку, но впотьмах не успела. По уху ей скользнул холодный металл, и оглушительный, самый оглушительный на свете гром вырвал в пустоту ее глаза.
Денисий сбросил с плеч обмякшее тело «сестры» Варвары и прислонился плечом к стене, чтобы передохнуть и сообразить, что делать дальше. Конечно, прежде всего надо убрать убитую Проклу и дождаться зари. Ночью черт его найдет, этот горелый дуб. Их там пять стоит на поляне. Попробуй разберись, под каким кубышка. А на зорьке, как только деньги будут найдены, дай бог ноги, пока не нагрянула милиция.
* * *
В этот вечер Лена раньше обычного кончила работу на ферме. Сегодня обещал приехать с пашни Ваня, и ей хотелось как-то получше встретить его. Еще утром она вымыла полы, прибрала в хате, попросила Архипа истопить баню и сама натаскала туда две кадки воды.
Теперь ей оставалось только сбегать к лесничихе и купить у нее поллитровку. Ваня уже давно, с майского праздника, спиртного в рот не брал, и ей будет приятно, когда он выпьет стопку, крякнет похвально и, как настоящий мужчина, вытрет кулаком усы.
Босиком, раскрывшись, легко бежала Лена по лесной дороге. Росистая трава приятно щекотала ей ноги, мягкий холодок из ключевого оврага обдувал ее оголенные плечи. С придорожных деревьев с шумом срывались угнездившиеся на ночь птицы.
Она бежала и видела перед собой мужа. Прокаленный, усталый, но довольный, он сидит в белой рубашке за столом и по-хозяйски разговаривает с дедом Архипом то о видах на урожай, то о колхозной пасеке… А она все подает и подает им еду. Ведь не зря же она столько всего нажарила, напекла…
Вот и дом лесничихи. Огней что-то не видно. Лишь из дальнего окна уставился на грядку зеленого лука неподвижно-бледный луч.
Лена взошла на крыльцо, тихонько постучала. Никто не ответил. Обождав с минуту, она повторила стук.
Денисий, коротавший время за бутылкой водки, вскочил. Сердце у него чуть не оборвалось, язык онемел, в висках напряженно стучало. Кто это? Зачем? Что делать? Открывать или бежать через двор?
Стук повторился. Послышался робкий женский голос:
— Тетушка Варвара! Откройте.
Денисий облегченно вздохнул:
— Уф-ф. И напугала ж… Принесло тебя!
В начале Денисий хотел промолчать и сделать вид, что в доме никого нет, но вдруг в голову ему ударила шальная мысль. Да это же момент. Единственный момент, когда ее можно взять. А завтра такого не будет и может никогда не быть. Я уже стар, сед, а она… О, господи, помоги!
Торопясь, спотыкаясь впотьмах, Денисий затащил труп лесничихи в чулан, забросал его мешками из-под картошки, закрыл дверь на засов и только после этого впустил Лену. Он готов был наброситься на нее здесь же в сенях, но, побоявшись, что вдруг она закричит и крик кто-то услышит с дороги, рассеянным поклоном пригласил в дом.
Что-то гнетуще-тревожное шевельнулось в груди у Лены. Каким-то странным показался ей этот святой Денисий, у него почему-то тряслись руки и как-то растерянно, неестественно бегали налившиеся кровью глаза. И почему от него пахло водкой? Ведь святые же не пьют, считают это за великий грех.
Предчувствуя недоброе, Лена в нерешительности остановилась у порога. «Нечего мне туда заходить, — подумала она. — Спрошу, где Варвара, и если ее нет, сейчас же уйду».
Жестами и мимикой она начала спрашивать про Варвару. Денисий промычал что-то невнятное и вдруг схватил Лену за ноги и рывком свалил ее на пол.
— Цветок… ягодка-а… — дыхнул он в лицо перегаром. — Я давно… Ублажи…
Лена с испугу оторопела. Она не ожидала от святого человека такого хамства, никогда не думала, что он притворяется немым. А он вот каков, святоша! Вот к чему клонит. Ах, гад! Она подтянула колени и с силой отбросила ногами Денисия. Раскинув руки, он полетел навзничь к печке. Из кармана его выпал пистолет. Пальцы Денисия рванулись к нему. Но Лена кошкой кинулась на оружие, схватила его и, вскочив на ноги, сбив плечом одну дверь, другую, метнулась вон.
Она была уже на дороге, метрах в тридцати от мерзкого, страшного дома, когда с крыльца грянул ружейный выстрел. Секундами позже раздался второй.
Чем-то горячим окатило спину. Лена упала руками в грязь, но тут же вскочила и опрометью, что было сил, пустилась в темноту. Она поняла, что произошло, что принесли ей эти два подлых, безжалостных выстрела, и теперь всем сердцем хотела лишь одного — добежать до дому, увидеть… увидеть хотя бы в последнюю минуту ребенка и мужа, попросить у них прощения, сказать, кто такой этот тихий, набожный Денисий.
Мокрые ветки хлестали ей в лицо, колкие сучья придорожных елей рвали одежду, ноги цеплялись за корневища, тьма, как на горе, еще пуще сгущалась, но она все бежала и бежала на восток, угадывая дорогу по деревьям, знакомым ложбинкам и мосткам, беспрестанно шепча: «Ванечка, Ваня…»
Вот и калитка родного дома. В последний раз открывает она ее. В последний… А завтра… Завтра ее не будет здесь, в этом милом, бесконечно дорогом доме. «Нет! Я не хочу. Не хочу умирать, Ваня-я…»
Она толкнула ослабшим телом дверь в сени, в тускло освещенную лампой хату и, пошатываясь, пошла к столу. Из-за него испуганно вскочил Иван.
— Лена!
Лена упала на руки мужу, лихорадочно, торопясь сказать все, что хотела, гладя его руки, волосы, лицо…
— Ванечка, Ваня…
— Кто тебя? Что с тобой, Лена?!
— Он… Денисий. Вот пистолет. Он враг… Ваня…
Плахин подхватил на руки жену, чтоб положить ее на кровать, но в голове его все помешалось. Страшная мысль о том, что Лена убита и может вот сейчас умереть, вытеснила все остальное, и он решительно не находил ни кровати, ни лежанки и растерянно бегал по хате.
— Леночка… Милая… Родная… Подожди минуточку. Минутку… Я сейчас за врачом. Сейчас…
Он попытался положить ее у стола на лавку, но Лена обхватила его за шею, слезы хлынули по ее бледным, без единой кровинки щекам.
— Ванечка… Миленький. Не надо доктора. Ты не успеешь. Дай хоть напоследок погляжу на тебя.
Она умерла тут же, с руками, сцепленными у него на шее, не произнеся больше ни слова, будто тихо уснула. Глаза ее так и остались открытыми.
Плахин уткнулся в холодное лицо Лены и зарыдал. Много бед обрушивалось на него за каких-то тридцать лет. Перерубленные ноги, грязный суд в районе казались последними из них. И вот… Новое, ужасное горе. Нет самого близкого человека на свете. Нет милой Лены. Уже не обнимут больше ее нежные руки, не услыхать теперь ее голоска ни сегодня, ни завтра… Никогда! О, что может быть страшнее этого горя? И как же это все случилось? Откуда свалилась беда? Да, Денисий. Святой Денисий же убил ее.
Плахин положил Лену на лавку, сгреб со стола пистолет и, выбив ногой дверь, выскочил на улицу, кинулся на дорогу, ведущую к лесной сторожке, и тут же остановился.
Над ближним бором, в километре от Лутош, всполошно металось зарево пожара. К дому Плахиных со всего села стекались люди.
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
1
Каждый год, когда в добрянских садах вырастают горы румяных, заливающих долину пьянящим настоем яблок, а возле них начинают хлопотать подчерненные солнцем девчата-упаковщицы, на пыльной стенке колхозного амбара появляется большой, с полотенце величиной, приказ райвоенкома о новом призыве в армию.
Всяк по-своему встречает в Добрянке эту весть. Старики, прочитав приказ, понимающе качают головами и долго судачат, перебирая по пальцам, кого призовут и как найти замену трактористам и садовникам. Женщины спешат уведомить соседей, а если касается самих, всплакнут чуток, а потом на радостях скажут: «Да уж пора. Хватит им озоровать. А то, чего доброго, поженятся до службы». Девчата, как уже подмечено издавна, сразу грустнеют, становятся тише, мягче и незадиристее. Бери и сватай любую, как говорят мужики. Теперь не страшно быть солдатками. Парни же призывники, наоборот, смелеют, ходят в новых костюмах, нещадно обламывают поздние розы и тревожат лунные сады любовными вздохами и жаркими объяснениями.
На этот раз первым подвалил к только что вывешенному приказу председатель колхоза Дыня. Остановившись в двух шагах и надев роговые очки, он, торопясь, задерживая внимание лишь на сроках явки призывников в военкомат, прочитал текст и почесал хворостиной под околышем соломенной шляпы.
— Да-а, — растянул он огорчаясь. — Еще бы месяцок придержать хлопцев, виноград весь снять в долинах.
На старом, потрепанном мотоцикле подкатил запыленный, седой, как мельник, чистивший жернов, Степан Решетько. Приткнув машину к углу амбара, он сбил кепкой пыль с гимнастерки, сапог, вытер ею же лицо и, чему-то улыбаясь, кивнул на приказ:
— С праздничком, Тарас Тарасыч! С днем призыва!
— Да какой же праздник, — будто бы недовольный, пожал крутыми плечами Дыня. — Таких ребят забирают.
— Да, хлопцы что надо. А послужат — еще лучше станут. Армия — хорошая школа. Так что не огорчайтесь, Тарас Тарасыч, а раскошеливайтесь на радостях. Хлопцев как следует проводить надо.
Дыня вздохнул.
— Да уж придется. На какое вечерок наметим?
Решетько помял запыленные щеки, почесал седую бровь:
— Давайте на субботу, как виноград в Массандру отправим.
— А успеем?
— Поднажму.
Дыня снял очки, бережно сложил их в футляр и, сунув в карманчик парусинового костюма, живо согласился:
— В субботу так в субботу. Только музыка и прочее там веселье за тобой.
— Есть, Тарас Тарасыч! Все будет сделано.
…В тихий субботний вечер все, кто проезжал в эту пору по Симферопольскому шоссе, не могли не заметить под старыми, отяжеленными яблонями в добрянском саду празднично накрытых, сдвинутых в два ряда столов и пестрых нарядов веселящихся под духовой оркестр жителей.
За одним столом, густо уставленным бутылками, вазами с черным виноградом, румяными яблоками, плоскими тарелками с жареной дичью, мисками с дымящимся пловом, смиренно ворковали старики и старушки, женщины средних лет. Тут же теснилась где стоя, где сидя неотвязная ребятня.
За другим, где было меньше бутылок, а больше ваз с розами, сидели парни, девушки и среди них, в конце стола, на самом видном месте Степан Решетько. Одет он был во все военное, как бы нарочито подчеркивая этим свою причастность и любовь к армии. На груди у него переливались серебром и рубином два ордена Славы и восемь свеженачищенных медалей с названием трех русских городов и четырех столиц освобожденной Европы.
Тарас Дыня только что произнес с чаркой в руке свою краткую речь, призвав будущих солдат не подкачать в учебе, блюсти мать победы — дисциплину, назубок знать технику, а коль надо будет — подсыпать всем чертям такого жару, чтоб на том свете тошно было. Его последние слова: «Пусть враг не думает на нашу землю ступить, будем его нещадно бить!» — призывники встретили криком «ура!», старики — одобрительными хлопками, и теперь, выпив по чарке, стали закусывать, повели разговоры.
Степан Решетько, хотя и не промах был выпить, на этот раз только пригубил рюмку и тут же поставил ее на стол. Это заметили призывники, и все разом насели на Степана, заставляя его выпить до дна. Кто-то из парией поставил перед ним налитый до краев граненый стакан.
— Штрафной! За первый отказ.
Степан демонстративно отодвинул стакан.
— Вы, ребята, на это зелье не тово… Не шибко зарьтесь. А лучше не пейте совсем. Ну его к шутам. От него, если хотите, все беды на земле. Сколько от пьяниц пожаров, крушений, увечий, сколько разбито сердец и семей! Сам бог ведь не сочтет.
— Враки! — выкрикнул парень в потрепанной кожаной куртке. — Водочка бодрость придает и смелость.
— Точно! — подтвердил Степан, не желая атаковать в лоб любителя спиртного. — Вот так и со мной было. Хотите расскажу?
— Хотим! Просим! — зашумела молодежь.
— Ну, так слушайте и мотайте на ус. Только чур не перебивать. Я страшно не люблю, когда перебивают. В армии за это по двое суток «губы» дают. Да. Малейшее пререкание — и получай сполна. На всю катушку. А как же! Ослушание — это тропка к преступлению, и потому ее отсекают враз. Поняли? Ну, а теперь о случае. Лет так пятнадцать — двадцать, когда я вот так же, как вы, в холостяках ходил, приглянулась мне в соседней деревне девушка одна. Этакая пташка веселая. Все поет, бывало, все поет… Ну, и приворожила меня, приголубила. Хожу я на свиданье к ней неделю, другую. Конфеты ношу, семечки. Все честь по чести. А тут, чую, другой у нее объявился. Тоже свататься хочет. Я на дыбы. Разбушевался, как океан. Дело до конфликта дошло. Ультиматум ей предъявил. «Решай, — говорю, — Фрося, он или я. Не доводи нас до смертоубийства». И что ж… Подумала, погадала она и говорит: «Будь на то моя воля, за обоих бы пошла. Уж дюже вы хороши. Но коль первый ты ко мне привязался, первым и будешь. Приходи сегодня, как стемнеет. Я тебя на крылечке обожду. А не придешь… дам согласие другому».
— Вот так любовь! — хихикнул чернобровый парень.
Степан погрозил пальцем и продолжал:
— Ну, дождался я сутемок, надел новый костюм и поскорей к шинкарке, прыти себе придать. Выпил один шкалик, другой… Мне бы, дураку, на этом и кончить, дорога-то неближняя, километров десять с гаком. Но куда там! Еще выдул шкалик для пущей храбрости. Другой в карман прихватил и за околицу. Прытко пошел, словно дьявол на крыльях меня понес. Куда и лужи делись, колдобины. А тут и деревня вскорости. Та же деревня, где Фрося моя живет. Те же знакомые амбарчики, садочки… Но что за оказия? Хаты той, убей гром, не узнаю. Сунусь туда — крыльцо не то. Поверну сюда — горожа другая. А тут еще собаки стервужные, чтоб им тошно было. Будто их черт всех разом с цепей спустил на меня. А в рваных штанах мне ни в каком разе в доме невесты появляться нельзя. Выломал я, значит, кол и двинулся напропалую. Иду по улице и возле каждой хаты тихонько окликаю: «Фрося! Ягодка моя… Ты где?» Молчит моя Фрося. Не отвечает. И спросить у людей не могу, потому как только и знал, что ее Фросей зовут. Что делать? Как разыскать невесту? Сел на бревна, волосы рву на себе. А потом вдруг в голову стукнуло. Дурья башка! Да у Фроси ж на князьке крыльца петушок из железа. Тут тебе и искать нечего. Лезай туда, и, коль он там, получай свою Фросю. Я под навес. Лестницы нет. Под руку старая борона подвернулась. Взвалил ее на спину и к крыльцу. Быстренько так слазил, общупал — нет петуха. Значит, не Фросина хата.
— Как же вы лазили? — спросил один из парней. — Вы же были совсем пьяны.
— Э, брат. Я перед тем трижды голову в роднике мочил. А так бы, конечно, я не лазок. Да слушай дальше. Иду я с бороной к другому крыльцу, а на нем крыша, чтоб ее черти ломали, щеповая и вся в гвоздях. Рукой негде ухватиться. Так и вонзаются в пальцы. И штаны, чую, трещат. Но что делать? Не терять же Фросю из-за штанов. Набрался я терпения, лезу. Выше… Выше. За князек уже пальцами уцепился. И вдруг, чую, калитка скрипнула подо мной. Баба вышла по нужде. Но, думаю, сейчас минуту постоит и уйдет. Ан нет. Стоит баба и ни в какую. Ей-то что. Стой себе. А мне без движения никак нельзя. Я на весу распластан, как Иисус Христос. Ну, держался я, держался и грохнулся задом вниз. На бабу прямо угодил.
— На бабу?
— Да. Она: «Караул! Воры!» А я через забор да в коноплю. Сижу, бока ощупываю, дырки на штанах считаю. Как быть? По князькам теперь я не лазок, конечно. В паху колет и руки в крови. И тут пришла мне на память еще одна примета. Стояки-то на крыльце у Фроси резные!
— От чудные! — всплеснул руками чернобровый. — Что ж вы сразу не сообразили?
— Э-э, парень! Разве спьяну сообразишь. Скажи спасибо, что про это вспомнил. Кинулся я как угорелый к избам и ну стояки на крыльцах облапывать. Один, другой, третий, и бац тебе — резьба! Знакомая резьба с завитушками. Сердце мое так и екнуло. От радости дыханье сперло. Обхватил я стояк и ну целовать завитушку. А потом к окошку кинулся, где Фрося спала. Стучу ей тихонечко и шепчу: дескать, выходи. Это я пришел. Твой Степаша. Ну, окно отворилось и мужская голова как рявкнет: «Какую Фросю, баранья башка?» — «Вашу Фросю. Дочь вашу, — отвечаю. — Она невеста моя. Я ее жених». Покачал он головой и уже тихонько, ласково говорит: «Снял бы я тебе штаны, милейший жених, да вжарил крапивой. Ну да шут с тобой. До утра проспишься». — И захлопнул окно. А я в пузырь. Опять стучу и уже не пальчиком, а кулаками. За что оскорбили, мол?
У нас с Фросей уговор насчет свадьбы был, и если мы поженимся, то вы, тестек дорогой, еще попомните. Я вам отплачу за этот черствый прием. Вижу, сжалился тесть. Сенцы открыл, меня в хату зазывает и прямо к столу: «Добро пожаловать, милый зятек. Значит, к Фросе пришел?» — «Точно так, — отвечаю. — Жить без нее не могу. Отдайте мне в жены ее. Век буду благодарен». — «С радостью, — говорит, — отдал бы, но не могу». — «Как не можете? Почему?» — «А потому, милейший, что ни у меня, ни во всей нашей деревне Фроси и в помине нет». — «Как нет? — вскочил я. — Что же ее, черти вместе с красотою съели?» — «Никто ее не ел. Просто ты, басурман, попал не в ту деревню».
— Как не в ту? — грянули голоса.
— А вот так, ребятки. Большаки я спьяну перепутал. Вместо Васильевки в Соколовку попал.
— В Соколовку? — встрепенулась курносая девчонка, сидевшая с чернобровым.
— Точно. Прямо туда и угодил.
— А как же Фрося?
— Фрося, — усмехнулся Решетько. — Эх, хлопцы! Да какая же дура за пьяницу пойдет?
— Но вы же не пьете?
— Это уже в армии выбили дурь из головы. Отрезвили. Вот и вам, ребята, без пяти минут солдаты, мой строгий наказ: спиртного ни на зуб. Иначе могу предсказать, что вас ждет. Шофера — кювет и поломанные ребра. Танкиста — волчья яма или болванка в бок. Стрелка — трясучка рук и несраженные мишени. Сапера — смерть или костыли. — Степан взглянул на притихших девушек, подморгнул им. — И во всех случаях, конечно, стопроцентная потеря синеглазых и курносых. Нет им расчета с пропахшими водкой дружить. Трезвых хлопцев непочатый край. Так, что ль, глазастые?
— Так! Верно, Степан Назарыч! — дружно отозвались девушки.
Мальчишки-школьники, вволю насластившись сдобами, конфетами, пирожками с медом, лениво отвалили от столов, не торопясь, поснимали с яблонь луженые закатным солнцем трубы, деловито, как заправские музыканты, стали на лужайке в ряд. Большеухий Ленька — дирижер поднялся на тельпух, взмахнул прутком, и оркестр нестройно, хрипло грянул что-то похожее на солдатский вальс.
Призывники, увлекая своих любимых, поспешили на лужайку. Невыпитые бутылки одна за другой перешагнули на соседний стол к пожилым.
2
Говорят, что есть в армии люди, которые с необыкновенной легкостью покидают свою часть и перекочевывают в другую, тут же позабыв и благословенные места, и своих старых друзей.
Что ж, может, такие где-то и есть, но для полковника Бугрова покидать дивизию, где он прослужил двенадцать послевоенных лет, было мучительно тяжело, хотя и знал он, что на новом месте его ждет высокая должность и больше всяких житейских удобств. Сейчас как-то по-особому воспринимался и этот захолустный городок, и скупая, богом обиженная природа вокруг него, и почернелые от солнца люди, живущие в нем. Странно было представить, что, может, уже не придется шагать вот так ранним утром по этим булыжным мостовым, не доведется видеть вот этого чумазого старика, развозящего по улицам на ишаке грохочущую бочку и выкрикивающего «Гей, керосин!», не посчастливится больше любоваться горами, синеющими на горизонте, и вдыхать на ранних зорях их свежий, с привкусом цветов и снега воздух.
Всякое бывает. Закружит тебя житейская завируха, и рад бы куда-то съездить, вспомнить былое, но нет… Летят дни, уходят годы, а ты так и не едешь, пребываешь в щемящих душу мечтах.
…Военный городок, куда привела Бугрова узкая, с каменным забором улочка, еще спал, готовый вот-вот всколыхнуться и загудеть от топота тысяч сапог. Только у ворот КПП лениво шаркал метлой дневальный, да у навеса, где стояли пушки, звучно мерил бетон часовой. Цок, цок, цок — позвякивали подковки на его каблуках, и полковнику вдруг показалось, что это часы времени отсчитывают ему, Бугрову, последние минуты пребывания в этом южном городке.
Остановившись на холме, он обвел прощальным взглядом военный городок. Совсем недавно здесь шумел верблюжник и ветер зло срывал палатки, засыпал песком спящих солдат. А теперь большой улицей протянулись каменные-казармы, склады, гаражи для машин. На соседнем взгорье высятся белые колонны столовой, гарнизонного клуба. И перед каждым зданием стена зелени, ковер цветов.
Бугров подошел к серебристому тополю, взметнувшему в синь кинжальное острие, дружески похлопал его по стволу.
— Прощай, старик! Прощай. Эка вымахал ты! А помнишь, как из фляжки я тебя поил? То-то, брат. Смотри у меня. Не сдавайся ветрам.
Бугров сворачивает в аллею. Густая тень укрывает его. Молодые деревья стоят ровными рядами, как солдаты на строевом смотру. Каких тут только нет! И полтавские тополя, и одесские акации, и смоленские березки, и сибирские пихты, и уральские рябины, и валдайская черемуха, и сухумские пальмы, и подстриженный под ерша крымский лавр… Целый ботанический сад. Сотни кустов, деревьев. И почти о каждом Бугров мог бы рассказать, когда он тут появился, кто его вырастил и вынянчил.
Вот эта голубая ель цвета морской воды — крестница лейтенанта Кулькова. Он привез ее с Южного Урала к годовщине службы в полку. Кудрявая черешня — память молдаванина Григору. Он вырастил ее из косточки. А эта молодая мушмула — подарок бабушки своему племяннику Байбатову. Каждый житель городка счел своим долгом посадить тут дерево, оставить живую память о себе. И она осталась на долгие годы…
Шагая по аллее, Бугров трогал ветки, гладил толстые, уже окрепшие стволы, кивал им, подмаргивал и обращался, словно к солдатам:
— Здорово, сержант Голощапов!
— Добрый день, Муковоз Василь!
— Ну, как поживаешь, дубок Кулюшин? Не жарко тут тебе? Крепись! Не сгибайся ни в какие бури. Стой. А я вот, брат, уезжаю. Покидаю всех вас.
Он подошел к синей скамейке, сел, снял фуражку. Жалко расставаться. Да, в сущности, что жалеть. Все это остается людям. Таков земной закон. Одни создают, другие пользуются. Человек всю жизнь что-нибудь осваивает, корчует, создает. Вначале пользуется этим сам, а потом и другие. Ну, конечно, одних поминают добрым словом, а других и упрекают. Придут лет через тридцать новые люди, посмотрят на дела наших рук и скажут: «Эка дерьма понастроили. Не могли побольше никеля, стекла». А мы-то и тогда получше могли. Могли, дорогие потомки, но у нас не было из чего. Все приходилось экономить, добывать с трудом.
Бугров смотрит на выложенные из грубого камня казармы, и, улыбаясь, дает мыслям другой поворот.
«А пожалуй, нас не будут ругать. Нами будут восхищаться. На нас будут равняться, про нас будут слагать сказы. В каких условиях жили, сколько тягот перенесли, а в какой чистоте носили сердца! Фашисты вон имели зеркальные казармы, носили крахмальные манжеты. А как были свиньи, так свиньями до погибели и остались. Наш же солдат и в латаной, нестираной рубашке оказался чище их».
Докурив папиросу, Бугров бросил окурок в урну, встал:
«Да, большая это штука — делать светлыми души людей. Пожалуй, нет этого прекрасней. Вот если бы спросили: „Не устал ли ты заниматься этим, товарищ Бугров? Не наскучило ли это тебе?“ Нет, не устал, не наскучило. Если б было сто жизней, и все сто с радостью бы отдал воспитанию людей. Тянет к ним. Сросся с ними. Придется ли так на новом месте? Что там меня ждет?»
Мягко шурша покрышками, подкатил политотдельский «газик» с желтым чемоданом на заднем сиденье. Водитель-солдат быстро вылез из машины и вскинул руку к шляпе с красной звездой.
— Товарищ полковник, машина подана!
— Хорошо. Поехали.
Бугров сел рядом с шофером, и машина, круто обогнув фонтан и миновав ворота, понеслась к железнодорожной станции.
— Не опоздаем? — спросил Бугров.
— Нет, что вы, — ответил водитель. — Вам, товарищ полковник, еще минут пятнадцать на чашку чая останется.
— Да, попить чайку не мешало бы, — согласился Бугров. — Если буфет открыт, зайдем позавтракаем.
— Да и закрыт — не беда, — улыбнулся во все загорелое лицо водитель. — В вашем поезде есть вагон-ресторан.
«Ресторан, — вздохнул украдкой Бугров. — Самый лучший ресторан был дома. Уселись бы сейчас всей семьей за круглый стол и, подшучивая друг над другом, начали бы чаевничать. Жена бы подкладывала пирожки с вареньем, а дочери подливали чай, но… Они теперь уже чаевничают под Москвой у бабушки. А может, уже позавтракали и умчались по грибы?»
Так думал Бугров по дороге на станцию. Но едва он прибыл туда, как сразу понял, что ни о каком чаепитии не может быть и речи. Возле серого здания с тремя деревянными колоннами, обвитыми диким виноградом, стояла толпа офицеров, приехавших на пяти легковых машинах. Тут были работники штаба, политотдела, кое- кто из подразделений, несколько женщин с букетами, и среди них сторожащим журавлем возвышался комдив Гургадзе.
Из округа пришла телеграмма, что в гарнизон приезжает ансамбль песни и пляски, и Бугров обрадовался, что однополчане так тепло встречают гостей. Вот только машин маловато. Как же они все усядутся? Приедет, поди, человек двадцать пять.
Он сошел с машины, распрощался с шофером, напомнив ему про обещание пригласить на свадьбу, и шагнул к комдиву, только что вышедшему из толпы.
— Давид Георгиевич! Что ж вы автобус не взяли?
— Какой автобус? Зачем? — с мягким грузинским акцентом воскликнул Гургадзе.
— Артистов везти.
— Артистов? Да они же вечером будут. Мы вас приехали провожать.
— Меня? — Бугров смущенно и оторопело остановился. Вчера обошел всех, распрощался и вот те на! Привалили даже с цветами.
Комдив взял его под руку:
— А ты не смущайся. В подхалимах ходить не будем. Провинишься — на высокий чин не поглядим. Прочистим с песочком. Так я говорю, товарищи офицеры?
— Так! Конечно!
Бугров, улыбаясь, развел руками:
— Ну, что вы, товарищи! Разве так можно? Не успел пост занять, как уже чистить собрались.
— А это не вредно, — продолжал шутить комдив. — За чищеный кувшин дороже дают. Проученный конь быстрее на гору летит. Но мы верим, Иваныч, не быть тебе битым. Верим! Ты беркут старый. Сумеешь высоко летать.
— Ну, спасибо. Благодарю, товарищи, — здороваясь, пожимая руку каждому, растроганно отвечал Бугров. — Неохота покидать вас. Чертовски неохота. Схватить бы вот всех, — он широко раскинул руки, — в охапку и в дорогу… с собой.
Комдив заслонил плечом жену — такую же высокую, тонкую и остроносую, как сам, шутя, пригрозил пальцем.
— Эн, нет. Только не Илико. Она мне самому нужна. — И провел ребром ладони по горлу. — Вот так, кацо.
Илико прижалась плечом к Бугрову:
— А если уеду!
— Пустой трюк, — махнул рукой комдив. — На дне морском найду.
Простецкий разговор командира с начальником политотдела сразу развеял стеснительность, и вот уже посыпались шутки, напутствия, обещания не забывать.
Увидев в толпе Ярцева, Бугров обрадованно подошел к нему:
— Сергей! И ты здесь?
Ярцев, подавляя грусть, улыбнулся.
— А как же, Матвей Иванович. Такой случай. Может, видимся в последний раз.
— Почему?
— Сами знаете. На земле не сочтешь дорог.
Бугров положил руку на плечо Сергея:
— Увидимся. И не единожды, как говорят.
За дальними постройками раздался разлетный, зовущий вдаль гудок паровоза. Все тронулись на перрон. Комдив поднял руку:
— Стоп! Присядем, друзья.
Все кинулись к одинокой скамейке, облепили ее со всех сторон. Комдив и Бугров сели рядом на чемодан, обняли друг друга.
3
Осень рано сорвала листву с деревьев. А еще поспешней, вовсе не к сроку закрутил, запорхал в стылом небе снег. В одну ночь прикрыл он белым саваном поля, крыши жилищ, ометы соломы, налип толстым слоем на заборы, телеграфные провода. Застигнутые врасплох грачи утром всполошились и с беспокойным гвалтом потянулись на юг.
От Лутош к лесу пролег первый полозный след. Обогнув куст ивняка в залужье, сани плавно прочертили кривую по пригорку и остановились у сосновой рощицы, обнесенной от скота жердевым забором и давно обвалившейся, поросшей елочками канавой.
За этой неказистой оградой, меж корявых сосен, в тихом земном покое стояли немые памятники отшумевшей молодости, оборванных страстей, несбывшихся мечтаний, недожитых зорь, недоцелованной любви.
Памятники эти были по меньшей мере скромны и как бы говорили, что ушедших тут не особенно почитают, что, видно, у живых так много земных забот, что им некогда присмотреть за крестами. И потому одни из них уже покосились, полусгнили и держались только при помощи бурьяна и веток. Другие поражали своей убогостью: необтесанные, сбитые наспех из кусков досок, поленьев. Мягкий снег запушил их, будто надел на них белые нательные рубахи. Сюда, к этим белым распятьям, потянулось от саней два человеческих следа. Один — большой, с отпечаткой подошвы сапог. Другой — совсем еще детский, с рисунком подшитых в носке и пятке катанок.
Петляя меж сосен, следы привели к редкому, низкорослому ельнику, за которым можно было сейчас же увидеть и тех, кто пришел сюда в этот студеный час. Они стояли у могилы с неказистым, метра в два высотой, обелиском, плотно сбитым из досок и покрашенным под цвет неба. Вершину обелиска венчала красная звездочка. На ней висел венок из васильков и ромашек. Цветы уже завяли, высохли, но на фоне снега казались живыми, будто сорванными недавно. У подножия обелиска, на холмике, лежала свежая веточка хвои и гроздь ярко- красной, спелой рябины.
Человек в шинели поправил лапку хвои, снял с холмика оброненную дятлом шишку и, распрямившись, чуть откинув назад голову, медленно стянул через правое ухо заснеженную шапку. Стоявший с ним рядом мальчонка хотел проделать то же, но пошарив по голове и не найдя на ней шапки, молча и виновато затих у серой полы шинели. Однако вскоре ему надоела эта непонятная неподвижность, и он, подойдя к обелиску и сняв с правой руки варежку, стал рисовать на снежной стенке незамысловатые крестики и кружочки.
Мужчина же стоял не шелохнувшись, откинув назад голову, закрыв глаза, будто сейчас его жестоко пытали, и он, не желая показывать свою слабость, принял эту гордую осанку. Хлопья снега падали на его исхудалое, с резко выступающими скулами лицо. Падали и не таяли, лишь налеплялись все гуще и гуще.
В этом человеке нетрудно было узнать старого солдата Ивана Плахина. Он приходил сюда то один, то с сынишкой и подолгу стоял у холмика, под которым непробудно спал самый дорогой для него человек на свете — его милая Лена. Сколько бы ласковых слов сказал он ей сейчас, очнись она хоть на минуту, как бы берег секунды, чтобы побольше побыть с ней, будь она жива! Только теперь он всем сердцем понял, как жесток был с ней в Иркутске, как часто засыпал раньше времени, когда ей хотелось пошептаться, поговорить. Он бы отдал полжизни за те потерянные минуты, но теперь уже ничего не вернешь. Как скверно, что жизнь не возвращает упущенных минут, что человек бессилен повторять пройденное! Когда-нибудь, может, научатся возвращать свой возраст, может, не будет нежданных смертей и человек станет жить, сколько захочет. Но сейчас… Какую же лютую кару надо придумать тем, кто губит жизни, когда срок их и без того ничтожно мал! Где теперь этот гад в образе святого Денисия? К чьей душе подползает с ядовитым жалом? Прости нас, Лена, что мы их не добили. Прости, что не уберег тебя, сдурел от тишины и забыл закон солдатский — держать всегда оружие наготове. Проверить бы гада, вывернуть все его нутро, а мы посмеивались, принимали предателя за глухого чудака. Партийную организацию бы создать в колхозе, поднять на религию комсомол, а мы… Эх, Плахин, Плахин! Какой же ты к лешему коммунист?
Сынишка тронул за рукав:
— Пап! Ну чего мы тут мерзнем? Пойдем…
Плахин вздрогнул, подхватил сынишку на руки и, целуя в озябшие щеки, быстро понес к саням. Мальчонка еще не знает, что под старой сосной лежит его мать — «мамочка милая», как он ее называет. Ему не сказали об этом, чтоб не плакал, не терзал свое маленькое, еще не окрепшее сердце. Пусть думает, что мать уехала к бабушке в город и скоро вернется. Подрастет — все узнает.
— Пап, а чего у тебя на щеках слезины? Чего, а пап?.. — спрашивал он, растирая пальцем слезы по лицу отца.
— Да это так, сынок. От мороза, — отвечал Плахин.
— А почему нет у меня слез от мороза? — шарил он ладошками по своим румяным щекам.
— Ты еще маленький. Глазки твои, как огоньки, горят.
— А у тебя?
— А у меня старенькие уже. Не греют.
— А у мамы какие?
— И у мамы, как огоньки. Садись-ка. Ух, ты тяжелый какой!
Плахин усадил сына в передок розвальней, укутал его овчинным тулупом, поправил под соломой пилу, топор и тронул вожжами застоявшегося, облепленного снегом коня.
4
У каждого человека есть на земле свое благословенное вместо, которое он любит, перед которым преклоняется. И куда бы ни забросила его судьба, какие красоты бы он ни видел, он остается в своей привязанности неизменным, и ничто не в силах заслонить ему то, что полюбил однажды.
Таким близким сердцу местом была для Сергея Ярцева Москва. Он не думал о ней каждый день или час, как об этом пишут иные журналисты. Этого не было. Суетная армейская жизнь часто надолго уводила его от приятных воспоминаний. Но уж когда навеивалось былое, Сергей с упоенной грустью припоминал столичные улицы и площади, Большую Пироговку, где когда-то жил, березки подмосковные, под которыми пришлось встретить не одну зарю, реки в ивовых, черемушных обметах и самых красивых, самых веселых московских девчат, на которых не грех было засматриваться холостяку.
Четыре года не был Сергей в Москве. Почти полторы тысячи дней не слыхал ее шума, не видел ее улыбки, ее обнов. И потому, не дожидаясь места в гостинице ЦДСА, сдав чемодан в камеру хранения, сразу вылетел на улицу.
И что за чудо эта Москва! Минутой назад была усталость, вялость в ногах, но вышел на улицу — и нет ее. Птичью легкость придала она всему телу, омолодила дух и вот уже закружила, завертела, понесла в людском потоке по улицам и площадям.
Похорошела столица после войны! С центральных улиц сняты трамваи, и вместо них, цвинькая проводами, бегут троллейбусы. В бараньем стаде легковых машин нет больше ни одной трофейной колымаги. Мчатся серые и голубые «Волги», «Победы». Светлее и опрятнее стали дома. Одни из них подпудрены, другие подлатаны, а кое- где поднялись в вымытую синь красавцы новые. Вдоль тротуаров зазеленели, подпоясанные белыми тесьмами, молодайки липы. У Кузнецкого моста вместо разрушенного бомбой дома раскинул разноцветные шатры огромный пивной бар. Быстрые, как бабочки, девчата в белых чепчиках и коротких фартуках подносили к столикам янтарно-пенистое пиво.
Сергей шагнул под один из грибков, но сейчас же круто повернул назад. За крайним столиком, где он хотел выпить кружку пива, сидела Ася. Она ела из вазочки мороженое и восхищенно-благодарными глазами смотрела на масляно прилизанного парня с черной челкой усов.
Случись это четыре года назад, Сергей не выдержал бы, подошел и, наверно, наговорил бы всяких глупостей. Но теперь… Двоякое чувство охватило его. Ему было противно видеть Асю с этим холеным, высокомерным юнцом, типчиком, хотя он вовсе и не ревновал ее теперь ни к кому. Но в то же время и обрадовался, застав ее с ним, увидев ее влюбленные глаза. Теперь уже не оставалось ни капли сомнения в выдумках Нади. Никаких приветов и поцелуев не посылала Ася. И не вздыхала, и не лила слез по ночам. Это всё чувства Нади. Все, что писала, происходило с ней.
«Ах, Надя, Надейка! Какая ты скрытная. Как надолго зажала сердце в кулак. Ну погоди ж… Оттаскаю тебя за уши».
На углу Сретенки Сергей остановился.
«Может, зайти на фабрику, попросить, чтоб отпустили ее сейчас? — подумал он. — Нет, пожалуй, не стоит. Не будем нарушать уговора. Встретимся в шесть, как в телеграмме сказал. А сейчас… Зайду-ка я в редакцию к Николе Бирюкову. Давно не видал его».
Редакция военной газеты, как и в прежние годы, располагалась в старом здании, построенном в бедные годы, после гражданской войны, когда было не до архитектурных красот. Узкая, щербатая от сапог лестница вела на второй и третий этаж, где в маленьких комнатках с низкими потолками ютились сотрудники и начальство.
На втором этаже, в первой оправа комнате горбился над статьей чубатый офицер в зеленой рубашке. Китель его, с протертыми локтями, висел тут же на стуле. Русые растрепанные волосы сердито топорщились, будто он только что с кем подрался.
Сергей подошел к столу и дернул газетчика за чуб.
— К вам можно?
Бирюков вскочил.
— Сергей! Тысячу зим!
Друзья обнялись, взаимно помяли кости, сели друг перед другом за стол.
— Что злой, как демон? — спросил Сергей, уловив в глазах Бирюкова неугасший огонь. — Аж позеленел, бедняга.
— Статью вот готовлю, черт бы ее драл. Несусветная муть. Ни одной свежей мысли. Ни умного слова. Сплошная тарабарщина. Жвачка сонной коровы. Ты только послушай, послушай, пишет как. «Наша задача состоит в том, чтобы постоянно будировать вопросы, изучать их и ставить во главу угла». Ты понимаешь, печется о чем? Не работать, а будировать вопросы. Ставить их во главу угла. Да это же осел! Законченный канцелярист! Да я бы таких тупиц, безмозглых пней без пенсии увольнял, дня на высоком посту не держал бы. Но вот, сидят и пописывают. Вернее, мы за них пишем. — И потряс листами.
— Но зачем же тогда печатать такую статью? Это же чужие мысли! Обман читателей. Они же не знают, что тут у автора лишь подпись одна.
— Привычка, брат. Привычка на чужом коне в рай въезжать. Обленились некоторые, обомшели, как сомы, не хотят своим умом шевельнуть. Зачем? На то подчиненные есть. Редакция. Там все сделают, подправят, к пустым словам умные мысли приставят. А придет опубликованная статья, знаешь, что будет?
— Что?
— Подхалимы с поздравлениями потянутся в кабинет. «Ах, Петр Тимофеевич! Какую статью вы дали! Какие мысли в ней! Указаньице б дать, чтоб прочитали да совещаньица провели». А в высшем штабе у многих тоже глаза на лоб. «Ба! Братцы. Да как же мы такого умного человека на низшей должности держим? Повысить его. Из него же мудрость прет».
Сергей усмехнулся.
— Присочинил, Никола. По одной статье о человеке не судят.
— Зачем по одной? Ему десять напишут, на блюдечке принесут. «Петр Тимофеевич, массы жаждут вашего слова». «Петр Тимофеевич…» Тьфу. Тошно. Вот тут болит. Э-э, да пошли они… Ты как тут объявился? В отпуск или вызвали?
— Работать приехал. Снова в управление.
У Бирюкова поднялись брови.
— В управление? Но ты же… И почему майор? Кажется, подполковником был?
— Не помню.
— Нет, ты шутишь…
— Нисколько. Назначен вместо Зобова.
Бирюков вскочил.
— Ну, молодец! Молодчина! Но поздравлять не буду. Нет. Назначение надо обмыть. Сегодня же опрыснуть.
Сергей встал.
— Согласен. Но только не сегодня.
— Уже в кусты?
— Никогда.
— Верю. Верю, Серега. Ты не из таких, чтоб по кустам. Ты где решил остановиться?
— В гостинице ЦДСА.
— А может, ко мне? Жинка с дочуркой рады будут.
— Спасибо, Никола. Но мне лучше в гостинице побыть.
— Почему?
Сергей дружески прижал Николая к плечу, доверительно прошептал на ухо:
— Я буду не один.
— Ах, вот оно! Ну, тогда конечно. У-у, старый холостяк.
Они простились на Пушкинском бульваре, дав друг другу слово скоро увидеться. Бирюков отправился доделывать статью какого-то Ляшко, а Сергей зашагал на набережную к Крымскому мосту, где была назначена встреча с Надей.
До шести вечера оставалось еще полтора часа, и потому Сергей шел не спеша, теперь уже всматриваясь в лица москвичей — молодых мамаш, степенных старичков и старушек, занявших все скамейки, милых парочек, гуляющих по бульвару.
Миновав Крымский мост, Сергей вышел на набережную Москвы-реки. С этим уголком столицы у него были связаны очень теплые и грустные воспоминания. Здесь, где когда-то тесно жались убогие каменные домишки, но было разгульно широко и малолюдно, он впервые, подоткнув полы длинной кавалерийской шинели, в краснозвездной буденовке начал шагать в строю. Этой набережной много раз проезжал на тактические учения на гнедом дончаке. Сюда в летние дни приходили похвастаться перед девчонками звонкими шпорами и черными ножнами клинков. И хотя теперь тут все изменилось — вместо домишек выросли многоэтажные дома, а поляны бурьяна превратились в зеленую аллею, Сергей все же узнал многое, и сердце его грустно защемило. Ему вдруг захотелось хотя бы на минуту перенестись в предвоенный год и увидеть Васю Артюхова, Колю Черенкова, командира отделения Божко, взводного рубаку Наконечного, улыбчивого, доброго политрука Лукьянова, усатого старшину Фетисова. Услыхать бы сейчас горластый басок комэска Алексея Ивановича Антонова… Но нет… Этому не быть. Размела, разнесла метель войны незабываемых людей. Где они, те красные кавалеристы кавбригады, чьей выправкой и дисциплиной любовалась майская, октябрьская Москва, те, кого забрасывали цветами московские девчата? Жив ли кто из них?
Позади послышался тонкий звон шпор. Сергей обернулся. Вдоль аллеи, не спеша, сняв старую кавалерийскую фуражку, шел седой человек с большущими, как у Буденного, усами, одетый в военный китель без погон.
До него было шагов пятьдесят, но Сергей сразу же узнал его. Узнал по чуть кривоватым, как и у многих кавалеристов, ногам, по огромным вразлет усищам старшину своего эскадрона Фетисова и, задыхаясь от неожиданной радости, кинулся навстречу, словно к родному.
— Фетисов! Товарищ старшина! Да вы ли это?!
— Ярцев?! Мать честная! Хоть одну живую душу встретил. И надо же…
— Как одну? Говорят, Кудря жив. Комбриг Калмыков, Дрожжин, Кузьменко, Нагорный, Афонин…
— Кудря? Да что ты говоришь? Вот радость-то какая! Вот радость. А я совсем было заскучал. А в первый день и всплакнул малость. Пришел в казармы. Гляжу. Не узнаю. По плацу, где к парадам готовились, улица пролегла. Слева дома в огнях, машины бегут… Господи, думаю, увидели бы наши конники это! Как бы возрадовались. Но нет их. Многих нет, Сережа. Одних война, а других…
Сергей взял легонького Фетисова под локоть.
— Присядем, Елизар Фомич.
— Да, да. Посидим чуток. Потолкуем. Радость-то какая! Ах, боже мой! Как брата… Самого родного…
Они сели на скамейке, обернувшись друг к другу, и теперь Сергей, уже не торопясь, разглядел Елизара Фомича. За тринадцать лет он очень состарился. Его ровесники выглядели гораздо моложе. Бросалась в глаза сплошная седина волос, иссохлость лица и глубокая обида в глазах. Да и говорил он уже не так бойко, как раньше, а как-то тихо, по-стариковски. И Сергей невольно подумал о том, как круто, видно, кидала этого кавалериста безжалостная судьба. Он весь истощен, морально убит, и только какая-то неведомая сила держит его на этом свете.
— Так я и говорю, — продолжал Фетисов. — Гляжу на ворота казармы, и кажется, вот откроются сейчас они и выедут на белых конях наши: Калмыков, Доватор с оркестром, со штабом, а за ними и мы… эскадронцы. Зацокают копыта. Грянет команда: «Шашки!» Ан нет. Ни одного кавалериста, ни одного коня. И такая боль за душу взяла, что, верь слову, разрыдался. Стою и рыдаю. Нервы не сдержали, что ль. А тут дежурный подходит: «Что с вами, папаша?» Рассказал я ему. Он под руку меня. «Идемте, отец. Разрешаю вам по бывшим кавказармам походить. Сам до сих пор свою солдатскую вижу во сне».
Фетисов пригладил пальцами усы.
— Ну, походил я, на коновязи постоял (там теперь лишь ржавые дощечки с кличками коней остались), в каптерку свою зашел, постоял у койки, с солдатами покалякал, и отлегло от сердца. Другие «кавалеристы» служат ноне. Другие «кони» в конюшнях стоят.
— Да, все теперь иное, — подтвердил Сергей и спросил: — Как же войну провели? Где были, Елизар Фомич?
Фетисов встал.
— Долгий сказ, Ярцев. Долгий, братец. Как-нибудь расскажу. Вижу, тут поблизости служишь?
— Да. Ну, а вы где? На пенсии? На работе?
Фетисов с гордостью подкрутил усы:
— Наездником, в кавалерии!
— В кавалерии? Какой кавалерии? Нет же ее.
— Для кого-нибудь нет, а для меня нашлась. В спортивном эскадроне ЦДСА я главный наездник! Ну, будь здоров, дорогой. Увидимся. Поскакал.
Он, как и когда-то, лихо звякнул шпорами, взял под козырек и повернул за угол.
Сергей улыбнулся. «Чудесный старикан! Как хорошо, что я встретил его. Будет теперь с кем вспомнить о конниках. Вообще удачный сегодня день. Две хорошие встречи и вот… — Он посмотрел на часы. — Через восемь минут еще одна — самая приятная. Интересно, как выглядит теперь Наденька? Подросла или все такая же, по плечи мне?»
— Товарищ майор?
Сергей оглянулся. В трех шагах от него на спичечно-тоненьких ножках, несколько передутым кувшином стоял одряблый, пенсионного возраста полковник. Глаза его, привыкшие повелевать, сердито горели.
Почуяв недоброе, Сергей стал по команде «смирно».
— Слушаю вас, товарищ полковник!
— Вы почему не приветствуете меня?
— Прошу извинения. Замечтался.
Кувшинчик подошел вплотную.
— Вам кто разрешил говорить?
Сергей пожал плечами.
— Вы же сами спрашивали, почему я не поприветствовал вас.
Кувшинчик повернул к Сергею ухо.
— Кричите громче. Я не слышу.
Сергей прокричал:
— Я прошу извинения. Замечтался.
— Нет, нет. И не просите. Извинения не будет. У меня время свободное есть, и я поведу вас в комендатуру.
«Черт меня дернул не заметить, — выругал себя в душе Сергей. — И надо же случиться такому! С минуты на минуту должна быть Надя. А он в комендатуру. Нет, он не поведет. Только стращает. Я же ничего плохого не сделал. И потом извинился».
Однако Кувшинчик вовсе и не собирался отпускать своего «пленника». Он давно, как видно, соскучился без войск, без команд и теперь, заполучив зазевавшегося подчиненного, спешил отвести душу на нем.
— Одерните китель! Станьте ровнее! — командовал он. — За мною шагом марш! Да ногу выше, ногу, а не то я сяду на скамейку и буду вас два часа строевым гонять.
«Этого еще не хватало, — подумал Сергей. — Помилуй бог, Надя увидит. Сгоришь со стыда. Нет, надо его упросить. Сказать об этом. Ведь сам же был молодым, должен понять».
— Прошу извинения, товарищ полковник. Но я тороплюсь, — заговорил Сергей, поравнявшись с пружинно семенящим Кувшинчиком. — У меня свидание. Важная в жизни встреча.
— И великолепно! Тем более. Будет лучше наука.
— Но поймите…
— Мне нечего понимать…
— Нельзя же так…
— Вот именно нельзя.
— Но зачем вам я? Возьмите адрес. Телефон…
— Не учите. Ишь!..
Лихорадочно думая, как поступить, самовольно повернуть назад или продолжать упрашивать, Сергей шагал за Кувшинчиком. Солнце клонилось к закату. Небо к ветру пламенело. Неожиданно Кувшинчику на шею кинулся какой-то грузный мужчина в брезентовом костюме с рюкзаком и удочками за спиной.
— Сереня! Дьявол! Ты где пропадал?
— Как где? Работаю. Тружусь. Вкалываю, как говорят.
Грузный хихикнул:
— Ги-ги. Вкалывает. Гляньте. Я на пенсии двадцать лет, а он… мой ровесник все вкалывает… Ну, умора!
Кувшинчик, храбрясь, расправил плечи:
— Те, те. Не больно. Мы еще послужим…
— Да какая служба с тебя? Опенки в пору сушить. Небось сидишь, и работа на ум не идет. Думаешь, как бы радикулит погреть поскорей.
Кувшинчик ткнул приятеля пальцем в живот.
— Кхы… тебя. Забодай козел. Как поклев?
Толстяк сдвинул шапку на затылок и, захлебываясь от восторга, начал рассказывать о том, как и где клюют окуни, на что берет щука и какой ушлый пошел карась.
Видя, что этому не будет конца, Сергей взял под козырек:
— Товарищ полковник! Разрешите мне идти?
— Вам?
— Да!
Кувшинчик опять ткнул толстяка в живот.
— Ты видал чудака? Видал? Подошел и ни с бухты барахты: «Разрешите идти?» Да кто же вас держит? Кто?
Сергей еле сдержал себя. Злость и досада резанули по сердцу. Он понял, что у Кувшинчика кроме дурости, глухоты еще и склероз.
Но время было упущено. Нади не оказалось.
* * *
Подстреленной птицей почувствовала себя Надя, когда не встретила в назначенный час Сергея. Так волновалась, так торопилась на свидание! И вот… Он не пришел. Она ждала его десять минут, двадцать и тридцать, но все напрасно. Как-то сразу опустились руки и тяжко стало на душе. Теперь никуда уже не надо было торопиться, не нужно посматривать на часы и вовсе незачем поправлять пряди волос, спадающие на глаза. Пусть лезут! Теперь уже все равно.
Она выбрала подальше от людей скамейку, безвольно села и задумалась. Имеет ли девушка право на риск, на большое ожидание? Имеет, если он ее любит. Имеет, если он серьезный человек и думает по-серьезному. Но ведь бывают в жизни такие случаи, когда сердца совсем близко, но подобно тому, как не могут слиться рядом текущие реки, не сходятся и они. На что же надеяться тогда? Ждать, когда грянет стихия и разрушит эту преграду, или самому пробиваться вперед?
Конечно, можно было так долго не прятать чувства свои, открыться раньше, но жалко было Асю, верилось, что она и Сергей помирятся. Лишь когда стало совсем ясно, что мира не будет, стала в открытую писать сама. Ася злится, упрекает, говорит, что в счастливой рубашке родилась. Но знала бы она «рубашку» эту. Сколько горя перенесено! Сколько кололи глаза: «Дочь врага!» Да и теперь… Не эта ли причина, что Сергей не пришел? Узнал, что отец как «враг народа» расстрелян, и не пошел. Были же случаи, когда отказывались от самых близких и родных. Нет, Сергей не такой. И время не такое. Он не пришел но какой-то другой причине. Но по какой? Заболел? Задержался в гостинице? Напутал время? Все могло быть. А увидимся ли завтра? На чем бы загадать?
5
Вот и снова Германия.
В теплые сумерки возле латаного кирпичного дома центральной улицы Грослау остановилось легковое такси. Из передней дверцы его вышел молодой человек в парадной форме офицера Советской Армии. В руках у него был большой букет цветов, связанных красной лентой.
Попросив водителя обождать, офицер поправил фуражку, китель и направился в дом. Однако, отворив калитку и войдя в палисадник, он растерянно остановился. Навстречу ему шел молодой немец с белым пушком на губах, одетый по-домашнему в байковый халат и войлочные тапочки.
— Извините. Вам кого? — спросил он, слегка поклонившись.
— Я… Я хотел бы видеть девушку, — ответил сбивчиво офицер.
— С удовольствием, но в нашем доме девушек нет. Все замужние.
Офицер покачнулся. Бледность разлилась по его лицу. В глазах отразилась боль. Но он сейчас же подавил в себе растерянность и бойко взял под козырек.
— Извините. Я, кажется, ошибся домом.
— Пожалуйста. До свидания.
Офицер вышел из палисадника и, не оглянувшись, забыв о поджидающей его машине, тихо побрел по тротуару. Теперь, как видно, ему уже не нужен был другой дом.
У газетного киоска с ним нос к носу столкнулся старый немец, который нес какие-то кульки, коробки и бутылку вина.
— Мой бог! — воскликнул он. — Петр Макаров! — И выронил покупки. Бутылка вина ударилась о камень и разлетелась на мелкие кусочки.
— Здравствуйте, товарищ Пипке, — сказал офицер, подняв кульки и коробки. — Бутылка вот… Но не жалейте. По нашей русской примете — это к счастью.
Пипке печально вздохнул.
— Э-э, какое же счастье! Вы вот приехали, а она… Замуж вышла. Не дождалась вас. Хороший человек попался. Учитель… музыкант. Но… — Пипке опять вздохнул. — Отец все видит, все знает. Любит она вас. Вспоминает, герр офицер.
Он немного помолчал, грустно думая, качая головой, и вдруг горячо заговорил:
— Но и это счастье. Большое счастье видеть вас, знать, что не обманули, что вы порядочный человек. Постойте же. Одну минутку. Я позову ее. Она так будет рада!
Петр Макаров остановил Пипке.
— Прошу вас. Не надо. Так будет легче и мне и ей.
Пипке обмяк. Глаза его влажно блеснули. Устроить свидание — это все, что он мог теперь сделать для этого доброго, честного офицера, для своей безумно влюбленной дочери. А офицер вот и тут поступил, как порядочный мужчина, не поддался силе чувств.
— Но, может быть, вы желаете ей что-нибудь сказать? Говорите. Я передам. Обязательно передам, — чуть не умоляя, попросил Пипке.
— Пожелайте ей счастья, — сказал Петр. — И передайте цветы.
Он протянул букет, пожал вконец растроганному Пипке руку и, повернувшись, надвинув на глаза козырек фуражки, широким шагом направился к такси.
Пипке молча стоял на тротуаре и смотрел вслед машине. Красные маки — стоп-огоньки — быстро таяли в сумерках, уносили столь близкого человека к другому порогу.
6
В ту ночь, после встречи с Кувшинчиком, Сергей долго не мог уснуть. Его мучило не столько то, что он не встретился с Надей (завтра он пойдет к воротам фабрики и увидит ее), а жег стыд за бодрящегося Кувшинчика. Решением правительства в армии проведено большое сокращение. В запас кое-где уволены даже и средних лет офицеры. Армия зримо омолодилась. В частях уже не увидишь пенсионного возраста людей. А этот… Как он остался? Каким чудом избежал всех штатных сокращений? И один ли он там? Может, здесь произошло, как с рыбой? Средняя, что на поверхности, в невод попалась, а та, что покрупнее да похитрей, перепрыгнула через него или отлежалась на дне? Могло, конечно, быть и так и этак. Но совесть… Где же совесть у них? Неужели этот Кувшинчик не понимает, что ему давно пора на покой, что своим старческим видом и глупыми поступками он бросает тень на светлый день? И знает ли об этом министр? Все ли ему доложили о выполнении приказов? Эх, если бы встретиться еще, рассказать обо всем! А может, он и без меня знает, да все недосуг. Дел-то сколько у него! Ведь целая революция в армии идет. Меняется техника, перековываются люди… До отдельных ли Кувшинчиков ему! Это мы должны наседать на них. А что, собственно, наседать? Такому надо вежливо и честно сказать: «Уважаемый, вы отслужили свое. Хвала и честь вам. Добро ваше не позабудется. Но теперь вы уже стары, руки ваши вялы, ум сонлив, и в век молниеносных действий, электронно-вычислительных машин, видит бог, не справиться вам. Нужен свежий ум, горячая энергия… Так что уступите- ка местечко. Мать-боеготовность просит вас. Мы понимаем, вам неохота со службой расставаться, боязно до слез. Но что поделать? Таков закон жизни. На смену вам придут молодые орлы. Они понюхали пороху и в частях, и в стенах академий. Так что будьте покойны. Всего доброго вам! Отдыхайте, уважаемый ветеран, ловите рыбешку, собирайте грибы, а будет время, милости просим к нам на трибуну. Расскажите молодым солдатам про осажденную Одессу и непокоренный Ленинград, не скупитесь передать безусым офицерам ваш бесценный опыт. Поклон вам будет от них и первая чарка на свадьбе…»
Свадьба… Когда же будет твоя свадьба, Сергей? Сколько же ты будешь холостяковать, назначать свидание и мучиться, что оно не состоялось? Не пора ли с этим кончать? Пора. Давно пора! Только вот как она — Надейка? Готова ли к этому шагу? И не рухнет ли все это, как уже дважды рухнуло раньше? Медсестру Веру и теперь вот вспоминал с нежной грустью, много раз пытался представить, какой бы она стала. С ней и встретился бы, как с другом. А вот взбалмошную Асю видеть не хотел. Тошно на нее смотреть. Тошно, а придется. И не только с ней. Завтра же предстанут все те свиные рыла, которые копали яму. Интересно, как они поведут себя? Как будут смотреть в глаза? Э-э, да шут с ними! Разве в них толк? Главное — увидеть своих настоящих, больших друзей: Корчева, Серегина, Бородина… Они, поди, знают. Ждут… А может, их там уже нет?
Так, радуясь, гадая, Сергей и уснул в своем маленьком номере гостиницы ЦДСА.
…Утром чуть свет, как и было задумано, он подъехал на такси к проходной ткацкой фабрики. Ночная смена только что окончилась, и на улицу повалили усталые, но улыбчиво-веселые девчата. Одна за другой соскакивали с крыльца они. Черненькая… Беленькая… Смуглая… Дородная женщина в коричневом берете. И вот она… в синем платьице с белой горошиной, ясноглазая, с ямочками на пухлых щеках, легко скакнула на тротуар и звонко зацокала каблучками туфель.
— Надя!
Девушка оглянулась. Краска смущения разлилась по ее лицу. В глазах мелькнула радость.
— Сергей!..
Она подбежала к Ярцеву.
— Здравствуйте. А мы вчера с Асей ждали вас.
— Извини, Надюша. Не смог.
— Ой, зачем же извиняться? Я ничего… а вот Ася. Она так вас ждала… так ждала…
Сергей вспомнил, где и с кем была вчерашним вечером Ася, улыбнулся, не сводя с девушки глаз.
— Так, так. Значит, ждала?
— Ой, — притворно вздохнула Надя. — Ася вас очень, очень…
Сергей взял девушку за руку.
— Ну вот что, милая «Ася». Едемте со мной.
— Куда?
— В машине скажу.
Девушка, теряясь от смущения, согласно кивнула темными кудряшками и послушно юркнула на заднее сиденье такси. Сергей уселся рядом, с силой захлопнул дверцу:
— Поехали!
Водитель обернулся.
— Куда прикажете?
— На площадь Коммуны. В гостиницу ЦДСА.
Надя вскочила:
— Ой, что вы? Зачем? Остановитесь!
Сергей обнял девушку, ласково привлек ее к себе.
— Да не пугайся. Поможешь мне в комнате хозяйский порядок навести.
7
Гостей на свадьбу к Сергею собралось немного. Пришел полковник Литвинов с женой, Николай Бирюков, две девушки с фабрики — подружки Нади и Василий Иванович — отставной генерал. Последний был очень тронут приглашением Сергея и, поздравляя его, долго тряс руку и бормотал:
— Благодарствую. Рад. Премного рад. Тронут, что не забыли. И мы тут вспоминали. Дрались за тебя. Я лично к Семену Михайловичу… И вот они. Как же…
— Спасибо. Большое спасибо, товарищ генерал, — сердечно благодарил Сергей. — Я тоже рад вас видеть. Как здоровье?
Генерал крутнул белый ус и показал большой палец.
— Отличное! Как у гусара. Подводи коня — и готов скакать. А вот вы, милейший конник, что-то похудели. Да-с… А впрочем, это вполне естественно. Хлопоты, заботы. Да-с…
Генерал повесил у порога фуражку, причесал у зеркала редкие, белые, как одуванчик, волосы, оглядел маленький номерок гостиницы, перегороженный сдвинутыми столами, укоряюще покачал головой.
— А-я-яй! Теснотища-то какая. Девушкам негде потанцевать. А у меня-то квартира! Может, ко мне?
— В тесноте, да не в обиде, — улыбнулся Сергей и подвел генерала к Наде: — Прошу познакомиться. Моя жена.
Генерал галантно, по-стариковски раскланялся, поцеловал руку Нади, тронул ее за плечико белого платья.
— И не страшно за военного?
— Нет, — тряхнула черной прядью волос Надя. — У меня папа военным был.
— И молодчина! Ошибки не будет. Но крепко, крепко, — генерал потряс кулаком, — держи его под уздцы.
Веселый, неугомонный Литвинов, принявший добровольно роль тамады, захлопал в ладоши.
— Товарищи! Внимание! Икра усыхается, водка выдыхается. Прошу к столу.
— А вдруг да еще гости будут? — выкрикнул Бирюков.
— Нет! Все в сборе, — успокоил Сергей и принялся рассаживать гостей, но Литвинов подтолкнул его в спину:
— Иди-ка, братец. К невесте иди. А то выпить не дадут и невесту уведут.
Сели за празднично убранный, уставленный бутылками и цветами стол. Литвинов разлил вино и водку, первым поднялся с бокалом в руке.
— Дорогой Сережа! Милая Надя! Речей длинных не будет. Обнимаем и поздравляем. Счастья вам непочатый край! Сладких поцелуев миллион. А нам… — он отпил глоток водки, — нам что-то горько.
— Горько! Горько! — закричали гости.
Сергей и Надя встали. Краска стыдливости заливала их лица. Это было самое трудное — целоваться вот так, у всех на виду. Но, видимо, и этим еще в далекой древности как-то проверялась прочность любви. Если не любишь человека, тебе не составит особого труда поцеловать его. Ты окажешься безразличен, и краска смущения не хлынет тебе в лицо. У Сергея и Нади же самая придирчивая, подозрительная сваха не нашла бы и намека на подделку или душевный холодок. Они поцеловались так любовно, что девчата потупили очи, а генерал тронул ус и восхищенно крякнул:
— Да-с… Вот это молодцы!
После первой чарки оживились. Пошли разговоры, расспросы, комплименты жениху и невесте, воспоминания о том, о сем…
Генерал сразу же подсел к Сергею и, как когда-то на выпускном вечере в ЦДСА, привычно взял его за пуговицу кителя.
— Уж теперь-то про случай с конем я тебе расскажу. Не забыл о нем? А?
— Нет. Что вы, товарищ генерал, — улыбнулся Сергей. — Помню, конечно. Надюша, давай послушаем. Очень интересно.
— С удовольствием, — прижалась к плечу Сергея Надя.
Польщенный вниманием невесты, генерал подкрутил усы.
— Так на чем же мы в тот раз остановились?
— Вы рассказали, как на коне прогарцевали по столу.
— Да, да. Было такое. Было! Это как раз в тот день, когда громили банду Шкуро. Пышен был беляковский стол. Бутылки в три ряда. Поросята жареные, колбасы, начиненные сливами гусаки… Жалко добра, да что поделать. Ни пить нам, ни есть некогда, да и нельзя. Влетел я в дом на коне, пришпорил его да как гарценул — все со стола и посыпалось. А потом команду «В ружье! По коням!» подал. Ребят моих как ветром сдуло. Вмиг в седлах оказались. «Веди нас! — кричат. — Даешь Воронеж!» Ну, и повел я эскадрон. Врезались мы в гущу беляков, как черти рубились. До пят шкуровцев полосовали. И вдруг… кто-то хвать меня по башке. Я с коня долой. Круги зеленые в глазах пошли. Мелькнула мысль — конец. Отвоевался. Но нет, очухался. Продрал глаза, слипшиеся от крови, гляжу. Над головой звезды, темень кругом. Тишина. Только ветер в дуле карабина свистит. Попробовал встать. Не могу. Сил нет. Кровью, видно, изошел. А мороз в степи крепчает. Снегом подуло. Ну, думаю, крышка. Замерзнешь ты тут, Василий Иванович. А помирать никак не хочется. С беляками не сведен счет… Ну, стал я этак ворочаться, потихоньку ползти. И вдруг слышу, кто-то дышит в затылок мне. Обернулся. Конь! Мой вороной стоит. Мать честная! Спаситель ты мой! Схватил я за челку его, как человека, целую, глажу его. Смотрю, ложится. Рядом ложится со мной. Вы понимаете?
— Да, это редкость, — подтвердил Сергей. — Не всякий конь с навыком таким.
— Вот именно! Именно, голубчик мой. Сам лег и как бы сказал: «Влезай потихоньку, повезу». И влез я. Лег поперек седла. За подпруги уцепился, как клещ. Вези, говорю, вороной, выручай.
— И куда же он вас? — спросил Бородин.
— Слушай дальше. До сих пор все думаю, как он меня из-под носа беляков увез. — Генерал опять взял Сергея за пуговицу кителя. — Вы представляете? Кругом беляки. Костры их горят и там и тут… Коней тьма-тьмущая. А он не только сообразил, где чужие, но и привез к своим. Прямо в свой полк, в свой эскадрон. Вот это был конь! Да-с. Нет теперь таких коней. Нет! Всю кавалерию низвели. Я понимаю, что так надо. Время иное… А все же жалко. Не могу забыть…
Генерал потряс седой головой, отвернулся и, достав из кармана платок, стал шумно сморкаться, украдкой промокая глаза.
Сыновней близостью прониклось сердце Сергея к старому генералу. Он по-настоящему понял, что это за человек, как велика его любовь к своему отшумевшему на полях сражений роду войск. И Сергею вдруг стало стыдно, что он когда-то считал этого добрейшего легендарного человека назойливым чудаком. А «чудак» этот вовсе не чудак. Все бы вот так любили службу свою!
Сергей поднял бокал:
— Товарищи! Я предлагаю тост за героев гражданской войны, за славных буденновских рубак!
Руки потянулись к бокалу растроганного и повеселевшего генерала.
— Долгих лет!
— Кавалерийской бодрости!
Тихо распахнулась дверь, и на пороге появился в новой генеральской форме Бугров. В руках у него была коробка шоколадных конфет и бутылка шампанского.
— Добрый вечер! Гостей еще принимают?
— Конечно! С радостью. Милости просим, — зашумели гости.
Сергей выскочил из-за стола.
— Товарищ генерал! Матвей Иванович! Какими судьбами? Вот не ожидал!
Бугров улыбнулся.
— Ты что же думал, шило в мешке утаить? Солнце в кармане упрятать? Не вышло, брат. Земля слухом полна. Выдали тебя дружки с головой. Да и сам я… — Бугров тронул кулаком воображаемые усы. — Гм-м, разведчик еще неплохой. Я же в одной гостинице с тобой живу.
— Вы? Здесь?
— Конечно. На втором этаже.
Литвинов кивнул на Бугрова.
— Это ваш новый начальник управления кадров. Вместо Захарова.
Сергей еще больше смутился.
— Вы извините. Я вовсе не знал. Всего три дня, как в Москве.
Бугров усмехнулся.
— Три дня, а какую нашел! Поздравляю. И вас… Простите, кажется, Надей звать?
Невеста встала.
— Надя, товарищ генерал.
— Хорошее имя. Обнадеживающее. Примите вот… — Он протянул невесте коробку конфет. — Чтоб жизнь негорькой была. Шампанское, конечно, дамам, а вам, жених… — Он вынул из кармана полковничьи погоны. — Носите. Вчера министр приказ подписал. Не только старое звание восстановил, но и новое присвоил.
Все закричали: «Обмыть! Обмыть их!», и генерал, все еще не садясь за стол, налил себе стопку водки.
— Дорогой Сергей! Теперь уже товарищ полковник, — сказал задумчиво он. — Еще по одной звездочке прибавилось на твоих погонах. Красивые это звезды. Но и нелегкие. Помни и не забывай. На них всегда лежит груз большой ответственности перед партией, перед народом.
* * *
В начале весны Сергей и Надя Ярцевы выехали в Крым на отдых. За одну ночь пересекли они в экспрессе равнинные дали и уже в полдень другого дня были в предгорье Черного моря.
Молодожены впервые попали в эти места, и оттого все здесь им показалось поразительно дивным. В Центральной России еще мели снега, трещали по утрам морозы, а тут уже густела трава с проклюнутыми белыми цветками, пылили, как летом, горные дороги, торчали в гнездах на тополях хвосты грачей, в жарком исступлении заливались черноперые скворцы, приятно пахло дымком садовых костров, прогретой землею. Разойдясь по долине, девчата подстригали растрепанные косы роз. По разрядьям виноградника тащились тракторы.
На окраине растянутого вдоль шоссе села, где горная речка изломно подмывает к насыпи, шофер-таксист остановил свой лимузин.
— Привал, товарищи, — сказал он, выйдя из машины, и с котелком в руке направился к воде.
— И надолго? — спросил Сергей.
— Минут на пять, не больше. Водички попью да стекло обмою. Разомнитесь малость.
Сергей и Надя вышли на обочину, любуясь природой, остановились у небольшого, круто сбегающего к речке вишневого сада, за которым сейчас же матово белел на солнце каменный дом с голубыми окнами и такого же цвета расписным крыльцом. В саду и окрест держалось зовущее все живое к жизни благословенное тепло. Ничто не двигалось в прозрачном воздухе. Не качалась ни одна веточка, ни один стебелек. Клин журавлей с курлыканьем перевалил через заснеженные горы. В дубках метнулся черный дрозд.
Но вот в доме скрипнула дверь, и в сад сыпанула горласто-крикливая детвора. Впереди шагал с каким-то похожим на ракету монопланом мальчишка лет двенадцати с красным галстуком на шее, за ним курносая полная девчонка лет десяти, а следом двигалась целая ватага босоногой белокурой, темноволосой, разного возраста ребятни. Они прыгали, толкались, что-то просили. Видно, им тоже хотелось ракету понести. Ну хотя бы подержаться за ее перистый, как у рыбы, хвост. Но мальчишка был неумолим. Он гордо нес над головой свое детище с надписью «Доброе — Венера» и никого не подпускал.
— Колхозный детский сад, — кивнул Сергей. — Делом занимаются ребята.
— Ты что, Сережа? Возраст-то какой! Не детсадовский. Это скорей всего Дом пионеров.
— А я спрошу сейчас.
— Да зачем тебе? Вот любопытный!
Сергей остановил мальчишку.
— Это что здесь? — кивнул он в сторону дома. — Детский сад или пионерский дворец?
— Не-е, — удивленно пожал плечами мальчишка. — Это мы здесь живем.
Подумав, что, может, здесь размещен детский дом, Сергей опять спросил:
— Кто «мы»? Точней говори.
— Ну, мы. Решетьковы.
— Решеть-ко-вы? — изумился и чертовски обрадовался Сергей. — А отца вашего… Как отца зовут?
— Ну, Степаном, — растерянно ответил мальчишка.
— А это все твои сестренки и братишки?
— Конечно. А чьи же…
Сергей толкнул плечом калитку, ворвался в сад, потрепал подступивших к нему девочек за банты, волосенки и заторопился в дом.
У крыльца стоял спиной к дорожке низенький квелый мужчина в серой кепке, натянутой на уши, и белой рубашке, засунутой в рваные брюки, обляпанные краской. У ног его виднелось ведро с розоватой глиной, и он старательно мешкал ее не то палкой, не то самодельной кистью. Но вот он повернулся лицом, и Сергей мгновенно, хотя так давно и не виделись, узнал в этом состарившемся, поседевшем человеке своего бывшего солдата Степана Решетько. Степан же, прекратив работу и часто моргая, некоторое время смотрел на бегущего в дом полковника, гадая, по каким таким делам пожаловал к нему такой чин, но вдруг кисть и ведро выпали у него из рук и он, все еще не веря в чудо, прошептал:
— Господи! Неужто?
Однополчане обнялись. Руки Степана от волнения дрожали. По небритым и морщинистым щекам катились слезы.
— Товарищ командир… Сергей Николаич, — только и говорил он задыхаясь. — Вот уж не ждал! И во сне не спилось. Катря! Катюша! Да глянь же… Глянь, кто пожаловал к нам.
Из дома выбежала в белой косынке, клеенчатом фартуке, надетом поверх белого платья, раскрасневшаяся Катря. Щурясь от яркого солнца, она глянула из-под мокрого, в белой пене локтя и воскликнула:
— Ой, мамоньки! Товарищ капитан!
— Да какой же капитан? Очнись, Катюша, — рассмеялся Решетько. — Полковник он.
Катря, сбегая с крыльца, смутилась.
— И правда! Лет-то сколько прошло! Ну, здравствуйте. Здравствуй, Сергей Николаич. Давай же поцелуемся хоть в жизни раз. Ведь я тебя любила…
— Слыхал? — кивнул Степан. — От шельма баба… А мне все трубит: «Лишь одного тебя». А сама…
Катря отмахнулась:
— Да то ж особая любовь, чертушка ты рыжий…
Степан увидел идущую в сад молодую женщину в сером костюме и фетровой шляпке.
— А это кто же?
— Как кто? — оглянулся Сергей. — Жена моя, Надюша.
Степан разгладил серо-рыжую щетину.
— Баш на баш, браток. Ты мою поцеловал, а я твою в отместку.
Шофер протяжно засигналил. Сергей, раздавая обступившей детворе прихваченные в дорогу конфеты, заторопился. Степан тронул за локоть его.
— Вы куда?
— Едем отдыхать. На море, Степан.
— Нет, так не пойдет. Костьми лягу, а из сада не выпущу, — твердо заявил Решетько. — И не погляжу, что вы полковник, а я сержант. Вы на моей территории, а значит, тут комендант гарнизона и старший начальник я.
— Но шофер… машина, — пожал плечами Сергей.
— Что машина?! Да тут машин, как баранов. А окромя автобусы, троллейбусы идут. Да я вас на любом транспорте доставлю.
Сергей переглянулся с Надей.
— Ну, как? Останемся? Или…
— Никаких «или»! — крикнул Степан и побежал к таксисту.
А не дольше как через час радушные хозяева большой семьи угощали в саду своих дорогих гостей. Степан по этому торжественному случаю надел новый костюм и нацепил на него все фронтовые награды и орден за труд. Как и на фронте, он был весел, говорлив, не переставая рассказывал о Крыме, чудесных виноградниках, красных розах, которые выращивает колхоз и лучше которых в районе нет. Беря то одну, то другую бутылку с золотым игристым вином, расписывал его достоинства и при каждом удобном случае расхваливал за хозяйственность и подаренных ребятишек Катрю. А та, довольная, смущенная (все-таки возраст за сорок!), только локтем толкала его.
— Да сиди же. Сиди!
— И как же вы здесь заземлились? — поинтересовался Сергей. — Оба, как помню, не крымские.
Степан кивнул на Катрю.
— Она вот затащила. Тетка у нее тут жила.
Катря обняла одной рукой Степана.
— Откроюсь, Степушка. Сподманула я тебя.
— Как сподманула? — подскочил Степан.
— Да никакой тетки у меня и не было.
— Как не было? Ты что? — Глаза у Степана расширились.
— А вот так и не было. Когда я тут воевала, место больно понравилось мне. Хаты были пустые… Ну вот, чтоб тебя завлечь, про тетку и сморозила.
Степан всплеснул руками:
— Ах, чтоб тебя! Вот и верь тут бабам.
За разговором, подвыпив, Степан вспомнил своего дружка Ивана Плахина, присмирев, взгрустнул.
— Эх, хотя бы глянуть на него! Поговорить чуток. Как он там, Ванюха? Друг закадышный мой…
Сергей, выпив рюмку, рассказал печальную историю о Плахине. (Видел он его раз в Москве. Мальчишке одежонку приезжал покупать.) Рассказал и пожалел об этом. Оглушила, совсем состарила эта горькая весть Степана. Поник он, подпер кулаками голову.
— Вот как… Вот как судьба нас мордует, — вздыхал он. — Кусают змеи подколодные праведных людей. Кусают…
«Да, много еще несправедливостей на земле, — подумал Сергей. — Одни сеют добро, берегут его, чтобы вот так пробуждались сады, чтобы звенели детскими голосами дома. Другие — в бешеном безумстве сеют зло, льют кровь, как короеды, подтачивают людское здоровье. Поймут ли когда они, как ничтожны и подлы были их поступки? Знают ли эти сеятели зла и смерти, что ни сейчас, ни через сотни лет никто не помянет их добрым словом, что их могилы зарастут проклятием и чертополохом? Дай бог, чтобы поняли. А не поймут, полезут… Громить их будем. Смертным боем бить!»
Сергей встал, поднял над головой бокал с искрящимся вином:
— Давайте выпьем за этот шумный дом! За синеву над ним. За честных, стойких в битвах и сеющих добро людей!
Солнце сплелось в бокалах. В распушенной до слепящей желтизны кустистой вербе, приткнувшейся к забору, неистребимо, ликующе гудели пчелы.
Москва — Рязань.
1962–1965 гг.

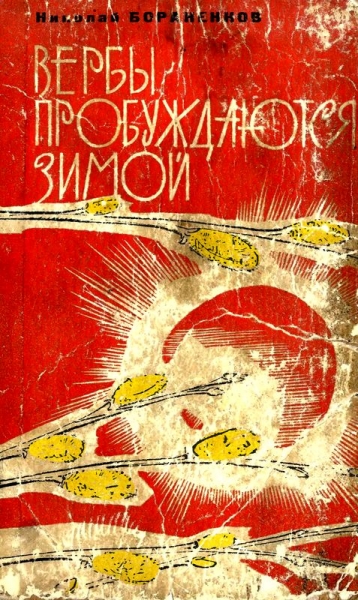
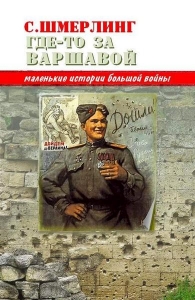



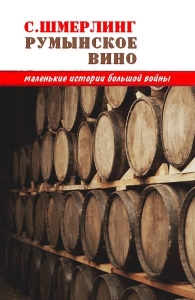

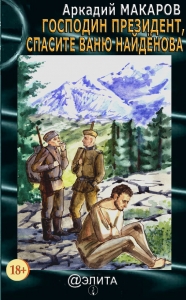

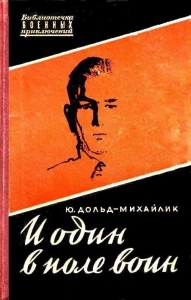

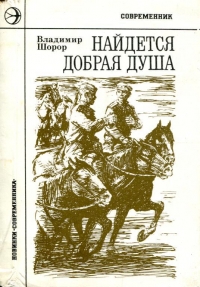

Комментарии к книге «Вербы пробуждаются зимой», Николай Егорович Бораненков
Всего 0 комментариев