Кирилл Голованов Море дышит велико
PОМAH
ЛЕНИЗДАТ
1983
…Живёт в сутках две воды большая и малая, или «полая» «кроткая». Эти две воды — дыханье моря. Человек дышит скоро и часто, а море вели́ко: пока раз вздохнет, много часов пройдет…
Когда полая вода идёт на малую, от встречи ходит волна «сувой».
Борис Шергин, «Двинская земля»ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. Шилом море не нагреешь
Глава 1. Вопросы по тактике
Тишина не бывает одинаковой. Она похожа на воду, все качества которой — жёсткая или мягкая, пресная или горько-соленая — зависят от примесей. Артём Чеголин различал нервный шелест страниц. Тридцать человек в тишине класса листали конспекты. Это была нетерпеливая, взрывчатая тишина.
Артём тоже листал свои тетради, которых накопилось так много, что они едва втискивались в специальный парусиновый чемодан. Он листал их, поглядывая на входную дверь, поскольку была его очередь дежурить по классу. Когда дверь наконец распахнулась, пропустив сухощавого «капраза» в тужурке при всех орденах, Чеголин подхватился было скомандовать, но не знал как. По-старому: «Встать! Смирно!..» — уже неловко. На верхней кромке чёрной доски рядом с сегодняшней датой: «25 апреля 1947 года» — дразнилось меловыми буквами неоконченное слово: «л-е-й-т-е-н-a-н…» Восемь букв — восемь экзаменов, итоговых за выпускной курс и государственных. Возглашать по-новому: «Товарищи офицеры!» — тоже пока нельзя. Последняя буква из того заветного слова, что выведено на доске, пока не заработана.
— Корпите? — рассердился «капраз». — Зачем?
— Сами знаете, товарищ капитан первого ранга. Завтра последний экзамен.
— Вон из класса! Загорать, купаться…
— Как загорать? А консультация?
— Никаких консультаций! Ежели кто, пн-те, болван — всё равно не поможет. Остальным нечего разводить толкунцы.
Преподаватель насмешничал, слегка покачиваясь с пяток на носки. Его «пн-те» — означало сократившееся от частого употребления присловье «понимаете», а «толкунцы» было неофициальным термином из курса лоции, где рассматривались штурманские задачи, связанные с приливо-отливными явлениями. Слово это, употребленное в переносном значении, не озадачило никого из присутствующих. Все они умели определять время наступления и высоту полных и малых вод в любой точке Мирового океана, переменные направления и скорости возникающих при этом течений. Но таблицы и формулы давали только самоуверенную иллюзию знаний. Надо было ещё почувствовать, как прилив, встречаясь с отливом, заставляет море клокотать в полный штиль, как упомянутые «толкунцы» швыряют корабль, и корпус его будто скрежещет по камням, и рулевой не в силах выдержать назначенный курс. Понятно, что школяры не желали «разводить толкунцы» и смеялись, уже считая себя моряками.
Преподаватель военно-морской тактики Терский на лекциях упирал на хладнокровный расчет и грамотность решения. Ордена и медали на его тужурке кивали при этом с убедительным серебристым перезвоном. Много было боевых орденов, а больше всего бросалась в глаза лучистая звезда с якорьками и гордым нахимовским профилем и непривычного вида, большой крест Святого Улафа, который, по слухам, будто бы давал право бесплатной выпивки в норвежских кабаках. Крест, это ясно, — награда за Киркенес. А остальные? Терский обычно отшучивался, не подозревая о том, что на выпускном курсе по рукам ходила вырезка из газеты. Бумага была нехорошая, ломкая — как ни крути, на цыгарки уже не годилась, а текст начинался так:
«Один берег наш, другой занят врагом. На нашем морские пехотинцы с нетерпением ждали продовольствие и боезапас. Капитан второго ранга Терский, руководящий операцией, дал последние указания командирам четырех морских охотников, выделенных для сопровождения транспортных средств…»
Автор газетной статьи называл «малые охотники» за подводными лодками «морскими охотниками», как будто все остальные противолодочные корабли большего водоизмещения предназначены для действий на реках. Конвой там именовался «караваном», бой местного значения — «операцией», и это было смешно, особенно накануне государственного экзамена по военно- морской тактике. На консультации было бы вполне уместно поиронизировать по сему поводу, попутно подчеркнув собственную профессиональную эрудицию, и заодно уточнить вопрос о награде. Насчет награды сомнений не возникало, поскольку в конце статьи сообщалось: «Важные грузы были доставлены полностью и почти без потерь».
Однако консультация так и не состоялась.
— На экзамене действуйте, как в бою: расчет, неожиданность, натиск! — пошутил Терский, уже садясь за руль своего трофейного «оппеля».
Он отбыл в город по своим делам, а выпускники побежали в училищную швальню, где им подгоняли двубортные шинели, тужурки и примеряли форменные офицерские брюки. На фотографиях для документов все они выглядели непреклонно, значительно, с золотыми погонами. Китель у фотографа был один на всех, и он, снимая, ехидно посмеивался:
— Завалите сессию — карточки порвем. Вот и всё…
Артём Чеголин вспомнил об этом предупреждении на следующий день, едва вытащил экзаменационный билет.
— Вопросы понятны! — соврал он как можно бодрей, понимая, впрочем, что это напрасные потуги. Но жалкая просьба заменить ему билет походила бы на капитуляцию. Нет уж, лучше идти ко дну с гордо поднятым флагом.
Перечитав вопросы ещё раз, Артём сообразил, что способен кое-что сообщить по второму и третьему пунктам. Ему стало немного легче, хотя организация противолодочной обороны перемешалась в памяти немыслимой окрошкой параграфов. Он был способен воспроизвести только такой монолог: «Здесь, пн-те, интересуются, где лучше начинать службу: на больших кораблях либо на малых. Балбесы! Разве можно сравнивать? Катера — это инициатива, скорость и натиск! Летишь с волны на волну, и вдруг на тебя опускается трасса. Реакция мгновенна. Дерево — не броня. Проморгаешь — прошьет навылет!..» К сожалению, всё это дословному цитированию не подлежало.
Капитан первого ранга Терский, поглядывая на Артёма из-за массивной спины адмирала, вдруг сжал кулаки и передвинул их вперед и вниз, как бы переводя рукояти машинного телеграфа на самый полный. Как будто не он отменил положенную консультацию. Артём озлился, и тут его осенило: в той газетной статье речь шла как раз об «охотниках» за подводными лодками.
— Такого примера в моих лекциях не было, — нахмурился преподаватель, обнаружив на доске схему со значками противоборствующих сил.
— Использован дополнительный материал, — нахально доложил Чеголин.
— Весьма любопытно, — сказал адмирал, искоса взглянув на Бориса Александровича, но тот не отступал:
— Номер не пройдет. Лишние, пн-те, хлопоты… Отступать всё равно было некуда, и Чеголин стал импровизировать, переводя газетные эмоции на строгий военный язык.
— Всё точно, — улыбался адмирал. — Почти по наградному листу…
— Розовые сопли, — скривился Терский, будто у него заболел зуб. — Дилетантская хроника для профанов.
— Полноте, Борис Александрович. Налицо похвальное стремление самостоятельно осмыслить боевой опыт.
— Где тактический анализ? — спросил у Артёма преподаватель. — Вы верхогляд, если считаете, что дело обошлось без просчетов.
— Доклад ещё не закончен, — огрызнулся тот, уловив непонятную поддержку самого адмирала.
— Резонно, молодой человек. Мы вас внимательно слушаем…
— Первое, отсутствовала прямая радиосвязь взаимодействующих сил. Второе, не была учтена разница в скоростях хода охраняемых судов. Третье, глубина задымления затрудняла наблюдение за воздухом…
— Кан-налья! Откуда взял? В статейке об этом ни слова…
— Догадался по косвенным признакам, — торжествовал Чеголин, понимая, что не ошибся.
— Молодец! — заявил председатель экзаменационной комиссии. — Достаточно. Переходите к другому вопросу.
Такой удачи Чеголин не ждал. Его прервали в момент, когда в запасе осталось две-три уверенных фразы. Развивая успех, Артём напористо убеждал членов государственной комиссии в том, что нет смысла тратить время на человека, который так здорово усвоил предмет.
И капитану первого ранга Терскому не осталось ничего другого, как только погрозить кулаком и засмеяться…
* * *
Корреспонденция «Бой в заливе», которая так выручила Артёма Чеголина, была напечатана 13 августа тысяча девятьсот сорок… Уголок газетной вырезки обломился, но, судя по содержанию, её следовало отнести к начальному периоду Великой Отечественной войны.
Обстановка того времени не позволяла раскрыть даже название залива, не говоря уже о других весьма существенных подробностях. Нам же без них не обойтись.
Год 1942-й. Время полной воды
Моторы едва урчали на самом малом ходу. Вода плавно облизывала корпус. Самый малый это шесть узлов, или приблизительно одиннадцать километров в час. Двигаться медленнее было невозможно — катер переставал слушаться руля. Но судам из военно-транспортного дивизиона — буксиру с баржой и рыбацкому дрифтер-боту — и такая скорость оказалась не по силам. Четыре «малых охотника» за подводными лодками вынуждены были то и дело ложиться в дрейф.
Лейтенант Василий Выра, «охотник» которого замыкал охранение слева, был вынужден вести свой катер подскоком, при этом ухитряясь удерживать свое место в строю и неотрывно следя, нет ли на горизонте неопознанных силуэтов кораблей, не мелькнет ли среди волн ржавая макушка плавучей мины со свинцовыми гальваноударными рогами, не прочертит ли море невысокий шест перископа с рыбьим стеклянным глазом, не вспорют ли стылую воду парогазовые следы торпед?
Людей прямо-таки завораживала панорама голого побережья, которая, медленно отступая, разворачивалась с южной стороны. Горные цепи шли ярусами, различаясь оттенками серого цвета. Гранитные лбы, наползая один на другой, скрадывали заливы и бухты, словно выравнивая и обобщая изрезанный шхерный рельеф. На расстоянии только наметанный штурманский глаз мог различить остров Большой Арский или мыс Добрягин. Ещё дальше белой черточкой выделялся островок Блюдце, а чуть правее за ним, на фоне скалистого отвеса, проектировалось нечто вроде хлебной горбушки, которую знали все. Горбушка острова Кувшин была характерной приметой линии сухопутного фронта.
Маломощный рейдовый буксир едва волочил груженную под завязку баржу, которая бодливо рыскала, дергая стальной перлинь. Дрифтер-бот с боезапасом шел самостоятельно, а по сторонам транспортных средств, слева и справа на траверзах, ползли «малые охотники», выделенные в боевое охранение. Однако ещё вопрос: могли ли шестидесятитонные катера что-либо уберечь, если они были вооружены всего лишь сорокапятками? Ни по калибру, ни по дальности огня эти пушчонки не сравнимы с береговой артиллерией. Личный состав оглядывался на остров Кувшин потому, что где-то рядом был развернут вражеский опорный пункт Фишерштейн с орудиями калибром сто пять миллиметров.
Часа два шли под прицелом. Противник, играя на нервах, выжидал. Егерям генерала Дитла было заведомо известно, что у знака Рыбачий-Городецкий конвой ляжет на курс 285 градусов для прорыва под своим берегом в узкую горловину Мотовского залива. Тогда в дело включатся несколько батарей: с мыса Пикшуев, с косы Могильной, с опорных пунктов Фишер- штейн и Обергоф и на заранее пристрелянных участках, почти в упор, потопят груженые суда. В полярную ночь либо в ненастье ещё удавалось проскочить в бухту Озерко, хотя и не без потерь, но летом не помогали и дымовые завесы. Какой в них смысл, если нет свободы маневра, если скорость ничтожна и простая арифметика в любой момент безошибочно давала егерям местоположение целей, закрытых дымом? Другого же маршрута пока не существовало. Тяжелой наковальней из гранита и серого шифера, из горных цепей и полного бездорожья нависал полуостров Рыбачий над материком.
Лейтенант Выра тоже поглядывал на остров Кувшин, высматривая вспышки батарейных залпов. Но куда более тягостно для него было очутиться в роли командира на чужом катере. Казалось, все они серийной постройки и похожи, как близнецы: те же три мощных бензиномотора, такие же пушки системы «21-к», и крупнокалиберные пулеметы, и стеллажи с глубинками. Но на этом деревянная палуба была в пробках, отциклеванных по торцам заподлицо. Это следы пробоин. И ещё на мостике резали глаз неодинаковые стекла ветроотбойного козырька, простреленный нактоуз компа́са, наспех починенная тумба машинного телеграфа — повсюду, куда ни глянь, следы аварийного ремонта. Не везло в боях этому катеру. Сколько раз он возвращался в базу со скорбно приспущенным флагом, а на пирсе уже поджидал его санитарный фургон с носилками. Выра стал четвертым по счету командиром с начала войны и покамест различал новых подчиненных только по боевым номерам. Но и так было заметно, что команда собрана с бору по сосенке, есть сильно испуганные — себе не верят, не то что другим.
— Начинайте! — отрывисто распорядился командир дивизиона Терский, хотя вполне мог бы не вмешиваться. Накануне, во время штабной игры, всё было оговорено и рассчитано заранее по секундам. — Сигнал «Дым»!
Кислая вонь, вырвавшись из сопел на юте, опрокинулась на палубу, клубясь и вспухая косматой наволочью, упала на воду и заслонила небо. Концентрированное, ещё не разбавленное ветром химическое зелье удушливо бросилось в глотки, раздирая их, как грубым песком — дресвой, но личный состав сразу повеселел.
— Курс двести семьдесят! — скомандовал Выра, выждав положенный срок по секундомеру, а старшина рулевых удивился. Назначенный румб вел прямо под вражескую батарею на мыс Пикшуев.
— Так держать! — снова кивнул комдив. Его реглан казался слишком щегольским, чёрная кожа его походила по выделке на шевро. Такой же реглан носил только командир охраны водного района, а он, как-никак, был контр-адмиралом. И на играх в штабе новый командир дивизиона держался чересчур независимо для капитана второго ранга, предложив свой замысел боя, дерзкий до невозможности.
— Попробуем, — согласился с ним контр-адмирал, стерпев даже нахальное обращение на «ты».
— Видать, из разжалованных, — шепнул Василию Выре приятель Максим.
И оба подумали, как бы не хлебнуть юшки с битым воякой.
Максим Рудых был верным другом из однокашников. Переведенный недавно на действующий флот с Дальнего Востока, он без всякого гонора стажировался у Выры в помощниках и не желал принимать у него сплоченный экипаж.
— Говорите, команда хорошо отработана? — вмешался комиссар дивизиона. — Значит, помогут освоиться. А лейтенант Выра будет нужнее на «невезучем» «охотнике». Выра же у нас пе-да-гог! Не знаете?
— Какой ещё педагог? — возмутился Василий.
— Сведения из личного дела: «Окончил двухгодичный учительский техникум…»
— Так-то ещё до училища, на ридной мове…
— А вы попытайтесь с переводом на русский…
Спорить с начальством что плевать против ветра. И вот Максим вел прежний Вырин «охотник» в голове ордера, а сам Выра плелся в замыкающей паре, имея брейд-вымпел на мачте и незнакомого ещё комдива на незнакомом борту «невезучего» катера. Что толку, что признали педагогом, если даже с народом как следует не удалось познакомиться? Выра сильно опасался, что оценку первого урока будет ставить не он и звучать она будет так: «Цвай» или, если повезет, «Драй». Невеселые баллы.
Теперь, под плотным облаком дыма, конвой пересекал наискось Мотовский залив, почти вплотную прижимаясь к берегу, занятому противником. И берег загромыхал, и десятки снарядов шелестели, верещали, мурлыкали, вставая где-то во мгле перелетными всплесками. С Рыбачьего ответила тяжелая артиллерия нашего флота. Её гостинцы буравили мутный воздух в обратном направлении и тоже над головой.
— Коли так, под аккомпанемент проскочим, — взбодрился Выра. — Ещё не бывало, чтобы встречные снаряды столкнулись в полете.
— Больше дыма, — сказал комдив, взглянув на лейтенанта. — Иначе раздолбают прямой наводкой, как бог — черепаху…
И правда, ветер заметно крепчал, относя белесую хмарь. Меж каменных теснин залива напор, как в трубе. А течение сбавляло на целый узел и без того ничтожную скорость транспортных средств. Близ материкового берега приливо-отливное течение было встречным.
— Боцман! — закричал Выра. — Шашку за борт!
Старшина второй статьи Осотин был единственным представителем прежнего экипажа. Рявкнув на бегу: «Есть!», он разбил капсюль на железной бочке. Всплыв за кормой, бочка фыркнула густой серой струей. А середина залива клокотала. Не успевая опадать, снарядные всплески стояли поперек вроде частокола. Артиллерийский термин «всплеск» неудачен и хил. У русских поморов есть более подходящее слово «взводень» — грозный вал в клокоте пены. В этом слове тугая сила спущенного бойка и вместе с тем «водяной» корень. Такие вот взводни, поднимаясь из пучины с утробным рокотом, нависали раскидисто, и, казалось, море, содрогаясь, седело от ужаса.
Канонада неожиданно прекратилась, и в благостной тишине, плетью по нервам, хлестнул доклад сигнальщика:
— Справа восемьдесят! Пятнадцать! «Фоккевульфы»!
На момент у Выры мелькнуло сомнение. Над нашим берегом могли летать «харрикейны», на которые пересела с «ишаков» авиация нашего флота. Но «угол места» — пятнадцать градусов — означал, что они шли низко, на бреющем. Нашим самолетам такая высота ни к чему. Для прикрытия она не годится. Следовательно, сигнальщик не ошибся. Так атаковали «фоккёра», поскольку штурмовиков специальной постройки у врага не было.
Из орудийных стволов вырвалось отрывистое пламя, оглушительные плевки. В бой вступили другие катера и все вместе послали навстречу восемь сходящихся трасс, бледно-малиновый фейерверк.
А самолеты на глазах нарастали. Над каждым пропеллером блестел стеклянный пузырь кабины. В пушечном лае пошла вторая огневая завеса, но и она не заставила «фоккеров» отвернуть. Кромки их крыльев окрысились вспышками. И лейтенант Выра тотчас ощутил, как нарушился темп орудийной пальбы, как зачастил с перебоями. Трудно целиться, когда видишь, как мчится, приближаясь, огненный ливневой косохлест. «Малый охотник» Выры перестал охранять других и сам почти не защищался. В распоряжении лейтенанта остался только маневр.
Катер, рванувшись, осел на корму. Выра дал правому и среднему моторам форсаж, левому реверс назад до полного. И ещё скомандовал — положить руль на борт до упора. Накренившись, хлебнув воды палубой, «охотник» совершил немыслимый пируэт. Но катер всё же не балерина. Не мог он обойтись без циркуляции. На транце дыбом встала белая щепа в огненных светлячках. И вроде кто-то упал. А «фоккеры» с натужным ревом мелькнули и скрылись в дыму.
— Лихо, — одобрил комдив. Странно, но он не вмешивался в управление «охотником», проявив сдержанность, редкую среди начальства.
На похвалу Выра не реагировал. Он был недоволен маневром.
— Осмотреться! Пробоины заделать! Раненого перевязать…
— Никак нет, товарищ командир. Все целы…
— А минёр на юте?
— Вот он я! Упал на огонь, чтобы, значит, не разгоралось…
Хлопцы кричали громко, наперебой, и это был хороший признак, обнадёживающий.
Потом отражали новый заход, похожий на первый. Похожий, да не совсем. Комендоры стреляли увереннее. Малиновые трассы осколочных гранат на сей раз скрестились перед головным «фоккером». Тот, словно споткнувшись, канул, и залив отрыгнул грязным гейзером, вздрогнув до грунта. Другие самолеты спасались россыпью от подоспевших «харрикейнов» флота.
Было время прибрать стреляные гильзы и вместе со стволами маленько остыть. Выра понимал: стволам проще. Им что? Нарезные трубы, есть тормоза отката, а нервов нет. Около пушек поднялся галдёж. Орали, как глухие, но никто не слушал. Сорокапятка хоть невелика, а бьет резко, закладывая уши. Впрочем, и слушать было нечего. Ругань не имела особого смысла. Лейтенант не мешал команде спускать пары, однако ёжился. Раз вот тоже так, после боя, от него потребовали разъяснений, почему допускает кабак и вообще есть ли у него волевые качества. Выра не любил, когда на борту начальство, и потому не особенно удивился свирепому взгляду комдива:
— Радиста на мостик! Серия «воздух». Записывайте…
Радиограмма была о том, что авиации флота следует прикрывать конвой, не допуская до него «фоккеров», но выражения оказались такими, что бывалый старшина-радист оторопел, а матросы на палубе притихли, явно прочистив уши.
— Чего остановились? Передать открытым текстом. Подпись — Терский. И непременно получить «квитанцию». Выполняйте.
Но это было ещё не всё.
— Сигнальщик! Чёрт побери. Пишите на дрифтер-бот: «Не дичай, милый, — тулиться некуда!»
— Как это «дичать»? — решился переспросить тот, хлопая шторками прожектора: точка… тире… тире… точка…
— Разводить панику! — охотно пояснил комдив. — Он — поймет.
Сочный диалект поморов многое терял при передаче отрывистой морзянкой, и семафор не смог отрезвить ошалевшего шкипера. Груженное снарядами промысловое судно, выжимая из движка наивозможные обороты, постепенно отрывалось от буксира с баржой. Конвой растянулся. Четыре катера охранения теряли огневое взаимодействие, а связь между ними была допотопная.
Что толку было ругаться? Кто услышит, если радиотелефонной аппаратуры не выделили? Её пока на флоте не хватало, и связь была скорее «потопная». Особенно в сплошном дыму. Конвою теперь угрожал въедливый пульсирующий гул, который нарастал, падая сквозь мглу. Так, под сурдинку, ворчали только моторы пикирующих бомбардировщиков. И силы охранения, вырвавшись к кромке дымзавесы, почти одновременно открыли зенитный огонь. Порознь командиры катеров действовали синхронно. В этом, собственно, и заключалась польза от проведенной накануне штабной игры.
«Юнкерсы» пёрли сквозь вспышки разрывов. Выра ждал отделения бомб, чтобы в последний момент ускользнуть. Теоретически это просто — маневр на контркурсах, хотя в огне, в грохоте, в нарастающем визге сердце сбивается с ритма, всегда кажется, что поздно спохватился и уже ничто не спасет.
Однако в штабной игре всего не предусмотришь. Новый доклад сигнальщика: «Справа шесть „фоккеров”!» — означал, что, спасаясь от бомб, «охотник» неизбежно попадал под пулеметно-пушечный удар штурмующих истребителей. Выра украдкой взглянул на комдива. Тот раздраженно ткнул перстом вверх, но энергичный жест трудно было понять. И вдруг обе группы атакующих самолетов смешали строй.
— Ха! — опустил Терский свой бинокль. — Весьма кстати. Здоровая реакция на радиокритику…
Флотские самолеты разили в упор. Противник бросил на них «мессеры», и всё смешалось растревоженным птичьим базаром. Поди разберись, у кого на крыльях красные звезды, у кого чёрные кресты, кто горит, кто стреляет, где бой на виражах, а где опасный прорыв к транспортным судам. Катера ныряли в дым, выскакивали обратно, огрызаясь пушками и пулеметами, лавировали меж всплесков, которые замирали на миг заиндевелыми кронами, стеклянно вспыхивающими изнутри.
Когда ухнул в воду ещё один истребитель противника, на катере то ли от близкого взрыва, то ли от всеобщего восторга поперхнулись моторы. И лейтенант Выра понял, что этот самолет, как и предыдущий, принят командой на собственный счет. Но можно ли в эдакой завирюхе утверждать это наверняка? И как докажешь? Правда, звездочка с цифрой «два», накрашенная на ходовой рубке, принесла бы уверенность команде, крайне важную для неё. Но претендентов найдется предостаточно. Впрочем, решающим, как всегда, будет слово начальства.
Капитан второго ранга Терский ничего по сему поводу не сказал, хотя успевал следить за перипетиями схватки, отлично различая, кто есть кто, не упускал моменты огневых налетов артиллерии, едко одергивал подчиненных командиров, которые, увлекшись боем, отрывались от охраняемых судов. Дрифтер-бот был повреждён прямым попаданием в машину, потерял ход, но остался на плаву.
— Кормщика облаять малым загибом, — распоряжался комдив. — Вонючей рыбнице заткнуть дыру и взять на буксир.
Кто спорит, разрядка нужна, и смех снимает перенапряжение. Но Терский казался спесивым, и это злило Выру. Лейтенант подчеркнуто держался официальных рамок, а комдив, наоборот, стал ещё разговорчивее и перешел на «ты».
После отворота конвоя в горловину между Рыбачьим и Средним, где оба берега были свои, воздушные атаки прекратились. Зато артиллерия, осатанев, швыряла залпы вдогон. Сплошная стена чёрных разрывов поднимала грунт на входе в бухту Озерко. Снаряды ложились точно, замыкая единственный фарватер, который шел левее центральной мели, у мыса Литке. Лейтенант Выра был готов лезть на рожон, лишь бы скорей. Ясно, что при этом не избежать потерь, но он никогда ещё не выматывался до такой степени. Попробуйте простоять семь часов на мостике, в дыму, работая и за себя, и за отсутствующего помощника командира. Вокруг, кроме боцмана Осотина, не было ни одной знакомой души и никакой уверенности в том, что распоряжения поймут с полуслова, не струсят, не прохлопают. Отсчет шел в долях секунды, а значит, позади лейтенанта Выры осталось не семь часов, а четверть миллиона мгновений, любое из которых могло стать последним.
— Сигнальщик! Пишите на головной катер: «Промерить глубины справа у мыса Ларина. Двигаться осторожно — толчками. Судовой ход обвеховать».
— Сядет, — усомнился Выра. — На карте наименьшая глубина — восемь десятых метра…
— Карты у егерей тоже есть, — охотно отозвался Терский. — Потому, как видишь, туда не стреляют…
Полуобняв лейтенанта, комдив объяснил, что тевтонская пунктуальность не учитывает высоты прилива.
— Разве они не видят колебаний уровня моря?
— Егеря — не моряки. Видят, конечно, а карта важнее. Раз показана отмель — ахтунг — фарватера нет и нечего тратить снаряды.
Лейтенант только теперь понял, для чего в штабе составили график прилива, вычислив высоту и время наступления самой полной воды. Но на него вдруг пахнуло сложным букетом из одеколона, трубочного табака и мускатного ореха. Сквозь ароматный камуфляж всё равно пробивался другой, более знакомый дух. И говорил комдив замедленно, с присловьем «пн-те» в каждой фразе.
«Когда только успел? — поразился Выра. — Неужто из фляжки, прямо на мостике?»
Тут бы ему уточнить неофициальным порядком мнение начальства по поводу того, кто сбил вражеские самолеты, подчеркнув, как важно педагогически признать заслуги «невезучего» экипажа. Момент был самый подходящий. Удобнее не придумаешь. Но лейтенант, решительно отстранившись от размякшего собеседника, доложил, что ветер после поворота стал боковым и относит дымовую завесу.
— Ваше решение? — нехорошо усмехнулся Терский.
— Повернуть обратно и добавить дыма, вызывая огонь на себя…
Флагманский катер швартовался последним, когда транспортные средства со вскрытыми грузовыми люками уже рассредоточились у причалов.
Глава 2. Абрам-корга снялась с якоря
За несколько суматошных и беззаботных дней Артём Чеголин вернулся из лета в зиму. Поезда и самолеты везли его к северу. Позади остались олеандры под распахнутыми окнами курсантского кубрика, и дальше всё отступало, как в фильме, который, смеха ради, крутят задом наперед. Киевские каштаны ещё по-весеннему выбросили белые свечи соцветий, а в Ленинграде только лишь обнажилась земля. «Сашкин сад» у Адмиралтейства был закрыт на просушку, н кроны деревьев с едва заметным зеленым дымком ёжились от промозглого дыхания Ладоги. И вот за окном плацкартного вагона уже карельские ели, припудренные поземкой, быстрая Кола в ледяном корыте припая. На муарово-белых её берегах торчала щетинка карликовых берез. Кола текла в Баренцево море, и название флота — Северный, — потеряв оттенок географической абстракции, сразу стало вполне осязаемым.
Поезд остановился у скалистой террасы. Наверх вели деревянные мостки с перекладинами, присыпанными по наледи песком. Почти корабельные сходни упирались в дощатый барак, обитый наискось зеленой вагонкой. Чтобы не оставалось сомнений, на бараке имелась вывеска «Мурманск» и ещё указатель: «Выход в город». Города, собственно, не было. По горбатым сопкам карабкались стандартные домики. На расчищенных пепелищах выстроились шеренгами сборнощитовые двухэтажные бараки.
На голом перроне осталось человек десять. Все в чёрных ещё не обмятых шинелях. Половина лиц Чеголину была незнакома, но у всех оказались одинаковые чемоданы, и по весу, и по синему казенному дерматину. Значит, и дальнейший маршрут был один: в отдел кадров офицерского состава, сокращенно — ОКОС. Прибывшие размышляли, как лучше туда добраться, поглядывая на свои чемоданы, которые сковывали маневренность.
— Здравствуйте, товарищи лейтенанты!
С подножки мягкого вагона легко соскочил контр-адмирал. И ладони у лейтенантов автоматически дернулись к козырькам. Все они тянулись в струнку и напряженно помалкивали.
— По-видимому, нам по пути. Прошу ко мне на катер!
Адмирала сопровождали старшина с саквояжем и дама в пальто с чернобуркой.
— Всегда найдешь заботу, — сердилась спутница. — Пойдем же наконец.
— Впервые в этих краях? — спрашивал контр-адмирал, словно не расслышав сварливой реплики. — Первый раз всё кажется сложнее. Беритесь-ка за свое «приданое». Побеседуем в пути.
Такой беседе вначале не хватало непринужденности. Особенно после того, как старшина поднял флаг с белой звездой на красном поле и военно-морским флажком «в крыже», то есть в верхнем углу у древка.
Флаг был несоразмерно велик для разъездного катера с застекленным салоном и открытой площадкой — кокпитом, зато свидетельствовал о том, что это был флагманский катер. Ну как можно после этого воспользоваться приглашением пройти в салон? Лейтенанты гораздо лучше чувствовали себя под свежим ветерком на кокпите. Тем более что «кокпит» в дословном переводе с английского — «петушиная яма». Так образно называли молодёжную часть жилой палубы на старых парусниках.
Тусклая вода асфальтом катилась навстречу. Близкие скалы, не спеша, поворачивались вокруг мнимых осей. С левого борта — по часовой стрелке, справа — наоборот. Перламутровые горы сдавили залив до тесноты проезжей дороги. Корабли и буксиры двигались встречными потоками или шли на обгон, словно автомобили. Артём Чеголин первый раз видел такой залив-фиорд и, увлекшись, не заметил, когда симпатичный контр-адмирал вышел в кокпит.
— Рыболовный траулер огибает Абрам-коргу! — доложил старшина-рулевой.
Абрам, да ещё карга? — неловко сострил долговязый лейтенант, слегка заикаясь. — Я бы ещё понял, если б каргой оказалась Сара.
Шутка не получилась, и контр-адмирал, усмехнувшись, заметил:
— Весьма глубокая мысль. И знаете, не вы первый прохаживаетесь по поводу сего географического названия. Был такой случай, когда мы стояли вот тут на рейде. Помню, прибегает рассыльный с вахты: «Разрешите доложить! Абрам-корга снялась с якоря!» В порядке уточнения пришлось его спросить: «Сами наблюдали?» — «Никак нет, — отвечает, — мне боцман сказал». С боцманом был разговор особый, а матроса можно понять: он служил по первому году…
Долговязый лейтенант, уловив намек, покраснел, но на этом дело не кончилось.
— Кстати, вам ничего не говорит вот эта веха?
Мимо катера как раз мелькнул бело-красный вертикальный шест с двумя алыми «вениками», раструбами наружу и общим черенком.
— Вестовая веха! — доложил долговязый, заикаясь ещё сильнее.
— Именно. А там, дальше?
Разноцветные шесты с голиками на вершинах ограждали пространство у скалистого мыса.
— Наверное, под водой — каменистая гряда.
— Справедливо, — кивнул контр-адмирал. — Местные мореходы такие банки называют «коргами». Коль скоро вы заинтересовались топонимикой, замечу, что Абрамы были нередки среди поморов-старообрядцев, а вот насчет Сары не скажу, не слыхал. Дальше по курсу нам встретится ещё Анна-корга. У вас, лейтенант, — снова обратился он к долговязому, — нет такой знакомой?
Оказалось, есть. Не, какая-нибудь знакомая, а молодая жена, с которой лейтенант Пекочинский только что попрощался в Мурманске на перроне. Эти подробности немедленно выложили однокашники, и контр-адмирал засмеялся тоже.
Начинался отлив. Вода кое-где отступила от берегов, оставив на осушках одинокие льдины. Подточенные на торцах волной, они распластали тонкие крылья, будто собирались взлететь. За обрывистым мысом Хлебная пахта открылся широкий рейд, на котором застыл утюгом приземистый линкор и, рядом с ним, крейсер, у которого дымовых труб, казалось, было больше, чем пушек.
— Заморская техника, — объяснил контр-адмирал. — На тебе, боже, что нам не гоже. По этой причине использовать в бою не пришлось. Ясное небо вдруг фукнуло шквалом, выплюнув хорошую порцию снежной крупы. Снег падал и растворялся в воде, несся на палубу катера, расползаясь под ногами серой кашицей. Из салона выглянула дама:
— Где твои калоши? Опять забыл? Вечно оставляешь где попало, а мне по военторгам доставать…
Разговор был семейным, не для посторонних ушей.
— Видите, товарищи. Мой вам совет — никогда не женитесь, — неловко пошутил контр-адмирал.
Лейтенанты рассмеялись вновь, поглядывая на Пекочинского. Только он уже не мог следовать рекомендациям симпатичного адмирала. Чеголин тоже присоединился к общему веселью.
В ОКОСе распределяли по кораблям. И тут оказалось, что у Чеголина с Пекочинским одинаковые предписания. Сравнив документы, оба лейтенанта удивились, посмотрев друг на друга внимательнее. Но, к сожалению, глаза не рентген. Что они могут разглядеть, кроме новенького обмундирования? А волочить чемоданы по горбатым улочкам военно-морской базы было куда веселее вдвоем. В штабе отряда учебных кораблей им надлежало представиться капитану второго ранга Нежину, который как помощник начальника штаба распорядится о дальнейшем. Всё было бы прекрасно, но Нежина не оказалось на месте.
— Теперь уже не придет, — объявил писарь после многих потерянных часов, демонстративно запирая кабинет. — Приходите назавтра.
— Когда именно?
— Кто его знает? Они мне не докладывают…
Пекочинский предложил разыскать корабль самостоятельно. Но на причальной стенке ничего похожего на их сторожевик не обнаружилось. На бортах кораблей не было даже названий. Вместо них красовались огромные двузначные цифры. Ошвартованные к проклятым чемоданам, лейтенанты спорили, куда податься. Вахтенные у трапов следили за дискуссией, выглядывая из тулупов. Куда более тонкие шинельки стимулировали предприимчивость лейтенантов, но это принесло лишь частичный успех. Старший помощник командира ближайшего к чемоданам эсминца, заглянув в документы посетителей, сообщил, что их сторожевика в гавани нет, и любезно предложил переночевать, выделив по верхней койке в разных каютах.
Чеголин устал от споров и впечатлений. Калориферы под письменным столом его временного пристанища, уютно бормоча, навевали дремоту.
— Почему не пили чай? — вдруг раздалось за спиной.
— Что-то не хочется, — соврал Чеголин, хотя не ел с утра и просто постеснялся идти в чужую кают-компанию.
— Распорядок дня следует выполнять, — слегка пожурил его капитан второго ранга, сосед по каюте, и принялся расспрашивать лейтенанта, откуда тот прибыл и почему обретается здесь.
— Направили к какому-то Нежину, а он где-то шляется…
— Так, так… Вот что я вам посоветую: приходите завтра в штаб ровно к восьми ноль-ноль.
— Вдруг опять не застанем? Даже писарь не в курсе, когда он бывает.
— Мичман не в курсе? Интересно! — удивился капитан второго ранга. — И всё же не опаздывайте. Уверяю вас, завтра повезет…
Проснувшись, Чеголин уже не увидел случайного соседа, а его нижняя койка была аккуратно заправлена. Однако добрый совет следовало учесть. Точно с подъемом флага оба лейтенанта были в приемной. Чеголин первым постучался в знакомый кабинет и стал на пороге разочарованный, увидев там только вчерашнего «кап-два».
— Вот видите, опять не пришел.
— Пришел, — возразил тот. — Не всё же ему «где- то шляться»?
— Но где ж он тогда?
— Перед вами. Нежин это я.
В глазах у Чеголина полыхнуло пламя, а щеки накалились подобно корабельным паровым калориферам.
— Извините… Я… Я неправильно толковал ваше временное отсутствие.
— Как? — громко спросил Нежин. — Как вы сказали?
Повторить оправдание Чеголину не удалось. Капитан второго ранга хохотал так, что в здании штаба захлопали двери и Пекочинский осторожно заглянул в кабинет.
«Сейчас помначштаба объяснит причину внезапного веселья, — испугался Чеголин, — и после этого останется подать рапорт о немедленном переводе на другой флот».
Однако Нежин строго махнул рукой. Дверь кабинета тотчас притворилась, и Артём Чеголин остался служить в Заполярье.
— Ладно, лейтенант… Давайте ваши бумаги, — сказал «кап-два», вытирая глаза носовым платком.
Глава 3. Только без панибратства
— Прибыл в ваше распоряжение для дальнейшего прохождения службы! — отрапортовал Артём.
— Меня зовут Василий Федотович! — сообщил ему командир корабля, хотя ему больше подошел бы цивильный пиджак. На голове у командира почти не было волос. Лишь мягкий венчик пшеничного цвета охватывал с трех сторон глянцевитую плешь.
— Есть, товарищ капитан-лейтенант!
— Я же сказал: меня зовут Василий Федотович, — слегка поморщился командир сторожевого корабля «Торок».
Но у Чеголина язык не поворачивался именовать его по-граждански.
— Есть… Федотыч!
— А вот это уже панибратство, — заметил капитан-лейтенант Выра. — Ну чего же вы стоите? Коли так, давайте знакомиться.
Через несколько минут выяснилось, что артиллерийское подразделение корабля БЧ-2 принимать не у кого. Предшественник Чеголина, направленный на учебу в специальные офицерские классы, оставил лишь журнал боевой подготовки да формуляры пушек и пулеметов. Техника Артёма не пугала. Материальную часть артиллерии он проходил ещё на втором курсе.
— Справитесь, — зачем-то ободрил Чеголина командир корабля. — Тем более личный состав весьма опытный!
Ещё бы, если по возрасту большинство — старики: многим около тридцати. Конечно, корабельный писарь от них не утаит, что Артёму Чеголину всего двадцать два года. Точнее, стукнет столько через месяц и шестнадцать дней. У лейтенанта возникло сомнение: «Станут ли такие слушаться?» Мысль эта была отброшена, как недостойная дипломированного флотского офицера. Что значит «станут», если по уставу обязаны? На то и существуют дисциплинарные права. А вообще командир не зря напомнил — только без панибратства.
— Две недели на подготовку к зачетам на допуск к самостоятельному управлению подразделением, — сказал в заключение Василий Федотович, добавив, что Чеголину повезло, — легче всего изучать корабль, пока он в доке.
«Торок» принадлежал к типу сторожевиков, известному под озорным прозвищем «дивизион хреновой погоды». Это были первенцы Советского Военно-Морского Флота. Казалось, не существовало ни одного стихийного явления, которым бы забыли их окрестить. «Ураган» и «Тайфун» вступили в строй в 1931 году, в следующем — «Смерч», «Циклон», «Гроза» и «Вихрь», затем шли «Шторм», «Шквал», «Метель», «Вьюга», «Пурга», «Гром»… Имя «Торок» как нельзя более подходило для сторожевика на Северном флоте. Коренные русские мореходы называли так сильный порыв ветра или шквал.
Это были небольшие и, для своего времени, прекрасно вооруженные корабли. Два турбозубчатых агрегата с турбинами высокого и низкого давления обеспечивали поначалу приличную скорость хода в 24 узла, или почти 45 километров в час. Стараясь выжать больше полезной отдачи с каждой тонны водоизмещения, конструкторы ориентировались на Балтику — закрытый и относительно спокойный водоем. Для Балтики, пожалуй, были достаточны четыре миллиметра толщины листов стальной наружной обшивки. На ответственные связи корпуса, обеспечивающие его прочность, накинули всего по миллиметру. Но через год-два после постройки три таких корабля перебросили в Заполярье по Беломорско-Балтийскому каналу, четыре других сторожевика вошли в ядро нового Тихоокеанского флота. Тогда-то и выяснилось, что легкие и стройные корпуса не очень соответствуют названиям, выложенным накладными бронзовыми буквами на срезе кормы.
Наверное, нелегко было решиться послать такой сторожевик в открытое море. Особенно если учесть, что прогнозы погоды оправдываются не всегда. Однако же боевых кораблей не хватало, и сторожевики не только плавали. Экипаж «Метели» был даже удостоен гвардейского флага. Но коррозия потихоньку точила и без того тонкие борта. За пятнадцать лет эксплуатации износились механизмы, которые тоже были первенцами, послужив основой для последующих, более совершенных конструкций. После войны капитальный ремонт этих сторожевиков признали нерентабельным— новые построить дешевле. И тогда, чуть подлатав, их назвали покуда учебными кораблями — до окончательного износа.
«Торок», поднятый из воды на кильблоки, показался лейтенанту Чеголину каким-то ненастоящим, похожим на музейный макет без стеклянного колпака. Жить на нем было крайне неудобно. Умывальники и прочую сантехнику временно отключили, пища готовилась на берегу, а пар в отопительную систему подавали шлангом с плавучей мастерской. Даже извечный ритуал подъема флага пришлось изменить. По распоряжению капитан-лейтенанта Выры на подъем флага строились одни офицеры. Официально это объяснялось необходимостью принять доклады и дать распоряжения по службе, но скорее всего Василий Федотович слишком буквально толковал понятие «учебный корабль».
Куцей шеренгой из пяти человек командовал старший лейтенант Лончиц, новый старпом. Василий Федотович придирчиво оглядывал каждого. По случаю ремонта допускалось единственное послабление — взамен ботинок можно было носить яловые сапоги, отполированные до рояльного блеска. Из приоткрытых дверей, из люков и горловин за построением офицеров следили десятки матросских глаз. Лейтенанты втихомолку роптали. После подъема флага им всё равно приходилось переодеваться в комбинезоны и лезть с фонариком поочередно в каждый из четырнадцати водонепроницаемых отсеков, вычерчивая эскизы общего расположения помещений, емкостей, механизмов и пути магистралей. Чертежи проверял инженер-лейтенант Бестенюк. Понятно, по вечерам, поскольку у механика дел во время ремонта хватает. А Василий Федотович воспитывал и его:
— Почему курите на ходу?
Он прихватил механика на стенке дока, увел к себе в каюту и там вручил свежий «Огонек». Инженер-лейтенант нетерпеливо перелистывал журнал. Мысли его были заняты другим.
— Да вы читайте, Борис Егорович. Видите, я пока занят…
Механику до зарезу требовалось слазать в первое машинное отделение, но он снова взял «Огонек», наткнулся на фельетон и, прочитав, засмеялся.
— Понравилось? Вот и ладно. Пригласил вас, чтобы сказать: у механика обязательно должно быть время передохнуть. Иначе он работает на износ.
— Есть! — заёрзал Бестенюк. — Всё ясно. Если нет других вопросов, разрешите быть свободным.
— Ну, если вам не хочется быть гостем у командира…
— Я бы с удовольствием. Но, понимаете, вскрыта забортная арматура.
— Всё равно не следует торопиться… Ладно, идите. Других вопросов покуда нет. А «Огонек» был вроде предохранительного клапана…
— Так и живем, — философски заметил механик, поделившись с новичками этой примечательной историей, — Полгода служу на «Тороке», а он всё шпыняет,
— Видно, презирает маслопупов, — предположил Пекочинский.
— Ни в коем разе, — живо возразил Бестенюк, который в узком кругу охотно откликался на аббревиатуру Бебс. — Вот сижу вечером в каюте. Китель снял, а под ним клетчатая ковбойка…
— Грязная?
— Только из-под утюга, — сообщил Бебс, укоризненно взглянув на Чеголина. — Оказалось, всё дело в расцветке. Вы, говорит, не извозчик, а представитель важнейшей на флоте профессии, которая обеспечивает маневр.
Важнейшей? Артиллерист с минёром были оскорблены. Ведь они ведали оружием, без которого любой корабль лишь средство передвижения.
— Кому из нас положена отдельная каюта? — ехидно прищурился Бебс, и на это нечего было возразить.
Лейтенанты Чеголин и Пекочинский Делили на двоих каюту номер пять по левому борту. Несмотря на Некоторые коммунальные противоречия, взаимопонимание между соседями установилось быстро. Письменный стол, втиснутый между наклонным развалом полубака и железным платяным шкафом, был в каюте один. И стул тоже оказался единственным. Для другого просто не нашлось бы места в узком проходе перед койкой в два яруса. Даже дверь откатывалась на роликах, как в купе поезда.
После ужина очередь работать за столом принадлежала минёру, а Чеголин приспособился составлять конспект политзанятий, сидя на койке.
Дверь каюты вдруг откатилась, и в проеме блеснула розовая лысина Василия Федотовича.
— Слушайте такую вещь: почему не сходите на берег?
Чеголин удивился, а Пекочка в расчете на одобрение доложил:
— Надо изучать свой корабль!
— Мне не нужны офицеры, которые корпят над бумагами, — неожиданно рассердился Выра. — Так можно и обезьяну выдрессировать, а вы обязаны укладываться в распорядок дня.
— Но, Василий Федотыч…
— Перегруженный офицер плохо несет службу, — отрезал командир. — Извольте находить время для отдыха…
Быстро переодевшись в тужурку, Пекочинский решил проведать жену, побежал доложиться к старпому и скоро пришел потускневшим.
— Что? Не пускает? А как же быть с перегрузкой?
— Вообще-то он не против. Но тут же стал спрашивать, сделано ли то, другое, и предупредил: утром проверка…
— Как же быть?
— Обезьяны, дружище, наши ближайшие родственники, — вздохнул Пекочинский.
Сам же Евгений Вадимович Лончиц, именуемый для краткости «старпомом», хотя на «Тороке» по штату полагался всего один помощник командира, почти каждый вечер уходил на берег с ночевкой.
— Опять сидите вдвоем? — спросил Василий Федотович у лейтенантов несколько дней спустя.
— Вообще-то я собирался, — с готовностью отозвался Пекочинский. — Но старпом приказал…
Минёр старательно перечислил все распоряжения по службе, надеясь, что Выра рассердится на своего помощника и настоит на своем. Но прогноз не оправдался.
Полезное дело, — кивнул Василий Федотович. — Коли так, когда рассчитываете управиться?
— Трудно сказать, — растерялся Пекочка. — Может, к утру…
— Тогда действуйте…
Причины вопиющего отсутствия логики в действиях командира корабля открылись довольно быстро. Его каюта располагалась против лейтенантской по другому борту, а железные переборки, изолированы пробковой крошкой на клею, не препятствовали прохождению звука. Старший лейтенант Лончиц, как всегда, постучался с вечерним докладом, и Василий Федотович его спросил:
— Почему офицеров не отпускаете на берег?
— Никому не отказывал. Но только после выполнения всех указаний.
— Как результаты?
— Ещё не проверял.
— Добро. Но без контроля молодые люди могут напутать. Убедитесь, что всё идет как надо, а потом и самому можно будет отдохнуть…
Распоряжений накопилось предостаточно, и для ревизии Лончицу потребовался не один вечер. К плавучему доку, где ремонтировался «Торок», вскоре прибыла супруга старпома. Прогулявшись с нею у проходной завода, Евгений Вадимович возвратился на борт слегка раскрасневшимся, хотя ветра в тот момент не было и мороза тоже. После ужина он снова явился к командиру корабля за разрешением сойти до подъема флага.
Отдыхайте, — сказал Выра. — А что, проверка уже закончена?
— Почти…
— Слушай такую вещь: в службе главное дело — последовательность. Не представляю настоящего старпома без этого самого качества.
После беседы с командиром Евгений Вадимович лично прибыл в пятую каюту, хотя раньше вызывал подчиненных офицеров к себе через рассыльного. Впрочем, здесь уже поджидали его. Чеголин разложил на столе свои бумаги, признавшись, что успел далеко не всё.
— Пока отложите, — нетерпеливо сказал Евгений Вадимович.
— Но вами назначено…
— Доложите через неделю, — смягчился старпом. — Понятно?
Проверка документации у минёра заняла ещё меньше времени. Он тоже получил отсрочку для завершения дел и, кроме того, разрешение съездить в Мурманск до восьми ноль-ноль.
Всё в порядке, — доложил Лончиц Выре. — Молодые офицеры весьма добросовестны.
— Смотри, как они работают под твоим руководством. Коли так, вполне можешь отдохнуть и, главное, со спокойной душой.
Пекочинский долго голосовал на мурманском шоссе, пока не остановил попутный «студебеккер», крытый брезентом, с деревянными скамьями поперек кузова. Изрядно промерзнув в «союзнике» и поплутав в незнакомом городе, Нил Олегович постучался в дверь нужной квартиры лишь поздним вечером, но был встречен без радости. Его Анечка, хлюпая распухшим носом, укладывала чемодан.
— Сижу, как дура, жду у моря погоды. Мама беспокоится, требует телеграфировать, как устроились. А ему всё равно. Две недели ни слуху ни духу…
Из-за экстренных мер, которые должны были убедить жену во вреде поспешных решений, Пекочинский не сомкнул глаз и прибыл на «Торок» за два часа до подъема флага. В таких случаях лучше не ложиться совсем. Но минёр очень устал, переволновался и потому поддался соблазну вздремнуть.
Чеголин пробовал растолкать товарища, услышал бодрое: «Встаю» — и ушел. Грозная действительность была осознана Пекочкой только за несколько минут до построения на подъем флага. Рывком откинув одеяло, он воткнул босые ноги в голенища русских сапог, накинул сверху шинель и, застегиваясь по пути, рванулся на ют. «Ничего, — успокаивал он себя. — Сойдет. Под шинелью незаметно».
Подняли флаг. И вдруг налетел шквал, который отогнул полу шинели, на короткий миг обнажив коленки в сиреневом трикотаже.
— Что за форма одежды? — нахмурился Василий Федотович.
— Сверху номер пять, а снизу не видно.
— Коли так, ладно… Сделаем выводы.
Через полчаса в каюту номер пять поступило тревожное донесение: «Писарь уже на машинке стучит…»
— Ну и что? — легкомысленно удивился Пекочинский.
— Так это же проект приказа…
И точно. Из разбитого «Ундервуда» короткими очередями выползала убийственная формулировочка: «…за выход на подъем флага без штанов арестовать на трое суток при каюте…»
Пришлось, пока не поздно, умолять автора:
— Виноват, Василий Федотович, проспал. Ну… напишите хотя бы: «за нарушение формы одежды».
— Флотский закон, — невозмутимо возразил капитан-лейтенант Выра. — Разве не знаете? «Что наблюдаем, то и записываем»…
— Будут смеяться… — Голос у виновника дрогнул
— Другими словами, боитесь, что станет известно в каком виде вы решились участвовать в церемонии подъема боевого знамени корабля? Но каким образом? Объявлять такой приказ перед строем не положено. Мало ли что лежит у меня в папке. Так ведь меж корочек, изнутри. Абсолютная гарантия, как, скажем, исподники под шинелью…
— Ещё издевается, — кратко резюмировал минёр, возвратившись в пятую каюту.
— Три к носу, легче проморгаешься, — пошутил Чеголин и попробовал утешить: — Разве курсантом гальюны не драил?
— Не вижу аналогии.
— А со временем всё пойдет на пользу.
— На чужом глазу бельмо не помеха, — обиделся Пекочинский.
— Ну и зря кипятишься. Подумаешь. Сегодня фитильнули тебя, завтра взыскиваешь сам, но уже со знанием дела.
— Поглядим, что будет, когда тебе самому прижмут хвост, — заметил Пекочка и как накаркал.
После выхода из дока на корабле состоялась ревизия всех помещений, и в носовом артиллерийском погребе обнаружили влагу, которая сочилась из дырчатых трубок системы орошения.
— Боезапас принимать нельзя, — грозно сказал Лончиц. — Погреб содержится отвратительно.
Вывод был справедлив, хотя и неожидан для Чеголина. Кому не известно, что температура и влажность воздуха здесь подлежат такому же контролю, как в Эрмитаже. За показаниями приборов следил специальный дозор. Ещё утром лейтенант спускался сюда вместе со старшиной первой статьи Рочиным и росписью в журнале засвидетельствовал полный порядок. Чеголин не понимал, что тут произошло, и пока ему ничего другого не оставалось, как признать критику:
— Виноват!
— Разберусь и накажу! — разносил старпом, обвиняя в безответственности, попустительстве и верхоглядстве. — Что отличает настоящего офицера? — спросил он и сам же ответил: — Последовательность в действиях, которой у вас пока нет!
Обход корабля продолжался, но взбешенный Чеголин, немного поотстав, успел спросить у старшины первой статьи Рочина:
— Кто отвечает за порядок в погребе? Вы или только я?
— Сами же расписались в журнале…
— Вот как? Два наряда вне очереди!
— За что, товарищ лейтенант?
— Полюбуйтесь сами. В погребе прибрать и доложить!
Когда Чеголин догнал свиту старпома, инженер-лейтенант Бестенюк невинно шепнул:
— Чего зря разоряешься? Орошение погребов вовсе не в твоем хозяйстве. Пока нет боезапаса, идет притирка и опробование клапанов.
— Ну?
Разве не обидно выслушать нотацию со всеми нелестными эпитетами, которая, оказывается, была не по адресу? В целях восстановления справедливости Артём немедленно поставил об этом в известность старпома, но отпущения грехов не получил. Наоборот, снова досталось за плохое знание пределов заведования. Только после того Лончиц напустился на зловредного механика:
— А вы чего молчали?
— Перебивать невежливо. Думал, вы сами знаете, кого из нас следует ругать за упущения по службе!
— Вы! — зашелся во гневе Лончиц, сообразив, что ему самому надо бы знать, кто и за что отвечает. — Вы!
Но старпом раздумал объявлять мнение о ехидном командире боевой части пять и взамен пообещал:
— Разберусь и обязательно накажу!
Год 1942-й. Прикладной час
Крутая тропа, вырубленная в грубом плитняке, казалась ступенчатой, но площадки были неровными. Максим Рудых, оступившись, угодил ботинком в белесый ягель, который, мягко просев, обдал ногу промозглой жижей.
— И здесь болото! — возмутился он, вытаптывая! пузыри из обуви. — А ещё говорят, что вода всегда найдет себе гальюн.
— Тундра, уточнил Выра.
— На горном склоне? Где такой сток?
— Везде. Мох впитывает воду, как губка.
— Не тундра, а болото. Пьяное болото торчком.
— Зачем обобщать? — нахмурился Василий Выра
— Мной обругана только природа, — рассмеялся Рудых. — В прямом смысле.
— Привыкнешь… Придем, переобуешься. Носки сдадим Раисе для просушки.
— Плевать. Так подсохнут.
— Слушай такую вещь: что ты имеешь против моей Раисы?
— В общем ничего. Правда, я бы на ней не женился. Но ведь этого, кажется, и не требуется?
— Где же нам учинить «прикладной час»? — спросил Выра.
Прикладной час выражает зависимость наступления прилива от положения Луны, но этот термин имел ещё одно чисто бытовое значение.
— Ордена следует отметить, — согласился Максим. — Давай-ка лучше за столиком в «Капернауме».
До главной базы было недалеко. Прямо с перевала друзья увидели шеренги одинаковых бревенчатых домов. Двухэтажные постройки были выровнены в линии, которые нумеровались совсем как в Ленинграде на Васильевском острове. С горной террасы глядело на гавань каменное здание с широкими окнами. Бетонный трап поднимался по склону к выступающему вперед вестибюлю. Здесь, в Доме флота, помещался ресторан под кодовым названием «Капернаум».
Одинаковые «звездочки» с рубиновой эмалью на серебре по традиции окунали в полные стаканы, которые следовало, чокнувшись, осушить. Выра подавил досаду. Раиса не поймет, почему они пошли для этого в Дом флота, начнутся слезы и злые упреки. Опять заявит, что она человек, а не прачка и вообще нужна Василию только для этого самого. Выражения, конечно, будут другими. Поднабралась у себя в госпитале всяких откровенных слов. Лучше бы она не устраивалась на эту работу, а ехала, как и большинство офицерских семей, в эвакуацию.
Когда Максим Рудых прибыл сюда с Дальнего Востока, Выра первым делом привел его к себе в дом.
— Вот моя хозяйка, Раиса Петровна.
— Можно — просто Раиса, — улыбнулась жена, проворно накрывая на стол. Судя по её настроению, Максим пришелся ко двору. Да и как могло быть иначе? Бренчит на гитаре, поет. Одни брови его чего стоят: взметнулись лихим изломом, всё равно как крылья у чайки. Весь вечер танцевали, много смеялись. Провожая гостя, Раиса наказала ему бывать запросто и вызвалась постирать. Но Максим, став помощником командира на катере Выры, уже не мог сходить на берег вместе с ним. Отдыхать им приходилось по очереди.
— Как твой цыган? — спросила как-то жена.
«Почему вдруг «цыган»?» — удивился Выра, соврав от неожиданности:
— Передавал тебе привет.
— Очень мило с его стороны. Я польщена…
Выра, естественно, умолчал об этом семейном разговоре, но друг, непостижимо как, всё понял сам.
Талонов на обслуживание в «Капернауме» у друзей не было, но они обошлись. Лиловатую жидкость из прихваченной с собой фляжки, смешав с водой, довели до колера мягких сумерек. Впрочем, напиток стал мягким только по цвету и, скверно потеплев, отдавал бензином. Каждый из лейтенантов, будь он один, скорее всего отставил бы свой стакан, едва пригубив. А тут пришлось выцедить, не поперхнувшись, и торопливо зажевать бутербродом с тресковой печёнкой. Консервы из офицерского доппайка, казалось, тоже припахивали бензином. Затем, проткнув кителя над правым нагрудным карманом, они привинтили к сукну лоснящиеся, влажные ордена.
— Недаром рекомендовали не разводить, — поморщился Максим.
— Кто консультировал? Новый комдив?
— А что? Конвой привел нормально. Живы, сидим вот здесь — и по какому поводу!
— Напиваться в бою — это… предательство.
— В таком случае ты соучастник. Зачем дал проспаться и не пустил корреспондента к нему в каюту?
— За кого принимаешь? — обиделся Выра. У него застучало в висках. Откуда-то возник звон, и голова ощущалась чужой, как после легкой контузии. Если бы поведение Терского имело дурные последствия, тогда другое дело. Тогда следователи докапываются до мелочей, и каждый обязан выложить всё. На сей раз всё обстояло наоборот. Только начальник связи флота сердитой депешей обращал внимание на безобразный радиообмен.
— Сам же не обеспечил микрофонной связи, — смеялся на разборе комдив.
— Предпочитаете матюгаться по УКВ?
— Эфир-зефир не морзянка к делу не подошьешь. И главное, надо глядеть в корень. Иначе побьют.
Тактические выводы Терского получили полное одобрение, и наступила пора наградных листов. Лейтенант Выра старался их заполнять объективно. Он и представить себе не мог, что старшина второй статьи Осотин, получив медаль «За отвагу», обидится и попросит списать его в морскую пехоту. Боцман хмуро стоял перед командиром катера, объясняя, что на Рыбачьем повстречал кореша и понял «по евонной груди», где воюют, а где так, ковыряют в носу. Проще всего было бы осадить наглеца, но Выра считал боцмана своей опорой на новом «охотнике». Осадить проще простого, но этим не убедишь.
— Коли так, оставь свою докладную. Ещё побалакаем…
— Чего рассусоливать? — бурчал Петр Осотин, выходя из крохотной каютки. — Всё ясно…
Он заявил это вроде бы про себя, однако же так, чтобы слышал командир катера. И тут Выра вспомнил разговор, которому прежде не придал значения. Перед швартовкой в бухте Озерко боцман заспорил с расчетом носового орудия, утверждая, будто он сбил «фоккер» из пулемета.
— Куда суетесь со своей шомполкой или, попросту, хлопунцом? Скажите спасибо, что целы.
— Кому кланяться? — обиделся старшина комендоров.
— Эх, темнота! Салаги! Будто не знаете, что мы с командиром — с «семерки», которая, всем известно, «неуязвима». А почему? Разъясняю — воюем по песне: «Смелого пуля боится и… самолет… не берет…»
— Лихая самодеятельность, — вмешался вдруг Терский. — Но, пн-те, вредная.
— Как это «вредная»? Очень даже полезная.
— Потому, что вводит в заблуждение.
— Между прочим, товарищ комдив, песню исполняют по радио, — стоял на своем Осотин. — «Славой бессмертной покроем в битвах свои имена. Только отважным героям радость победы дана».
— Так это написано для новобранцев. Чтобы раньше времени не клали в штаны. На фронте сами поймут, что отвага ещё не всё. Для победы ещё надобно умение…
— Точно, товарищ комдив. Вот и я им толкую: «Кто же сбил тогда штурмовик?..»
— Прекрати, Осотин! — вмешался Выра, удерживаясь, чтобы не назвать боцмана «Лешим», хотя не любил прозвища и даже, бывало, за них наказывал.
— Небось сами, товарищ командир, наблюдали, как я срезал фашиста из Де-Ше-Ка?
Боцман и впрямь вел себя по-лешачьи, спрашивая с эдакой ухмылкой и как бы приглашая вместе посмеяться. Шутил бы чёрт с бесом, а водяной с лешим.
— Потрепались, и хватит! — сказал тогда Выра, неожиданно убедившись, что кличка-то прилипла не зря.
Сам Осотин объяснял, что она из-за песенки. Дескать, имел дурость горланить в кубрике про то, как «У лукоморья дуб срубили… а Лешего сослали в Соловки». Происхождение прозвища всем стало ясно, а вот меткости его Выра тогда не оценил.
С докладной запиской надо было решать. Она осталась в каюте, но даже в «Капернауме» не давала покоя Василию Выре. Эти соображения вместе с бензиновой отрыжкой омрачали торжественный «прикладной час». Выра пробовал перебить отрыжку вяленой треской из буфета, которую обмакивал в рыбий жир, оставшийся во вскрытой банке. Ничто не помогало. Ничтожная примесь горючего, каких-нибудь сто граммов на бочку, и флакон обыкновенных чернил специально добавлялись интендантами в ректификат, выдаваемый для протирки оптики и для других технических нужд. Рецепт почти безвредный, но те, кто решался употребить жидкость для иных целей, неизбежно превращали горло в подобие выхлопной трубы.
— Тут на меня обиделся боцман. Просится на Рыбачий.
— Отпусти, — сказал Максим.
— Понимаешь, он ждал ордена, получил медаль…
— Будто не знаю твоего Лешего?
— Хлопец, верно, ершистый, зато моряк.
— Моряк? А ты стань на место Осотина. Смог бы требовать себе награду, если даже и заслужил?
— Требования не было, — смутился Выра. — Только намек.
— Или ты ошибся и самолет сбил он?
— Исключено.
— На что же тогда намек?
Логика была железной, и это задело Выру:
— Не станешь отрицать — он свое дело разумиет. Такие специалисты на дороге не валяются.
— Не стану. Но объясни, почему команда «семерки» обрадовалась, когда ты забрал Лешего.
— Обрадовались?
— И не скрывали.
— Может, и про меня так?
— Только не прибедняйся, — рассердился Максим. — Провоевал год без единой царапины, без потерь… Ещё не известно, как будет у них со мной.
— Ну, о себе ты загнул.
— Ты мне веришь, знаю. А вот они пока — нет.
— Ладно, оставим это, — сказал Выра, хотя слышать такое было приятно. — Я спрашивал в том смысле, что любой командир ещё и человек.
— Ну, если интересно… Только не обижайся. Думаешь, никто не видел, как ты предпочитал наводить порядок руками своего боцмана? А он уж старался, из кожи вон лез.
Слушай такую вещь, — перебил Выра и остановился перевести дух. Нельзя сказать, чтобы услышанное явилось такой уж новостью. Разве он сам не замечал, что боцман перегибает? Видел, даже поругивал, но ни разу не вмещался, не наказал. Однако всегда есть разница между собственными сомнениями и хлесткой формулировкой в лицо. — Раньше чего молчал?
— Не было повода, — усмехнулся Максим.
Подавляя досаду, Выра откинулся к спинке стула. Было ясно, что дело не только в поводе. Василий и сам не представлял, как бы перенес непрошеные советы, особенно со стороны своего стажера-помощника. Так или иначе, откровенный разговор состоялся и многое, очень многое прояснил. На прежнем катере Осотин не посмел бы требовать для себя привилегий, особливо за счет других. А тут, гляди-ко, развернулся. Между прочим, это означало, что Василий Выра вовсе не такой уж педагог, как считал комиссар. Но положение командира обязывало, и признаваться в ошибке не хотелось даже лучшему другу.
Растопырив пальцы гребёнкой, Выра прижал редеющие волосы к темени и вдруг кивнул с хитроватым прищуром.
— Что? — запнулся Рудых. — Ломлюсь в открытую дверь?..
Глава 4. Чтобы не было шептаний по гальюнам
Ещё до подъема на верхней палубе заголосили басом котельные вентиляторы, и корпус сторожевика, его надстройки, переборки, каюты откликнулись дрожью. Звякнул на мостике машинный телеграф, ожили стрелки на шкалах приборов. Старший лейтенант Лончиц дал пробные обороты винтам. «Торок» рванулся, но стальные концы, надраившись втугую, схватили корабль под уздцы.
В пятой каюте валялась на койке гора теплой одежды: две пары меховых брюк, альпаковые куртки на молниях с капюшонами. Чеголин с Пекочинским примеряли походное обмундирование, собираясь впервые выступить в качестве дублеров вахтенного офицера. Пока только дублеров. Получить допуск к самостоятельной вахте помешал инженер-лейтенант Бестенюк, который, как назло, заявился со срочными бумагами во время зачета.
— Минутку, — сказал ему командир корабля, показывая соискателям очередное сочетание из двух разноцветных флажков.
— Это ж ерунда, — нетерпеливо ляпнул Бебс. — «Поворот все вдруг вправо на семь градусов».
— Слышали? — рассердился Василий Федотович. — Даже механик знает, хотя ему совсем не обязательно. Учтите ещё раз!
Механик потом оправдывался:
— Ей-богу, братцы! Случайно запомнил только этот сигнал. Вот и сказал, чтобы поскорей закрыть наряды по корпусным работам.
— Среди механиков модно щеголять морской эрудицией, — саркастически заметил старший лейтенант Шарков, который раньше штурманил на эсминце при загадочных обстоятельствах был с понижением переведен на «Торок».
— К сожалению, не каждый механик способен выручить вашего брата, — ответил ему Бебс.
— Это называется выручить? — спросил Пекочинский.
— Анатолий Матвеевич вспомнил о другом случае, — скромно объяснил Бестенюк. — Но о нем он расскажет сам.
— Откуда вы взяли? — нахмурился опальный штурман и больше не вмешивался в разговор.
— Для вас же, друзья, — продолжал механик, — гораздо более актуальна другая история, о том, как некий курсант инженерного училища сдавал на прочистку мозги.
— Инженерного? — хмыкнул Чеголин. — Тогда излагай.
— Засорились у человека мозги. Сессию завалил. Если не пересдать, спишут. Идёт он как-то по Невскому и видит на месте часовой мастерской новая вывеска: «Ремонт мозгов». «Что же, — сказал мастер в белом халате. — Это можно. Сдавайте в окошечко и держите квитанцию». Однако в срок работу не востребовали. Мастер обеспокоился: «Как же две недели жить без мозгов?» — и сам понес их клиенту. «Почему не являлись? — спрашивает. — Вот примеряйте. Всё в лучшем виде, прекрасные теперь извилины». — «А зачем они мне? — возразил клиент. — Всё равно переводят в другое училище…»
— В какое? — настороженно уточнил Пекочка.
Бестенюк ожидал этот вопрос:
— Точно не установлено. Не туда ли, где пестуют таких, как ты?..
Кроме рассказчика, никто не засмеялся. Но и возмущаться тоже было неловко. Как бы не вышло, что слушатели приняли дурацкую байку на свой счет.
— К нам из Дзержинки никто не попадал, — на всякий случай информировал Пекочинский, — А вот наоборот, случалось, и списывали.
— Это не удивительно, — осклабился Бебс. — Стать инженером каждому лестно.
Каков наглец!
— Каждому? — осведомился Чеголин.
К сожалению, мозги у приятелей были, точно, засорены проклятым сводом сигналов, и оба оказавшись не в состоянии выразить ничего язвительного. Сдать зачет до первого выхода в море им так и не удалось, и потому приходилось довольствоваться скромной ролью дублеров.
Море дремало. Его подернутая рябью поверхность слепила глаза. Солнце, подобно старпому, приняв бессменную летнюю вахту, занималось своими делами, пытаясь растопить белую пудру на каменных берегах. Событий не предвиделось. Капитан-лейтенант Выра сошел вниз, а Евгений Вадимович Лончиц не мог предложить своим дублерам ничего поучительного. И проявил ценную инициативу паровой свисток, укрепленный на первой трубе, сразу за мостиком. Он бестактно запел сам по себе, отфыркиваясь кольцами пара.
— Вахтенного механика на мостик! — рассердился старпом.
Наверх вылез главный старшина огромного роста в промасленном комбинезоне. Его ладони по величине напоминали совковые лопаты, а щуплый Лончиц рядом с таким богатырем выглядел подростком.
— Что это, Грудин? — спросил Евгений Вадимович, показывая на поющий свисток. — Немедленно устранить! Понятно?
— Дык… там же клапан.
— «Дык-дык», — бушевал старпом и, строго взглянув на своих дублеров, вдруг принял волевое решение. — Забить чопом! Понятно?
Грудин ещё раз сказал: «Дык…», растерянно пошлепал широкими добрыми губами, но Лончиц уже отвернулся. Тогда богатырь, безнадёжно махнув десницей, скатился по трапам вниз. Через пять минут по скобам передней трубы вскарабкался матрос с кувалдой и конусной деревянной пробкой из аварийного материала. Два-три удара наотмашь, и на мостике стало тихо. Наконец сумрачный штурман Шарков составил таблицу соответствия скоростей хода оборотам машин и рассчитал поправки лагов на всех режимах. Пекочинский обрадовался, надеясь этим же вечером отпроситься в Мурманск к жене. Но командир корабля не стал поворачивать на обратный курс, свернув в Кильдинскую салму. Узкий пролив, по-местному «салма» теснился плешивыми скалами. Крутолобый материковый мыс, как бы наползая на остров, бодал острую стрелку косы.
— Рекомендую познакомиться, — радушно показал на них Выра. — Мыс Зарубиха и осушная коса со светящимся знаком Пригонный…
— Очень приятно, — шаркнул ножкой раздосадованный минёр.
— Между прочим, я не шучу. Коса тянется под водой на три кабельтова. Эти места следует знать как собственную хату.
— У кого она есть…
— Отнюдь… — резко начал командир, но сдержался. — Хата не хата, это уж как угодно, поелику буду требовать досконального изучения навигационной обстановки. Косу Пригонную будем огибать по секущему створу.
Притихшие дублеры вскинули бинокли, но не нашли на побережье двух ажурных ориентиров, которые, совмещаясь, показывают, что корабль вышел на линию начала поворота.
— Специальных знаков нет, — пояснил Выра. — Устье того ручья, видите, закрывается отдельным камнем. Тем, который ближе. Эмпирически установлено, что в этот момент пора командовать на руль и, есть встречные суда или нет, на всякий случай показать изменение курса звуковым сигналом.
Для наглядности командир потянул рукоять парового свистка, и тут раздался взрыв. Над головой будто громыхнуло тяжелое орудие. Первая труба окуталась паром. Высоко в поднебесье кувыркался чоп. Освобожденный свисток радостно повизгивал, а Василий Федотович, проследив за полетом деревянной пробки, глянул на старпома.
— Клапан пропускает, — смутился тот. — Вот и приказал забить.
— Слушай такую вещь, — громко начал Выра, а остальное добавил вполголоса, посоветовав заколотить чоп совсем в другое место.
Лончиц нервно оглянулся, пытаясь выяснить, как отнеслись дублеры, рулевой и сигнальщик к этой оригинальной идее. Но они сохраняли полную серьезность, и тогда вахтенный офицер торопливо скомандовал:
— Лево руля! Баковым на бак! Левый якорь к отдаче изготовить!
Несмотря на драматизм ситуации, он не пропустил точки начала поворота.
По авральному расписанию, лейтенант Чеголин командовал баковой группой и, прибежав на свое место, очень удивился тому, что главный боцман Осотин обносил на барабан шпиля правую якорь-цепь.
— Сказано — левый якорь!
— Левый нельзя, — процедил боцман. — Его будем драить и красить.
— Выполняйте приказание! — самолюбиво нахмурился Артём.
— Товарищ командир! — задрав голову, повернулся Осотин в сторону ходового мостика. — Разрешите — правый!
Главный старшина вел себя так, будто лейтенанта Чеголина вообще не существовало на баке.
Между тем сторожевой корабль приблизился к обомшелой глыбе с ацетиленовой мигалкой на вершине, Омывая островок Малый Кильдин, вода завивалась; жгутом, а корпус сторожевика вдруг содрогнулся и затих. Из-за торпедного аппарата, под которым находился люк котельного отделения, полыхнуло горячил ветерком. Вначале бесцветный, пар, поднимаясь, мутнел и заволакивал надстройки. Течение подхватило корму, заворачивая её поперек фарватера.
— Отдать якорь! — закричал Выра, перегнувшись через обвес мостика.
Он командовал прямо Осотину, игнорируя командира баковой группы. На полубаке грохотали звенья якорной цепи.
— Одна смычка на клюзе… две… три… — сообщал на мостик тот же Осотин.
Лейтенант Чеголин стоял с ним рядом, не зная, за чем он тут. Идиотское положение. Хуже не придумаешь.
— Стоп травить! — снова скомандовал Выра, минуя для скорости обычную телефонную связь.
Цепь надраилась. Якорь забрал. В наушниках звучал голос Пекочинского. Находясь на корме, он докладывал о метрах, разделявших корабль с островком. Чеголин завидовал товарищу, который распоряжался в юте самостоятельно.
Когда «Торок» благополучно развернулся на течении и стало ясно, что якорь держит надёжно, нашелся повод дать указание строптивому боцману:
— Стопора положить!
Осотин снисходительно ответил: «Есть!»
— И впредь, — продолжал Чеголин, наливаясь яростью, — вся связь пойдет исключительно через меня.
Главный старшина дернул плечом, но надерзить не успел. По этой самой телефонной связи поступило распоряжение офицерам прибыть обратно на ходовой мостик, и Выра спросил их будничным ворчливым тоном, вытирая с лысины пот:
— Теперь ясно, почему в узкостях следует изготавливать якоря?
Неужели рискованный манёвр был запланирован заранее с единственной целью убедить в обоснованности требований морской практики? В таком случае зачем был вызван инженер-механик? Как раз он всё и разъяснил. Нет, это не было условной аварией — пробило магистраль продувания главного котла. Вахтенные у горения, у питания, у турбовентиляторов вместе со старшиной выскочили на палубу и уже оттуда выводили котел из действия.
— Это случилось из-за свистка? — обеспокоился Лончиц.
— Простите, не понял, — вежливо сказал Бебс.
— Говорю, не лопнула ли магистраль из-за чопа?
— Если заколотить предохранительный клапан, мог бы «лопнуть» котел. В таком случае вряд ли мы могли разговаривать на мостике. А магистраль дала свищ просто от старости.
— Хаете боевую технику, да ещё после дока?
— Нам необходим капитальный ремонт, а не Тришкин кафтан.
— О кафтане потом, — перебил механика Выра. — Все ли целы? Где доктор?
Оказалось, один из матросов выскочить наверх не успел. Едва стравили пар, Бестенюк и Грудин решили извлечь пострадавшего из котельного отделения. Они спустились в ватниках, в рукавицах, обмотав головы тряпками поверх меховых ушанок, и обнаружили вахтенного у вспомогательных механизмов в полном здравии на своем посту.
— Спрашиваем: «Чего здесь сидишь?», — рассказывал Бебс. — Объясняет: «Не было команды от мест отойти». — «Дык здесь жарко», — механик очень похоже скопировал своего спутника. — «А я залез пониже, — ответил тот. — Пониже ничего, можно терпеть…»
— Хлопец — герой, — заявил капитан-лейтенант Выра. — Ему десять суток отпуска с выездом домой…
— Как фамилия? — спросил капитан третьего ранга Тирешкин, — Надо оформить боевой листок…
— Его-то? — усмехнулся командир БЧ-5. — Его фамилия Богданов.
— Богданов? — ужаснулся Тирешкин. — Товарищ командир, его фамилия Бог-да-нов!
Хотя заместитель командира по политической части Макар Платонович Тирешкин был старше чином он обращался к Выре так, словно всё обстояло наоборот. А Василий Федотович, видно, привык, и напоминание Тирешкина, несмотря на значительное тона, на него не подействовало. Почесав лысину под шапкой, командир корабля выпростал ладонь и махнул ею решительно.
— Пусть съездит, коли заслужил!
На дырявую магистраль наложили прочный бугель, и появилась возможность дать ход. Но Выра только переменил место якорной стоянки, избрав для неё рейд с выразительным именем Могильный. Боевой листок с описанием действий матроса Богданова так и не вышел, а поощрение, ему объявленное старпомом на построении по большому сбору, было встречено оживлением. Потом лейтенант Чеголин в сопровождении старшины команды комендоров Буланова решил осмотреть артпогреба, где в металлических сотах-ячейках уже лоснились смазкой унитарные патроны с боевыми и практическими снарядами. Там всё оказалось в полном ажуре, и тогда Иван Буланов принялся ходатайствовать об отмене взыскания старшине первой статьи Якову Рочину «за разведение мокриц».
Лейтенант Чеголин выслушал его без удовольствия, Главный старшина Буланов был из тех людей, которым неловко приказывать. Коренастый, основательный с неторопливой походкой и ухватистыми пальцами в серых крапинках, как у слесаря, Иван Буланов выглядел твёрдым, вроде драчевого напильника. Лейтенант, давая указания по службе, ловил себя на просительных интонациях, но, настойчиво отрабатывая командный язык, он отклонил ходатайство своего первого помощника.
— Хороший специалист, — настаивал главный старшина. — В тот раз трюмные были виноваты — забыли предупредить о ремонте системы орошения.
Буланов был прав, но Артём не поддался. В следующий раз Рочин пусть трижды подумает, прежде чем тыкать под нос расписку в журнале.
Неприятный разговор прекратился только по сигналу начать тренировки на боевых постах. Накануне лейтенант утвердил представленные старшинами плана занятий, хотя сильно сомневался в правильности методики. Например, зенитные автоматы наводились по чайкам. Удерживать их в перекрестиях коллиматоров сложнее, чем самолеты, зато невозможно было найти критерий точности наводки. С тренировками расчетов главного калибра было сложнее. Чеголин сунулся было за советом к старпому, но тот был по специальности связистом и потому с наивозможной строгостью приказал:
— Действуйте согласно ПАС. Понятно?
Но в «Правилах артиллерийской службы» многое подразумевалось, как заведомо известное всем. Артёму до зарезу требовались практические советы штабного специалиста, лучше бы всего дивизионного. Но в отряде учебных кораблей дивизионов не существовало. Каждый сторожевик замыкался на штаб отряда. Артиллерией по совместительству там занимался капитан второго ранга Нежин. Тот самый помощник начштаба, который «временно отсутствовал» на рабочем месте. Чеголин стеснялся соваться к нему с элементарными вопросами. А вдруг опять высмеет?
Пекочинский и Чеголин поочередно заступали на дежурство, и якорные дни казались им неразличимо похожими. Пока тусклое светило висело над мысом Чеврай, над крутоярами Трех Сестер, отодвигаясь к Топорковой пахте, скучать было некогда. Расписанный по минутам день с трудом укладывался в рамки корабельного распорядка. Потом спускали флаг, а солнце, устало приникая к пологим зеленым холмам острова Кильдин, катилось обратно с запада на восток. И корабль, опустив в гладкую воду четыре смычки якорной цепи, тоже ходил по кругу, оборачиваясь дважды за сутки.
Сторожевик следовал дыханию моря, глубокому и отчетливому. В тягучие часы ночного дежурства Артём видел в бинокль, как набухала приливная волна — и, недолго постояв, шла на убыль, завиваясь в горле пролива пенной толчеей. Монотонно, совсем по-домашнему урчал воздушный компрессор дежурного котла, чавкала донка, гудело турбодинамо. Якорь цепко держался в илистом грунте, оружие ночевало в брезентовых колпаках, и на душе разливалось благостное ощущение покоя. Здесь, на рейде, закрытом от всех ветров, невозможно было представить, что солнечные безоблачные ночи ещё недавно считались самой опасной погодой и не было в таком море ни дна, ни по, крышки, ни отдыха, ни уверенности в том, что вернешься назад.
Мягко, ласково шлепал колышень по тонкому борту. Колышень — это мелкая рябь, лучше не скажешь. Море покуда отступило от берегов, обнажив прозелень осушек и лаковую мокреть сглаженных валунов. Сторожевик, казалось, дремал, слегка рыская на обвислой якорь-цепи. Время от времени Чеголин нацеливался пеленгатором на береговые ориентиры, получая почти одинаковые отсчеты. Их даже не требовалось прокладывать на карте. И так было ясно, что якорь не ползет. А солнце сияло с полуночной стороны горизонта, выпячивая сварные заплаты по борту и по надстройкам. Как ни заглаживали швы, как ни закрашивали шаровой краской, они глядели шрамами, но не портили силуэт корабля. Звездные часы «Торока» остались позади. Для учебного корабля тоже наступило время отлива, которое местные поморы издавна величали «часом кроткой воды».
Учеба начиналась с азов, с отработки организации службы. Команда была сокращена, и требовалось заново составить и согласовать между собой все корабельные расписания. Только Пекочинский никак не мог найти себе места, не в прямом, а в переносном смысле. Ему не давала покоя Анечка и торжественное обещание не оставлять её надолго среди малознакомых людей. И Чеголину муторно было торчать на отдаленном рейде. Стоянка не стоянка, поход не поход. Только в конце второй недели, за ужином, капитан лейтенант Выра спросил:
— Ну как там машины? Больше не подведут?
— Всё проверили, — доложил Бебс.
— Коли так, пора возвращаться…
Гавань выглядела малогабаритной из-за непропорциональной высоты отвесных берегов. Не только гавань, корабли у её причалов будто бы тоже съёживались до размеров игрушечных. Единственной достопримечательностью в натуральную величину казалась бетонная плита у гребня одной из вершин. Для прочтения начертанного там текста бинокль не требовался. Достаточно было задрать голову, чтобы убедится — это огромная мемориальная доска, вознесенная на удивительную высоту.
Капитан-лейтенант Выра в своем рыжем реглане «прицеливался» к однотипному сторожевику, собираясь швартоваться к нему вторым корпусом. «Торок» стал медленно по касательной приближаться к борту своего «систер-шипа», на котором, однако, стояли другие пушки, более старой системы и без броневых щитов. То ли инерция хода была недостаточной, то ли расчеты командира «Торока» спутал порыв отжимного ветра, но пришлось отработать задним ходом и начать маневр заново. Офицеры с берега громко подавали советы. Выра потемнел. Доктору Мочалову досталось за невнимательность на машинном телеграфе, рулевому — чтобы не зевал за штурвалом, Осотину и Пекочинскому — за то, что «чухались» со швартовыми.
Носовой конец удалось подать и закрепить с третьего захода. А корму отнесло, и второй проводник тоже подавали с носа, затем тащили на руках вдоль борта. Кормовой конец завели на барабан тральной лебедки, которая взвыла от натуги. Пришлось помогать ей машинами «враздрай» — один винт вращался передним ходом, другой — полным назад. «Торок» рванули кранцы с пробковой крошкой не смягчили удара о другой сторожевик. Командир его, выскочив на палубу без шинели, хаял Выру публично, как только мог. Зрители на берегу откровенно смеялись.
— Сейчас будет стрелочников искать, — сказал Пекочинский, после того как подали сходню.
Однако капитан-лейтенант Выра раздавать фитили не стал.
— Чтобы не было шептаний по гальюнам, — сказал он, сурово оглядев личный состав, построенный по большому сбору, — объявляю: «Виноват я!»
Год 1942-й. Шило на мыло
Кабы заранее знать, как встретят в отряде, Осотин трижды бы подумал, прежде чем подавать рапорт в морскую пехоту. Блиндаж, куда надлежало явиться, он нашел не сразу. Груда глинистого сланца, в расселинах которого рос мох и березовый стланик, ничем не отличалась от остальной местности. Как удалось выдолбить в камне яму такой глубины, чтобы в ней поместился бревенчатый сруб? Оконные проемы дома были наглухо заложены плавником, взамен крыши — тройной накат с «подушкой» из щебня, под самым потолком прорублены узкие щели, в которых плотным рядком просвечивали пустые стеклянные банки. Блиндаж был бы просторным, даже огромным, если бы двухэтажные нары по обе стороны от входа. На них лежали, спали или просто сидели полуодетые парни в лыжных фланелевых рубахах, армейских шараварах, гимнастерках, флотских робах из отбеленного или синего брезента. Их объединяли только тельняшки, полосатившиеся у кого во весь торс или уголком из-под воротов. И ещё повсюду было оружие. По стене на гвоздях висели пистолеты-пулеметы Шпагина ручные, дегтяревские, с коническими надульниками, семизарядные винтовки Токарева с плоскими штыками, пистолеты и револьверы в кобурах, все разных калибров и систем, ножи-финки в ножнах с цветными наборными рукоятями из плексигласа.
Осотин привык к флотским кубрикам, которые всегда выглядели опрятно, к единообразию морской формы, к стеллажам с синеватым частоколом примкнутых штыков. Тут всё было не так, и он задержался у дверей, не понимая, куда попал, кому доложить о прибытии.
— Здорово, братва!
— Привет, если не шутишь, — отозвался круглолицый шпендрик в грубошерстном домашнем свитере. Сидя на корточках у небольшой печурки, он ловко потрошил картонные гильзы трофейных ракет и высыпал их содержимое в топку. Чугунные бока сотрясаясь от желтого, зеленого, багрового огня. Развешанные вокруг портянки исходили едким паром.
— Ещё один салага, — засмеялись с нар.
Осотин с достоинством обернулся — нет ли позади кого.
— Положим, боцман, — поправил он, представляясь по должности.
Узкая золотая нашивка над обшлагом шинели так указывала на старшинское звание.
— Тогда ошибся адресом, — нахально прищурился шпендрик в свитере. — Боцмана не требуются. тут другая работа.
— Положим, флотского порядку не хватает, — возразил Петр, соображая, как бы смачнее отбрить. самый раз научить действовать шваброй, чтоб «палубу скатить и пролопатить».
— Полундра, мужики! Нам рекомендуют мокрую приборочку!
Парень с усиками, который обозвал Петра салагой, вытащил трофейную губную гармошку, очень похоже изобразил на ней соответствующий сигнал дудкой, а ж потом резко сменил репертуар.
— Эх, яблочко! Куды котишься? К егерям попадешь, не воротишься… — дурашливо подтянули соседи.
Осетину стало ясно. От реакции на песенку во многом зависит, как примут его здесь. Приглядевшись, он увидел за печуркой стеганые маты, как в физкультурном зале. Там же болталась на подвеске тяжелая кожаная «груша», свисали гроздья боксерских перчаток, лежали рапиры, учебные винтовки с эластичным штыком и фехтовальные шеломы с сетчатыми проволочными забралами.
— Виноват — не сообразил. Оказывается, здесь груши околачивают. Только не знаю чем?
С нар грянули хохотом, а шпендрик со всей серьезностью подтвердил:
— Молодец, наблюдательный. Скидавай шинелку, «сидор» положь. Так и быть покажу: и как, и чем…
Он явно напрашивался на хорошую взбучку. Усмехаясь, Петр ступил на ковер и в ту же секунду неизвестно как спикировал оземь, вскочил, зверея, бросился в атаку и вновь потерял почву под ногами. Он сражался отчаянно, но шпендрик неуловимо ускользал, а упругие маты не очень смягчали удары плашмя.
— Жидковат в коленках, — сказал ефрейтор с зелеными петлицами на застиранной гимнастерке.
— Эй ты, служба, заткнись! — рявкнул Петр.
— …но, кажется, злой, — продолжал пограничник, не обращая внимания на выпад Осотина.
— Может, самолюбивый? — возразил ему круглолицый. — Конечно, обидно. Надо понять.
— Все они самолюбивые, когда не в рукопашной, а вот так, на ковре…
— Ерунда! — заключил шпендрик. — Не умеет — научим. А злость? Ну, ещё поглядим…
Затем он обернулся к Петру и протянул руку:
— Замполитрука Клевцов.
Воинское звание «замполитрука» соответствовало мичману, а в армии старшине — четыре узких галуна на рукавах под красной, обшитой золотом «комиссарской» звездочкой или четыре треугольничка в петлицах. Но знаков различия на свитере не было. Откуда Осотину знать, с кем дрался?
— Давай, боцман, свои документы. Насчет мокрой приборочки попал в точку. Сам и займешься. А на ребят не гляди. Пусть себе отдыхают после задания…
— Как это? — Осотин удивился и; одеваясь, будто невзначай выставил нарукавную нашивку: чтобы ему старшине второй статьи, вкалывать рядовым? И где? В какой-то занюханной пехоте?
— А так! Разве ещё не понял? Тогда повторю: боцманов не требуется, а в нашем деле, как мы убедились, не петришь.
Осотин собрался было качать права. Он хорошо знал, что это порой помогает. Но замполитрука опять упредил, как и при схватке на матах:
— Со стороны иногда кажется, что в нашем отряде обходятся без дисциплины. Это большое заблуждение. А каблуками можно не щелкать.
На нарах опять загоготали. Петр догадался по смеху — всё так и есть. Пришлось самому наносить воды и драить «палубу». Он работал и костерил себя. Выходило, что променял шило на мыло. Был человеком существительным, можно сказать, хозяином, а стал, точно, салагой, С первого дня повелось: «Боцман, при бери! Боцман, подай!» Боцман, боцман… даже без имени. Как это понять? И лейтенант Выра по всему должон был вызвать не раз и не два, а рапорт порвать Где ж ему найти второго такого боцмана? Дак нет отпустил с «охотника» без разговоров. «Ну халява! Опосля покусает локти, жалеючи». Халявами у них в деревне ругали грязнуль, и слово это считалось куда как обидным. Бранись теперича не бранись, а лейтенант Выра всё равно не услышит. Самое главное, что сам Осотин уже привык заставлять других, а мог и наказывать. Ещё новобранцем в учебном отряде он понял: власть — это всё. Ради власти стоило поднатужиться. Конечно, над боцманом тоже было много всяких начальников. Но те попусту не чеплялись, а ежели что случалось, всегда найдешь виновников пониже себя. Обидно было Петру Осотину. Звание оставалось при нем. Никто не разжаловал, а поставили рядовым. За что? На шестом году службы приходилось всё начинать сначала.
Клевцов не соврал. Дисциплина в отряде была, и для всех одна. На корабле ведь как: «Команде вставать! Койки вязать!» В кубриках толкотня, в гальюн не пропихаешься, всё по минутам. Попробуй опоздать! А в каютах тишина, там ещё отдыхают, имеют полное право до завтрака. Тут же хоть капитан, хоть лейтенант, а выбегали на зарядку, как штык. Одни на турник, другие крестились пудовыми гирями или дрались на ринге. И пошло-поехало. По долинам и по взгорьям, в темпе, с оружием и полной выкладкой.
Недомерок из пограничников ещё подначивал: «Зови Иваном! Буду учить». Помыкал, как зуйком, и натаскивал. По десять, по двадцать раз, в грязи или снегу заставлял незаметно подползать; вдарившись затылком о камни, бить каблуком в пах; метать финку, чтобы «стреляла» метров за десять, втыкаясь в мишень на бревне. Или раз перекинул доску с валуна на валун и объявил трапом.
— Какой тебе «трап»? Сходня!
— Боцману виднее. Однако не замочись.
Доска прогибалась, пружинила, а Петр, привычно соразмерив шаг с колебаниями опоры, перебежал, горделиво оглянувшись, заметил, что пограничник «Зови Иваном» только кивнул, посчитал, видно, за норму. Какой моряк не справится со сходней?
Вдругорядь пришлось замочиться. Высаживались десантом с надувных шлюпок. Волна ходила злая, жгучая, вся ровно в цыпках. В ней зрело ледяное сало. И к берегу близко не подойти — кипит накатом в каменьях. Вода была густой, дна не видать. А Клевцов приказал:
— Боцману прыгать!
Есть! — сказал Петр, а дна веслом не нащупал. Рано прыгать, с грузом не выплыть. Пока судил да рядил, Семен Зайчик был уже за бортом, его зубы било чечеткой, однако скалился:
— Ратуйте, люди добрые, — не утоп!
Тут уж посыпались все. К урезу воды подпрыгом, по склизким скалам ползком, по мокрой глине по-пластунски, ходом, чтобы не прилипнуть, как муха к липучке. Клевцов загнал взвод по крутому склону на высоту с отметкой 286 метров по команде/ «В атаку— бегом!» Вода с одежды стекла. Поверх всё задубело. Исподнее, распарившись, обнимало компрессом. Костра не разжигали, только укрылись от ветра, и Клевцов стал разбираться. Осетина не ругая, нет. До, сталось Зайчику.
— Куда вперед сунулся? Кому было приказано?
Ну и образина была у этого Зайчишки: губищи толстые с вывертом, волос как у мерлушки, частил кольцом. Осотин полагал, что бабы должны от такого шарахаться. Но в отряде баб не было. Здесь на рожу не глядели, а, судя по повадкам, Семен был не из по. след них бойцов.
— Чего такого особенного? Ну прыгнул. Боцман ещё не обтерся.
— Именно, — подтвердил Клевцов. — А надо, чтоб привыкал… Смотри, Зайчик, терпение лопнет. Сколько раз говорил: без приказа не лезь.
Пограничник «Зови Иваном» пихнул боцмана в бок, намекая, что и ему должно сделать выводы, а полусырой Зайчик только ухмылялся. Ясное дело: смелость не робость. За такое и выволочка приятна. Только и оставалось боцману, как с досадой придавить окурок. Эх-ма! Лучше бы тоже пропесочили. Только подумал и напросился.
Замполитрука Клевцов не побрезговал, поднял из моха замусоленную цигарку и, развернув, прочел, что осталось на обгорелом газетном клочке: «…АСС 27 сентя…»
— Понимаете, что это значит? Оставить такой текст равносильно провалу боевого задания.
— А куда девать?
— В карман, дорогуша, в карман…
— Выходит, не оставляй улики для трибунала, — хотел обернуть в шутку Осотин.
— Ошибаетесь, — недобро возразил Клевцов.
Наутро побудки не было. Осотин проснулся сам.
— Ушли на задание, объяснил владелец губной гармошки. — Да ты не куксись, боцман. Ещё успеешь наложить в клеши…
— Сам штаны пачкал или кто натрепал?
— Мне зачем? И здесь работёнки навалом.
— Вона как? То-то, гляжу, распелся: «К егерям попадешь, не воротишься…» Артист!
— Точно так. Солист ансамбля песни и пляски флота Арий Мелин. Слыхал?
— Кто вас разберет? Кроме дирижера — все рядовые.
Все первые дни службы в отряде Осотин находился как бы под прессом. Его подавляли сильные люди. Их здесь оказалось куда больше, чем везде. И не было слабаков, над которыми легко взять верх. Осотин и себя. считал сильным. Промахи не в счет. Промахи объяснялись только тем, что он маленько не втянувшись. Но вот отряд ушел, и Петр стал распрямляться, становясь самим собой.
— И вообще, — веско заявил он. — Самодеятельность не уважаю. Нет.
— Ансамбль, положим, у нас профессиональный. Для солиста нужен диплом музыкального техникума или…
— Ишь ты! С образованием…
Осотин был оскорблен. Пущай хоть артист. Это ли по-честному: на чужой спине ездить в рай?
— И за кого тебя держат? На гармошке играть?
Но Ария Мелина вопрос не смутил:
— Держат — значит нужен. Так и быть, идём — покажу.
В каморке у артиста стояли верстак с тисками, точило, токарный станочек, а в углу валялась груда старых железяк — экая невидаль.
— Такое сюда приносят, — показал Мелин на груду.
Петр пригляделся. Ствол, конический надульник, автомат без приклада, всё красно-рыжее, как бы в кровище.
— Нет, — догадался артист. — Ржавеет оно от морской воды.
— Драишь?
— Где же прикажешь набрать запчастей?
При этих словах Мелин отворил шкаф, доверху набитый оружием. Там были наганы, «ТТ», твёрдые в прицеле офицерские «вальтеры», автоматы-шмайсеры со складными прикладами, похожими на костыли. Все они выглядели как новенькие.
Главной специальностью отрядного оружейника оказалось изготовление финок. Ножички у него получались что надо: клинки из трофейной золингеновской стали, заточенные, хоть брейся, ухватистые рукоятки с рисунком наборных цветных поперечин, тщательно отцентрованные для метания.
— Желаешь? Дарю!
— Не желаю, — отрезал Осотин.
— Зря. Ребята говорят — в рукопашной не обойтись.
— Дак мне и выдадут, ежели не обойтись.
Хотя оружейник не какой-нибудь шиш. Оружейник — другое дело, но чего куражится: «Дарю…» Ишь раздарился. Много о себе понимает.
Глава 5.Челночный обмен в промежуточном диапазоне
Четыре троса, скрученных из высокоуглеродистой оцинкованной проволоки, которые назывались «прижимными», а также «смотрящими» назад и вперед удерживали у причала многосоттонный сторожевик. Но гораздо прочнее швартовых корабль был привязан к берегу письмами. По вечерам в кубриках строча напропалую, корабельный писарь штемпелевал конверты фиолетовым треугольником: «Воинское, бесплатно» — и отправлял на почту мешками. Ответы доставлялись в той же таре. Старший лейтенант Шарков командовавший по совместительству боевой частью наблюдения и связи, называл всё это «челночным обменом в промежуточном диапазоне». На промежуточных частотах средневолнового диапазона радисты поддерживали тактическую связь поверхностной волной. Но штурман Шарков просто-напросто ехидничал, намекая на то, что бесплатная нагрузка на почтовое ведомство сама по себе несерьезна и, так сказать, «промежуточна» по отношению к службе.
На следующий день после возвращения «Торока» в базу главный старшина Буланов постучался в каюту лейтенанта Чеголина с письмом в руках. Старшина команды просился на сутки домой. Его жену вместе с другими работниками хлебозавода командировали на лесозаготовки в Карелию сроком на два месяца. Причина не показалась Чеголину достаточно веской, особенно в данный момент, когда в стволы пушек была залита щелочь после пробных выстрелов.
— «Первым делом, первым делом самолеты», улыбнулся лейтенант.
Его логика на главного старшину не подействовала. Настаивая, тот попросил разрешения обратиться к старпому.
— Отставить. Занимайтесь делом! — рассердился Артём и прекратил бесполезный разговор.
Сосед по каюте долговязый Пекочка тоже получил депешу. Анечка кратко информировала его об отъезде к маме. Она соглашалась вернуться только «хозяйкой дома», то бишь комнаты, полученной по ордеру квартирно-эксплуатационной части гарнизона. Минёр воспринял это как дополнительное взыскание и возложил ответственность на черствого Выру. Естественно, Артём старался поддержать товарища и рассказал о его семейных неприятностях заместителю командира Тирешкину.
— На жилплощадь надежды мало, — ответил тот. — Ежели рассуждать логически, разве дадут ордер по первому году службы? Короче: «Не в свои сани не садись — пригодится воды напиться!»
Макар Платонович при этом хитро посмотрел и рассмеялся. Он любил переиначивать поговорки. Но потом капитан третьего ранга всё же пообещал данный вопрос провентилировать», и от этого за обедом сразу же потянуло явственным сквознячком.
Кают-компания на «Тороке» была такой же компактной, как и весь корабль. Обеденный стол располагался от борта до борта. С трех сторон он был окружен узким встроенным диваном, на который задвигались впритирку четыре персоны. И ещё двое, командир корабля и его помощник, занимали места по торцам. Со стороны входной двери было четыре стула, привинченных к палубе. А сверху всё венчалось абажуром между двух бестеневых медицинских софитов.
Тесноватый уют располагал к задушевным беседам. Тем более что минёр Пекочинский и остальные едоки, согласно расписанию занимающие строго определенные места на диване, не могли подняться из-за стола раньше командира или старпома. Минёр находился как бы в ловушке, и это обеспечило доктору Роману Мочалову самую необходимую аудиторию. Доктор начал со стихов:
— «Всё на земле умрет — и мать, и младость, жена изменит и покинет друг. Но ты учись вкушать иную сладость, глядясь в холодный и полярный круг…»
Догадавшись по репертуару, откуда ветер, Пекочка зло посмотрел на недоумевающего Чеголина.
— Скажи-ка, дружище, — проникновенно добавил Мочалов. — У неё были ещё приятели, кроме тебя?
— Школьные подруги, — неосторожно ляпнул минёр и попался в ловушку.
— Ясно, — кивнул исцелитель. — Познакомила только с подружками…
— Нет у неё никого! — повысил голос Пекочка.
— Ладно, — не стал спорить Мочалов. — Пока, предположим, нет. А в маминой квартире есть телефон.
— П-подумаешь…
— Недооценка возможностей цивилизации. Ты представь: рядом филармония, театры, кино, не говоря уж о танцах в Мраморном зале. Так просто сообщить номерок на память, особенно когда скучно…
— Сколько времени ты был знаком? — вмешался Бестенюк.
— Целых два года.
— Гм. В увольнение ходил раз в неделю?
— На четвертом курсе два раза, — защищался Пекочинский, хотя губы его побелели.
— Эти дни в твоей записной книжке помечены красным кружком?
— Откуда знаешь?
— Эвона… Так делали все. А теперь задачка из арифметики. Часы увольнения помножить на красные дни твоего календаря и разделить итог на двадцать четыре. Наберется месяц. От силы. А ты — «два года».
— Слушайте такую вещь, — заметил Выра. — Инженерные расчеты нужнее для техники. Хотя ранняя женитьба, точно, мешает нормальной службе.
— Конституцией, товарищ командир, это не предусмотрено! — Минёр демонстративно перестал называть Выру по имени-отчеству.
— К сожалению, так… — Василий Федотович будто не заметил официальное обращение.
— А я к чему веду? — не унимался Бебс. — Наша специфика требует мужественно переносить невзгоды.
— Получив моральную поддержку, Роман Мочалов вновь проявил литературную эрудицию:
«Девушка пела в церковном хоре о всех усталых в чужом краю, о всех кораблях, ушедших в море, всех забывших радость свою…»
Поэзию нельзя понимать слишком буквально, и потому Александра Блока минёр не оценил. А Макар Платоновичу не понравилось упоминание о религиозных культах. Выяснив, где и когда напечатаны такие стихи, он критиковать их не решился, однако подчеркнул, что лейтенант Пекочинский хотя и не венчался, но имеет в документе законный штамп.
— Что из данного факта вытекает? Вытекает, что наши семьи должны быть крепкими. А вы его ушатом по холодной башке.
— Хотите сказать; холодной водой из ушата? — не вытерпел Евгений Вадимович Лончиц. — По-русски выражаются так. Понятно?
— Я сам знаю, как выражаться, — нахмурился заместитель, но Пекочка его перебил:
— Не желаю обсуждать эту тему! Хватит!
— Тебе же добра желают, — пожал плечами механик. — Или не знаешь, что закалка ведется попеременно огнем и водой?
— В масле закаливать лучше, — улыбнулся Выра. — И посему с комнатой Нилу Олеговичу следует помочь…
Лейтенант Чеголин вышел на палубу в прекрасном настроении. Ему следовало проверить пушки, которые банили с самого утра. Это процедура ответственная и довольно утомительная. В канал ствола наливается несколько ведер кипятка с ядовито-зеленым мылом, похожим на пластилин. Потом весь артиллерийский расчет запихивает туда «ерш» на длинном шесте, отскабливая тугой щетиной остатки сгоревшего пороха. После мытья ствол протирается насухо, смазывается едкой щелочью, снова пробивается паклей и ветошью. Операция повторяется не раз и не два. До тех пор, по ка стальная труба в спиральных канавках нарезов не засверкает как полированная.
Работа требует внимания и добросовестности. Иначе порошинки, прикипевшие к металлу, со временем дадут раковины, и это приведет к разнобою в залпе. Вот почему глагол «банить», хотя и происходит от очень знакомого слова, не вызывает сладостных воспоминаний. Особенно когда выясняется, что ни кипяток, ни мыло со щелочью, ни натужные бурлацкие команды; «Взяли… Ещё… Ещё раз…» — не помогают. Спрессованная ветошь продолжает вылезать с подозрительными штрихами от пороховой копоти, и очень хочется, махнув рукой, смазать ствол тонким слоем масла, которое до поры скроет изъяны. И надо же было так случиться? Лейтенант Чеголин застал расчет носового орудия именно в момент смазывания.
— Главный старшина Буланов проверял?
— Сами справились, — доложил старшина первой статьи Рочин.
— Почему не доложили Буланову?
— Как ему доложишь, — удивился Рочин, — он в Мурманске у жены?
— Та-ак, — сказал лейтенант.
Канал ствола он заставил протереть заново, взглянул в трубу через открытый затвор, но, как ни старлся, не мог усмотреть ничего подозрительного. Рочин показывал тугой цилиндр из белой тряпки с выпукло спиралью от нарезов.
— Всё чисто.
— А полоски?
— Следы масла.
— Маслом кашу не испортишь, — добавил заряжающий.
Лейтенант юмора не оценил:
— Орудийный ствол — не каша!
Ответить иначе Чеголин не смог, заподозрив другую причину веселья. Главный старшина Буланов в увольнении, а командир боевой части об этом не знает. В самом деле смешно.
— Банить ещё раз! — возмутился Артём и ушел.
На следующий день ослушник сам явился к нему в каюту, как ни в чем не бывало, пожелал доброго утра и… стал докладывать о текущих делах.
— Кто разрешил отлучку? — перебил лейтенант.
— Старший лейтенант Лончиц!
— Трое суток ареста за обращение не по команде!
— Есть, трое суток… — потемнел главный старшина и, повернувшись налево кругом, вышел из каюты.
— Так ему, голубчику, так, — одобрительно хмыкнул Пекочка и тут же спросил: — А взыскание согласовано?
— Зачем?
— Затем, что тобой допущено превышение дисциплинарных прав.
В самом деле, Чеголин мог объявить сверхсрочнику выговор, подумаешь, какое наказание. У язвленное самолюбие Артёма требовало во что бы то ни стало уязвить и подчиненного. Как это сделать? Ясно, арестовать. Правда, командир корабля вполне мог объявить взыскание недействительным, что было бы куда большим ударом по самолюбию. Однако капитан-лейтенант Выра, дотошно разобравшись во всех обстоятельствах, заставил Чеголина снова зубрить устав, записку об арестовании подписал. Василий Федотович при этом морщился, но Артём был удовлетворен.
Через несколько дней в кают-компанию заявится главный боцман Осотин.
— Разрешите? — спросил он больше по традиции и, не сомневаясь в ответе, протянул Выре какую-то бумажку.
Пока тот читал, боцман нагловато подбоченился, собираясь по обыкновению рассказать, как ловко он выполнил поручение, но вдруг, совершенно переменившись, попросил «добро» удалиться и даже каблуками прищелкнул при повороте налево кругом. Артём Чеголин не замечал выправки у развязного боцманюги, а прорезалась она, скорее всего, потому, что в каюткомпании ужинал гость — помощник начальника политотдела но комсомолу Виктор Клевцов, который по званию тоже был лейтенантом. Подумаешь, какое начальство!
Василий Федотович не обратил внимания на поразительное превращение Осотина и, отпустив его рассеянным кивком, передал бумажку минёру.
— Вот вам адрес. Не ахти какие хоромы, но для двоих сойдет.
Собственно, адрес был ни к чему. Комната находилась в «циркульном» доме, рукой подать от причала. Пекочинский возвратился на корабль уже через полчаса. Он был смущен и разочарован.
— Н-не знаю, как быть. Эт-то даже не комната, а платяной шкаф.
Жилплощадь, предоставленная ему во временное пользование, имела около пяти квадратных метров. Основное пространство здесь занимал двуспальный матрац на самодельных ножках. Рядом, между стеной и тахтой, был втиснут четырехугольный столик ресторанного типа, который, таким образом совмещал функции туалетного и обеденного. Со свободной стороны поместился единственный стул. Вешалка для одежды была прибита к стене над постелью, а посудный шкафчик нависал над столом. Словом, здесь было предусмотрено всё, и достаточно целесообразно. Не обладая пространственным воображением, Пекочинский просто привередничал. Потолки в «циркульном» доме возвышались на три с половиной метра. Таким образом, высота комнатки оказалась больше, чем длина. Вот она и показалась минёру «шкафом». Стоило строителям догадаться опустить потолок на метр, как сразу бы появились необходимые для уюта пропорции.
— Как мне привести Аню в такой чулан?
— Разведись или ищи особняк, — рассердился Чеголин.
Обе рекомендации показались Пекочке ещё более нереальными. Он смирился и отправил жене телеграмму с требованием приехать как можно скорее. Ответная депеша пришла накануне очередного выхода в море. Поэтому о поездке в Мурманск к поезду не могло быть и речи. Капитан-лейтенант Выра отпустил минёра только на полчаса к приходу рейсового парохода! Нил Олегович загрустил, но, понимая, что другого выхода нет, успел донести чемодан до порога квартиры, вручил жене ключи и точно в срок возвратился к исполнению служебных обязанностей.
— С тебя причитается, — подмигнул ему Осотин который стоял на палубе с повязкой дежурного по кораблю.
— Мы с вами не пили на брудершафт, — поморщился минёр.
— А я о чем? — удивился Осотин. — Раз не пили дак следует поддать. Не забудь — комната моего корешка. Кто отписал ему этак и так, люди свои, незапакостят?…
— Не беспокойтесь, всё будет в порядке.
— Ну-ну, — со значением кивнул боцман. — Ещё поглядим…
К этому времени на «Тороке» подняли пары в котлах, после чего турбинисты засуетились, забегали с ключами, и Бестенюк получил льготное время для каких-то неотложных дел. Каждые полчаса воздух нал гаванью наполнялся разноголосицей корабельных склянок. Начался отлив. Корпус сторожевика неуклонно опускался вниз по вертикальной шпунтовой стенке. Вахта давала слабину швартовным концам Остальные моряки томились в ожидании аврала, выход задерживался.
«Циркульный» дом хорошо просматривался с ходового мостика. У пятнадцатого окна в четвертом ряд была открыта форточка. Для окончательного устройства там не хватало тюлевых гардин. Пекочка обещал прибить косяки по возвращении из похода, который пока даже не начинался.
Веселые горны на эсминцах и трели боцманских дудок дружно возвестили ужин. В кают-компании капитан-лейтенант Выра разговаривал с механиком по поводу подозрительных стуков в турбине высокого давления.
— Вы нам мозга не пудрите, — вмешался Тирешкин. — Видимо, неслучайно конструкцией предусмотрены ещё турбины низкого давления.
— Точно, — подтвердил Бебс. — Но вот беда: одна без другой турбины не вертятся.
Все засмеялись, а Пекочка нашел, что наступил благоприятный момент обратить внимание командире на его личные дела.
— Пока суд да дело, прошу разрешения сойти на часок.
Старпом поперхнулся супом. Минёр посмел обратиться через его голову. Но Выра выставил ладонь и слегка двинул ею в сторону разгневанного Лончица.
— Удивлен. Все озабочены предстоящим учением, и только вы думаете о посторонних вещах.
Пекочинский не считал эти вещи посторонними и потому решился уточнить:
— Выход в море откладывается, и я бы успел помочь человеку на новом месте…
— Откладывается, но не отменен.
Ужин заканчивался, когда Пекочка с отчаяния выдвинул последний неотразимый аргумент:
— Товарищ командир! Ну, на пол часика. Понимаете, то да се… гардины повесить…
На минуту все замерли. Потом переборки кают-компании потряс взрыв хохота.
— Коли так, — смеялся Выра, — не в силах отказать…
Пекочинский вдруг стал пунцовым вроде семафорных флажков и всё пытался подчеркнуть, что он имел в виду укрепление карнизов для занавесок. Какое там! Никто не слушал. И тогда ему пришлось удалиться, в отчаянии махнув рукой…
Выход в море так и не состоялся. Инженер-лейтенант Бестенюк принялся вскрывать кожух паровой турбины, и само собой Чеголину пришлось подменить минёра, заступив на дежурство по кораблю. Пройдясь по верхней палубе, он убедился, что швартовы обтянуты, сходня закреплена, опущенные к привальному брусу кранцы надёжно амортизируют удары при всплеске волны. Упираясь каблуками в закраины минных рельсов, чтобы не заскользить по выпуклому металлу, смазанному соляркой для защиты от ржавчины, дежурный прогуливался от полубака к корме, изредка поднимаясь на мостик.
«И было три свидетеля, — утверждало из динамика вкрадчивое сопрано, — река голубоглазая, березонька пушистая да звонкий соловей…» Песня напоминала о соловьях и о многом другом. По традиции считается, что женщинам нет места на военном корабле. Это неправда. Они присутствуют здесь незримо и порой очень мешают жить. Чеголин деловито нес службу, а мыслями вдруг завладела песня. Сколько ночей ему виделся женский силуэт в солнечных лучах? Как буд-то у Артёма была другая девушка, кроме той? А может, написать ей письмо? Ведь обещал. Письмо ни к чему не обязывает.
«Так же, как счетчик лага в штурманской рубке отсчитывает пройденные кораблем мили, время быстро и звонко отщелкивает трудовые дни…»
Эта замечательная фраза пришла ему в голову в тесной дежурной рубке и запросилась на бумагу. Писать в шинели с пистолетом на боку не очень удобно. Но это было на редкость спокойное дежурство. Капитан-лейтенант Выра сошел на берег. Евгений Вадимович Лончиц был занят составлением плана общекорабельных учений. Если взглянуть со стороны, дежурный офицер тоже трудился над заполнением вахтенного журнала:
«Я привык за это время и к снежным зарядам, и к холодному мерцанию северных сияний (сияний впрочем, Артём ещё не видел, но как без них обойтись?), которые так непохожи на бархатные южные ночи. Полюбил я и суровое студеное море отважных «груманланов» — первооткрывателей Шпицбергена. Полюбил его безлюдные берега, его коварные слишком коварные рифы и жестокие норд-вестовые ветра».
Тут Чеголина взяло сомнение, как можно полюбить рифы, да ещё «слишком коварные»? Но без этого письмо получилось бы недостаточно убедительны! В конце концов, настоящий моряк, наверное, может позволить себе полюбить и рифы.
«Сегодня мы только что возвратились из сложного и дальнего похода. Ночное солнце ласковыми косыми лучами освещает уютный портовый городок. Длинные тени тянутся по причалам, по скалам с ржавыми пучками мха. А море замечательно. Если у самого борта оно походит на плохое зеркало, такое же зеленое и кривое, то чуть подальше солнце подсинивает его, и от этого голубеет бледное полярное небо».
Пора было переходить к поступкам. Только для наглядности следовало употреблять хорошо известные адресату понятия. Взять, например, кавказскую зурну. Её тягучие звуки наверняка похожи на свист штормового ветра. Чеголин добавил к зурне соленые брызги, дьявольский хохот, девятый вал и остался удовлетворен: получилось убедительно и достаточно жутко.
В этот момент в дежурной рубке раздались пять коротких звонков. Пять! Они означали, что к «Тороку» приближалось очень высокое начальство. Лейтенант опрометью выскочил на палубу и замер рядом с вахтенным у трапа, сжимая в руке свисток. Прибежал и старпом. На торжественный ритуал встречи флагмана не вышел только дежурный по низам старшина второй статьи Мыльников. Щеголеватый Богдан Мыльников заведовал центральным артиллерийским постом, но Чеголин ещё плохо его знал, занимаясь в основном комендорами. Однако старпом не заметил отсутствия старшины, а белоснежный «Орленок» под флагом командующего флотом прошел мимо сторожевого корабля.
Вернувшись в дежурную рубку, лейтенант перелистал графленые страницы вахтенного журнала» но своего письма не нашел. Досадно было потерять такой замечательный треп. В другой раз ни за что такое не сочинить. Артём шарил по карманам, заглянул под стул, не понимая, куда сунул листочки…
Перед отбоем матросы обычно перекуривали на шкафуте. На сей раз там стоял такой гам, что Чеголину пришлось вмешаться.
— Товарищ лейтенант, — обратился к нему старшина первой статьи Рочин. — Мы рассуждаем, что такое «зурна»?
— Народный музыкальный инструмент.
— Вот и я говорю, вроде дудки, — вставил Слово Мыльников. — А Рочин думал, что это штормовой сигнал.
Старшины почтительно слушали разъяснения. Только чуть заметная усмешка застыла у Мыльникова в нагловатых глазах. Лейтенант посмотрел на него и вдруг догадался. Вот кто стащил недописанное письмо. Его читали вслух и смеялись.
— Пустой болтовней занимаетесь, а службу несете плохо. Почему не вышли для встречи командующего?
Мыльников оправдывался, а у Рочина приподнялись уголки рта. Болтовней-то занимались не они, а скорее сам командир боевой части, да ещё в письменном виде.
— В носовом погребе, — накинулся лейтенант на Рочина, — опять кавардак, куски сала и мышеловка. По два наряда каждому… Займитесь службой, вместо того чтобы лясы точить.
Начало было положено, и всю следующую неделю Чеголин вел борьбу с ехидными улыбками. Конечно, наказания распределялись им во имя службы. Но служба почему-то налаживалась со скрипом. Разве только теперь матросы предусмотрительно переходили на другой борт, едва их командир появлялся на палубе.
А неотправленное письмо в конце концов нашлось. Его передал Чеголину помощник начальника политотдела по комсомолу.
— Плюнь и не расстраивайся, — дружески посоветовал при этом Виктор Клевцов. — Ничего там особенного нет. Насчет кривого зеркала подмечено точно, Продолжай, если хочешь. Только лучше писать в каюте.
Лейтенант. Клевцов оказался замечательным парнем. Веселый, круглолицый, он любил толкаться среди матросов и разговаривал с ними запросто. Виктор был в курсе любой мелочи, но где нашлось письмо Чеголина, не объяснил, а только со смешком добавил:
— Знаешь флотскую поговорку: «Шилом море не нагреешь»?
— В смысле теплоемкости шила или его заточки? — хмуро пошутил Артём, с остервенением раздирая злополучные листки. И вообще, по его мнению, политработники слишком часто применяли народную мудрость.
Год 1942-й. Сладким будешь — проглотят
«Берега губы Маттивуоно большей частью приглубы, и чисты от опасностей» — так утверждает Петр Осотин часто бывал здесь раньше и, как боцман знал, что губа совершенно открыта ветрам с норд-веста, а при восточных, остовых, здесь случаются сильные шквалы, налетающие через волок— низменный перешеек полуострова Средний. «Охотник» обычно становился на якорь неподалеку от вершины губы. Отдавали две смычки якорной цепи. Этого было достаточно, хотя грунт, песок с камнем, для якоря не самый хороший.
«Чисты от опасностей? Как бы не так!» — со злостью вспомнил Осотин. Облегчить душу крепким словом и то невозможно. Опасность ныне подстерегала всюду. Шли в белых маскировочных халатах, ссутулившись под гнетом пятипудовых заплечных мешков, связок лыж и оружия. Впереди саперы с миноискателями, за ними все остальные, ступая след в след.
Темнота полярной ночи была относительной. Слева за ребристым угором взмывали чужие ракеты и опускались на парашютах, источая химический свет. Косая тень под кручей берега принимала бойцов. На пляже не держался снег, сразу же раскисая на утрамбованном влажном песке с крупной галькой-чевруем, не держались и колья проволочных заграждений. Морской накат сминал спирали Бруно, выплевывал противопехотные и противотанковые мины. Прибрежье губы Маттивуоно, иначе Малой Волоковой, было самым удобным путем. Две мили пешком вдоль уреза воды, а дальше меж каменистых сопок на лыжах в тыл. В их тыл, не в наш.
«На катерах было одно, здесь другое, — рассуждал Осотин. — Дак война, повсюду война…»
Уже не впервые его брали в чужой тыл. Всяко бывало при этом, а больше всего запомнился первый такой поход. Высаживались с мотобота, и Клевцов решил, что боцман при этом будет не лишний. Сказал и как в воду глядел. В двадцать три тридцать мотобот скрежетал по камням. Дали задний ход, перебегали с борта на борт, помогая судну раскачкой. Но оно, не шелохнувшись, быстро обсыхало на отливе. Шкипер, который, впрочем, имел нашивки младшего лейтенанта, установил из таблиц, что утренняя малая вода наступит в три часа двадцать минут, потом начнет прибывать, и где-то около шести тридцати можно ожидать снятия с мели.
— Раньше следовало считать, — ругался Клевцов. — С рассветом бот уничтожат прямой наводкой.
— До берега метров тридцать, — разглядел во тьме «Зови Иваном». Голос у него срывался. Пограничник и не пытался скрывать свой страх. Это, в общем, было не ново. На словах куда там, кулаки подходящие, — и мокрой курицей в деле.
— Уймись, Иван, — одернул Клевцов, ничуть не удивившись поведению пограничника. — Прикроешь с Зайчиком переправу. Боцману закрепить трос на берегу и обтянуть.
«Провалит дело», — в свою очередь испугался Осотин, не понимая, как можно поручать его паникеру. Но с ними шел ещё Семен Зайчик. Семену Осотин верил…
Эх, кабы раньше знать, чем всё это кончится. С той поры прилепился к боцману сон, всегда одинаковый, который полоскал его, как забортной водой, пробудишься — зубов не сцепить.
Ему виделось, что бредет он по зеленому зыбуну. И податливое болото под сапогом плюется жижей, кланяется кочками. «Беги!» — кричит покойный «Зови Иваном». А рядом — вжик, вжик. И на пружинистом мхе косой строчкой сизые пульки. Да только не свинцовые: наклонись, зацепи горстью — это же тундровая ягода вороница, с холодным матовым блеском.
Снова кричит Иван: «Падай!» Странно — пограничник хотя трусил, но успевал приглядывать, и если кричал, дак не зря. Знает Петр, что надобно укрыться, а как упадешь, если зыбун уже не зыбун. И не кочки кругом — они ходят живыми гребнями, вверх, вниз. И гребень засекает ветром. И хлещет жгучими брызгами. Море? Какое море, когда он бредет по нему в рост с ручной гранатой? «Бросай!» — командует сызнова «Зови Иваном», да никак не втыкается запал, и в пальцах неуемная дрожь.
Конечно, не море. Склоны уже костливые, жесткие, ползти не способно. Впереди трое, идут вольно, грегочут, сигаретки с легким табаком, мундиры серо-мышиные с брусвяным венчиком на локте, «Двоих живьем», — показывает на пальцах Клевцов, а пограничник юрким ужом по разлогу в охват. По условному сигналу Петр рванулся, но не достиг, скользнул ногой. Уже и карабин занесен над ним с ножевым штыком и чужой рыбий глаз сверлит с прищуром. Прежде штыка насквозь пронзил ужас, а тот медлил. Почему медлил, хрен его знает. Во сне время отпрядывает. Так, не так, а только рядом с Петром очутился кургузый полусапог и толстый вязаный носок, в который заправлена брючина. «Полундра!» — крикнул пограничник, отвлекая, поднявшись во весь рост. И тогда рванул Петр тот сапог. Не просто рванул, — с вывертом, как учили. И понеслась схватка ярой качеей, туда-сюда: руки, ноги, стволы, приклады, подножки, подхваты, с трескучей вонью, с надсадой, с ихней руганью и своими матюками. Гладким мужиком был егерь, да, видно, матросов не знал. Плетеный линек словно сам собой вложился у Петра в два кольца вперехлест, «пьяным» морским узлом. Пришвартовал егерю ладони к лодыжкам.
Хотя и во сне, но явственно, как в кино, Петр загордился, перевел дух: «Все ли видели? Вот вам и боцман!» А в ушах вдруг: «А-ля-ля!», непонятно кричат, хором. Правее, левее, крысиной побежкой, мундиры, мундиры: «А-ля-ля!» И по спине опять дрожь противной волной. И добычу волочь нету мочи. А позади нарастает: «А-ля-ля!», дробно лают автоматы-шмайсеры. Егерь, в тючок упакованный, загорланил по-своему. Жутко орет, и глотку нечем забить. Тогда в руке сам собой ловкий ножичек. Нет, не подарок, а всё равно оружейниково самоделье, полученное под расписку. Ухватился Петр за рыжие патлы, башку отогнул. На шее у егеря жила бьется, часто-часто торопится…
На этом месте Осотин всегда просыпался, в испарине, с удушливой тошнотой. Горлышко фляги стучало по зубам. Вода непокорными струйками катилась за тельник. Из кисета сыпалась махра, мимо сыпалась, не в цигарку. Провались концом! Чего привязался поганый сон? Долдонит, язвит душу. Ну, заколол. Промеж шей и левой ключицы сверху вниз. И жилку тогда не видал. Чего разглядывать? Отборный был егерь, враг. На стальной каске, что отлетела в сторону, с обоих боков фашистское паучье клеймо, на мундире латунный знак «Завоеватель Нарвика» и ленточка «Героя Крита». Чего разглядывать? Подумаешь, жилка.
Покурив, Осотин приходил в себя, лежал и злился, не понимая, почему втемяшилось про этого «языка». Будто кроме нечего вспомнить. Тот самый первый поход был неудачным. Потеряв время на высадке, двинулись через скалы напрямик и уткнулись в обрыв. Сначала бросали камешки, пытаясь сориентироваться по звуку падения. Круча глотала их молча и потому казалась бездонной. Клевцов приказал снять рюкзаки и опускать их, цепляя один за другой.
— Я и так определю высоту, — вызвался Зайчик,
— Лучше отойди и не мешайся!
— Есть, отойти, — обиделся Семен и вдруг в резком прыжке канул во тьму.
Все стояли и ждали. Тишина была глухой. Она тянулась резиной. Зайчик подал голос через минуту, не ранее:
— Милости просим, ха-ха. Здесь мягко. А скала подходящая…
Командир взвода промолчал, — верно, было не до того. «Выдача» состоялась уже в блиндаже, на разборе:
— Когда прекратится произвол?
Но Зайчик тоже в карман за словом не лез:
— Что такого? Я в интересах боевой задачи.
— В этих интересах подвернулся сугроб. Без него был обеспечен перелом ног. Как тогда быть с задачей?
— Ну, — дернулся рыжий Семен. — Всё равно бы обузой не стал. Пуля в рот, и, пожалуйста, следуйте дальше.
— Вот как? Пуля в рот? — побледнел Клевцов и вдруг заорал: —Я не люблю терять людей! Учти, допустишь ещё выходки — спишу за непригодность к такой-то матери…
Боцман никогда не видел его таким, никогда не слышал, чтобы насмешливый Клевцов выражался площадно. Досталось на разборе всем, кроме Петра и тех, кто не вернулся. Боцман принял это как должное. Промашек вроде за ним не числилось. А вот про высадку на берег по натянутому им тросу все позабыли. Очень даже обидно.
— Переправу, кажется, навели и воевали сухими, — решился напомнить Осетин, хотя сам-то как раз промок.
— Ему кажется, а мне нет, — вызверился командир взвода. — Я твердо знаю — воевали плохо, не выполнили всех задач. Зачем «языка» закололи, раз все остальные специально прикрывали огнем?
Далее боцман услышал о том, что ему вообще не суждено было вернуться, кабы не пограничник. Это уж слишком. О покойниках худо не говорят, но все видели, как тот, озираясь, трусил. Семен Зайчик, видно догадавшись, на перекуре заметил:
— Переживает наш командир. Он тоже у Ивана учился.
— И ты туда же? — удивился Петр. — Самому чёрт не брат, а другим разрешаешь дрейфить? Ловко.
— Что значит «дрейфить»? Зубами стучать? Почему нет? Если только до первого выстрела. Видал, как он погиб? Похоже на труса?
Петр не видал. Он в тот момент чухался с егерем, и ему было не до наблюдений. Говорили, будто пограничника срезало пулеметом, однако тот успел швырнуть связку гранат и обеспечил остальным путь отхода. Нет, Петр свидетелем себя не считал и вообще терпеть не мог настырного пограничника, почувствовав нечто вроде облегчения, когда оказалось, что тот не умеет подавить дрожи. Откуда боцману было знать, что «Зови Иваном» был последним из ветеранов заставы, которая держала до войны государственную границу вдоль речки Титовки. В блиндаже не было ни одного бойца, которого бы пограничник на первых порах не опекал.
Нет, Осетин свидетелем себя не считал, но ему всё время чудилось, что, когда Иван, отвлекая егеря, кричал «Полундра!», это и был тот последний его рубеж. Чёрт его знает… Или взять ту проклятую жилку на шее? Когда всаживал нож, не запомнил, а кажную, почитай, ночь, как в кино, набухает она, толчками колотится…
Ерунда всё это, блажь с непривычки — утешал он себя. Ну заколол, как всё равно борова, дак егерь сам, можно сказать, напросился, если б молчал — другое дело. Зря только вязал, надрывался» Уложить выстрелом куда как проще, и никаких тебе снов. Пуля летит в цель, и кажется — она убивает, а не ты. На дальней дистанции крови больше, а воевать спокойнее. Что раньше видел Осотин в кольцах своего зенитного прицела? Не пилота, только атакующий самолет. Гидроакустики и минёры на катере, те совсем ничего не наблюдали, уничтожая подводную лодку глубинными бомбами. Они охотились по шуму винтов, догадываясь об удаче по косвенным признакам, побеждали всё экипажем и знали: в случае чего пропадут тоже разом. На всех кораблях топили или сбивали как будто одну вражью технику…
Нет ничего хуже, когда «ум человеку вспять зрит». Как ни маскировался Петр, но среди людей разве убережёшься.
— Видать, тебе у нас понравилось, боцман, — заявил раз Мелин с эдакой ухмылочкой. — Каждую ночь «языков» берешь.
Осотин понял, что во сне не молчал и нахальный оружейник захотел его перед всеми выставить. Не зря, видно, говорится: «Сладким будешь — проглотят, а будешь горьким — расплюют».
— Кому боцман, кому товарищ боцман, — веской ответил Петр, понимая, впрочем, что ухватился не за ту снасть. Но ничего другого не приходило в голову. Не он первый, не он последний. В затруднительном положении многие уповают на разницу в летах либо в чинах. Главное, «сладким» Осотин никогда не был. Где уж такого «проглотить».
После перепалки с оружейником проклятый сон, стал помаленьку отпускать. Он потускнел, как бы подтаял, распался на невнятные куски. По-прежнему ярко виделся Осотину только самый конец, но душу уже не пластал. Просыпаясь, Петр только лишь вздыхал, негромко ругался, поворачиваясь на другой бок. То ли устал он переливать из пустого в порожнее, то ли потому, что первое задание заслонили впечатления от других, где тоже было много крови, и нашей, и чужой, удачи и ошибки, радости и потери. Но надо всем уже довлел расчет, когда способнее применить гранату, или выждать в укрытии, или, задержав дыхание, плавно нажать спусковой крючок. Иначе воевать было невозможно: потеряешь голову, потеряешь себя…
Который раз шел Осотин в тыл, а всё рядовым. Надо было, до зарезу надо, совершить чего-нибудь такое, чтобы перестал коситься Клевцов и, само собой схлопотал для него должность согласно воинскому званию. На берега губы Маттивуоно, той, что будто была «чиста от опасностей», наступал прилив. Волна за волной топила осушной берег. Саперы с миноискателями, проводив отряд за черту боевого охранения противника, повернули назад. Взопревший тельник на боцмане, подсыхая, натирал плечи под лямками «сидора». Там вместе с пятидневным пайком было напихано много патронных рожков к автомату и гранат навалом. Осотину, считай, ещё повезло. Пулеметный расчет волок на горбах разобранный «максим»: первый номер кроме вещевого мешка — тело пулемета — двадцать три кило, второй номер — станок с колесами — тридцать шесть кило, а третий нес бронещиток — двенадцать килограммов — и ещё два пудовых ящика с лентами. Минометчики навьючились тоже: у кого ствол, у кого опорная плита, у кого комплект хвостатых «огурчиков». Боезапас отпустили без лимита, и каждый понимал, что в чужом тылу не так страшно ходить натощак, зато много ли навоюешь с пустым патронным магазином?
Отряд разделили на группы. Одна, вспомогательная, высаживалась с катеров, имея задачу взорвать мост на горной дороге, другая шла в обход, чтобы уничтожить опорный пункт с береговой артиллерией. Орешек был крепкий, и потому готовились долго, играя в солдатики на похожей местности. Только Арий Мелин не желал рвать себе пуп, зато каждый день удивлял кого плоским убоистым пистолетом, который способно выхватить из голенища, кого ножичком. Командир отряда лично распределял, кому чем владеть, и берег оружейника пуще глаза. Так бы и провоевать Мелину за верстаком, да вмешалась случайная бомбёжка. Для «восполнения убыли личного состава» было приказано взять всех бойцов подчистую. Виктор Клевцов считал, однако, что нетренированных следует оставить, и особо предупредил об этом начальство:
— Тогда позаботьтесь о другом оружейнике.
— С какой, стати?
— К вашим потачкам привык. Такие не возвращаются.
Командир отряда был кремень. Он приказа не отменил и завелся с полоборота:
— Отвечаете за Мелина лично! Он фигура особо ценная.
— Раз так, будет исполнено, — усмехнулся Клевцов. — Костьми ляжем, а самую ценную фигуру сохраним.
Но как уберечь? Решили поставить Мелина носильщиком, поручив ему увесистую динамку на треноге, которая раскручивалась «хлебным паром», заменяя ещё более тяжелые аккумуляторы. Только недаром сказано: «Не хвались, идучи на рать». Петр Осотин первый заметил, как водило оружейника под громоздкой динамкой. Двигались в темпе, чтобы успеть развернуться для атаки к моменту взрыва моста. Всё было рассчитано по минутам. Первая остановка в разлоге меж сопками южного берега, чтобы стать на лыжи, Осотин подумал, что до привала музыкальный шиш, пожалуй, не упадет, а там пусть решает начальство.
Едва остановились, Мелин сбросил динамку в снег.
— Чего творишь, харя? — шепотом возмутился радист, бросаясь к движку.
— Ерунда. Не взорвется…
— Но может замкнуть на корпус.
— Баба с возу, кобыле легче, — хихикал Арий, приставляя ладони ко рту. Никто и думать не смел, что у него с собой губная гармошка.
Визглявые звуки остро воткнулись в уши и тут же оборвались. Осотин вышиб трофейную игрушку, и все упали, вжимаясь в снег, напряженно ожидая беспощадного пулеметного речитатива. На первый раз, однако, пронесло. Музыкант бушевал, требуя вернуть инструмент, и вдруг затянул в голос песню. Пришлось унимать, не стесняясь в средствах. Зажимая ему хайло, отшатнулись от запаха, такого знакомого и, вместе с тем, неожиданного здесь, на свежем снегу. Ожесточение тотчас прошло. Чего взять с парня, которому море по колено? Мужская солидарность, вопреки обстановке и здравому смыслу, требовала если не уберечь от расплаты, то хотя бы привести парня в чувство перед начальством. Мелина воткнули в сугроб, дружно натерли снегом. Подошел Клевцов, отстегнул у него почти пустую фляжку:
— Раньше куда смотрели?
— На ходу сосал, — раздались сдержанные смешки. — Как всё равно титьку…
Командир отряда полоснул из тьмы синим лучом затемненного фонарика. Холодный луч скользил по измятому и разорванному в борьбе маскхалату, по раскисшей роже с мутными, расширенными зрачками.
Мелин вскочил, не удержавшись, стал на карачки наконец поднялся, размазывая сопли и слезы:
— Чего они? Скаж-жите? Гармонь отобрали. Говорил — мне нельзя. Оруж-жейник классный, солист, и вдруг ишаком…
Фонарик дрогнул, отклонился, и Осотин разглядел пальцы, рвущие кобуру. Вон как бывает, поёжился он. Сейчас хлопнет, и точка. А чего ещё делать? Или ждать, пока проспится?
Однако Клевцов думал иначе.
— Всполошим секреты, — заметил он. — Всех посекут огнем…
— Допустим, так, — согласился командир отряда, медленно остывая.
И ещё жалко стало своей рукой порешить такого оружейника, потому что командир вдруг спросил:
— Мелин! Можете следовать дальше?
— Так точно! Как по ед-диной половице!
Сделав несколько преувеличенно твёрдых шагов, оружейник споткнулся, извергнув ужин себе на халат. И тогда фонарик чиркнул его лучом поперек. Это был приговор без слов, который поняли все.
— Клевцов! Распорядитесь! — добавил командир отряда.
Все знали: время дорого, иного выхода нет. Но добровольцев исполнить приговор не находилось: трус — всё же не враг. И тогда боцман Осотин выступил вперед, решив, что наступил его час.
Глава 6. Отношение и обращение
У каждой палки, как известно, два конца. В этой банальности заключена, однако, древнейшая мудрость, поскольку палка была самым первым оружием человека. С тех пор оружие усложнилось неимоверно, но оно всё так же ударяет другим концом всех, кто начинает им бездумно размахивать. Вот почему отношение к оружию гораздо важнее, чем обращение с ним. Именно отношение определяет всё остальное.
Существуют три точки зрения на этот предмет, через которые последовательно проходит каждый боец. Новобранец робок. Оружие устрашает его загадочной сложностью. Он помнит главное — вся эта техника предназначена для того, чтобы убивать и разрушать. Потом, вникая в устройство тех или иных образцов, новичок узнает, сколько хитроумной выдумки затрачено для обеспечения безопасности его самого. Оказывается, боевая торпеда не опасна, пока не открутите специальный пропеллер на взрывателе. А он отпадает уже далеко от борта стреляющего корабля. Огромная шарообразная мина не может взорваться на палубе из-за кусочка прессованного сахара, который потом медленно растворяется в морской воде. Пушка ни за что не выстрелит с приоткрытым затвором. Глубинная бомба не сработает, если её гидростат не будет обжат толщей забортной воды. Разные чеки, механизмы взаимозамкнутости, приборы срочности обеспечивают двойную, тройную гарантию защиты обслуживающего оружие расчетов.
Наконец, устройство и принцип действия каждого узла изучены на чертежах и в натуре, собраны и разобраны на макетах, знакомы так, хоть действуй с завязанными глазами. Боец привыкает к оружию, и оно представляется уже обыкновенной техникой. Все запреты и предупреждения выучены на зубок, но техника работает безотказно, и некоторые из пунктов инструкций уже кажутся лишними, так сказать «поправкой на дурака». А люди не любят считать себя дураками. В особенности те, к кому это больше всего относится.
Очень жаль, но на горький опыт здесь мало надежды. Гораздо чаще бывает, что воспользоваться таким опытом просто не успевают, а свидетели чрезвычайного происшествия по крохам и косвенным обстоятельствам только лишь догадываются, как и по какой причине оно произошло. Потом, ясное дело, издается приказ, где суть изложена коротко, а основной упор — на оргвыводы, на степень причастности или виновности действующих лиц. Приказ, конечно, воспитывает, но выводы запоминаются крепче, если сделаешь их сам. Пожалуй, здесь важнее всего потрясение. Именно оно помогает убедиться в том, что незаряженное ружье тоже иногда стреляет. Тот, кто не верит в это, ещё не специалист, какие бы экзамены ни сдал.
Лейтенанты Чеголин и Пекочинский после допуска к самостоятельному управлению своими подразделениями командовали всем вооружением «Торока». Чеголин, кроме того, заведовал стрелковым арсеналом, который, кроме карабинов и автоматов, умещался в железном ящике и располагался в каюте под письменным столом. Офицеры и сверхсрочники при заступлении в наряд получали у Чеголина пистолет и патроны под расписку.
Сменившись с дежурства, минёр заявился в каюту, извлек из кобуры пистолет с запасной обоймой и небрежно швырнул их приятелю.
— Это тебе не игрушка, — нахмурился тот. — Сдай оружие, как положено.
— Подумаешь, формалист, — фыркнул минёр, но в всё же, нажав на защелку, извлек из рукоятки вторую обойму. — Патроны сосчитаешь сам!
Латунные цилиндрики с сухими щелчками выскакивали из-под пружинки: один, второй, третий… Но Чеголин не успел вылущить их до конца. Пекочка взвел ударник пустого пистолета и, отведя дуло в сторону, нажал спусковой крючок. Выстрел грянул резко и враз оглушил. По лицу минёра медленно разливалась синева. Из ствола курился дымок. В переборке, за которой находилась каюта доктора, возникла круглая дырочка.
— Слушай такую вещь, кто там стрелял?
Будничный голос из командирской каюты заставил Чеголина очнуться. Требовалось выручать товарища, если это было ещё возможно.
— Дверью хлопнуло, — соврал он на ходу, рванувшись к доктору.
У Мочалова в гостях сидел его коллега, тоже старший лейтенант медицинской службы. Роман хладнокровно бинтовал гостю левую руку чуть выше локтя.
— Что? Ранен?
— Пустяки, — махнул рукой доктор. — Царапнуло рикошетом.
Беглый осмотр места происшествия показал, что шальная пуля, пробив тонкую переборку, угодила в металлическую трубу каркаса подвесной койки. Труба, на счастье, была изготовлена из стали с огромным запасом прочности. На ней осталась лишь вмятина, а расплющенная оболочка пули нашлась на палубе.
— Приглашаем в ресторан, — обрадовался Чеголин. — За нами столик.
— Мудрая и справедливая мысль, — согласились старшие лейтенанты, сочтя инцидент исчерпанным.
А Пекочинский стоял в той же позе. Минёр превратился в собственный памятник. На гипсовом лице жили только глаза.
— Положи пистолет, — сказал Чеголин. — потом почистишь.
— П-послушай, — сказал приятель, постепенно обретая дар речи. — А ты не трогал его? Почему патрон оказался в стволе?
— Что, сдурел? — удивился Чеголин. — Подумай лучше о том, кто из нас формалист?..
Для взаимных упреков не было времени. Пистолет занял свою ячейку в железном ящике. Над щеколдой поверх контрольного замка легла свежая пластилиновая печать. Через пять минут отверстие в переборке было зашпаклевано хлебным мякишем и аккуратно замазано масляной краской.
— А был ли мальчик? Может, мальчика и не было? — повеселел Пекочинский и взялся за «Айвенго». Он вообще был человеком основательным и за Вальтера Скотта принялся не случайно. Во-первых, этот писатель был самым любимым у Карла Маркса, во-вторых. Нил Олегович читал роман в подлиннике, с помощью словаря и зубрёжки одолевая языковой барьер. Но не успел осилить и абзаца, как в дверь постучали и на пороге возник помощник начальника политотдела по комсомолу лейтенант Клевцов.
— Здорово, ребята! Как тут у вас дела?
Чеголин искренне приветствовал Виктора, а Пекочка информировал о том, что контора пишет, может предъявить подшивку боевых листков.
— Это замечательно, — сказал Клевцов, усаживаясь по-свойски прямо на стол. — Только в боевых листках всего не отразишь.
— Основные события боевой и политической подготовки имеются.
— Всё ли? Я-то знаю, как бывает. Тоже командовал. Правда, на берегу.
У Пекочинского слегка изогнулась густая бровь. Не обе брови, а только правая. Знаком вопроса. А помощник начальника политотдела, окинув взгляд переборку над письменным столом, вдруг стал выковыривать хлебный мякиш. Потом посмотрев на вытянутые физиономии хозяев каюты и рассмеялся.
— Ну вот. А ещё утверждали, что у вас ничего нового… Эх вы… «конспираторы»!
— Как думаешь, доложит? — спросил минёр, когда Виктор ушел.
— В таком случае он должен был выяснить подробности. Откуда ему знать, кто стрелял?
— «Откуда, откуда»? Медики накапали. Очень просто. И теперь нечего вести их в ресторан.
— Роман тоже не знает кто. Я, понимаешь ли, это не уточнял.
— Интересно. Никто ничего не говорил, а Клевцов уже в курсе.
— Чёрт с тобой, — рассердился Чеголин, — Медиков я приглашал, а не покупал. Пойду с ними один.
Несколько дней оба лейтенанта ожидали дознания и прочих служебных неприятностей. Но ничего такого не произошло. Виктор Клевцов промолчал и вообще оказался человеком удивительным. Вскоре за обедом на «Тороке» он ни с того ни с сего изъявил желание сдать зачеты на вахтенного механика.
— Указание начальника политотдела? — обеспокоился капитан третьего ранга Тирешкин.
— Вряд ли он станет возражать. Разве можно препятствовать стремлению лучше знать корабли, на которых служишь?
— А это, гм… занятие не отразится на основных ваших обязанностях? — сомневался заместитель командира.
— Отразится, — кивнул Клевцов. — А как же. Иначе не стоит городить огород.
— Сдать на вахтенного механика? — спросил инженер-лейтенант Бестенюк. — Ты представляешь, Виктор, что это значит?
— Представляю маленько.
Виктор пояснил, что до призыва, на флот он плавал на волжских пароходах учеником масленщика.
— Сравнил божий дар с яичницей, — возмутился Бебс. — Масленщики были приставлены к древним паровым машинам, а у нас хотя и не новые, но всё же турбины и водотрубные котлы с рабочим давлением двадцать один килограмм на квадратный сантиметр. Короче, если ты решил всерьез, придется научиться обслуживанию механизмов на каждом боевом посту, потом дублировать старшин котельной и машинной вахт. Осилишь — пойдет разговор о дальнейшем.
— Добро, — согласился Клевцов.
Чеголин с Пекочинским переглянулись. В самом деле блажь: по доброй воле идти на выучку к матросам. И Бебс тоже недоумевал:
— Зачем тебе это?
— Могу объяснить. В первом котельном вахта называется комсомольско-молодёжной, а трюмный Богданов в неё не входит. Почему?
— Богданов — разгильдяй и пьяница, сердито сказал Тирешкин. — Мы тут посоветовались и решили не включать.
— Как тогда понять внеочередной отпуск с выездом на родину?
— Видите, товарищ командир, воскликнул Макар Платонович. — Так и знал. Это не пройдет мимо политотдела.
— Слушай такую вещь. Отпуск он заслужил.
— Остался на своем посту в отсеке, который заполнился паром, — уточнил Клевцов. — A комсомольцы у вас до сих пор спорят, виноваты ли те, кто выскочил наверх, или у них не было другого выхода.
— Против зачетов не возражаю, сказал Выра, хотя без особого энтузиазма.
Год 1942-й. Будешь горьким — расплюют
Перевязочная хирургического отделения имела оттенок флотской щеголеватости. Петр Осотин с первого взгляда узнал на стенах дорогой риполин, белоснежный лак на смеси древесного и льняного масел. Эмаль и клеёнка на мебели, блестящий линолеум на полу — всё было под стать риполину, кроме веселого доктора в пегом халате с засученными по локоть рукавами.
— Показывай, с чем явился?
Петр стоял перед ним в бязевых казенных кальсонах со штрипками, пока сестра отдирала коллодиеву повязку.
— Так. Проникающее ранение в грудную клетку.
— Достал, гад, коротким уколом, — объяснил Осотин, разомкнув стиснутые зубы.
Словоохотливый доктор, делая свое дело, заговорил складно:
— «Шли на приступ. Прямо в грудь штык наточенный направлен. Кто-то крикнул: — Будь прославлен! Кто-то шепчет: — Не забудь!..»
— Откуда знаете? — спросил боцман почти ужасом.
В атаке кричали посолоней, а в остальном всё было так. Но сам Осотин об этом не распространялся.
Нельзя. Да и нечем хвастать. Питание к рации отказало, и потому не удалось задержать взрыв моста. Потеряв основной расчет на внезапность, они уже не смогли атаковать опорный пункт, только оборонялись под натиском превосходящих сил. Возвратились через сутки. И не все: кого приволокли взамен «сидора» на плечах, кто остался в снарядных воронках, закиданных шиферным крошевом.
— Ну, братец, — улыбнулся доктор. — Стихи написаны в девятьсот пятом году.
— Дальше как? — почти потребовал боцман, не доверяя такой отговорке.
— Интересуешься Блоком?
Сперва Петр удивился, потом решил, что лекарь темнит, пытаясь уйти от скользкого разговора.
— Сам-то отличишь, к примеру, канифас-блок от кильблока?
— Вряд ли, — признался доктор, неизвестно чему обрадовавшись. — Но это, братец, пустяки. Самый главный из всех блоков носит имя Александр. Вот он и написал эти стихи. Теперь слушай дальше: «Рядом пал всплеснув руками, и над ним сомкнулась рать. Кто-то бьется под ногами. Кто — не время вспоминать…»
Осотин оцепенел, забыв о боли, которая мешала решать, почти не заметил прокола между ребер толстой иглой, через которую выкачивали мутно-зеленую жидкость. Молодой военврач, практикант, которому доверялись пока одни перевязки, показался боцману ведуном.
Вернувшись в палату, Петр долго не мог согреться. К вечеру у него поднималась температура, раздирал кашель и бил озноб. А кругом, поверх натянутого на башку одеяла, знакомые голоса вели надоевшие за две недели нескончаемые разговоры. Сосед справа которой раз вспоминал, как его однополчанин, прицеливаясь, не умел зажмурить другой глаз и, выпустив обойду мимо, доложил командиру: «Красноармэиц Хабэтдинов застрэлился…» Случай был известен уже всему госпиталю. Сосед излагал его в палате, в гальюне за перекуром, и слушатели снова смеялись, а он, радуясь тому, что их позабавил, что оказался в центре внимания, повторял эту историю снова, наверное потому, что не знал ничего более веселого. Обмороженный авиационный техник талдычил про заморскую технику, щеголяя иностранными словечками: мотор «Алисон-110», «Киттихаук», «Аэрокобра». По его словам, выходило, что центр тяжести у этих самолетов где-то не там, и летчики их не любят, и всегда есть опасность свалиться в штопор.
Осотин тоже был в штопоре, со дня на день ожидал, кто проведает, хотя умом понимал: зря, это дело почти невозможное. А других раненых как-то ухитрялись навещать. Кого из посетителей вызывали с докладом по начальству, Кого — для вручения наград. К авиамеханику заглянул летчик, передавал приветы, письма, плитку шоколада из особого воздушного пайка. Лейтенант был из другой эскадрильи и мало что знал о друзьях механика. Зато из-под его распахнутого халата выглядывала золотая звездочка на красной колодке. Обмороженный сержант сиял, гордясь перед соседями таким знакомством.
Время шло, а к Осетину никто не приходил. Увидел он раз в коридоре у поста дежурной сестры бывшего своего командира катера, но прошел мимо вроде бы не признав. Зачем? Начнет расспрашивать доложит своему Выре, и тот усмехнется: «Много! заработал орденов?»
Госпитальным одеялом от соседей не отгородишься. Однако Петр постепенно приспособился. Колотье в грудине поутихло, а голоса спорщиков стали расплываться в теплой дреме. И вдруг два слова: «Где oн?», свободно проникнув в уши, заставили вздрогнуть и облупить лицо. Перед койкой стоял Клевцов в незнакомом обличье. Медицинский халат в обтяжку, твёрдый ободок форменного синего кителя со свежей каемкой подворотничка, внимательные глаза на круглом, без улыбки лице делали его похожим на дежурного хирурга.
— Ну, боцман? Как тебе здесь?
«Обратно боцман?» — Осотину обрыдло такое обращение, и потому он оказал коротко: «Лечат…» показав, что очень желал этой встречи, верил в неё, сомневался и, ясное дело, был рад, когда сомнения оказались напрасными.
— Шел мимо… — начал Клевцов, потом оглянулся на остальных раненых. — Вставать разрешено?
— Валяй говори здесь… — хмуро предложил Петр. Такое вступление почему-то ему не понравилось.
— Попробую… В общем, так: предписано вернуть специалистов для укомплектования корабельных команд.
— Обратно в моря, значит. Дак, полагаю, к нам не относится.
— К нам — точно, но ты боцман…
— Боцман да боцман, — перебил Осотин. — Коль не надоело.
— Как ещё величать? Может, Лешим?
— И это спознали?
— Такая у нас работа.
— По катерам сплетни собирать?
— Нам не всё равно, чей локоть рядом, — уточнил Клевцов — Если помнишь, Иван-пограничник сразу расшифровал: «злой», а я ещё сомневался.
— Что из этого следует?
— Повторяю: при выписке из госпиталя сошлись на приказ и возвращайся в боцмана.
— В чем виноватый? — озлился Петр, учуяв, что из-за Мелина. Но боцману самому было неохота вспоминать, тем более в госпитальной палате столько досужих ушей. В общем, он решил пояснить уклончиво: — Сполнил, что требовали…
— Сам вызвался выполнять, и все видели, как ты это исполнил.
— Можно было иначе?
— Формально претензий нет. Только нельзя тебе возвращаться.
— С какой такой стати? Кто чиркнул фонариком, дак пусть сам отвечает.
— Командира никто не обвиняет. Он был прав.
— Вот видишь? Не я, дак другой… Кому-то исполнять надо.
— Ну гляди, — рассердился Клевцов. — Пока это совет. Не только мой. Так все считают в отряде…
Глава 7. Авторитет зарабатывай сам
Виктор Клевцов стал на «Тороке» почти членом экипажа. Его увлечение техникой повлияло даже на заместителя командира, который вызвал к себе в каюту механика с чертежами, хотя раньше в детали не вникал. Естественно, многие стали допытываться у Бебса, чем они вдвоем занимались. Даже командир корабля и тот почесал лакированную плешь и вопросительно глянул на своего заместителя. Но Тирешкин от информации уклонился.
— Молчи как рыба об лед, — объявил он Бебсу, хитро ему подмигнул и, очень довольный, стал потирать пухлые ладошки. Бестенюк очень серьезно кивнул, и Чеголину потом не удалось вытянуть и намека хотя с ним-то, по крайней мере, он поделиться мог. Когда у машинистов в «шхерах» возгорелась ветошь, Артём, как дежурный по кораблю, первым делом послал рассыльного к Бебсу, хотя мог сразу же объявить аварийную тревогу. Из кладовой валил дым. По причальной стенке от здания штаба бежал капитан второго ранга Нежин. Шуточное ли дело на борту пожар. Но инженер-лейтенант успел оценить обстановку и соответственно сориентироваться. От пожарных рожков к очагу возгорания уже протянулись надутые брезентовые шланги. Со свистом извергалась пена из огнетушителей. Механик невозмутимо распоряжался, приговаривая с нарочитой громкостью:
— Быстрее, ребята. Иначе я вам ещё на полубаке зажгу…
Помощник начальника штаба, как услышал эти слова, утратил резвость и повернул назад. Он посчитал, что на «Тороке» идут учения, то есть дело самое что ни на есть повседневное. Одиночные, частные, общие или корабельные учения шли чередой, днем и ночью. На палубе горели промасленные тряпки на железных противнях. В совокупности с дымовыми шашками они обозначали условные очаги пожара. Глухие хлопки взрыв-пакетов имитировали попадания бомб или снарядов.
— Оперативное время ноль часов тридцать пять минут, — вещал по трансляции старпом.
По такому сигналу вскрывались очередные конверты-секретки, где было сказано о какой-либо неприятности, придуманной специально для данного момента учений. В артиллерийской БЧ взрыв-пакеты обычно подбрасывал главный старшина Буланов, а лейтенант Чеголин с секундомером замерял нормативы. Пока Иван Аникеевич отбывал наказание на гауптвахте Артёму приходилось самому организовывать шумовые или зрительные эффекты, и это вносило элемент условности. Стоило лейтенанту подойти к пушке или зенитному автомату, как расчеты догадывались о том, что сейчас у них что-нибудь эдакое произойдет.
В общем, всё шло нормально, пока одно т таких учений не состоялось внезапно, поломав заранее согласованный и утвержденный распорядок дня. Оно пришлось на самый неудачный момент, когда на кормовой пушке был укреплен прибор для тренировки наводчиков. Чеголин особо гордился прибором Крылова, потому что тыловики неохотно отпускали такую технику на устаревшие учебные сторожевики. На соседнем корабле, как ни старались, не достали, а Чеголину удалось уговорить самого подполковника Недодаева, и тот, несмотря на выразительную фамилию, накладную ему подписал.
Эта маленькая победа, как любая другая, придавала уверенности триумфатору, вызывая восхищение коллег и зависть у неудачников. Обладатель хитрого прибора мог не беспокоиться за результаты первых учебных стрельб. Всё дело в том, что морская артиллерия стоит на палубе, самой зыбкой из всех платформ. На парусных кораблях бортовой залп давали «на глазок», но гладкоствольные пушки били в упор, и рассеивание ядер мало влияло на меткость. А если до цели полтора-два десятка километров, и она кажется всего лишь черточкой на горизонте? Размахи качки в этом случае на глаз не зафиксируешь, и ошибка в углах наведения будет в сотни раз превышать допустимую. Единственный выход — так натренировать наводчиков, чтобы они удерживали цель, плавно наклоняя и поднимая стволы в такт наклонам палубы. Алексей Николаевич Крылов ещё не был знаменитым академиком, когда придумал прибор, позволяющий тренироваться прямо в гавани. Эксцентрики качали перед дулом силуэт цели, нарисованный на бумажке. В момент «выстрела» из соленоида выскакивала игла, накалывая мишень. Распределение дырочек вокруг силуэта позволяло с математической точностью определить степень подготовки наводчиков.
По сигналу тревоги лейтенант Чеголин был обязан прибыть на командный пункт и, приняв по телефону доклады с боевых постов, доложить о готовности артиллерии к бою. Но кормовую пушку нельзя было изготовить к стрельбе, пока на ней укреплен прибор. Лейтенант не мог допустить, чтобы в спешке повредили дефицитную технику, и вместо мостика поспешил на ют. Добежать ему не удалось. Артём никогда не видел командира корабля таким злым и взъерошенным.
— Отправляйтесь на свое место! — приказал ему Выра, а сам расхаживал, на ходу сочиняя вводные.
Условно изготовив к стрельбе носовое оружие, Артём распорядился по телефону о том, чтобы расчет другой пушки этих команд не исполнял, а вместо них позаботился о сохранности драгоценного прибора. Лейтенант с раздражением ощущал бессмысленность своих действий, то и дело поглядывая с мостика на корму. Но там вдруг засуетилась аварийная партия, опуская за борт водонепроницаемый мягкий пластырь. Расчет пушки стал помогать заделыванию мнимой пробоины, на телефонные запросы Чеголина не отвечал, и, обеспокоенный состоянием прибора, он решил лично разобраться, что там стряслось.
Командир корабля тоже находился на юте. Подбегая, Артём слушал его гневный голос, а боцман Осотин невозмутимо оправдывался.
— Опять под ногами путаешься, мальчишка! — окрысился Выра, заметив Чеголина.
Лейтенант остановился, будто наткнувшись с маху об угол. В глазах у него потемнело, и сам собой вырвался ответ. Несколько слов. И тоже при всех.
Василий Федотович приоткрыл рот… и не сказал ничего. Полезли под козырек брови у главного боцмана Осотина. И ещё Чеголин запомнил замерших в разных позах матросов. Но ему стало всё безразлично. Повернувшись, лейтенант побрел по чужой палубе в свою, впрочем отныне тоже чужую, каюту. Он слышал, как через полчаса прозвучал отбой учений, как со скрежетом откатилась и захлопнулась дверь командирской каюты. Чеголин бездумно смотрел, как плавал по переборке и мельтешил рябью солнечный круг из иллюминатора. Над головой его грохотали подковками по железу матросские ботинки. Но всё это уже не касалось Артёма Чеголина. В лучшем случае его спишут в распоряжение отдела кадров. На обед и ужин лейтенант не выходил, и никто не беспокоил его. Даже сосед. Он не пришел и руки помыть перед едой! Пусть. Сидеть одному было лучше. Не надо разговаривать, объяснять. Что, собственно, объяснять, когда и так всё ясно.
Вечером в дверь постучали:
— Слушай такую вещь! Зайди ко мне!
Капитан-лейтенант Выра показал Чеголину на кресло у своего стола. Но тот предпочел стоять. Помолчали. Выра положил ладонь на затылок и, растопырив пальцы, сосредоточенно почесал лысину. Так он всегда поступал в затруднительных случаях.
«Скоро он начнет? — нетерпеливо подумал лейтенант. — О чем разговаривать? Раз, два, и готово. Останется сказать; «Есть!» и собирать чемодан».
— Понимаешь, для чего назначают учения? — неожиданно тихо спросил командир корабля.
Чеголин был вынужден слушать историю, как двум командирам «охотников» было приказано встретить свою подводную лодку в точке всплытия неподалеку от базы. Но вместо своей они обнаружили вражескую, которая находилась в засаде…
Куда ни шло, если бы история оказалась новой, а то ведь Артём сам мог досказать её до конца. Он ясно представлял и тактическую схему, собственноручно нарисованную в конспекте, и все практические выводы: первый, второй… всего там было пять пунктов.
— Всё ясно, — перебил он.
— Что такое? — сбился с тона наставник.
— Пример известный…
— Откуда?
— Из лекций по тактике.
Каждое слово Василия Федотовича звучало нотацией, ссылка на боевой опыт — голой дидактикой, и лейтенант, невольно поддавшись наваждению, повел себя как школяр на пороге учительской. Пример, по его мнению, ничего не доказывая, раз дело происходило не в гавани, а на подступах к ней. И вообще у врага оказалась «кишка тонка» для прорыва в базу. Наши подводники проникали, и весьма успешно, а фашистские не отваживались.
— Слушай такую вещь; кто читал вам курс тактики?
— Старший преподаватель капитан первого ранга Терский.
— Вот оно что… Считай, что повезло.
— Я так и считаю. А газеты, между прочим, тоже умею читать…
Чеголин имел в виду, что командир корабля вычитал этот пример из газет, а Василию Федотовичу дерзость показалась намеком. Если строптив мальчишке-лейтенанту известна подлинная причина внезапного учения на «Тороке», трудный разговор с ним в самом деле выглядел смешным. Ведь поводом для учения как раз послужила статья в сегодняшней газете.
Ещё утром на борт поступил семафор с вызовом к флагману. Выра сразу почуял неладное, хотя и не знал за собой вины. Вызов был срочным, и капитан, лейтенант не заставил себя ждать. Он бывал у флагмана едва ли не ежедневно, но каждый раз не мог отделаться от впечатления, что входит в его каюту, как в раскрытый том морских рассказов Станюковича.
В обширном кожаном кресле со стеганой спинкой тонул узкоплечий старик. Сивые выцветшие волосы его были распределены посеред темени на прямой пробор. Молодыми казались только глаза. Внимательные, холодные, они прятались в щёлках век, отгораживались линзами старомодного пенсне, но буравили на сквозь. У электрогрелки, замаскированной под камин, лежала овчарка, с хрустом занимаясь сахарной косточкой. Увидев Выру, пес заворчал.
— Жулик, сидеть! — урезонил его хозяин надтреснутым тенором.
Странно было видеть на старике погоны без чёрных орлов. Знатоки утверждали, что такие орлы носил отец Юрия Владиславовича и что сын, окончив ещё царский Морской корпус, начинал службу под началом у собственного папы. Более того, знатокам было доподлинно известно, что грозный начальник эскадры как-то вкатил молоденькому мичману арест за некоторые похождения на берегу. Виновник будто бы безропотно принял «фитиль», а потом, приоткрыв дверь отцовского салона, заявил в щелку:
— Всё расскажу маман!
— Мичман, вернитесь, — прогневался адмирал. — С тобой, Юрик, и пошутить нельзя…
Кроме анекдота в кают-компаниях учебных кораблей пользовались популярностью и другие вполне достоверные сведения. Например, в одном из Указов Петра I в период Северной войны упоминался капитан-командор, который носил ту же фамилию, что и Юрий Владиславович. Гора на острове Сахалин, залив Охотского моря, мыс на Корейском полуострове были наречены в честь других предков. Не менее десяти поколений семьи несли на морях русский флаг, и потому было особенно обидно, что наследник Юрия Владиславовича сложил голову на Балтике в морском бою и теперь ему приходилось пестовать только Жулика полуовчарку, больше напоминавшую заурядного «дворянина»: все ста́тьи малогабаритные и хвост — бубликом.
— Товарищ Выра, вы сегодня газеты читали? Да, да, газеты?
— Так точно, — на всякий случай доложил «командору» Василий Федотович. «Командором» его величали за глаза, в честь основателя династии.
— И со всем согласны?
Утром Выре было не до газет, но ответил утвердительно. Как это можно не соглашаться с органами печати?
— Следует понимать, что напечатали правду? — продолжал уточнять «командор».
— По всей вероятности, — заколебался Выра.
— Вот вам газета. Прочитайте ещё раз. Да, да. Ещё раз и весьма внимательно…
Василий Федотович увидел хлесткий заголовок «отношение к делу», и чуть пониже не таким жирным шрифтом уточнялось: «Учение, которое не принесло пользы». «Чем вы занимаетесь?» — спрашивал автор заметки у старшины первой статьи Якова Рочина и цитировал дерзкий ответ: «Да так, дурака валяем». Далее было напечатано, что командир подразделения Чеголин на учениях отсутствовал, капитан-лейтенант Выра прогуливался по причалу и вообще артиллерийские расчеты были заняты с напряжением не более семи минут.
Василий Федотович решительно не припоминал ничего похожего на учениях последнего месяца. Правда, был случай, когда знакомый газетчик на ходу спросил его, что происходит на борту.
— Частные учения, — рассеянно ответил Выра и на свою голову предложил: — Пойди уточни у старпома, что там по распорядку.
Вот тот и «уточнил».
Старенький «командор», терпеливо дождавшись, пока статья в газете будет усвоена полностью, ехидно заметил:
— За такое отношение к делу полагается выговор. Да, да товарищ Выра. И не возражайте. А потом пошлем письмо в редакцию: «Факты, к нашему прискорбию, имели место, меры приняты…» — этцетера.
Командир «Торока» только сопел, не зная, как отвечать. И Юрий Владиславович смягчился: — Разберитесь, у кого брали интервью и при каких обстоятельствах. А газеты рекомендую читать. Да, да. Вот видите, ознакомились и нашли для себя немало поучительного…
Свежий ветерок на причале не охладил Василия Федотовича. Он скорым шагом вернулся на «Торок» первым делом приказал объявить тревогу, а разбираться в обстоятельствах начал уже после неё.
— Рочин, слушай такую вещь. С корреспондентов говорил?
— Ну, говорил. Только не на учениях… Иван Буланов, сами знаете, на губе. Значит, мне выпало регулировать, прибор Крылова. Дело тонкое, а тут пристал какой-то чмырь. Что он из газеты, на лбу не написано. Вот и отшил, чтоб не мешал.
— Надо было объяснить, что на корабле вовсе не учения, — наставительно подчеркнул капитан третьего ранга Тирешкин.
— Сказал бы, да кто знал, зачем привязался.
Доложив флагману о результатах расследования, Василий Федотович совершенно «пришел в меридиан» и теперь при воспитательном разговоре с лейтенантом Чеголиным сослался на пример из боевого опыта для того, чтобы подчеркнуть правомерность внезапных учений. Отпора он не ожидал.
— Если бы ваши боцмана утопили прибор Крылова…
— Не ваши, а наши боцмана, — поправил Василий Федотович.
— Техника дефицитная. Знаете, чего стоило достать…
— Знаю. Здесь проявил настойчивость. Только навряд чего добился бы без моего звонка.
Вот почему в артиллерийском отделе тыла Чеголину сначала отказывали, а потом неожиданно пошли навстречу. Василий Федотович посмотрел на лейтенанта, будто догадываясь, что от такой новости упрямое раздражение его стало стремительно таять, И теперь Артём Чеголин цеплялся за остатки своей обиды:
— Обозвали мальчишкой…
— Хлопец и есть. Потому закусил удила.
— Какой может быть авторитет…
— А авторитет зарабатывай сам! — жестко перебил Василий Федотович. — Мой, например, от твоей ругани не пострадал. А чтобы впредь не забывался, возьми двое суток ареста при каюте и с исполнением служебных обязанностей…
В этой самой каюте Чеголина уже поджидал Пекочка:
— Кэп разносил?
— Ну его!.. Пытался вкрутить мне мозги…
— Да, — сочувствовал минёр. — Кэп у нас не того. Меня тоже раздолбал. В торпедах давление воздуха не на марке…
Вдвоем они припомнили всё. Какая может быть нормальная служба, если одного наказывают за выход «без штанов», другого обзывают при всём честном народе. Лейтенанты решили, что Выра рубит сук, на котором сидит.
Перед отбоем главный старшина Буланов доложил о возвращении с гарнизонной гауптвахты и о том, что приказание выполнено.
— Какое приказание?
— Командир корабля приказал проверить прибор Крылова и отнести в кладовую. Всё оказалось в порядке.
Потом, помявшись, с тем же отчужденным твердокаменным видом, Иван Аникеевич Буланов положил на стол докладную записку с просьбой о списании с корабля на любой другой.
— Надо будет — переведем! — нахмурился лейтенант Чеголин. — А пока выполняйте свои обязанности.
Год 1942-й. Поправка глубины
Яростная кипень клокотала на палубе катера и захлестывала надстройку. Три мотора выгребали на последнем пределе. В такую пору добрый хозяин собаку на двор не выгонит, но война по-своему распорядилась привычными понятиями добра и зла. Поисково-ударной группе из двух «малых охотников» надлежало встретить подводную лодку в точке всплытия и обеспечить безопасность её вплоть до ворот бонового заграждения. Боевая задача была заурядной. Максим Рудых неоднократно принимал участие в подобных операциях. Суть её состояла в том, чтобы после обнаружения гидрофоном шума работающих винтов по ряду косвенных признаков догадаться, «кто есть "ху"», как острили на их дивизионе, так сказать «полупереводом» с английского. Момент встречи и в самом деле был весьма драматическим. Свои лодки обычно возвращались без торпед, почти без топлива, с разряженными до предела аккумуляторными батареями. Растратив средства нападения и защиты, они были особенно уязвимы у порога собственной базы, и этим пользовался враг. О звукоподводной связи, которая позволяет, обменявшись позывными, ожидать всплытия либо без тени сомнения немедленно атаковать, тогда и не мечтали.
За исключением последней подробности боевая задача была ясной, как глобус, но всё дело в том, что глобус тоже весьма обобщенная модель нашей планеты. Сила ветра в точке рандеву у входа в Кольский залив на сей раз превосходила любые представления о мореходности шестидесятитонных «охотников». Их швыряло с гребня в пучину. Нависая, волна каменела, таранила, вновь оборачивалась жидкостью для того, чтобы окунать и захлестывать. Кое-как удерживая катер на плаву, Максим Рудых прикидывал, как прослушать море. Для этого требовалось периодически стопорить моторы и опускать за борт шумопеленгаторы. Однако прекращать движение в такую погоду рискованно, а на ходу не услышишь ничего, кроме шума своих же винтов. Других, более крупных и остойчивых кораблей для встречи выделить не смогли. Операционная зона огромная, а все эсминцы были наперечет. Поисково-ударную группу «малых охотников» возглавил командир дивизиона, будто его личное присутствие могло что-либо изменить. Капитан второго ранга Терский торчал на мостике рядом с Максимом и, словно в насмешку, разговаривал как бравый солдат Швейк:
— Аналогичная ситуация сложилась не так давно на Чёрном море…
Комдив старался перекричать шторм. Соленая вода струилась по щегольскому чёрному реглану, а мокрое, исхлестанное ветром лицо побурело. Максим взглянул и, грешным делом, заподозрил, что начальству опять море по колено.
— Охотник, пн-те, перевернуло шквалом у Туапсе.
Но в след за первым ударил второй шквал. Невозможно представить, однако факт — катер стал обратно на ровный киль…
— Пугаете? — обиделся Рудых.
— Отнюдь. Предлагаю учесть опыт. Двойной оверкиль произошел только после того, как, сменившись с дозора, «охотник» выскочил из-под защиты гористого мыса Чардак…
Терский мог просто скомандовать: держи, мол, ближе к берегу. Разве не видишь красноватые скалы, которые тянутся на две мили от Сеть-Наволока до Лодейной губы? Разве не ясно, что ветер с румба вест-норд-вест, который по-местному зовут «меж запад побережник»? Если пройти чуть севернее, к мысу Погань-наволок, и будет погань. Хуже этого ветра не найти. А здесь, наоборот, высокий берег не давал разгуляться волне. Но Борис Александрович Терский предпочитал не вмешиваться в управление катером. Ему казалось достаточным намекнуть…
Неприметный с моря мыс Пушка гулко стрелял пещерой, которая захлебывалась прибоем. Удары, распространяясь в толще воды, били по ушам «слухачa» — гидроакустика. Из физики известно, что любой звук в три раза быстрее мчится в водной среде. Ещё Леонардо да Винчи заметил: «Если погрузишь в море трубу и тонкий конец её приложишь к уху, услышишь издалека, плывут ли корабли». Но трудно разобраться в хаосе звуков. В наушниках гремела штормовая волана, грохотал накат россыпью прибрежной гальки, скрежетал грубым песком-дресвой. Как уловить среди гама посвист лодочных электромоторов и тонкое бормотание винтов? Не только уловить, а, поворачивая гидрофон, определить точный пеленг, то есть направление на цель.
«Слухач», флегматичный увалень с узким лицом, похожим на колун, и белесыми телячьими очами, окунул за борт устаревшую аппаратуру, обнял уши пружинистой дужкой с лепешками из пористой резины, и зрачки его, остановившись, устремились внутрь…
Двое суток пара «малых охотников» хлебала жгучую воду. Хлебала, отфыркиваясь, кивая волне. Верхняя вахта, меняясь через полчаса, выкручивала толстую походную робу, укладывая её на кожухи бензиновых двигателей. В моторном отсеке клубился горячий пар, но просыхать одежда не успевала, и заступающая смена натягивала какую есть. Всё равно на палубе обдавало с ног до головы и уже через минуту пробирало до костей, отсасывая живое тепло. Двое суток радист сидел над приемопередатчиком, придерживая горячие лампы-триоды, которые от ударов норовили выскочить из гнезд. Всё так же невозмутимо балагурил комдив, хотя губы его посинели, а голос осип. Максим Рудых хлюпал по мостику в сибирских чёсанках на босу ногу. Как ни странно, но такая обувка, оказалась целесообразнее яловых сапог с портянками. Второй «охотник», Василия Выры, со стороны больше всего смахивал на рубку подводной лодки, которая иногда погружалась, и мачта чертила по воде перископом. Контакта же с истинной подлодкой всё не было, хотя назначенные сроки уже истекли.
Старший краснофлотец Тетехин опять вышел на палубу и готовился к сеансу с неторопливой крестьянской обстоятельностью, словно бы не снаряжал шумопеленгатор, а взнуздывал его, накладывая стопора-гужи. Слухач вымотался больше других. Угреватая кожа его покрылась сизой окалиной, щеки ввалились, и потому казалось, что лицо сплюснулось ещё больше от давления наушников. Тетехин открывал вахту на короткое время, но бессистемно. Его вызывали через семнадцать минут, или через двадцать четыре, или через тридцать девять. Интервалы никогда не повторялись. Командир дивизиона безжалостно дергал слухачей на обоих «охотниках», сбивая ритм.
— Противник изначально пунктуален, а время действия наших шумопеленгаторов установить, пн-те, по стопорению хода проще пареной репы. Умный противник обязательно будет искать закономерность, чтобы воспользоваться ею в собственных интересах…
Максим Рудых кивнул, хотя ждал свою лодку, а для своих эти фокусы с шумопеленгатором ни к чему. Ему было жалко Тетехина, и он подумал, что любое самодурство всегда можно обосновать.
Слухач трудился безропотно, истово, как привык с детства. Тетехин был убеждён, что журчащая струйка искомого звука живет в глубине. Неожиданно уловив ясный сигнал, он удивился не удаче, а почему она не шла так долго. Даже не шумопеленгатором, нет, всем телом Тетехин устремился встречь ритмичному посвисту, доложив на мостик не по уставу:
— Тама! — И махнул для верности иззябшей рукой.
На втором «охотнике» тоже поймали шумы. Выра показал сигнальный флаг «Эхо» и цифровые сочетания направления. Пока их прокладывали на карте для того, чтобы получить место цели в точке пересечения, звук пропал так же неожиданно, как и возник.
— Свои так себя не ведут, — насторожился Терский, а слухач, хоть убей, ничего больше обнаружить не мог. Не мог, и-всё тут, хотя объект был почти рядом. Два пеленга на карте скрестились в нескольких кабельтовых.
— Атака! — решил комдив. — Изготовить большую серию…
Сигнальщики вздернули на мачту желто-синий треугольный флаг «Есть». Минёры, бросившись к корме, стали выдергивать предохранительные чеки у глубинных бомб. Лейтенант Рудых службу знал, но в голосе его не ощущалось командной уверенности. Кто мог поручиться, что это враг, а не та подводная лодка, которую ждали так долго? Сбросить бомбы легко, но — после взрыва руками не машут.
— Это засада, — пояснил Терский, взглянув на Максима. Ему подчинялись и так, но капитан второго ранга был сторонником дисциплины сознательной. Отмечая невысказанные сомнения лейтенанта, он не только учил его решительности. Как командир поисково-ударной группы, он одновременно принимал на себя всю полноту ответственности.
Чёрные цилиндры плюхались и тонули в кильватерной струе, которая вспучивалась султанами. «Охотники» резво убегали от них, но гидравлические удары, догоняя, с силой лупили по корпусу. И палуба, содрогаясь, била по пяткам. Сильно била, до синяков. На поверхности возникли небольшие масляные пятна и шлейф мелких пузырьков, который отклонялся в сторону берега. Василий Выра, уцепившись за след, тоже бомбил, но безрезультатно, и слабые признаки успеха исчезли, разболтанные волной.
— Терпение, — сказал комдив. — «Чем крепче нервы, тем ближе цель…»
Он приказал поставить буй, и опять всё началось сначала. Час шел за часом, сменялись вахты, «охотники» крутились рядом с ориентиром, поочередно окуная шумопеленгаторы. Мыс Пушка без устали гремел канонадой прибоя. В наушниках у Тетехина шуршало, скрежетало и улюлюкало, а сам он от напряжения косил, будто разглядывая кончик своего массивного носа. Через полсуток Максиму Рудых уже представлялось, что контакта не было вообще. Доклады слухачу на обоих «охотниках» и слабые радужные пятна с пузырьками — всё померещилось и было плодом усталости и воображения. Словно в подтверждение сомнений, Тетехин спросил, с какой скоростью двигается второй катер, хотя тот маневрировал у него перед глазами.
— Тововоно, товарищ командир, — растерянно пожаловался он. — Непонятно. Идет малым ходом, а у меня здесь, — он показал на станцию, — шумы, будто от самого полного.
— Вот и дождались, — вмешался комдив. — Сигнальщик! Семафор лейтенанту Выре: «Малую серию, углублением пятнадцать и двадцать пять, сбросить за корму одновременно с рывком вперед».
Странное усиление звука винтов Терский посчитал хитрой маскировкой подводной лодки, которая, по его мнению, двигалась украдкой под днищем второго «охотника». Эксперимент был рискован. Катер Выры не успел разогнаться, и мощные взрывы вздыбили в непосредственной близости от корпуса. «Охотник» взбрыкнул кормой, но трехслойный деревянный борт его самортизировал, не проломившись. Зато сзади вода лопнула пузырем и забурлила масляным фонтаном. Соляр растекался широкой лужей, укрощая волну, и стали отчетливо видны плавающие предметы. Растревоженная пучина плевалась сжатым воздухом, харкала удушливым хлором из затопленных аккумуляторных ям и вдруг извергла странный предмет, в первый момент принятый за глушеную нерпу. Зацепив отпорным крюком, его кое-как подняли и на палубе разглядели досконально.
В рваных тряпках, промокших и промасленных, угадывалась чужая форма, светлые волосы слиплись колтуном, выкаченные зенки, обострившийся клювом нос, разъятый в гримасе оскал, а на голой груди наколка: коченел, ощерившись, аспидный плезиозавр.
— Поди сюда, Вота!
У Тетехина было нормальное имя — Захар, но в команде, придравшись к особенностям речи, его окрестили Вотой. Слухач пообижался, но привык.
— Чего глядеть…
— Как чего? Твой законный трофей.
— Ну его… — Тетехин отвернулся и вдруг добавил: — Жалко.
— Кого тебе жалко?
Разные на палубе собрались парни. Некоторые давно не получали вестей из дому. Не ходила почта через линию фронта.
— Гляди, какие клыки. Думаешь, тебя бы пощадил?
— Живой — ясно. Фашист и больше ничего…
— Вот видишь?
— А покойника жалко, — стоял на своем Вота. Матросы загудели, потребовав объяснений.
— Верно, остались матерь, жонка, детишки…
— Кто ты после этого есть сам?
— Тововоно, русский…
— Какой, к чёрту, русский?
— Воюю, как все.
— Дак с ним не воевать. Их вешать надо, как бешеных собак.
— Палачей надо, — согласился Тетехин. — Тововоно, накрой этого брезентом. Какой-никакой, а был человеком…
Максиму Рудых надо бы вмешаться, но он не знал как.
— Странная логика, — сказал он, размышляя.
— Почему же? Вполне отражает национальный характер, — возразил Терский.
— «Пусть ярость благородная вскипает, как волна», напомнил Максим.
— «Благородная», пн-те. Это существенно… Командир дивизиона отправил боевое донесение через береговой пост службы наблюдения и связи и вскоре получил приказ следовать в базу. По-видимому, все реальные сроки встречи со своей подводной лодкой уже истекли, и дожидаться её стало бессмысленно.
— Вы здесь командуйте, — сказал Борис Александрович, расписываясь на семафоре. Я буду в вашей каюте… Немного, пн-те, отдохну.
До базы было недалеко, семь с лишним миль, и Максиму вдруг вспомнилось замечание комдива на счет терпения, очень уместное замечание, как, впрочем, и все остальные, которые стали предпосылками одержанной победы. С отдыхом тоже бы следовало потерпеть, пока «охотники» не ошвартовались. Но лейтенант Рудых не решился сказать об этом капитану второго ранга Терскому. Это выглядело бы просто дерзостью.
Глава 8. Виноват Жулик!
Перегрузки опасны везде, а корабль от них может потерять остойчивость. Хотя водоизмещение «Торока» было не таким уж маленьким — 670 тонн, сторожевик заметно осел и закачался под тяжестью проверяющих. На борт прибыли в полном составе штаб и политотдел. По нерушимой традиции раздалась команда: «Корабль к осмотру!» Флагманские специалисты вооружились блокнотами и чистыми носовыми платками для обнаруживания пыли в укромных местах, вроде фланцев трубопроводов. Капитан-лейтенант Выра, оставаясь в каюте, время от времени выслушивал гонцов с оперативной информацией по ходу проверки:
— У боцмана обнаружен сверхнормативный запас сурика. Утаил после ремонта.
— Сколько тебя предупреждали, Осотин? Куркульские замашки брось…
— Как же? — невозмутимо возражал главный боцман. — Сами небось жучите: здесь подкрась, там зашпаклюй. А где краска? Без запасов невозможно никак…
— Тогда сховал бы у себя в «гадюшнике»…
— Как же? Обнаружат беспременно. Держал в обрезе под верстаком, — объяснял Осотин, понимая под «обрезом» отнюдь не оружие, а всего лишь укороченную железную бочку. — Дак кто знал, что они такие дотошные. Сунулись, не глядя, — и по локоть в сурике.
— Что? — ужаснулся Выра. — Командир БЧ-5! Бензину сюда. Срочно.
— К чёрту бензин, — появился в коридоре Нежин в напрочь заляпанной тужурке, и голос помощника начальника штаба не предвещал ничего хорошего. — Дайте семафор. Пусть пришлют запасной китель из моей каюты.
Перед обедом к Выре постучался дежурный по кораблю и доложил почему-то шепотом:
— Товарищ командир!
— Что? Что там ещё?
— Прошу снять пробу!
Сзади застыл кок в белоснежном колпаке с подносом. Он ждал восторга, а Василий Федотович скривился точно перед дохлятиной.
— К старпому! — отмахнулся он.
Командир корабля — тоже человек, и что тут поделаешь, если у него отшибло аппетит. Правда, по сигналу ему всё же пришлось идти в кают-компанию. На «Тороке» обедал сам флагман вместе со своим Жуликом, и вестовой Бирюков не пожалел для Юрия Владиславовича ни мясной тушонки, ни свежей разварной картошки. Меню было выдающимся, а суп едва не выплескивался через край тарелки.
— Товарищ матрос, — обеспокоился «командор». — Вам пальцы не жжет?
— Никак нет. Он не так горячий, — мужественно доложил Бирюков, хотя тарелку донес с трудом.
— Тогда хорошо, — кивнул Юрий Владиславович. — Но вы принесите мне другую тарелку, погорячее. Только на подносе. Да, да. Как бы иначе не пришлось отправлять вас с ожогами в госпиталь.
— Есть принести погорячее, — обиженно отрапортовал вестовой. Он был поражен: «Отказаться от такой порции?»
Результаты смотра ещё не объявлялись, но «командор» был суров и сдержан. Над столом висела тишина, и куски не лезли в горло обедающим. Заместитель командира Тирешкин для общего блага попытался разрядить обстановку. Вытащив из кармана заранее приготовленное печенье, он сложил губы венчиком и ласково зачмокал. Но адмиральский пес не обратил на призыв никакого внимания.
— Жулик, Жулик, возьми! — вкрадчиво умолял Макар Платонович.
Пес снизошел. Зажав печенье лапами, он лениво отгрызал по кусочку.
— Какая воспитанная собака, — восхитился Тирешкин, призывая в свидетели старпома. — Другая бы хапнула на лету.
Лончиц согласился с Макаром Платоновичем, хотя последующие события показали, что ему было бы лучше воздержаться. Дело в том, что любой нормальный пес делит людей на своих и чужих, относясь к последней категории в высшей степени подозрительно. Столь упрощенный подход к человечеству обычно корректируется намордниками, ошейниками или, в крайнем случае, уведомлением на видном месте. Любая из этих мер не подходит для корабля. Представьте табличку: «На борту злая собака». Остряки обязательно поймут её не так, а люди без юмора усмотрят в ней вызов и потрясение основ. Конечно, одинаковых собак не бывает. Жулик, которому приходилось жить там, где поднимался флаг хозяина, просто не мог бы существовать с «нравом» цепного пса. Наоборот, Жулик отличался удивительной приспособляемостью. Но, несмотря на это, к нему относились плохо не только на «Тороке». Непостижимо как, но Жулик умел различать чины, всегда искал покровительства у самого старшего из присутствующих и проводил свою линию с собачьей прямолинейностью: лизать — снизу вверх, рычать — сверху вниз. Такие характеры встречаются иногда и у людей, но распознать их труднее из-за наличия второй сигнальной системы. Стоит ли удивляться отношению моряков к бюрократическим замашкам собаки?
Едва Тирешкин стал угощать её печеньем, в каюткомпании «Торока» начались перемигивания. Капитан-лейтенант Выра тщетно старался воздействовать на молодёжь магнетическим взглядом. А Макар Платонович, воображая себя дипломатом, превозносил нахальную дворняжку до тех пор, пока не раздалась слегка насмешливая реплика её хозяина:
— Жулик — деликатная собака. Да, да, весьма деликатная…
Через каких-то пару часов все были убеждены, что «командор» иронизировал не случайно и Жулику заранее отводилась особая роль в инспекционном смотре. Так или не так, а только пес находился на ходовом мостике в момент, когда капитан-лейтенант Выра нетленным духом наблюдал, как его молодой помощник самостоятельно выводит корабль из гавани.
— Командир «убит»! Да, да. И не возражайте, — объявил руководитель учения, а сам под бременем прожитых лет стал подремывать, удобно устроившись на приступке банкета, то есть своего рода пьедестале, на котором вместо памятника была укреплена тумба главного магнитного компа́са.
Старший лейтенант Лончиц рьяно приступил к новым обязанностям, для начала приказав Чеголину объявить аврал. А Юрий Владиславович почивал и, наверное не заметил замечательную четкость разбега швартовных команд на положенные в расписании места. Дальше всё пошло не так гладко. Лончиц с Чеголиным старались командовать потише, чтобы, упаси боже, не побеспокоить «командора». Впередсмотрящий конец зажало на причальной тумбе тросом соседнего корабля. Призрак командира молча показал главному боцману кулак. Осотин, понимая, что проглядел ошибку, засуетился, для большей доходчивости применил не совсем командные слова. Старпом нервничал, бегая с мегафоном с одного крыла мостика на другой, а Жулик путался под его ногами и ещё рычал.
В суматохе забыли потравить якорь-цепь, и нос корабля не желал прижиматься к шпунтовой стенке, а корма, наоборот, не хотела от неё отходить. Когда пес вновь стал поперек дороги, Лончиц что есть силы послал его носком ботинка на «угловой» и, подобно футболисту, немедленно заработал «пенальти». Жулик, рванув обидчика за штанину, отчаянно заскулил, а главный судья, пробудившись, холодно скомандовал:
— Отставить учение!
Выход в море не состоялся, и на «Тороке» все беды валили на флагманского хвостатого фаворита. Выра задумчиво почесывал плешь, а Евгений Вадимович утверждал, что «паршивую дворняжку» отныне не пустит на борт. Правда, на официальном разборе выяснились и другие подробности. Только по штурманской части и ещё по гидроакустике у проверяющих не оказалось существенных замечаний. С трибуны цитировались записи из разбухших блокнотов. Особенно досталось доктору Мочалову. И колода для рубки мяса на камбузе была не посолена, и топор для той же цели не имел положенного чехла, и медицинский инструмент нестерилен. И ещё отмечалась крысопроницаемость.
Ехидный Бебс вопросом с места попытался выяснить, в каких единицах измерен последний показатель. Проверяющий ответить затруднился, и тогда механик посоветовал принять за единицу «один крысом», равный одной крысе, пробегающей за час через дырку в один квадратный дециметр. Капитан второго ранга Нежин при этом позволил себе улыбнуться, оратор на трибуне нашел смешки неуместными, а сам Бестенюк скоро расплатился за повышенную любовь к точности. Оказалось, что в одной из составленных им эксплуатационных инструкций указана предельно допустимая протечка воды через сальник 10 литров за час.
— Как может определить это вахтенный? — спросил флагманский механик.
Вытащив из кармана логарифмическую линейку, Бестенюк моментально перевел показатель в капли за минуту.
— Прикажете матросу капли считать?
В президиуме страшно развеселились, остальным же было не до смеха. Какой юмор, когда всех лупят в хвост и в гриву? А в заключение «командор» прочитал описание некоего рационализаторского предложения: «В целях экономии топлива и моторесурсов главных двигателей предлагаю при стоянке на рейде отработанный пар от котлов подавать через продувание высокого давления и зарубашечное пространство дизелей, поддерживая их в готовности к немедленному, действию». Документ был снабжен резолюцией командующего: «Может быть, сочинителя следует лечить?»
— Психиатры этого не подтвердили, да, да. И не удивляйтесь, — комментировал Юрий Владиславович. — Доброхот по роду обязанностей отношения к технике не имеет, но всё же обязан знать, что служит не на теплоходе и его корабль движется паровыми турбинами. Спрашиваем его, почему со специалистами не посоветовался. Отвечает: «Зачем? Ещё станут навязываться в соавторы».
Дремучее письмо в сочетании с прочими примерами и хлесткими оборотами «командора» вроде: «С собачьим хвостом в волки метите?» — производили целебный эффект русской бани. Сравнение с хвостом Евгений Вадимович Лончиц почему-то принял персонально на свой счет, а остальных больше занимала личность безымянного сочинителя.
— Лейтенант Клевцов не так давно решил подробнее разобраться с обстановкой на «Тороке», — сказал начальник политотдела, самокритично добавив, что следовало заняться этим ещё раньше, поскольку отдел кадров собрал вместе столько молодых и неопытных офицеров.
— Не корабль, а детский сад, — вставил Юрий Владиславович. — Да, да. И не возражайте…
До возражений ли, когда крыть нечем, не говоря уж о том, что на военной службе спорить не положено. Обидное заключение флагмана было специально предназначено для того, чтобы задеть за живое. Один только Макар Платонович Тирешкин хранил полную невозмутимость на разборе учения, а после немедленно вызвал к себе командира БЧ-5.
— Вам известно, что в котлах не бывает отработанного пара?
— Конечно. Иначе меня следовало бы гнать с механиков.
— Вот, вот. А ваши чертёжики? О чем они, спрашивается, говорят?
— Об устройстве парохода… А в чем дело? Вы знаете, кто написал дурацкое письмо командующему?
Заместитель командира грозно нахмурился:
— Есть мнение, что эти бумажонки — филькина грамота. Известно, что полагается за вредительство?
— Ну, знаете… — Глаза у Бебса вспыхнули форсунками. — За наветы тоже не жалуют. А техническая документация только что проверена флагмехом. Филькину грамоту, видите ли, тоже надобно уметь прочитать.
— Ладно, товарищ лейтенант, свободны…
— Инженер-лейтенант, — поправил Бестенюк. — А как же тогда чертёжики? Нет, вы мне покажите невежу, который бросается такими обвинениями…
— Покуда свободны, — повысил голос Тирешкин, подчеркивая служебную дистанцию.
— Есть! Но вынужден предупредить, что я этого так не оставлю.
— Кто вас обвиняет, Борис Егорович, — сразу же сменил тон заместитель. — Наоборот, есть мнение, что необходимо оградить. И мы, то есть командование, будьте уверены, разберемся.
— Назовите, кто писал. Я с ним поговорю по-свойски.
— Разглашать не могу. И вам не рекомендуя доискиваться. Наш разговор, имейте в виду, совершенно секретный.
Бестенюк подчинился с видимой неохотой, но в коридоре от его возмущения не осталось и следа. Прыснув в кулак, он сперва пожалел, что нельзя поделиться содержанием разговора. Хранить такую информацию в себе было обидно, но ничего не поделаешь, Бебсу пришлось промолчать и после того, как на комсомольском собрании Макар Платонович выступил с призывом хорошо знать свой корабль и вверенную боевую технику, затем критиковал боцмана за скопидомство и привел для наглядности одну из своих вывернутых поговорок: «У семи дядек нянька без глазу».
Матросы поняли его по-своему:
— Без чего? Без глазу? Га-га-га… За дядьками надо глядеть в оба…
Артиллерийский электрик Мыльников выкрикнул:
— А задачу пересдадим. И Макар носа не подточит.
Тут грохнуло всё собрание.
— Вот таким Макаром! — трепался довольный старшина.
Макар Платонович смеялся тоже и с большим удовольствием. А лейтенанту Чеголину смех не понравился. Не всякий восторг — свидетельство популярности…
Две последующие недели мелькнули, как один бесконечный рабочий день. Кроме бесчисленных тревог и тренировок, такому впечатлению способствовала даже природа, поскольку сумерки отсутствовали и солнце постоянно висело над «Тороком», как абажур в офицерской кают-компании.
Хуже всего доставалось Пекочке. Вкалывая, как и все, он ощущал на себе пристальный взгляд из пятнадцатого окна на четвертом этаже «циркульного» дома. Дом возвышался над третьим причалом, у которого швартовались сторожевики, и Анечка без труда выяснила, что муж имеет некоторое время для отдыха. Почему же тогда он не кажет носа на берег? Такое поведение супруга, по мнению Анечки, можно было объяснить только отвратительным невниманием и черствостью.
Самому же молодому супругу только и оставалось, как наблюдать в оптические приборы. По утрам в заветном окне распахивалась форточка, но многократное увеличение не помогало взгляду проникнуть за тюлевый занавес. Изредка в поле зрения бинокля мелькала тень фигуры, но гравированные на просветленных линзах штрихи тысячных дистанции, накладываясь на эту тень, как бы перечеркивали её накрест. Сход офицеров на берег официально никто не отменял, но Пекочке казалось невозможным напоминать старпому о посторонних устремлениях в момент подготовки к новому зачётному учению. Он не решался даже отпроситься на ночь, вспоминая инцидент в кают-компании, который случился в день приезда жены.
Таким образом, близость временного пристанища к кораблю уже не казалась лейтенанту Пекочинскому большой удачей. Скорее наоборот, теперь он сообразил, почему жилые дома офицерского состава, сокращенно — ДОСы, как правило, отделяют от военно-морской базы высоким забором. Разве дело, когда гражданские лица заглядывают на палубы и шляются едва ли не по причалам?
— Гляди, Артём, вон идет жена нашего к-кэпа, — как-то показал минёр на солидную даму в модном демисезонном пальто.
— Врешь, — удивился Чеголин.
— И я полагал — холост, а у него семья и тоже в «циркульном», только в соседнем подъезде.
— Чего ж он тогда? Главное, командиру корабля и отпрашиваться не нужно. Захотел домой — и «до свиданья»…
— А ему зачем? — с раздражением отозвался Пе кочка. — Уже старый и лысый.
— Ты даешь!.. Василию Федотовичу около тридцати.
— Всё равно старый. И жена такая же каменная. Смотри, идет себе, а на корабль ну хотя бы голову оборотила.
— Точно его жена?
— Точно. Аньке её показали соседки, а она — мне…
Год 1942-й. Новоселье
По военному времени Василию Выре не часто выпадала оказия встречаться с женой. И вот однажды, нежданно-негаданно, он попал к себе на новоселье. Адрес сообщили прежние соседи, плутать не пришлось — многоэтажный каменный дом был в базе единственный. В прихожей квартиры его встретили изумленными возгласами и хозяйка, и гости…
— Полюбуйся, дали ордер от госпиталя, — с достоинством объяснила Раиса.
Комнатка была небольшой, четырнадцать метров, но тщательно отремонтированной и, главное, без печки, с батареями водяного отопления. Знакомая мебель, обшарпанная и скрипучая, выданная во временное пользование из КЭЧ гарнизона, казалась здесь до крайности неуместной. И сам Выра, с обветренным, задубеневшим лицом, в помятом кителе, в яловых сапогах, не чувствовал себя дома в этой ухоженной городской квартире со всеми удобствами, среди незнакомых медиков с их специфическими разговорами.
А нарядная, слегка подкрашенная Раиса Петровна держалась с лекарями на равной ноге, говорила с апломбом, сыпала терминами. Дымчатые глаза её, обычно полуприкрытые тяжелыми веками, распахнулись настежь, сумеречно потемнели, влажно поблескивали, отражая праздничный стол, гостей, репсовый бордовый абажур над стоваттной электролампой.
Раиса Петровна считалась сестрой милосердия, хотя не имела даже справки об окончании краткосрочных курсов Осоавиахима. Выра не понимал, каким образом ей могли доверить канцелярию госпиталя. Медицинское делопроизводство тоже требовало соответствующей квалификации. Но он был бы удивлен ещё, больше, если б узнал, что жена, которая оставила себе девичью фамилию из независимости, предъявила вместо диплома частное письмо от старшей сестры.
— Сергея Парфеныча Беркутова знаете?
— Профессора Беркутова?
— Вот письмо от его жены…
Самого профессора, который придерживался строгих правил, бесполезно было бы просить о протекции. Но этого и не требовалось. Служебное положение Беркутова было столь значительным, уважение к его имени так велико, что близкой родственнице не решились отказать.
Раиса Петровна подогнала по фигуре казенный халат и надела косынку с красным крестиком гладью. Она подшивала истории болезней, печатала заключения патологоанатома, заполняла бланки «похоронок» и вела протоколы военно-врачебной комиссии, где раздевали догола, щупали рубцы от ран, определяя: кому инвалидность, кому отпуск до окончательного выздоровления, кому возвращение в строй. Такие занятия принесли ей ощущение причастности к жизни и к смерти, и к судьбам людей. Походка у Раисы Петровны стала ответственной, лицо — непроницаемым, голос — значительным. Это тотчас уловили сослуживцы. Палатные сестры и сестры-хозяйки, не говоря уж о молоденьких санитарках, безропотно выслушивали замечания от медицинского статистика. Даже мобилизованные с «гражданки» врачи, которые стажировались в госпитале перед назначением в части и на корабли, не гнушались советов Раисы Петровны.
Выделение жилплощади в привилегированном доме выглядело для Василия Выры, и не только для него одного, как общественное признание заслуг Раисы Петровны. Хотя, если начистоту, причина была другой. Начальник госпиталя, весьма принципиальный в сугубо медицинских вопросах, избегал, по мере возможности, житейских конфликтов и боялся склок во вверенном коллективе. Статистика он предпочел потому, что другие претенденты попросту оказались поделикатнее. Правда, в домашней обстановке Раиса Петровна была другой. Здесь она отдыхала и даже обеспокоилась, видя, как огорошенный супруг с трудом привыкает к гостям и внезапному новоселью.
Для оживления обстановки она не без умысла рассказала о забавном происшествии в приемном покое, когда рядовой боец вдруг потребовал помещения в офицерскую палату. Выра догадался, что речь зашла о Терском. И гости сразу же оживились. Раненый из штрафников — это было всем ясно. Но как он туда попал? И, главное, за что? Подробности на следующий же день стали бы главной темой разговоров госпитального персонала. Медсестры и фельдшера под любыми предлогами заглядывали бы к Терскому в палату и, удовлетворив любопытство, прибегали бы в канцелярию к Раисе Петровне за уточнениями.
По усмешке мужа рассказчица поняла, что не ошиблась, найдя общую тему застольной беседы. Ясно, что Выра знает Терского и всё, что с ним произошло. Но муж ограничился невразумительной репликой:
— Коли так — отделался дешево, — сказал он. И всё.
Что стоило ему поделиться дополнительными пикантными сведениями? Не с чужих слов, сам был свидетелем торжественной встречи поисково-ударной группы «охотников», которая не принесла радости триумфаторам.
Катер Максима Рудых с вещественными доказательствами гибели вражеской субмарины швартовался первым. Выра увидел на причале оркестр и группу командиров, которая издали сливалась в темное, под цвет шинелей, пятно с блестками золота. Узкая сходня, поданная с «охотника», наклонилась к берегу круто. Комдив Терский с ладонью у козырька спускался по ней неверными шагами и, поскользнувшись, упал. Хорошо ещё, что не в воду. Однако на сей раз сыграть за борт ему было бы лучше.
Выра успел подвести свой катер впритирку к Максимову и разглядел, кто подал Терскому руку, помогая подняться. Никто не ждал, что командующий флотом будет лично встречать поисково-ударную группу, хотя повод для этого был достаточно основательным. «Батя» с дружеской улыбкой помог Терскому, потом, внезапно нахмурившись, резко отодвинул комдива, не дослушав его доклада. Выра не придал этому значения, тем более что командующий вместе с членом Военного совета поднялись потом на борт одного, а потом и другого «охотника», пожимая руки членам экипажей и расспрашивая о всех деталях поиска и атаки.
Максим Рудых назойливо подчеркивал проницательность командира дивизиона, но слова его как-то проскакивали мимо. «Батя», такой обычно приветливый, с аккуратным, слегка вздернутым носом и смешливыми хохлацкими глазами, внимал, уточняя только по существу. Остроумный «батя», снайперской шутки которого опасались куда больше, чем любого наказания, выглядел незнакомо колюче, с набрякшими гневом скулами.
— Здорово щелкаешь голенищами, — заметил Выра Максиму, когда проводили начальство.
— Неужели не догадался, что у нас теперь нет комдива? Терский отстранен и отдан под трибунал.
— Коли так, ты выступал адвокатом? — спросил Выра, ничуть не удивившись.
— Балбес! Мы с тобой скоро получим ещё по ордену, но мы только исполнители. Лодку уничтожил он. И знаешь почему? Раскусил психологию противника.
— Потом, как обычно, наклюкался.
— Спорить не буду. Но кажется, я только сейчас понял, что такое морская тактика…
Между прочим, Терский оказался однокашником командующего флотом, и на причале обе стороны объяснялись, величая друг друга на «ты»…
Не теряя надежды разговорить супруга, Раиса Петровна добавила, что о странных претензиях раненого бойца доложили не кому другому, а, конечно же, в канцелярию госпиталя и что она лично распорядилась их удовлетворить. Деликатные медики, не опровергая этого утверждения, ждали дополнительной информации. По мужской толстокожести Выра этих нюансов не оценил, однако ему стало неприятно. К чему болтать, когда штрафной батальон у Терского уже позади, а вина искуплена пролитой кровью?
Промолчав, Василий замкнулся окончательно и уже подумывал, как смотаться, сославшись на дела службы. Но идти ему было некуда. Гости почувствовали себя неуютно и стали расходиться.
— Разве не понял, о ком шла речь? — раздраженно спросила жена, когда они с Василием остались одни. — Между прочим, твой бывший начальник отбывал срок на Рыбачьем.
— Ясно, не на курорте. У них там много потерь…
— Что ты знаешь о потерях? Только и всего, что перед носом на своем катеришке. Подумаешь, ему невозможно рассказать о человеке, которого мы будем лечить. Как ты смешон со своими мелкими тайнами. Запомни, упрямый хохол: у меня не бывает гостей, не допущенных к вашим секретам.
— Мне лишние сведения ни к чему. Другим, полагаю, тоже…
Раиса Петровна, разъярившись, хотела добавить ещё многое. Но муж набычился. Сквозь редеющую шевелюру его просверкивала беззащитная детская кожица. Раиса Петровна по опыту знала, что при такой позе к нему лучше не подступаться, и тут вспомнила, что ей до зарезу требуется переговорить совсем о другом. Выждать подходящий момент и соответствующее настроение к сожалению, нельзя: спозаранку Вася наденет шинель — и с приветом. Когда ещё представится случай? Ей требовалось срочно разрядить обстановку. И крайне необходимый предлог нашелся, причем очень естественный:
— Да ты уже старлейт? Поздравляю, милый. Почему сразу не сказал?
— И так видно, — буркнул Выра, оттаивая. — По знакам различия.
— На столе ничегошеньки не осталось. Жаль, Надо бы отпраздновать.
— С Максимом отметили. Он тоже старший лейтенант.
— Вот как?.. В таком случае передай мои поздравления.
От последней реплики повеяло сквознячком. Пропадал великолепный повод для упреков. Тут самое бы время спросить, кто ему ближе: родная жена или собутыльник-цыган. И дальше в этом же роде. Раиса Петровна давно решила положить конец особым отношениям мужа с Максимом Рудых. Этот бесчувственный чурбан вел себя так, будто супруга приятеля пустое место и вовсе даже не женщина. Красавчик дурно влиял на Выру, а сам перестал приходить, что выглядело не иначе как уже просто вызовом. Муж при семейных сценах сникал и только оправдывался. Это внушало ей некоторую надежду. Ещё поглядим, кто возьмет верх!
На сей раз воспитательные мероприятия не входили в намерения Раисы Петровны. Она привыкла держать данное слово и, подготовив почву, приступила к делу без промедления:
— Ещё передавал привет Петя Осотин, твой воспитанник.
— Сам отрекомендовался так? — Выра был удивлен.
— А что? Я бы гордилась. Он просто герой.
— Коли так, ладно. Значит, своего достиг.
— Ты бы навестил его, Вася. Симпатичный молодой человек и очень страдает.
— Что с ним?
— Понимаешь, штыковая травма грудной клетки и осложнение — гнойный плеврит.
— Отвоевался, видать. А дельный был боцман.
Раиса Петровна снисходительно засмеялась:
— Ничего ты не смыслишь в медицине. Прогноз благоприятен. Мы умеем лечить.
— В медицине — согласен. Но думаю, сей хлопец не станет напоминать о себе без причины.
— Он же ранен, — сказала Раиса Петровна. — И так хорошо о тебе говорит…
Озадаченный Выра последнего аргумента не оценил, и тогда она решилась осторожно пояснить:
— Видишь ли, есть приказ всех моряков вернуть на корабли.
— Це так… Ясно. Передай, на то существует отдел комплектования личного состава.
— Сам говоришь: «дельный»…
Выра отклонил дальнейшие домогательства без нажима, но с такой естественной непреклонностью, что Раиса Петровна была озадачена. Дело в том, что она никогда не понимала, как её тюфяк мог быть командиром катера. И вдруг… Настаивать было глупо. Пришлось временно отступить.
Однако сам Выра тоже ещё не знал, зачем их с Максимом вызвали в штаб флота и почему член Военного совета первым делом поинтересуется, есть ли у старших лейтенантов штатская одежда. Смешной и странный вопрос. Откуда же ей быть?
Глава 9. Вахту принял исправно
На полном ходу — ветер встречный, с какого бы направления ни дул. Назойливый ветер не давал роздыху даже в штиль, тем более что «Торок» обходился без закрытой ходовой рубки. Практика — и та, что считается критерием истины, и просто морская практика — обе эти практики настоятельно требовали защиты от снега и брызг. На мостике возвели навес, застекленный спереди прямоугольными окошками по дуге. Штурвал с путевым компа́сом, машинный телеграф, тахометры, показывающие обороты гребных валов, телефоны, кнопки ревунов и рычажок колоколов громкого боя — всё размещалось здесь. Будка была отделена от остальной части мостика брезентовыми портьерами и загораживала главный магнитный компа́с с носовых курсовых углов. Тогда его вместе с тумбой-нактоузом водрузили на высокий пьедестал.
Предполагалось, что на походе командир корабля и вахтенный офицер смогут находиться в будке по обе стороны от рулевого. Но лобовые стекла без обогрева и механических «дворников» не обеспечивали надлежащего обзора. И по этой причине вахтенному офицеру категорически запрещалось пользоваться укрытием. Как петух на жердочке, он возвышался на банкете рядом с тумбой компа́са. Крыша будки, упираясь в грудь, служила столом для записной книжки. А лицо по-прежнему оставалось открытым всем ветрам. Отсюда лейтенант Чеголин хорошо видел, как вспарывал воду форштевень, и как бежала по бортам пена, и как вспухала позади кильватерная струя.
— Предмет, прямо по носу, полкабельтова, — доложил сигнальщик.
Но лейтенант и сам заметил наклонный комель бревна, плававшего торчком:
— Лево на борт!
Маневр уклонения был произведен четко, но капитан-лейтенанту Выре не просто угодить.
— Слушай такую вещь. Без крайней необходимости не следует ворочать круто.
Опять придирается. Чеголину хотелось курить. Ноги его затекли. Вахта продолжалась уже три часа.
А Выра вроде бы дремал, устроившись на разножке, и время от времени донимал репликами. То вымпел запутывался на грот-мачте, то сигнальщик полез по скобам мачты освободить застрявший фал и не спросил на то разрешения. Командир, дремавший на левом крыле мостика, был основной трудностью ходовой вахты.
Далеко справа, почти на краю горизонта, угадывались очертания берегов. Мысы, приметные вершины гор можно было рассмотреть только в бинокль, а ещё лучше в дальномер и уже потом ловить их трепетной нитью визира на пеленгаторе. Издали все скалы выглядели одинаково, и Чеголину приходилось хитрить. Это очень просто. Он прикидывал на карте, какой мыс должен открыться, затем искал похожую зазубринку и пеленговал её. Сомневаться в правильности отсчетов не стоило. Впереди, на флагманском эсминце, были знающие поводыри, на которых вполне можно положиться. Чеголин с Пекочинским только лишь ухмыльнулись, узнав о запрещении сверять свою навигационную прокладку с путевой картой штурмана. Это по мнению командира корабля, должно было выявить степень подготовки вахтенных офицеров и уровень их самостоятельности.
Растянувшись кильватерной колонной, отряд учебных кораблей двигался вдоль берегов Кольского полуострова. Путь лежал в Белое море, и корабельная трансляция голосом Тирешкина то и дело вещала о подвигах, которые совершались здесь совсем недавно. При подходе к Семи островам заместитель командира торжественно объявил, что в этой точке был сбит штурмовик. Отличился расчет кормового автомата Ивана Буланова. Лейтенант Чеголин в момент этой передачи как раз сменился с вахты, и его заинтересовал не результат, а профессиональные подробности того боя. Отношения с главным старшиной Булановым не портились после того, как его пришлось посадить на гауптвахту. Вряд ли он станет делиться воспоминаниями. Тем острее Артёму захотелось выяснить всё, вплоть до общей тактической обстановки. Ответ можно было получить в историческом журнале, но там обнаружились лишь торопливые заметки. И вообще составители журнала не думали о потомках. Разве история только в том, сколько сбито, сколько потоплено, или в перечне фамилий награжденных? А где соотношение сил, где замысел боя и его воплощение, где выводы и анализ плюсов и минусов? Чеголин подумал, как было бы полезно, готовясь к стрельбе по щиту, привести развернутый пример из боевого опыта. Задача станет конкретней, отношение к ней куда осмысленней. Пока не поздно и не ушли живые свидетели, следовало дополнить куцый журнал и многое восстановить. Кто бы мог этим заняться? И вдруг Артёма осенило: Виктор Клевцов!
Чеголин был убеждён, что Виктор безусловно подхватит идею реставрации исторического журнала. И правда, он одобрил её — в принципе.
— Но я не справлюсь.
— Ты?
— В замысле боя и прочей тактике способны разобраться только специалисты. Вот и займись сам.
— Мне не расскажут, — смутился Чеголин.
— Пожалуй, так…
Клевцов только лишь подтвердил опасения Артёма, но это прозвучало упреком. А договорить им не удалось, так как обоим пора было заступать: одному — на мостик, другому — в машинное отделение.
Снова в руках у Чеголина был весь сторожевой корабль, его механизмы и команда, пушки и торпеды.
— Доложите дистанцию до переднего мателота, — вдруг потребовал Выра.
Мателотами называются корабли, следующие в строю, и Чеголин, прикинув расстояние до кормы впереди идущего эсминца, доложил:
— Два с половиной кабельтова!
— Отстаёте. Надо развивать глазомер.
Призма Белли, маленький карманный дальномерчик, подтвердила, что командир корабля прав. Пришлось срочно давать два звонка в правую машину, два — в левую, затем, скорчившись, заглянуть в будку на циферблаты тахометров. Их стрелки дрогнули, называя прибавку десяти оборотов в минуту. Лейтенант тоскливо ёжился, мечтая о самостоятельности. На вторые сутки похода ему предстояло стоять с четырех утра, и оставалась надежда, что капитан-лейтенант Выра спустится вниз отдохнуть. Тем более что погода позволяла — был абсолютный штиль и полная видимость. Гладкая, без морщинки вода блестела, как в корыте.
— Идем горлом Белого моря, — скороговоркой информировал Пекочинский, протяжно зевая. — Справа, на курсовом пятьдесят, маяк… Святой Нос.
Вскинув бинокль, Артём увидел на вершине горы одноэтажный кирпичный дом, из крыши которого росла башня с бело-красными вертикальными полосами, Внешний вид сооружения надлежало сверить с описанием в пособиях, но минёр, нетерпеливо переминаясь, вполне мог опять обозвать формалистом.
— Не суетись, — сказал Чеголин сменщику, однако в книгу заглядывать воздержался. Буквоедов он и сам не любил. Обстановка была столь ясной, что Выра отпустил штурмана отдыхать и только сам по-прежнему дремал на трубчатом стуле-разножке. Артём только лишь посмотрел на карту и доложил:
— Вахту принял исправно!
— Сменяйтесь, — сказал Выра и снова закрыл глаза.
Некоторое время шли без происшествий. На мачте флагманского эсминца не появлялось никаких сигналов. Курс и скорость постоянные. И даже Василий Федотович не донимал замечаниями.
— Флагман показывает курс сто девяносто пять градусов, — вдруг закричал сигнальщик.
Колонна кораблей по очереди поворачивала, и «Торок» тоже выполнил маневр. Чеголин покосился на Выру. Тот молчал, — значит, порядок. Оставалось нанести новый курс на карту при помощи параллельной линейки и транспортира, но карандаш уткнулся в береговую черту. Чеголин удивился, проверил расчеты, протер карту мягкой резинкой и заново выполнил графику. Ничего не изменилось. Вопреки логике и здравому смыслу курс, указанный флагманом, упирался в скалы Кольского полуострова.
Пока Артём воевал с картой, прошло ещё полчаса.
Если верить бумаге, сторожевик давно уже залез на гору с отметкой 230 метров, скатился по обратному склону и прыгал в тундре с кочки на кочку. А море впереди привольно голубело. Всё так же бежал перед форштевнем пенный гребень. Отчаявшись, Чеголин решил «привязаться» к берегу заново по приметным ориентирам. Мягкая подушка над окулярами дальномера была влажной и холодной от росы. Включив двадцатипятикратное увеличение, он развернул трубу. Перед глазами, подрагивая, поплыли отвесные красноватые утесы. Прибой лениво облизывал валуны. Не было только самого нужного: ни навигационных знаков, ни характерных мысов.
— Доложите место! — вдруг потребовал командир корабля.
Оказалось, он давно уже наблюдал за судорожными попытками лейтенанта «спасти свое лицо». Выра подошел к прокладочному столику, посмотрел на карту под брезентовым шатром, потом на растерянного Чеголина и вдруг развеселился:
— Не знаете правил совместного плавания? Отчего не подняли сигнал: «Курс ведет к опасности»? Почему не застопорили машин?
Запинаясь, как двоечник на экзамене, лейтенант объяснил, что, судя по прокладке, корабль давно бы уже сидел на камнях, а между тем благополучно следует дальше, занимая свое место в ордере.
— Коли так, исправляйте ошибку.
Продолжая ухмыляться, Выра сел на свой стульчик и… задремал. Чеголин схватился за лоцию. В ней содержалось множество полезных сведений. Но во всех навигационных пособиях Артём не обнаружил и запятой, которая помогла бы ему разгадать удивительный ребус. Выра дремал, и его рыжая кожаная спина, казалось, сама высказывалась: «Эх ты, вахтенный офицер! А ещё нормальное училище кончил!»
Наконец берег, однообразный при всей его дикой выразительности, подарил Артёму каменную, круглую, светло-желтую башню с фонарем наверху. Теперь следовало найти рисунок и прочие характеристики маяка. Трижды перелистав соответствующий раздел книги, он, однако, не обнаружил ничего похожего. Готовый уже признаться в полной несостоятельности, Артём перевернул несколько страниц следующей главы и вздрогнул: «Терско-Орловский» было напечатано под рисунком, хотя по идее маяк должен был находиться впереди на целых тридцать миль.
Через пять минут всё стало на свои места. Сторожевик, оказывается, опередил любые представления о его местонахождении, а маяк на берегу в момент приема Чеголиным вахты был вовсе не Святым Носом, а Городецким.
«При подходе к мысам Большой Городецкий и Малый Городецкий они кажутся слившимися в один мыс с двумя вершинами, — предупреждала мореплавателей лоция, — который издали имеет большое сходство с мысом Святой Нос». Цитата утешала, но не оправдывала. Маяки не случайно раскрашены по-разному, так, чтобы исключить всякие сомнения на сей счет.
— Вспотел? — иронически спросил Выра, взглянув на исправленную прокладку. — Коли так, ладно. А разговор будет потом…
Чеголин не ждал ничего хорошего от этого разговора, но он никак не предполагал, что командир корабля вначале обрушится на Пекочинского.
— Я здесь при чем?
— Кто перепутал маяки при сдаче вахты?
— Вас, по-видимому, ввели в заблуждение, — сказал минёр, укоризненно взглянув на приятеля. — В журнал вкралась описка, которая исправлена сноской. Согласитесь, что ошибка и описка — понятия разные.
Сноска в журнале действительно была, вместе со словами «Исправленному верить» и подписью. Старпом, правда, заметил, что всё это выполнено с нарушением правил ведения журнала. Пекочинский оправдался и тут, сославшись на неопытность.
От лейтенанта Чеголина тоже ждали объяснений. Это было ясно по взглядам, суровым и требовательным. Макар Платонович Тирешкин качал головой. И только Выра продолжал внимательно изучать вахтенный журнал.
— Не могу верить исправленному, — сказал он наконец. — Вы забыли о номере путевой карты. Святой Нос и Городецкий на разных картах. Коли так, сноска липовая и сделана задним числом…
Вспыхнув огнем, Пекочка заморгал частыми проблесками.
— Сей непреложный факт возьмем, покамест, в скобки, — продолжал Василий Федотович. — Что тогда остается? А то, что оба правили вахтой, как Митрофанушки. Зачем знать географию, коли в извозчиках сам флагманский штурман. Вот к чему ведут доморощенные курсантские хитрости.
Опыт как петух, роющийся в собственном помете, — заметил старший лейтенант Шарков, который, оказывается, совсем не случайно отсутствовал на мостике той ночью. — Разумное он обретает в самом себе.
— Много перерыли своего дерьма? — озлился Пекочинский.
— Почти ассенизатор, — кивнул штурман. — Это ничего. Главное не бегать от расплаты. Куда скроешься от самого себя?
Бебс при этих словах рассмеялся, а старпом Евгений Вадимович поглядел на штурмана проницательно, пытаясь уловить, не кроется ли в античной мудрости подспудной и злонамеренной насмешки. Скрытый смысл здесь безусловно присутствовал.
Чеголин и раньше слышал туманные намеки по поводу «морской эрудиции среди механиков», которые каким-то образом были связаны с карьерой опального штурмана Шаркова. Но кто бы мог догадаться, что старший лейтенант Лончиц тоже имел некоторое отношение к той истории. Старпом никогда не выделял Шаркова среди остальных офицеров «Торока», и штурман тоже не навязывался. Со стороны невозможно было представить, что совсем недавно оба служили на одном эсминце, на равных правах командуя подразделениями. Всё изменилось за один поход.
Эсминец под флагом командующего шел в прибрежном районе, который изобиловал опасностями. Старший лейтенант Шарков работал, упираясь животом в прокладочный стол. Он почти лежал на карте, которая из-за качки то и дело наклонялась в разные стороны. В такой позе не требовалось держаться, обе руки были свободны. При скорости двадцать восемь узлов эсминец оставлял за кормой почти пятнадцать метров за каждую секунду. На таком ходу штурману отвлекаться недосуг, но Шарков обрадовался, когда среди ночи в рубку заглянул Женька Лончиц.
— Корпишь, старая перечница?
— Заткнись и сиди тихо, — отозвался штурман, не оборачиваясь. Он узнал Женьку по голосу. — Будет момент, потреплемся.
Не очень благозвучные обращения ничуть не смутили того и другого. Наоборот, в них выражалась грубоватая мужская симпатия. Коллега-связист не мешал Шаркову заниматься своим делом, зато теперь не так тянуло ко сну.
В паузах между расчетами штурман рассказал о блажи корабельного инженер-механика, который захотел овладеть штурманским ремеслом. Механику на походе было скучно, его подчиненные вполне самостоятельно справлялись с обслуживанием действующих механизмов. Вот он и надумал расширить свою квалификацию, собираясь потом сравнить свою прокладку на карте с эталонной работой штурмана.
— Вот похохочем после похода, — обрадовался связист.
— Ну ты, хрен! — возмутился Шарков и добавил после паузы: — Предупреждаю: молчок в тряпочку. Я обещал.
— Боится оскандалиться?
— Возможно. Но главное, кэп фитильнёт за самовольное оставление своего поста.
— Подумаешь, цаца. Я вот тоже покинул…
— И тебе вломят, будь здоров, если застукают. Не забудь, на борту «батя».
— Начальство по ночам видит сладкие сны, — философски начал связист, но поперхнулся.
Дверь в ходовую рубку эсминца отворилась, и в её проеме блеснул чёрный хром. Лончиц моментально сообразил, чей это реглан, и без задержки выскользнул в противоположную дверь. Адмирал наклонился над штурманом, заглядывая на карту.
— Ну ты! — недовольно сказал Шарков, по-прежнему занятый своими расчетами. — Не дыши в затылок перегаром!
Командир эсминца, сопровождавший командующего, хотел призвать нахала к порядку. Но адмирал, улыбнувшись, приложил палец к губам.
— Дай закурить, — потребовал штурман через некоторое время, сосредоточенно работая с мореходными инструментами.
Адмирал, явно забавляясь ситуацией, вынул портсигар с папиросами «Северная Пальмира» и протянул штурману через его плечо.
— Вот скотина! — удивился Шарков. — Буржуй! Какую марку куришь!
Командир эсминца ежился от каждого слова и кипел от возмущения. Однако ему было приказано молчать, а штурман по-прежнему не оборачивался. Адмирал неторопливо снимал реглан, наблюдая за развитием событий.
— А спичку? Я за тебя буду давать?
Незнакомая зажигалка, возникнув из-за спины штурмана, фыркнула искрами на фитилек. Прикуривая, он скосил глаза и ослеп от пламени золотых нарукавных нашивок. Шарков тотчас вскочил, вытянувшись в струнку. Брошенная папироса металась по карте, а он очумело моргал, никак не понимая, почему вместо Женьки Лончица перед ним очутился сам «батя».
— Продолжай работать, — смеялся тот, ничуть не обидевшись на эпитеты. — Я ведь заметил, как отсюда твой кореш рванул…
Но Шарков по-прежнему не реагировал, замерев, как на плацу.
— Ладно, командир, пойдемте на мостик, — сказал адмирал. — А то он нас ещё на мель посадит…
Шутливое предположение оказалось почти пророческим, Когда, отдышавшись, Шарков вновь принялся за свою работу, то сразу же заметил: отсчеты эхолотов перестали соответствовать глубинам, показанным по курсу на морской карте. Пеленгаторы уточнить место не могли по причине отвратительной видимости. Сигналы радиомаяков, как назло, пропали в помехах. Профессиональный долг заставил Шаркова доложить о сомнениях на мостик. Отдали якорь. Начальство принялось проверять прокладку, но тоже не обнаружило отклонений. Однако для всех было ясно, что истинное местонахождение корабля потеряно. Вот тогда-то Шарков снова вспомнил о нелепой причуде инженер-механика, хотя абсолютно не верил в его способности. Командир эсминца, как и ожидалось, рассердился, а «батя» нетерпеливо приказал:
— Давайте его сюда!
Ошибка наглядно выявилась при сличении карт. Механик получил от командующего именные часы за освоение смежной профессии, а Шаркову пришлось отвечать.
— Я не хотел вас обидеть, — заявил штурман на разборе.
— Охотно верю, — засмеялся «батя». — Командир корабля собирался обратить ваше внимание на внезапную смену собеседников, но, между, прочим, с приятелями тоже стоит разговаривать повежливее…
— Есть! — с облегчением сказал Шарков.
— Однако военный штурман обязан быть готовым к потрясениям, и не только таким забавным, как это,
У вас же сдали нервы. Следовательно, вы ещё не готовы психологически к выполнению обязанностей на флагманском корабле. Отдел кадров подберет для вас другую, посильную работу…
Очутившись на «Тороке», старший лейтенант Шарков досадовал только на себя. «Батя», по его мнению, был прав, несмотря на суровые оргвыводы. И когда потребовалось наглядно предостеречь молодых коллег — вахтенных офицеров, штурман подал капитан-лейтенанту Выре идею организовать для них предметный урок. Теперь было бы к месту рассказать Чеголину и Пекочинскому всё о себе. Ошибка — ещё не порок, и самокритика унизить не может. Но Евгений Вадимович Лончиц придерживался строгих понятий о субординации. Судя по всему, он опасался, как бы не выплыла и его роль в том ночном эпизоде. Чудак! Шарков и на эсминце не признался в том, кто приходил к нему в рубку поболтать. Тем более не было смысла трепать имя старпома здесь, на «Тороке». Старшему лейтенанту Лончицу так хотелось прослыть строгим и безупречным.
В итоге штурману пришлось ограничиться латинской пословицей о петухе и его помете, после чего капитан-лейтенант Выра, взглянув на Чеголина и Пекочинского, подвел итог:
— Один будет наказан за обман, и оба — за легкомыслие…
Глава 10. Дробь получается…
Сразу после подъема флага дульные срезы пушек перекрестили по рискам чёрной дратвой и вынули из клиновых затворов стреляющие приспособления. Почему мир выглядит наряднее, если смотреть на него через трубу? Особенно через стомиллиметровую трубу столько-то калибров длиной. Канавки нарезов вились по сверкающему металлу. Яркий круг, поделенный нитяным крестом на четыре одинаковых сектора, подобно светилу катился по горизонту, и отдаленная часовенка на побережье, выбранная за точку наводки, казалась в нем лакированной.
Главный старшина Буланов сдержанно торжествовал, когда прицелы горизонтального и вертикального наводчиков уткнулись в ту же часовню. Не зря же он предупреждал о том, что «ручаатса» за согласование оптических осей. Чеголин почти обрадовался, когда наконец ему удалось обнаружить неисправность в центральном артиллерийском посту. Старшина второй статьи Мыльников разводил руками:
— Всё было в норме…
На Мыльникове была хорошо пригнанная роба довоенного образца. Если бы не ленточка с боевым номером, пришитая слева на кармане, рабочее платье из льняного полотна с острыми стрелками на брюках вполне могло сойти за летний Костюм. И тельняшка у него была фильдекосовая. И бледно-голубой травленый хлоркой воротничок выглядел как подкрахмаленный. Усики Богдан подбривал. Будто темный проводок лежал над верхней губой. А глаза искрились вроде контакторов. Старшина всем обликом вызывал у Чеголина острую неприязнь, и теперь пришла пора проверить его работу в центральном посту. Однако напряжение источников питания в посту оказалось в норме. Линейные проводники нигде не замыкались на корпус. Контакты общего минуса надежно закреплены повсюду, вплоть до коробки «Ж». Но схема была рассогласована. Более того, она давала незакономерный разнос, всякий раз на иное число делений.
— Следовательно, причины не знаете? Так. О готовности к стрельбе доложили, не проверив? Какой же вы, к чёрту, специалист?
Вскинув ухоженную голову, Мыльников с эдаким прищуром замерцал голубыми разрядами.
— «Дроб палучаатса, Багдан!» — добавил главстаршина Буланов, который старался не глядеть на холодно-насмешливого командира боевой части.
— Что за «Богдан»? Есть старшина второй статьи, который следит за своей прической, а дела не знает.
Лейтенанту ужасно хотелось заодно отчитать и своего помощника, но за последние месяцы он всё же понял — всему свое время и нотацию придется отложить. Между тем Буланов увидел, что Богдан Мыльников «завелся» и в таком настроении был способен на поступки, о которых сам же потом и жалел. Иван Аникеевич Буланов служил с Мыльниковым давно, начиная с рядовых краснофлотцев. Неуместное обращение Буланова к артэлектрику тотчас остудило его. Поколебавшись, Мыльников доложил:
— Иногда нарушается регулировка тормозной пружины…
Он откинул крышку главного блока, где по большому диску бегало обрезиненное колесико, перемещаясь от центра к периферии и, в связи с этим, крутясь то быстрее, то медленнее. При нарушении нажима колесико пробуксовывало на диске, внося искажения в центральную наводку орудий.
— Почему ослабла пружина? — не отступался лейтенант, когда было установлено, что приборы врали именно из-за неё.
— Усталость металла, — тут же нашелся Мыльников. — Даже сталь не выдерживает, не говоря уж о людях.
— При чем здесь люди?
— А при том, что всё надоело. Глаза бы не глядели… Игрался со штурвальчиками ещё до войны. Тогда ладно — пять лет — срочная служба. Только собрался домой — «Вставай страна огромная…», и ещё четыре года долой. А сейчас? На кой ляд ещё два года? Всего получается одиннадцать…
— Распустить всех по домам сразу нельзя. Газеты читаете?
Мыльников дернул плечом, показывая, что воинственные призывы бывшего британского премьера ему до лампочки.
— Придет время — отпустим! — разъярился командир боевой части. — А чтобы впредь не распускались, посидите две недели без берега. Ясно?
— Ну, товарищ лейтенант… Смотрите не профитиляйте…
— Ещё две недели за пререкания. Всего, значит, месяц!..
Через час сторожевой корабль «Торок» полным ходом следовал в квадрат, заштрихованный на карте красной тушью с предупредительной надписью: «Район, запретный для плавания». Где-то там находился буксир с железным понтоном. Латаная-перелатаная парусина, натянутая между мачтами плота, превращала его в «корабельный щит», который следовало обнаружить и поразить чугунными снарядами без взрывчатки. Лейтенант Пекочинский во главе группы наблюдателей уже находился на борту буксира, поджидая момент, когда придется замерять теодолитом падение каждого снаряда и фотографировать всплески.
Первая зачётная стрельба никогда не бывает особенно сложной. Утренний инцидент с Мыльниковым можно было считать исчерпанным, раз неисправность обнаружена и ликвидирована. Всё так, но главный старшина Буланов стал потом навязывать Артёму свои советы:
— Такая обида ни к чему. Опять же после стрельбы назначено прибыть в Архангельск…
— Ну и что?
— Там у Богдана жена и пацанка…
— Пусть обижается на себя. И не вам бы заступаться. Ручались за подготовку материальной части? Чего теперь стоят ваши гарантии?
Буланов замолчал. Но теперь, несмотря на личную доскональную проверку, сам лейтенант Чеголин уже не чувствовал себя абсолютно уверенным и терзался, хорошо представляя, что любая мелочь способна вылезти осечкой, пропуском или затяжным выстрелом. Может быть, следовало информировать командира корабля о том, что старшине второй статьи Мыльникову всё надоело и на всё наплевать? Но тогда с Артёма наверняка спросят за плохое воспитание подчиненных. Или того хуже: капитан-лейтенант Выра либо помощник начальника штаба Нежин, который был по совместительству флагманским артиллеристом, начнут вникать в детали и обнаружат, что у самого Чеголина отсутствуют таблицы для стрельбы с уменьшенным практическим зарядом.
Накануне похода в Белое море, выписывая накладную на получение полного боекомплекта, лейтенант совсем забыл о том, что учебный патрон снабжен меньшим количеством бездымного пороха. Поэтому траектория полета чугунных «ядер», рассчитанная заранее в таблицах, отличалась от полета боевых снарядов. Позаимствовать учебные таблицы на других кораблях было невозможно. Стомиллиметровые пушки стояли только на «Тороке».
Открыв накануне вечером хорошо известный учебник Оленева, лейтенант углубился в основы внешней баллистики. Закон вертикальных понижений Сан-Роберто и постулаты жесткости траектории не помогли ему решить практический вопрос, как обойтись без забытых таблиц. Автор другого учебника, профессор Венкстерн, оглушал сосредоточенным огнем многоэтажных дифференциальных уравнений. Полный набор латинских символов с индексами из греческого алфавита, аргументы и радикалы, логарифмы и интегралы бестрепетно глядели со страниц. Выяснив, что система самых главных уравнений интегрированию не подлежит по причине их исключительной сложности, Чеголин уже был готов явиться с повинной к командиру корабля, но далее, в примечании, был изложен метод упрощения формул с некоторыми допусками.
Высшую математику в училище изучали на младших курсах. Кто бы мог подумать, что чудак-преподаватель по прозвищу «Завсягда, игрек, штрихь!» окажется прав в рекламе своей науки, которая, по мнению большинства курсантов, предназначалась лишь для украшения будущего диплома? В ночь перед зачётной стрельбой лейтенанта Чеголина выручила именно высшая математика. К утру ему удалось рассчитать около сотни поправок на сокращение дальности полета снаряда в зависимости от уменьшения веса пороха. Работа была адская и без гарантии точности. Каждый специалист скажет, что вычислять коэффициенты Сиаччи в одиночку — глупая мальчишеская самонадеянность. Но Чеголин верил в удачу. У него не оставалось иного выхода…
Цель открылась на горизонте. По величине и пропорциям — не больше спичечного коробка. Командир корабля приказал открыть огонь, и по постам разбежались специально инструктированные группы записи. Установки прицела и целика, любая команда управляющего огнем — всё должно фиксироваться в точности, обеспечивая перекрестный контроль.
— Левый борт, полсотни! П-о-о щиту!
Голос Чеголина звенел, перекрывая рев котельных вентиляторов, и, казалось, доходил к исполнителям не через телефоны. Стволы послушно развернулись, замерев в указанном направлении.
— Снаряд практический! Заряд уменьшенный! Подать боезапас!
На полубаке и на юте раскрылись жерла элеваторов. Патроны, каждый высотой по грудь, вылезали из погребов.
Загнав цель в риски своего бинокля, Артём первым делом оценил её протяженность в тысячных и заглянул в таблицы с доморощенными поправками. По трем величинам требовалось определить курсовой угол «противника». Лейтенант работал четко: взгляд через окуляры; расчет, команда, снова таблица… Итоги складывались алгебраически. Всё в уме. И запись не было времени. Вот родилась команда о начальной установке прицела, и оба ствола одновременно задрались на угол возвышения. А расстояние до щита уменьшалось за минуту на полтора кабельтова, то есть примерно на 280 метров.
— Автомат включить!
Старшина второй статьи Мыльников отрепетовал команду из центрального поста, и маленькое обрезиненное колесико, надёжно прижатое к диску прибора, начало плавно уменьшать установки прицела. А лейтенант тем временем рассчитывал поправки на продольный и на боковой ветер — «меньше половина!», на разность температуры погребов с наружным воздухом — «больше три четверти!», на отступление в плотности атмосферы от средней табличной, на отклонение точки падения под влиянием вращения снаряда. Хотя подготовка исходных данных и называлась «сокращенной», лейтенант взмок, за считанные секунды вычислив множество величин, оказывающих влияние на меткость.
— Орудия зарядить!
Сверкнув жирной латунью, патроны метнулись в казенники, клацнули, захлопываясь, клиновые затворы. На мостике зажглись багрянцем сигнальные глазки, а соседние сияли зеленым огнем, показывая, что наводчики удерживают цель.
— То-овсь!
Оставалась главная команда, ради которой и делались все расчёты. И вот по сигналу ревуна стволы дружно выплюнули блеклый огонь, а грохот остался в ушах, заложив их, как пробками. Знойный ветер полыхнул целлулоидной гарью. Над мостиком повисла тишина. Только нервные пальцы Артёма ощущали легкие вздрагивания секундомера, отщелкивающего время полета снарядов. Потом в поле зрения бинокля возникло два белоснежных фонтана. Дальномерщик определил отклонение всплесков. Они встали, совсем рядом со щитом. Значит, высшая математика не подвела, и Чеголин едва не подпрыгнул от радости. Оставалась сущая ерунда — довернуть пушки влево на пять делений и, получив четкий перелет, захватить цель «в вилку». Однако второй залп упал ещё правее.
— Лево десять! — нахмурился лейтенант, не понимая, в чем дело. — Залп!
Двойная корректура тоже не помогла. Через положенные секунды пенные столбы возникли совсем не там, где он ждал.
— Дробь! — вмешался помощник начальника штаба. — Кончайте разбазаривать боезапас!
Капитан второго ранга Нежин не придирался. Как бы ни упали последующие залпы, за пристрелку всё равно полагалась теперь двойка.
— Дробь! — повторил лейтенант Чеголин упавшим голосом.
Ещё требовалось привести установки на ноль, а орудия в диаметральную плоскость. Артём распорядился, хотя всё в нем сопротивлялось этим командам. Почему? Волной поднялась и пульсировала в висках мутная ярость. На каком основании, когда всё складывалось так здорово?
«Дроб палучаатса… дроб палучаатса…» — стучало в ушах голосом Ивана Буланова, пока лейтенант скатывался по трапу с мостика. Бланки групп записей тотчас внесли ясность, выявив причину случившегося, и Артём рывком отворил двери центрального артиллерийского поста. Старшина второй статьи Мыльников попятился, увидев скомканные бумажки, которые не опровержимо свидетельствовали о том, что он дважды ввел корректуру с обратным знаком.
У меня… жена заболела, — вдруг стал оправдываться старшина.
Он рылся в карманах в поисках конверта, хотя к чему были жалкие ссылки на семейные обстоятельства. Мыльников сам понял это и замолчал. А лейтенант молча повернулся и вышел, припечатав за собой железную дверь.
— Стрельбу подготовили безобразно, — заявил Выра, разглаживая ладонью мятые бланки. — Удивляюсь! Офицер, нормально окончивший училище, и вдруг такая детская безответственность.
Из документов было видно, кто во всем виноват, но о Мыльникове командир корабля даже не обмолвился.
— Готовьте отчет!
— Мне кажется, ясно и так, — сказал Чеголин.
— Истрачено шесть снарядов, — пояснил капитан второго ранга Нежин. — Кто ответит за них?
— И объяснительную записку особо, — добавил Выра.
«Нужен стрелочник», — догадался Артём Чеголин. Казалось бы, если нужно наказывать, пожалуйста, ваше право. Так нет. Начальству до зарезу требовалась самокритика…
Глава 11. Накажите меня
Параграфы правил составления отчета по стрельбе бездушны. Они не учитывают достижений на фоне просчетов. Средний балл, если рассчитывать его по школьному образцу, иногда мог бы получаться положительным, но правила всегда приравнивали итог к наихудшему промежуточному результату.
Не хотелось Артёму Чеголину заниматься такой арифметикой. Не хотелось, и всё! Если капитан второго ранга Нежин задробил стрельбу, пусть бы сам, подобно учителю, и выводил двойку. Так нет, вместе с Вырой помощник начальника штаба принуждал к самобичеванию. Разве это не издевательство? И в кают-компании новость встретили без дружеской деликатности, хотя какой здесь повод для юмора. Притворившись сочувствующим, Бебс стал спрашивать, как правильно подписывать отчет по стрельбе: «УО», что означает сокращенно «управляющий огнем», или же лучшие «УА».
— Управляющий артиллерией? — удивился Артём. — Так не говорят.
— Зачем так сложно? — возразил механик. — Помнишь песенку гражданской войны: «Антанта ахнула слегка при виде красного полка?..» По аналогии предлагаю аббревиатуру «УА», то есть «увидишь — ахнешь».
Доктор и минёр безжалостно захихикали. Штурман мрачновато улыбнулся. У Чеголина окончательно пропал аппетит:
— В твоих котлах тоже садились пары.
— Чудак! Разве можно сравнивать? Моя техника по сравнению с пушками всё равно что слон и моська. А вообще запомни: самая надежная техника — это кнехт, но его, бывает, тоже выворачивают при швартовке.
— Несогласен, — авторитетно вмешался Макар Платонович Тирешкин. — Клянусь всеми фибрами своей души, самая надёжная техника — человек. Недаром он звучит гордо.
— Кнехт надёжнее, — упорствовал Бестенюк. — Полная гарантия, что не напьется, и к тому же нет штурвальчиков, которые могут крутиться не в тую сторону…
Виктор Клевцов, к сожалению, при стрельбе не присутствовал. Он заглянул к Чеголину в каюту уже по приходе на рейд.
— Предупреждали тебя: «Шилом моря не нагреешь!»
— Всё треплешься? А мне не до того — заставляют заниматься самокритикой.
— Вот и ладушки, — хохотнул Клевцов. — Главное, всегда на пользу.
— Скажи ещё: «Движущая сила общества…»
— Правильно понимаешь свою задачу, — кивнул Виктор, явно не желая «заводиться». — Сходи-ка погляди боевой листок…
— Зачем?
— Там и про Мыльникова есть…
Виктор Клевцов всегда был в курсе событий, но лейтенант Чеголин к его совету отнесся скептически. Что нового мог сообщить ему настенный орган комсомольской организации? На двери у трапа в носовые кубрики висел стандартный бланк с карикатурами. Первый рисунок изображал растерянных комендоров у пушки. Подпись была рифмованной: «Не стреляем, не наводим, а валяем дурака. Только в небе дулом водим, разгоняем облака».
«Уж если кого рисовать, то надо бы меня», — подумал Артём. Он-то знал, что орудийные расчеты действовали безупречно.
Рядом красовался Мыльников, заслоняющий конвертом блоки своих приборов, а текст прояснял суть конфликта: «У женушки насморк. Какая беда! Домой не пускают, и к чёрту стрельба».
Лейтенант оглянулся. Командир первого орудия Яков Рочин смотрел в упор, но без насмешки. Дальше за ним плечом к плечу толпился весь личный состав артиллерийской боевой части. Матросы старались понять, дошел ли до лейтенанта смысл, понял ли он намек, а главный старшина Иван Аникеевич Буланов, не удержавшись, высказался:
— По всему флоту теперь позор…
Причину отклонения снарядов в обратную сторону Артём знал без подсказки. Зато его в самое сердце ударила дружная реакция на общую беду. И это ощущение общности с людьми, которыми Чеголин командовал, вдруг показалось ему невероятно значительным. Почему командир корабля и представитель штаба лепили вину на управляющего огнем, хотя им было легко установить причину неудачи? Почему матросы старались навести на след истины, словно забыв о том, кто к ним беспрестанно придирался? Те и другие, по идее, должны были поступить наоборот.
Помощник начальника политотдела дожидался в каюте. Он взглянул на Чеголина и сказал прежним шутливым тоном:
— Вот теперь самое время наводить самокритику…
И сразу ушел, будто ничего особенного не произошло, будто заносчивый лейтенант не вернулся в каюту совсем огорошенный, будто не заметил, что ему до зарезу нужен добрый совет. Всё так. Однако же Артём не учитывал, что существуют вопросы, которые человеку требуется задавать только себе и вспомнить при этом даже то, что не очень охота вспоминать. Не напрасно, значит, капитан-лейтенант Выра советовал с неожиданной жуткостью: «Авторитет зарабатывай
сам!»
Вывод получался чрезвычайно обидным. Лейтенанта Чеголина командиром не признавали. Иван Аникеевич Буланов, не желая служить вместе с ним, просил перевода на другой корабль. А Мыльников тоже надеялся, что завала стрельбы командиру БЧ не простят. Артэлектрик хотел выглядеть героем в глазах коллектива, но просчитался. Для всех остальных оказалось куда важнее доброе имя своего корабля. Конечно, для самолюбия лейтенанта было бы гораздо удобнее видеть причину в подлости мстительного разгильдяя. Улики против него. Они позволяли наказать артэлектрика как угодно. В назидание всем остальным Чеголин ещё недавно хотел разобраться с виновником самым решительным образом. Назидание оказалось ни к чему. Более того, Чеголину стало ясно, что для него во сто крат нужней сохранить духовное единство, на какой-то момент возникшее на палубе перед боевым листком. Но для этого требовалось поступить совсем иначе. Хочешь не хочешь, а начинать требовалось с себя.
Вечером он постучал в каюту командира корабля. Капитан-лейтенант Выра суховато кивнул, прочитал рапорт и удивился;
— Коли так, вы что же, поверили Мыльникову?
— Нет, не поверил.
— Слушай такую вещь. Он заслуживает сурового наказания. На всю катушку. А ты чего просишь?
— На всю катушку накажите меня. А его надо отпустить на побывку к жене.
Василий Федотович задумался, почесал плешь.
— А ведь, пожалуй, уговорил. В этом что-то есть… Кстати, отчет по стрельбе следует озаглавить с индексом «буки». Капитан второго ранга Нежин не возражает. Учебные корабли имеют на это право.
Такой индекс означал, что стрельба приравнивалась к подготовительной и приказ по флоту о её провале вовсе не обязателен.
— Даёте ещё один шанс? Спасибо. Однако приказ по кораблю с принципиальными оценками так же необходим, как и отпуск Мыльникову.
— Вот ты какой? — снова удивился Василий Федотович. — Амнистировать не собирался, но вижу, что настаиваешь не зря. Коли так, хлопочешь, сам его и сочинишь.
Чеголин никогда не предполагал, что будет выпрашивать себе фитиль. В уме ещё можно было заниматься беспощадным самоанализом, но каждое слово на бумаге ударит ещё больнее, потому что будет выведено собственной рукой. Василий Федотович слегка улыбался, но не насмешливо, скорее сочувственно. Подложить соломки в формулировках тоже было нельзя. Командир корабля всё равно бы не допустил этого, да ещё, пожалуй, обвинил в лицемерии.
Поерзав над чистым листом, лейтенант заставил себя вообразить, что пишет не о себе, и дело пошло. Оставалась надежда, что Василий Федотович скажет, что автор перехватил, и сам смягчит в черновике беспощадные выражения, Чеголин писал о том, что стрельба была не подготовлена, хотя это не совсем соответствовало действительности. Но, судя по скорбным результатам, требовалось представить обстановку именно так. В следующем абзаце он утверждал, что личный состав забыл о славных традициях, о которых напоминали звезды, укрепленные на ходовой рубке. На самом деле забыл об этом один Мыльников. Остальные помнили. Иначе они бы так остро не реагировали на провал. Но артиллерийские документы предусматривали всё же неудовлетворительную оценку. Было логично использовать этот принцип и здесь. Далее Чеголину пришлось признать, что итог свидетельствует об отсутствии требовательности со стороны командира боевой части и о низком, уровне воспитательной работы в подразделении. Последняя часть фразы, к сожалению, точно отражала положение дел, а вместо требовательности процветала придирчивость.
Сразу после грозного слова «приказываю» Чеголин поставил свою должность, воинское звание и фамилию, а дальше многоточие на две строки. Второй параграф был короток: «Остальных виновников командиру боевой части наказать своей властью».
Капитан-лейтенант Выра даже губами пришлепывал, как бы читая черновик вслух, а поверх многоточия поставил всего два слова: «объявить выговор». Других замечаний по тексту у него не нашлось, и это задело автора. С одной стороны, он не ожидал, что отделается так легко. Выговор был даже не строгим. Зато тон приказа никак не соответствовал мягкости наказания.
— Мы с тобой, хлопче, не на профсоюзном собрании, где такие дела решают голосованием, — нахмурился Выра, но глаза у него смеялись. Ей-богу, он догадался, на что уповал Артём, обращая внимание на это противоречие. — А вот объяснительную записку можешь не представлять. Вижу, что всё продумал и понял правильно…
На следующий день старший лейтенант Лончиц прочитал приказ в кают-компании всем офицерам.
— Понятно? — строго спросил он, будто сам сочинил всё, от слова до слова.
— Так точно! — не моргнув, ответил Чеголин.
Лейтенанту Пекочинскому приказ не понравился.
— Знакомый тон, — объявил он Артёму. — Помнишь, как он меня раскатал за выход не по форме на подъем флага?
— Приказы не обсуждаются, — смутился Чеголин. Не мог же он признаться в авторстве? Кто бы поверил? Но, с другой стороны, знакомые слова в устах старпома обрели неприятную самостоятельность. Слушать их было обидно, и появилось сомнение — стоило ли заниматься самобичеванием.
— Тебя тоже смешали с дерьмом, а между прочим, о главном виновнике не сказано ни слова, — поддавал жару Пекочка. — Как это понимать? Предвзятость или недомыслие?
— С Мыльниковым разберусь сам!
— Ну, посадишь его на гауптвахту, а приказ подошьют в твое личное дело.
— Как это «подошьют»?
— Очень просто, — зло рассмеялся Пекочинский. — Чтобы всё последующие начальники знали, как я ходил по палубе без штанов или как ты завалил стрельбу вместе с воспитательной работой в подразделении.
«Может, врет? — тоскливо подумал Артём. — У кого бы спросить?»
Чеголин уже раскаивался в содеянном, но также знал, что не станет искать знающих людей. Спрашивать об этом после издания приказа неудобно и унизительно.
— Есть ли у Выры моральное право издавать такие приказы? — рассуждал минёр, благо разговор шел в каюте и без свидетелей. — Взять хотя бы позорную швартовку «Торока» в базе: все, кто видел, смеялись…
Пекочинский лепил одно к одному, выстраивая логическую линию.
— «Чтобы не было шептаний по гальюнам», — повторил он памятные слова капитан-лейтенанта Выры, но тут же вывернул их наизнанку: — А мы не в гальюнах, мы в каюте скажем: это плохой воспитатель и никудышный моряк. И как могли его назначить командиром учебного корабля?
Сочувствие Пекочинского было своеобразным и порядком испортило настроение Артёму. Вскоре приказ, за исключением первого параграфа, объявили и перед строем личного состава. Но через писаря матросы и старшины наверняка были в курсе дел. Все ожидали, когда будет проявлена власть согласно пункту второму. Однако лейтенант Чеголин других виновников не искал, а старшину второй статьи Мыльникова в тот же день снарядил в отпуск в связи с «тяжелой болезнью жены».
— Неплохо придумано, — одобрил Виктор Клевцов. — Теперь будем готовить комсомольское собрание и пригласим на него всех желающих.
После доклада, как водится, задавали вопросы. Первый из них был задан командиру корабля.
— Почему Мыльникову разрешили отпуск?
— Разве не знаете, что у него дома несчастье? Командир боевой части ходатайствовал. Он считает, что у Мыльникова было нервное потрясение.
В дальнем углу кубрика явственно захихикали.
— Потрясение? — удивился Яков Рочин. — Ну и дела…
— Товарищ лейтенант! — поднялся Иван Аникеевич Буланов. — Почему не собрали старшин? Мы помогли бы вам разобраться…
— Вы правы, — ответил Чеголин. — Со старшинами мало советовался. Но чего уж теперь?.. После драки, как известно, локти не кусают.
Кубрик громыхнул, и все уставились на докладчика. Макар Платонович тоже смеялся, довольный тем, что его цитируют.
— Почему не кусают? — поддержал шутку Виктор Клевцов. — Чем же мы сейчас занимаемся?
Активность в прениях была исключительной. Вот когда лейтенант Чеголин впервые услышал многое из того, что было пропущено в историческом журнале. Комендоры, дальномерщики обстоятельно излагали подготовку к огневой задаче, но поступка Мыльникова никто не касался. Только один из старшин высказался в том смысле, что лейтенант Чеголин хотя и строгий, но видит недостатки не там, где они есть. Вообще-то товарищ командир БЧ дело знает, но он ещё молодой, слишком доверчивый и старослужащим давно пора стать для него опорой.
В этот момент Василий Федотович искоса глянул в сторону «доверчивого» артиллериста, и тот покраснел. А помощник начальника политотдела засиял как корабельная медяшка. Пекочинский недоумевал, что Виктора так обрадовало. Чеголин же первый раз не досадовал при упоминании о его несолидном возрасте…
Через две недели на верхней палубе состоялся ещё один разговор, ради которого, собственно, выпускался боевой листок и делались намеки на комсомольском собрании.
— Товарищ лейтенант! Почему вы меня не вызываете?
— Старшина команды доложил, что ваша жена уже поправилась.
— Накажите меня, товарищ лейтенант, — настаивал Мыльников. — Вы же знаете, за что… Проходу не дают с проклятым «нервным потрясением».
— Знаю… Но вы подвели не только меня. Чего ж удивляться, что это не понравилось вашим товарищам?
Если начистоту, варианты ответа опальному артэлектрику Чеголин продумал заранее и носил их в себе, до последнего момента сомневаясь, состоится ли столь достойный финал. И сейчас ему было нелегко сохранить сдержанный тон, никак не выдавая переполнявшего его торжества. Расчет был точен. Хотя какой там расчет? Решение было подсказано тем же боевым листком. В самом деле, стоило применить к Мыльникову меры дисциплинарного устава, как общественное мнение было бы удовлетворено. Кто знает, может быть после того, как утихли страсти, виновник и впрямь попробовал бы хвалиться подлой «предприимчивостью». А тут щеголеватый артэлектрик предстал перед сослуживцами голеньким. Ему не давали проходу, его осуждала вся команда. И Мыльникову не оставалось ничего, кроме как самому выпрашивать себе кару.
Это была правда, но не вся правда. Артём Чеголин теперь знал, что сам, по существу, толкнул подчиненного на неблаговидный поступок. И лейтенант Клевцов не зря напомнил о том, что «шилом моря не нагреешь». Всего четыре слова аккумуляторной емкости. И дальше тоже выходила полная аналогия с электротехникой. Ток в умелых руках дает и тепло, и свет, и движение, но попробуй схватись за оголенный контакт — и неизбежно последует мощный разряд на корпус…
Перед выходом в море главный старшина Буланов, как и в прошлый раз, доложил о полной готовности материальной части и личного состава, а потом попросил разрешения находиться в центральном посту рядом с Мыльниковым.
Но Артём не разрешил. Он был убеждён, что старшина второй статьи Мыльников в жизни не допустит ничего подобного. Капитан-лейтенант Выра тоже имел основания сомневаться в своем управляющем огнем, однако же он только попросил:
— Не оконфузь мою плешивую голову…
Артём ничего не ответил своему командиру. Выра внимательно посмотрел на лейтенанта и отпустил:
— Коли так, иди, хлопче, командуй…
Над морем висела дымка. В бинокль не всегда было ясно, как падали пристрелочные залпы. Дальномерщики, оптика которых увеличивала сильней, всякий раз кричали со своего насеста:
— Недолет…
— Накрытие… Ура-а! Накрытие!
Один из далеких всплесков в самом деле вырос перед щитом, а второй столб воды мелькнул верхушкой за парусиной. Это означало, что Чеголину уже не надо половинить артиллерийскую «вилку». Это означало, что на пристрелку затрачено минимальное число снарядов и можно, не дожидаясь падения «хвостового» залпа, торжествующе заорать:
— …Поражение! Прицел постоянный! — и глубоко утопить повлажневшую кнопку ревуна.
Пекочинский во время стрельбы находился на буксире во главе группы наблюдения. Он передал Артёму для отчета фотографии прямых попаданий снарядов в брезентовое полотно артиллерийского щита и, поздравляя, заметил, что капитан-лейтенант Выра, пожалуй, не отменит того приказа.
Артём считал, что отменять его рано, однако напоминание резануло его. Только и оставалось — пожать плечами.
— Чего ещё ждать от плешивого кэпа? — опять завёлся минёр. — Разве это моряк?
Прошлый раз Артём на это промолчал, а теперь н стерпел:
— Маяки Святой Нос и Городецкий он различает… В отличие от нас с тобой.
— Может, он только их и видал, — надулся Пекочка. — Говорят, всю войну проелозил на катеришках.
Это было похоже на правду. Артём тоже слышал, что Выра служил в Охране водного района и, скорей всего, далеко в море не ходил, выполняя боевые задачи в непосредственной близости от своих баз.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
Год 1943-й. Хождение в день вчерашний
Две недели Василий Выра и Максим Рудых провели в казармах флотского экипажа. Сдав свои «охотники» другим командирам, они занимались формированием спецкоманд. Поразительная сговорчивость отдела комплектования личного состава, а также широкие жесты прижимистых интендантов, отпускавших новое обмундирование, показывали, что предстоит дело ответственное.
Потом погрузились в теплушки, и эшелон двинулся через Урал, Сибирь, Забайкалье — навстречу солнцу. Рудых и Выра кое о чем догадывались, но, видно, не до конца. На берегу Амурского залива им вручили предписание следовать на Камчатку на транспорте, переоборудовав под жилье грузовые трюма.
Миновали Японское море, проскочили в Охотское проливом Лаперуза и дальше, промеж островов Курильской гряды, вышли в Тихий океан. Через несколько дней пути было приказано сжечь предписание на Камчатку. Это произошло на 180-м меридиане, который совпадает с линией перемены дат. Другими словами, следующий день, повторяясь датой, являлся как бы вчерашним. Тогда и было объявлено, что спецкоманды следуют за новыми боевыми кораблями в Соединенные Штаты Америки.
Глава 1. Ну темнота…
Жарко на сеновале, воздух духовитый, густой. Захар Тетехин, зарывшись в ворох сухой травы, слушал удары со звоном. Стук был долог и неутомим. Похоже, что на дворе отбивали косу. Непонятно только, почему будто не молоток в отцовских руках острит литовку, оттягивая жало, а работает бездушная машина. И под боками жестко. Не может такого быть. Самое худое сено с болотной осоки хотя режет пальцы, всего искровянит, а в стогу будет пружинить.
Тетехин заёрзал, стал шарить, надеясь ухватить ощупью и подбить под себя добрый пук, но из этого ничего не вышло. Тогда он отворил веки, нехотя отворил, с прищуром. Уже и так стало понятно, что он лежит не на повети. Перед ним постылый твиндек, межпалубное пространство грузового трюма, с деревянными нарами у бортов, с рядами тощих дырявых матрацев, из которых сыпались прелые водоросли. Моряки приспособились растирать стебли в труху и смолить в цигарках. Кисеты давно пусты. Прокурились дочиста. Это ещё ладно. Бывает. Обидно, когда гонят с верхней палубы. Дозволяют прошмыгнуть туда-обратно по нужде, и всё. Отоспавшись, зверея от безделья, они сами запросились на вахту. Куда там — пассажирам нельзя. Значит, сиди в трюме тихо и не маячь. Объяснили: транспорт — обычный сухогруз.
Как шли, какой держали курс, кто знает. Железный твиндек падал с разбегу, поднимался вперевалку и обратно вниз. Так сутки за сутками.
От скуки организовали занятия с деревянными палочками: одна вроде вилки, другая как нож. Внушали, как хлебать суп из тарелки, с какой стороны что держать, как мясо резать правой рукой, левой накалывать, а рыбу ножиком нельзя никак. После обеда учили ло́жить прибор в порожнюю посуду накрест. Если не скрестишь, подбросят добавки. Очень интересное правило. Может, кто нарочно пожелает позабыть. Чудно́! И называется «атикетом».
В твиндек по временному трапу, или, проще говоря, по доске с деревянными брусками поперек, которая шла в наклон из дырки в грузовом люке, скатился старшина второй статьи Осотин.
— Майнай барахло, — зычно скомандовал он. — Приехали…
Майнай — это значит сбрасывай. Матрасы, парусиновые ветхие робы, перелатанные пудовые ботинки типа «ГД», или, значит, «грязедавы», — всё списали к рыбам, а сами, не дожидаясь особого распоряжения, натянули ладную форму номер три — синие фланелевки с чёрными брюками.
Транспорт подходил к пустынному причалу. Лишь у дверей портового пакгауза с огромными, как вывеска, буквами: «No smoking!» — торчала фигура в армейском мундире: ноги врозь, будто на физзарядке, рука придерживает карабин, а башка в сизом табачном облаке, как в дымовой завесе. Старший лейтенант Рудых засмеялся, громко прочитал лозунг: «Ноу смокинг!» — и для ясности перевел: «Не курить!» «Вона как нарушает», — подумал Захар. И тут откуда-то вывернулся автомобиль без верха, маленький, как зеленый жучок. За рулем сидел чин тоже в армейском. Так. Держись теперича, влепят за курение на посту. Чин подбежал к часовому и сам стал: ноги в раскоряку, карабин к ноге. А нарушитель, не вынимая сигареты, в машину и за руль. Чудеса! Меняются, значит, без всякого разводящего.
Над этим смеялись все, кто глядел с палубы транспорта, но без одобрения. В том смысле, что дело ваше, а в караульной службе так не годится. Причал по-прежнему пустовал. Хоть бы кто вышел принять швартовы. Не так просто привязать к берегу огромный сухогруз. На причале должны поджидать не одна, а две или даже три группы швартовщиков, а тут не было никого. Старший помощник капитана уже схватил раструб мегафона, который, как известно, концентрирует не только звук, но также и выражения. Но этого не понадобилось, потому что в последний момент примчался пикап, тоже зеленый, размером побольше, чем у караульщиков. Трое рабочих в кепках с блестящими оранжевыми козырьками поймали бросательный конец прямо из кузова, зацепили проводник на буксировочный гак. Машина играючи вытянула швартов на причал, на полной скорости рванула к корме сухогруза, и там операция повторилась в таком же темпе. Через несколько минут всё было закончено, а машина исчезла столь же стремительно, как и появилась на причале.
Захар Тетехин полагал, что пешком здесь вообще не ходят. К борту подкатывали автомобили разных размеров и назначений. Пришла колонна «студебеккеров», но не за грузами, нет. Трюма судна были пустыми. Автотранспорт подали для того, чтобы отвезти наших матросов на встречу с ихним личным составом. Захар тоже поехал. Повезло. В увольнение на берег пустили в аккурат его боевую смену. Он увидел обыкновенные казармы, а на плацу парней в чёрных клешах, фланельках навыпуск с отложными гюйсами. Всё похоже, да только без тельников. И ещё взамен бескозырок что-то вроде поварских колпаков.
Парни обступили наших, хлопали по плечам, кричали по-своему: «рашен», «комрэд», «о’кей» и много чего непонятного. А один стал у Захара башку щупать.
— Чеговоно? — не понял Захар. — Вошей нет.
— Не теряйся, слухач, — догадались ребята. — Проверяет, нет ли у тебя рогов. — И ещё советовали: — Разуйся для ясности, предъяви копыта.
Захар подивился — ну темнота! Может, ещё штаны спустить, чтобы хвоста не искал? Чего с дурака возьмешь? Всё это религиозный дурман, опиум для народа. На машинах раскатывают, а в чертей верят. И смех и грех!
Тут пригнали грузовик с коробками из картона.
— Бир! — загалдели хозяева. — Дринк!
Они мигом распатронили один ящик и стали сосать консервы, похожие на банки со сгущёнкой. Боцман Осотин первый дошурупил, в чем тут дело, и, схватив открывалку на манер птичьего клюва, проткнул жесть. Банка выстрелила фонтаном, пенистым и высоким, как всплеск. И сразу запахло пивом. Вон оно что! Парни смеялись, показывая — первую дырку надо зажать пальцем, а уж сосать из другой. В других ящиках были сигареты в блестящих пачках с верблюдом, странные конфеты — только из резины. Сладкую резинку Захар выплюнул — пустое баловство, а пиво пришлось ему по душе. После третьей банки стал вроде разбираться в ихнем разговоре, не так чтобы до конца, но понять можно. Оглянулся, а в сторонке улыбается матрос. А морда, мать честная, точно якорь-цепь после чёрного кузбасс-лака. Тетехин первый раз увидел такого человека и решил уточнить:
— Негр?
— Иесть, — отвечает. — Нигроу.
Захар обрадовался, понимает почти по-нашему.
— Иди сюда! — И палец согнул для верности в крючок.
Негр понял обратно и стиснул протянутую руку. Тетехин едва не охнул, но вида не показал. Разминая потихоньку в кармане помятые пальцы, он вдруг нащупал запасную звездочку от головного убора.
— Держи вот. На память…
— Оу, сувенир… Вери мач! — обрадовался негр, но другие стали отпихивать его локтями.
Может, намекают, что звездочка не новая и по лучам облупилась красная эмаль? Дак другой у него всё равно нет. А старшина с лычками, оттеснивший негра, назвался Джоном и стал нахально показывать на звездочку побольше, привинченную у Захара к фланелевке с левой стороны. Давай, дескать, и её в «рашен сувенир».
— Накось выкуси, — рассердился Захар. — Сам заслужи.
Спасибо другому парню. Он происходил из чехов и растолковал старшине Джону, что орден это, не сувенир. Тот сказал «иес» и ещё много каких-то слов. В общем Захар догадался — интерес проявляют, за что ему орден. А как объяснить?
Тетехин зажал уши горстями, свел глаза к кончику мощного носа, а языком затарахтел, показывая, вроде как у него в телефонах шумит…
— Иес, — закивали. — Сабмарин…
Потом Тетехин повертел в руках банку «бира». Цельная была банка. И пиво больно хорошее. Жалко ему было пива, но ничего другого не придумал — как шмякнет плашмя об асфальт. И банка сплющилась, рванув, как глубинка за кормой.
Обратно поняли, всё ж таки матросы. Другую банку сунули взамен. Пей на здоровье, «дринк».
Высосал, обернулся — повсюду такой разговор. Боцман Осотин кулаками в небо тычет: «Ду-ду-ду… «Фок-ке-вульф»… Бу-бух!» — и на свою фланельку показывает. А там рядом с медалью ещё два ордена.
«Ну дела! — удивился Захар. — Чего он раньше не носил? Надо будет спросить».
На прощанье Джон протянул ему толстую пачку под названием «герлс». Тетехин сунул её в карман и на обратном пути в кузове грузовика, очень довольный и после пива слегка хмельной, сорвал с пачки обертку и обомлел. На каждой карточке бабы в чем мать родила. Нельзя сказать, чтобы раньше Захар их не видел. Как же, случалось: летом у речки в кустах или ещё у банек на задах деревни. Но те сразу прятались, поднимая истошный визг, будто резали их. А эти, на карточках, ничего — показывали всё, что есть, и ещё улыбались. Захар перебрал все карточки до одной — всё ж таки любопытно, а потом засомневался: может, выкинуть? Боцман Осотин, переняв пачку, сказал:
— Пустое баловство. — И добавил «по-научному»: — Одно-графия, а есть ещё парно-графия.
— Чеговоно?
— Не дрейфь, говорю. За это ругать не будут.
Тетехин вовсе не думал об этом. За что ругать? Вот их бы, что на карточках, крапивой надрючить. Не понимают, дуры, — кто после такого замуж возьмет?
Чтобы поменять охальный разговор, Тетехин спросил у боцмана, куда его ордена делись. Только была полна грудь, а возвращается с одной медалькой.
— Не твоего ума дело, — сразу завелся тот, но отбрехаться не дали. Оказалось, чужие ордена позаимствовал, в гостях покуражиться.
Перед самой швартовкой в американском порту начальство не знало, куда девать остаток серых макарон и сало по имени «лярд». Свиной консервированный жир напоминал липовый мед, но только на вид, а не по вкусу. Петр Осотин вызвался на подначку умять солдатский котелок лярда без закуски. Вот каким путем добыл он возможность надеть на время чужие награды.
— «Ды-ды-ды… Бу-бух», — дразнились матросы.
Старшина второй статьи Осотин не мог призвать их к порядку, потому как выступал не подчиненный личный состав, а из других спецкоманд. Ничего не оставалось боцману, как тоже смеяться, вроде бы не над собой, а зенки оставались холодными. И не глядели они, а протыкали навылет.
Глава 2. «Сэр Захар»
Захару Тетехину нравился кабинет американского учебного центра. И вообще повсюду, начиная с той первой встречи под «бир» и кончая старшиной этого кабинета Лью Грумом, Захара принимали щедро, с улыбкой, а порой и чувствительными тумаками от полноты сердечной. Непонятный язык не мешал. Встречали, как самых-самых союзников. Жили в гостинице «Леди Аристиг». Кого в ней только не было! Кроме наших матросов моряки из «Свободной Франции», поляки, англичане, австралийцы, голландцы, мексиканцы, канадцы… Все на своих этажах в номерах с двухэтажными койками, которые стали похожими на кубрики. Все занимались в учебном центре и харчились там же в столовой на две тысячи посадочных мест. Наука «атикет» — куда вилку класть, куда нож — вовсе не пригодилась. К чему она, когда каждый сам хватал штампованный поднос с шестью ячейками, толкал его по блестящим рельсам и пальцем показывал, чего тебе положить. В одно гнездо швыряли тарелку с супом, в другое толстую кружку когда с какавом, когда с кофеем или компотом. Мясо и салаты валили прямо в поднос. А за добавкой — становись в очередь по второму разу, никто ничего не скажет.
Петти-офисер секонд класс Льюис Грум, а по-нашему — старшина второй статьи, радушно показывал Захару комплекс приборов УЗПН — датчик эхопеленгов, автомат посылок, продолговатый ящик рекордера с прозрачной крышкой, под которой двигалась, наворачиваясь на валик, бумажная лента. Луч ультразвука, распространяясь в воде, мог возвращаться обратно, как бы высвечивая скрытую цель. Приборы показывали точное направление, дистанцию и даже, по изменению тональности отраженных сигналов, давали представление о маневрировании подводного противника.
Когда петти-офисер подал наушники Захару Тетехину, в них уже не было привычного журчания работающих винтов. Он услышал гортанные всплески звуков: пиннг-поннг… пинг-понг… Оба моряка разговаривать не могли, но скоро и без пива стали понимать друг друга.
Льюис Грум был, как здесь выражались, «цветным». Но черты лица у него очень походили на европейские, и шевелюра хотя и волнистая, но не в мелкое кольцо. Грум оказался веселым парнем держался по-свойски и даже формой не очень отличался. Такой же гюйс с белыми полосками по синему полю, а в треугольном распахе фланелевки вместо тельняшки белый трикотаж, красиво контрастирующий со смуглой кожей, которая через пару дней представлялась Захару уже чем-то вроде загара.
Захар Тетехин удивительно быстро схватывал особенности новой техники и только раз повздорил с инструктором.
— Дал питание на станцию, — обстоятельно объяснял он старшему лейтенанту Рудых. — Всё чин чинарем, как положено, а наушники оглохли. Нету тама посылок. Показываю ему — молчат…
Петти-офисер стоял рядом, решительно не понимая, что от него хотят. Аппаратура была конструктивно оформлена удобными выдвижными панелями. Быстро определив, где замыкание, Лью вытащил неисправный блок и заменил новым. Захар поднял панель. Он желал разобраться. Может, какой пустяк — отпаялся контакт? Лью только скалился, показывал — спишем за борт — и совал наушники — тренируйся. Да только воду толочь — вода и будет…
Объяснились через переводчика. Офицер-инструктор учебного центра Патрик Доэрти, снисходительно рассмеявшись, заметил:
— Должен кое-что разъяснить, сэр. Нижним чинам излишне вникать в тонкости. В процессе эксплуатации целесообразнее манипулировать блоками, и всё будет о’кей!
— В таком случае неизбежен перерасход запасных частей, — возразил Максим.
Лейтнант-коммандер с вышколенной непринужденностью согласился:
— Пусть это вас не волнует, сэр. Соединенные Штаты Америки — страна богатая. Передачу кораблей по «ленд-лизу», то есть в кредит, некоторые джентльмены тоже считают неважным бизнесом, не правда ли?
— Плохой бизнес? — возмутился Рудых. — Джентльмены забыли. Мы платим кровью.
— Иес, сэр. Сталинград — это грандиозно, — тотчас кивнул Патрик Доэрти.
Беседа закончилась вполне дружелюбно, однако напомнила, что в чужой монастырь со своим уставом не ходят. И вообще это был хотя и маленький, но конфликт. Старший лейтенант был обязан доложить о нем по команде.
Между прочим, не думайте, что они выбрасывают запломбированные узлы, — сказали Максиму. — Их, как правило, вскрывают специалисты, которые систематизируют характерные неисправности и принимают соответствующие меры на будущее.
— А матрос остается дураком? Разве такой матрос способен устранить боевое повреждение?
— Вы правы, это для нас не годится. Но присмотритесь, у них можно найти и другое…
Действительно, Максиму понравилась система подготовки наблюдателей с использованием технических средств. На экране проектировались типы вражеских самолетов вместе с входными данными для кольцевого зенитного прицела, затем показывали групповые воздушные объекты: звено, эскадрилью, полк… Шторка на проекторе, похожая на фотозатвор, позволяла устанавливать выдержки от пяти секунд до десятых долей, а сидящие в кабине наблюдатели, следя за мельканием кадров, только лишь ставили крестики в графленый листок. Через две недели они насобачивались с одного взгляда безошибочно определять тип и число воздушных целей.
Будущие командиры истребителей подводных лодок по имени «сабмарин-чейсерс», принимая полезный опыт боевой подготовки экипажей, стремились по-своему обучать личный состав. Обложившись словарями и схемами, они составляли описания приборов и оружия, сочиняли инструкции по эксплуатации и боевому использованию, осваивали технологию ремонтных работ. Максиму Рудых выпало заниматься с гидроакустиками, хотя некоторым из них по уровню образования нелегко было уразуметь, что такое пьезокристалл или, скажем, эффект Допплера. Максим пробовал объяснить упомянутый эффект ссылкой на банальный пример с гудящим паровозом. Кто же не слышал, как однотонный сигнал, быстро приближаясь, срывается на визг, а потом враз падает и возвращается к хвостовому вагону промелькнувшего поезда уже с густыми басовитыми нотами? Только Захар Тетехин изумленно моргал.
— Никогда не видел железной дороги?
— Откуда, товарищ командир? От нашей деревни двести верст. Трактор — другое дело. «Красный путиловец». Мотором перхает с чихом, а гудит резиновой грушей. Называется «кряксон», и верно — похоже…
Выра ухмыльнулся, а уже потом, в отеле, сказал:
— Не зря предупреждали об осмотрительности при комплектовании спецкоманд.
— То-то ты подобрал Петра Осотина, — не остался в долгу Максим.
— Почему нет? Как боцман вполне соответствует. Но за уши отнюдь не тянул.
Захара Тетехина отказывались зачислять, ссылаясь на донесение, где упоминалось о прискорбном факте жалостливого отношения к противнику. Всё было изложено в точности, а опущенные подробности казались несущественными по сравнению с железной логикой выводов.
— Отдаете отчет о возможных последствиях? — спрашивали у Рудых. Но тут нашла коса на камень. Максим упирал именно на подробности. Он не желал расставаться со своим слухачом, и это привело старшего лейтенанта в кабинет начальника политуправления.
— Жалуетесь на перестраховщиков?
— Просто знаю этого краснофлотца не по бумажкам.
Выходя из кабинета, Рудых был доволен, что удалось настоять на своем. В этом смысле шпилька Выры насчет Захара Тетехина тоже выглядела не очень здорово, но пикироваться с приятелем Максим не стал:
— В политуправлении речь шла не о клаксонах.
Вообще, горшки обжигают не боги…
И правда, въедливая обстоятельность старшего краснофлотца Тетехина, как ни странно, компенсировала недостаток общего образования, а природная музыкальность позволяла ему улавливать малейшие оттенки звучания эхо-сигналов точнее, чем это делал сам Лью Грум. На следующий день Захар дал понять петти-офисеру, что ему требуется паяльник, припой и универсальный прибор для проверки радиосхемы. После обеда он с гордостью предъявил Лью Груму забракованную панель, которая надёжно работала. Однако тот результатов не оценил, более того, страшно перепугался, показывая на сорванную пломбу, и побежал докладывать по начальству. Лейтнант-коммандер Патрик Доэрти был страшно недоволен. Он информировал старшего лейтенанта Рудых, что вынужден наказать своего инструктора Грума за содействие грубому нарушению установленных правил эксплуатации.
— Ваш инструктор не содействовал, — возразил Максим. — Я же со своей стороны одобряю и поддерживаю инициативу своего матроса. Как видите, он уверенно осваивает сонары.
— Мы не можем допускать этого, — хмурился Доэрти.
— Почему? Аппаратура не испорчена, наоборот, введена в строй. В этом заключается наш принцип отношения к технике.
Как будто бы петти-офисеру Лью Груму его промашку простили, но с тех пор он стал иначе относиться к Тетехину и величать его «сэр Захар».
Глава 3. Фифти-фифти
Ночи стояли бархатные, напоенные тонкой парфюмерией диковинных цветов. Опрокинувшись в парной океан, нежился в воде Млечный Путь. И, знакомый по астрономическим атласам пояс Зодиака, безмятежно купаясь, вовсе не боялся нападения прожорливых акул. И яркая лунная дорожка, только лишь оживляя пейзаж, не несла глухой угрозы с темной стороны горизонта, хотя после многих месяцев непрерывных боёв старшим лейтенантам Рудых и Выре казалось невероятным, что Луна может иметь ещё какое-то значение, кроме тактического.
Они занимали двухместные хоромы на семнадцатом этаже отеля «Коламбус». Лоджия в номере походила на ходовой мостик над морским простором. Далеко внизу теснились другие здания, мельтешили автомобили, качались под бризом пальмы и вечнозеленые деревья городского парка. А на семнадцатом этаже не было ничего, кроме южной пронзительной синевы, которая врывалась в огромное, во всю стену окно с первыми лучами солнца. Здесь не было ничего другого, кроме комфорта, вплоть до персонального холодильника с пивом и кока-колой, вплоть до прохлады по заказу из кондиционера. Правда, с комфортом всё оказалось не так просто. Ничего не скажешь — удобно, но требовалось ещё привыкнуть.
Осваивая новое жилье, Выра с Максимом недоумевали: зачем в санузле, среди глазированного кафеля, стоят рядышком два фарфоровых горшка? На каждого что ли, свой? Не похоже, и вообще редко бывает, что в один момент обоим приспичит. Тогда подошли к вопросу технически. Одна конструкция оказалась знакомой, другая же была непонятной. Разбираясь, Максим наклонился, стал крутить вентили. А ему навстречу фонтан. Вроде шутих в Петергофе. Окатило исследователю лицо и белый китель промочило насквозь.
Выра, как человек женатый, первый догадался, что к чему. Максим очень обиделся, обложил заморскую технику флотским загибом и полез обмываться под душ.
Душ был над ванной, и от него не ждали сюрпризов. Занавеску из плотной ткани, которая задергивалась на колечках, Максим игнорировал, и напрасно. В таком же номере ниже этажом обвалилась мокрая штукатурка, а «господ русских офицеров» собрали на инструктаж.
— Вы бы меня одолжили чрезвычайно, соблаговолив выслушать, — сказал переводчик. — Разговор пойдет о сущих пустяках, коими в суетности своей мы порой пренебрегаем…
Речь его звучала чисто, без малейшего акцента, а казалась странной, как странно выглядят сейчас старые книги с «ятями».
— Позволю себе напомнить о вещах, вне всякого сомнения известных с достодолжной твердостию любому воспитанному человеку.
С отменной улыбкою, извиняясь за беспокойство, переводчик щелкал электровыключателями, открывал и закрывал форточку, а также двери, ведущие в лоджию. Без единой интонации, которую можно принять за иронию он тем не менее не забыл даже показать, как работает спускной бачок унитаза, а про соседний сосуд не информировал — прошел мимо.
Максим со злости хотел задать вопрос, но удержался. Как-никак, повод для подобного издевательства был основательный, а как действует та проклятая штука, он убедился и так.
Обувь по вечерам выставляли в коридор и находили утром надраенной не хуже корабельной медяшки. Даже сорочки и нижнее белье как бы автоматически не переводились, возобновляясь глажеными стопками, а возмутительные на первый взгляд пропажи грязных воротничков и носовых платков объяснялись тем, что горничные их попросту выбрасывали, как Лью Грум — блоки гидроакустики. Зачем стирать и крахмалить, когда проще и дешевле купить новые.
Хотя насчет дешевизны — это ещё как посмотреть. Особенно не разбежишься, имея в месяц по сто пятьдесят монет. Тем более что кают-компании при учебном центре не было. Рудых и Выра приспособились питаться в ближайшем кафетерии, на это уходило по три доллара ежедневно. Выбор блюд здесь был большой, но суп вдруг оказывался сладким, подлива к жаркому — из варенья, тушеную свинину вместо картошки готовили с яблоками. Даже соленых огурцов не было, хотя предлагалось пять видов, нарезанных ломтиками поперек, или вдоль, или наискось, но все консервированные в разной дряни. А булочки казались безвкусными и резиновыми — как ни сжимай, они тут же принимали прежнюю форму. Разве сразу догадаешься, что берешь, за что платишь, хотя внешне выглядит аппетитно? Оказалось, что уметь «читать и переводить со словарем» — это одно, а разбираться в меню — совсем другое.
Неудивительно, что уже на второй неделе Максим запросил борща и чёрного хлеба:
— Ноу проблем, — ответил Выра. Он уже засек рекламу заведения по имени «Рашен бер», то есть «Русский медведь».
Дощатый павильон на берегу моря совсем не выглядел рестораном, но едва они ввалились туда целой компанией, все с новенькими золотыми погонами, при кортиках, официантка всплеснула руками:
— Откуда вы, мальчики?
— С того света, девочки…
Максим пошутил, но она, русская женщина средних лет, с седой прядью в прическе, грустно кивнула. Людей, обитающих на противоположных сторонах планеты, обычно называют антиподами. Их не только разделяют недра на глубину диаметра, даже понятия верха и низа являются противоположными. Скорее всего, официантка именно так и воспринимала бывших своих земляков.
У буфета на прилавке полыхал жаром и никелем самый натуральный самовар. И заварочный чайник оседлала ватная матрешка в сарафане и с кокошником. И в поданной им карточке на двух языках предлагались пельмени, растегаи, кулебяки, пирожки с визигой, с капустой, с зеленым луком, с грибами, шаньги с творогом и шаньги с картошкой, блины с семгой или с паюсной икрой… «Русский медведь» не был рестораном. Скорее он походил на средней руки придорожный трактир, которому разве только не хватало березок перед фасадом. Однако Василий Выра, Максим Рудых и все их ровесники с детства знали одни лишь столовые Нарпита, которые отнюдь не прославились разнообразием национальной кухни. Даже в лучшие времена там в основном упирали на винегреты и биточки с макаронами. Василий с Максимом искренне полагали, что пришли в ресторан, а заказ выдали скромный: щи суточные, картофельные котлеты под грибным соусом и, конечно, селедку.
Здесь им понравилось. Никто не предлагал разбавлять «Смирновскую» содовой, никто не прихлебывал из стопки по капельке. Официантка, глядя на них, прослезилась:
— Простите, — объяснила она. — Как приятно, когда русские кушают.
В принципе её можно было понять, хотя чрезвычайное внимание к их столику было тягостно. Интерес этот, нарастая, помешал спокойно дообедать:
— Позвольте представиться: штабс-капитан Игорь Вадимович Пухов!
Походка, выправка, безапелляционный тон и так, без лишних слов, свидетельствовали о том, что он не всегда носил чёрную пиджачную пару. Но отмахнуться от знакомства было невозможно, поскольку Пухов был хозяином этого заведения.
— Мария! Ещё бутылку! — скомандовал он. — И хорошей закуски! Как ты господ угощаешь?
«Господа» поёжились, вспомнив о тощих кошельках, а Максим сухо спросил:
— Как вы попали в Америку?
— После разгрома, который вы учинили в Крыму, сам не заметил, как очутился на борту парохода, — охотно и с той же громкостью информировал Игорь Вадимович. — Очухался только в Нью-Йорке. В кармане ни гроша, только знание трех языков. Если б не языки — пропал. А сейчас, сами видите, небольшое, но собственное дело.
Штабс-капитан был грубоват, прямодушен и обладал широкой натурой: кутить так кутить!
— Все эмигранты такие?
— До нападения фантастов всякие заглядывали на огонек. Каждый раз кончалось дракой. Сейчас не то, Национальная слава не ведает границ.
— Слава славой, — не отставал Максим. Под отменную закусь у него развязался язык. — Но сами служили у барона Врангеля? Что вы сейчас об этом думаете?
— Полагаете, я дурак? Слуга покорный! Отлично разумею, кто вы, как и вы — кто я. Зачем обращаться к политике? Это был бы последний разговор, а мне хочется побеседовать по-русски…
Видно оправдываться он считал ниже достоинства, тем паче ханжить, а симпатий своих не скрывал, и они подавили хозяйскую выгоду.
— Мария! Счет! — возгласил Пухов и тут же демонстративно порвал. — Сегодня вы у меня в гостях. Милости просим, заходите. Рекламы делать не буду. Для дорогих земляков скидка «фифти-фифти», то есть из пятидесяти процентов.
— Фифти-фифти означает пополам и ещё вничью, — весело уточнил Рудых, когда возвращались в отель на такси. — Почему бы не ува́жить ещё раз, если такая льгота.
Водитель недоуменно оглянулся, а Максим не предполагал, что наутро ему снова придется вспомнить это выражение при совсем иных, не таких забавных обстоятельствах.
Занятия в учебном центре проводились уже на «столе атаки». Так назывался тренажер в комплексе из трех кабинетов. Одним, из них заведовал петти-офисер Льюис Грум, другой был оборудован в виде центрального поста подводной лодки, а посередке размещалась агрегатная вместе с полупрозрачным горизонтальным планшетом. На нем вспыхивали небольшой крестик и точка, которые перемещались в едином масштабе, показывая «маневрирование» противоборствующих сторон. Если положить на планшет кальку и отмечать на ней карандашом расположение светящихся условных знаков, возникала схема, дающая полное представление об уровне подготовленности корабельных экипажей.
Утром здесь появился Патрик Доэрти, который пришел со свитой и держался так, будто у него был нескромный чин, соответствующий нашему капитан-лейтенанту, а куда выше.
— Класс выглядит прекрасно, Грум, — похвалил он петти-офисера, и тот расцвел:
— Мы постарались, сэр.
Затем гость дружески хлопнул Максима по спине:
— Мы хотим кое-что вам предложить. Не возражаете, если я сам буду играть за командира сабмарины? Прошу вас, задайте мне перцу.
Сопровождающие отреагировали на шутку бурным восторгом и тотчас стали биться об заклад, как на скачках. Впрочем, не Максим был у этих заядлых игроков в фаворитах. Мальчишка-энсайн, то есть младший лейтенант, скрываясь последним в дверях агрегатной, иронически выразил наилучшие пожелания. Рудых окончательно понял, что результат состязания им предрешен.
— Ну, «сэр Захар», теперь держись. На нас глядит не только вся Европа!
Дело заключалось даже не в том, что лейтнант-коммандер по должности хорошо знал аппаратуру и возможности тренажера. По его почерку сразу почувствовался азартный боец с волевой, опытной рукой. Рекордер на мостике у Максима рисовал коричневыми штрихами на йодистой бумаге метки дистанции до цели, позволяющие определить относительную скорость сближения. Тетехин, улавливая цель ультразвуковым лучом, докладывал о поворотах и вдруг потерял контакт с целью. Доэрти был представителем иной школы и маневрировал неожиданно, потому первая атака сорвалась.
Тетехин вновь начал поиск пятиградусным шагом с кормы в нос. В учебных целях контакт восстанавливается быстро, но теперь Максим знал, что надо предугадать не столько маневр, сколько замысел своего соперника. Азартный игрок обязательно клюнет на «поддавки». Изобразив метания, убедив его в полной растерянности, Рудых улучил момент и вцепился по-бульдожьи. Оставались секунды до «сбрасывания» глубинных бомб, как петти-офисер вскричал:
— Теряем контакт, сэр!
Лью Грум, оказывается, «болел» не за своих, и его отчаяние было понятно без перевода.
— Ни фига! — засмеялся Максим и, накинув угол упреждения, нажал ревун.
Кальку, снятую с планшета, рассматривали сообща. Доэрти, смеясь, показывал на поворот цели, который смутил Рудых на первом этапе. Что же касается итогов, то чистого накрытия подводной лодки калька не зафиксировала, но близкие взрывы могли причинить ей тяжелую контузию.
— Фифти-фифти. Не так ли, сэр? — сказал лейтенант-коммандер и тут же отчитал Лью Грума за отказавший рекордер.
Петти-офисер вроде бы удивился, но, послушно вскрыв металлический кожух под мостиком, приступил к поискам неисправности. Пока он возился с выдвижными панелями аппаратуры, Патрик Доэрти говорил о том, что такие вот непредвиденные случайности чаще всего становятся на пути к верному успеху. Он сожалеет, тем паче что здесь, на тренажере, совсем уж непростительно нарушение технических стандартов.
— Сонар в полном порядке, сэр, — возразил Грум, высунувшись из-под мостика, но был тут же оглушен мощным ударом по металлическому кожуху. Он отпрянул от неожиданности, а юный энсайн захохотал, горделиво оглядываясь и как бы приглашая остальных оценить его остроумную шутку. Американцы охотно засмеялись. Старший лейтенант Рудых никак не реагировал, а Захар Тетехин дружески похлопал Грума по плечу и, взглянув на энсайна, пробурчал:
— Тебя бы вота так хлопнуть, чтобы башка проветрилась…
Лейтнант-коммандер, нахмурившись, приказал ещё раз проверить блоки.
— Стоит ли, сэр? — возразил Максим. — Не стандарты в конечном счете определяют успех. Бой чаще проигрывает тот, кто первым испугался, а схватку нервов здесь имитировать нельзя.
— Ноу фьига, — лукаво ответил тот. — Не так ли, сэр?
Шутка вновь была встречена смехом, но Максим не смутился.
— Ваши стандарты, вероятно, допускают подслушивание под сурдинку, но ожидаемых преимуществ это не принесло.
— Вот из ит «под сьюрдинку»? — удивился Патрик Доэрти. Напрямую спросил, без помощи переводчика.
— Контрабандой. В нарушение правил игры. Ду ю андерстенд?
Собеседник бесспорно понял. Теперь Рудых уже в этом не сомневался. Поначалу он ничего не имел против предложенной ничьей, но, разозлившись, пошел с козыря, предложив снять с кальки скорость субмарины на последнем участке пути.
— Сами видите, скорость в два раза выше возможностей всех известных подводных лодок. Ваш рекордер на такие параметры, естественно, не рассчитан. Вот его и зашкалило…
Из соображений дипломатических Максиму лучше было бы промолчать. Схема маневрирования показывала, что только фантастически неправдоподобный рывок «цели» вывел её из-под бомбового удара. Следовательно, о «фифти-фифти» уже не могло быть и речи. Не стоило Максиму настаивать на истине, которая решительно всё осложнила. Петти-офисера Лью Грума уже на следующий день сменил веррент-офисер, сверхсрочник, чином вроде младшего мичмана…
Поединок старшего лейтенанта Рудых с офицером учебного центра, ошеломив кое-кого непредвиденностью результатов, всех остальных заставил задуматься. По-разному люди воспринимают такие события. Иногда наблюдается убыль доброжелательности, и тогда неожиданный успех старого друга выглядит особенно непростительным. Василий Выра был не из таких. По его мнению, схватка была настоящей. Правда, без крови, но есть ли разница, коли на кон поставлены честь флага и национальный престиж. Итог тоже сомнений не вызывал, хотя требовалось ещё разобраться в степени его закономерности. Патрик Доэрти по опыту и служебному положению инструктора учебного центра заведомо обладал рядом существенных преимуществ. Шансов одолеть его было куда меньше половины. Как же мог Максим Рудых принять такой вызов? Причем решиться на поединок без согласования с начальством. Это наводило на мысль об авантюризме. Хотя, с другой стороны, война без дерзости не бывает. Максим рисковал, но прежде всего он взял на себя всю меру ответственности. Ежели так, то друг и приятель, которого Выра, казалось бы, знал как облупленного, уже перестал чувствовать себя только исполнителем. Откуда что взялось?
Судя по всему, не только лучший друг анализировал случившееся. Это выяснилось на очередном «файф о-клоке». Между хозяевами и приглашенными сновали негры с подносами, оделяя лампадками разбавленного виски и сэндвичами на один зубок. Уклоняться от «коктейль-парти» считалось невежливым, но никто не решался показать, что у нас своя точка зрения на подобные встречи, которые здесь и застольем не назовешь.
И потому Выра обомлел, когда приятель вдруг уселся за небольшой круглый стол, неизвестно зачем притулившийся в уголке зала и скомандовал вестовому:
— Виски но во́тер!
— Иес, сэр! — растерялся тот, побежал куда-то докладывать и скоро принёс непочатую бутылку со стопками.
— Вот это по-нашенски, — кивнул Рудых, высмотрел блюдо с сосисками величиной меньше мизинца, в каждую из которых было воткнуто по спичке, и указал жестом: — Ставь сюда на стол!
Заметив такое дело, к Максиму один за другим потянулись все командированные офицеры. Хозяевам тоже надоело подпирать стены со своими жиденькими лампадками. Круглого стола на всех не хватило, и они стали присаживаться вторым рядом. Чинный международный прием стал напоминать лихую холостяцкую пирушку, где каждый угощался в охотку и закусывал чем придется, а потом все вместе пели хором «Катюшу» и ещё песенку из фильма «Серенада солнечной долины».
В конце вечера к Максиму подсел переводчик, который обучал пользоваться унитазом.
— Соизвольте, великодушно простить, — сказал он.
— О чем это вы? — подобрался Рудых, и лицо его стало жестким.
— Бросьте, старший лейтенант, прекрасно понимаете…
Максим упрямо молчал.
— Приспело сказать без обиняков, каюсь, поначалу не разобрался… Опять молчите? Тогда спрошу: знаете, почему матроса Терехина стали величать «сэром»? А потому, что числят за переодетого инженера.
— Да ну? — не выдержал Рудых. — Следует понимать в том смысле, что меня тоже приняли за переодетого?
— Истинно так.
— Не огорчайтесь, не вы первый, не вы последний. Уже приходилось слышать о том, что быдло с государством не справится. Вы из дворян?
— Поместьями и капиталами не обладал. Всю жизнь чиновник на жалованье. Сами понимаете, положение обязывает, но по мере сил стараюсь не делать гадостей.
— Допустим. А ваши коллеги?
Максим имел в виду Патрика Доэрти, но собеседник понял иначе.
— Разные люди, как и везде. Вот перед вами мистер Сноу: посредственный толмач, неплохой чиновник русского отдела, а в общем недалекий человек. Но вы ещё незнакомы с мистером Горобцовым. Вот с ним будьте, как у вас принято выражаться, «бдительны».
«Неслыханная вещь», — поразился Василий Выра. Представитель «русского отдела» предупреждал о бдительности. Имени своего учреждения он, правда, не уточнял. И так было ясно, что это мог быть только русский отдел военно-морской разведки. А мистер переводчик моментально учуял впечатление, которое произвели его слова.
— Должно быть, к старости, право, становлюсь болтлив, — сказал он и церемонно откланялся.
Глава 4. Мёртвая зыбь
Информацию о происшествии восприняли с грубоватым мужским юмором, хотя выступающий начальник не был склонен шутить.
Поначалу, правда, насторожились: скверно, когда из номера начинают пропадать деньги, и какие — целых сто долларов. Такого ещё не бывало, но сгоряча обвинять горничную тоже не следует. Прежде чем дойти до такого, надо было ещё и ещё раз убедиться, что денег в номере нет. Помогать в поисках вызвались многие, и тогда на кровати под подушкой кто-то обнаружил забытую часть туалета. Кому она принадлежала, не спрашивали, а только заржали. О чем разговор? Сто долларов, конечно, дороговато, а впредь будет наука. Тогда помощник военно-морского атташе привел цитату из трудов знаменитого адмирала Михаила Петровича Лазарева, который был одним из первооткрывателей Антарктиды:
«Всякое положение человека налагает на него обязанности. И от точности их исполнения зависит честь человека».
Намек был ясен. Несмотря на дипломатическую тонкость формы, он выглядел даже не намеком, скорее обвинением, которое многим показалось чрезмерным. Что тут такого особенного? Холостяк пригласил к себе даму. Так сам же и поплатился.
— Забыли, где находитесь? — спросил дипломат. Или не знаете, что тот, кто лжет в малом, способен солгать и в большом?
Героя данного происшествия отправили домой пассажиром на транспорте, хотя специалистов не хватало, и его обязанности пришлось распределить среди остальных. Жаль было парня. И позор его казался не по вине. Может быть, не стоило также придавать значение каким-то окуркам, случайно обнаруженным в одном номере около перерытых вещей. Заглядывали в чемоданы? Возможно, считали Василий Выра и Максим Рудых, но предлагали другое, более логичное объяснение. Горничная сдавала белье в стирку, а гостиничный бой, который таскал узлы, при этом курил. Обычная неаккуратность, не более того. Но претензия, пусть даже высказанная неофициальным порядком, могла привести к тому, что эти люди лишатся работы.
Повседневная жизнь не давала ни малейших поводов для того, чтобы расценивать эти мелочи иначе. Люди кругом приветливо улыбались, были неизменно предупредительны, вроде прораба на верфи, которая строила для нас корабли. Выра увидел на одном из шпангоутов шесть поперечных сварных швов, которые снижали прочность металлического ребра и нашими стандартами не допускались. Выяснив через переводчика, в чем дело, инженер спорить не стал, подозвал рабочего и распорядился заменить шпангоут. Моментально среагировал, причем без намека на всякие увязки, чертежи и согласования, на которые так падки отечественные бюрократы.
Также по-деловому осуществлялась приемка чертежей и запасных частей к корабельным механизмам, устройствам и оружию. За одним столиком сидела мисс с нежным именем Ширли, рядом был другой стол для старшего лейтенанта Выры. Ширли выкликала по ведомости номер позиции. Негр тут же подкатывал тележку, показывая каждую вещь в натуре. Старший лейтенант щупал, кивал, ставил на своем экземпляре галочку, и принятое барахло отвозили в специально выделенную для каждого катера кладовую. После работы Выра запирал свою кладовую на замок и, кроме того, пломбировал. Запасные части отпускали не мелочась. Лишний десяток масляных или топливных фильтров — пожалуйста. Сверхнормативные комплекты радиоламп — нате, тоже не жаль.
Через несколько дней, когда у Ширли поубавилось чопорности, она стала задавать Выре посторонние вопросы, вроде того, есть ли в России асфальтированные дороги, знают ли дети, что такое шоколад, или почему в первую мировую войну русские воевали будто бы заодно со швабами против американцев. Причем по образованию Ширли оказалась учительницей, слегка понимала по-польски, и это облегчало общение. Хотя что на это отвечать? Выра тоже был из учителей, и он только руками разводил.
Их совместный труд подходил к концу, когда мисс Ширли встретила Выру в крайнем возбуждении. Мешая слова трех языков, она пыталась объяснить, что мистера люте́нанта обманули.
— Дудки, всё принял по табелю.
— Ноу, дудки… — возражала девчонка с именем, которое журчало ручейком.
Оказалось, что по табелю действительно отпустили всё, но там не значилось береговое снабжение.
— На кой мне чёрт береговое, — сгоряча отмахнулся Выра, но на всякий случай решил посоветоваться со своими старшинами. И точно. Взять, к примеру, пружину накатника на сорокамиллиметровом зенитном автомате «Бофорс». Она столь тугая и мощная, что, распрямившись, убьет. Нельзя разбирать этот узел без специальных приспособлений.
Обратившись с запросом через нашу закупочную комиссию, будущие командиры «сабмарин-чейсерс» в конце концов получили многое, без чего невозможны нормальная эксплуатация и ремонт этих катеров. Но поблагодарить коллегу-учительницу Выра не успел. В два часа ночи его разбудили в отеле, и, как по тревоге, привезли на джипе к опечатанной кладовой.
— Мистер Горобцов, — представился мужчина в штатском, который стоял рядом с плачущей мисс Ширли. — Мы по ошибке передали вам кое-что лит- него…
«Лишними» оказались вязаные перчатки для минёров, которые надевались на всю руку до плеч, противогазы и ещё почему-то знакомая кабельная линия из специальной конструкции коаксиальных проводов.
Выра не понимал, зачем ради такой ерунды потребовалось поднимать его среди ночи. Казалось бы, ясно, что в массе забот у него не было времени разобраться во всех выделенных предметах снабжения, какие бы в них ни заключались особые хитрости.
«Могли ли существовать секреты от союзников по войне?» — рассуждал старший лейтенант. Скорее всего, поводом послужили сущие мелочи по известной формуле: «положено — не положено». Во всяком случае, мистер Горобцов не казался подавленным тяжестью происшедшего. Наоборот, в его суетливости проскальзывало сдержанное торжество.
Только утром Выра вспомнил, где он видел такую же кабельную линию. Она соединяла тумбу в ходовой рубке учебного корабля, на котором они выходили для отработки задач на тренировочный морской полигон, и вела к серому колпаку на вершине мачты, похожему на перевернутый ночной горшок. Тумба в рубке была тщательно зачехлена и сверх того опечатана.
— Икскюз ми, плиз, — смущенно извинился командир того учебного корабля. — Итс рэдиолокэйшн…
На кораблях, которые заканчивались постройкой для передачи по «ленд-лизу», не оказалось ни таких горшков на мачтах, ни таких тумб. Более того, на пяти малых противолодочных катерах, предъявленных к сдаче первыми, не было даже гидроакустики.
— Как это следует понимать? — возмущался Максим Рудых. — Позволяют себе бросаться целыми блоками, а тут, видите ли, «нехватка сонаров».
— Ты что же, забыл? — иронизировал Выра. — Это называется «плохой бизнес».
Вскоре стало известно, что передача даже таких катеришек, без гидроакустики, покамест не состоится. Хозяева верфи, ссылаясь на задержку с формированием очередного конвоя в северные порты России, отправили свою продукцию кому-то другому.
И ещё откуда-то пополз слушок, ставящий под сомнение идею перегонять «сабмарин-чейсерс» через Атлантику своим ходом. Он исходил из разных источников, только лишь меняя оттенки от дружелюбного желания предостеречь до высокомерной снисходительности, пока наконец не был сформулирован на самом высоком уровне:
«Джентльмены! С океаном не шутят. Мы на пути к берегам Африки однажды уже потеряли в шторм шесть из восьми точно таких „ши́пов”».
К сожалению, приведенный факт не был выдумкой, и с тех пор деревянные кораблики типа «сабмарин-чейсерс», водоизмещением всего в 126 тонн, применялись американцами исключительно в прибрежных водах при благоприятной погоде. А проданные для нужд королевского флота Великобритании, эти катера пересекали океан на палубах крупных, специально оснащенных транспортных судов.
Недаром говорят, что из любого свинства можно вырезать кусочек ветчины. Переговоры забуксовали. Благовидный предлог уберечь русских союзников от бессмысленных жертв был использован для обоснования проволочек с получением крайне необходимых Северному флоту противолодочных средств. Кто мог дать гарантию, что утлые скорлупки из красного дерева одолеют по океану пять тысяч миль, да ещё в период жестоких осенних штормов? Не разумнее ли подождать эдак с год, пока не будут переоборудованы транспорта для доставки?
Такая перспектива никак не устраивала ни Максима Рудых, ни Василия Выру. Они считали, что загранкомандировка и так чересчур затянулась, и буквально не находили себе места, особенно по вечерам. Через распахнутое окно их номера доносился пульс океана. Тяжелая поступь прибойной волны была громче воркотни моторов, шелеста шин, рявканья клаксонов, гула фланирующей толпы. Но размеренная обыденность прибоя не подавляла всех остальных звуков. Наоборот, голоса цивилизации казались слышнее.
Друзьям надоело коротать время в гостинице, надоело слоняться по асфальту в духоте и газолиновой гари под разноцветное мельтешение реклам. Их тянуло на природу, и парк был рядом, но близок локоть, да не укусишь. Их официально предупредили, что в темное время в парке гулять опасно. Там вполне могли укокошить, как и в некоторых кварталах, как и в заведениях с вывеской «калэрд онли» — «исключительно для цветных».
В поганом настроении, рассуждая о том, как убить время до сна, друзья возвращались в отель из учебного центра. И вдруг к поребрику прижался лакированный, «форд» последней модели и резко затормозил.
— Почему не приходите, мальчики?
Голос был женский и, показалось, ужасно знакомый. За рулем сидела официантка Мария из трактира «Русский медведь».
На сей раз заказали шашлыки, которые, строго говоря, не из наших национальных блюд. Но русские любят мясо на палочках, хотя мало кто из них понимает в нем толк. Игорь Вадимович Пухов снова подсел и стал расспрашивать о своем Петербурге. Рудых и Выра по мере сил старались удовлетворить его любопытство. Да, Исаакий стоит, как стоял. В соборе службы нет. Там подвесили маятник Фуко, который доказывает факт вращения Земли. Игорь Вадимович ничего не сказал, но чувствовалось, что это ему не понравилось.
— Скажите, — решился Выра. — Вам известен не кто Горобцов?
— Как же, — усмехнулся Игорь Вадимович. — Весьма. Честолюбивый молодой человек. Верно, сами уже догадались?
В отель ехали мимо уснувших особняков и коттеджей, мимо собственной дачи президента страны и точно такого же дома, принадлежавшего бандитскому главарю Аль-Капоне. Соседство президента и гангстера считалось местной достопримечательностью, и гордились все жители, как убедительным признаком великой демократии.
Поднявшись к себе на семнадцатый этаж, друзья опять обнаружили кипу журналов с многоцветными лакированными обложками. Всё было одно к одному. Воздух курортного местечка, незаметно сгущаясь, давил на барабанные перепонки, будто его накачивали помпой в скафандр. В такой атмосфере уже не было случайных событий и в каждом пустяке чудился умысел. Они не покупали этих журналов с картинками, где фирменные герлс, доступно улыбаясь с каждой страницы, демонстрировали всё что угодно, даже белье, которое соперничало с платьем короля из андерсеновской сказки. Шёлковые паутинки, как бы сходя на нет, оставляли одну лишь весьма привлекательную натуру и вполне реальную стоимость модного предмета в долларах и центах. Галантерейно-трикотажная реклама обоим была ни к чему. Цены кусались. Раиса Петровна по своему основательному характеру приняла бы за личное оскорбление любой невесомый презент, кроме, разве, чулок. А Максиму вообще не о ком было заботиться. Но откровенные иллюстрации обладали мистической притягательностью. Отказаться от рассматривания было невозможно, хотя от этого вскипала кровь.
— Я больше не могу, — орал Максим, раздирая в клочья мелованную бумагу.
Однако уничтожению журналы не поддавались. Кто-то гостеприимно и безвозмездно заботился о возобновлении наглядной агитации.
— Не смотри, — советовал Выра, хотя и сам, бывало, нарушал зарок.
— Я живой человек.
— Ты, хлопче, скорее карась. Живца видишь, а не крючок.
Оберегаясь от соблазнов, им пришлось выступить с решительным меморандумом перед горничной, которая доставляла мелованную макулатуру. Нота была составлена заранее на двух языках, причем оба текста имели одинаковую силу. Хорошенькая Кэт молвила «о’кей!», и следующим вечером по возвращении из центра подготовки экипажей приятели с облегчением отметили девственную чистоту журнального столика. Зато на камине красовалась кабинетная пепельница художественной работы. На краю зеленоватой чаши, поджав ноги и обхватив колени, сидела купальщица. Загорелая бронза отражалась в полированном цветном стекле, как в бассейне.
— Опять? — возмутился Рудых.
— Брось, Макс. Это тебе не реклама.
И точно. Коммерческий дух не водил резцом ваятеля. Приверженец реализма, он не упустил ни единой подробности.
— Эта обошлась без паутинок, — непримиримо сказал Рудых, нажав на звонок.
— Вон! — скомандовал он горничной, выразительно махнув в сторону пепельницы.
— Ноу! — возразила она. — Ит из пье-дар-рок.
— Пошла ты вместе с такими подарками к мамочкиной матери, — раздельно объявил Максим.
Василий Выра поморщился, и тогда приятелю пришлось дать разъяснение, что его адресок по-иностранному означает «гранд-мадам».
— Ай д-нт андерстенд, — совсем растерялась Кэт, убеждая Выру в том, что языковый барьер не всегда во вред.
Волей-неволей Максиму пришлось обратиться к пантомиме, древней как мир. Брезгливо взяв статуэтку, он хотел отправить её в корзину для бумаг, но поломал. С резким хрустом фигурка откинулась на спину. От неожиданности Рудых обомлел. В прелестной купальщице была заключена скабрезная зажигалка. И горничная уже протягивала ему пачку сигарет «Олд голд». Кэт, по-видимому, находила шутку ужасно забавной.
Выра ещё с курсантских времен знал взрывной характер однокашника, но тут вмешаться не успел. Хохочущая горничная, в момент взлетев, заняла положение антиподов, попутно предъявив на обозрение восхитительные подробности. Максим, размахнувшись, отпечатал звонкое тавро на том месте, где бархатистая кожа оставалась незагорелой. Тоненько пискнув, Кэт с заметным ускорением выскользнула в коридор.
— Соображаешь, что натворил?
— Она издевалась, чёрт подери, — оправдывался Максим, потирая ладонь. — Между прочим, я не из бронзы.
— Карающая десница, похоже, из чугуна.
По-кошачьи помаргивая зеленым глазком, приемник искушал «Серенадой солнечной долины»: «Ю толд ми, ю лав ми…»
— Может, и радио теперь отшлепаешь? — ругался Выра, вспоминая грозные намеки военно-морского атташе. Как бы и в самом деле не пришлось им запеть лазаря, доказывая, что они не верблюды с этикетки сигарет «Кэмел». Здешние обычаи, допуская фривольные фотографии и рисунки, вместе с тем уживались с откровенным фарисейством. Обратиться к незнакомой даме с любым, самым невинным вопросом считалось немыслимым оскорблением.
Утром в номер заявилась другая горничная. Кэт исчезла, так же как до неё исчез бой — рассыльный отеля, как петти-офисер Лью Грум. Максим Рудых маялся в ожидании скандала. А предусмотрительный Выра спрятал до поры проклятый сувенир, решив, что избавиться никогда не поздно, а без статуэтки не оправдаться, если начнут расследовать жалобу пострадавшей горничной.
Катеров всё ещё не выделяли. Ночи одолевали тропической духотой, и днем было не лучше. Максим и Выра не могли больше купаться. «Обрыдло… Об-рыд-дло», — соглашался прибой. Чего хорошего, когда распятый на солнце, оплавленный океан, точно в конвульсиях, накатывал мёртвую зыбь.
Глава 5. Пятница падает на тринадцатое
Радиограмма была получена вдогон на третьи сутки перехода, когда ветер в снастях уже сам выговаривал иностранное слово из метеосводки: «хар-р-рри-кейн-н-н». Слово было известно Выре, прежде всего, как марка британских истребителей-перехватчиков, и ему не верилось, что прежде всего оно означает «ураган». Радиограмма «шторм эдвисори» настойчиво советовала вернуться, хотя несколькими днями ранее прогноз был вполне благоприятным. Тут, хочешь не хочешь, невольно вспомнился переполох по поводу даты подъема советского военно-морского флага на первых трех катерах. Максим Рудых и Василий Выра, стремясь побыстрее окончить формальности, предложили назначить церемонию в ближайшую пятницу, получили в ответ «о’кей», а тем же вечером к ним прибежал встрепанный переводчик:
— Господа, верно, запамятовали — пятница падает на тринадцатое…
— Ну и что? — не понял Максим.
Тут переводчик сообщил подробности, на которые оба приятеля не обращали ровно никакого внимания. В отеле «Коламбус» после двенадцатого этажа шел сразу четырнадцатый и ни один номер не оканчивался на роковое число. Как ни смешно, но здесь этому придавалось значение на самом официальном уровне.
— Свой флаг поднимаем, не ваш, — возразил Максим.
Ясно, ему не хотелось поддерживать дикие суеверия, но Выра видел, что Максиму тоже стало неприятно. Недаром сказано предками: «Тот, кто бороздит море, вступает в союз со счастием, ему принадлежит мир, и он жнет, не сея, ибо море есть поле надежды…» Это из надписи на кресте, найденном на острове Шпицберген. И правда, надежда нужна всем, и особенно нельзя без неё обойтись, если имеешь дело со стихией. Кому охота, чтобы торжественный обряд омрачился разными сомнениями? Однако дату менять не стали, утешаясь тем, что мир по природе своей материален и, следовательно, удача должна сопутствовать как раз тем, кто не уповает на мистику.
Готовились тщательно. Глубинные бомбы и снаряды из кранцев первых выстрелов убрали глубоко в погреба для повышения остойчивости на качке. Потом заварили на палубах вентиляционные грибки, наглухо герметизировав корпус. Наконец учинили генеральную проверку мореходности, дождавшись шторма при переходе от Флориды в Нью-Йорк. Такая оказалась заварушка, что сопровождающий их группу «систер-шип», то есть однотипный катер, под звездно-полосатым флагом известил семафором, что в такую погоду следовать не может, рекомендует вернуться, и после вежливого отказа возвратился в свою базу. Они же ничего — держались. Маршрут был согласован заранее, а риск не так уж велик. Шли в их территориальных водах, зная, что по первому же радиосигналу, а может быть и без такового, будут приведены в действие мощные средства береговой охраны. Экипажи в случае чего спасут. Не столь из гуманности, а чтобы потом иметь веские основания показать нам шиш вместо боевых противолодочных средств.
Василий Выра не сходил с мостика двое суток, пока не закончился эксперимент длиной тысячу миль. Наутро после швартовки его разбудил грохот.
— По трапу бегом! — дурачился Максим, показывая на распахнутый люк над головой с узкой вертикальной лесенкой, которая позволяла только лазать. Максим никак не мог привыкнуть к каюте без дверей, без иллюминаторов и называл её погребом. Глухие переборки, странность общения, когда сначала видишь ботинки на ступеньках-балясинах и в последнюю очередь лицо посетителя, вполне соответствовали представлению о погребе, если бы не письменный стол с откидной крышкой, превращающей его в обеденный, да три койки: две — этажеркой — покамест пустующие, а с другого борта отдельное ложе для командира катера.
Рудых второпях загремел с трапа, но это был пустяк по сравнению с принесённой им новостью. Москва радиограммой дала «добро» на дальнейший путь.
— Не кажи «гоп», доки не пересигнэшь, — зевнул в ответ Выра.
Мускулы у него гудели, как, телеграфные провода.
— Пока приказано принять продовольствие. Сам знаешь, что дома-с этим не разбежишься…
— Це дило, — оживился Выра.
На бессменной штормовой вахте ему было не до еды, после швартовки — тоже, едва добрался до койки. После отдыха у него разыгрался зверский аппетит, а голодному человеку не рекомендуется оформлять документы на получение продовольствия.
Старший лейтенант выписал полугодовой запас всякой снеди: муку, сахарный песок и кофе в мешках, концентраты, печенье, ящики сливочного масла, консервы в картонных коробках, банки с фруктовыми соками, а сверх того полторы тонны мороженого мяса и двести галлонов молока. Все отпустили без возражений и доставили прямо к причалу на грузовиках. Ну хоть бы кто напомнил, что водоизмещение катера всего 126 тонн, отведенных и на людей, и на тяжелые дизеля, и на топливо, и на пресную воду, и на оружие с боеприпасами. Ну ладно: муку и кофе удалось затолкать, сложив штабелями в носовом кубрике, а молоко куда девать? И главное — зачем его столько? Кто же знал, что галлон совсем не литр, а почти четыре литра?
Боцман Осотин получил приказание закрыть питьевые бачки, но предупредил:
— Команда будет роптать.
— А молоко полезнее.
— Дак всё одно скиснет, — обнадежил Петр и тут же попросил выписать ручную помпу.
— Обойдешься! Жратву некуда разместить, а ему — помпу.
— Бог не выдаст, свинья не съест!
Боцман заметно обнаглел и на него пришлось прикрикнуть. Однако это не спасло молоко, которое все же заквасилось, а говядина, сплошной филей без единой косточки, оттаивая, пустила слезу, и над ней уже роились мухи. Пропадало добро, и Выра, страдая, не мог обойтись без верного боцмана.
— Что будем делать?
— Пока в порту, молочные фляги за борт на шкертах. Будут как в погребе.
— А в море?
— Принайтовим на стеллажах заместо глубинок.
Другими словами, Осотин предлагал накрепко привязать бидоны в специальных ячейках для глубинных бомб. Выре это показалось разумным.
— Мясо — завялим! — продолжал боцман, ободренный кивком. — Давайте мешок соли и пустой ящик. Всего и дело́в.
— Коли берешься вялить — действуй. А ящик найдешь сам на причале…
Бесхозную тару в порту раздобыть не удалось. На причалах не было ни соринки, не то что ящика. Выре пришлось подписать для боцмана еще одно требование на ручную помпу, но обязательно в деревянной упаковке. Вдвоем они долго химичили, распихивая грузы по нижним помещениям катера, который оседал на глазах. Портовый надзор, заметив, что ватерлиния ушла в воду, потребовал провести кренование и выяснить, как повлиял перегруз на мореходные качества. Однако инспектора были снисходительны и после бутылки бренди подписали все нужные бумаги.
Вяленое мясо Осотин подвесил к мачте и рядом ножик на прочном лине. Каждый, кто не укачивался, мог отрезать кусок вяленого филея и запить простоквашей. Так и питались, на манер древних ушкуйников. Приготовить горячую пищу в океане всё равно оказалось невозможно.
Державный ветрило стервенел от норд-оста, вольготно о́рал-распахивал, сгребая воду в складки. Он разбивал гребни, мёл брызги поверху, закручивая как в буран. А небо, изнемогая, ссутулилось от тяжести облаков. Небо едва не падало на вздыбленную волну.
В голове ордера шел тральщик типа «амик». Это слово происходило от американского термина «ауксилери майн-свиперс», в дословном переводе означающего «миновыметальщики вспомогательных морских сил», а сокращенно «АМ». Это был большой по сравнению с катерами корабль, водоизмещением почти в тысячу тонн. На расстоянии полмили он то показывался целиком, то пропадал из видимости — как бы тонул. В пучине скрывались последовательно: палуба, мостик и наконец мачта высотою в двадцать метров.
Ничего не оставалось на поверхности, и Выру охватывала жуть, пока белую кипень опять не протыкали, всплывая, сначала мачта, потом мостик, палуба, корпус. Тральщик издали казался ничтожным, а был, однако, очень прочным, цельносварным. Деревянный катеришко Максима Рудых, точно такой, как у Выры, шел ближе, держался почти рядом, но смотреть на него было еще страшней. Катер швыряло и накрывало с мачтой. Подброшенный на гребень, он зависал с обнаженной кормой, под которой отчаянно, бешено крутились голые винты.
На борту у Выры винты тоже взвывали, идя вразнос, каждые пятнадцать секунд. Чтобы уберечь дизеля, требовалось сбавлять холостые обороты, а в следующий момент корма опускалась, и возникал пик нагрузки. Упустить его тоже было нельзя. Иначе двигатели могли заглохнуть. Задыхаясь в отсеке без вентиляции, привязанные ремнями к боевым постам, мотористы изменяли режим движения четырежды за минуту, то и дело продувая кингстоны, чтобы не допустить засоса в систему охлаждения.
Рулевой правил вслепую по гирокомпа́су. Иллюминаторы перед ним лишь светлели и темнели, не освобождаясь от потоков. Волна била в левую скулу катера, с легкостью разворачивая корпус. И катер скатывался по склону лагом, поперек курса. И каждый следующий вал грозил опрокинуть, если не успеешь развернуться навстречу ему. Рулевые успевали, хотя и выматывались начисто за десять-пятнадцать минут вахты. Только Выре не было подмены. На океанском переходе, подобно господу-богу, он оказался единым в трех лицах, то есть нес службу и за себя, как командира катера, и за не назначенного еще помощника командира, и за штурмана. Что делать? Из-за нехватки личного состава вместо штатных тридцати пяти человек экипаж временно сократили до двадцати. Одно из спальных мест в офицерской каюте занимал пока дивизионный механик, но ему нельзя было доверить ходовой вахты.
Старший лейтенант Выра с беспокойством ощущал, как его катер, постепенно тяжелея, всё трудней всходил на волну. Он уже не «отыгрывался», сбрасывая с палубы воду, а протыкал гребень, шел в пучину вроде подлодки. Вот какая расплата ожидала Выру за бессовестное куркульство. И ему вдруг показалось, что щедрость американских властей и либерализм портового надзора были не случайны.
«Вот карась, — запоздало корил он себя. — Хиба ж кто знал? Клюнул на голый крючок».
Дивизионный механик первый раз за поход поднялся на ходовой мостик. Он был одет так же, как Выра: в кожаный реглан на меху и сапоги-ботфорты с наружными застежками по голенищу.
— Кажется, отплавали, — заметил механик и стал надувать оранжевый спасательный жилет.
Он явно не шутил и, в общем, объективно оценивал обстановку, но его жилет был смешон. Нынче не то чтобы выловить, даже не разглядеть людей, очутившихся за бортом. Невольно улыбнувшись, Выра сообразил, что мысли о «голом крючке» тоже померещились ему с испуга. Власти, да и чиновники портового надзора, скорее всего, полагали, что русским виднее, что взять с собой на борт. Если они моряки, сами должны соображать, а власти за них не отвечали. Гибель катера была бы использована недоброжелателями в своих интересах, но специально никто этого не подстраивал.
— Отплавали? — разозлился Выра и тут же рявкнул: — Боцмана ко мне!
Плотная фигура в зеленой альпаковой куртке с капюшоном и таких же теплых водонепроницаемых штанах тут же стала рядом. Петр Осотин возник как черт из коробочки.
— Как там внизу?
— Скрипит, — крикнул боцман, имея в виду, что обшивка катера заговорила немазаной телегой и натужный звук этот, напоминая о несовершенстве материала, казался особенно противным. — Еще сильно бьет. Из носового кубрика все сбежали.
— Как это? Почему раньше не доложили?
— Дневального не назначали, — напомнил Осотин, намекая, что тогда бы он заставил нести службу. А так не всё ли равно, где матросы отдыхают. Но людей не хватало, и Выра понадеялся, что подвахтенная смена так и так проследит за порядком.
— Осмотреть кубрик!
В самом деле, это надлежало сделать немедленно. Ведь сутками раньше катер лучше всходил на волну. Раз так, дело не в грузе. Но в чем? Приказать просто, но попробуй добраться до люка, расположенного на верхней палубе, сразу же за носовым зенитным автоматом системы «Бофорс». Попробуй-ка сунься, если вода, вставая торчком, разила под вздох. Осотин, обвязавшись прочным плетеным фалом, рванул вперед короткой пробежкой. Его накрыло раз и другой, а потом он вообще исчез из глаз. Скорее всего, Выра потребовал невыполнимого, и теперь он терзался, понимая, что привык к Петру Осотину, и еще потому, что в такую завирюху без опытного боцмана никак не обойтись.
А катер заметно грузнел. Его валило на борт до шестидесяти пяти градусов, может и больше. Стрелке-грузику кренометра не хватало шкалы. Обычно в конце каждого, размаха Выра ощущал эдакий рывочек. Словно утыкаясь во что-то, катер начинал выпрямляться, чтобы найти такую же опору на другом боку. Сейчас корпус валился свободно, рывочек ослаб вместе с уверенностью в том, что этот крен не станет последним. Чёрт побери, цел ли боцман? Кем же тогда его заменить?..
— Товарищ командир! — Осотин стоял рядом, отряхиваясь как утка. Он был невредим, если не считать синяков. — Первый кубрик затоплен по самый люк…
Дивизионный механик от такой вести отпрянул, и Выре пришлось рявкнуть, приводя его в чувство:
— Чего болтаешься здесь? Инженер ты или не инженер? Иди разбирайся…
Пробоины, к счастью, не обнаружили. Всё объяснялось куда проще. За двадцать минут до конца каждой вахты было приказано включать трюмно-пожарную систему на откачку. На наших кораблях для этого требовалось открыть забортный клапан, а при закрытом вода под давлением нагнеталась в пожарную магистраль. Трюмные машинисты поддались закоренелой привычке, совсем забыв, что заморская техника действовала в обратном порядке. Напором воды вырвало пожарный рожок в пустом кубрике, но этого никто не заметил. Трюмные аккуратно подавали в кубрик забортную воду, считая, что откачивают её.
Выре от такой информации стало тошно, особенно если учесть, что в кубрик было напихано 120 мешков крупчатки, 80 мешков сахарного песку, 20 мешков кофе. Его подмывало обрушиться на двух разгильдяев, которые загубили столько добра и едва не отправили весь катер на корм рыбам.
— Осушить! — приказал он, ничего не добавив для ясности.
Остальные слова пришлось отложить на потом, когда аварийные помпы справятся со своей задачей. Главное, в корпусе не оказалось дырки, а остальное — семечки. Помпы не могли перекачать океан, но освободить замкнутый отсек для них не проблема. Выра напряженно искал признаки уменьшения качки, но катер стал вести себя еще хуже. Это означало, что с понижением уровня воды в кубрике возникла свободная поверхность. Жидкость, свободно переливаясь с борта на борт, еще более понижала остойчивость катера.
— Скоро вы там? Доколе можно чикаться?
— Помпы не тянут, — сообщил дивизионный механик. — Скорее всего, забиты приемные патрубки…
Патрубки находились под палубным настилом кубрика, и очистить их можно было только вручную, ныряя в холодную воду.
— Добровольцы есть? Только скорее, — торопил Выра. — Сами видите, что делается.
Среди грохота бури и тяжких, сотрясающих душу ударов неослабно орал норд-ост. Голос его в снастях поднялся до визга. Необузданные валы, рождаясь из пучины, росли до неба. Они подбрасывали, валяли и крутили, добивая без пощады.
— Водки дадите? — спросил боцман, и на сердце у Выры слегка отлегло.
— Дам.
— И брусок масла…
— Хоть два.
Водки у него не было. Только бренди. А сливочного масла сколько угодно: брикетами в цветном станиоле по фунту весом. И еще имелся резиновый полу-шлем с баллоном, гофрированными трубками и загубником. Но водолазным прибором еще не пользовались, а главное, боцману предстояло нырять в темноте, без связи, в наглухо задраенном помещении. И ему не помочь, если откажет техника, или тело сведет судорогой, или… Подумаешь, стакан бренди или масло! Для такого дела ничего не жалко.
Решетки приемных патрубков засорились кофейными зернами. Кофе пропал весь, сахар тоже растворился, а с крупчаткой ничего не случилось. Она лежала в коконах из соленого теста, которое, подсохнув, стало скорлупой, и мешки потом приходилось вскрывать топором. Зато стало ясно, почему погибли «систер-шипы» у берегов Африки. Скорее всего, американцы опрокинулись, израсходовав газойль из топливных цистерн. Центр тяжести неизбежно переместился к верхней палубе, где располагались глубинные бомбы и кранцы первых выстрелов, а штормовая волна доконала.
Старший лейтенант Выра, конечно, пожадничал с продовольствием, но он, как моряк, жадничал грамотно. Получалось, что мореходность маленьких катеров, так же как древних ло́дей или ушкуев, в конечном счете зависела от самих ушкуйников, то есть от личного состава…
Перед Хвал-фиордом на восточном побережье Исландии их встречал английский корвет. Облака разошлись, открыв совсем иные, чем над Флоридой, холодные звезды. Звезды уже не моргали, пристально разглядывая утлые суденышки, которые пошатывались с борта на борт, кивали искорёженными надстройками, брели кое-как, словно с дрожью в коленках. Однако в ордере двигались все катера. Все до единого.
Вдоль борта приземистых крейсеров флота его величества, на необъятных палубах линкоров и авианосцев были построены команды.
«Кого-то встречают», — устало подумал Выра и вдруг услыхал оркестр. Привычные, до боли знакомые, родные слова сами ложились на звуки марша: «Наверх вы, товарищи. С богом — ура! Кипящее море под нами…»
— Вот это номер! — крикнул Максим с мостика своего катера. — «Варяга» знают…
На мачте флагманского британского корабля взвились три флага.
— Хорошо сделано! — расшифровал их значение сигнальщик по книге международного свода. Оказывается, встречали-то их.
— Коли так, ладно, — кивнул старший лейтенант Выра, а про себя подумал, что на такой переход можно решиться или по молодости, или по глупости, а повторить его — разве только под пистолетом.
Глава 6. О флотских досугах
Берег всплыл на пределе видимости. Отчеркнутый твёрдым горизонтом, он походил вначале на облачко и как бы принадлежал небу, но, постепенно раздаваясь, тяжелел каменными откосами. И глаза стали различать подробности рельефа, для опознания которых не требовалось заглядывать в лоцию. И от унылого побережья веяло домашним теплом.
Вот и закончилась кругосветка. Старшие лейтенанты Рудых и Выра со своими спецкомандами пересекли два океана и три континента с запада на восток. Всем почему-то казалось, что в главной базе флота их ожидает торжественная встреча, но, видно, загордились, слишком привыкли к привилегированному положению гостей. В точке рандеву обменялись позывными со старой калошей, которая при ближайшем рассмотрении оказалась дозорным кораблем. Свернув со знакомого фарватера, он привел катера в пустынную губу. И там сигнальщики приняли первый семафор с распоряжением выделить подвахтенную смену для сколачивания плавучих причалов.
«Сказылись воны там, чи шо?» — с раздражением подумал Выра и тут же осадил своего боцмана, который выразил те же мысли, только по-русски.
— Двадцать суток не спамши, — громко ворчал Осотин, и это был факт. Но, видно, сам Выра тоже потерял чувство реальности, хотя до сих пор не услышал ни единого выстрела.
Морская война негромкая, и состоит она не столько из скоротечных схваток, а в основном из ожидания боя, напряженного, целеустремленного, бдительного… Северный флот воевал. Поэтому вместо торжественной встречи подвахтенная смена застилала бревенчатые рамы на железных бочках-понтонах серыми просоленными досками. В дело шел бесхозный плавник, выплюнутый прибоем. Рискованные «лесозаготовки» были возложены на команды дозорных кораблей — после смены с боевого дежурства. В каменных распадках сушились впрок штабеля бревен и пиленой древесины.
На катера зачастили флагманские специалисты, снабженцы, представители отдела кадров и отдела комплектования.
— Добро переводим, товарищ командир! — ворчал боцман Осотин.
Петр Осотин считал все корабельные припасы своими, тем более что корешки накладных он благоразумно не сохранил, а снабженцам объяснял, что там никакой бюрократии и в помине нету. Если не верят, пусть проверяют через Наркомат внешней торговли.
— Ты это брось, боцман. Не будь куркулем. А тех, кто отличился, надеюсь, Родина не забудет.
— Орденок никому не лишний, — соглашался Осотин, который, надо думать, уже пронюхал о наградных листах. — А харч надо бы придержать.
Выре тоже было жаль расставаться с запасами. Он сквозь пальцы глядел на боцманские хитрости, но сам по мелочам не скопидомничал, неизменно приглашая к столу после делового разговора. Выра был убежден, что, раз идет война, согласования не могут продолжаться до бесконечности.
Конец им положил сам командующий. Вызвав катера в главную базу для смотра, он за полчаса разрешил все споры, вручил награжденным ордена и медали и в заключение пообещал назначить им такого командира, который бы «новгородское вече» не разводил. Потом он разрешил увольнение на берег, тем более что гарнизонный Дом офицеров приглашал на концерт приезжих артистов.
— Подмени, дружище, — пристал к Выре Максим, которого, как на грех, назначили дежурным по дивизиону. — Завтра фронтовой бригады из театра уже не будет, а тебе какая разница днем раньше или позже увидеть свою Раису.
Разница, понятно, была. Василий Выра тоже не считал себя бронзовым и жену не видел почти целый год. Но просил друг, и Василий ему уступил.
Поздним вечером после концерта Максим неожиданно вернулся на причал, и не один.
— Представляешь, «Серенаду Солнечной долины» здесь тоже поют: «О прошлом тоскуя, я вспомнил о нашей весне. О как вас люблю я, в то утро сказали вы мне…» Ясно, что мне захотелось познакомиться с исполнительницей.
Максим пообещал ей показать заморский катер, хотя время для экскурсий было не слишком удачное и, главное, это допускалось только с разрешения Военного совета.
— Ты же знаешь… — напомнил Выра. — И потом уже дали отбой…
— В кубрики не поведу. Ей там неинтересно, — заверил Рудых. — А что касается разрешения — ты нас не заметил.
По обязанности дежурного Выра должен был воспрепятствовать, но махнул рукой, надеясь, что после награждения вряд ли кто посмеет учинить проверку службы. Во всяком случае, до утра.
Но дежурный по дивизиону ошибся в расчетах. Часа в четыре по местному времени на причале появился маленький ростом, очень интеллигентный капитан первого ранга с засургученным пакетом в руках. Выяснив у Выры, кто из офицеров на берегу, он приказал немедленно направить за ними посыльных-оповестителей. У дежурного по дивизиону екнуло сердце, и он предложил сразу же сыграть тревогу.
— Отставить! «Соловьи, не тревожьте солдат», — тоненьким надтреснутым голосом замурлыкало новое начальство. — Жаль, что не попали вчера в концерт: «Пусть солдаты немного поспят». Да, да. Очень мудрый романс, проникнутый заботой о личном составе. А солистка, скажу я вам… Какое сопрано и какой репертуар. Да, да. И не возражайте.
Катер Максима Рудых был ошвартован третьим корпусом. Проверяющий, деликатно постучав в люк офицерского помещения, откинул его и стал осторожно спускаться по отвесному трапу. С каждым шагом он как бы погружался в каюту, по колени, по пояс, потом по грудь… Едва окунувшись полностью, капитан первого ранга выскочил обратно подобно пробке от шипучего вина.
— Так, — сказал он вахтенному возможно сдержаннее, воздев упавшее пенсне. — Когда ваш командир, гм… освободится, передайте ему приказание прибыть с докладом. Буду ожидать у дежурного по дивизиону.
Подозрительно оглядевшись в каюте у Выры, проверяющий убедился в том, что койки не заняты, после этого он разрешил хозяину сесть, по-прежнему не требуя от него объяснений. Максим Рудых быстро явиться сюда не мог, а молчание вдвоем слишком интимная вещь. Перестав наконец официально сопеть, гость счел возможным перейти к беседе на нейтральную тему. Он спросил очень вежливо, показывая на зажигалку:
— Имитация под малахит? Весьма любопытно. Ну-ка, ну-ка. Патина на бронзе?
— Собирался выбросить, но… знаете, как нам досталось в океане. Шесть тысяч миль. Всё время на мостике…
— И напрасно собирались. Да, да. Отменная кабинетная вещица.
Зажигалкой Выра никогда не пользовался. Оставалась надежда, что потайную кнопку сразу не обнаружить, что пружинка ослабла или, на худой конец, фитилек не вспыхнет без заправки бензином. Увы, скабрезная конструкция сработала безотказно.
— В любой каюте одно и то же, — сухо обобщил капитан первого ранга, брезгливо отдернув руки. — Теперь всё ясно, как вам доставалось. Да, да. И не возражайте…
— Нас хотели спровоцировать… — оправдывался Выра.
— Старшему лейтенанту Рудых — десять суток ареста, — перебил капитан первого ранга, решительно направляясь к трапу. — За… допуск на корабль гражданских лиц. А вы, товарищ Выра, как дежурный по дивизиону, извольте отсидеть любую половину этого срока. Да. Да…
В последний момент перед выходом катеров из главной базы Выра догадался командировать старшину первой статьи Осотина к себе на квартиру с коротким сообщением о прибытии на флот и пакетом с подарками, которые ему так и не удалось вручить лично.
— Тут недалеко. Одна нога здесь, другая там.
— А если, к примеру, патруль?
— Скажешь — оповеститель.
— Время военное, товарищ командир. Кому охота попадать в дезертиры?
Выдав боцману увольнительную, Выра никак не предполагал, что тот замешкается и не вернется к отдаче швартовых. Может быть, жена была на дежурстве в госпитале? Но с документами Осотин на берегу не пропадет, да и Раиса, получив подарки, останется без претензий. Кто теперь знал, через сколько времени Выра получит возможность сам заявиться домой?
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. Как понимать легенды?
Глава 1. Крапивное семя
«Торок» выходил из гавани ежедневно в восемь тридцать утра, а к девятнадцати часам впереди уже опять маячило крупное промышленное здание, недавно возведенное в портовом городке. На входном фарватере сбавляли обороты винтов. Этим занимался обычно старпом, а Василий Федотович скучал, вмешиваясь, только в необходимых случаях. Молодые вахтенные офицеры наблюдали, как пенные серпы от форштевня жнут мелкую рябь, как бурлит кипяток на заднем ходу, охватывая низкие борта, а стальной корпус дрожит в испарине. Сторожевик изящно скользил между проплешинами осушек, слегка наклоняясь на разворотах, как велосипедист на вираже, только в противоположную сторону. Впрочем, осушной берег был виден лишь при отливе, и всё выглядело элементарно до тех пор, пока не настала очередь Чеголина стать к машинному телеграфу. Для начала Выра приказал ему самостоятельно подойти к буйку посреди чистой воды. Это, по словам командира, требовалось для выработки «чувства своего корабля», а также для «остроты» морского зрения. И вот тут стало ясно, что указанные чувства пока без взаимности.
Попробуйте. угадать в бурунах за бортом силы встречной воды и попутного потока, мощь закрученной либо набрасываемой струи. Добавьте сюда инерцию, парусность, степень толкающего или разворачивающего усилия обоих винтов. Вектора множества сил и силенок прилагались к разным точкам корпуса, теоретически раскладывались на составляющие, объединялись в равнодействующие, давали на концах «плеча» ехидный вращательный момент. Они помогали либо мешали, всякий раз группируясь по-разному. А подавать команду на руль или в машины требовалось за десять-пятнадцать секунд до того, как она приходила в голову.
Чеголин с Пекочинским без устали чертили схемы, рисовали в масштабе плечи и стрелки. На бумаге у них получалось здорово, а «Торок» упрямился.
— Слушайте такую вещь, — подбадривал Василий Федотович. — Надо зубрить, ибо грамоту без азбуки не осилить.
Оригинальность этого афоризма дошла до лейтенантов после того, как морской букварь, открывшись на неожиданной странице, озадачил не только их.
В тот день над «Тороком» опять взошла белая звездочка на алом флагдуке, то есть сигнальщики подняли на мачту стяг командира отряда учебных кораблей. Предстояли рядовые тренировки тральных расчетов. Юрий Владиславович программы похода не изменил, но его присутствие оказало влияние на команду.
На границе полигона корабль застопорил ход. Настало время окунать за корму хитрую комбинацию и тросов и резаков, буйков и оттяжек, металлических решеток и грузил. Вместе все это называлось тралом, который, разворачиваясь на ходу широкой дугой, предназначался для подсечки скрытых в глубине морских мин.
— Не суетитесь, — предубедил Выра. — Нормативы — следующий этап.
— Всё ясно, — бодро сказал Пекочинский, но секундомер всё-таки прихватил.
Конструкция трала кажется примитивной, но на палубе она сильно теряет в наглядности. Пока минёр с помощью старшин разбирался, куда и за что цеплять стальные тросы с оттяжками, корабль дрейфовал без хода. Виктор Клевцов, который, добившись своего, теперь исполнял обязанности вахтенного механика, дважды запрашивал разрешения провернуть паровые турбины, но получил отказ, поскольку за кормой находились части трала в непосредственной близости от винтов.
— Скоро вы там? — не выдержал старпом Лончиц, искренне переживая за репутацию корабля.
Понукание старпома помогло Пекочинскому закруглить дискуссию со старшинами. Он включил микрофон и доложил о готовности к постановке трала. Выра перевел рукояти телеграфа на «малый вперед», а сторожевик вдруг затрясло в падучей. Стрелка телеграфа самопроизвольно отскочила обратно на «стоп». Командир корабля вырвал из гнезда телефонную трубку прямой связи с постом энергетики. От возмущения у него перехватило голос. Губы шевелились энергично, однако без слов. Пропустив таким образом первые фразы, Выра потребовал к аппарату инженер-механика:
— Почему… на ходовой вахте не специалист?
— Решение Клевцова правильно, — хладнокровно парировал Бестенюк. — Неравномерный нагрев турбин. Сами не разрешили проворачивать…
Юрий Владиславович погладил своего пса по загривку и опять посмотрел на часы. В тягостном молчании сторожевик дрейфовал еще полчаса, дожидаясь, пока турбинисты усмирят проклятую вибрацию. Штурман невозмутимо информировал о том, что корабль вынесло за пределы учебного полигона.
— Разрешите начинать? — спросил Выра, которому неохота было возвращаться к границам полигона.
«Командору» тоже надоело глядеть на возню, и он наклонил сухонькую голову в знак согласия.
Сторожевик шел, волоча за собой обтянутый втугую трос, а справа и слева за кормой почётным эскортом гарцевали яркие и юркие буйки. Трал развернулся на расчётную ширину. Юрий Владиславович перестал щуриться, Выра приободрился, а старпом расцвел.
Но лейтенант Пекочинский не подозревал о перемене настроения на ходовом мостике. Он решил во что бы то ни стало показать лихость при «сматывании удочек». Едва сторожевик застопорил машины, тральная лебедка взвыла на максимальных оборотах. Ходовой конец правого полутрала шел туго, а «Торок» пятился. Однако минёр торопил расчет.
Трудно сказать, чем бы всё это кончилось, если бы не Виктор Клевцов. Как политработник, он предпочитал всегда находиться в центре событий, а прежняя квалификация минного старшины позволяла ему разобраться во всем с первого взгляда. Виктор застал матросов трального расчета на ребристых откидных площадках у среза кормы. Балансируя, они готовились зацепить плясавший на волне буй. Но Клевцов увидел не только это.
— Стоп выбирать! — сразу вмешался он, подскочив к лебедке.
Виктор не имел права командовать, подменяя лейтенанта Пекочинского, и тем не менее продолжал распоряжаться: «Все назад!» — и так решительно, что тральный расчет шарахнулся с кормы.
— В чем дело? — оскорбился минёр. — Куда ты суешься?
Клевцов, не отвечая, выхватил микрофон связи с ходовым мостиком:
— В трале посторонний предмет! Предположительно якорная мина.
Едва ослабло натяжение ходового конца, как за буйками, метрах в десяти, проглянула ржавая рогатая плешь.
Мина, покачиваясь под поверхностью воды, не всплывала. Зубчатый резак трала не смог подсечь минреп связывающий её с якорем. Резак заклинивался только при встрече с цепочкой из легированной стали, которой в конце войны начали заменять гибкий тросик минрепа. Это означало, что правый полутрал вышел из строя, а корабль привязан к смерти короткой уздечкой. Как ни странно, но люди, профессионально связанные с морем, порой забывают о том, что оно жидкое. На воде не остается воронок, пепелищ и руин, а монументы и мемориалы воздвигают на берегу. Потому кажется, что море без прошлого. Море напоминает о былом вдруг, ошеломляя внезапностью, не давая времени на раздумья и поиски выхода.
Барабан лебедки теперь разматывался, а мина, кивая свинцовыми рогами, приближалась к борту. Надо было срочно давать ход, чтобы растянуть в длину петлю тяжелого буксирного троса. Но это было опасно. Туже петлю могло намотать на винты. Юрий Владиславович перестал горбиться, распрямил сутулые плечи, изнемогшие от плетеного золота погон, и от этого помолодел.
— Убедитесь, куда смотрит ходовой конец, — заурядно рекомендовал он. — Да, да. Кажется, его сносит вправо.
Другими словами, «командор» советовал воспользоваться одной левой машиной. Риск, конечно, оставался. Всё зависело от чутья и остроты реакции командира корабля, и он оказался на высоте положения. Распоряжаясь по телефону с кормы, Выра слегка подтолкнул корабль левым винтом. Алые буйки, зарывшись в бурун, помаленьку стали отступать. Непосредственная угроза миновала, но заминированный трал волочился, цепляясь за грунт. Стальные тросы перепутались, напоминая легендарный гордиев узелок, который можно лишь разрубить. Но как это сделать, не потревожив взрывчатую начинку?
Офицеры «Торока» занимались этой проблемой коллегиально. Сторожевик был учебный, и потому Юрий Владиславович устроил на ходовом мостике нечто вроде военного совета. Лейтенант Пекочинский, конечно же, выступил первым, предложил обрубить железную «веревочку» и, отойдя на безопасное расстояние, подорвать мину со шлюпки.
— Показали эрудицию. Да, да. Но не оригинальность мышления, — сказал «командор», пояснив, что тяжелый клубок троса вместе с миной утонет наверняка и придется вызывать подрывников-водолазов.
Задача оказалась непростой. Слабая обшивка корпуса старенького сторожевика не позволяла допустить взрыва в трале. Продырявить корпус мины из крупнокалиберного пулемета тоже было нельзя из-за малых глубин. Затонув, она останется опасной для других кораблей, особенно для рыбаков. Капитан-лейтенант Выра требовательно взглянул на Чеголина. Тот понял, что промолчать нельзя, а говорить было нечего.
— Если из сотки, прямой наводкой, — подумал Артём вслух. Впрочем, без особой уверенности.
Погоны на долговязом минёре взлетели крылышками под сдвинутыми плечами. Он явно осуждал дилетантский подход. Василий Федотович снисходительно усмехнулся, а старший лейтенант Лончиц спросил, можно ли всерьёз предлагать такую ересь. Чеголину пришлось признаться в том, что он рассуждает чисто теоретически.
— Не время витать в облаках, — возразил Пекочинский, как бы от имени всего «военного совета».
Но «командор», воздев старомодные очки, приказал:
— Ну-с, послушаем. Да, да. Продолжайте.
Артём смутился, но делать нечего, пришлось обосновывать. Он исходил из того, что снаряд для практических стрельб выточен из сплошной чугунной отливки и сам по себе взорваться не может. Точный удар при огромной скорости полета такого снаряда, по идее, разрушит мину прежде, чем успеют сработать её собственные взрыватели.
— Перейдем к делу, — оживился Юрий Владиславович. — Нужна гарантия попадания с первого выстрела.
Но Чеголин молчал. Он не мог дать такой гарантии.
— Коли так, послушаем практиков, — заключил Выра. — Главного старшину Буланова на мостик!
Осмотрительный Иван Аникеевич сначала попросил разрешения посоветоваться с другими старшинами и в результате своих переговоров доложил, что старшина первой статьи Яков Рочин берется за эту задачу при условии, если ему не станут мешать.
— Добро, — рискнул Выра. — Действуйте!
И вот прозвучала боевая тревога, фактически боевая, без предварительного сигнала: «Слушайте все!» Личный состав разбежался по местам в надувных резиновых жилетах. Аварийные партии и спасательные средства находились в полной готовности. Стол в кают-компании накрыли стерильными простынями, осветили бестеневыми софитами, и там закипел автоклав с хирургическими инструментами.
А ют опустел. Расчет кормового орудия в целях безопасности сократили до минимума. У пушки осталось всего два человека, и ещё лейтенант Чеголин счел необходимым занять наблюдательный пост в непосредственной близости на кормовом мостике.
Яков Рочин не спешил, и действия его со стороны казались какими-то необязательными. Чеголин не понимал, к чему крутить штурвалы наведения, разворачивая ствол по всему сектору. К чему разбирать и собирать стреляющее приспособление? С какой стати вгонять в камо́ру учебный патрон, снова и снова заряжая орудие и разряжая его? Кормовая пушка была точно такой, как и носовая, которой Рочин командовал, но старшина приглядывался к ней, будто видел впервые. Чеголин не подозревал, что не существует двух абсолютно одинаковых механизмов. У каждого свой норов, и мелочей здесь нет. Лейтенант ёрзал, досадуя на запрет вмешиваться.
«Торок» двигался наискось к волне. Так качало сильнее, зато трал с миной загибался хвостом, выводя близкую цель в угол обстрела. Рочин наконец развернул пушку и, опустив клиновый затвор, стал заглядывать внутрь. Оптические прицелы на такой дистанции бесполезны, но целить через канал ствола на качающейся палубе Чеголину тоже казалось бессмысленным. Даже уловив мелькание мины в дульном кружке, старшина всё равно не имел возможности остановить мгновение. Он вряд ли слыхивал о докторе Фаусте, зато лейтенантский секундомер мог в данной ситуации пригодиться. Но Яков Рочин даже не оглянулся на своего командира БЧ.
Рочин отшатнулся от пушки, забавно пританцовывая в такт качке, и махнул заряжающему, который держал наперевес единственный патрон. Тот загнал его с маху, и сразу возник соломенный плевок огня. Воздух нокаутировал Чеголина, ударив в лицо и в уши. Артём забыл приготовить защитные пробки из ваты, не успел приоткрыть рот и дальше видел всё, как в немом кино. Казенная часть пушки, резко отскочив, обнажила гладкий цилиндр со штоками сверху и снизу. Затем всё это стало задвигаться обратно, выплюнув дымную гильзу. А старшина первой статьи Рочин, тут же потеряв интерес ко всему на свете, повернулся к орудию спиной и пошел по палубе вразвалочку, руки в карманах.
«Значит, попал? — поразился Чеголин, веря и не веря догадке. — Засадил снарядом с первой попытки, несмотря на зыбкость качающейся платформы? Значит, мина раскололась, хотя малейшая неточность влекла рикошет и неизбежный взрыв…»
Бинокль лейтенанта не желал наводиться на резкость. Вода слепила, сверкала мятой фольгой и казалась обкладкой от лейденской банки. Но цель точно канула, будто её не существовало вообще. Только целлулоидная кислая гарь и разводы цвета «побежалости» на горячей гильзе остались напоминанием о выстреле.
На ходовом мостике «Торока» тоже запахло порохом, но уже не в прямом смысле. Любой конденсатор разряжается быстро — искрой, а нервы— у всех по-своему. «Командор», прогнав пинком Жулика, чтобы тот не путался под ногами, заскрипел престарелой душой. Он объявил, что на этом корабле всё делается на фу-фу, да, да, и еще разводят турусы на колесах. Что надо прежде убедиться, была ли в трале действительно мина, и потому весь оставшийся за бортом металлолом следует извлечь на палубу для предъявления опытным специалистам. Выра, насупившись, застопорил машины, а Пекочинский побежал на ют вылавливать вещественные доказательства.
— Следовать в базу! — сухо проронил Юрий Владиславович после доклада об окончании забортных работ. Он не ожидал возражений, тем более от мальчишки инженер-лейтенанта. А Бестенюк отказывался давать ход без водолазного осмотра винтов, ссылаясь на какую-то оттяжку, которая оборвалась в момент подъема.
— Командир! Вы меня слышали?
— Я верю своему механику, — уклончиво заявил Выра.
— Выполняйте приказ! Да, да, приказ.
— Прошу зафиксировать это в вахтенном журнале, — закусил удила Бестенюк.
— Крапивное семя, да, да… — гневался Юрий Владиславович, визируя запись в журнале.
Теперь, после соблюдения предусмотренных корабельным уставом формальностей, флагман принял на себя ответственность за последствия своего распоряжения. Проверка винтов была отложена до возвращения в базу, и «Торок» лег на обратный курс. Юрий Владиславович извлек литой серебряный портсигар с андреевским косым крестом, зачем-то погладил художественной работы бело-голубую эмаль флага и продолжал тиранить командира:
— А с «детским садом» пора кончать. Тросик, видите ли, мелькнул — и в панику. Молокососы! Да, да. И не возражайте. Надо воспитывать моряков.
Сразу после швартовки Бестенюк побежал к флагманскому механику. Тот организовал обследование подводной части, и водолазы обнаружили обрывок стальной оттяжки, которая торчала из втулки кронштейна гребного вала.
Вахтенный офицер Чеголин хорошо запомнил, как уходил с мостика «командор» после доклада о результатах обследования. Оказывается, старикам тяжелее всего спускаться по трапу: колени у них не сгибаются и надо двумя ногами вставать на каждую ступень.
Глава 2. Шапка дыма
На флоте нет понятия более мнимого, чем «дымовая труба». Из топок обычно допускаются наверх лишь газы почти абсолютной прозрачности. Каленые струи плавят очертания надстроек. Мачты, антенны — всё смещается и мельтешит в глазах, как мираж. Но бывает, когда зазевается вахтенный котельный машинист, труба харкает грязным облачком. И тогда старпом, тут же потребовав к телефону инженер-механика, непременно возложит на него ответственность за стирку жестких шлюпочных чехлов и брезентовых обвесов на ходовом мостике, а командир корабля обязательно напомнит при этом, что стыдно пачкать небосвод и тем самым демаскировать военный корабль. Словом, «шапка дыма» влечет неприятности, и потому среди военных моряков это выражение давно уже стало нарицательным.
Неожиданный ремонт «Торока» вместе с потерей трала бесспорно явились «шапкой дыма» на весь флот. На сторожевике работала комиссия, которая первым делом приняла от капитан-лейтенанта Выры пакет с опечатанными корабельными документами. Потом стали опрашивать свидетелей. Комиссия должна была принять во внимание особое мнение командира боевой части пять, зафиксированное на страницах вахтенного журнала, но от этого не было легче. Юрий Владиславович отбыл с корабля на «скорой помощи» с острым сердечным приступом, а его замечательный портсигар неожиданно оказался у инженер-механика Бестенюка.
— Он что, забыл это в каюте? — поразился Пекочка.
— Нет, вызвал меня через рассыльного… Говорит, что теперь ему всё равно не курить.
— Как могли польститься? — вмешался старпом фамильная реликвия, ценнейшая вещь, она передавалась из поколения в поколение. Понятно?
— Честное слово, отказывался, но Мочалов, как врач, запретил его волновать.
Подарок механику казался необъяснимым. Его особое мнение в журнале возлагало на старика всю ответственность за аварию. Это вполне могло вызвать его раздражение, обиду на упрямца, который посмел так подвести начальство. И вдруг всё наоборот.
— Награда за мокрые штаны? — усмехнулся Пекочинский.
— Слушай такую вещь, — сказал Выра. — Механику, точно, награда, а всем — урок, чтобы не считали субординацию выше здравого смысла. «Один раз не поверил специалисту, — заявил мне Юрий Владиславович, — и вот отплавал свое».
— Уж лучше бы я ошибся, — вздохнул Бебс. — И потом попробуйте достать материалы для ремонта.
— Но почему подарили ему, а не вам, Василий Федотович? — недоумевал Лончиц. — Решение было ваше, и вся ответственность — на командире корабля,
— Совершенно справедливо, — подхватил Пекочка.
Макар Платонович тоже закивал, а механик, вспыхнув, слегка отодвинул раскрытый портсигар. Но как можно передаривать? И кто согласится принять?
— Удивляюсь, Евгений Вадимович, — возразил Выра. — Неужели вы, как воспитатель, не догадываетесь? В таком случае не было бы никакого урока.
Старпому пришлось согласиться с мнением командира. При этом он строго осмотрелся, стараясь установить, кто засомневался в его педагогических способностях. Однако и сам Выра возразил слишком уж быстро, будто поделившись заранее обдуманным. Василия Федотовича можно было понять. Кто бы не счел за честь унаследовать штуковину, которая помогала нести флотскую службу добрую сотню лет? Командиру «Торока» достался иной подарок, который буквально нашел его сам, но вряд ли доставил удовольствие. Капитан-лейтенант Выра не ощущал старческого одиночества, и потому его не умиляла холопская собачья преданность. Но выдворять бывшего фаворита Василий Федотович тоже не захотел. Жулик лез в каюты, выпрашивая подачки, болтался под ногами в каюткомпании и, в частности, мешал Чеголину выполнять обязанности дежурного по кораблю.
Председатель комиссии, который был назначен командующим, прибыл на легковушке к борту «Торока» в самый неподходящий момент, когда Чеголин давал объяснения экспертам. Докладывая им, как удалось попасть в мину с первого выстрела, лейтенант не подозревал о том, что главный герой этой истории снова решил всех удивить. Рочину вздумалось доказать, что натянутый стальной швартов вполне может заменить турник, если, конечно, отклетневать, то есть особым способом обмотать необходимый участок троса просмоленной парусиной. Старшина лихо крутил «солнце» вокруг швартова под общее одобрение болельщиков. Никому не было дела, что налицо грубое нарушение воинского порядка и техники безопасности. Вахтенный у трапа и дежурный по низам тоже глазели на гимнастические упражнения Рочина и опоздали дать сигнал для встречи председателя комиссии. И только Жулик, сразу учуяв, что ступивший на палубу моряк по знакам различия весьма похож на прежнего хозяина, встал на задние лапы в ожидании подачки.
— На поверку выходит, что пес здесь самый дисциплинированный, — сдержанно заметил прибывший, когда Чеголин, с опозданием представившись, сопровождал его к командиру корабля.
Даром это пройти не могло. Вызов к старпому с вытекающими отсюда последствиями был неизбежен. Отшвырнув в сердцах «самое дисциплинированное» животное, Чеголин послал рассыльного за старшиной команды комендоров.
— «Дробь получается», Иван Аникеевич. Почему личный состав на пирсе? Что у нас по распорядку?
— Кормовое орудие пробанили. Остальное в порядке. Ума не приложу, чем еще занять народ…
Старшина команды был прав. Любой коллектив превратится в зевак, если не поставить четких задач. Распорядок дня на сей раз был составлен наспех. Все были озабочены проверочной комиссией.
— Так. Это исправим. А ваш Рочин? Не понял за службу, для чего нужны швартовы, или считает, что теперь ему дозволено всё?
— Виноват, — нахмурился Буланов. — Недосмотрел…
Старшина первой статьи Рочин заслуживал наказания. Более того, Артём был обязан объявить взыскание и еще недавно бы не колебался. Но если дисциплинарные права не для возмездия, если они для воспитания, то наказание старшины пользы бы не принесло. Рочин явно загордился. В нем видели мастера, который едва ли не спас свой корабль. Любые права не помогли бы Чеголину сбросить маэстро с этого пьедестала.
Поправив нарукавную повязку — «рцы», лейтенант сошел на причал, по мере сил стирая с лица выражение официальной строгости. Болельщики расступились перед ним и замерли в ожидании событий.
— Где ваша тросточка?
— Чего? — Рочин готовился к иному разговору и такого вопроса не ожидал.
— Канатоходцы работают обязательно с тросточкой. Без неё обходятся только рыжие, но те потешают у ковра.
Ей-богу, Чеголин не имел в виду медный оттенок волос у старшины первой статьи. Он упомянул о клоунах только к слову. Но слушатели дружным гоготом подчеркнули именно это обстоятельство.
Лейтенант спохватился. Может быть, увлекшись, он переборщил? Подчиненных оскорбить легко, и нельзя забывать о том, что они лишены возможности платить той же монетой. Во всяком случае, самолюбивый старшина раньше снисходительно сторонился Чеголина, теперь же лез на рожон, стараясь взять реванш в словесной баталии.
— Как почивали, товарищ лейтенант? Маманю во сне не видали?
— Представьте, нет. Зато видел гастролера, который ходит, задрав нос, и руки в карманах. Препотешное зрелище…
Отвечать требовалось спокойно, с улыбкой, ни в коем случае не показывая раздражения. Попробуйте всё время держать себя, как по боевой готовности номер два! Чеголин устал от старшины первой статьи Рочина и прямо-таки мечтал о том времени, когда будет наконец объявлен приказ об увольнении с флота в запас матросов и старшин старших возрастов.
В общем, благие намерения ошибок не оправдывают. Недаром ими вымощена дорога в ад. С особенной наглядностью Артём понял это в каюте Евгения Вадимовича Лончица по окончании своего дежурства. Здесь был применен тот же прием, а роли переменились. Старпом «полоскал» лейтенанта, как только мог, возложив ответственность и за непродуманный распорядок дня, который сам же и утверждал, и даже за нахального Жулика. Оправдываться перед Лончицем было нелепо, спорить нельзя, а соглашаться с назойливым присловием «понятно?» Чеголин тоже не захотел. Его молчание подстегивало старпома, прибавляя ему красноречия. Страстный обличительный монолог его был прерван на самом драматическом месте стуком в переборку. Вот, оказывается, как запросто вызывал старпома командир корабля.
— Разговор не окончен, — предупредил Евгений Вадимович. — Обождите здесь.
Хуже всего докипать наедине, когда ярость распирает душу, как в котле без предохранительного клапана. Бриз, играя занавеской распахнутого по-летнему иллюминатора, попробовал охладить лейтенанта, но, скорее всего, обжегся. На вешалке старпомовской каюты покачивалась фуражка, сшитая на заказ у частника. Верх её был из белой шерсти с кремовым оттенком, поля растянуты кольцом, заклетнёванным изнутри в кант. Щегольской головной убор кивал, словно поддразнивая лейтенанта ненавистным голосом: «Понятно?.. Понятно?..» Чеголин не мог больше глядеть на проклятую фуражку и, вне себя, вышвырнул её через иллюминатор: «Пусть покивает треске за бортом!»
А дверь, деликатно отъехав на роликах, пропустила вернувшегося старпома. Снимая головной убор, Лончиц сказал скучным голосом, в котором уже не было ни прежнего запала, ни меди:
— Надеюсь, сделаете необходимые выводы…
— Так точно, — впервые высказался лейтенант и вдруг осип, поскольку в этот момент отчетливо вспомнил, что, явившись по вызову к старпому, он снял свою фуражку и водрузил её на крючок. Фуражка наверняка еще плавала. Было не поздно выловить её отпорным крюком. Но без ведома старпома шлюпку не спустишь, и потому лейтенант даже не вышел на палубу заглянуть за борт. Досада разъедала его, как серная кислота. Невыносимый день, до отказа заполненный гадостями, никак не кончался.
…Наутро Чеголин узнал, что Петра Осотина снарядили в командировку к месту постоянного базирования. Почему-то капитан-лейтенант Выра поручил именно ему доставить на сторожевик дефицитный легкоплавкий баббит, который требовался для заливки поврежденной дейдвудной втулки, хотя главный боцман по должности не имел отношения к материальному обеспечению ремонта.
А флотская комиссия в конце концов согласилась с тем, что трал подцепил якорную морскую мину немецкого образца, и одобрила действия личного состава. Наказывать за аварию было некого. Старенький «командор» поплатился инфарктом. Он уходил в отставку по возрасту и состоянию здоровья…
Былина о «жёстком червонце»
Яшка Рочин каждый раз тосковал, взбираясь на койку, укрепленную с борта на шарнирах, а с другого края подвешенную к подволоку на железных цепочках. Тосковал, думая о червонце. Не о деньгах, конечно. Тем более не о каком-то кредитном билете достоинством в десять рублей. Но десять лет, проведенных по кубрикам, набегая мало-помалу, тоже складывались в червонец, очень жесткий червонец в жизни человека. Словно вчера желторотым салагой он впервые улегся на пробковый матрац, с любопытством разглядывая подпалубные стропила со странными, вроде бы не русскими именами. Неужто прошло три тысячи шестьсот пятьдесят отбоев, столько же подъемов и, наверное, не меньше боевых и учебных тревог? Перед глазами те же опостылевшие бимсы, пиллерсы и казённые строчки заклепок на стальных листах. Яков два раза тонул и остался жив, дважды ранен, обморожен, но не покалечен. повидал такое, что и присниться никогда не могло. А вот молодость как черт языком слизнул. Будто её и не было вовсе.
«Ты моряк, красивый сам собою, тебе от роду двадцать лет, — пели они, бывало, на вечерних прогулках в школе оружия, слегка перевирая слова. — Полюби меня, моряк, душою, всё отдам тебе в ответ».
Легко драть глотку с лихим присвистом, когда двадцать еще впереди. Но до сих пор стыдно признаться, он и в тридцать никого не целовал и не знает, как подойти к девушке. Ровесники устраивались по-разному. Ванька Буланов окрутился в Мурманске за неделю во время ремонта, котельный машинист Ленька Грудин познакомился со своей женой по письму, приложенному к подарку фронтовикам, а Богдан Мыльников нашел себе подругу за один вечер в хмельном раю. Буланов и Грудин еще могут иногда схлопотать себе побывку, а у Богдана семья по переписке. Раз прислали ему фото — ребеночек в пелёнках. Осотин поднял на смех: «Это ли «Богдановна»? Надо еще доказать!» Мыльников осатанел, а у Петра железный принцип: «К чему плодить пащенков, когда можно не теряться и так».
Нет уж, самое верное дело — спорт, гимнастика ли, штанга, пудовая гиря, лишь бы до хруста, чтобы не ворочаться до утра на жесткой, слежавшейся пробке. Пресекай не пресекай, в кубрике только о бабах и речь. Кто смакует, кто врет, остальные пускают слюни. А если о жизни всерьез, как не задуматься, если годы вышли, а впереди пустота: ни дома, ни привязанностей, ни мирной профессии. Судьба катилась по иной песне, сложенной в стародавние суворовские времена: «Наши жены — ружья заряжены…» Пушки или ружья, как говорят, одна Матрена, которую легче перепрыгнуть, чем обойти.
Супруга его нареченная — красавица соответственных калибров длиной, хохотушка и плясунья на подшипниках шарового погона. Характером не так чтобы покладистая, но Яков понимал от неё любой намек, холил и лелеял. Вот она и блюла себя, не бла́жила попусту. Выходило, что можно доверять.
А случалось всякое. Однажды, это было уже по шестому году службы, в самом начале войны, встали на якорь в Кильдинской салме. Надеялись отдохнуть от воздушных атак, закутавшись в сплошной туман. Кто же знал, что одеяло короткое: на глаза накинули, а затылок торчит. Бомба рванула в воде у двадцатого шпангоута. Осколки, ударив с тыла в короб броневого щита, перебили расчет. Заряжающего Рочина тоже зацепило в ногу, но, сгоряча не заметив, он ринулся к пушке. Куда стрелять? Все в мокрой наволочи. Хорошо, что командир БЧ-2 догадался залезть на марсовую площадку, в семи с половиной метрах над мостиком, и увидел — мачта, проткнув пелену, торчала ориентиром, а «юнкерс» нацеливался по ней на второй заход.
Рочин подносил патроны с осколочными гранатами, устанавливал ключом дистанционные трубки, заряжал, показывал подскочившей замене, как совмещать стрелки центральной наводки, и ухитрялся выдерживать бешеный темп заградительного огня. Палили сквозь туман, по командам с марса. Подбить самолет не подбили, но напугали. Отвернул, поганец, когда возникла перед ним форменная огневая завеса. Кишка у пилота оказалась тонка.
Потом, на перевязке, медик сказал, что осколок прошел через мякоть навылет. Хотя и больно, но зажило без госпиталя. Тем более что осиротела тогда пушка и, кроме Якова, некому было возглавить новый артиллерийский расчет.
Бой, всегда внезапный и часто с потерями, в войну стал целью и стал смыслом. Годы службы никто не считал, а время неслось подскоком, заменяя неторопливый календарь. В конце апреля, следующей весной, вышли в Мотовский залив к мысу Пикшуев поддерживать наш десант. Нет тяжелее работы, чем стрельба по берегу. Зенитный огонь самый короткий: три-четыре залпа, и уже ясно кто кого. По морской цели можно успеть выпалить по двенадцать — пятнадцать снарядов на орудие. Здесь же без счета. А фугас весит пуд.
К нему полупудовая гильза с порохом. Всё соединено-запрессовано в унитарный патрон, который надо в темпе поднять из погреба и толкнуть в камору. Каждые десять секунд — ревун.
Ненасытная утроба проглотила две тонны боезапаса за восемь минут. Усталая палуба, то приседая под грузом, то с облегчением вскидываясь, швыряла подносчиков к борту. Краска на стволе пошла пузырями, и казалось, пушка тоже вспотела от натуги на морозном ветру. Орудийный расчет Рочина выдерживал темп из чистого упрямства. Второго дыхания тоже перестало хватать, а третьего природой не предусмотрено. Сам старшина ничего не слышал, кроме мерного рыканья, никого не видел, кроме своих орлов. И напрасно не видел. Оглядка в бою нужна не меньше сосредоточенности.
Волна, оглушив Рочина, пресекла дыхание. Лютый холод подхватил его и волок, а в наушниках в аккурат новое целеуказание вместе с приказом подать дистанционные гранаты. И Рочин догадался — воздушный налет. Следовало отрепетовать, то есть повторить команду, но вода горечью и солью хлынула в горло. Телефонный кабель, натянувшись, сдернул наушники вместе с каской. Рочин испугался, что без него братва растеряется, все молодые еще. Они не сумеют совместить, как положено, риски на головке взрывателя и дадут пустой «клевок». Яков допустить такой позор не мог. Рванувшись, он успел поймать в потоке леерную стойку и обсох на весу за бортом. Другой волной его бы смайнало-сбросило, но не было второй. И первая тоже оказалась всплеском. Отхаркнув с руганью злую горечь, простоволосый и мокрый, Рочин вскинул тело, как на турник, и обратно на палубу. Он успел как раз к ревуну — в ход пошел бризантный боезапас.
Ничего не было надежней басовитой сотки-заступницы. Около неё только поворачивайся, чтобы накормить зевластое жерло. Рочин терпеть не мог оставаться зрителем, когда применяли другое оружие. Ему всегда чудилось, что те промахнутся, и заранее била мелкая дрожь. Но братва из одной команды тоже не по уши деревянная. Каждый зенитчик или торпедист понимал: в случае чего рыб кормить всем. Еще хуже было бездействовать, когда отражали атаку вовсе неизвестные парни, которым, может, и задача не по плечу. Полярной ночью в базе вообще запрещали стрелять по самолетам, чтобы не раскрывать огнем места стоянки кораблей. Сторожевик таился у причала. От воды парило, как в бане. Оглашенно лаяли береговые батареи, и метались по небу прожектора. А только у врага не так уж много лопухов. С лопухами было бы проще: «Малой кровью, могучим ударом». Сверху равнодушно, настойчиво зудели моторы. Потом вспыхивали САБы, медленно опускаясь на парашютах. Взрывы раскачивали стенку, горячим шквалом полыхали в лицо. Но корабельные пушки молчали. Не было приказа. Без приказа нельзя.
Ночные бомбёжки, изматывая, стоили десятка прямых поединков. Раз-другой всё обошлось, а восьмого декабря, в двадцать один ноль-ноль, сторожевик вздрогнул от залихватского свиста, осел кормой и тут же вскинул её от крутого удара. Пробив насквозь кубрик нижней команды, фугаска рванула под килем. Аварийная партия быстро завела рейковый шпигованный пластырь, но осколки прошили обшивку и второе дно. Хлестала густая вода с мазутом. Переборки вздувались пузом, ломая расклиненные бревна подпор, слезились и лопались по клепаным швам. Продавило преграду на сто восьмом шпангоуте, затопив кормовой погреб с боезапасом. Еще полчаса шла борьба на новом рубеже, а помощи во время налета ждать не приходилось. Стальные листы опять поползли под напором. Иззябших «духов», иначе говоря — кочегаров, выловили, как рыб, из люков левой машины. Все знали — прорыв воды в следующий отсек поглощает запасы плавучести. Переборка у второго котельного отделения стала последним рубежом. Но как ни подпирай её бревнами, она тоже оказалась хилой, не прочнее других. И тогда поступил немыслимый приказ покинуть сторожевик.
Яков Рочин не ожидал такого исхода. Он не успел затолкать в жерло своей сотки пушечного сала, не защитил консервированной смазкой затвор и механизмы поворота. «Теперь заржавеет», — терзался он, глядя на конвульсивно вздрагивающий корпус. Потом враз оборвало швартовы, и корабль опрокинулся на борт.
В голове не укладывалось, что это конец, что можно потонуть вот так у причала, без единого выстрела. За семь лет сторожевик стал привычным, как родной дом.
От жирной шинели Рочина разило нефтью. Рабочее платье облипло и схватывалось панцирем на ветру. Но Яков не замечал ничего. Тупо смотря на чёрную воду, уже сомкнувшуюся над кораблем, он был вроде погорельца на пепелище…
И вот снова та же стальная «коробочка». Та же верхняя койка в первом кубрике и знакомый до любой заклепки железный угольник — кница, о которую набито столько шишек в прежние годы. Пока Яков путешествовал в спецкоманде и воевал на тральце, старый корабль подняли, отремонтировали, ввели в строй. И должность у Якова прежняя — командир носового орудия. Вот только сотка его уже никакая не заступница. Она теперь вроде игрушки для пальбы в цель. И дни опять тягуче одинаковы, согласно распорядку дня и отрывному календарю.
Десятый год уходил за корму, а службе не было конца. И где-то пропала охота. Говорили, перво-наперво надо передать опыт, что флот не может без кадров, но кто скажет, как дальше жить. Капитан-лейтенант Рудых, видно, не зря объяснял, что наша Земля и та не просто крутится вокруг Солнца, а летит вместе с ним, вертясь по спирали. И человеку скучно топтать свои же следы. По выходе из госпиталя, обрадовавшись как дурак, Рочин сам напросился сюда. И чего нашел? Начальство сплошь новое. Кореш Иван Буланов, хотя он с зенитных автоматов, тоже китель надел. А что Ванька знает про главный калибр? Лейтенант Чеголин туда же — командует. Рыжим вот при всех обозвал.
Тяжко было старшине первой статьи Якову Рочину, а выхода он не находил.
Глава 3. Сказки мне ни к чему
Минул срок возвращения Петра Осотина из командировки, но на «Тороке» не было ни баббита, ни главного боцмана, ни каких-либо известий о нем. Его подождали еще три дня — льготное время, отпущенное на дорожные неурядицы. Дальше полагалось официально донести о случившемся для организации розыска безвестного дезертира. Капитан-лейтенант Выра не хотел такого поворота событий и потому с явным удовлетворением расписался на семафоре, принятом сигнальщиками за час до исхода всех сроков. В тот момент он не задумывался о том, что могло приключиться с боцманом, который, как оказалось, угодил в госпиталь. Главное, Осотин не пропал и, больше того, направил с оказией посылку с чушками белого антифрикционного сплава.
Правда, доктор Роман Мочалов воспринял новость с чрезвычайным сомнением:
— Здоровенный дубина, — объявил он.
— Ежели конкретно рассуждать, выходит, несчастный случай, — предположил Макар Платонович Тирешкин, с некоторым облегчением полагая, что его лично не призовут к ответу за плохое воспитание пострадавшего. — То есть, «ехал к Фоме, а заехал к куме».
— А металл отправил заранее? — спросил механик. — Или потом?
— Да он сам кому хочешь нанесет телесные повреждения, — хмыкнул доктор.
— Точно, — кивнул Виктор Клевцов. — Рукопашному бою «обучал сам.
— Ты? — не поверил Чеголин.
— Полгода был в нашем разведотряде…
— Пусть лечится, — заключил Выра. — И на том спасибо, что не сорвал ремонт.
Настроение у него поднялось. После постановки корабля в док Василий Федотович разрешил культпоход в кино и пошел сам. Демонстрировали фильм, который снимался у всех на глазах. Еще недавно народный артист Бабочкин в форме капитана второго ранга, вживаясь в роль, разгуливал по причалам. Его, конечно, узнавали — живой Чапай, и встречные на полном серьезе отдавали ему честь. Для съемок выделили лучший корабль — лидер «Баку». И картину ставил знаменитый Эйзенштейн, который, можно сказать, вошел в историю на флотской тематике.
И вот на экране титры: «Повесть о Неистовом». Фильм, скорбный и торжественный, был посвящен тем, кто не вернулся. Матрос с торпедированного гибнущего эсминца бросался в море с противотанковой гранатой, чтобы взорвать ею всплывшую вражескую подлодку. Но некоторые зрители реагировали на подвиг как-то несерьезно. Артём Чеголин заметил, как смеялся главный старшина Буланов, ехидничал Рочин, скептически улыбался командир корабля.
Василий Федотович попутно объяснил, что матрос, заменивший актера в прыжке за борт, получил воспаление легких и после долгого лечения в госпитале списан с флота по чистой. Матрос только лишь окунулся, пробыв за бортом не более трех минут, а герой фильма преодолел два-три кабельтова, то есть не менее полукилометра. Неведомо как, ему удалось не закоченеть и метнуть тяжелую гранату. Рубка вражеской субмарины сразу же скрылась в дыму и пламени.
Ну ладно. Киношники малость загнули для эффекта. Это бывает. Динамичный сюжет всё равно держал лейтенанта Чеголина в напряжении. На помощь нашему погибающему эсминцу спешили другие боевые корабли. Им удалось подобрать из воды радиста, который был без сознания и сжимал в иззябшей, задубеневшей руке медную пуговицу от бушлата. В лазарете пуговица эта непроизвольно застучала по табуретке, и другие действующие лица из фильма прислушались. Оказалось, это не судороги умирающего, а морзянка, текст последней радиограммы с координатами боя. Радист погибал, не приходя в сознание, но он исполнил свой долг.
В зрительном зале смеялись. Только Макар Платонович Тирешкин и старший лейтенант медицинской службы Мочалов не находили повода для неприличного веселья. Первый по долгу службы, а второй выругался и сказал, что перед отъездом в Одессу для съемок героического заплыва в теплой черноморской водице киношникам полезно было бы поглядеть, как ведут себя крысы, когда их выкидывают за борт. Уж грызунам-то живучести не занимать.
Это было уже слишком. Циничное сравнение Романа покоробило лейтенанта Чеголина. И вообще придирки показались ему мелочными. Артисты играли замечательно. Какое дело широкому зрителю до подробностей, заметных лишь морякам? Тем более что фильм не был документальным. Фильм обобщал художественно, и капитан третьего ранга Тирешкин после сеанса рекомендовал широко использовать картину для воспитания личного состава на боевых традициях. А старшина первой статьи Рочин при выходе из кинозала высказался коротко, но исчерпывающе. Как в душу плюнул. Чеголин не мог пропустить его ругань мимо ушей, тем более что она была публичной.
— Стыдно так говорить о легендарной эпопее, которая посвящена, вам!
— Мне? Я, между прочим, тонул, а эти только купаются.
— Такой случай вполне мог произойти на другом море.
— Нигде не мог, — решительно возразил Рочин. — Подлодка не танк. Гранатой не подорвешь.
— Повторяю, это как бы легенда!
— Сказки мне ни к чему. Они нужнее в детском саду…
Это был вызов, дерзкий намек и на возраст Чеголина, и на прозвище, пущенное в ход «командором». Как выйти из положения? Наказанием старшину не разубедить, а достойных слов для отповеди не находилось. И Виктор Клевцов тоже не поддержал.
— Видишь ли, Артём. Каждый имел только одну жизнь, и воевали мы без дублеров.
— Но это же кино…
— В том-то и дело. Только кино…
Нелегко снять такой фильм, чтобы зрители позабыли где они находятся, особенно те из них, кто может сравнить сюжет со своим опытом. Иногда это случается, но всё же война на экране, вполне натурально грохочущая взрывами, не ворвется в зал, не поразит никого, подспудно высекая у каждого холодок раздумий о собственном жребии. Зритель переживает всегда за других, понимая, что это «не про него». Как бы ни совершенствовалась кинотехника, она не способна достигнуть эффекта присутствия в бою. Бойцы, сражаясь, не знали, кто из них упадет и кого потом воплотят в бронзе и мраморе. Они шли под огнем потому, что иначе было нельзя.
На обратном пути Виктор Клевцов попытался, как мог, выразить свое отношение к увиденной кинокартине, но Артём замкнулся, усмотрев в этом оправдание наглости старшины первой статьи Рочина, а Нил Пекочинский, солидно кивнув, присовокупил:
— И главное, потому, что бойцы не ведали страха в борьбе!
— Таковых не встречал…
— Позволь, но ты сам утверждал, что ходил в разведку!
— Приходилось…
— Тогда тебе не повезло, — пожалел Клевцова минёр. — Вот если бы ты знал любого из тех, кто сейчас в музеях…
— Почему же? Знал. Один из них был моим командиром…
— По-твоему, и он был трусом?
— Я так не говорил. Он же был дерзок и хитер, как лис, — всё это правда. Но, между прочим, мой командир был вспыльчив, во гневе не всегда справедлив, и служить под его началом было сложно.
Уточнив, о ком именно идет речь, Чеголин переглянулся с приятелем. Фамилия оказалась до того громкой, что обычно не употреблялась без слова «легендарный». Сомневаясь, Артём предположил, что всё дело в личной неприязни рассказчика.
— Его, выходит по-твоему, не любил личный состав?
— Уточняю, мне не пришлось быть рядом с командиром в момент, когда он вызвал огонь на себя, только потому, что находился в госпитале. — Клевцов моментально ухватил подспудный смысл вопроса. — Какой он ни был по своему характеру, с ним побеждали и возвращались. А как было бы с другим командиром, еще неизвестно. Сколько раз бывало — уходили ребята на задание, и концы в воду.
— Пожалуйста, не обижайся, но зачем рассказывать о характере, если он вызвал огонь на себя? — Пекочинский хотя и сбавил тон, но продолжал гнуть свою линию.
— Гибель отряда ничего не меняет. Противник был не дурак. Убежден, что наш командир и тогда сделал всё, что только возможно.
— Стоит ли тогда уточнять про его характер? Похоже на сплетни, и больше ничего.
— Вот как? Прошло всего несколько лет, а у вас уже все герои на одно лицо: «не знали страха в борьбе» — и кончен разговор. К чему нам «жития святых»? Что в них поучительного для атеистов?
— Пусть так, но тогда расскажи про Осотина, — вмешался Артём Чеголин. — Он тоже герой или просто болтун?
— Ни то, ни другое. Не трус, воевал… Выра ценит.
— Тогда почему он тебя боится?
— Не любишь боцмана? — спросил Клевцов.
— Не хотел бы я с ним дальше служить…
— Сие от нас не зависит. Хотя, как теперь часто пишут: «в разведку его бы не взял».
— Как? — возмутился Пекочинский. — Сам утверждал, что ходил с ним на задания.
— Думаете, был выбор? Присматривались, конечно. При комплектовании групп учитывали личные качества. Алгебраическая сумма всегда оставалась положительной.
Клевцов рассмеялся, взглянув на квадратные глаза собеседников. Те же не то чтобы не верили, они представить себе не могли, чтобы какая-то «сумма» имела значение при действиях в тылу у противника. Как брать человека в разведку, если ясно, что брать нельзя? Часто бывает, что задним числом люди принимают следствие за аргумент. Ведь ясность возникает в результате поступков, не до них. Прогноз поведения человека в тех или иных обстоятельствах штука тонкая и оправдывается не чаще метеобюллетеней. Клевцов не стал вдаваться в дебри психологии. Он был практиком и потому затруднялся сформулировать принципы комплектования разведывательных групп.
— Верили в силу коллектива. И еще помогал естественный отбор. Погоду делали те, на кого можно положиться…
Странный получился разговор, странный и тягостный. Кто спорит? Без прошлого нет настоящего и не может быть будущего. Но какая память благотворней: живая или торжественная? Бронза и мрамор гладки и безупречны, им отдают почести, и это правильно. Однако получалось, что нельзя сопереживать облегчённым, благопристойно изваянным символам. Ветераны смеялись в кино. Но разве не правильнее поманить только хорошее? А ветераны с их порою жестокой правдой постепенно уступят место другим поколениям.
— Человек всегда человек, — возразил Клевцов. — Меньше неожиданностей, больше стойкости.
— Для того существуют славные боевые традиции, — строго заметил Пекочинский.
— Ты опять про то, как не знали страха в борьбе?
— Но еще существуют легенды, — вступился Чеголин. — Кто верит, что Данко зажег свое сердце? А оно светит.
— Штабной документ о гибели корабля в бою тоже назван «легендой», — сказал Виктор. — Спросите у капитан-лейтенанта Выры. Он хорошо знает одну из таких легенд.
Легенда о гибели тральщика
— «Ночь, густой туман… Мрачен океан. Мичман Джон угрюм и озабочен…» — Максим Рудых мурлыкал под нос, чтобы не дремать. Он, как и мичман из английской песенки, третьи сутки не спускался с открытого ходового мостика. Только тумана не было. И за бортом плескался не океан, а всего лишь Карское море с тусклой, словно бы хворой волной. Такой она кажется всегда, если температура воздуха падает ниже нуля, а насыщенный солью раствор, сопротивляясь и дрыгаясь, не дает схватываться зреющим внутри иглам. Вода как бы покрывается плесенью и не идет ни в какое сравнение с вольной Атлантикой.
— «Терпенья много. Держи на борт! Ясна дорога и… близок порт. Ты будешь первым. Не сядь на мель…»
«Близок? Как бы не так!» — думал капитан-лейтенант Рудых. Проклятая мелодия крутилась в его мозгу, словно заезженная пластинка, а напевать дальше нельзя. Еще накличешь беду.
Следующий куплет был о том, как, вздрогнув всем корпусом, истребитель, то есть по-нынешнему «охотник за подводными лодками», налетел на мину. Русский перевод излагал ситуацию так: «Вдруг неясный гул корпус содрогнул…» И это никак не соответствовало действительности. Какой там, к черту, «гул», да еще «неясный»? Яснее не бывает. Несколько центнеров особой взрывчатки, вывернув море, рявкают коротко, глухо и беспощадно. Именно так подорвался грузопассажирский пароход в шестидесяти милях от острова Белый. Это случилось в начале сентября на глазах у Максима в девятнадцать часов пятьдесят семь минут по вахтенному журналу. Три корабля охранения в один момент потеряли главную цель, ради которой их направили сюда из Архангельска. Пароход не удалось уберечь. Ближайший из тральщиков рванулся для того, чтобы снять хотя бы пассажиров. Но вода вновь вздыбилась с тем же характерным звуком, проглотив боевой корабль вместе с командой.
Оставшийся тральщик нервно замигал сигнальным фонарем-ратьером. Флагман категорически запрещал Максиму приближаться к тонущему пароходу, полагая, что тот находится на минной банке. Далее флагман информировал о том, что, отдав якорь, сам возглавит спасение людей. Капитан-лейтенанту Рудых было приказано направить в распоряжение флагмана шлюпку и катер, а самому курсировать в отдалении, обеспечивая охранение спасательной операции.
Семафор командира конвоя занесли дословно в журнал. Рудых расписался в знак того, что понял и принял к исполнению. Он не подозревал о том, что подлинность этого распоряжения скоро поставят под сомнение, что установить истину окажется нелегко, поскольку автора семафора уже не будет в живых, а Максиму, едва вступившему в командование новым кораблем, предъявят невероятно позорное обвинение в трусости.
Представитель военного трибунала сомневался по должности. Поступить иначе он не мог. Рудых объяснил, что командир корабля обязан подчиняться безоговорочно. Не было, у Максима оснований и прав не доверять покойному флагману. Кто знал, что враг впервые применил новое оружие? Тугой, задушливый удар не отличался по звуку от взрыва неподвижно лежащей на грунте мины с магнитно-акустическим взрывателем. Район считался тыловым. Здесь изредка появлялись только отдельные бомбардировщики. Поэтому гидроакустическая вахта на тральщиках неслась поочередно. А на поверхности моря не было замечено ни перископа, ни бурлящего следа обычных парогазовых торпед, которые и рвутся совсем иначе: резко и звонко.
Однако балтийскими водолазами уже была поднята вражеская подводная лодка «U-250», потопленная в Выборгском заливе, и там нашли странные торпеды, которые можно выпускать без точного прицеливания через перископ. Акустические приборы наводили торпеду на цель, и она взрывалась без громоподобного кряканья под воздействием магнитного поля корабля. Через несколько месяцев были определены и слабые стороны трофейного оружия. Способы обнаружения, уклонения и борьбы с новой торпедой стали известны всем морякам.
Посылая Рудых свой последний семафор, командир конвоя ничего об этом не знал. Он принял самое целесообразное решение на основании прежнего боевого опыта. Спасательные катера и шлюпки непрерывными рейсами снимали людей с тонущего парохода, но тот из тральщиков, который стоял на якоре, представлял собой легкую цель для удара из-под воды.
— Положим, вы исполняли приказ, пока не погиб флагманский тральщик, — допрашивали Максима. — А потом? Почему не попытались атаковать противника, почему сбежали из района боя, не подняв на борт спасательные средства, бросив оставшихся там людей?
— «Вот летят они, погасив огни, рассекая мрачную пучину…» — с отвращением к самому себе мычал капитан-лейтенант Рудых, вспоминая, что это и впрямь выглядело бегством.
К полуночи спасательные работы почти закончились. На борт к Максиму тоже доставили сто семьдесят шесть продрогших испуганных пассажиров половина из них были женщины. Каюты, кубрики, лазарет, кают-компания и столовая команды — всё было переполнено. Тральщик не трамвай чтобы принять тройное число людей. Кое-как разместились, но использование оружия с палубы было исключено. Возвращаясь очередным рейсом с тонущего судна, старшина первой статьи Рочин закричал с катера, что он заметил нечто вроде рыбацкой лайбы под непонятными багровыми парусами.
— «Под цветными парусами корабли уходят в море, корабли…» — легкомысленно комментировал корабельный доктор, вообще помешанный на поэзии.
Чтобы здесь, в районе пустынной Обской губы, кто-нибудь промышлял, да еще под парусом, годным лишь для красивых стихов?
— «На полярных морях и на южных, — не унимался доктор, — по изгибам зеленых зыбей, меж базальтовых скал и жемчужных, шелестят паруса кораблей…»
— Прекратить декламацию! — зарычал Максим. — Или вам мало своих медицинских забот?
Вот когда у него мелькнуло смутное подозрение. Если рыбаки, почему они не предложили помощи? И парус с претензией. Насколько Рудых понимал, промысловикам не до романтики. У них производственный план. Перегнувшись через ветроотбойник мостика, капитан-лейтенант спросил у старшины, не ошибся ли он. Мало ли что почудится в призрачных арктических сумерках. Нет, парус наблюдал не только старшина спасательного катера, и, несмотря на поздний час, видимость в этих широтах была еще хорошей.
— Открыть вахту! И будьте внимательнее, — на всякий случай предупредил Максим гидроакустика Тетехина. Подозрение возникло, но оно казалось невероятным и требовало подтверждения.
Третий взрыв, который разнес неподвижный флагманский корабль со всеми, кто был на его борту, раздался через четыре часа сорок минут после начала спасательных работ. По звуку и по характеру гибели тральщика это уже совсем не походило на действие донной мины.
— Контакт! — доложил Захар. — Эхопеленг…
Обнаглев от безнаказанности, подводные лодки шныряли вокруг и даже действовали из позиционного положения. Они маскировались цветным брезентом, натянутым на выдвижные устройства. Последний корабль из уничтоженного конвоя можно было спасти только маневром. Решение диктовалось тактической обстановкой, и оно созрело профессионально, почти автоматически. Противолодочным зигзагом на полной скорости тральщик оставил район боя для того, чтобы доставить в ближайший арктический порт хотя бы тех вызволенных из беды пассажиров, которые находились на его борту.
— «Направляя руль прямо в Ливерпуль, мичман Джон не может быть неточен…»
Идиотская песенка прилипла смолой. Что значит точен или неточен? Всё решали секунды. Эмоции повлекли бы колебания, а значит, являлись непозволительной роскошью. В открытом море, на катерах и шлюпках остались не только абстрактные лица, с которыми Максим никогда не встречался. Среди них находился собственный штурман и девять гребцов. Среди них был и Яков Рочин, первым обративший внимание на подозрительный парус. Позже, когда появилось время для самоанализа, Максиму не пришло в голову «подстелить соломки» в корабельных журналах, чтобы они выглядели поубедительнее. Следователь трибунала, дотошно копаясь в документах и сопоставляя их с протоколами допросов, искал истину. Но кто мог указать капитан-лейтенанту Рудых другой выход, как более достойный?
Когда улеглась горечь от тяжелых потерь, а летчикам полярной авиации удалось подобрать часть обмороженных людей с брошенных спасательных средств, командующий решил, что трусости, пожалуй, не было. Адмирал был моряком настоящим, а кропотливая работа следователя помогла ему объективно оценить обстановку.
— Но надо еще доказать, можете ли вы командовать кораблем, — сказал он Рудых.
Что же, Максим не возражал. Больше того, он стремился к тому же, предложив отчаянный план. Капитан-лейтенант просил отпустить тральщик на «свободную охоту», отпустить без сопровождения и тактического обеспечения, с тем чтобы разыскать противника и отомстить ему в честном поединке.
Трезвые штабные операторы сочли это авантюризмом. Обоснованные расчеты показывали, что только поисково-ударная группа из двух тральщиков может рассчитывать на уверенный успех, что Карское море большое и смешно предполагать возможность встречи с подлодкой на прежнем месте. Попытка самоутверждения могла привести к новой невосполнимой потере. Особенно после подтверждения слухов о наличии у противника новых бесследных торпед. Не разумнее ли попросту заменить капитан-лейтенанта Рудых? Но командующий был моряком настоящим. Он знал, что обвинение в трусости, хотя и спорное, повисло клеймом не только над командиром тральщика. Экипаж дружно просился в поиск. Это не укладывалось в бесстрастные штабные расчеты, а значило немало. Командующий учел всё и рискнул ходатайство удовлетворить.
— «Ты будешь первым. Не сядь на мель. Чем крепче нервы, да, да, тем ближе цель…»
Всё упиралось в нервы. Никто не смыкал глаз. В акустической рубке беспрерывная вахта. Радиометристы пялились в непривычный еще радар, где круглую трубку экрана размеренно обегал световой радиус и под ним вспыхивали, мерцая, зеленоватые контуры берегов. Если обнаруживалось отдельное зернышко, вахтенные, щелкнув тумблером, укрупняли масштаб, но чаще видели радиопомехи. Пока не было ничего надёжнее морского глаза опытных наблюдателей. И точно, сигнальщики не подвели.
На пятые сутки свободного поиска в лучах рассветного солнца был замечен легкий, стелившийся по воде дымок. Через бинокли удалось рассмотреть кургузый поплавок, фыркающий, как курильщик — кольцами, отряхивая волну. Это было особое устройство — «шнорхель», который позволял ходить под дизелями и заряжать аккумуляторные батареи, не всплывая. Противник не заметил тральщика. Они обнаружили его первыми. Теперь всё решали собранность и натиск.
— Атака подводной лодки! «Сэр Захар», давай контакт! — обрадовался Рудых.
До цели оставался всего один кабельтов, когда «шнорхель» утоп и вместо него проклюнулся тощий глазок перископа. Поздно они спохватились. Команда тральщика уже заняла места по боевому расписанию. Даже обмороженный, сбежавший из госпиталя Яков Рочин, прискакав из лазарета на костылях, велел привязать себя к релингам около носовой трехдюймовки.
И капитан-лейтенант Рудых не зря хлебнул заморского гостеприимства, тренируясь на «столе атаки», во Флоридском центре противолодочной обороны, а потом воевал на деревянных «больших охотниках». Здесь, на тральщике типа «АМ», стояло такое же оружие, только корабль был в семь раз крупней.
Перо рекордера, мотаясь поперек движущейся бумажной ленты, чертило лесенку из штрихов. Наклон лесенки, измеренный специальной линейкой, сразу давал момент и точку прицельного залпа. Ультразвуковые сигналы высветили лодку в глубине и половина серии — двенадцать бомб из многоствольной установки — веером устремились вперед. Бомбы «хеджихога» были контактными. Если взорвется хотя бы одна, значит угодила в цель. И тральщик на полной скорости подскочил от гидравлического подводного удара. На поверхности расплывалось радужное пятно.
Нет, торжествовать было рано. Штриховая лесенка рекордера, изогнувшись знаком вопроса, показывала, что контуженный враг маневрировал, пытаясь уйти. Потом перо пошло чертить вхолостую. Шумы собственных винтов мешали Захару Тетехину. Поисково-ударная группа потому и состояла из двух кораблей: пока атаковал один, другой имел возможность стоять, не упуская акустического контакта. Но Максим не решался застопорить машины, считая, что на ходу меньше риска получить ответный удар торпедами. Максим был обязан действовать за двоих, бить и бить сосредоточенными залпами ныряющих бомб, не давая противнику опомниться и вынуждая метаться в поисках выхода.
Враг был опытен. Это чувствовалось по его «почерку». Максиму Рудых пришлось бы туго, если бы не частичный успех первой атаки. Скользкий хищник истекал дизельным топливом. Всплывая чёрной кровью, след на поверхности помогал как-то ориентироваться и восстанавливать контакт с целью. Вдобавок заморский «хеджихог», что в переводе на русский означало «ёж», показал себя колючим не только для противника. Остроумная идея приспособить тяжелый миномет для борьбы с подводными лодками конструктивно была не доработанной. То ли от качки, то ли от мороза хвостатые бомбы иногда застревали в стволах. При втором залпе минёрам удалось подхватить одну из таких бомб и, отчаянно рискуя, сбросить за борт. Остальные бомбы, хотя и долетев, молчаливо канули в воду.
Промах ожег досадой. Противник, резко меняя курсы и скорость, сбивал прицел. Торопиться следовало, а спешить было нельзя. Максим Рудых знал, что боезапас кончается и теперь в его распоряжении последняя серия в двадцать четыре штуки. Он рискнул застопорить машины, и чуткий ультразвук тут же отреагировал ровным графиком. Штрихи рекордера свидетельствовали о том, что поврежденная лодка мнила себя оторвавшейся от преследования. Наступил переломный момент боя, от которого зависело всё, и Рудых не допустил перехвата инициативы. Стремительным рывком подскочив к расчётной точке, он выпустил оставшуюся серию целиком. И опять одна из бомб осталась в стволе. С мостика было видно, как старшина минёров извлек её, грозно шипящую, из направляющей трубы.
Море вспухло от взрыва, но атака еще не закончилась. Без промедления за корму плюхнулись трехсотшестидесятифунтовые бочонки, через две секунды такие же цилиндры закувыркались в стороны от пинка бортовых бомбометов, еще через три секунды за корму пошла вторая серия железных бочек с гидравлическими дистанционными трубками. Восемь центнеров гремучей смеси рванули почти одновременно гигантским крестом. И море выплюнуло обломки и рваную дребедень…
— «Ты будешь первым. Не сядь на мель…»
Песенка жужжала в башке у Максима нахальной мухой, отлетая и снова усаживаясь на темя. Непостижимо как, но её слова до удивления совпадали с событиями последних недель. И гибель транспорта, и подозрения в трусости, и победа в отчаянном единоборстве над вражеской лодкой — всё укладывалось в нехитром боевике времен первой мировой войны. Максим злился, понимая, что это не более чем блажь, случайная игра воображения. Но злись не злись, а уже в следующем походе, после триумфального возвращения в маневренную базу, «амик» Максима встретился также и с мелью, причем в таком месте, где на морской карте были показаны ровные, без перепадов глубины. Молодой гидроакустик, сменщик Захара Тетехина, доложил эхопеленг на подводный объект. Вахтенный офицер, ничтоже сумняшеся, атаковал, а днище вдруг заскрежетало на каменьях. Отделались в общем легко. Пробоин не было. Но антенна гидролокатора с пьезоэлектрическим генератором ультразвука, опущенная под днищем, обломилась. Оглохший тралец нуждался в ремонте. Его включили в состав конвоя, следовавшего в Архангельск, но поставили замыкающим в кольце охранения.
Подводные лодки рыскали волчьей стаей, и четыре транспорта с боезапасом и продовольствием для действующего флота представляли для них лакомый кусок. Атаку ждали в любой момент. Время сочилось по минутам. Капитан-лейтенант Рудых коротал его, мотаясь по мостику с крыла на крыло. Ни прилипшая песенка, ни мысли о событиях недавнего прошлого не мешали командиру быть в готовности к немедленным действиям. Третьи сутки конвой шел ползком, приноравливаясь к неспешным транспортным судам. К постоянной угрозе атаки не привыкнуть. Торпедный удар можно отвести, только лишь упредив. Как это сделать, если акустическая вахта снята, рекордер обесточен, а новый боекомплект ныряющих глубинок «хеджихога» без прицела ничего не стоит? Правда, на тральщике было и другое противолодочное оружие, и традиционные средства наблюдения. Но в октябре дневной свет, коченея, сходил на нет. Снежные заряды застилали обзор. Густая вода, набрякнув шугой, искрилась зеленоватыми зернами, как на экране радара. Светляки вспыхивали под винтами, и каждый корабль конвоя волок за собой предательский мерцающий след. Еще неделя-другая, и Карское море скует и запорошит. Оно станет демилитаризованным. Тральщики сопровождали последний караван, и было важно не допустить потерь до зоны действия нашей авиации.
Максим не подстегивал своих наблюдателей. Меняясь через два часа, боевые вахты глядели по отведенным секторам, как будто мрак мог расступиться в награду за упрямство, за бдительность. А командир корабля не ложился третьи сутки, разгоняя свинцовую дрему английской песенкой. Её маршевый ритм набил оскомину еще за океаном, а по-русски её исполняла на «бис» та миловидная особа, из-за которой они с Вырой имели служебные неприятности. Два первых куплета и бодренький припев Максим запомнил дословно, а концовка начисто ускользала. Скорее всего, там шла речь о борьбе за живучесть. Максим повторял текст снова и снова, надеясь вспомнить третий куплет. Это занятие отвлекало от сна.
— «Терпенья много. Держи на борт. Ясна доро…»
В кромешной тьме справа и спереди по курсу возник светящийся жгут. Максим заметил его раньше сигнальщиков. Подавившись на полуслове, он автоматически скомандовал на руль и включил колокола громкого боя. А световая дорожка разматывалась стремительно. Торпеда шла со скоростью двадцать-двадцать пять метров в секунду наперерез последнему транспорту. В распоряжении у капитан-лейтенанта Рудых оставалось самое большее полминуты, но его замыкающий тральщик находился слишком далеко. Другой корабль охранения, вырвавшись вперед, подставил свой борт и тотчас переломился в огненном венце.
Быстроходный сторожевик из состава морской пограничной охраны внешне напоминал «Торок», только был куда современнее. Он утонул мгновенно. На поверхности могли остаться люди, которых еще можно было спасти, но капитан-лейтенант Рудых уже бомбил море в приблизительной точке выпуска торпеды. Гидравлические удары огромной силы глушили рыбу, и не только её.
Когда в горячке рукопашного боя кто-либо бросается на амбразуру, заслоняя других, он принимает решение сам и для себя. Командир пограничного корабля жертвовал всем экипажем, и приказ его был исполнен без колебаний. Моряки, оставшиеся в живых, заслуживали почестей, а Рудых бомбил, причем по площадям, без особой надежды уничтожить противника. Стоило ему поступить иначе, чисто по-человечески проявляя гуманность к товарищам по оружию, как подводная лодка без помех заняла бы новую позицию для атаки.
После бомбометания спустили на воду катер и обнаружили двоих моряков-пограничников. Один из них скончался еще на катере, другой — в лазарете тральщика. Капитан-лейтенант Рудых донес об этом командиру конвоя и получил приказ оставаться в районе гибели пограничного «эскаэра», продолжая поиск подводной лодки. Первый момент Максиму захотелось переспросить. Неужели флагман не понимал, что тральщик без акустики не в силах обнаружить подводную лодку и тем более уничтожить её? Лестная ссылка на боевой опыт Рудых в полученном семафоре выглядела скорее иронически. Но приказы обсуждению не подлежат.
— Дать квитанцию, — распорядился капитан-лейтенант. «Квитанцией» на флоте называется специальный ответный сигнал, показывающий, что депеша получена, понята и принята к исполнению.
Четыре транспорта с грузом исключительной важности медленно отодвигались в сопровождении оставшихся кораблей охранения. Изумрудные проблески в кильватерных струях сначала поблекли и вовсе растворились в темноте…
Приказы не обсуждаются до тех пор, пока они не отошли в историю. Потом, наоборот, их начинают толковать так и сяк, стараясь извлечь опыт. И вот тут оказывается, что не все приказы поддаются логическому объяснению. Будущим исследователям не всегда слышен звон туго натянутых нервов.
Рудых подумал о том, что командиру конвоя еще трудней. У него теперь осталось только четыре тральщика, по одному на каждый охраняемый транспорт. Максим же, как месяцем раньше в свободном поиске, отвечал только за свой корабль. Сколько уже было боев, и каждый раз ему удавалось подчинять себе обстоятельства. Теперь следовало взвесить шансы противника, который представлялся Максиму зримо и всегда одинаково: лощеный корветтен-капитан с железным крестом, самоуверенный и расчетливый, а обличьем почему-то смахивающий на того ирландца-инструктора, которого Рудых одолел в учебном поединке на «столе атаки». Зримый облик врага помогал Максиму, как в шахматах, анализировать варианты на два-три хода вперед, не попадая в цейтнот. Сейчас он явно играл чёрными, но, черт подери, преимущество у начинающего партию еще не обязательно приводит к мату.
К девяти утра развиднелось, и это обстоятельство Рудых записал на свой счет. Он специально утюжил море на малом ходу прямыми галсами, чтобы вызвать на себя обычную парогазовую торпеду, от которой рассчитывал уклониться внезапным рывком. Но противнику тоже была известна маневренность тральщика и способность развить большую скорость. Максим услышал взрыв уже после того, как его отбросило к ограждению мостика, разбив лицо и обдав ледяным душем из-за борта. Корабль продолжал двигаться по инерции.
— Как же это? — оправдывался контуженный сигнальщик. — Без перископа? Товарищ командир, не было перископа.
— К вам претензий нет, — успокоил Рудых.
А кормы не существовало. Среди искорёженного металла сиротливо, страшно торчали руль и винты, задранные вверх. Остановились вспомогательные механизмы, погас электрический свет. Вахтенный моторист, не понимая, что произошло, доложил по телефону о том, что правый двигатель в норме.
— Какая норма? — перебил Максим. — Дизеля больше не нужны. Запускайте вспомогательный на динамо.
Максим почти не удивился, получив удар акустической торпедой. Когда играешь чёрными, глупо надеяться на свой дебют. Корветтен-капитан был расчетлив. И он не стал рисковать, показывая свое место. Одним ударом, тральщик был лишен хода, оборвалась радиосвязь, и помощи ждать не приходилось.
— «Бешеной волной на берег морской мичман Джон был выброшен наутро. Там нашла его Кэт из Чикаго…»
Мысли Максима, как и корабль, тоже обладали инерцией. Он вспомнил последний куплет песенки при всей неуместности её. Куплет оказался вздорным. И ничего там не было про живучесть. А тральщик между тем не тонул, аварийной партии удалось надёжно подкрепить водонепроницаемые переборки, и артиллерия находилась в полной готовности. При чем здесь какая-то Кэт? Максим слишком хорошо помнил смазливую нахалку горничную из флоридского отеля…
Песенка, отслужив, отлетела, а противник показал перископ. Корветтен-капитан наверняка гоготал в центральном посту, уверенный в полной безнаказанности. Стоп! Почему бы не убедить его в том, что не стоит тратить вторую торпеду? Мысли Максима Рудых стали четкими, холодновато-рельефными, как всегда перед боем. Итак, задача прояснилась. Тральщик был обречен, но Максим Рудых своей партии еще не закончил. Очередной ход оставался за ним…
Глава 4. «Шурик» без целлофана
Городок состоял из одинаковых двухэтажных домов, срубленных из бревен. Ресторан был тоже деревянный. Здесь подавали салат из огурцов со сметаной, обязательную тресочку по-поморски, затем глазунью или яйца вкрутую, а на третье — шоколад, сваренный с молоком, наподобие какао. Роман Мочалов, не размениваясь на остроты, попросту умножил скудный перечень блюд на четыре персоны за исключением десерта.
— Противная жидкость. Уж я-то знаю, — объяснил он, заказав другой, более убедительный напиток.
Несвежую скатерть столика украшал розовый графин, из горлышка которого торчал букет ромашек с васильками. Рядом, в массивной пепельнице бутылочного стекла, валялась щедрая порция измусоленных папиросных мундштуков, похожих на макароны по-флотски. А полевые цветы поникли. Им было неуютно среди мутного, слоистого веселья.
«…Эх, дороги. Пыль да туман…» На тумбочке около буфета трудился патефон с расслабленной пружиной. Завода на одну пластинку не хватало, и тогда ближайшая пара танцующих размыкалась. Партнер хватался за торчавшую из ящика рукоять, накручивая её торопливо и яростно, как коленчатый вал у заглохшего грузовика. Роман тоже пошел танцевать, а потом представил сослуживцам свою «старую знакомую» — Людочку вместе с подругой. За стандартным нарпитовским столиком не очень удобно сидеть вшестером, но в тесноте, да не в обиде. Доктор вообще слыл эстетом и потому предпочитал литературные ассоциации:
— «По вечерам над ресторанами горячий воздух дик и глух, и правит окриками пьяными весенний и тлетворный дух…»
Девицы смешливо переглядывались, а Роман читал громко, самозабвенно, упиваясь ритмом и рифмами:
— «В моей душе лежит сокровище и ключ поручен только мне! Ты право, пьяное чудовище! Я знаю: истина в вине».
— Ну зачем вы так, Шурик? — ласково возразила Людочка. — Мы с Тосей вовсе не пили и можем обидеться…
Приятель доктора, тот, кого царапнуло в каюте рикошетом, откровенно засмеялся. У Бебса иронически поднялась бровь, а Чеголин не понимал, о каком Шурике идет речь. Но Мочалов значительно округлил глаза, а механик, быстрее догадавшись о том, что это «псевдоним» доктора, под столом наступил Артёму на ботинок. Смущенный доктор поспешно наполнил стопки и, предупреждая неуместные вопросы, вновь ухватился за стихи:
— «Нас море примчало к земле одичалой в убогие кровы, к недолгому сну, а ветер крепчал, и над морем звучало, и было тревожно смотреть в глубину…»
Слушали доктора невнимательно, и тогда он предложил двинуть к Людочке в гости.
— Я — пас, — меланхолично заметил Бестенюк. — А ты не забудь о том, что выход — в обычный срок.
Приятель Мочалова тоже не поддержал этой идеи. Тогда Роман отозвал в сторону Чеголина.
— Пойдешь?
— Зачем?
— Чудак. Она же с подругой.
— Роман! У тебя же есть другая… знакомая.
— Какую имеешь в виду?
— Ну в нашем штабе она, в машинописном бюро…
— А! С ней всё кончено. Видишь ли, она не понимает стихов.
— Эти девицы, думаешь, понимают?
— Не хочешь, живи монахом! — неожиданно рассердился Мочалов и побежал к буфетчице запасаться «сухим пайком». Если бы только сухим! Освободив графин от васильков, он швырнул веник под стол, а посуду приспособил под пиво.
— Шурик, ты прелесть! — сказала Людочка. — А графин завтра сама принесу.
Её подруга сомкнула губы в ниточку. Тося презирала нерешительных. Под её взглядом как-то не отдыхалось, и компания поспешила расплатиться…
Утром на «Тороке», как всегда, подняли пары и прогрели машины. Но доктор отсутствовал. Узнав, что он понес поэзию в массы, Василий Федотович спросил, как это допустили.
— Разве он несовершеннолетний? — улыбнулся Бебс.
— Адрес надо было узнать, — резко сказал Выра. — Ладно, покуда оба свободны.
Выход в море задержали на полчаса, и всё это время Чеголин с Бебсом поглядывали на пустынный причал. Им было ясно, что Роман погорел. Встреча с комендантским патрулем, нежелательная сама по себе, была всё же наиболее благоприятным из равновозможных вариантов. Мрачные предчувствия их не обманули. За несколько минут до аврала из-за портового пакгауза осторожно выглянула чья-то всклокоченная голова. Человек в мокрой майке и трусах, весь заляпанный мазутом и глиной, ринулся к борту.
— Куда прешь? — преградил ему путь бдительный дежурный по низам и вдруг узнал пропавшего доктора. Только модельные лакирашки, надетые на босую ногу, напоминали о том, что накануне старший лейтенант медицинской службы выглядел совсем иначе.
— Только тихо, — простуженным баритоном сказал Мочалов и грациозными скачками проследовал к себе в каюту.
Обычно он всегда делился своими приключениями, которые выглядели увлекательно. Они как бы сверкали в блестящей оболочке стихов: «Не рассуждай, не хлопочи! Безумство ищет, глупость судит; Дневные раны сном лечи. А завтра быть чему, то будет…» Программная цитата из Тютчева как бы оберегала Романа. Ведь поэт называл глупцами всех, кто осуждает «безумства», не обмолвившись о том, что случайные знакомства опустошают человека. Сам Мочалов стихов не писал, но цитировал часто, обладая феноменальной памятью. На сей же раз он откровенничать не спешил, скорее всего потому, что никому из поэтов не случалось оставлять одежду в гостях и тем более вдохновляться по такому житейскому поводу. Но через некоторое время в кают-компанию постучался старшина с жалобой:
— Товарищ командир! Тут под меня кто-то работает!
— То есть как? — удивился Выра.
— Явилась на причал баба с узлом, спрашивает Сорокина. Ну, выхожу. Нет, говорит, не тот. Ей надо инженера по вооружению Шурика Сорокина.
— Где она? Еще не ушла? — заволновался Роман. — Позвольте, я догоню, выясню, в чем дело.
— Отставить, — сказал Василий Федотович. — Вы, старшина, свободны… Коли так, самое время выслушать вас, товарищ Мочалов, то бишь Сорокин.
— Как? — спросил доктор. — При всех?
— Именно. Ибо сдается, что данная история будет весьма поучительной…
Самым невозмутимым за обеденным столом остался Бебс. Он даже не улыбнулся. Это обстоятельство больше всего действовало на мнительного Романа, который ёжился и никак не мог решить, с чего начать:
— Всё потому, что дома здесь слишком похожи…
— Государственный стандарт в поточном строительстве, — заметил Бебс. — Неужели ты против? Если уж стал инженером, должен понимать преимущества…
— Хотя бы их красили в разные цвета, — вздохнул доктор, идя на посадку с лирических высот.
Василий Федотович безжалостно ожидал продолжения, и Роману пришлось добавить, что кроме одинаковых домов виновато также и пиво в графине из-под цветов, которое роковым образом завершило литературный вечер. Квартира, куда он попал, не была оборудована всеми удобствами. Белая ночь не скрывала, однако, восьмиугольное строение посреди двора, и доктор поторопился. В спешке он не учел, что фасады домов выглядят как близнецы, и на обратном пути никак не мог вспомнить, из какого он только что выскочил. Задачу на ориентировку ему пришлось решать методом исключения.
— Потеря курса из-за недостаточного знания театра военных действий, — констатировал Бебс. — К сожалению, бывает.
— Курс потерять нельзя, — возразил штурман Шарков. — Теряют свое место.
Чеголин с Пекочинским дружно возмутились:
— Сколько можно перебивать?
— Не мешайте человеку исповедоваться!
В первой квартире в ответ на стук заплакали дети, и Роман отступил. Он помнил, что детей у его «старой знакомой» еще не было. Из-за аналогичной по расположению двери в соседнем доме внушительный бас пообещал спустить е лестницы. Такая перспектива Романа тоже не устраивала. Самым мудрым было бы прекратить поиски и отправиться на корабль. Но Мочалов был вынужден проявлять настойчивость в поисках квартиры и вместе с тем своей форменной одежды. Взбираясь по скрипучим деревянным трапам, пропахшим щами и кошками, он стучал, убеждался, что попал не туда, и снова скатывался вниз, в бодрящий предутренний холодок. Наконец одна из дверей отворилась сама собой. Доктор с надеждой рванулся вперед, нашел ощупью какое-то ложе и сразу заснул.
— Как вы понимаете, — подчеркнул Роман, взглянув на своего командира, — я сильно продрог и утомился.
Понимал ли Выра своего медика, на его лице написано не было. Во всяком случае, он давал ему возможность высказаться. Макар Платонович Тирешкин выражал крайнюю степень возмущения, старпом Лончиц — брезгливость. Остальные слушатели сдерживали улыбки.
Утром Мочалова потрясли за плечо, но раскрывать глаза ему не хотелось:
— Батюшки, неужто мертвяк!
— Вроде шевелится, — возразил мужчина.
— Не иначе раздели, сердешного, — предположил первый голос, не лишенный приятности.
Роман сообразил, что это не сон, и поднял голову. Он лежал в корыте с сухой известкой. В квартире, куда он попал, был ремонт, и явившиеся на работу, штукатуры рассуждали о его, Мочалова, незавидной судьбе.
— Сколько времени? — деловито встрепенулся он.
— Да уж девятый час, — сказала молоденькая работница и посочувствовала. — Хорошо, хоть обувку да трусы оставили, страм прикрыть. И то слышала — по ночам шалят.
А доктору было уже не до поисков обмундирования. Влекомый чувством долга, он бежал к порту задами, шарахаясь от прохожих, невзначай угодил в болото, но прибыл на борт в срок.
— Не совсем, — возразил Выра. — Весьма жалею о том, что отложил выход в море. Поскучать нагишом на причале было бы гораздо полезнее. Не правда ли, доктор? Шалить так шалить!
От хохота вроде бы закачались медицинские бестеневые софиты над обеденным столом, не говоря уже об оранжевом абажуре.
— Считаю, что моральный облик товарища Мочалова следует обсудить, — официально заметил Макар Платонович.
— А мы чем занимаемся? — спросил Выра.
— Имеется в виду персональное дело.
— Основания бесспорно есть, — кивнул командир, — Но, учитывая многие обстоятельства, на первый раз, пожалуй, обойдемся без протокола.
Тирешкин повел плечом, оставаясь при своем мнении, но спорить не стал. Остальные слушатели тоже считали, что лучше без протокола. На следующий день доктор нашел у себя в каюте графинчик дефицитного пива с аптечной сигнатуркой: «Шурик! Куда вы? Безутешная Людочка!» Вечером на его письменном столе появился небольшой томик, переплетенный в корешок без названия и обернутый в целлофан. По формату книжка походила на поэтические сборники из личной библиотечки Мочалова. Сорвав прозрачную оболочку, он прочитал на титульном листе: «Нас море примчало к земле одичалой в убогие кровы, к недолгому сну…» Кроме посвящения, подарок отношения к поэзии не имел. Это была старая инструкция по монтажу вооружения на транспортах, напечатанная на занозистой грубой бумаге военного времени. Пособие было устаревшее и многое теряло без целлофана.
Подношения бедному «Шурику» являлись плодом коллективного творчества, а он, вспоминая ехидное замечание о государственных стандартах, всё валил на механика и взыграл окончательно, увидев на двери своей каюты фотографию восьмиугольного строения в аккуратной рамке из полированного эбонита со следующей надписью: «Вход свободный, выход по способности!» Перед ужином, когда вестовой расставил тарелки с супом и ушел в буфет нарезать хлеба, доктор сыпанул в тарелку Бебса хороший заряд слабительного.
Но уединение на корабле — понятие относительное. Даже когда считаешь, что тебя никто не видит, это ощущение часто бывает субъективным. С палубы, через открытый световой люк, за фармацевтическими манипуляциями «бедного Шурика» наблюдал Пекочинский, а Бебс успел переставить эту тарелку самому доктору. Роман намеренно опоздал к столу, чем вызвал недовольство старпома. Лончицу не хотелось подниматься с дивана, чтобы пропустить доктора на штатное место.
— Корабельный распорядок обязателен для всех! Понятно? — сказал Евгений Вадимович, указывая на пустой стул. — Садитесь сюда! Заместитель командира задержался на берегу.
Доктор ел суп, тихо радуясь, а механик с минёром грустили. Неожиданное появление Тирешкина до крайности осложнило ситуацию.
— Извините, Макар Платонович, — смутился старпом. — Если не возражаете, я попрошу вас на свободное место.
Заместитель командира отнюдь не возражал. Пекочинский растерянно оглянулся на механика. Тот же, едва не подавившись, немедленно проявил заботу и внимание:
— Бирюков! Замените эту тарелку. Не видите? Суп остыл.
— Спасибо, Борис Егорович, — возразил Тирешкин. — Горячая пища вредна для желудка.
Усаживаясь на место доктора, Тирешкин попутно напомнил ему, что тот не заботится о здоровье офицеров. Диетический стол без сушеных овощей и соленой трески давно привлекал Макара Платоновича. Мочалов вяло возражал, ссылаясь на отсутствие медицинских показаний и на то, что кокам тяжело готовить пищу отдельно. Бебс нервничал. А Пекочинский, странно взглянув на доктора, спросил, в чем проявляются симптомы гастрита.
— Боли в желудке и всё такое… Неудобно объяснять за столом.
— Может быть, у Макара Платоновича еще появятся показания? — выразил надежду минёр.
Тирешкин скорбно кивнул. Он не подозревал, насколько близок от него диагноз этой болезни и вожделенный диетический стол. Однако Выра, обеспокоенный возней в кают-компании, посмотрел на механика, потом на минёра и решительно вмешался в естественный ход событий:
— Бирюков! Слушай такую вещь! Эту тарелку выплеснуть за борт!.. Недостойная шутка, — добавил он, убедившись, что Тирешкину подали другую тарелку супа.
Доктор, а вслед за ним механик с минёром потеряли аппетит, а замполит попросил уточнить, что командир корабля имеет в виду. Однако Василий Федотович вовсе не собирался объяснять это Тирешкину. Выявив по визуальным признакам действующих лиц розыгрыша, он начал с Мочалова:
— Мое терпение не бесконечно. Как только додумались?
Доктор дипломатично ожидал, пока не станет ясной степень прозорливости начальства. Не получив ответа, Выра был вынужден искать другой повод для критики:
— Опять нарушаете форму одежды?
Мочалов оглядел новенький китель с никелированными «белыми» пуговицами, проверив на ощупь, все ли они застегнуты. Казалось, в таком виде не страшно повстречаться с самим комендантом гарнизона. Но первое впечатление оказалось обманчивым.
— Где орденские планки? Или стесняетесь ордена Красного Знамени?
«Такой орден? У «бедного Шурика»?» — поразился Чеголин.
— Сами знаете, как это получилось, — оправдываясь, сказал Мочалов.
— Я-то знаю… А вот они — нет, — кивнул Выра на остальных членов кают-компании. — А жаль, ваша роль в тех особых обстоятельствах…
— Ну, какая «роль»? — взмолился доктор. — Я же не сам… Я выполнял приказ…
— Коли так, слушай такую вещь! Орденские планки носить! Будет повод вспомнить не только… о стишках.
Затем, обернувшись к механику, командир корабля заметил:
— И вы тоже… Не ожидал. Стыдно играть без правил…
Сказание о милосердном докторе
Капитан-лейтенант Выра зря обвинил Романа в ретроградной амнезии, то есть в забывчивости. Мочалов помнил всё, расценивая, однако, факты иначе, чем они были представлены в его наградном листе. Ну ладно, с ним не согласились, объявив, что начальству виднее. Обжаловать награду неловко, а вызывающий отказ от неё вообще бы не понял никто. Но разве нет у человека прав самому судить о себе? Разве можно заставить гордиться орденом, который не заслужил? Принимать официальную версию Мочалов не желал.
Делиться же с кем-либо пережитым ему было совестно, будто и в самом деле он виноват в том, что остался в живых.
В тот день на рассвете капитан-лейтенант Рудых потребовал по телефону еще одну дозу фенамина. Мочалов пытался возражать доказывая, что отдых стимуляторами не заменить, а многократное применение данного препарата категорически противопоказано.
— Другой раз учту — засмеялся командир тральщика. — А сейчас тащите таблетку на мостик.
Самого Мочалова камнем придавила постыдная сонливость. Перевозбужденный мозг защищался торможением. Но капитан-лейтенант Рудых бодрствовал гораздо больше — несколько суток. Накануне Роман сам предложил ему это лекарство, а теперь вот приходилось расхлебывать. Распоряжение с мостика было не менее категорическим, чем установки фармакопеи, и доктору пришлось подчиниться.
На тральщике не все были железными, вроде командира корабля. Отдых был необходим, и боевой тревоге дали отбой, заменив её готовностью номер два. Мочалов тоже прилег, не раздеваясь, у себя в лазарете. Бесцеремонный, мощный удар, сбросив с медицинской кушетки, заставил его очнуться. Свет погас, и ничего нельзя было понять в глухой черноте. Палуба кренилась, и где-то бурлила вода. Без шапки, в белом халате поверх кителя, доктор ринулся по трапам наверх и увидел размозженное железо. Ампутированная корма, вздыбившись, зияла культей. Тральщик медленно оседал, и всё, что могло стрелять, стреляло. Пушки гвоздили прямой наводкой, надсадно перхали скорострельные «бофорсы» и «эрликоны». Казалось, цели возникали то справа, то слева. Стволы тотчас делали полный разворот, устремляя новые трассы, очереди, всплески.
Командира корабля Мочалов нашел на своем посту. Шевелюра его слиплась сосульками. Роман хотел осмотреть голову и перевязать, но капитан-лейтенант, отстраняясь, дал понять, что медицинской помощи ему не требуется.
— Очень хорошо, — сказал Рудых. — Замечательные шумовые эффекты.
Вахтенный офицер, тут же остыв под колким взглядом командира, прекратил огонь. Цели были мнимыми, а если одна среди них и в самом деле оказалась бы перископом, то артиллерией его не возьмешь. Бомбомет «хеджихог» отпадал. Неподвижно закрепленный на палубе, он навалился всем корпусом корабля.
— Отражал атаку, согласно инструкции, — оправдывался вахтенный офицер.
— Именно этого противник и ждал, — кивнул Рудых. — Почему бы не доставить ему такое удовольствие?
Управляющий огнем такой задачи перед собой не ставил и потому обиделся, а командир корабля между тем продолжал:
— Спустить на воду катер, сбросить понтон! Старпому позаботиться, чтобы при этом наблюдалось побольше беготни, суеты и прочих явлений паники…
Распоряжение было неслыханным. С какой стати унижаться перед врагом? Но капитан-лейтенант твердо выставил ладонь, показывая, что он еще не закончил. Инженер-механик получил задание поддерживать корабль на плаву силами аварийных партий, спрямить его перекачкой топлива и обеспечить электроэнергией. А главное, артиллерийские расчеты, укрывшись на палубе, должны были находиться в немедленной готовности.
Это меняло дело. Командир корабля, очевидно, решил выманить противника из-под воды и навязать ему бой. Изрядно повеселев, офицеры бросились по местам, и только доктора Рудых попросил задержаться:
— Приготовьте медикаменты, перевязочный материал и с ранеными на катер. Штурман пойдет командиром. До берегов Таймыра, учтите, не менее ста миль…
Значит, это была не только уловка для того, чтобы навязать бой в условиях, невыгодных для противника? Мочалов заявил, что он пострадавших, конечно, эвакуирует, а сам нужен здесь.
— На борту остаются только те, без кого не обойтись. Всё!
— Вы тоже раненый…
— Думаете, стану уговаривать? — оборвал Рудых, и в голосе его, скорее насмешливом, прозвучало что-то, обдавшее Романа до пересечки дыхания, как физиотерапевтический душ Шарко.
— Идите, лейтенант медслужбы! У каждого свой долг.
Мочалов прижал ладонь к виску и сразу отдернул её, не ощутив головного убора. Такая неловкость, показывавшая отсутствие подлинно кадровой военной косточки, высмеивалась без пощады, но на сей раз не вызвала даже улыбок. Как будто моряки, которые оставались для последнего боя, уже отделили себя от корабельного медика, не признавая его своим. Молодые, крепкие, абсолютно здоровые люди были заранее отмечены особой печатью вроде маски Гиппократа. Роману вспомнилось, что агония по-гречески означает «борьба». Остающимся на борту тоже предстояла борьба с таким же фатальным исходом.
Спускаясь на палубу, Мочалов не ощущал ничего, кроме саднящей непоправимости своих действий. Ему казалось, что капитан-лейтенант Рудых обошелся с ним официально только потому, что в душе третировал, как липового моряка, легко и просто ухватившегося за предоставленный шанс. Через борт тральщика была переброшена сетка из пробковых квадратов, соединенных тросиками. Огромная сеть, тридцать на тридцать метров, предназначалась для помощи упавшим за борт, но не могла использоваться для этой цели в ледяной воде. Старпом приспособил ее под широкий шторм-трап. По квадратам-ступенькам с шумом и гамом одновременно спускали раненых, сухой паек и даже флягу-термос с горячим какао. Старпом оказался великолепным режиссером. Поглядеть со стороны, так на борту все потеряли голову.
— Быстрее! — понукал с мостика командир.
Пока штурман был занят подбором карт и навигационных пособий, которые могли понадобиться в пути, Мочалову пришлось формировать команду катера и спасательного понтона. Рукой медика водила судьба. Как нелегко, однако, вертеть колесо фортуны! Только один матрос, один из всех, попросился сам:
— Я загребной гоночной шлюпки. Морскую практику знаю.
— Что из этого следует?
— Мотор на катере скис. Надо грести. — На верхней губе доброхота бисером проступила влага.
— Не имею права, — сказал Роман. — Вы в составе аварийной партии. Приказано взять только тех, кто не нужен в бою.
— На кой хрен это дело? — закричал загребной. — Хрен на хрен менять — только время терять!
— Ладно, — вмешался главный старшина Северьянов, который стоял тут же на палубе, — вали на катер. Я подменю.
— Радистам не положено, — напомнил Мочалов.
Северьянов усмехнулся, пошевелив пальцами, которые и в самом деле полагалось оберегать от физических нагрузок, чтобы не «сорвать» чуткость кисти. И доктор догадался — оба передатчика разбиты и, видно, этим пальцам никогда больше не играть морзянкой на телеграфном ключе.
— Любая подмена с разрешения командира корабля.
— Командиру сейчас не до того, а я всё же парторг.
Люди вокруг словно не слышали препирательств. Они изображали панику, которой не было. Только один наплевал на всех, ради того чтобы выжить. И вовсе он не знал морской практики. Подлинная морская практика заключена не только в умении вязать узлы или в разных там палубных работах. Она вся в двух словах: человек и стихия. Какая же, к ляду, «практика», когда стихия подавила человека?
После слов Северьянова загребной прыгнул к штормтрапу, но Роман преградил путь, решительно не понимая, зачем потворствовать трусам. Как будто на борту тральщика не было более достойных? К примеру, нужен ли в бою радист, когда нет и не будет связи?
— Мое место здесь, — качнул головой парторг.
Нет, он вовсе не потворствовал ошалевшему парню. Он думал о тех, кто молчал, делая свое дело. Инстинкт самосохранения естествен, но страх — как зараза. Если не изолировать пораженного страхом, возможна эпидемия. Северьянов, видно, понимал, что суета на тральщике останется маскировочной показухой до тех пор, пока существует коллектив.
— Просись лучше, и он заберет, — вдруг посоветовали ходатаю, — доктора милосердны.
— Гармонь прихвати, — беспощадно добавили еще. — Куда же ты без гармони?
Спускаясь по ступеням шторм-трапа вслед за сиганувшим в катер загребным, милосердный доктор чувствовал себя не лучше его. Командир тральщика давал штурману наставления через мегафон, будто стояли на рейде и очередная смена увольнялась на берег.
В последний момент на катер передали командирский рыжий реглан с меховой подстёжкой и тяжелый пакет, наверное с орденами, завернутый в блестящую кальку.
— Для капитан-лейтенанта Выры, — пояснил Рудых. — Вручить лично.
Поврежденный «амик» выглядел издали особенно беспомощным. И подводная лодка, рассмотрев всё это через перископ, всплывала без спешки. Из воды вылупился грязно-зеленый кусочек рубки. Впереди и как бы отдельно распорол волну бурун от форштевня. Выпирая и двигаясь, показался поджарый корпус, истекающий потоками через дырки-шпигаты. Противник обнаружил себя в шести кабельтовых, открывшись с нахальным спокойствием.
На тральщике по-прежнему метались люди. Мочалов сжался, подумав, что психика обреченных вырвалась из-под контроля. Вдруг боя не будет, и Роману предстоит стать свидетелем того, как станут добивать беспомощную жертву.
Подлодка скользила, неотвратимо приближаясь. Из рубки её выходили палачи. Именно выходили, а не выскакивали, направляясь к пушке, расположенной впереди на палубной площадке. Наблюдать с катера за их приготовлениями было тягостно, но отвернуться Мочалов не мог.
И вдруг отрывисто рявкнуло. Рядом с подлодкой родились и лопнули два пузыря белее стерильной ваты. И горбатая палуба была обработана ими, как тампонами по вскрытому гнойнику. И чёрный расчет смахнуло от пушки. Только из обтекаемого горба торопливо, с одышкой ответил пулемет. Залп с тральщика грянул вновь. Один снаряд лег перелетом, другой расцвел махровым огнем в ограждении рубки. И пулемет подавился. И, подлодка завиляла, маневрируя на курсе отхода. Всплески догоняли её, падая то дальше, то ближе. Противник уже не казался хищником из волчьей стаи. Он удирал нашкодившей дворняжкой, поджав облезлый хвост.
Облака разрешились зарядом. Снег занавесил море, как марлевый полог. Громовые орудийные вспышки с неподвижного тральщика сменились миганием сигнального прожектора. Тяжелый спасательный катер, развернувшись, двинулся обратно на веслах со скоростью гоночной шестерки. Капитан-лейтенант Рудых опять переиграл противника. Он оказался хладнокровнее и умнее. Командирские качества Максима Рудых оказались единственной реальностью, позволившей всем подняться над обстоятельствами и преодолеть их. Мочалов радовался, считая, что теперь им всё по плечу.
Оказалось, что главному старшине Северьянову удалось из двух радиопередатчиков собрать один, и теперь срочно требовался помощник для налаживания связи. Старпом с боцманом, не дожидаясь у моря погоды, перекраивали в паруса оранжевые брезентовые чехлы. Механик уже сколачивал временный руль из досок и аварийного материала.
— Останетесь за меня, — решительно объявил Мочалову штурман и следом за вторым радистом вскарабкался на борт.
Если штурману позволили вернуться к прокладочному столу, то место Романа — у своего, перевязочного. Тем более что артиллерийский бой не обошелся без потерь. Пулеметной очередью с подводной лодки зацепило старшину комендоров Рочина. Доктор издали заметил синюшную бледность раненого и набрякший кровью рукав. Но капитан-лейтенант Рудых приказал: «Перевязывайте на катере». Рудых словно не доверял такому замечательному парусному варианту. Спустившись на палубу, командир корабля расцеловал Якова Рочина и, провожая на перевязку, добавил, что за такой выстрел ему полагается орден.
— Бросьте, товарищ командир, — скривился раненый старшина. — Орден у меня есть. Лучше медаль… Только флотскую, с якорем.
— Слышали, доктор? — засмеялся Рудых. — Приказываю доложить, что я представил его к боевой медали Ушакова.
Роман Мочалов, задетый тем, что его не вернули обратно на борт, собрался протестовать. Награды не его дело, а вот накладывать жгут и производить иммобилизацию предплечья удобнее в корабельном лазарете. Но он и слова сказать не успел.
— Торпеда! — крикнули с мостика.
Парогазовый след, приближаясь, бурлил в трех-четырех кабельтовых. Неподвижный тральщик уклониться не мог. Оставались секунды.
— Катеру отойти! — приказал Рудых на бегу, возвращаясь на свой пост, и для ясности скомандовал прямо гребцам: — Навались!
И те, дружно окунув весла, с натугой вырвали лопасти из воды: раз, еще раз, еще… Времени было слишком мало, чтобы отскочить на приличное расстояние. Торпеда ударила точно в середину тральщика, а катер кинуло на гребень крутой волны. Над головой Романа Мочалова в дыму мелькнула стальная мачта с горшком радара. Седой султан, воспрянув из моря, долго не опадал и показался Роману вечным, как монумент. Когда же хлябь улеглась, на ней полыхало пламя. Горел соляр из цистерн, сто тонн топлива, будто море разверзлось раной, вспыхнув горячей кровью.
Только что рядом был свой корабль. Только что на его борту шили парус, сколачивали плавучий руль, налаживали радиосвязь. И еще явственно звучал в памяти последний возглас командира, капитан-лейтенанта Рудых: «Навались…»
И вдруг нет ничего, кроме огня.
Продрогшая до тусклоты вода снова вспухла, скатываясь с исчерна-зеленого гада. Лодка возникла почти рядом с катером, и Мочалов спохватился, вступая в командование остатками экипажа:
— Поднять военно-морской флаг!
На катере имелось стрелковое оружие и ручные гранаты, но всё это годилось только для самозащиты. Шифры и корабельные документы в сумке с грузилом держали на весу за бортом, готовые утопить их при угрозе захвата. А рубка подлодки была целой, без следов взрыва, хотя туда угодил снаряд.
— Другая сволочь, — пояснил Роману сквозь зубы раненый комендор. — И номер на рубке не тот.
Вот когда до Мочалова дошло, почему ему было приказано перевязывать на катере. Обезвредив одну подводную лодку, капитан-лейтенант Рудых не исключил наличия в этом районе других.
Бородатый тип в кожанке, показывая на катер, фотографировал и смеялся. Приходилось готовиться к самому худшему. Но тучи, набрякнув, снова харкнули снежной крупой. Сухая и колючая, она стлалась по ветру, бинтуя волну. Словно на море наложили повязку, которая, укрыв свежую рану, заслонила также маленький катерок и понтон от чужих глаз. Затарахтели во мгле дизельные моторы. Звук угрожающе рос, но мало-помалу начал дробиться и вдруг ослабел. Мочалов понял, что враг не стал тратить время на поиски.
Двадцать шесть человек остались посреди полярного моря, из них восемь раненых, и только семеро, взятые с вахты, оказались в верхней одежде. Остальные были в тельняшках, в полотняных робах, кто в чем. Катер и плотик еще долго кружили среди плавающих обломков. Все чего-то искали, но никто не находил. Роман Мочалов сидел на кормовой банке-скамейке в грязном медицинском халате вместо шинели, по-прежнему без головного убора, но холод его не брал.
Глава 5. Бремя славы
На обратном пути из Белого моря молодые вахтенные офицеры торчали на мостике, по очереди докладывая капитан-лейтенанту Выре характеристики навигационных огней, знаков и маяков, которые встречались по курсу. Капитан третьего ранга Тирешкин снова работал радиодиктором. Он заранее потребовал от штурмана справку, когда «Торок» будет проходить места былых боев, и вещал о них точно такими словами, как и в первый раз. Одна из утренних передач по корабельной трансляции вызвала смешки. Выра, прислушавшись, приказал доложить заместителю, что корабль находится вовсе не у Кольского полуострова, а идет к острову Колгуев.
Узнав о такой новости, Тирешкин рассердился. Впервые за весь поход он поднялся на мостик для того, чтобы лично отругать штурмана, обвинив его в сознательном подрыве важнейшего мероприятия.
— Ночью изменили курс, — оправдывался Шарков. — Не будить же вас по этому поводу?
— Следовало доложить, — заявил Макар Платонович, хотя всегда ругался, когда его беспокоили в позднее время. Он тут же намекнул штурману, что инцидент, по его мнению, не случаен. Ему-де прекрасно известно, почему старший лейтенант Шарков ныне обретается на сторожевике.
— Дальше фронта не пошлют, меньше взвода не дадут, — насупился, тот, но не сдался: —Разве трудно выяснить, где пароход, а уже потом включать свою трансляцию?
— Я всегда верил штурману, а сейчас не знаю, какова цена вашим бумажонкам.
— Выписка сделана на основании предварительной прокладки, — объяснил Шарков. — А вот здесь, на карте, уже исполнительная. Раз дубы на фуражке и нашивки на рукавах, пора различать.
— За дерзость тоже ответите, — пообещал заместитель, величественно спускаясь вниз.
Капитан-лейтенант Выра без устали экзаменовал молодёжь, попутно отрабатывая разные задачи боевой подготовки. Одна из них состояла в организации поиска и атаки подводной лодки. Правда, упражнение было всего лишь подготовительным, которое допускало работу с условными целями. После выполнения всех необходимых команд и маневров оно венчалось сбросом за корму малой глубинной бомбы. Обычно после этого на поверхность моря всплывала оглушенная треска, которую подбирали в шлюпку по сигналу «человек за бортом».
— Орнитология! — смеялся Пекочинский. — Немного поиграемся и поставим галочку в журнал Бе-Пе…
Но «поиграться» минёру пришлось до посинения. Гидроакустический луч, натыкаясь на рыбные косяки, реагировал особой тональностью отраженного сигнала.
— Эхо «много ниже», — нерешительно объявлял Пекочка, а командир корабля сердился, советуя развивать музыкальный слух. Эффект Допплера из курса физики на практике был не таким уж простым.
— Рыба размывает эхо, — жаловался минёр. — Настоящая подлодка — другое дело. От неё четкий сигнал.
— Тяжело в ученье, легко в бою, — возразил Василий Федотович, исподволь прижимая корабль к подводной скале, обозначенной на морской карте. Гидролокатор тут же возвестил о ней звонким пиликаньем.
— Эхо «с-слегка выше»!
— Куда же плывут рифы? — спросил Выра. — Они движутся или мы? Удивляюсь, а еще нормальное училище кончили…
Сторожевик маневрировал рядом с птичьим базаром. Отвесная круча островка казалась обработанной малярами. Бесчисленные квартиранты, заслоняя небо, галдели над головой. После взрыва учебной бомбочки, вместо ожидаемой рыбы за кормой всплыло больше сотни нырков. Утки были оглушены гидравлическим ударом и вскоре лежали на палубе охотничьими трофеями. Результаты поиска и атаки подводной лодки, таким образом, были весьма материальны и убедительны для всех, кроме Василия Федотовича. Лейтенант Пекочинский заработал всего тройку условно. Окончательная оценка ему была обещана в базе после специального занятия по противолодочной обороне корабля.
Офицерская учеба проводилась в кают-компании. На занятия пришел флагманский минёр. Нил Олегович подготовился так, чтобы никто не мог придраться к слову или математической формуле.
— Теорию вопроса знаете, — одобрил флагманский специалист, и Пекочинский горделиво взглянул на Василия Федотовича.
— Согласен, — был вынужден признать Выра. — А недостаток старый — школярство, нет примеров из опыта.
— Опыта у меня пока нет. Когда стану капитан-лейтенантом, вроде вас, наверное, появятся и примеры.
Дерзость оскорбленного придиркой докладчика Василий Федотович игнорировал, заметив:
— Поздновато запланировали.
Доктор Мочалов скромно сидел в уголке кают-компании и чистил ногти. Всем видом своим он подчеркивал, что обсуждаемая на занятии проблема к медицине отношения не имеет.
— Кстати, вам было рекомендовано поделиться воспоминаниями, — напомнил ему Выра.
— Пробовал, — застенчиво соврал Роман. — Но как-то не получается.
— Так. Значит, и впрямь всё позабыл, — огорчился Василий Федотович и неожиданно повернулся к лейтенанту Чеголину: —Некоторые товарищи утверждают, что у вас собран интересный материал.
Виктор Клевцов заулыбался, сразу открыв, кто скрывается под псевдонимом «некоторые». Это он помог Артёму получить доступ к архивной папке, пронумерованной и прошнурованной согласно правилам делопроизводства. Но в штабной «Легенде, о гибели корабля» не содержалось ничего легендарного. На отпечатанном в типографии стандартном бланке он прочитал всего пол страницы машинописного текста: широта и долгота места, дата, краткое перечисление обстоятельств боя, число погибших и оставшихся в живых членов команды…
Фамилия командира того корабля показалась знакомой Чеголину: «капитан-лейтенант Рудых…» Вроде о нем упоминал Терский на лекциях по морской тактике. Скупость штабной «Легенды» вызвала досаду и желание, узнать всё о последнем бое капитан-лейтенанта Рудых. Артём собирал факты по крупицам, сопоставлял, пробовал нарисовать для наглядности схему маневрирования противоборствующих сил, сравнивал возможности главного калибра на «Тороке» с баллистикой американских трехдюймовок, и расчеты показывали, что нашими пушками вражескую подлодку скорее всего удалось бы не только повредить. Сотки её бы уничтожили. Чеголин занимался этим в свободное время, вовсе не для доклада на офицерском семинаре.
Сердито взглянув на Виктора Клевцова, Артём объяснил командиру корабля, что ничем особенным, к сожалению, не располагает. Воспоминания главного старшины Тетехина и нескольких бывших его сослуживцев да собственные выводы не могли быть предметом для серьезного разговора. Но Василий Федотович настаивал и мало-помалу вытянул из лейтенанта всё, что тот узнал, и что. подумал, и о чем догадался.
— Всё так, — подтвердил обомлевший Мочалов.
— Схемы маневрирования, попытки тактического анализа. Откуда чего взялось? — обрадовался капитан-лейтенант Выра. — Следовательно, хлопец постарался представить себя на месте Максима Рудых.
— Данный боевой эпизод не по теме доклада, — опять взъелся Пекочка. — Корабль без гидроакустики выполнить задачу не мог.
— И всё же выполнил её, — возразил Выра.
— Непредвиденная случайность!
— Почему же «непредвиденная»? Командир конвоя знал, на кого положиться.
— Матросские байки и досужие домыслы — еще не факт. Вообще странно, почему осталось столько живых…
— Старший лейтенант мед службы Мочалов и об этом забыл? — иронически спросил командир «Торока».
Доктор тщательно обрабатывал ногти. Его руки стали почти стерильными, хоть становись за операционный стол. А Василий Федотович не жалел красок не скупился на оценки. Офицерская учеба продолжалась и после ужина, но уже только для желающих. Пришли, однако, все, за исключением. Пекочинского и Тирешкина. Заместитель командира сошел на берег и потом очень жалел. Он не предполагал, что к данному мероприятию проявит интерес лично начальник политотдела.
Двадцать шесть человек в открытом полярном море. Спасательный катер с испорченным бензиновым двигателем и решетчатый плотик-понтон. Катер был перегружен, а на понтоне трудно остаться сухим. Кому переходить на плотик, определили па морскому счету. Вез жребия на катере оставались только раненые. Трус, который был загребным, тоже надеялся на исключение. Ведь он укрепил взамен реи футшток, натянул ванты и штаги, ввязал крепчайшими узлами шкоты и брасы — словом, придумал на не приспособленном для этого катере специальную оснастку, без которой парус не парус, а только брезентовый чехол. Мочалов понимал, что знания этого матроса пригодились и он на катере в самом деле не лишний. Однако выделить его среди других доктор не мог. И бурная инициатива, и кипучая деятельность — всё предназначалось у загребного только для себя, хотя случайно оказалось полезным и для остальных. Кошка тоже отчаянно царапается, если её хотят утопить.
Потом начался шторм. Буксирный фалинь с понтона оборвало. Шли под парусом. Несколько суток Мочалов перевязывал и правил по маленькому переносному компасу. И еще он чистил раны, делал инъекции, поил ослабевших, распределял пищу…
К Роману Мочалову пришла слава, но, слушая командира «Торока», он не выглядел именинником. Некоторые из присутствующих полагали, что это у него от скромности. Настоящие герои обязательно должны быть скромными и обладать рядом других поучительных качеств. Так считается издавна, а общественное мнение приходится уважать всем, даже самим героям. Доктор никак не мог представить себя на гранитном пьедестале. Хотя, обернись обстоятельства несколько иначе, останки его могли найти через много лет где-нибудь на берегу залива Миддендорфа или в ледяных шхерах Минина на необитаемом острове Подкова. Их предали бы земле со скорбью и воинскими почестями. Живой Мочалов со всеми его недостатками сделал больше: он не погиб сам и не дал погибнуть остальным. Плотик потом тоже удалось разыскать. С плотика сняли семерых обмороженных и труп бывшего загребного, которого доктору не хотелось вспоминать по фамилии.
— На море часто бывает, когда гибнут не самые слабые в смысле физическом, — нехотя пояснил Роман. — Стоит кому дрогнуть духом, отчаяться — и конец. Такие сходят с ума или просто затихают, перестав бороться…
Насильственный вывод из безвестности оказался для корабельного доктора весьма обременительным. В частности, именно его, заставив пристегнуть ордена, назначили дежурным по кораблю в праздничный день годовщины подъема флага: Пятнадцать лет плаваний и боев для «Торока» были не меньшим юбилеем, чем для иных деятелей — круглые даты. Старшего лейтенанта медслужбы особенно смущало, что на этот день маленькому «Тороку» одолжили духовой оркестр. С Романа хватило бы ответственности за праздничный стол. Корабельные коки на тесном камбузе взялись зажарить этакую прорву благоприобретённых уток.
В общем, Мочалов волновался зря. Дирижировать оркестром ему не потребовалось, а сигнальщики в положенный момент благополучно подняли и кормовой флаг, и стеньговые флаги, и флаги расцвечивания. Он растерялся уже потом, увидев, что к правому борту сторожевика приближается катер. Особого флага он не нес, но матросы-крючковые на носу и корме замерли с древками у плеча. Выра моментально сориентировался:
— Правый борт… Круу-гом! Спустить парадный трап!
Горнист из оркестра дал сигнал «Захождение», а потом прозвучал «Встречный марш».
— Лихо у вас получилось. Не хуже, чем на линкоре, — смеялся могучий адмирал с таким же круглым лицом, как у Виктора Клевцова.
— Здорово, именинники!
Неизвестно, что прозвучало громче: поздравление или дружный радостный ответ в десятки луженых глоток.
— Не ждали? Думали, прибуду с рейсовым «Краснофлотцем»?
— Какой он «Краснофлотец», если девяносто пятого года призыва, то бишь постройки, — ехидно ответили ему из строя. — По-нашему, «сверхсрочник». Песок сыплется, но службу любит.
Контр-адмирал не рассердился, наоборот, со вкусом повторил матросскую кличку старого парохода. Теперь уже хохотала вся команда, а лейтенант Чеголин догадался, что перед ним начальник политического управления флота.
— Тебя, Василий Федотыч, поздравляю особо, — сказал он, вручая погоны с двумя чёрными просветами и серебристой звездой в центре, — носи с честью, капитан третьего ранга Выра. Пришлось задержаться, пока выяснял, есть ли уже приказ…
В запасе у высокого гостя оказался не один праздничный сюрприз. Штурмана Шаркова возвращали на эскадренный миноносец, но не на прежний. Где-то достраивался совершенно новый корабль, который очень ждали на флоте, называя пока по номеру проекта. Служить на таких кораблях мечтали все офицеры. Виктору Клевцову присвоили звание старшего лейтенанта и утвердили кандидатом для поступления в Военно-политическую академию. Только Макару Платоновичу не досталось ничего приятного. И он заметно. огорчился.
Кают-компания на «Тороке» не могла вместить всех гостей. Выра распорядился накрыть также и письменные столы в каютах. Но раздвинутые двери не могли объединить всех собравшихся на праздник. Молодёжь делала вид, что пировать на отшибе очень удобно. Разговор за главным столом доносился в каюты веселым гомоном, но, к сожалению, нельзя было разобрать ни единого слова. Освободившись от праздничного дежурства, в пятую каюту пришел Роман Мочалов и сразу же предложил запивать жаркое компотом. Приготовленный по его рецепту компот позволял чокаться и существенно поднял тонус лейтенантского филиала. Роман принялся рассказывать байки о своем «амике».
— Послушай, Роман, — возмутился Пекочка. — И это всё, что ты можешь вспомнить?
Мочалов показал через плечо в коридор, в котором плескались жизнерадостные звуки.
— Слышите? Держу пари, что командир травит сейчас что-нибудь о своем закадычном Максе.
Последние дни Василий Федотович был хмур. К нему не всегда можно было подступиться и по служебным делам.
— Спорим! — согласился Чеголин, но честно предупредил: — Ты наверняка проиграл.
Заглянув через порог кают-компании, они увидели своего командира на обычном месте во главе обеденного стола. Погоны старшего офицера преобразили его. Непривычный Выра как-то отмяк, хотя и, точно, не молчал:
— Макс был не только настоящим моряком. Он состоял в сыночках у командующего флотом.
— Приемным?
— Судите сами, — смеялся Выра. — После походов мы с Максом, бывало, отмечались в «Капернауме». В море какой разговор? Только разве флажками. У меня был свой дом, а Максу податься некуда, кроме как на свой «бобик». Вот на обратном пути из ресторана его и подстерег комендант.
«Так пройдемте или вызвать патруль?» — спросил он, и Максиму ничего не оставалось, как смириться:
«Пойду. Вот только, если возможно, не докладывайте «бате». Сами знаете, он какой».
«А кто, позвольте узнать, будет ваш папаша?»
«Кто же, кроме Комфлота?» — удивился Максим.
Кают-компания громыхнула. Казалось бы, не было человека на флоте, который не знал, кого и почему все величают «батей», а комендант был ошарашен. Не спросив удостоверения личности, он сам сопроводил Максима до трапа «большого охотника», чтобы тот, упаси бог, не нарвался на менее деликатных патрулей.
Василий Федотович вспоминал, и казалось, что Максим Рудых тоже сидит с гостями за праздничным столом и тоже смеется, заламывая цыганские брови чаячным крылом. Как несказанно удивился тогда Максим предупредительности сурового службиста, а догадавшись о причине, не стал разочаровывать своего спутника.
— Утром мы с Максом решили, — продолжал Выра, — что трепаться нельзя. Хотя и заманчиво, но обойдется себе дороже. И надо же, вскоре «сыночком» дразнилась вся база. Макс валил вину на мою плешь, поскольку дело было без свидетелей, а коменданту, по идее, разоблачаться ни к чему…
— Могу отпустить грехи, — хохотал начальник политуправления. — Пошло от коменданта. Сам признался. На моих глазах.
— Какой ему резон?
— Долг службы в его понятии, и больше ничего. Включить задержание Рудых в сводку происшествий по гарнизону он, правда, не решился, но на докладе у командующего вел себя странно.
«Что там еще?» спросил адмирал.
«Уж не знаю, как доложить… Сыночка вчера повстречал. В нетрезвом виде…»
«Что? — поразился командующий. — Какого еще «сыночка»?»
«Вашего… В рыжем реглане… Но они ошибку свою понимают, признались, что не желают вас огорчать… Лично проводил их до самого корабля. Шустрый такой старший лейтенант…»
Артём Чеголин тоже смеялся, стоя в дверях кают-компании «Торока». Пари с доктором было проиграно, но это не вызвало у него досады. Артём жалел только о том, что кают-компания на сторожевом корабле такая тесная и сегодня в ней не нашлось места для молодёжи.
За праздничным столом рассказывали в основном про войну, но так, что можно было подумать, какое это было лихое и весёлое время. Флотские байки вовсе не походили на выдумку. Обстановка и поступки действующих лиц обязательно излагались с реальными подробностями и походили на примеры из лекций капитана первого ранга Терского. Разница заключалась только в развязке, и вместо суховатых выводов с нумерацией по пунктам итоги подводил смех.
Самое удивительное, что «Борю Терского» здесь знали все. Полчаса проторчав в дверях кают-компании, Артём многое узнал о своем бывшем преподавателе: и про его норвежский крест Святого Улафа, и даже о трофейном «оппеле», который, оказывается, родился почти как в древнем мифе — из пены морской.
Сага о птичке Феникс
Сходни на полной воде задирались круто, а тяжелые сапоги тащили за собой раскисшую глину и скользили обратно. Измызганное обмундирование бойцов сливалось с окрестными скалами, давно не бритая щетина — с ворсом шинелей, и ругань тоже звучала тускло, не облегчая.
— Веселей, служба — торопил Осотин. — Не пляши, ровно корова на льду!
Он плотно утвердился на палубе, сдобренной соляркой от ржавчины. Хромовые корочки из-под клешей боцмана тоже блестели, брючины тонкого заморского сукна полоскали стягами на ветру. Промеж минных рельсов были уложены ворсистые шпигованные маты рядком. Осотин лично следил, чтобы каждый десантник «как следовает быть пошоркал копытами» по пеньковому ворсу, а не волок грязищу на боевой корабль.
— Здорово, боцман!
— Главный боцман, — строго поправил Осотин и тут переменился в лице.
— Вижу, что «старший», — растёшь, — устало улыбался Клевцов, навьюченный «сидором», как и все десантники, а на ватнике его были приторочены невзрачные полевые погоны с махонькой звездочкой на зеленом просвете.
Вообще-то Клевцов был прав. Главные боцмана полагаются только на крейсерах и других крупных кораблях первого ранга, но с переходом на сторожевик Осотин переоделся в китель, стал по воинскому званию главным старшиной, и в обиходе должность его и звание объединились для краткости. Даже командир «Торока» капитан-лейтенант Выра и тот называл Осотина главным боцманом, а Виктор Клевцов, вишь ты, не упустил напомнить о штатном расписании. Или он хотел подчеркнуть, что сам из моряков и не чужой на палубе человек?
— У всякой ягодки свой скус, — уклончиво ответил ему Осотин и уже другим тоном распорядился: — Младшего лейтенанта проводить в офицерскую кают-компанию!
— Благодарю — не надо. Я лучше со своей братвой.
Препоручив вахтенному матросу наблюдать за чистотой, Осотин по-хозяйски осмотрел крепление швартовых и еще взглянул на пробковые кранцы, проложенные между каменной стенкой и привальным брусом. Он всем видом своим показывал, что недосуг ему балабонить попусту. О чем говорить? Десантники сполнили боевую задачу — отсюда видать, сколько наворочено на улочках разбитой трофейной техники. Ну а боцман на боевом корабле имеет свои заботы. Что для него морская пехота? Одно слово — пассажиры. Через пять — шесть часов им скомандуют: «Приготовиться к высадке. Шагом марш!» И наше вам с кисточкой.
«Брезговает кают-компанией», — думал Осотин, разжигая застарелую обиду, а про себя прикидывал, кто же состоит в той братве, которую не захотел променять младщий лейтенант Клевцов. Вроде бы не было на борту никого из обитателей того блиндажа на Рыбачьем. Хотя солдаты все похожие. Крупа, как есть.
Боцман и Клевцова бы не признал. Сам навязался.
Выходило, что разведчики ноне другие, и боцману, видно, повезло, когда вытурили его из отряда морской пехоты. Но обида язвила душу Петра Осотина, изнутри поднималась хмарь и мешала вольно дышать. Теперь главному боцману всё было не так, наводил он на палубе «Торока» свои порядки и, накось, сызнова нарвался на встречу. По правому шкафуту в сопровождении капитан-лейтенанта Выры шло большое начальство, в глянцевом хроме реглана без погон, но наддубьем козырька протянулась по околышу золотая плетёнка, которая намекала на чин. Такие фуражки носили только одни капитаны первых рангов.
— Здорово! — неизвестно чему обрадовался «капраз», а Петр Осотин, вытянувшись по уставу, вздернул ладонь к козырьку.
Сколько помнил боцман, и на «малых охотниках», и потом на американских, «больших», когда этот офицер прибывал на борт, всегда поднимался брейд-вымпел либо флаг с одной звездочкой. Терский летал высоко, и трудно было поверить, что он знает всех боцманов. От удивления Осотин не сразу заметил протянутую руку «капраза» и осторожно её тряхнул. Почему бы не поздороваться, раз тот такой уважительный.
— Слушай, боцман, такую вещь, — сказал Выра. — Тут на грунте рядом с нами лежит немецкий автомобиль…
— Легковой? Тогда ничего. По нашей осадке не помешает.
Командир корабля усмехнулся, давая понять, что про осадку он и сам знает, но пояснил:
— Надо бы поднять…
Петр Осотин загордился сей же момент. Другое дело, когда приказывают — положено отвечать «есть», и кончен разговор. Но, судя по тону командира корабля, с ним советовались, и потому можно было показать постороннему начальнику, что главный боцман на «Тороке» — лицо «сильно существительное».
— Дак сами глядите. Водолазы, чтобы, значит, остропить груз, — солидно начал он, — в наличии отсутствуют…
Но Выра стал рассказывать гостю, что боцман сам знает водолазное дело и недаром был награжден за осушение затопленного отсека в жестокий шторм.
Слушать такое завсегда приятно, однако Петр на живца не клюнул. В конце октября не то что в Заполярье, а уже повсюду «олень в воде рога обмочил», то есть — не купаются. Кому охота сигать за борт за какой-то автомашиной?
— В кубрик полез, — нехотя кивнул боцман. — Как же? А не полез бы, всем кормить рыб.
— Положим, договаривались за стакан бренди, — уточнил Выра. — Про рыб ты догадался задним числом.
— Простуды, пн-те, не допустим, — оживился Терский. — Пробовал трофейный «Мартель»?
Петр вообще не слыхивал про «Мартель», но на флоте бабочек не ловят, и это совсем другой разговор.
— Опять же рельсы на стенке взорваны. Козловый кран не подведешь, а нашими средствами, вылет минной стрелы не позволят, — вслух размышлял он, для того чтобы начальство оценило все трудности. Но оговорить заранее число стаканов либо какую другую меру объема жидкости Петру не удалось. Случившийся неподалёку на палубе старшина первой статьи Рочин, нахально вмешавшись, предложил зацепить автомашину кошкой за бампер и вытянуть её, как утерянное ведро из колодца.
— Бампер у легковых слабоват. Как бы не оборвалась… — сомневался Осотин, зыркнув на непрошеного советчика. — Машина — это тебе не ведро.
— Надо освободить причал для швартовки транспортов, — пояснил Терский, обращаясь уже к Яшке Рочину.
— Можно, — сказал тот. — Если попробовать спаренным шкентелем за один гак…
Надо же было так порешить важный разговор! Чего полез Рочин со своим мнением, когда его никто не спрашивал? А не спрашивают, дак и не возникай…
«Погоди, Яшка! С тобой еще будет разговор», — про себя пообещал главный боцман, а вслух заметил: — Способ известный…
— Коли так, ладно, — одобрил командир корабля. — Действуйте.
Тут Осотин себя показал. Первым делом, пользуясь непререкаемой боцманской властью, он сам подобрал себе помощников, а Яшку Рочина послал подальше вместе с его нахальными советами. Новенький «оппель» затонул у самой стенки и, к удивлению Осотина, был остроплен стальной петлей за поддон. То ли уже пробовали его поднимать, то ли, законсервировав пушечным салом, специально спрятали от завидущих глаз. Быстренько и без возни машину подняли и принайтовили по-штормовому на юте у траловой лебедки.
— Ну, удружил, — сказал «капраз», выставляя пузатую темную склянку, когда Осотин явился с докладом в каюту к Выре. — Видно, не напрасно я волок тебя до санбата на своем горбу!
— Вы? — обнаглел Осотин. — Не заливайте! Тот был обнакнавенным «ботиком».
«Ботиками» на Рыбачьем прозвали носильщиков, которые курсировали в опасном промежутке между позициями боевого охранения на северных склонах хребта Муста-Тунтури и основной линией обороны на полуострове Средний. Их разделяла голая низина, которая насквозь просматривалась и простреливалась врагом. Ходов сообщения не было, и люди-ботики доставляли боезапас или харч короткими бросками от камешка к ямке. Петр помнил, как, весь перебинтованный, ехал на закорках у пожилого солдата. Тот, мучаясь одышкой петлял среди перелетов, без церемоний сбрасывая ношу в снарядных воронках. Осотина пролизывало болью, и небо было с овчинку, а два-три километра пути растянулись до бесконечности. Носильщик еще был простужен, изрядно соплив и утирался рукавом… Словом, главный боцман не поверил щеголеватому капитану первого ранга. Зачем тому ставить себя так низко? Срам! Ни в пир, ни в мир, ни в добры люди. А Терский — ничего, зубы со смехом и еще объясняет, дескать, возродился из пепла, как птичка Феникс.
«Ясно, всё врет», — решил Петр. Смолоду занимаясь сбором гагачьего пуха, он знал на птичьих базарах всякой твари по паре.
Угостившись обещанным напитком типа «Мартель», боцман надеялся отрепетовать, другими словами — вдарить еще стакан. Потому уличать «капраза» в брехне было неполитично. Однако тот, прихлебнув для приличия из махонькой стопки, видно, почуял, что Петр «сумлевается», и, нате вам, выложил подробности, но не про дурацкого Феникса, совсем наоборот:
— Еще клянчил, когда отдыхивались в снарядной воронке, дай ему трубку пососать. Объясняю — не дам. Курительная трубка, как и жена. А боцман аж зубами скрипит: «Жила! Жмот! Подумаешь, «как жена»! Сам никогда у чужой бабы не ночевал?»
Капитан-лейтенант Выра смеялся, а главный боцман обомлел, и заморское духовитое питье бросилось ему в башку. Был такой разговор. Точно был. И других свидетелей нет. Взглянув исподлобья на своего командира корабля, Осотин быстренько закруглил разговор:
— Виноват, товарищ капитан первого ранга, раненый был, обеспамятел и не признал…
— Поглядим на машину, — предложил капитан-лейтенант Выра, помогая своему боцману оправиться, и тот заторопился из каюты, не без сожаления глянув на пузатую склянку.
На юте они застали старшину первой статьи Рочина, обтиравшего ветошью мотор в густой консервирующей смазке. Электрики занимались магнето и аккумуляторами, рассуждая, можно ли восстановить или придется менять. Каждый сулил капитану первого ранга, чтобы, значит не беспокоился — всё сделают в лучшем виде. И Терский согласно кивал: он знал, матросы всё могут. Погладив ласково полированный бок «оппеля», он заглянул в мокрый салон, выдернул ключ зажигания на кольце с брелоками и положил к себе в карман.
— Не волнуйся, командир, — сказал он Выре. — Сборочной команде заплачу, сколько скажут, чтобы оформить, как положено.
На корабле никто не сомневался, что это подарок «капразу» от главного боцмана, а самого Осотина разбирала досада. За что машину дарить? Ежели Терский был в «ботиках», дак доставить в санбат обязан. А кто таков и как загремел в простые носильщики, не боцманская забота. Ходют тут всякие и еще похваляются, будто из пепла. А по-нашему, просто из грязи да в князи. И еще жмот оказался. Тогда в воронке заместо трубки сунул ему самокрутку, и теперь нет чтобы догадаться поднести еще стакан. За это ему подарки? Но Борис Александрович Терский был старшим морским начальником в этом только что освобожденном порту и еще состоял офицером связи при норвежских властях. Главному боцману только и оставалось помалкивать, хотя больше всего он хотел заявить: «Автомобиля трофейного захотелось? Накось выкуси!»
Глава 6. ТИРЕШКИН — крупными буквами
По выходе из госпиталя Осотина назначили заведовать береговым складом шкиперского имущества и предоставили отпуск. Медицинская комиссия признала его по ранению негодным к службе в плавсоставе. Капитан третьего ранга Выра был крайне раздосадован такой новостью и принял волевое решение назначить старшим боцманом Буланова невзирая на протесты Артёма. Вдобавок командир корабля советовал лейтенанту уговорить старшину первой статьи Рочина остаться на сверхсрочную, но совет, слава богу, это не приказ.
Минёр тоже пребывал в мрачности, но по другому поводу. Его ожидало в базе всего одно письмо, и, судя по толщине конверта, не слишком подробное.
— Остается у мамы до моего отпуска, — сухо информировал он приятеля о планах жены.
Вдобавок ко всему Макар Платонович Тирешкин, вдруг объявил о подготовке теоретической конференции по боевым традициям.
— «Теоретической»? только лишь переспросил! Выра.
— Всё согласовано, — заверил Макар Платонович, хотя разговор в политотделе был не совсем таким.
— Коли так, действуйте…
Василий Федотович без особой нужды предпочитал не вмешиваться в сферу деятельности своего заместителя. Отношения у них сложились еще в ту пору, когда «Торок» не был учебным кораблем. Новый замполит, едва появившись на борту, сразу же попытался учинить нечто вроде инспекции, подчеркивая старшинство в звании.
— Чем вы занимались в дозоре, товарищ капитан-лейтенант? За всё время ни одной политинформации, нет боевых листков.
— Был шторм, — сказал Выра.
Как объяснить майору береговой службы, что невозможно было даже приготовить горячую пищу — воду выплескивало из котлов.
— Безобразие, — возмущался тот. — На словах, как на гуслях, а на деле, как на барабане.
— Коли так, помогите наладить. Нам надлежит зайти в базу для отдыха, а вы на переходе попробуйте организовать.
— Что значит «попробуйте»? Покажу личным примером.
По выходе с рейда корабль раскачало опять, хотя ветер стихал. Он был встречным, силой в семь баллов. И тогда для наглядности Выра проложил курс не напрямик, а как бы по двум катетам. Волна ударяла в корпус под левую скулу, а после поворота на полпути, таким же порядком справа. Началась резкая болтанка «винтом». Сторожевик бросало вверх, вниз и в стороны.
— Боцман, доложите: чем занимается новый заместитель? — приказал Выра эдак через часок.
— Лежат и охают. А в каюту не зайти… Надо бы мокрую приборочку.
Когда подали на стенку швартовные концы, Выра лично побеспокоил майора для того, чтобы оценить образцы наглядной агитации.
— Что? Нет? — удивился он. — Тогда не могу понять ваших претензий!
Цветные карандаши перекатывались под ногами. Бланки боевых листков, свернутые кульками, по-видимому, были использованы по другому назначению. Сам Макар Платонович, слегка отретушированный зеленью, стыдливо заталкивал их под умывальник и после этого случая стал обращаться к Выре исключительно по должности: «Товарищ командир».
Подчиненных себе не выбирают. Василий Федотович был удовлетворен и тем, что майор, сникнув, ему не мешал. Черт знает почему, но каждый раз после разговора с ним у Выры начиналась изжога. Нехай конференция называется «теоретической», решил он. Если политотделу о ней известно, глупостей не допустят.
Вскоре на дверях под полубаком, которые вели в носовые кубрики личного состава, появился многокрасочный плакат, созданный под непосредственным наблюдением заместителя:
— «Руководитель теоретической конференции, — диктовал он, — капитан третьего ранга ТИРЕШКИН М. П.» — крупными буквами. Следующей строкой: «Докладчик — лейтенант Чеголин» — это можно помельче…
Однако докладчик упирался, ссылаясь на сроки. Он не мог подготовиться за одни сутки.
— Чует кошка, где собака зарыта, — пошутил Макар Платонович. — Тот раз получилось складно. Есть мнение — следует повторить.
— К чему матросам тактический фон и схемы маневрирования? Всё надо строить иначе, привлечь исторический журнал и воспоминания наших ветеранов.
— Не возражаю. Текст доклада представить на утверждение!
— Поручите механику. Он лучше знает личный состав.
— Отставить… Бестенюк еще узнает, почем раки зимуют.
— Тогда доктору…
— Повторяю: «Есть мнение» — и нечего пререкаться. Поперек батьки и лень родилась. А доктору дадим слово в прениях…
Но тут нашла коса на камень, и руководитель «крупными буквами» был вынужден принести жалобу на докладчика, обозначенного «мелкими», который, подумать только, соглашался представить лишь тезисы, а не дословный текст.
— Будут представители, — объяснял Макар Платонович. — А лейтенант Чеголин ведет себя вроде пятой ноги в колесе.
— Кто определил жесткий срок? — спросил Выра.
— Понимаете, товарищ командир, ему и готовиться не надо. Пусть повторит из своей тетрадки.
— Если необходим текст, перенесите на другое воскресенье.
— Поздно. Завтра прибудут корреспонденты и, может, даже из политуправления.
Вот тогда до командира корабля дошел смысл соотношения шрифтов. Макар Платонович авансом носил нашивки капитана третьего ранга, надеясь на переаттестацию. Но морское звание, хотя и равное береговому, задерживалось. Тирешкин надеялся, что отклики на конференцию, появившись в печати, подтолкнут соответствующий приказ.
— Послушайте, товарищ майор, — рассердился Василий Федотович. — Первейшая обязанность руководителя — ставить реальные задачи. Коли поздно менять срок, согласитесь с тезисами. Полагаю, докладчик не подведет.
Едва заместитель удалился, Выра вспомнил о приглашенных «представителях», и сразу же едкой волной поднялось раздражение. Умозаключения из лейтенантской тетрадочки годились как повод для разговора на офицерской учебе, но вряд ли найдут отклик среди личного состава. А что, кроме них, мог предложить зеленый хлопец, да еще непосредственным участникам войны в Заполярье? Преследуя свои цели, Тирешкин проявлял торопливость не только в сроках. Не считать бы ему звезды, а глядеть под ноги: чего не найдет, так хоть не упадет. Василий Федотович полагал, что лейтенанту Чеголину обязательно потребуется помощь, и собирался её оказать, чтобы не опозориться перед всем флотом.
Конференция, однако, началась неожиданно. Докладчик первым делом напомнил забавный случай, когда котельному машинисту Леониду Грудину вдруг понадобилось идти в увольнение с пистолетом.
«Это еще зачем?» — рассердился командир.
«Дык невеста с наганом. А я? Военный моряк — хожу так…»
Будущая жена Грудина была секретарем горкома комсомола, и ей по военному времени полагалось личное оружие. Историю этого знакомства помнили на корабле многие, но всё равно засмеялись. Смеялся и сам главный старшина Грудин, который сидел в первом ряду, улыбался Виктор Клевцов, хотя сам же снабдил докладчика необходимой информацией. Слушатели настроились на байки, а руководитель конференции растерялся, обнаружив резкое отклонение от утвержденных им тезисов. Но Чеголин развлекать не собирался. Упомянутый эпизод был неожиданно сопряжен с другим, не менее известным, когда близким взрывом был сдвинут с фундамента питательный насос котла, а Грудин сумел удержать пары на марке, обеспечив кораблю полный ход и маневр. Сопоставление записей исторического и старых вахтенных журналов, наградных листов и подшивок стенной печати переворачивало привычные представления о людях негромких флотских специальностей.
«Да кто же тебя надоумил, хлопче?» — подумал Выра, совершенно упустив из виду, что та же проблема обсуждалась совсем недавно в кают-компании на примере доктора Мочалова.
Лейтенант Чеголин не открыл ничего нового, но из его примеров получалось, что на подвиг были способны самые обыкновенные люди, те из них, кто понимал войну как тяжкий труд. Молодым слушателям было гораздо легче представить себя на их месте. Но такая позиция неизбежно подводила каждого из них к вопросу: «Способен ли ты так же трудиться, можешь ли повторить то, что совершили эти обыкновенные и такие земные люди, или дрогнешь в острый момент»? В честном ответе на это, весь смысл воспитания на боевых традициях.
В общем, на конференции никого выручать не требовалось, и капитан третьего ранга Выра позволил себе отключиться. Точнее, он, как и выступающие с трибуны ветераны, раскрепощенно задумался о своем, вспоминая, как они с Максимом разбирали каждый боевой поход, стараясь уяснить, на что надеялся противник, почему он поступил так, а не иначе, и где воспользовался их промахами.
Дружный хохот заставил Выру прислушаться. Старшина первой статьи Яков Рочин делился опытом, уверяя, что самолеты противника сбивать не так уж трудно, и заключил свое мнение оригинальной пословицей:
— Курица не баба, а птица не человек!
Затем, под общий восторг, Рочин показал в президиум на автора крылатой фразы:
— Вот таким Макаром!
Руководитель теоретической конференции грозно приподнялся, опираясь на стиснутые кулаки, хотя раньше ничего не имел против подобного цитирования.
— На нашем корабле, — объявил Макар Платонович, — видимо, появилась обезьяна, которая говорит, как я.
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ. Взаимозамкнутость
Глава 1. Незаменимых нет
За Полярным кругом смешно искать солнечную багряную осень, но эта выдалась особо тоскливой. Поезда из Мурманска казались воинскими эшелонами, у большинства пассажиров на руках были только литеры, никто из них не брал в кассах билетов за наличный расчет. Ехали старшие матросы, которые были старшими не только по лычке поперек погон, уезжали домой старшины всех статей, многие офицеры отправлялись либо учиться, либо преподавать, либо с предписаниями к новому месту службы.
Послевоенный флот пустел и съёживался не только в переносном значении. С рейда главной базы ушел линкор, который отлично смотрелся на водной глади, хотя был просто старым утюгом иностранной постройки и всем было известно, что его шестнадцатидюймовая артиллерия не может стрелять по причине неисправности орудийных замков. Ушел обратно через океан смешной четырехтрубный крейсер. В американском порту Балтимора его сразу же разрезали на металлолом. Также пришлось вернуть прежним союзникам дивизион еще более древних миноносцев. Старья никто не жалел, но оставшиеся в строю корабли можно было пересчитать по пальцам.
В кают-компаниях знали, что скоро сюда придут новые крейсера, эсминцы и подводные лодки — современные корабли с мощным оружием, прочными корпусами и неограниченной мореходностью. Но пока они достраивались где-то на энских верфях, и Артёму Чеголину тошно было смотреть на пустой рейд, на голые причалы. Щемящий вакуум царил везде, даже на «Тороке». Демобилизовался и уехал в Закавказье старшина первой «сотки» Яков Рочин, уволился в Архангельск командир центрального артиллерийского поста Богдан Мыльников, уехал в свою деревню гидроакустик «сэр Захар» Тетехин. За исключением сверхсрочников на сторожевом корабле не осталось младших командиров с боевым опытом. Все вакансии заместили молодые специалисты. Они были подтянутыми, послушными, знали многое, а не умели почти ничего.
Проводя занятия с новичками, лейтенант Чеголин начал с кинематических схем работы механизмов оружия. Заложенная в конструкцию мысль ограждала людей от роковых ошибок и как бы вела за собой новобранцев. Разные зубчики, приливы, тяги, мембраны преображали неодушевленный металл, и в целом артиллерийская система выглядела «опытнее» новых комендоров. Особенно это чувствовалось на первых тренировках. Лейтенант Чеголин нервничал. Как ни мечтал он поскорее освободиться от своенравных ветеранов, без них всё стало сложнее, а сроки завершающей стрельбы по воздушной цели никто не отменял. Иван Аникеевич Буланов неизменно помогал лейтенанту тренировать расчеты и даже по-прежнему исполнял все его приказания, совмещая всё это с хлопотливыми обязанностями главного боцмана. Он разрывался на части, и Артёму пришлось напомнить командиру корабля о вакантной должности старшины команды комендоров.
— Удивляюсь легкомыслию, — неприязненно сказал Выра. — Почему не позаботились о достойном заместителе?
— Но всё произошло неожиданно…
— Потери всегда внезапны, — назидательно заметил командир корабля, будто не сам забрал Буланова в боцмана. — Особенно в бою… Вам же рекомендовали оставить Рочина.
— Он не захотел.
— А вы предлагали?
Последнее время Василий Федотович стал раздражительным. Порой глаза у него краснели, как у морского окуня. Вое чаще он приводил к себе в каюту малолетнего сынишку и оставлял ночевать, если не планировалось выхода в море. Зачем такая блажь, если квартира, где жила семья командира корабля, окнами выходила на причал? А главное, капитан третьего ранга Выра своим обликом прямо замораживал, демонстрируя потерю чувства юмора, без которого флот не флот, а служба на нем похожа на суп без перца. Вот почему Артём Чеголин предпочел не объяснять, почему он без уговоров отпустил с корабля старшину первой статьи Рочина.
«Ладно, — решил Артём. — Пока обойдемся…»
Самолет «атаковал» из-за острова. Наводчикам было трудно поймать в коллиматоры крохотную муху, которая проектировалась на косогоре. Обрастая крыльями, буксировщик словно катился по склону наискосок, а сзади него болталась колбаска полотняного конуса. Автоматы затявкали наперебой. Из тонких стволов протянулись сходящиеся пунктиры трасс. Первая очередь получилась раздвоенной и прошла чуть ниже конуса. Чеголин ввел корректуру. Частые огоньки скрестились, а цель съёжилась и тряпкой полетела вниз.
— Дробь! Автоматы разрядить!
Сбитый конус всегда означал пятерку, и не надо было дожидаться, пока сосчитают дырки на аэродроме. Хотя победителей не судят, лейтенант решил разобраться, почему трассы вначале двоились. Спустившись на палубу, он обнаружил и другое — в казённике одного из автоматов осталось два патрона.
Вдвоем с Булановым они шли от пушки к пушке, расспрашивая, осматривая, обмениваясь мнениями, и заминка в начале стрельбы уже не выглядела случайностью, скорее случаен был её убедительный результат. Как ни странно, лейтенант не ощутил при этом досады. На разборе он сам снизил оценку, а капитан третьего ранга Выра выступать отказался, заметив:
— Всё уже сказано…
Виктор Клевцов с таким мнением не согласился. Уже в каюте он доказывал, что нельзя видеть одни недостатки. Конус всё-таки сбит. Это бывает не часто. Из разговора с помощником по комсомолу само собой вытекало, что следует поощрить отличившихся, и Василий Федотович тоже не возражал. Прежде чем подписывать приказ, он добавил туда параграф, снимающий с лейтенанта выговор за самую первую артстрельбу. Обрадовавшись, Артём попросил отпустить его в Ленинград.
— Полагаете, забыл? Или требуется разъяснить почему три офицера не использовали права на отпуск?
— Подразделением выполнены все задачи, и мне хотелось бы, взамен разъяснения, получить отпускной билет.
— По объективным причинам график отпусков нарушен. И вам придется исполнять обязанности помощника командира, пока Евгений Вадимович будет отдыхать.
— Почему мне?
— Существует две реальных кандидатуры. Но Пекочинский перестал получать письма. Не так? Кого же из вас отпускать?
— Товарищ командир! Ну тогда на недельку. Очень нужно.
— Сокращать отпуск без особой необходимости запрещено.
Чеголин не понимал капитана третьего ранга Выру. Он предпочитал заботиться о старпоме, о семье минёра, хотя у всех есть право на личную жизнь.
— Приспичило? — спросил Выра. — А кто останется здесь?
— Незаменимых людей нет.
— А на корабль плевать? Коли так, надо решить, способен ли к флотской службе вообще.
— Вы правы. С вами — не способен! Прошу разрешения идти!
— Разговор не кончен. Садитесь!
Слушать Чеголин был обязан, а сидеть — нет. Капитан третьего ранга Выра, как обычно, поглаживал темя от затылка вперед. Без фуражки он сразу старел, теряя выправку, а голова напоминала глобус с розовым материком в курчавом прибое.
— Эвона сколько накипи! Так и прет.
— Можете принимать это как угодно, но не оскорблять!
— Коли так, подобьем бабки: стрелять научился, хотя не сразу. Вахту стоять — тоже, а также мыслить тактически. С нормальным высшим образованием — дела нехитрые… Но офицер должен командовать, следовательно, понимать и оценивать людей. И еще уважать дело, которому служит, — качалась перед Чеголиным голова-глобус, а ладонь лелеяла остатки шевелюры. — Незаменимых, верно, нет. Но на корабле всё взаимосвязано. Нельзя служить, думая только о себе.
Как бы ни было трудно, всё равно нельзя…
Чеголин непримиримо молчал.
— Разговор, видно, не ко времени. Надеюсь, поостынешь и разберешься. А пока есть особое задание.
Выра протянул Артёму журнал сигнально-наблюдательной службы, последняя запись в котором была такой:
«Командиру! Старшина первой статьи Рочин арестован на десять суток строгого ареста за оказание сопротивления патрулю. Комендант гарнизона».
— Разберешься на месте…
— Чего разбираться? Он уже месяц на «гражданке».
— Отнюдь. Пока не обменял документы в военкомате, считается военнослужащим.
— Наверняка был пьян, при задержании пререкался. Ничего удивительного. А вы еще хотели его на сверхсрочную…
— К тому и веду, что кипятишься. Яков Рочин в рот не берет. Бывало, отдавал даже свою фронтовую норму. А если считает себя правым, точно, за словом в карман не лезет… В общем, нехорошее дело. Следует выяснить. Я бы поехал сам, да, боюсь, не получится с тем комендантом сердечного разговора.
— Тот самый? Который Максима Рудых в «сынули» произвел?
— Выходит, слышал, о чем вспоминали за праздничным столом? Так и предполагал…
Вместо желанного и до зарезу необходимого отпускного билета Чеголин получил командировочное предписание. В каюте командира корабля его едва не занесло, как в прошлый раз на палубе с прибором Крылова, но в последний момент удержала резонная мысль. Поручение не трудное. В комендатуре с лейтенантом рассусоливать долго не станут, но подробности задержания Рочина, безусловно, сообщат. А потом будет время обратиться к начальнику отдела кадров офицерского состава с просьбой о переводе с «Торока» куда угодно. Если там захотят объективности, можно сослаться на Пекочинского. Мнение двух молодых офицеров — это уже серьезно, это не жалоба одного.
Глава 2. Вакцинация по-житейски
За два месяца, пока «Торок» находился в Белом море, Василий Федотович не получил ни одного письма, но не придал этому значения: коли нечего сообщать, значит, порядок. Дома у него всегда был порядок, если не считать мелких стычек, без которых, вероятно, не обходится ни в одной семье. Когда, после прибытия из загранкомандировки, он прислал Петра Осотина с подарками и ящиком мясной тушонки, а сам ушел в море, Раиса Петровна возмутилась:
— Что я, не живой человек? Прикажешь с твоим боцманом жить?
Беспардонность её претензий позабавила Выру, хотя и коробила слегка. Но что делать, если жена работает в госпитале? У медиков запретных тем нет и всегда все на виду. Конечно, Василий Федотович сослался на войну и тяготы службы. Признаться в том, что он заступил на дежурство, подменив друга, об этом не могло быть и речи. Выра знал, что правды не поймут и вряд ли простят. Однако у женщин на такие делая особый нюх. Раиса Петровна, словно догадавшись, еще пуще невзлюбила Максима, и тот платил ей тем же. Друзьям приходилось встречаться на «нейтральной почве». Когда работаешь в паре, обязательно требуется обсудить каждый маневр, чтобы понимать соседа, как себя. Но эти рандеву, отнимая короткие часы отдыха, не всегда выглядели чисто деловыми.
— Так не оставлю, грозилась супруга. — Пойду в политотдел: так и так, разберитесь, муж променял семью на занюханного цыгана.
— Сколько раз объяснять, мы с ним не в бирюльки играем.
— Дурочку нашел? Ну-ка дыхни! Водка идет под бирюльки?
— А коньяк у тебя на плечах, — отшутился Выра, намекая на шубу из оленьего меха.
— Бессовестный скряга! — вспыхнула Раиса Петровна. — Попрекать меня своими подарками?
На самом деле Выра с деньгами никогда не считался, зато хорошо знал, как его половина реагирует на обстоятельства, связанные с приобретением указанной обновы. Шубы отпускали по талонам промтоварных карточек, и продавщица уже кричала, что задние в очереди могут не беспокоиться. Но Раиса Петровна и не собиралась становиться в хвост. Протолкавшись вперед, она объявила, что идет с ночного дежурства в госпитале, что спасает жизнь морякам. Есть ли у неё время стоять? Гарнизонные клуши закудахтали, стали хватать её за локти, а одна нагло заметила, что шубы — это не белый халат. Но голыми руками Раису Петровну не возьмешь.
— У меня муж герой, — взвизгнула она. — А вы пихаетесь.
— Как фамилия? — галдели бабы. Обладателей золотых звездочек в базе знали наперечет.
Раиса Петровна сгоряча хотела соврать, предварительно осмотрелась — нет ли кого из знакомых, и вдруг в очереди увидела своего «героя», который зачем-то торчал в магазине, вместо того чтобы править службой на «бобике».
— Ты? И молчишь? А жену пусть всякие оскорбляют?
— Скажи, что нужно. Я имею время постоять и купить.
— Как же! — зло расхохоталась Раиса Петровна. — Только тебе и покупать. Пойдем отсюдова!
Василию Федотовичу стало жаль жену, которая за войну и впрямь пообносилась, и, кроме того, обидно. Если он вынужден большую часть времени проводить в море, это еще не причина для ссоры. Вернувшись на «большой охотник», Выра вызвал оборотистого Петра Осотина.
— Ха, — сказал тот. — Какой артикул, типоразмер? Давайте деньги и отношение в военторг.
Когда, приняв «амик», Максим ушел на нем в Карское море, а Выра остался в Мурманске, Раиса Петровна не скрывала удовлетворения, хотя видела мужа не чаще. Преградой между ними теперь стал Кольский залив. Занятый под завязку на новом корабле, Выра был вынужден частенько прибегать к услугам Петра Осотина, которого перевел вслед за собой па сторожевик. Служебных поводов для командировок главного боцмана возникало сколько угодно, а пробивная сила его и множество дружков-сверхсрочников делали незаменимым лицом при получении дефицитных материалов. Осотин доставал всё, что требовалось для ремонта, попутно забрасывая Раисе Петровне посылку либо получку, и это было очень удобно.
Если начистоту, Василия Федотовича не очень тянуло домой. К чему обсуждать житейские проблемы? Дела домашние не шли в сравнение с теми, что волновали командира корабля. Но обсуждать их с гражданскими лицами не положено. Василий Федотович промолчал и о гибели Максима, наперед зная, что не встретит сочувствия.
Как-то, заявившись после долгого перерыва, Выра удивился и обиделся, выяснив, что дома его не ждали и, более того, в определенные дни месяца ему лучше бы не приходить вообще. Роль Василия Федотовича в семье понималась с утилитарной откровенностью, как будто ни на что другое он не годился. В общем, человек привыкает ко всему. Постепенно Выра стал находить смысл в продиктованном ему графике и подчинился ему, заштриховав для памяти нежелательные дни на календаре, как сектор радиомолчания на корабельных часах. Возвращение «Торока» из похода в Белое море совпало с указанным периодом, и Василий Федотович не торопился домой, спокойно занимаясь организацией офицерской учебы и прочими текущими делами.
— Товарищ командир! Есть мнение, что вам следует проведать семью, — осторожно сказал Макар Платонович Тирешкин, возвратившись из политотдела следующим утром после знаменитой «теоретической» конференции.
— Вчера я слышал и другое мнение, — нахмурился Выра, который не любил, чтобы совали нос в его личные дела. — Меня упрекали, что вы любите берег больше своих обязанностей и это отражается на воспитании личного состава.
— Так точно. Уже в курсе. Примем меры…
Тирешкин запнулся и уже другим, просительным тоном повторил странную рекомендацию, не скрыв, что она исходит от начальства.
После такого разговора невозможно дожидаться окончания рабочего дня, а идти сразу было бессмысленно — жена обычно на работе, а Егорка в детском саду.
«Что стряслось? — недоумевал Выра. — Болезнь? Или что похуже?
Но в последнем случае информация не была бы такой неопределенной.
Переключив на свою каюту кабель связи с берегом, Выра попросил телефонистку соединить его с канцелярией госпиталя. Раньше он туда никогда не звонил, по голосу его не узнали, ответив, что заведующая в отпуске.
— И давно?
— Недели три…
Оставалось одно — что-то стряслось с Егором, а жена решила, по своему обыкновению, не беспокоить его. Черт бы побрал такую заботу, после которой следует объясняться в политотделе. Сам Выра себя не оправдывал. Подумать только, четвертый день в базе и даже не удосужился выяснить, что в семье.
Он открыл двери своими ключами и остановился на пороге. Комната выглядела нежилой.
— Думала, вам известно, — деликатно кашлянула соседка из-за спины. — Она на Кавказе.
— С сыном?
— Не беспокойтесь, с ним всё в порядке. Из садика берем по очереди, кормим, обихаживаем, как и своих. Мы понимаем — ребенок не виноват…
Выра никак не мог уяснить, почему жена внезапно очутилась на курорте, а Егорку бросила на соседок. Женщина, заметив его растерянность, всплеснула руками:
— Бывают же такие мужья! Весь город только о том и говорит, а муж не подозревает ничегошеньки… Ну, этого типа ей как-то удалось комиссовать из плавсостава, и в благодарность он её прихватил отдыхать.
— Какого еще типа?
— Господи, да прощелыгу вашего, Петьку Осотина. Мы Раису Петровну сколько раз предупреждали — хватит. В квартире три семьи, растут дети, а ей, бесстыднице, хоть бы хны. Всякий раз оставляла ночевать…
Василию Федотовичу стало гадко. Он повернулся и хлопнул дверью, не попрощавшись. По пути на причал вдруг совсем по-иному осветилась давняя ссора: «Что же, прикажешь с твоим боцманом жить?»
Осотин тогда опоздал к отходу и, пока «большие охотники» не вернулись, обретался на берегу. Вот, значит, когда это случилось? Ему бросили правду в лицо, но так, чтобы она походила на абсурд. Дьявольский расчет: для профилактики привить частицу сглаженной истины, совсем как вакцину от оспы, и с той же целью получить стойкий иммунитет. В гарнизоне, где многие знают друг друга, правды не утаить. Кое-какие намеки до Выры доходили, но он, смеясь, отмахивался от них. И Максим Рудых не зря советовал списать Осотина с «бобика», а потом уговаривал не переводить боцмана за собой на сторожевик. Максим знал всё, но подчеркнутая неприязнь Раисы Петровны словно запечатала ему рот. Максим не мог открыть глаза другу, полагая, что его участие могло быть понято как поклеп…
Командир «Торока» вернулся на корабль к ужину вместе с маленьким сыном. Матросы отводили глаза, и Василий Федотович шагал по палубе, как сквозь строй. За короткие часы он прожил целую жизнь, а на борту сторожевика время тянулось в прежнем измерении. Обязанности службы требовали держаться так, словно ничего особенного не произошло. После подъема флага капитан третьего ранга лично отводил Егорку в детский сад, по вечерам забирал в каюту.
Горько человеку столкнуться с вероломством. Это как ножевой удар из-за угла. Непереносимо для самолюбия ощутить себя рогачом. Обида хлестала через край. Ну ладно, не прощай, коли так, твое право, но разберись, попытайся представить себя на её месте. Или не видел, кого когда-то тащил в загс? Это отпадает. Значит, тогда Раиса была другой, и у обоих находились какие-то слова, и дома не было скучно. Только ли одна сторона виновата в том, что отношения постепенно свелись к зарплате, к шмуткам и посылками цинично регулировались неким графиком? И как Выра не сообразил, что там, где всё диктует график, незаменимых уже нет. Сегодня один на вахте, завтра другой. Какая разница…
Глава 3. «Сильное сопротивление силой»
Деликатная миссия лейтенанта Чеголина вызвала большое оживление в кают-компании. В гарнизонной комендатуре вполне можно задержаться на гораздо больший срок, чем требуется для выяснения обстоятельств проступка демобилизованного старшины первой статьи Рочина, и потому опытные консультанты первым делом рекомендовали обратить пристальное внимание на форму одежды, ни в коем разе не «качать права» и, вообще, каждую фразу лучше всего начинать со слова «есть», повторяя далее всё, что сказано собеседником.
— Учти, что любая оценка внешнего вида зависит от критериев, — заметил инженер-лейтенант Бестенюк, оседлав любимого конька.
Единицы для измерения опрятности механик придумать не смог и потому предложил Артёму надеть свою шикарную шинель, подаренную ему отцом. Атласный драп её лоснился вороновым крылом, а пуговицы оказались позолоченными.
— Почему представляешь её за эталон? — возразил минёр. — И спинка не расшита.
Шинель Чеголину подошла и понравилась в такой степени, что отказаться не было сил, несмотря на зашитую не по форме спинку.
Дежурный помощник коменданта гарнизона, принявший лейтенанта в своем кабинете, всем обликом опровергал женственную фамилию Капитолинко. Даже сидя, он выглядел непомерно высоким. Сухощавая голова, то ли от привычки глядеть сверху вниз, то ли съёживаясь по законам перспективы напоминала птичью. Ходили слухи, что кроме солидного воинского звания у этого офицера береговой службы существовало также имя, обыкновенное русское имя — Аким.
Но для личности такой высоты, казалось, одного имени было мало. Всем долговязым интенданты отпускают дополнительное пищевое довольствие. И потому матросская молва окрестила его с предельной меткостью: «Полтора Акима».
Капитолинко по укоренившейся привычке взглянул, горят ли пуговицы на кителе посетителя, прикинул, не слишком ли широки форменные брюки, и освидетельствовал надлежащее сияние ботинок. Он как бы определял, стоит ли выслушать лейтенанта или без лишних слов сразу сдать его под охрану караула. Впрочем, отдельные визитеры не выходили, а препровождались из этого кабинета не только по причине изъянов внешнего вида. Более всего это касалось начальников патрулей, которые никого не задержали на своем маршруте. Этот факт, по мнению помощника коменданта, свидетельствовал отнюдь не о порядке во вверенном ему гарнизоне, а являлся несомненным признаком гнилого либерализма или халатности гарнизонных нарядов. Опасаясь гнева Полтора Акима, патрули здесь рыли землю копытами, представляя длинные списки задержанных.
Лейтенанту Чеголину было разрешено ознакомиться с докладной запиской начальника одного из таких патрулей, где сообщалось о наглом и вызывающем поступке Якова Рочина. Старшина был трезв, одет по форме и снабжен необходимыми документами. Но от встречи с патрулем на улице он почему-то предпочел уклониться.
— Значит, на то есть причина, — догадались патрульные, бросившись его догонять.
Дальнейшие события в докладной записке были изложены так:
«Мне показали на одну из кабин общественного туалета, где укрылся нарушитель. После неоднократного приглашения одеться и выйти из кабины, тот остался на месте, продолжая симулировать естественными надобностями. Видя, что он берет на измор и проволочку времени, я решил взломать дверь и сделал попытку одеть ему брюки. Но он оказал сильное сопротивление силой…»
Хотя капитан третьего ранга Выра предупреждал о том, что могут выявиться всякие нехорошие обстоятельства, таких Чеголин не ожидал, и личная неприязнь к Рочину сразу же отступила на второй план:
— Разрешите узнать, как поступили бы вы сами, если кто-либо посмел побеспокоить вас в… таком, месте?
— Что? — Голос Капитолинко отдавал клекотом. — Забыли, где находитесь?
— Из докладной вытекает, что старшину оскорбили, унизили да еще наказали. За что?
— Вот как вы воспитываете личный состав, лейтенант? Кто командует кораблем? Ах, Выра? Тогда ясно. Иного не ожидал.
— На вашем месте я наказал бы участников издевательства.
— Папрашу не указывать! Сам знаю, что делать на своем месте.
К сожалению, общего языка в оценке происшествия найти не удалось. Полтора Акима поднялся во весь исполинский рост:
— Вон отсюдова! Еще слово, и сядете рядом со своим разгильдяем!
— Есть, «вон отсюдова»! — Вскочив, лейтенант вспомнил о заповедях, но всё же черт дернул передразнить и добавить: — Разрешите пожелать всего хорошего…
Не надо было заедаться. Уже в вестибюле комендатуры его оглушил знакомый клекот:
— Пач-чиму не форменная шинель?
— Шить обмундирование из материала лучшего качества не запрещается.
— Зашита спинка! — объявил Полтора Акима. — Распароть и далажить!
— Есть, распороть и доложить! — отрепетовал лейтенант без прежней бодрости, щелкнув каблуками, по всем правилам повернулся и зашагал к выходу.
— Куда! Кру-гом!
Его не хотели отпускать без немедленного надругательства над чужой вещью. Отчаянные обстоятельства стимулировали поиски выхода. До Чеголина вдруг дошло, что далеко не каждый родитель мог подарить такую особенную шинельку. Раз так, она выглядела вещественным доказательством, весьма способствуя использованию боевого опыта Максима Рудых.
— Направляюсь в пошивочное ателье, — озабоченно доложил лейтенант. — Боюсь, что папа будет возмущен, если его подарок испортят обычной бритвой.
После паузы с высоты упала раздумчивая команда:
— Добро! Сполняйте!..
— Есть! — обрадовался Чеголин. Правый локоть, как положено, по уставу, развернулся на уровень плеча, а ладонь взлетела к козырьку, он удалялся с безупречной строевой выправкой, пятьдесят шагов в минуту, хотя больше всего хотелось ускорить темп. Шинель хлопотливо путалась в ногах, открывая порой небесно-голубую шелковую изнанку.
Конечно, в ателье он не пошел, но полученная информация требовала немедленных действий. У четырехэтажного здания штаба флота лейтенант остановился, вспомнив, что хотел пожаловаться на командира. Но, во-первых, Выра опять оказался прав, во-вторых, что значили собственные обиды Артёма по сравнению с актом возмутительного произвола? Однако пришел он сюда не зря. Четвертый подъезд вел в политическое управление, где работал единственный человек, который мог понять и помочь немедленно. Так, по крайней мере, подсказывали впечатления от корабельного праздника.
Солидная публика в приемной, официально-внимательный адъютант — всё это заставило лейтенанта попятиться. Он никак не думал, что посетители с кораблей, по заведенному здесь порядку, проходят без очереди.
— Только на минуту, — на ходу извинялся Чеголин. — У меня короткий вопрос.
Кто же предполагал, что минутка растянется, а вопросик в этом кабинете вдруг обернется проблемой.
— Говоришь: «сильное сопротивление силой»? — загрохотал Николай Петрович. — Один грамотей, а другой, ясное дело, спортсмен!
Кабинет был обширный, со столом заседаний, приставленным к письменному буквой «твердо». Под каблуками пружинил ковер, скрадывающий шаги и звуки. Здесь, несмотря на размеры, не ощущалось казенной пустоты. Один человек за этими строгими столами органично вписывался в пространство, заполняя его целиком. Четыре стены и шерстяной бобрик ковра не в силах были сдержать либо приглушить его реплик резковатых замечаний или открытого смеха.
— Это хорошо, что пришел. Особенно хорошо, что пришел ты. Видать, кое-что понял после той стрельбы?
Чеголин покраснел. Начальник политуправления, судя по всему, не только угощался на «Тороке» жареными утками.
— До сих пор дразнят «детским садом», — неожиданно признался Артём. Это был самый больной вопрос.
— Пустяки! В детском саду тоже, бывает, вырастают дельные люди. Всё зависит от воспитателя. Кстати, как считаешь, почему возник тот конфликт с артиллерийским электриком Мыльниковым?
Говорить с Николаем Петровичем было и легко, и трудно, но совсем не из-за огромной дистанции в званиях и возрасте. С одной стороны, он умел слушать, легко подхватывая мысль, подстегивая и обнажая её меткими вопросами. А с другой, невозможно было заранее догадаться, как отнесется он к сказанному, как оценит его.
— С Мыльниковым был сам виноват. Не учел, что «шилом море не нагреешь», хотя Виктор, то есть старший лейтенант Клевцов, меня предупреждал.
— Точно, — снова засмеялся Николай Петрович. — Это какой Клевцов? Помощник по комсомолу? А майор Тирешкин разве не помогал?
Так точно. Он проводил беседы и инструктаж, а Виктор просто так, по-товарищески. Но Клевцов ничего не скажет без смысла. Вроде бы треплется, а потом обязательно задумаешься и поймешь, что разговор неспроста…
Слово за слово, и Чеголину пришлось вспомнить о том, как он на ходу раздавал «фитили» и как понял, что придирки — это совсем не требовательность. И о том, как родилась идея разузнать подробности гибели тральщика капитан-лейтенанта Рудых, и о том, как понимать легенды, и о выборе темы для доклада на теоретической конференции.
На пороге появился адъютант, но Николай Петрович выставил вперед ладонь, и тот кивнул, притворив дверь.
— А мне докладывали, что вроде бы на «Тороке» «Макар носа не подточит».
Разговор принимал нежелательный оборот. Меньше всего лейтенант хотел «капать» на замполита.
— Политзанятиями руководит, агитаторов контролирует, — перечислял он, словно не заметив, что Николай Петрович знает о переиначенной пословице.
— На беседе, которую ваш командир провел после офицерской учебы, отсутствовал, — добавил в тон начальник политуправления.
— Была его очередь схода на берег, объяснил Чеголин. — Он же не думал, что придет начальник политотдела.
— В том-то и дело, — согласился Николай Петрович и погрозил пальцем. — Вот что, лейтенант. Брось хитрить. Не о том спрашиваю. Почему возник «Макар» вместо «комара»?
— Наверно, потому, что Макар Платонович сам любит выворачивать пословицы и очень бывает доволен, когда над ними смеются. А мне лично, когда трудно бывало, больше помогал старший лейтенант Клевцов.
— С Клевцовым разговор будет особый. Для начала придется всыпать ему по первое число.
— Как всыпать? Клевцову? За что?
— Хотя бы за то, что сейчас выяснились важные подробности, которые должны были стать известными гораздо раньше.
— Я ничего плохого про него не говорил.
— Кто спорит? Но возьмем, к примеру, вашу теоретическую конференцию по традициям. В газете напечатано: «Руководитель — Тирешкин. А на деле?
— Клевцов тоже не руководил. Он только навел на мысль.
— Это здорово, когда рядом есть принципиальный друг, на которого можно положиться. Но его советы ещё не политработа, не воспитание, а, скажем, самодеятельность. Более того, они в какой-то мере затушевали положение дел на вашем сторожевом корабле, не давая поводов для вмешательства.
— Товарищ контр-адмирал! Как теперь быть? Выходит, я подвел человека, которому многим обязан?
— Подвел?.. Вот недавно на одном представительном совещании с трибуны были сказаны такие слова: «Матросы запустили материальную часть. До того дошло, что у торпед винты в разные стороны вертятся».
Чеголин засмеялся. Кому не известно, что иначе торпеда не сможет двигаться.
— Нет, это не смешно. Совсем. Это значит, что матросы знают, что перед ними лопух, а мы установили сей прискорбный факт в результате случайности…
— Тогда непонятно, как такого «специалиста» назначили, как он попал на флот?
— Ишь ведь как просто: «почему?» да «за чем?», — покачал головой Николай Петрович. — А я вот спрошу, слыхал ли ты о таком лозунге: «Коммунисты — вперед!»?
— Ясно, слыхал…
— Тогда вдумайся, что это значит — четыре года вперед! Куда вперед? Да под пули, самыми первыми… Представляешь теперь, сколько осталось у нас таких, чтобы и с образованием, и с опытом? Вчера вот пришлось послать на тральщик кавалериста. Даже переодеть не успели. Так и отправили в сапогах со шпорами…
— Заместителем командира?
— Именно так. Справится — научим и устройству торпеды, и многому другому, в академию пошлем на морской факультет. Ну а если нет — придется сделать оргвыводы. И с вашим сторожевиком тоже разберемся внимательно. Такие казусы — брак в нашей работе. Их не должно быть.
В дверях снова возник адъютант. Начальник политуправления взглянул на него, потом на часы и быстро подвел итог:
— Думаю, лейтенант, тебе не придется жалеть о самокритичной откровенности. Пока отправляйся в комендатуру, а я тем временем с Капитолинко поговорю.
Оптимистический финал беседы не утешил Чеголина. «Вот болтун! Кто тянул за язык?»
Рочин поджидал лейтенанта в кабинете дежурного по гарнизону:
— Здравствуйте, Яков Кузьмич. Куда теперь? На вокзал?
— Вы что же думаете, на губе месяц провел? Послал телеграмму командиру, получил от него вызов и деньги на обратный путь…
— Вот как? — нахмурился лейтенант, и неприязнь к вызволенному старшине проснулась вновь. Выходило, что капитан третьего ранга Выра пригласил Рочина на сверхсрочную службу, даже не поинтересовавшись мнением командира боевой части.
— Спасибо за выручку…
— Не надо, Яков Кузьмич. Если перед вами не догадались извиниться, могу сообщить, что виновники будут наказаны.
По дороге к причалу они шли молча, думая каждый о своем.
— Товарищ лейтенант! — Старшина потерял самоуверенную ухмылочку. — Не рассказывайте об этом на корабле… Шагу ступить не дадут.
— Будьте спокойны, Рочин. Не в моих правилах трепаться о чужих секретах или читать чужие письма.
— Вот вы чего вспомнили? Ну был грех. Да только в это дело вмешался лейтенант Клевцов: «Прекратите, — сказал. — Так нечестно!»
Вот, оказывается, как поступил помощник по комсомолу, которому теперь собирались «всыпать». Каждое слово старшины звучало укоризной.
— Мы и сами поняли — нехорошо. Я тоже не люблю, когда насмехаются.
Намек был ясен, но Чеголин извиняться не стал:
— Вы знали, что кувыркаться на швартовых запрещено?
— Ясно, знал…
— И посчитали, после уничтожения мины к вам не подступиться? Если кто и попробует, команда скажет — «опять придирки!».
Рочин промолчал.
— Попробуйте стать на мое место — как еще следовало реагировать?
— Для чего вы мне объясняете? — непримиримо спросил старшина.
— Насколько я понимаю, нам вместе служить?.. Ну зачем вам понадобилась эта гимнастика?
— Тошно стало, и всё. Как-никак, четвертый десяток, а ходишь на помочах: то нельзя, это не моги…
— А возвращаетесь…
— Ничего такого не думайте, товарищ лейтенант. Буду служить как надо.
— Ну ладно, меня успокоили. А себя? Легко ли исполнять обязанности через силу?
— Пушки некому оставить, — признался Рочин. — Для вас они — техника, для салажат — просто железо. А пушки как живые — отношение понимают. Нельзя к ним так…
Ступив на палубу рейсового парохода, лейтенант со старшиной не захотели спуститься в душный салон. Яков Рочин всю дорогу поглядывал недоуменно, как бы удивляясь, что сызнова очутился здесь. Автономности хватило ему только на пять недель, и вот, радостно или нет, а только в темноте за бортом снова встречало старшину родимое Заполярье.
Глава 4. Пять недель Якова Рочина
Свой первый день на «гражданке» Яков продремал на верхней плацкартной полке битком набитого вагона, блаженно похрапывал вроде кота на печи, изредка просыпаясь, щурился на зимнее солнце и думал о том, что наконец всё позади и не надо больше вскакивать по тревогам, не надо зреть в какие-то прицелы или совмещать стрелки приборов центральной наводки.
Вагон барабанил по стыкам рельсов. Снизу поднимался разноголосый гомон вместе с уютной духотой. Под тельняшкой в пристегнутом булавкой кармашке вместе с документами лежало приглашение туда, где вообще не бывает снега.
«„Оппель” бегает резво, — было сказано там. — Как получил машину из твоих рук, ни разу не ремонтировал. Поживешь у меня, пока сам не разберешься, где стать на якорь…»
Дельное письмо, если не считать шуточек про смуглянок, которых навалом, а со светленькими хуже — большой дефицит. Мужик он, видно, свойский, а не понимает, что по масти различают только кобыл. Лучше бы взять за себя небалованную, из своих деревенских, но Яков как камень-отпрядыш, и нет на свете у него родни ближе трофейной машины — «оппе- ля».
После большой станции в проходе на узлах умостились новые пассажиры, а негромкий дорожный говор вспыхнул, разгораясь, и затрещал, как сырые поленья под керосином. Яков прислушался. Со скамьи на скамью впереброс летали округлые слова: «Дева-Льва- ция…»
Рочин только моргал, пока радио знакомым за войну чеканным басом не известило об Отмене карточек и введении новых денежных знаков. Свободную торговлю Яков одобрил — давно пора, удар по кубышкам — червонец меняли на рубль — воспринял спокойно, наличности у него почти не было, а в сберкассах другой счет, там вклады учитывали три к одному. Рочин денег никогда не сундучил и был поражен, откуда объявилась у него кругленькая сумма на лицевом счету военно-полевой сберкассы. К окладу командира отделения полагались еще фронтовые проценты и проценты за морское плавание, то да се — много чего набежало за долгую службу. Прикинув, что тысяча рублей с лишним, которая выходила у него после льготного перерасчета, тоже деньги, до первой трудовой зарплаты ему хватит, Рочин задремал опять.
На следующий день, пересаживаясь с поезда на поезд, Яков отдал последние 54 рубля за пачку «Беломора». Нервные очереди у сберкасс отринули транзитника, не признавая. Рочин закомпостировал сидячее место и поехал дальше, уповая лишь на свой мыльный паек. С карточками или без, мыло в магазинах пока не продавалось, а натурального обмена на станционных базарах никто не отменял.
А всего горше было по приезде на место. Сопляком бы куда ни шло, можно и зайцем на трамвае, но кондукторша станет срамить флотскую форму. И Яков двинулся пехом. По сторонам пути тянулись заборы, за ними переплет толстых труб, и в нос шибало вонью, а сквозь неё чудилось привычное: разогретый мазут, минеральное масло, веретёнка, каленый металл — точно так и на корабле. Рочин принюхался и впервые затосковал. Куда поехал? Зачем?
У трамвайного кольца город отступил. Справа заблестело теплое море, а по всей округе разбежались вышки. Сквозные вышки в переплете железных ферм, высокие, как мачты, створились и отступали, точно эскадры маневрировали по степи. И Яков подумал, что «Торок», верно, в походе, сняты чехлы с орудий и дульные пробки, а навстречь летят брызги и заливают стволы. Соленые брызги. Только отвернись — и, пожалуйста, ржавчина. Долго ли пушку загубить?
То ли усталость брала свое, то ли просто брюхо забунтовало от скудного дорожного корма, — всю дорогу ел печеную картоху с огурцами и кукурузные початки с блестящими, как зубы, зернами, — а на душе у Рочина стало смутно, и он почти не удивился, услышав рыдание медных труб. Несли на плечах обтянутый кумачом гроб. На крышке морская фуражка и кортик. Во главе венки и награды на красных подушечках.
— Кого провожают? — спросил Яков у случившегося рядом мичмана, но тут у подъезда в сторонке заметил знакомый «оппель» с помятыми крыльями и выбитым лобовым стеклом. Всё стало ясно и так.
— Машину нашли в кювете, — объяснил мичман. — Самого за рулем, а затылок разбит. Похоже — гаечным ключом…
— Пассажиры?
— Он всегда подвозил, никому не отказывал.
— На что польстились?
— Обыкновенно: деньги, документы и с тужурки ордена…
— А эти? — показал Яков на красные подушечки.
— Взаймы собрали — шапкой по кругу…
Всякое бывало в бурной судьбе Бориса Александровича Терского. Его щедро награждали, опять же за дело лишали всего, и всё возвращалось, потому что был он, несмотря ни на что, лихим и знающим моряком. Главное, он умел побеждать, даже в «ботиках» на Рыбачьем. И вот уже не вернуть ему ничего.
Почётный караул салютовал залпами из карабинов, но холостые винтовочные выстрелы звучали жидко. И бывший старшина первой статьи Яков Рочин тоже бросил в могилу горсть сухого гравия. От себя бросил, от командира, капитана третьего ранга Выры, который помогал списываться с покойным «капразом», от гидроакустика Захара Тетехина, от всей братвы, оставшейся в живых потому, может, что повезло им набраться у покойника ума-разума. Камешки стукнули по крышке гроба с гулким откатом и отозвались в душе старшины залпом главного калибра. Потом Яков повернулся и двинул к вокзалу, обратно пешком. По дороге читал объявления: «Требуются… требуются…» Гораздо труднее было найти крышу над головой.
Пробавляясь случайными заработками, Рочин мотался по стране из города в город. Женщин он избегал, дичился. А без этого где ночевать? Только и оставалось — в залах ожидания на вокзалах. Благо документы были в порядке и патрули не выгоняли. Без профессии, без родственников, без друзей оказалось не просто укорениться на «гражданке». Яков понял, это всё идет от корней, и подался в Архангельск, где, можно сказать, любой угол знаком. Но и этот город встретил не как родного. В Соломбале на судоверфи ему сказали: «Комендор палубный для нас не профессия. Желаете учеником слесаря?» На лесопилках брали в подсобники, и повсюду обещали общежитие, которое хотя и похоже на кубрик, только порядку нет. Были бы деньги, может, и вы́ходил Яков чего подходящее. А на пустое брюхо первая забота — аванс. В рыбакколхозсоюзе принимали на сейнер едва не зуйком. На торговом флоте надо ждать заграничную визу.
И чего ради? Соглашались оформить матросом второго класса, специалистом по гальюнам.
Усталый, замотанный Рочин шел проспектом Виноградова, соображая, где бы поспать, и вдруг около цирка к нему прицепился постовой:
— Ваши доку́менты!
Голос показался знакомым Якову, да мало ли что померещится с голодухи. Настырный милиционер стал поперек пути, вот и пришлось послать его туда, куда Макар телят не гонял.
— Нехорошо выражаетесь, товарищ старшина первой статьи, — вроде как обрадовался постовой, доставая из планшетки квитанционную книжку. — Штраф за неуважение к властям. Здесь оплатите или пройдем?
Яков пригляделся — мать честная! Перед ним стоял Богдан Мыльников, бывший артиллерийский электрик с «Торока». Тот самый Богдан — в синей двубортной шинельке, шапка с кокардой и всё, как положено, — младший сержант.
Мыльников проживал на Кузнечихе, и баба его нельзя сказать чтобы обрадовалась незваному постояльцу. Но Богдан глянул на неё очень знакомо, с голубым мерцаньем, повел щеголеватым милицейским плечом, и та шарахнулась собирать на стол. Рочин только пригубил для приличия, в основном налегая на кислые щи и макароны с котлетой, а корешок, наоборот, глушил сучок, почти не закусывая.
— Штраф, стало быть, спишем за счет флотской дружбы. А в отделение, уж не взыщи, завтра препровожу. Будет особый разговор…
Он говорил снисходительно, и на губе снова топорщились нахальные подбритые усики. Будто бы вовсе другой разгильдяй, задумав насолить лейтенанту Чеголину, сорвал зачётную артиллерийскую стрельбу, а потом, убоявшись расплаты, стал оправдываться «нервным потрясением».
Рочин взглянул на него и спросил:
— Кабы повстречался тебе, допустим, командир Бе-Че Чеголин, и в штатском? Тоже бы препроводил? — просто так спросил, чтобы сбить спесь, и не ошибся.
Мыльников прищурился, и смех у него как обрезало:
— Власть — штука тонкая. Либо она у тебя в руках, либо ты у неё…
— Око за око? — Рочин был удовлетворен, однако тут же получил сдачу:
— Ничего ты не понял. Если б не лейтенант, ходить мне сейчас под конвоем, руки за спину. Полное право имел отдать за то дело под трибунал.
— Брось! Лейтенант — сопляк, и он поверил трепотне насчет жены.
— Обо мне? — удивилась хозяйка.
— Цыц! — ответил Богдан, и та отшатнулась будто от кулака. Привычно так отпрянула. Видно, не в первый раз. А Богдан, как ни в чем не бывало, продолжал: — Ничему-то лейтенант не поверил. Всё знал, с самого начала. Нет у меня на него злости.
«Врет! — убежденно решил Яков. — Чтобы Богдан забыл обиду?»
Не один барказ каши съели они с Мыльниковым за долгую службу, но в незнакомой форме милиционера тот выглядел чужим и беззастенчиво вкручивал гайки, изображая эдакого служаку. И тогда, в запальчивости, Рочин забыл, что он в гостях:
— Блюститель порядка, а бабу бьешь!
Хозяйка, вспыхнув маковым цветом, тряхнула косицами на манер сигнального флага «наш» и выскочила вон.
— Прости, — смутился Рочин, чувствуя, как у самого полыхнули щеки тем же колером. — Неловко вышло.
— Учу, — кивнул Богдан, ровно о кутенке каком, и тотчас обрубил концы и еще пустым стаканом к скатерти припечатал. — Дело семейное…
О чем толковать, когда третий лишний. Напомнить, куда глядел перед загсом, и то нельзя, если знаешь, как «по местам стоять, со швартовых сниматься». А сам Рочин? На срочной службе думал: без подруги покуда обойдемся, в войну мечта о другом, а вот после не только Яков, многие вспоминали примету: «в тридцать лет жены нет — и не будет». Как ведь жили на борту «Торока»? Увольнение на берег от сих до сих. В своей базе знакомиться не с кем, в других портах тоже не ярмарка. Одно слово — Заполярье. До смотрин ли тут? Откуда взять время?
Мыльников был прав: дело семейное, — значит, сами разберутся или разбегутся. Некого здесь винить, и только разве махонькая дочка имеет право, погодя, родителей упрекнуть.
Кореша помолчали, и вдруг Богдан ворохнулся, заблистал голубыми фонарями-ратьерами с эдаким прищуром, круто переложив штурвал на иной курс:
— Пойдешь со мной в отделение?
— Чего там не видал?
— К начальнику. Оформляться. Всё будет в лучшем виде. Начальник сам из пограничников, на Рыбачьем командовал ротой и всем предпочитает бывших моряков.
— Кто сказал, что я бывший?
Яков Рочин сказал это и сам удивился, как раньше в голову не пришло. «Дробь!» — по-артиллерийски сказал себе он.
И правда! Зачем мотаться по городам подобно дерьму в проруби, когда есть у него специальность. Есть! И не надо другой.
Глава 5. А судьи кто?
Атлантический океан, как августейшая особа, голубых кровей. Он награжден Гольфстримом через плечо. Переливаясь текучим муаром, орденская лента океана горячит жилы самомнением. А застывший сосед, по-плебейски притулившийся у планеты на чердаке, выжидает зимней темноты для мелких завистливых пакостей. Улучил момент и сковал Кольский залив. Плескучая дорога в незамерзающий порт покрылась снежком. При отливе лед провисал пустой скорлупой и лопался со стеклянным звоном. Вода, наступая вновь, подпирала осколки, и они громоздились торосами. Заиндевевший «Торок» стоял на швартовых в гавани. На борту не прекращался аврал при свете прожекторов. Лед разбивали пешнями, пихали отпорными крюками, чтобы не разворотило тонкий борт.
Вся эта радость свалилась на плечи лейтенанта Чеголина. Кают-компания на сторожевике опустела. Первым отбыл в Ялту старпом. Спустя три недели проводили в Ленинград Пекочинского. Капитана третьего ранга Выру вызвали в Мурманск по каким-то срочным делам, и он застрял там, потому что рейсовый пароход не ходил. Даже заместителя командира по политической части на «Тороке» теперь не было. Тирешкин вдруг объявил о том, что врачи, опасаясь обострения гастрита, рекомендуют оставить службу в плавсоставе.
— Предписание врачей — это закон, — посочувствовал Выра.
— Мы тут посоветовались в кадрах, — ободрился Макар Платонович. — Дал согласие перейти в систему «военторганов».
Адресок был не очень понятный, но Пекочка был самым догадливым.
— Чего уставился? — шепнул он Артёму. — Обычный военторг.
Новость не была такой уж неожиданной после инспекции политического управления, результаты работы которой не объявлялись, но, по слухам, Тирешкина признали случайным человеком среди политработников. Тот не стал спорить, пообещав самокритично «переговорить по душам с самим собой», и попросился на учебу. Но дело было не в отсутствии у Тирешкина морского и политического образования. У Виктора Клевцова ни того ни другого тоже не было, зато была крепкая хватка и умение работать с людьми. Хотя и не понимал этого Макар Платонович, но человек он был неплохой, и потому оставалась надежда, что он сможет хорошо и с размахом работать в военторге.
На «Тороке» Тирешкин прослужил относительно долго потому, что образцово вел протоколы, уважая учет и отчётность. На новой работе это должно было особенно ему пригодиться.
Перед отъездом в отпуск минёр вновь вернулся к судьбе бывшего замполита, только в новом, неожиданном свете.
— Будет служить на берегу, — задумчиво сказал минёр перед сном, вытягиваясь на верхней койке. — Рабочий день восемь часов. И никаких семейных сцен.
— Нашел, чему завидовать, — возразил Чеголин.
— Ничего ты в службе не понимаешь. И в жизни тоже. Посмотрим, что потом запоешь…
Пекочинский повздыхал и признался:
— Есть одна непыльная должностишка в минноторпедном отделе. И хочется и колется и мама не велит.
— Стоило для этого кончать «нормальное училище».
— Верно. На берегу трудно продвинуться, зато… Приеду в Питер, и будем с Анютой решать.
— Скорее с тещей. Как погляжу, тебе на тещу больше повезло…
Минёр послал Чеголина к черту, а наутро оказалось, что потусторонние силы никак не следовало привлекать к спору. Пекочка трепыхался, но не мог поднять голову с подушки. Из его рта вместе с сильными выражениями вылетали облачка пара, а роскошная шевелюра была накрепко приморожена к борту родного сторожевика.
— Вот так возникают суеверия, — смеялся Чеголин, высвобождая узника с помощью кипятка.
Впрочем, имелось и другое объяснение указанного инцидента, вполне материалистическое. Всё началось с того, что у котельных машинистов от мазута разваливалась обувь. Этот факт был признан даже прижимистыми интендантами. Специальные ботинки для несения вахты у котлов так и назывались «прогарными». Конечно, их латали, но едкий мазут не считался с утвержденными нормами носки такой обуви.
— Срок вышел? — спросил Мочалов у инженер-механика, когда тот потребовал выдачи новых «прогаров».
Роман ужасно боялся всяких комиссий по добавочной должности начальника службы снабжения и поэтому непоколебимо следовал букве инструкции:
— Не положено!
— «Я волком бы выгрыз бюрократизм», — возразил Бебс и попал цитатой в самую точку.
Роман вполне согласился с мнением классика, хотя лично предпочитал других поэтов, но визировать накладную не стал. Бестенюк подчеркивал, что котельные машинисты обеспечивают «пароход» энергией и теплом, предлагал составить акт о преждевременном износе специальной обуви, угрожал, что матросы будут нести службу босиком и Мочалов, как медик, будет отвечать за вспышку простудных заболеваний. Ничего не помогало. Роман был убеждён, что «мех», то есть инженер-механик, всегда найдет выход из положения. Он не ошибся. Вскоре после бесплодной дискуссии в каюту Мочалова постучал трюмный машинист:
— Разрешите обратиться, товарищ старший лейтенант. Мне приказано грелочку у вас проверить…
Трюмный отвинтил калорифер парового отопления, озабоченно покачал головой и доложил, что надо ремонтировать.
— Когда грелку поставишь? — жаловался Роман уже на следующий день. Он был в свитере, альпаковой канадке и шинели внакидку.
— Объясняю: грелка ремонтируется, — железным тоном отвечал инженер-механик, напомнив попутно про давление пара в отопительной системе и подчеркнув, какие ужасные последствия могут иметь место, если прорвет фланец. Оказывается, планово-предупредительный осмотр калориферов проводился согласно какой-то инструкции.
— Поставь пока электрическую…
— В своем уме? — ужаснулся механик. — Категорически запрещено в целях обеспечения пожарной безопасности.
В подтверждение механик ткнул пальцем в соответствующий параграф, но Роман читать не стал. Он верил на слово.
— Кто же ремонтирует грелки зимой?
— В инструкции на этот счет ничего не сказано. Тоже могу показать. Кстати, как обстоит дело с прогарной обувью?
— Сказано — не вышел, срок.
— Ну, ну. А грелку как отремонтируют, так сразу тебе и поставят…
От обиталища доктора несло как из погреба. Иней стал проникать в соседние каюты и сыграл злую шутку с минёром. Мочалов мужественно терпел до субботы, которая всегда начиналась большой приборкой. По традиции мытье кубриков и стирка белья сопровождались концертом по заявкам. Радисты крутили по трансляции патефонные пластинки: «Не грусти, не горюй, не надо, — неслось из динамиков. — Слез не лей на холоду…» Песня была включена в программу по заявке старшего лейтенанта медслужбы Мочалова, по крайней мере, так было объявлено, и концерт его доконал. Недаром сказано, что искусство облагораживает и вообще принадлежит народу.
— Черт с тобой! Присылай кочегара в кладовую. Конечно, могут сделать начет, но всё равно. Забирай прогарную обувь, только грелку ставь поскорей.
Бедный доктор. Мороз в каюте плохо повлиял на его высшую нервную деятельность. Он забыл, с кем имеет дело.
— За взяточника принимаете? — возмутился Бебс. — Почему «только»? Объясняю популярно ещё раз: грелка проходит обязательный профилактический ремонт. Вот утвержденный график. Какая тут связь с прогарными ботинками?
— Я совсем не то хотел сказать, — оправдывался Роман. — Конечно, ботинки здесь ни при чем. И совсем без «только». Но я замерзаю.
— Ладно. Потороплю трюмных, — смилостивился инженер-механик и между прочим добавил: — А в кладовую за обувью сейчас придут.
Так в корабельный быт вошла бесконечная полярная зима, а потом горделивая Атлантика от щедрот своих швырнула циклон с теплым фронтом, как нищему пятак. Кольский залив заплескался, оживая в слезливом тумане. Первым же рейсом пресловутого «Сверхсрочника» на корабль возвратился из Мурманска капитан третьего ранга Выра, и не один, а с Виктором Клевцовым. Всё наличное офицерство было собрано в кают-компании, и командир корабля объявил:
— Хочу представить нового заместителя по политической части.
Чеголин обернулся к дверям, но не увидел там никого, а старший лейтенант Клевцов засмеялся, демонстративно усаживаясь на пустовавшее кресло Тирешкина.
— На должность не напрашивался, — сказал он. — Так бы и прозябал в безвестности, кабы не реклама некоторых болтунов.
Упомянутый «болтун» растерялся, тут же признавшись:
— Места не находил, когда тебе… когда вам… пообещали «всыпать по первое число».
— И всыпали. Не без того. А потом, как видишь, назначили, заметив, что ответственность — лучшее лекарство от «самодеятельности». И ещё было учтено, что я в курсе всех дел, а на раскачку нет времени.
— Как же тогда с академией? — обеспокоился Бестенюк.
— Всё предусмотрено — утвердили на заочный факультет. Так что не надейся, мех. Помнишь, ругал меня «бегемотом»? Рассчитаюсь сполна.
Все рассмеялись. Даже хмурый Выра и тот позволил себе улыбнуться. А для Чеголина новость была как гора с плеч.
В январе пришел приказ с новыми задачами боевой подготовки. Были запланированы стрельбы куда более сложные, чем в прошлом году. Чеголин с Яковом Кузьмичом составляли ремонтные ведомости на оружие, заявки на пополнение ЗИПов и на боезапас. Все документы требовалось обосновать. Лейтенант выписал командировку не только себе, но и главному старшине Рочину, надеясь на его помощь в затруднительный момент. Но Яков Кузьмич решительно возразил:
— На кого оставим Бе-Че? Лучше попросите отпустить Ивана Буланова. Пусть заодно проведает своих.
Нельзя сказать, чтобы Выра особенно обрадовался такому варианту, но возражать не стал. Чеголин с Иваном Аникеевичем отлично справились с делами, после чего главный боцман предложил поужинать вместе. Другими словами, Артёма приглашали в гости, и он не отказался, хотя это было очень уж неожиданно.
Хозяйка дома радушно накрывала на стол. Артём поглядывал на неё и внутренне ёжился, вспомнив, как посадил главного старшину на гауптвахту и за что посадил. Знает ли хозяйка, кого собирается угощать?
— Что было, то прошло, — негромко заметил Буланов. — Оглядываться ни к чему…
За ужином хозяйка рассказывала об истории, которая взволновала весь город. Суд слушал дело о раз воде. Обстоятельства банальные: пока муж находился в плавании, супруга закрутила хвостом, а четыре: летнего мальчугана приютили соседи. На суде отец умолял отдать парнишку ему, но ничего не добился.
— «А судьи кто»? — возмутился Артём.
Собеседница не знала классического монолога и потому объяснила, пригорюнившись:
— Всё больше женщины.
Ей тоже казалось, что с отцом парнишке было бы лучше, но разве мыслимо воспитывать его на военном корабле…
И тут Артём вспомнил, как однажды, дежурным офицером, встречал командира корабля. Выра шел по причалу шаткой походкой, а за ним, как на буксире, Егорка.
— Папа, мне больно ручку, — плакал он. — Папочка, я сейчас упаду…
Чеголин, как положено, скомандовал и приступил с докладом, но Выра, не дослушав, отодвинул его с дороги, как неодушевленный предмет.
От невероятного предположения у Артёма широко раскрылись глаза. Иван Аникеевич догадался, о чем думает лейтенант, и, сдержанно кивнув, подтвердил.
Глава 6. В ритме вальса
В кают-компании то оттопыривались, то прилипали к борту занавески у задраенных на броняшки иллюминаторов. В гнездах буфета позванивала посуда. Обеденный стол с поднятыми буртиками накрыли влажной скатертью, чтобы не елозили тарелки, налитые до половины. А суп плескался, ходил сглаженной жирной волной. Роман Мочалов только взглянул на суп, и его сразу же замутило.
Странно, за год службы на «амике» он не запомнил столь явных симптомов морской болезни. Бывало, в море голова, наливаясь болью, гудела корабельным колоколом-рындой. Но ожидание близкого боя подавляло всё. Нервы щекотало только лишь на коротких стоянках в безопасности, но кто же укачивается задним числом? Всё упиралось в нервы. Не случайно тот загребной с «амика», вымолив себе жизнь, через три дня стал трупом. Остальные выжили, несмотря на ранения. Им было приказано остаться в живых.
Роман Мочалов тоже выполнил все заветы капитан-лейтенанта Рудых. Он госпитализировал всех, кто нуждался, доложил о случившемся устно и письменно, представил Рочина к медали и, разыскав Выру, лично передал ему пакет в провощенной бумаге и рыжий реглан на меху. А потом он, неожиданно для всех, ухватился за скромную фельдшерскую должность на «Тороке», с остервенением отвергнув лестное предложение работать хирургом-ординатором. В медсанотделе напомнили, что работа на тральщике была временной. Мочалова посылали туда оморячиться, как выпускника гражданского института.
— Не желаю болтаться в тылу! — стоял на своем Роман.
Это была правда, но не вся правда. Еще на катере в Карском море Мочалов поклялся, если выживет, специализироваться в педиатрии, то есть лечить детей. Ему претили рваные, осколочные и пулевые ранения, и еще он боялся, что после войны из госпиталя будет куда труднее демобилизоваться.
Старший лейтенант медицинской службы и понятия не имел о том, что после гибели «амика» не сможет переносить качки. Суп в тарелке тотчас напоминал ему солярку из взорванных цистерн, и сразу же виски стягивало обручем.
Любой выход в море стал пыткой, и надежды постепенно приучить вестибулярный аппарат не оправдывались. Василий Федотович Выра проявлял снисходительность, остальные, смеялись. Как-то около дверей каюты доктора, которая служила также амбулаторией, раздались нетвердые шаги, а потом голос главного боцмана:
— Зря тышкаетесь.
— Так точно. За лекарством от тошноты.
— Дак он сам лежит пластом. Марш наверх палубу драить!
— Товарищ главстаршина…
— Кому сказано? Найди себе три точки опоры и вкалывай. Самое верное средство. А других нет…
Три точки опоры. У Романа Мочалова их не было даже на берегу, где он не ходил, а порхал. Выра всего лишь заставил доктора носить боевую награду. Но порхать с орденом было неловко, а как жить дальше, он не представлял. Виктор Клевцов, придя на «Торок» заместителем командира, пообещал избавить Романа от морской болезни, будто что в этом понимал. Виктор, ясно, шутил, хотя мог посодействовать всерьез. Мочалов часто представлял себя в детской клинике, а сам по-прежнему крутился среди семидесяти мужиков, у которых никогда не болели животики, и сокровенная мечта незаметно свелась к воображаемым беседам с юными родительницами.
Привычно удерживаясь, чтобы не вылететь из койки, Роман страдал от муторной безысходности и думал о том, что расхожую поговорку «солдат спит, а служба идет» придумали зря. Не идет она, едва тащится. И вообще провались всё пропадом, если врачу отказывают в неотъемлемом праве устанавливать режим лечения.
Василий Федотович заболел, когда стояли на рейде в ожидании сигнала начать учения. Командира корабля знобило, у него появился надсадный кашель. Роман, прихватив стетоскоп и градусник, явился к Выре без вызова.
— Отставить, — сипел тот, облизывая обметанный рот. — Согласен на стопку медицинского для профилактики…
Какая там профилактика, если издалека было заметно, что температура у больного не меньше тридцати девяти градусов.
— Похоже на пневмонию.
— Не пугайте! Сам знаю, что это обычная простуда. Пройдет!
— Необходим стационар. Я доложу флагманскому врачу.
— Запрещаю! Категорически! — Выра даже подумать не мог о госпитале, том самом, где в медицинской канцелярии… — В общем, так: лечи здесь!
Понадеявшись на ударные дозы сульфидина, Мочалов отступился. Что ему оставалось, если все средства связи в руках у командира?
Когда снимались с якоря, Выра лежал в тяжелом забытьи. Доктор настоял, чтобы командира корабля не тревожили, и Артём Чеголин согласился. Но только это была полумера. С подозрением на пневмонию надо действовать радикально, и Мочалов страдал, понимая, что на это у него не хватило характера.
Ничего нет хуже гиподинамии, иначе говоря, вынужденного безделья. Койка с доктором то и дело валилась на письменный стол. Встроенный платяной шкаф падал плашмя, с кряхтеньем поднимался и снова падал, шатаясь из стороны в сторону. И всё стонало, хрипело, грубо кашляло, будто сторожевой корабль тоже нуждался в горчичниках и строгом постельном режиме.
— Товарищ старший лейтенант, — возник на пороге вестовой Бирюков, который являлся также и санитаром. — Заместитель командира просит срочно прибыть в каюту старшин.
Сверхсрочники во главе с боцманом размещались в корме, и внутреннего перехода к ним на сторожевике не существовало. Клевцов не мог придумать более ехидной вводной. Повидимому, в этом и заключался обещанный им курс лечения. Роману больше всего хотелось послать шутника куда подальше, но отныне его просьба стала приказанием, и доктор вынужден был подчиниться. Тем более пора было совершить врачебный «обход» единственного и весьма своенравного пациента.
Стоячий воздух в наглухо задраенной каюте больного был настоян на табачном дыме с острой примесью лекарств. Мочалов прислушался — тихо, включил торопливо свет и увидел: одеяло откинуто, нет рыжего реглана. Наплевав на медицину, Выра находился на мостике.
Раздосадованный, подавленный, перебирая в памяти грозные осложнения болезни — абсцессы, отеки, гангрену легких, экссудативный плеврит, пневмосклероз — мало ли что может выкинуть ослабленный, переохлажденный организм, доктор выскочил на верхнюю палубу, надеясь перебежать в каюту старшин. Роман простить себе не мог, что раньше не посоветовался с заместителем командира.
В узком пространстве между первой дымовой трубой и бортовыми надстройками клокотала вода, ручьями скатываясь в дырки шпигатов. Мочалов ухватился за скользящую рукоять штормового леера и вдруг ощутил, что стальной трос, жестко закрепленный между надстройками, конвульсивно дергаясь, провисал, а потом обтягивался струной. Корпус сторожевика, несмотря на коробчатый киль и прочные ребра из фасонных тавровых балок, прогибался наподобие позвоночника. Доктор с удивительной ясностью представил гимнастику корабля под действием сгибательных контрактур: вот выгиб, как при наклоне вперед, — кифоз, затем обратный прогиб — лордоз. Медицинские термины не успокаивали Романа, наоборот, подчеркивали, что для престарелого «Торока» такие упражнения чреваты летальным исходом.
— Назад! — вдруг заорал палубный динамик жестяным голосом. — По верхней палубе не ходить!
Выра закашлялся в микрофон, и палубная трансляция вторила многократно усиленным утробным грохотом. Мочалов повернул назад, ощущая себя не врачом, а какой-нибудь бледной спирохетой. Не стоило разговаривать с Виктором Клевцовым. Заместитель командира не станет увещевать больного Выру, когда речь идет о судьбе корабля. Пустой желудок Романа, подскочив, вытолкнул горькую желчь, а волна аккуратно слизнула её, наводя свой порядок на палубе.
В каюте Мочалов попытался расслабиться, призывая дремоту. Он никак не думал, что настырный Клевцов захочет настоять на своем. Минут через двадцать внезапно врубился верхний свет, и прозвучала хлесткая команда:
— Встать!
— Выполняется последнее приказание — с палубы завернули обратно…
— А как насчет клятвы Гиппократа? — нехорошо усмехнулся Клевцов, мокрый насквозь. — Теперь и ходить недалеко. Больной доставлен в кают-компанию.
— Почему не в его каюту? Ясно, в таком состоянии командовать кораблем нельзя.
— Командовать кораблем?
— Подозреваю воспаление легких…
— И молчал? Кто вам дал на это право? Никто вам такого права не давал… — Клевцов перешел на «вы», и его протокольный тон угнетал Романа. Взамен этого тона он был согласен на всё, даже на «клистирную трубку».
— Хотел вызвать на рейд санитарный катер, а он разорвал семафорный бланк…
— Немедленно в кают-компанию, — перебил Клевцов. — Там главный старшина Грудин.
По характерной позе больного — скрючившись — Мочалов понял: «острый живот». Только этого ему еще не хватало. Болевые схватки у Грудина не имели определенно выраженной точки, волосатое пузо вздулось, при пальпации ощущалось напряжение мышц брюшной стенки. Отступив на два пальца от передней верхней подвздошной ости слева, Мочалов осторожно нажал, резко отнял руки, и пациент охнул. Симптом был классическим, как по учебнику. Он не оставлял сомнений, и всё же Мочалов надеялся на проволочку. Госпиталь недалеко, воды прибрежные. Доктор надеялся, хотя и понимал: в такой шторм расстояние до стационара не имело никакого значения.
— Та-ак… Признавайся-ка, Грудин, такое у тебя впервые? Тогда ничего — поможем консервативно.
— Ать, чего таиться, товарищ старший лейтенант. Мы, туляки, двужильные. Маленько прихватит в трюме, прилягу — и полный морской порядок…
Старшина котельных машинистов взглянул и сразу осекся. Кабы ему знать, чего говорить. Грудин вовсе не хотел огорчать веселого доктора, который обещал лекарство.
— А когда вахту стоять нету мочи и замполит лично прибег, точно, еще не бывало. В самый первый разочек…
Но слово не воробей. Перед глазами у Мочалова маячил всё тот же учебник и в нем строчки чёрным по белому: «В течение острого аппендицита, поздно распознанного и не оперированного вовремя (т. е. первые сутки) может встретиться ряд осложнений… Эти осложнения чрезвычайно опасны и требуют немедленного хирургического вмешательства…» Легко сказать: «требуют». Мочалов всего один раз удалял червеобразный отросток слепой кишки, и то нельзя сказать чтобы самостоятельно — ему ассистировал опытный ординатор. Причем это состоялось на твердой земле, в обособленной операционной с необходимым медицинским оборудованием, при тщательном соблюдении всех правил асептики и антисептики.
— Бирюков! Стерилизовать инструмент. Кают-компанию обработать с карболкой…
Роман надраивал пальцы с мылом и щетками по способу Альфельда. Корабль взбалтывало, и, чтобы не упасть, приходилось то и дело хвататься за умывальник и начинать мытье заново. Упрямо продолжая подготовку, он пытался представить, как действовать скальпелем без опоры. Любой толчок — и последствия необратимы. Даже банальная морская болезнь могла стать орудием убийства, поскольку легкая марлевая повязка на лице не задержит извержений.
— Что ты задумал? — прибежал встревоженный Клевцов. — Надо бы получить «добро» от командира…
— Хватит! Здесь решает медицина.
В халате, с неприкасаемыми руками, доктор наступал на Клевцова, и лицо его, без кровинки, тоже казалось стерильным.
— Нет ли другого выхода?
— Почему нет? — скривился Роман. — Диагноз занести в журнал: широта, долгота, момент — всё как положено — и ждать у моря погоды. Но предупреждаю… — Он покосился на закрытую дверь кают-компании. — Кабы не было поздно. В госпиталях тоже не боги.
Корабль — это корабль, и получить согласие капитана третьего ранга Выры было необходимо, а доктор хотел замкнуть ответственность на себя. Виктор Клевцов в медицинских показаниях не разбирался, но ему требовалось понять, чего здесь больше — уверенности или отчаяния. И еще замполит вспомнил, как застал Леонида Грудина на койке с фотографиями девять на двенадцать, которые в его огромной лапе выглядели на половинный формат.
— Напоследок любочко взглянуть, — объяснил главный старшина.
Клевцов пробовал разубедить, хотя ему было не по себе. Могучий парень, моряк, ветеран войны, вел себя не по-мужски, сентиментально прощаясь с женой, которая на одном фото была в портупее со знаменитым наганом, а на другой держала на коленях ребёнка. Почему искренние человеческие чувства, если смотреть со стороны, кажутся неуместными? Сколько любви и нежности, оказывается, хранил в себе мужиковатый губошлеп Грудин, и старший лейтенант медицинской службы Мочалов давал ему последний шанс остаться в живых, а девяносто девять других шансов, неблагоприятных, брал на свою шею.
— Ладно, — сказал заместитель командира, которому тоже не раз доводилось идти на риск. — На мостик доложу сам. Нужна ли помощь?
— Мой руки. Резиновые перчатки, халат. Будешь подавать инструмент.
Больного привязали к обеденному столу полотенцами. Рыжее от йода операционное поле выделялось среди белья. А палуба по-прежнему клонилась, вздымалась, ухала вниз. Игла с новокаином в решительный миг дернулась в сторону. Шприц выпал и разбился. Мочалов приказал привязать себя к столу плетеным сигнальным линем, тоже прокипяченным в автоклаве. Но зафиксировать руки было невозможно. Держа их согнутыми в локтях, Роман едва не падал на больного, а тот следил за руками с ужасом и надеждой.
«Спокойно! — внушал себе доктор. — Только спокойно!» — и вдруг обнаружил некую закономерность своих движений: сгиб — разгиб, как на утренней физзарядке. «Раз, два — три», — невольно подсчитал он и уложился в ритм. Но главное, в крайних точках Мочалов ощутил паузы. Одна из них, на разгибе, явно была холостой, другую вполне можно использовать. Вот палуба, наклонившись, замерла на мгновение, и этого оказалось достаточным, чтобы вонзить иглу. Новый наклон в ту же сторону, и скальпель уверенно разрезал кожу. Еще крен, пауза, и обнажились мышцы брюшного пресса. Стоило Роману соразмерить действия, расчленив их на короткие целесообразные жесты, как дело пошло.
«Раз, два — три. Раз, два — три», — повторял пре себя Роман. Операция шла в ритме вальса, но счет отвлекал, и тогда он запел:
— «Корабль мой упрямо качает…» Зажимы Кохера! Да нет, не то. Я же показывал, слепая тетеря… «Крутая морская волна…» Крючки! Молодец, теперь правильно… «Поднимет и снова бросает в кипящую бездну она…»
«Понимает ли он, что поет?» — думал Виктор Клевцов, наблюдая за фигурой в белом халате, которая, откидываясь, повисала на прочном лине, снова приникала к больному, чтобы сделать одно-два быстрых и точных движения, и опять отшвыривалась назад.
Мочалов замолчал так же внезапно. Всем остальным: Клевцову, санитару Бирюкову и самому Леониду Грудину — стало страшно.
— Хоть верть-круть, хоть круть-верть, — вздохнул кочегар. — Ать, всё одно в черепочке смерть.
— Заткнись, двужильный! — грубо оборвал Роман. — Терпи, покуда твои «трюма» потрошу…
— Дык я чего? Я ничего, — оправдывался больной, явно успокоенный окриком.
Качаясь над ним, Мочалов глядел в открытую рану. Диагноз его, к сожалению, был точным. Острый абсцесс раздул тонкую оболочку отростка кишки. Она могла лопнуть сама собой или в момент извлечения. Кругом бугрились спайки, и доктор не мог заставить себя прикоснуться к ним скальпелем.
— Зато мы в тельняшках, — сказал Клевцов.
— Что такое? — возмутился Роман, но уже без надрыва. — Запомни, здесь замполитов нет, а ты всего лишь бестолковая медсестра.
— Виноват, исправлюсь…
Мочалов потребовал себе другой скальпель. Отступать было некуда. Он снова запел, хотя ему было совсем не до песен:
— «Я знаю, друзья…» Пинцет!.. «Что не жить мне без моря…» Шёлк! Иглу!.. «Как море мертво без меня…»
Червеобразный нарыв растекся уже в ведре, и Виктора Клевцова затошнило.
— Бирюков! Эвакуировать «дамочку» вон, — распорядился хирург, — ибо субтильна и к медицине питает отвращение. Обратно можешь не приходить, — добавил он Клевцову. — Обойдемся.
Ведро было принайтовлено так, чтобы Роман, в крайнем случае, мог использовать его на манер адмирала Нельсона. Но странное дело. От затянувшейся физзарядки у доктора нестерпимо ломило в пояснице, а о ведре он даже и не вспомнил.
Глава 7. Море целует
Волна вырастала огромная, с наклоненным навстречу козырьком, который, мерцая красно-зелеными бликами от ходовых огней, обрушивался на палубу. Волна шла стеной, подминала шпиль, носовой зенитный автомат и разбивалась о бронированный короб первого орудия. Воздух пополам с брызгами набивался в легкие лейтенанта Чеголина и распирал их так, что не продохнуть. Брызги стали острыми и секли глаза, как песок. Смотреть вперед невозможно, но отвернуться было нельзя. Далеко впереди штормовал флагманский эсминец, а «Торок» неотвратимо отставал, едва выгребая против ветра.
После получения радиосигнала об экстренной съемке с якоря обстановка была простой, а доктор не дал беспокоить заболевшего Выру. Но синоптики ошиблись с прогнозом, и ветер стал упругим, можно потрогать рукой. Чеголин был обязан доложить об этом командиру, дул в раструб переговорной трубы, названивал по телефону, но тот не отвечал. Рассыльный доложил:
— Их не разбудить. Бредят…
Меховая одежда на Чеголине заскафандрилась. Лед налип на бровях, на ресницах. Через равные промежутки времени корпус сторожевика, кряхтя, оседал. Но тяжелее волны на плечи лейтенанта навалилась ответственность. Он стоял, уцепившись за медные обтяжки главного магнитного компаса. Тело задеревенело, только по-прежнему ясно работала голова. Чеголин представил диаграмму динамической остойчивости. Как вместе с углом крена, растут вектора, сопротивляются наклону и пересиливают волну, спрямляя корпус. Но в какой-то момент вектора могли съёжиться и выскочить с обратными знаками. То была критическая точка, достигнув которой корабль переворачивался.
Артём пуще всего боялся упустить что-либо существенное. Всё, что можно, было закреплено. Главный боцман Буланов проверил задрайку люков, иллюминаторов и дверей. Аварийная партия и спасательные средства находились в немедленной готовности.
— Внимательней наблюдать! — на всякий случай скомандовал Артём, но голоса своего не услышал. Ветер срезал звуки, унося их за корму. Сигнальщики отвели рукавицы от глаз. Один из них, улучив момент, вскочил на банкет с мотком плетеного фала и ловко прикрутил Чеголина к тумбе компаса.
— Товарищ лейтенант, целуется море-то? — крикнул он в ухо.
Новый штурман, такой же молоденький, как и Артём, сообщил счислимое место «Торока». Они штормовали в сорока милях к северу от полуострова Рыбачий, медленно удаляясь всё дальше. И здесь ничего нельзя было изменить. В руки вахтенного офицера сунули трубку. Через меховой наушник шапки глухо звучал голос Бебса:
— Попроси Клевцова в старшинскую. Заболел Грудин.
— «Он к доктору должен пойти и сказать. Лекарство тот даст, если болен…»
Инженер-механик шутки не поддержал, и тогда Артём тоже сменил тон:
— Только не посади пары. Ты понимаешь?
— Всё понимаю, старик. В случае чего ногтями будем крутить…
Бесконечно тянулась бессменная вахта, похожая на марафон. Тело Чеголина наливалось тяжестью, обретало невесомость и опять вместе с кораблем ухало вниз. Методично, неотвратимо, настойчиво. На лице намерзала ледяная корка. Коже не хватало тепла, чтобы её растопить. Артём отдирал лед, едва не срывая ногти. Вахта и впрямь напоминала бег на длинные дистанции. Плотный шершавый воздух, царапаясь, раздирал грудь. Его всё равно не хватало. И сойти с этой дистанции нельзя. Только и оставалась надежда на второе дыхание.
Уже давно радисты приняли сигнал об отмене учения и приказ — всем кораблям укрыться на защищенных рейдах. Но для этого «Тороку» требовалось повернуть на обратный курс. Чеголин понимал — ему с таким маневром не совладать. Артём старался править в разрез волны, чуть больше подставляя ей левую скулу корпуса. Изображая невозмутимость, он смотрел по курсу вперед. Всё равно больше некому было глядеть…
— Слушай такую вещь, — толкнули его в бок. — Корабль вроде бы отяжелел. Как обстановка в носовых отсеках?
— Везде порядок. Вахта на местах, — доложил Чеголин и только потом обрадовался. Даже море в этот момент показалось тише, а с плеч свалился груз, равный водоизмещению сторожевика — шестьсот с лишним тонн. Капитана третьего ранга Выру почему-то больше всех беспокоило состояние дел в первом кубрике. Он послал туда главного боцмана, и тот доложил — там сухо. Флагманский эсминец между тем показал треугольник разноцветных огней. Сверху белый фонарь, слева — зеленый, по другую сторону — красный. Следовательно, он возвращался и, быстро сближаясь с «Тороком», мигал прожектором. Вспышки складывались в слова по азбуке Морзе:
«Ко…ман…ди…ру… Как… се…бя… чув…ству…е… те…»
— Кто натрепался? — нахмурился Выра, полагая, что начальству доложили о его болезни. — Сигнальщик! Пишите: «В командование кораблем вступил. Самочувствие гораздо лучше…»
Потом над этим семафором смеялись, изображая, как капитан первого ранга Нежин, кипя от возмущения, спрашивал у Выры, почему тот не догадался сообщить анализ мочи. Флагмана волновало самочувствие «Торока», а о болезни Выры он не подозревал.
Сумерки постепенно раздвинули границы обзора. Сторожевой корабль карабкался по сивому, косматому морю. Выра забрался на банкет с другой стороны от тумбы магнитного компаса и вместе с Артёмом считал волну, загибая для верности пальцы. А потом собственноручно засунул Чеголину в рот зажженную папиросу.
— Пока погрейся…
Лейтенант и правда продрог, а самому не приходило в голову нарушить инструкцию. В кино или в метро вот так же никто не вспоминает о куреве. Дело заключалось даже не в неожиданном послаблении. Главное, как оно было сделано. Капитан третьего ранга Выра и прежде, бывало, хвалил Артёма, хотя и не часто. Но он никогда ещё не ставил лейтенанта рядом с собой, совсем рядом, в точности, как на этом качающемся возвышении по сторонам главного магнитного компаса.
И считал на пальцах Выра не зря. Присмотревшись, Чеголин заметил, что после крупной волны следовали другие, поменьше. Девятого вала не бывает. Закономерность куда сложней. Её-то и фиксировал командир. После того как. Клевцов доложил о том, что доктор закончил хирургическое вмешательство, Выра предупредил механика, чтобы правая машина находилась в готовности отработать полным ходом назад, и посоветовал Чеголину отвязаться. Тот подчинился, хотя и считал, что в мокрой меховой одежде и русских сапогах плавать нельзя. Здесь не помог бы и надувной спасательный жилет. Однако совет командира оказался не лишним. Это стало ясно Артёму уже после поворота.
После того как «Торок» зарылся в очередной вал, руль положили на борт до отказа. Машины работали «враздрай». Лёжа между двумя кручами, корабль чертил по воде ленивую дугу, будто при замедленной киносъемке. Но капитан третьего ранга Выра недаром примерялся, почти как Яков Рочин, когда тому пришлось расстреливать мину в трале. Сторожевик накрыло, но не самой большой волной. Бурлящий поток, проникнув под брезентовый полог рулевой будки, ожег стужей. Чеголин и старшина рулевых вдвоем удерживали штурвал. Выра не отпускал рукоятей машинного телеграфа. И время тоже почти захлебнулось. Оно не могло тикать в забортной воде, как любые часы. Задерживая дыхание, лейтенант думал не о себе, но только о том, чтобы руль остался в прежнем положении. Потом, когда произвели расчеты, стало ясно, что всего градус отделял крен сторожевика от точки опрокидывания, то есть от невозвратимого маневра «оверкиль».
— Так держать! Вахту заменить. Всем под горячий душ!
«Торок», виляя и рыская на попутной волне, бежал восвояси, и лейтенант Чеголин мог наконец спуститься вниз с чувством исполненного долга.
— Иди, иди, — торопил Выра. — Отдыхай. Пока постою со штурманом.
— Между прочим, я совершенно здоров.
— Коли так, напомню: «В командование вступил» и по обстановке обязан нести службу на мостике.
— Никто вас не отстранял от командования, и потому ваш семафор непонятен. — Чеголин содрогнулся от собственной наглости, в любую минуту ожидая разноса. — Но находиться здесь с температурой — это самоубийство. И зачем? Хуже, чем было, не будет…
Между тем на мостик прибыло подкрепление. Роман Мочалов явился, в чем был. Халат его, в пятнах йода и крови, выглядел очень внушительно, и Выра позволил себя уговорить.
— Только переоденься, хлопче, — посоветовал он Артёму, — разотрись и обязательно внутрь для сугреву. Доктор! Вы меня поняли?
Внизу всё было перевернуто вверх дном. В момент поворота волна сорвала броняшку, привинченную поверх светового люка над кают-компанией и, легко продавив стекла, хлынула вниз. В офицерском коридоре воды было по щиколотку. Виктор Клевцов вылавливал из неё соленые огурцы, смачно хрустел ими. Носовая аварийная партия тоже угощалась невесть откуда взявшимися огурцами.
— А Леонид ожил, — смеялся главный старшина Рочин. — «Ать, приеду, — мечтает, — на побывку домой, а туляки-земляки встречают, как героя, с самогоном и самоваром…»
Чеголина в тепле разморило. За истекшие шесть часов он устал не только физически, но от «спиритус вини» отказался. Как-никак Артёму доверяли корабль, и это обязывало больше любых запретов.
Василий Федотович вновь поднялся наверх при подходе к узкости. Ветер стихал, но семь оставшихся баллов — тоже не сахар, если приказано швартоваться в гавани. На берегу уже стояла санитарная машина из госпиталя. И еще на причале собрались зеваки, надеясь поехидничать, глядя на швартовку. Это так просто и так безопасно хихикать со стороны.
— Иди на полубак, хлопче, — по-домашнему распорядился Выра. — И глядите с Булановым в оба.
Было время Отлива, которое и в шторм, и в штиль здесь всё равно называют «часом кроткой воды». Шпунтовая ребристая стенка гавани возвышалась пятиметровым отвесом, и поданный на неё конец смотрел круто вверх. Швартов придержали, набросив восьмеркой на кнехт. И тут на палубе появились крысы. Баковая команда, отпрянув, глядела, как они карабкались на берег по стальному тросу, скользкому от пушечного сала. Швартов вздрагивал, будто от омерзения, и каждым рывком сбрасывал рыжих канатоходцев в воду. Место их тотчас занимали другие. «Нештатная комиссия по корпусу» в панике покидала корабль, но никому не верилось, что «Торок» свое отплавал.
Артём Чеголин прикидывал, где искать течь, думал о том, что следует немедленно изготовить аварийный материал, струбцины, распорки, цемент, шпигованные пластыри. Он совсем упустил из виду, что пауза на швартовке может обойтись дорого. Яков Рочин дольше его служил на флоте и потому был внимательнее. О криком «Полундра!» он сбил лейтенанта с ног и рядом упал сам. Надраенный втугую крученый перлинь с треском лопнул, хлестнул обрывками, которые вполне могли перешибить пополам.
— Брось, товарищ лейтенант, — сказал Яков Кузьмич, наспех пожав протянутую руку. — Чего там… Давай командуй!
Над гаванью вставало солнце. Заснеженные скалы отливали розовым, а между ними густо голубела, шершавилась вороненой рябью морская вода. Морозный прозрачный воздух щекотал и склеивал ноздри. От запаленного «Торока» шел неповторимый родной дух: смесь разогретого мазута, горячего металла и человеческого жилья.
После долгой ночи восход солнца — это подарок. Удивительно сочными казались краски. На палубе резали глаз трофеи недавнего шторма: покорёженные кожухи и раструбы вентиляторов, разбитые шлюпки, срезанные стойки лееров. Колокола громкого боя частыми звонками играли аварийную тревогу. Предстояло осмотреть трюма и отсеки и, обеспечив плавучесть, составлять ведомости на ремонт. Но главное — снова взошло солнце, и всё воспринималось Артёмом в необыкновенно ярком, праздничном свете.
Глава 8-я и последняя. «Чего не командуешь, лейтенант?»
Последний раз Чеголин увидел его в кино. Море — стиснутое рамкой чёрно-белого экрана, казалось не морем вообще, то есть просто большим количеством воды, без особенного цвета, без вкуса, без своего неповторимого запаха. На дальнем плане угадывались смутные очертания берегов. Официально-торжественный голос за кадром сообщил тему учебного фильма. Такие служебные ленты как новобранцы — любая суть обмундирована в одинаковую робу из серой холстины: панорама полигона, пояснительная мультипликация, сосредоточенные лица статистов, которые нажимают кнопки, крутят штурвалы, наклоняются над радиолокационными развертками, и снова панорама… с результатами.
И этот фильм не был счастливым исключением ни по кадрам, ни по монтажу. Но Чеголин вздрогнул при виде сторожевика, который покачивался на экране, опустив в воду правую якорь-цепь.
«Торок»? Ну конечно он, небольшой по размерам и знакомый до последней заклепки. Первый корабль моряку так же памятен, как и первая любовь.
За бортом висел неубранный шторм-трап, и некого было пристыдить за эдакую небрежность. На палубе пустота. Только раскачивалась в такт волне полураскрытая дверь в центральный артиллерийский пост.
Перед глазами Чеголина замельтешила мультипликация. Стрелка-указатель суетилась на схеме, поясняя дикторский текст. Но Артём уже ничего не слышал. Он сидел, как на гражданской панихиде, думая о своем «Тороке».
Корабли рождаются на стапелях, борются или отступают перед стихией. Они побеждают или садятся на рифы, живут и умирают, совсем как люди. У кораблей есть судьбы великие, как у «Авроры», есть героические, подобные легендарному «Варягу», или с блеском трудовой славы, как у ледокола «Ермак», либо с научными заслугами, вроде «Персея» или «Витязя». А «Тороку», с самой закладки его, было назначено стать учебным сторожевиком. По нему проходили азы военного кораблестроения, а первые плавания в северных морях, открытых всем штормам, разве не похожи на неуверенные шажки ребёнка, который, возмужав и окрепнув, стал богатырем, уверенно несущим военно-морской флаг на просторах всех океанов. Не было у «Торока» особых заслуг. Судьба его скромна и неярка свершениями, как у школьного учителя.
Документальные кадры подводили итог применению оружия. Сторожевик открылся на экране с лютыми пробоинами. Из повергнутых взрывом надстроек рвалось и бушевало пламя. Дико смотреть на военный корабль, где не борются за живучесть, не заводят пластырь, не укрощают пожары…
«Слушай такую вещь! — почудилась Чеголину знакомая присказка. — Чего не командуешь, лейтенант? А еще нормальное училище кончил?»
Что там «училище», когда военная академия давно уже позади. Но голос у командира был еще молодым. Он принадлежал не капитану первого ранга Выре, доценту той же академии, а еще тому капитан-лейтенанту… Василий Федотович явно сердился и был прав: «Чего не командуешь, лейтенант? Кто же вместо тебя будет спасать родной корабль?»
Живая память с привкусом острой горечи заглушила пояснения диктора за кадром. И развороченная палуба «Торока», будто приблизившись к Чеголину, стала объемной, а жаркое пламя припекало его лицо.
«Вооружить эжектора! Как давление в пожарной магистрали?»
«Пять килограмм — норма! — будто бы доложил Бебс и прибавил дружески: — Не тушуйся, старик!»
Инженер-механик, как и следовало ожидать, говорил из поста энергетики и живучести. Иван Буланов во главе аварийной партии опускал за борт эластичный шпигованный пластырь. Яков Рочин с комендорами, в дыму и огне, отстаивал пушки. Чеголин распоряжался. Всё шло как надо. Вот только не оставляло Артёма полузабытое ощущение мальчишеской неуверенности, когда до зарезу требуется добрый совет командира корабля. Конечно, тот вмешиваться не станет, и замечания, и советы последуют на разборе.
Чеголин украдкой оглянулся хотя бы за ободряющим взглядом… и наваждение исчезло. Перед глазами возник скорбный экран, а он был зрителем в кинозале. Выры не было рядом и не могло быть. Василий Федотович недавно в письме поделился радостным событием: Егорку приняли на первый курс военно-морского училища, и коли так, писал он, хлопец на верном пути. «Понимаешь, — объяснял Василий Федотович, — с сыном нельзя развестись». Сверх того, он не прибавил ни слова, но Артём узнал от контр-адмирала Клевцова, что Петра Осотина уволили с флота, а некоторое время спустя, схваченный за поножовщину, он огрёб по суду положенный срок…
А на экран невозможно было смотреть. Безлюдный, пылающий «Торок» был только мишенью. Чеголин сжал подлокотники кресла, увидев, как полубак окунается в воду. Корма задралась, и оказалось, что под ней нет даже винтов. Почему-то это особенно подействовало на Артёма. Корабль-мишень ушел на дно, сиротливо сверкнув культями голых гребных валов.
Остальных зрителей больше занимала тема фильма. Всё было правильно. Учебный «эскаэр» «Торок» до последнего момента пестовал военных моряков.
пос. Ваенга Мурманской обл, — Ленинград
1949–1980 гг.
ОГЛАВЛЕНИЕ
Часть первая Шилом море не нагреешь
Глава 1 Вопросы по тактике
Год 1942-й. Время полной воды
Глава 2 Абрам-корга снялась с якоря
Глава 3 Только без панибратства
Год 1942-й. Прикладной час
Глава 4 Чтобы не было шептаний по гальюнам
Год 1942-й. Шило на мыло
Глава 5 Челночный обмен в промежуточном диапазоне
Год 1942-й. Сладким будешь — проглотят
Глава 6 Отношение и обращение
Год 1942-й. Будешь горьким — расплюют
Глава 7 Авторитет зарабатывай сам
Год 1942-й. Поправка глубины
Глава 8 Виноват Жулик!
Год 1942-й. Новоселье
Глава 9 Вахту принял исправно
Глава 10 Дробь получается…
Глава 11 Накажите меня
Часть вторая Год 1943-й. Хождение в день вчерашний
Глава 1 Ну темнота…
Глава 2 «Сэр Захар»
Глава 3 Фифти-фифти
Глава 4 Мёртвая зыбь
Глава 5 Пятница падает на тринадцатое
Глава 6 О флотских досугах
Часть третья Как понимать легенды?
Глава 1 Крапивное семя
Глава 2 Шапка дыма
Глава 3 Сказки мне ни к чему
Глава 4 «Шурик» без целлофана
Глава 5 Бремя славы
Глава 6 ТИРЕШКИН — крупными буквами
Часть четвертая Взаимозамкнутость
Глава 1 Незаменимых нет
Глава 2 Вакцинаия по-житейски
Глава 3 «Сильное сопротивление силой»
Глава 4 Пять недель Якова Рочина
Глава 5 А судьи кто?
Глава 6 В ритме вальса
Глава 7 Море целует
Глава 8-я и последняя «Чего не командуешь, лейтенант?»
Кирилл Павлович Голованов
МОРЕ ДЫШИТ ВЕЛИКО
OCR и редактирование: С-Пб — Мурманск 2018 год.
Шрифт — Cambria Font

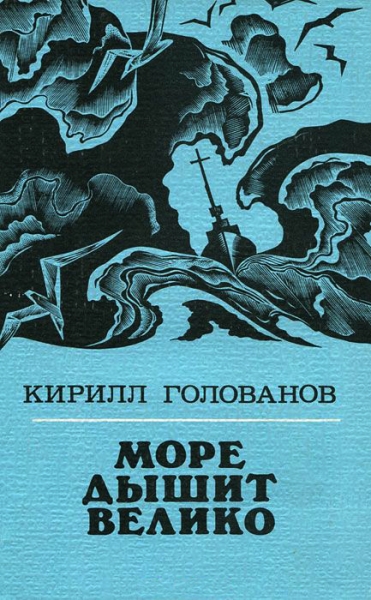


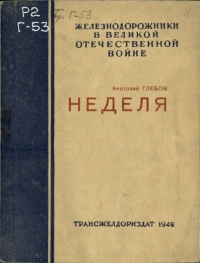




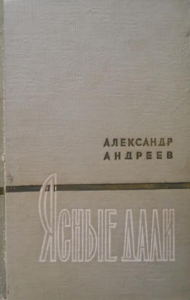

Комментарии к книге «Море дышит велико», Кирилл Павлович Голованов
Всего 0 комментариев