Глава первая
В знойную июльскую пору тысяча девятьсот двадцать первого года вверх по Васюгану плыли караваном проконопаченные паклей с варом, просмоленные тесовые лодки. В лодках под брезентом и берестой – груз, на кормовых и носовых лавках – мужики, бабы, ребятишки. Лодки осели в воду по самые верхние бортовины и двигались медленно, тяжело, будто взбирались на крутую гору. Хотя река Васюган тихая, без волны, и темная-темная, как из навара чаги, а все ж не стоит она на месте, катит непроглядное, мутное месиво из воды, ила, древесного мусора к глубоким обским омутам. В версте от каравана – два баркаса. В них – кони и коровы на тугих привязях.
Взрывая вековечную тишину Васюгана, гулко хлопали о воду плицы гребей, пронзительно взвизгивали от натуги уключины, перекрикивались по-богатырски звонкими и сильными от эха голосами горластые мужики.
Старый, матерый глухарь взгромоздился на сухую вершину высоченного кедра, вытянул вороненую шею и замер, будто окаменел. Птичий век его подходил к концу, а такого скопления людей ему видывать на этой безмолвной реке не доводилось.
На третий день пути Васюган изогнулся, словно змея перед прыжком, и рассек глухую холмистую тайгу длинным и прямым, наподобие охотничьего ножа, плесом. Слева поднимался белый, чуть не меловой яр в отменных лесах: кедр, сосна, береза – и все как на подбор; а справа тянулся серебрящийся и днем, и в лунные ночи песок, чисто промытый в половодье. Вдоль реки по песку стояла зеленая стена из тополей, ветлы и тальника. За этой стеной расстилались гладкие, покрытые густой травой заливные луга. Вдали их разбег преграждала непроглядная, дремучая тайга. Она сливалась с небом, и думалось, нет у нее ни конца ни края.
Когда прямой плес пошел на закругление, первая лодка причалила к берегу. Из нее выпрыгнул высокий длиннорукий мужик. Он был в броднях с завернутыми голенищами, в просторных холщовых шароварах, в сатиновой рубашке без пояса. Большую лобастую голову покрывали волнистые, почти кудрявые светло-русые волосы. На щеках и под губами лохматилась небогатая бородка, тоже почти кудрявая. На сухощавом лице – крупный нос и неспокойные серые глаза, зоркие, в прищуре, диковатые, как у рассерженной рыси, а минутами добрые, буйно-веселые. Это был Роман Захарович Бастрыков.
– Правь сюды! – крикнул он кормовым в лодках и зазывно замахал руками.
– Чуем, Роман! – отозвались с лодок, и они одна за другой повернули к берегу.
– Ну айда, ребятушки, на смотрины, – сказал Бастрыков мужикам, вместе с ним сошедшим с лодки.
Сокрушая бурьян сильными ногами, Бастрыков шагнул прямо в чащобу леса, полез в гору. За ним цепочкой потянулись: толстый, с повисшей сухой рукой Васюха Степин; его братан Митяй – жилистый, гибкий парень с отчаянными, озорными глазами и усмешкой на веснушчатом лице; грудастый силач Тереха, крепкий и тяжелый, будто выпиленный из лиственничного сутунка, и десятилетний парнишка, щуплый цыпленок, розовощекий и светлоглазый, как девчонка, Алешка, сынок Бастрыкова, нигде и никогда не покидавший отца. Лес скрыл мужиков, голоса их стали неразборчивыми, а потом и вовсе затерялись в неподвижной немоте тайги.
Лодки пристали, но на берег никто сходить не рисковал: а вдруг придет Роман с мужиками и доведется снова плыть по Васюгану дальше и дальше?
Ждали долго – может быть, час, а то и поболе. Вот стал слышен хруст сушняка под ногами мужиков, потом их говор. Они были веселы, разговаривали громко, смеялись, Митяй Степин присвистывал и от озорства и от удовольствия. Гоготал и сам Роман Бастрыков. Его любимец Алешка попискивал наподобие бурундучка тонюсенько-тонюсенько, будто дул в соломинку.
– Над чем вы там ржете-то, как жеребцы стоялые? – крикнули с лодок, когда головы мужиков замелькали в прибрежном бурьяне.
Алешка обогнал всех, подбежал к лодкам первым, давясь смехом, принялся рассказывать:
– Михайла Топтыгин… учудил… Идем, а он на полянке балуется… Испужались мы… убечь хотели. А тятя говорит: «Давайте тумнем все разом». Мы и крикнули. Ка-а-ак он сиганет! И пошел и пошел, только хруст стоит. Так перепужался, что с перепугу всю поляну обмарал…
Алешка закинул вихрастую головенку, залился звонким смехом.
– Господи боже, и куды нас нелегкая занесла! – запричитала на одной из лодок баба, повязанная, невзирая на жару, теплым полушалком.
– А если б он кинулся на вас – тогда что? Голой рукой разве его возьмешь?! Подмочил бы ты тогда, Алешка, штаны-то! – ухмыльнулся кормовой самой большой лодки Иван Солдат, степенный мужик со смолево-черной окладистой бородой.
– Голой рукой?! А вот он – топор! Хрясь по черепку между глаз – и готов! – подходя к лодкам, сказал Митяй и поиграл топором, перебрасывая его из руки в руку.
Последним вышел из лесу Бастрыков. Люди в лодках примолкли, бросали на него нетерпеливые и вопрошающие взгляды. Бастрыков вытер рукавом рубахи взмокшее, в крупных каплях пота, раскрасневшееся лицо.
– Тут и осядем, братаны.
– Обскажи выгоды, – попросил Иван Солдат.
И все вокруг насторожились, чтобы не упустить чего.
– Перво-наперво – место, – заговорил Бастрыков. – Видимость во все стороны. Мы видим, и нас видят. Избы срубим по яру, вдоль реки. Лес тут же: сосна, ель, пихта. Что тебе по душе, то и руби. Чуть подале – кедрач, а раз кедрач, то и орех, и зверь, и ягоды под рукой.
– А под пашню чистина найдется? – спросила баба, низко повязанная полушалком. На нее зашикали: не перебивай, мол, дойдет черед и до этого, Роман не без головы.
Но Бастрыков услышал и ответил без промедления:
– Чистины есть, а только сразу не вспашешь. Выжигать и корчевать придется.
– Ой, мужики, насидимся без хлеба! – воскликнула баба.
– Проживем, Лукерья! Рыба, дичь, ягода…
– Обсказывай, Роман, выгоды…
– Ну, вон напротив нас луга, – продолжал Бастрыков. – Есть где скотине мясо и жир нагуливать. А рядом с нами еще одна речка. – Он махнул длинной рукой. – Вот этот заливчик устье обозначает. В случае, если в большой реке рыбы нету, в малой ее будем брать…
– Будто для нас сотворено это место, – подтвердил Васюха Степин.
– От добра добра не ищут. Давайте выгружаться да балаганы к ночи готовить. Не ровен час гроза соберется. Припаривает, как в бане. – Иван Солдат похлопал себя широкой ладонью по нечесаной, лохматой голове.
– С богом! Не один ли шут, где помирать: здесь или еще где. – Лукерья встала, сбросила с себя полушалок и, сразу чудом помолодевшая, легко и ловко выпрыгнула из лодки.
– Ты у меня докаркаешься! – крикнул на жену Тереха и угрожающе, без шутки, поднял кулаки-кувалды на уровень крепкой, выгнутой груди.
Мужики, бабы, ребятишки – все кинулись из лодок на берег. Митяй подошел к толстой сосне, ловкими ударами топора стесал боковину. Алешка сбегал в лодку, принес банку со смолой, Митяй корявыми буквами вывел: «Сдеся поселилась сельскохозяйственна коммуна “Дружба”.
– Как, Роман, вывеска подходяща? – спросил он, когда работа была окончена.
Бастрыков сидел на пеньке, плановал с мужиками, как расставить балаганы, где поместить общую кухню и построить склад для хранения припасов и прочего имущества.
– Какая вывеска? – Бастрыков озабоченно взглянул на Митяя и своего сынка Алешку, который, как вьюн, крутился то возле отца, то возле парня.
– А вона… Пусть все знают, что пришла на Васюган советска власть и коммуния, – указывая на толстую прибрежную сосну, с торжественностью в голосе произнес Митяй.
– Глянь, тятя, глянь! – схватив отца за руку, Алешка тянул Романа за собой.
Бастрыков встал, подошел к сосне. Мужики все до едина двинулись за Романом.
Около сосны Роман остановился, уставил длинные руки в бока, откинул голову и замер с тихой улыбкой на губах.
– Эх, чертяка, угораздил! – Бастрыков бросил на Митяя довольный взгляд. – Вывеска неслыханна, никто мимо такой вывески не пройдет, не проедет. – Он прищурил глаза, вслух по складам прочитал: – «Сдеся поселилась сельскохозяйственна коммуна “Дружба”. – Потом произнес эти слова еще и еще раз. По гордой осанке, по задорно взбитой бороденке, по блаженству, которое отражалось на худощавом, забронзовевшем на солнцепеке лице, чувствовалось, что слова эти вызывают в душе Романа и радость и гордость и нет в жизни у него слов, которые были бы сейчас дороже этих.
– А кто вашу вывеску читать будет? Медведь придет или налим из-под коряги выплывет? – с ехидной усмешкой спросила подоспевшая к мужикам Лукерья, снова повязавшая голову теплым полушалком.
Тереха сердито покосился на жену, и опять его увесистые кулаки угрожающе поднялись. Но Бастрыков посмотрел на Тереху осуждающе и Лукерье ответил с подчеркнутым уважением:
– Для самих себя это, Лукерья! Мало ли люди напридумали себе всяких удовольствий. Ну вот и мы: знай, дескать, наших, как-никак – коммунары!
– Да разве мы одни тут? Раскиданы здесь люди, как суслоны по пашне, – сказал Васюха Степин и повернулся к брату. – Доброе дело Митюшка придумал.
– Остяк, он хоть и не прочитает, потому что темен, а заметить – заметит. Глаз у него страсть какой зоркий, – обращаясь по-прежнему к Лукерье, пояснил Бастрыков. – И любопытен он, как ребенок. Вот пройдет слух, что мы на Белом яру поселились, и зачтут они к нам ездить… Придется привечать. Угнетенный был народ, обиженный…
– Парижски коммунары всем трудовым людям дружки были. Абы ты черны мозолисты руки имел, – хвастнул своими познаниями Митяй.
Алешка взглянул на него с завистью и поближе встал к парню. Тот, к великой радости мальчишки, обнял его при всех.
– Ну, братаны, дело надо делать, – сказал Бастрыков. – Одни будут лес валить, другие с неводом на рыбалку поедут. Вася, ты тут на берегу за старшего, а я там – на воде.
– А где я буду, тятя? – влез в разговор Алешка.
– Где иголка, там и нитка, – ласково усмехнулся Бастрыков.
– А Митяй куда пойдет, тятя?
– Митяй – лесоруб. Пойдет лес валить.
Алешка задумался: хорошо бы пойти с Митяем, весело с ним, но жалко покидать и отца, с ним всегда спокойно, хорошо: что не знаешь – он расскажет, что попросишь – непременно уважит, сделает.
– А ты, может, со мной, Алешка, пойдешь котелки чистить? – подскочила к парнишке Мотька – дочь Васи Степина, крепкая, мускулистая девка, проворная, как огонь.
– Вались-ка ты со своими котелками в болото, – отмахнулся Алешка и заспешил вслед за отцом.
Ушли мужики на работу, и опустел взлобок около обтесанной сосны. Остались тут одни бабы выгружать пожитки, только Лукерья отошла в сторону, привалилась к сосне, окинула взглядом по лихорадочному мятежных черных глаз широкий разлет лугов, блестящую, всю в золотых бликах реку, яр с нависшими над круговертью бездонных омутов соснами и березами, тяжело вздохнула. Нет, чужим и неприветливым казался ей этот далекий, пустынный край. Ни обилие рыбы в непроглядной, темной реке, ни эти безлюдные просторы, полные нетронутого богатства, ни радости коммунарской жизни, которые с такой щедростью обещал Роман Бастрыков, – ничто не трогало Лукерьиного сердца. Неужели ради прозябания тут, в этой глуши, стоило бросать насиженное гнездо в хлебопашеской родной сторонке, плыть пять суток на полуразбитом пароходишке все к северу, все к северу, а потом скрестись три дня на утлых лодчонках, рискуя в любую минуту наскочить на коварный подводный карч? Нет…
Лукерья закрыла лицо полушалком, всхлипнула.
– Лушка! Лукерья! – донесся голос Терехи.
Лукерья вздрогнула, выпрямилась.
«Господи, хоть бы ты-то, постылый, забыл меня в этот час! Ни детей с тобой не прижито, ни добра с тобой не нажито».
– Тут-ко я, Тереша! – слабым голосом отозвалась Лукерья.
– Иди-ка скоро! – снова донесся гневный голос Терехи.
Она побрела на голос мужа. Ноги ее вязли в песке и передвигались с таким трудом, будто были привязаны к ним пудовые гири.
Вдруг на яру ударили острые топоры, рассыпался по тайге их стукоток, потом зазвенели поперечные пилы, рассекая дремотную тишину знойного полудня, рухнула первая сосна, да так рухнула, что земля задрожала.
Лукерья торопливо перекрестилась, со стоном произнесла:
– Батюшки светы, неужто не будет конца этой распрочертовой жизни!..
Глава вторая
Никто, ни один посторонний человек не видел, как выгружались из лодок коммунары, как они три дня и три ночи без передышки ладили балаганы, амбар, рубили лес на постройку домов. Рано утром на четвертый день жизни у Белого яра произошел случай, который хочешь не хочешь заставил думать, что весть о прибытии коммунаров разнесли по Васюгану птицы.
Сидели у костров, завтракали. Бабы нажарили язей, напекли белых пышек из государственной муки, выданной коммуне наряду с двумя неводами, двумя баркасами, двенадцатью лодками, двадцатью охотничьими ружьями, с припасом «в порядке поддержки рабоче-крестьянской власти коммунистических устремлений бедноты и батрачества», как говорилось в постановлении губисполкома.
Ели у костров на длинных столах, сколоченных из толстых кедровых плах. Ели не спеша, деловито и основательно: впереди предстояла тяжелая работа.
– Лодка на реке! – вдруг крикнул Алешка, выскакивая из-под прибрежного куста, где он сидел с самого рассвета с удочками.
Коммунары отодвинули еду, встали из-за столов, потянулись один за другим поближе к реке. Отсюда, с изгиба берега, хорошо, насквозь просматривался и нижний плес, прямой как стрела, и верхний плес, круглый и тихий, как таежное озеро. Лодка плыла по этому верхнему плесу, ближе к левому берегу, возле которого было все-таки небольшое течение.
– Откуда же он плывет? И кто он?
– А может быть, он не один!
– А что, возьмет помашет нам платочком, и был таков, – переговаривались коммунары.
Подошла Лукерья, сложила руки крестом на груди, прислушалась к разговору, поблескивая глазами, с усмешкой сказала:
– Эка невидаль – человек едет! Совсем скоро одичаем, друг на дружку бросаться начнем.
– Тебе, Лукерьюшка, такое в привычку. Тебе только моргни, ты в момент фонарей Терехе под глаза наставишь, – съязвил под смех коммунаров Митяй.
– Черт ты сухоребрый! Язык у тебя, как помело, всяку грязь метет! – не осталась в долгу Лукерья.
Митяй не ждал такого удара, на мгновение опешил, тараща глаза на молодую, гибкую Лукерью, смачно выплюнул окурок, собираясь сказать ей в ответ такое, что аж лес закачается. Но Бастрыков опередил его:
– Не груби ей, Митяй. Грубостью не убедишь. Вот подожди: она сама скоро нашу жизнь поймет…
Лукерья отступила на шаг, внимательно, благодарным взглядом посмотрела на Бастрыкова.
– Спасибо тебе, Роман. Будь все такие, как ты, не то что коммунию – царство небесное на земле люди давным-давно воздвигли бы.
Бастрыков ухмыльнулся в клочковатую бородку, приветливо взглянул на рослую красавицу, вразумляющим тоном сказал:
– Коммуния, Лукерья, куда лучше царства небесного. Это царствие для мертвых, коммуния же для живых.
– Тять, в лодке остяк, в платке, с трубкой в зубах! – снова подал голос глазастый Алешка.
Все замолкли, пристально всматриваясь в приближавшегося человека. Вскоре стало видно, что человек плывет в легком обласке, по бортам обитом свежим ободком из черемухового прута. На середине обласка в железном ведерке курится синеватым дымком огневище. Таежный человек без огня ни шагу. И против гнуса и против зверя огонь – первое средство. Тлеет на угольках березовый нарост – трут, источает горьковатый запах. Без этого запаха остяк дня не проживет, как не проживет он и одного часа без крепкого табака. Приткнется остяк к берегу, сунет уголек под горсть сухого мха, а запылает огонь во всю силу.
– Здравствуй Ленин, а царь Миколашка нет! – закричал остяк, размахивая веслом.
– Ты смотри-ка, Роман, он про политику, – подмигнул Васюха Степин.
– Чует трудовой люд нашу Ленинску природу, – с важностью в голосе заключил Митяй.
Бастрыков разглядывал гостя.
Когда обласок ткнулся в песчаную косу, остяк поднялся, вышел на берег. Это был маленький, сухонький старичок с желтым морщинистым лицом, жидкими – в три волоска – усами и такой же бородкой, росшей на шее. Подслеповатые глаза его в красных, воспаленных веках слезились. Щеки запали, скулы заострились. Остяк был в броднях и ветхих, латаных штанах. Жесткая, полубрезентовая рубаха, прогоревшая по подолу, висела на нем, как бесформенная мешковина. Седая голова была по-бабьи повязана пестрой, ношеной-переношеной тряпкой. Чуткая к чужой нужде, отзывчивая на всякое горе душа Бастрыкова содрогнулась. Он заторопился навстречу бедняку, протягивая руку. Но старик, завидев его приближение, упал на колени, вскинул руки, забормотал:
– Здравствуй, большой начальник! Ёська пить-есть хочет. Ёська зверя бить хочет. Порфишка припас прячет, соболя дай, белку дай.
Смущенный Бастрыков подхватил старика под мышки, поднял его, поставил на ноги, виновато сказал:
– Так нельзя, дружище! Не старое время. Знай, я не начальник. Я председатель коммуны. А у нас все равные… Лукерья, приготовь-ка ему что-нибудь. Перво-наперво покормить его надо.
Остяка увели к столам, посадили, окружили стеной.
Он обжигался горячими пышками, жадными глотками пил сладкий, с сахаром, чай. Бастрыков посоветовал коммунарам идти на работу. При себе оставил Васюху Степина и Митяя. Остался, конечно, Алешка, не спускавший глаз с остяка.
Когда старик подкрепился и, набив табаком самодельную трубку с длинным березовым мундштуком, украшенным латунным колечком, задымил, мужики принялись расспрашивать, какая нужда заставила его приехать в коммуну. Старик сморщился, запыхтел, из воспаленных глаз потекли слезы.
– Ёська жить хочет. Ёська бабу кормит, парня кормит, девку кормит… Порфишка-купец товар прячет, припас прячет…
Старик рассказывал долго. Он то плакал, то негодовал, потрясая сухонькими, в пятнах смолы и ссадинах кулачками, то плевался желтой табачной слюной. Мужики слушали, стараясь правильно понять сбивчивый рассказ.
– Стало быть, дружище, – заговорил Бастрыков, – ты у коммуны подмоги просишь. Знай сам и другим расскажи: подмогу мы тебе окажем, хоть сами мы небогаты. Муку дадим и припас дадим. Наша вера такая: есть у тебя кусок – отломи от него и товарищу дай.
Ёська соскочил со скамейки, намереваясь снова встать перед Бастрыковым на колени. Но Митяй довольно бесцеремонно схватил старика за шиворот и опять посадил на скамейку.
– У коммунаров, братуха, равенство-братство и все, что есть, мое – твое, твое – мое.
Старик понял, что Митяй сказал что-то очень значительное, и принялся ему кланяться.
Васюха Степин, назначенный общим собранием коммунаров заведовать складами, направился под навес, где, прикрытый брезентами, лежал продовольственный запас коммуны, а также в особом ящике порох, дробь, пистоны, несобранные, все в смазке, двуствольные ружья центрального боя.
Пока Васюха отвешивал на скрипучем, изржавленном кантаре муку, Бастрыков и Митяй разговаривали с остяком.
– А что, дружище, много вас тут по Васюгану обитается? – спросил Бастрыков, не переставая смотреть на старика участливыми, с ласковой искринкой глазами.
Остяк в задумчивости стянул к губам подвижные морщины, перебирая пальцы, долго молчал, потом заговорил неожиданно оживленно и даже бойко:
– Ёська все здесь знает. В устье бывал, в вершине бывал, на большом болоте зверя бил. На Чижапке птицу промышлял. Ёська считать будет – слушай: стойбище Югино – пять юрт, еще пять юрт, еще две юрты.
– Двенадцать юрт, – подытожил Митяй.
– Стойбище Маргино – пять юрт, еще две юрты.
– Двенадцать юрт плюс семь юрт, итого девятнадцать юрт, – вел свой счет Митяй. – Стойбище Наунак… много юрт?
– Ёська худо считать знает.
– Ну все-таки скажи, сколько там юрт? Намного Наунак больше, чем Югино? – заинтересовался Бастрыков.
Старик вскинул голову, повязанную платком, уставился подслеповатыми глазами куда-то в небо, твердо сказал:
– Наунак два Югино и еще Маргино.
– Двадцать четыре плюс семь будет тридцать один.
Значит, в твоем Наунаке, отец, тридцать одна юрта, – быстро подсчитал Митяй.
– Будет так, – утвердительно кивнул старик.
– А где живет Порфишка? – спросил Бастрыков, с усмешкой взглянув на Митяя.
– А, язва ему в брюхо! – Остяк сердито махнул рукой и опасливо огляделся. – Порфишка сильно худой человек… До него от вас семь плесов. – Старик погрозил полусогнутым пальцем в пространство. – Помирать будет – Бог спросит: за что, Порфишка, остячишков мучал? Зачем братишку Кирьку стрелял?
– Нет, дружище, так не пойдет, – замахал кудлатой головой Бастрыков. – Об этом Порфишку надо до его смерти спросить и на Бога эту работу не перекладывать.
– У коммунаров, братуха, так: на бога надейся, а сам не плошай, – засмеялся Митяй и обнял худенького, сгорбленного старика.
Остяк понял Митяевы слова, тронутый лаской, заглянул ему в лицо:
– Смелый ты, а Порфишка хитрый. Днем следы прячет, ночью живет.
– Ты позволь мне, Роман, съездить к этому Порфишке, испытать его хитрость.
– Подожди, Митяй, вместе поедем. Я тоже хочу на этого зверя посмотреть. Пусть знает: остяков обижать не дадим!
Алешка не упустил подходящего случая, встрял в самый решающий момент:
– Я, тятя, вместе с Митяем в греби сяду. Ты в корму. Ладно будет?
– Добро.
Подошел Васюха Степин с узелком и мешком в руках.
– Ну вот тебе, отец, пуд муки и на двести зарядов пороха и дроби.
Такой щедрой помощи остяк не ожидал. Он встал, посмотрел просветленными глазами на Васюху и Бастрыкова, на Митяя с Алешкой, размахнул руками, как бы заключая их в объятия. Потом не по-стариковски проворно сгреб узелки и мешок с мукой и бросился рысцой к лодке, как бы опасаясь, не отнимут ли у него полученное сокровище.
– Таежна душа, а ласку чует не хуже нас, – заметил Митяй.
Когда лодка остяка заскользила по воде, удаляясь от берега, Бастрыков сказал:
– Наша коммуна для них – защита от всех бед. И путь у них один – к нам.
Глава третья
Крестовый, рубленный «в замок» дом Порфирия Игнатьевича Исаева на самом юру. Река здесь выгнулась лукой и образовала мыс. Васюган отсюда проглядывается и влево и вправо на добрый десяток верст. Позади дома чернеют темные кедрачи, а за рекой напротив усадьбы расстилаются поросшие зеленой муравой заливные луга. Лучших мест для покоса или пастьбы скота желать трудно. В летнюю ли пору, в зимнее ли время зловещим багрянцем полыхают при восходе и при закате солнца стекла в больших окнах исаевского дома. За домом надворные постройки, двухэтажный амбар, конюшня, хлев, сарай, крытый еловой дранкой.
Двор обнесен высоким бревенчатым забором и кажется издали неподступным, как беркутиное гнездо, сооруженное птицей на самой маковке трехсотлетней лиственницы. Но подход к дому есть, даже с удобствами.
– Ты смотри, Роман, какую лестницу он сгрохал. Прямо от реки начинается да еще с перилами, как у царя. Вот сукин сын! – весело смеялся Митяй, работая гребью и с озорством поглядывая на усадьбу Исаева, расстояние до которой укорачивалось с каждой минутой.
Бастрыков был настроен серьезно. Поправляя веслом ход лодки, он исподлобья смотрел на гнездо васюганского старожила, думал: «Вцепился в берег намертво! Трудно будет отсюда его выковыривать, а выковыривать придется. Васюган может быть либо наш, либо Порфишки. Середки тут не должно быть».
Вспомнилась Бастрыкову беседа с секретарем волкома партии в Парабели.
– Васюган, товарищ Бастрыков, мало заселен, – говорил ему секретарь волкома. – Но это не значит, что там нет жизни, классовой борьбы. Еще в девяностые годы на Васюгане осел кулак, а точнее, купчик Порфирий Исаев. Остяки по простоте душевной зовут его Порфишкой. Впрочем, они и самого царя называли прежде Николашкой… Ну вот, определенно никто не знает, откуда пошло у Исаева богатство, но остяки утверждают, что добыто оно нечестным путем. Долгие годы охотился на Васюгане знаменитый охотник Мартын Богатырев. Был он сам из Томска. Однажды осенью Мартын исчез бесследно. Найти его не удалось. А вскоре после этого достаток Исаева стал подниматься, как тесто на дрожжах. И по сию пору держит Исаев в своих руках все остяцкое население. По-видимому, с дореволюционных лет имеет он изрядные накопления продовольствия и ружейных припасов. Пользуясь нерасторопностью нашей кооперации, ссужает остяков под чудовищные проценты, короче, обирает их…
– Ну а почему его… не того?
Бастрыков прижал ноготь большого пальца к столу, и секретарь волкома без дальнейших пояснений понял, что тот хочет сказать.
– Не так это просто, товарищ Бастрыков. Формально Исаев числится зажиточным крестьянином, экспроприировать его имущество, как принадлежащее капиталисту, у советской власти нет оснований. Да и хитер он, змий подколодный. Старается выглядеть благодетелем местного населения. Разными способами, и прежде всего через самих остяков, поддерживает о себе добрую славу. В прошлом году остяки Васюгана на съезде революционного крестьянства Нарымского края предложили избрать «друга Порфишку» в Комитет Севера при губисполкоме как своего представителя. Немало нам пришлось поработать, чтобы доказать им, да и всему съезду, что «представитель» этот не только не надежен, но даже и опасен. Убежден, что вашу коммуну он встретит враждебно. Сами подумайте: выгодно ли ему уступать свое положение князька на Васюгане? Ну а как бороться с ним, как разоружить и победить его, – это дело ваше. Присмотритесь к этой берлоге, изучите получше его тактику, не бросайтесь в омут очертя голову…
– Я тебе, Митяй, что хочу сказать, – заговорил Бастрыков, припомнив наказ секретаря волкома и зная горячность парня. – Ты у Порфишки сильно не воспламеняйся. Все едино он нашу правду не примет, не стоит на него хорошие слова тратить. Нам нужно все его нутро высмотреть, ну и прощупать, как он к нам относится, не начнет ли показывать зубы.
– Лады, Роман. Уж если он, кобелина бесхвостый, заедаться сам начнет, тогда не стерплю, дам ему в самую переносицу.
Митяй с такой силой рванул гребень, что лодка, качнувшись, стремительно повернулась поперек течения, а вспененный бурун воды покатился, кружась и всплескиваясь.
– От такого удара, Митяй, не то что переносица – голова на месте не удержится, – засмеялся Бастрыков, поворачивая веслом лодку на прежнее направление.
Митяй удовлетворенно крякнул, а сидевший на носу лодки Алешка закатился восторженным смехом.
Ни у лестницы на берегу, ни вверху возле дома коммунаров никто не встретил. Сунулись в калитку – заперта, как забита. Слышно было, как во дворе мечутся привязанные на цепи собаки, рычат, лают с надсадным хрипом.
– Что они, вымерли все, что ли? – в нерешительности сказал Митяй, вопросительно посматривая на Бастрыкова.
– А мы попробуем постучать в окно. – Бастрыков подошел к дому, начал дубасить кулаком в раму.
– Эй, хозяева! Живые вы или мертвые?! Встречайте гостей!
К окну никто не подошел, но во дворе послышался тонкий, пронзительный голосок:
– Пальма, Полкан, цыц вы!
Собаки взвизгнули, приутихли. Загремел засов у калитки, она раскрылась, и коммунары увидали светловолосую девчонку примерно Алешкиных лет. Она была босой, в ситцевом пестреньком платьишке с синей заплаткой на животе. Доверчивым, открытым взглядом голубых, чуть косящих глаз девчонка осмотрела коммунаров.
– Здравствуйте, дяденьки. Проходите, собаки не тронут. Я их в хлев посадила.
– А хозяин дома? – спросил Бастрыков, переступая порог калитки.
– А вон сам дедка идет.
Через двор не спеша шагал приземистый, круглоголовый человек. Он был в сапогах, в черных брюках, свисавших на голенища, в просторной рубашке под шелковым пояском. Рукава рубахи закручены выше локтя, кисти рук в крови. Он шел, приподняв руки и как бы неся их на некотором отдалении от себя.
– Надюшка, а ну-ка быстренько спроворь мне воды и мыла, – сказал хозяин и, оглядев вошедших коммунаров, объяснил: – Бычка зарезал. Кстати вы, товарищи, прибыли! Свежинки отведаете!
Надюшка молниеносно принесла большой ковш воды и, подав деду кусок черного мыла, принялась лить на руки непрерывной струйкой. Потом она так же проворно унесла ковш и мыло и подала полотенце.
– Теперь можно и познакомиться, – насухо вытерев руки, сказал круглоголовый и, скомкав полотенце, бросил его Надюшке. – Догадываюсь, соседи прибыли. Ну, звать-величать меня Порфирий Игнатьевич Исаев. Живу в этих местах тридцать годов. Другим кажутся наши края глухоманью, а я привык. Временами тоскливо бывает, в частности зимой, в морозы и бураны. Ведь все-таки в прошлом я городской человек. Но скучать особенно некогда. С утра до ночи работаешь как проклятый. Чтобы завтра прокормиться, надо, не разгибаясь, гнуть спину сегодня.
Бастрыков присматривался к Исаеву, прислушивался к его плавной, складной речи. «Сколь же ему всего годов, если он столько лет живет уже на Васюгане?» – думал Бастрыков. Лицо у Исаева было гладкое, безбородое, моложавое. Маленькие серо-коричневые глаза-буравчики сверлили незнакомцев хитрым взглядом.
– А как вы сюда попали-то, в этакую даль? – спросил Бастрыков.
– Целая история! За сутки всего не расскажешь, – уклонился от прямого ответа Порфирий Игнатьевич и попросил коммунаров назвать свои имена.
– Это член коммуны Дмитрий Семеныч Степин. Это мой сынишка Алешка. Ну а я сам прозываюсь Бастрыковым Романом Захарычем. Председатель коммуны «Дружба».
Услышав от Бастрыкова, что он является председателем коммуны, Исаев отступил на полшага, оглядел его с ног до головы и, слегка изгибаясь, с учтивостью в голосе сказал:
– Весьма польщен вниманием такого большого начальника.
Всякое чинопочитание рождало в душе Бастрыкова жгучую ярость. Он посмотрел на Исаева сощуренными глазами, мрачно промолчал. Исаева передернуло от его взгляда.
– Ну, что ж мы толчемся во дворе?! Прошу в комнату, – там обо всем и побеседуем, как полагается добрым соседям, – засуетился Исаев.
Вошли в дом. И тут окончательно стало ясно то, о чем сказал сам Порфирий Игнатьевич: он был человек городской и даже отчасти цивилизованный. Убранство дома ничем не напоминало обычное жилье богатого крестьянина.
В прихожей стоял дубовый гардероб, круглая вешалка, по стенам висели чучела: оленья голова с ветвистыми рогами, беркут с распущенными крыльями, лисица, схватившая рябчика. Середину столовой занимал круглый под розовой скатертью стол, у стены высился продолговатый, добротный, из красного дерева буфет. За стеклом поблескивала дорогая посуда: сервиз столовый и сервиз чайный. Вокруг стола и вдоль стен были расставлены венские гнутые стулья под цвет шкафа с посудой. Нет, далеко не крестьянское обличье имел дом васюганского хозяйчика…
К столовой примыкали еще две комнаты. Через открытую дверь в одной из них виднелся массивный шкаф с книгами, письменный стол, на котором лежали большие счеты с крупными костяшками, похожими на круглые пуговицы. В другом, более узкой шкафу размещались аптекарские фарфоровые банки с плотными крышками, коробки самых разнообразных размеров, склянки и флаконы – от самых больших до самых маленьких. В углу на высоком столике, изогнув трубу, похожую на слоновый хобот, стоял граммофон.
Заметив, что Бастрыков с особым любопытством смотрит на шкаф с аптекарскими принадлежностями, Исаев сказал:
– Любопытствуете насчет моей аптечки? С молодых лет склонность к облегчению человеческих недугов имею. Не живи в тайге, может быть, в доктора выбился бы…
– Своих домашних лечите и остяков, конечно, – как бы между прочим вставил Бастрыков.
– Домашних всех лечу. А насчет остяков – напрасно. Не верят они в просвещение. Если заболеют, то первым делом зовут шамана. Вот поживете – сами узнаете. Устинья! Устиньюшка! – повысил голос Порфирий Игнатьевич.
Тотчас же из прихожей вышла крепкая, полная женщина в юбке и кофте с оборками, в белом переднике, в платке, повязанном по-старушечьи – клином.
– Супруга моя, Устинья Прохоровна. Разделила мою участь таежного жителя и болотного кулика, – усмехнулся Исаев и повернулся к жене: – Это наши соседи из коммуны, Устиньюшка. Вот сам председатель Бастрыков Роман Захарович. Это его сынок. А сей молодой человек, как мне представляется, – сопровождающее лицо. Угостить их надо, Устиньюшка. Уж постарайся, чтобы все как полагается было для хороших людей.
Устинья поклонилась гостям чуть не в пояс, сказала учтиво-вежливо:
– Сейчас, Порфирий Игнатьич, соберу. Кликну Надюшку, и мы быстро с ней управимся.
– Можно было бы свежего мясца, к примеру, поджарить, – сказал Исаев. – Ну и немножко этого самого… – Он поколотил себя пальцем по горлу.
– Справлю, Порфирий Игнатьич, справлю в момент.
Устинья склонила голову, повернулась и вышла. Посмотрев ей вслед, Бастрыков подумал: «Ишь, старый хрыч, какую ладную бабу высватал: в два раза моложе себя».
Когда гости расселись вдоль стены, хозяин выдвинул из угла кресло на середину комнаты и, опустившись в него, положил ногу на ногу. «Ведет себя с нами без робости, будто мы одинаковые с ним перед советской властью», – промелькнуло в мыслях Бастрыкова.
– Уж как я рад, уважаемые товарищи, что в этом таежном царстве появились наконец новые русские люди! – без умолку, тем же складным, певучим говорком сыпал хозяин. – Все эти тридцать лет я душевно страдал от своего одиночества. Но мне всегда казалось, что недалек тот день, когда взоры русских людей обратятся на Васюган. И вот этот долгожданный час наступил. Не нужно ли в чем помочь вам? Рад оказать любое содействие.
– Ну какое там содействие! – отмахнулся Бастрыков, про себя подумав: «Ишь ты, благодетель нашелся! Посмотрим вот, как запоешь, когда я права свои выставлю».
– О вашем прибытии я узнал от остяков, – воодушевленный вниманием коммунаров, продолжал Порфишка. – Они приплыли ко мне встревоженные, испуганные. «Друг Порфишка (так они зовут меня за всяк просто), люди на Белый яр прибыли. Худо будет, беда будет». Я спрашиваю: «А какие люди-то? Русские или татары?» Остяки говорят: «Русские». – «Ну, говорю, коли русские, то беды никакой не будет, вы от русских-то, говорю, когда-нибудь худо видели? Тридцать лет я с вами живу, хоть раз кто-нибудь вас обидел?» Тут мои остяки расплылись в довольстве, позвал я их в дом, покормил обедом, угостил водочкой…
Все это так не походило на то, что рассказал в коммуне старик Ёська! Бастрыков переглянулся с Митяем. Алешка посмотрел на отца и опустил голову, недоумевая, пораженный враньем Порфирия Игнатьевича.
– Дело тут такое, гражданин Исаев, – прервав наконец хозяина, заговорил Бастрыков. – Как председатель коммуны и по поручению Томского губисполкома хочу кое-что сообщить вам. Во-первых, губисполком назначил меня своим уполномоченным по всему Васюганскому краю. Мне даны большие права как представителю советской власти и ее губернских органов. На эти права имеется мандат. Ознакомьтесь.
Бастрыков достал из кармана брюк кожаный бумажник, раскрыл его и подал в развернутом виде синеватый лист бумаги.
– Надюшка, принеси-ка очки! – крикнул Исаев, с жадным любопытством, но с опаской принимая от Бастрыкова мандат.
Надюшка стремглав выскочила откуда-то из другой комнаты, проскользнула к письменному столу и тотчас вернулась с очками. Девчонку очень интересовало все, что здесь происходило. Подав деду очки, она замерла, приоткрыв рот. Но он не позволил ей оставаться в этой комнате.
– Беги скоренько к матушке Устиньюшке, помоги ей, – строго сказал Исаев.
Когда девочка ушла, Порфирий Игнатьевич, надевая очки, пояснил:
– Внучка моя. Сиротинка. Отец – сын мой – погиб на войне, а мать в прошлом году умерла от сыпного тифа. Вот и воспитываю теперь.
Не теряя больше ни одной секунды, он принялся читать мандат. Читал долго, шевелил губами, иногда вслух произнося отдельные фразы или их окончания:
– «На товарища Бастрыкова возлагается… разрешение спорных вопросов, связанных с использованием охотничьих и рыболовных, а также земельных угодий… Защита коренного населения от всяких видов эксплуатации, обеспечение интересов бедноты, батрачества, а также лиц середняцкого имущественного состояния… принятие надлежащих мер к охране общественного порядка и защите безопасности Советского государства… Товарищ Бастрыков наделен чрезвычайными полномочиями… Председатель губисполкома… Секретарь губкома РКП (б)… Председатель губчека…»
У Исаева на висках выступили капли пота, он побледнел, развернутый лист бумаги дрожал в его руке. Он с полминуты молчал, стараясь справиться с волнением и не выдать его коммунарам. Было от чего волноваться: тридцатилетнему владычеству его на Васюгане наступал конец.
– Все понимаю, товарищ Бастрыков! – наконец воскликнул Исаев, чувствуя, что молчать дальше невозможно. – Хочу заверить вас: в моем лице вы будете иметь одного из самых ревностных своих помощников.
– Помощи мне от вас никакой не нужно, – резко сказал Бастрыков. – Но законам советской власти вы обязаны подчиняться без всяких разговоров.
Исаев не ожидал такого крутого поворота. Он скорее рассчитывал на иное: за его предложение о помощи председатель коммуны бросится к нему с распростертыми объятиями.
– Законам? А я их не нарушаю. Порфирий Игнатьевич Исаев у советской власти не последний гражданин.
– Ну, ты не хвались. Какой ты гражданин, про то советская власть сама знает, – щуря глаза, сердито сказал Бастрыков и добавил совсем уже сурово: – Хорошие граждане с остяков не вымогают пушнину.
– Ах, сукин сын Ёська, наябедничал! – всплеснул руками Исаев. – Да вы знаете, товарищ Бастрыков, Ёську я, по крайней мере, сто раз от голодной смерти спасал, он до конца жизни обязан мне.
– Выходит, что помирать не давал, чтоб соболей побольше с ихнего брата собирать.
– Напрасно вы, товарищ Бастрыков, такие взгляды имеете. Остяк двуличный. Пока ты его кормишь, он тебе в глаза смотрит, а как насчет платы заговорил, он готов нож в горло всадить.
– Ты мне тут про всякое разное брось антимонию разводить. – Бастрыков окончательно перешел с Исаевым на «ты», позабыв, что вначале обращался к нему только на «вы». – Советская власть остяков в обиду не даст. Хватит с них. Они от царя и царских холуев достаточно настрадались.
Устинья с Надюшкой принесли тарелки со снедью, поставили их на стол. Исаев, пользуясь этим, решил переменить направление разговора, принялся приглашать коммунаров к столу.
– Милости прошу отведать, что господь бог послал. – Хозяин истово перекрестился на иконы, занимавшие весь угол комнаты.
Алешка, не привыкший видеть подобное в коммуне, хихикнул, зажав рот рукой. Отец осуждающе глянул на него, и он смолк.
– Что же, время обеденное, можно и подкрепиться, – сказал Бастрыков и передвинулся к столу.
Митяй последовал за ним. Алешка сидел у стены, не зная, как ему поступить: присесть к столу сейчас же или ждать, когда позовет отец. Но Бастрыков не успел и слова вымолвить, как Исаев подскочил к Алешке.
– Ну а ты что, сынка, не садишься? Небось проголодался уже. – Исаев ласково потрепал Алешку по плечу. – Вот сейчас пообедаешь и беги вон с Надюшкой на берег. Что тебе за интерес мужицкие суды-пересуды слушать. Мал еще! Так или не так, Роман Захарыч?
– Пусть побегает, – согласился Бастрыков.
Васюганский князек угощал щедро. На тарелках – осетровый балык, нельмовая тешка, копченая стерлядь, вяленая сохатина, моченая брусника в сахарной воде.
Устинья принесла на серебряном подносе два графина с настойками. Порфирий Игнатьевич заколебался: не то угощать, не то воздержаться.
– Кажется, партейным насчет выпивки запрет? – несмело взглянув на Бастрыкова, сказал он.
– Ты что же, нас за монахов принимаешь? – засмеялся Бастрыков.
– У партейных только совесть другая, а все остальное в точности как у тебя самого, – не вытерпел Митяй, твердо соблюдавший до сей минуты свое обещание не влезать в разговор Бастрыкова с Исаевым.
– Ну, коли так, неси, Устиньюшка, рюмки, – повеселел хозяин, в уме прикинув, что выпивка с председателем коммуны авось поможет им сблизиться.
Исаев наливал рюмку за рюмкой. Под жареное мясо снова выпили. Бастрыков и Митяй даже не раскраснелись, а сам хозяин начал хмелеть. «Таких споить – бочонка мало. Вот быки! И все на Устиньющку посматривают. Особенно этот… председатель». Порфирий решил больше не пить, а только угощать, но Бастрыков и Митяй поняли его расчет.
– Раз сам не пьешь, вели убрать выпивку, чтоб не дразнила, – предложил Бастрыков.
Митяй согласливо закивал головой. Хозяин помедлил, налил еще и гостям и себе по целой рюмке и унес графины в шкаф.
– Ты вот что скажи мне, Исаев, – заговорил Бастрыков с серьезным видом, – какой ты промысел считаешь особенно доходным? Это раз. А второе скажи: как тут, на Васюгане, земли для хлебов подходящие?
Исаев понял, что председатель коммуны хочет поучиться у него, как надо хозяйствовать в этих таежных краях. «Ну то-то! Давно бы так, чем начальника-то из себя выставлять!» – подумал он, выпятил грудь вперед и задумался. Хмель уже сильно одолевал его, но он решил перебороть истому во что бы то ни стало и не ударить перед коммунарами лицом в грязь.
– Самое выгодное дело – пушнина! – поучительно начал Исаев и прихлопнул ладонью по столу. – Этот дом весь от крыльца до трубы на пушнине держится…
Но тут Порфирий Игнатьевич попал в капкан Бастрыкова, и пыл его сразу пригас.
– Скажи откровенно, не хитри только: скупкой пушнины дом держится? – Бастрыков в упор посмотрел на Порфишку.
– Да что вы, товарищ чрезвычайный комиссар! – вспомнив о звании Бастрыкова по мандату, плаксиво воскликнул Исаев. – Наговор все это! Наговор! Завидуют людишки, когда при достатке живешь! Все собственным горбяком…
– Ты же сам сказал! Что ты виляешь-то? – засмеялся Бастрыков. – Кто, кроме остяков-то, принесет тебе пушнину на двор? Сам ты немолодой уж. Жена тебе при доме нужна. Надюшку в тайгу не пошлешь…
– Племянники из Томска на чернотропье приезжают, – совсем погасшим голосом произнес Исаев, сердясь и на самого себя, и на Бастрыкова и с ожесточением вытирая взмокшее лицо грубым холстиновым полотенцем.
– Ты смотри, какие у Исаева сознательные племянники! Приезжают, помогают дяденьке дом в достатке содержать!.. – Бастрыков и Митяй смеялись громко, колыхались их плечи, скрипели под ними гнутые венские стулья.
Исаев растерянно переводил глаза с одного на другого. Из-за двери испуганно смотрела на коммунаров Устиньюшка.
– А скажи, Исаев, хлеб ты пробовал на этих землях сеять? Или из города муку возишь? – сразу посерьезнев, спросил Бастрыков.
Исаев радехонек был скорее выскочить из капкана, в который загнал его председатель коммуны, и заспешил с ответом:
– Каждый год, товарищ Бастрыков, хлеб сею. Гарь тут у меня неподалеку раскорчевана. Десятины три-четыре.
– И как родит?
– Рожь сею озимую. По сто двадцать – сто тридцать пудов с десятины снимаю. Овес сею. Если ранние заморозки не прихватят, то по восемьдесят пудов намолачиваю. Ну, еще делянку проса сею, делянку гречихи. Небогато хоть снимаю, а на пропитание хватает.
Исаев говорил и все с опаской посматривал на Бастрыкова: не расставил ли тот новый капкан?
Но Бастрыков неожиданно похвалил хозяина:
– Это, Исаев, ты дельные факты сообщил. Как видишь, Митяй, на Васюгане можно заниматься хлебопашеством. Прибыльно будет. А уж скотину разводить тут сам бог повелел.
Алешка между тем наелся и заскучал.
– Тятя, я на берег пойду, – сказал он, пользуясь паузой, наступившей в разговоре взрослых.
– Надюшка, проводи-ка кавалера на берег. Да смотри, чтоб собаки с цепей не сорвались! – возвысил голос Порфирий Игнатьевич.
– Собаки, деда, в хлеве сидят, – появляясь в двери, сказала Надюшка и обратилась к Алешке: – Ну, пойдем, мальчик.
– А как, Исаев, считаешь, рыбалка тут – доходное дело? – возвращаясь к прежнему разговору, спросил Бастрыков.
– Рыбы в здешних реках, товарищ чрезвычайный комиссар, видимо-невидимо, а только этот товар бросовый.
– Почему же бросовый?
– А кому тут ее продашь? Везти рыбу в Томск – тоже дело малодоходное. Одним словом, по пословице: за морем телушка – полушка, да рубль перевоз.
– Какие снасти, Исаев, держишь?
– Невод держу, товарищ Бастрыков. Небольшой. Тридцать две сажени. Сетенки кое-какие: плавежные, становые. Ну, ботуху, конечно.
– А какую имеешь крючковую снасть?
– Тоже малость. Стяжек двадцать самоловов, столько же переметов. Ну, жерлицы, блесна, удочки баловства ради.
– На продажу рыбу ловишь?
– Ни в коем разе: бездоходное дело. В Каргасоке и Парабели своих рыбаков хоть отбавляй, а до Томска путь больно долгий. Для себя больше рыбачим.
– Хочу предупредить тебя, Исаев, не вздумай рыбачить на угодьях остяков! Губисполком обязал меня личной властью накладывать большой штраф на всяких нарушителей закона и даже конфисковывать все орудия лова. Понятно тебе?
Исаев даже позеленел. Он сильно привирал, когда говорил о невыгодности рыболовного дела на Васюгане. На самом деле каждое лето Порфирий Игнатьевич отправлял в Томск баржей в собственный магазин, скрытый под фамилией зятя, тысячу пудов первосортной соленой рыбы. Зимой к Рождеству и к началу Великого поста в Колпашево, в адрес томских перекупщиков, с Васюгана выходили обозы, по четырнадцать упряжек в каждом. В огромных коробах под брезентовым покрытием лежали отборные сорта рыбы: стерлядь, нельма, муксун, двух-трехаршинные налимы. Все это было поймано на «ямах» и «песках» остяков, их собственными руками. Привирал Исаев и насчет своих ловушек. В продолговатом амбаре у него хранилось двести стяжек самоловов, двести стяжек переметов и почти верстовой стрежневой невод. С артелью нанятых остяков он сам выезжал с неводом на обские плесы, захватывая, как коршун, налетая на лучшие угодья, разведанные и расчищенные остяками. Неужели всему этому приходил конец? Сраженный Порфирий Игнатьевич не знал, что сказать. А Бастрыков продолжал пригибать его к земле своими острыми и безжалостными словами:
– И еще, Исаев, вот что: если твой скот пасется на лугах, которые числятся за остяками, перегони на свои пастбища, а не перегонишь – пеняй на себя. Конфискую. И не вздумай врать. Карта земель у меня на руках.
Порфирий Игнатьевич опустил голову. С трудом поднимая ее, глядя мимо Бастрыкова, с напускной бодростью сказал:
– Все будет исполнено, как приказывает наша власть рабочих и крестьян.
Глава четвертая
Когда вышли на берег, Надюшка, щурясь от солнца и шмыгая носом, спросила:
– А тебя как зовут?
– Алешка.
– А меня Надюшка.
– Знаю. Слышал, как тебя дед твой называл. Он у тебя какой?
– Дед-то?
– Он у тебя кулак. А кулаки – все живодеры и хапуги.
– А куда ж мне деваться? Тятьки нет, мамки нет. Сиротиночка я. А у тебя мамушка есть?
– Белые ее убили. Тогда еще революция была. Тятя мой командиром у партизан был. Они в отместку ему взяли маму, закрыли в нашей избе и подожгли.
– Ой, страхи какие!
– Ну, тятя показал им! Все их отряды в пух и прах разбил!
– А я его не боюсь! Нисколечко!
– А чего же его бояться?! – тоненько засмеялся Алешка. – Он добрый. Он меня ни разу пальцем не тронул. А дедка твой злой, он дерется?
– Дедка лучше, а вот матушка Устиньюшка не приведи господь какая злюка! Так другой раз исщиплет, что живого места нет.
– Ну я бы ей засветил, подлюге! Вовек не забыла бы!
– Ты мальчишка, тебе можно.
– Коммунар я. Никого и ничего не боюсь.
– И Бога не боишься?
– А чего его бояться? Богомольные бабки все это выдумали.
Смелость суждений Алешки словно приковала к земле Надюшку. Она смотрела на мальчика, широко раскрыв глаза, боясь сдвинуться с места, и то восторг, то испуг плескались в ее взгляде.
– Какой ты отчаянный! – воскликнула Надюшка.
– А у нас в коммуне все отчаянные! «Весь мир насилья мы разрушим до основанья, а затем мы наш, мы новый мир построим, кто был ничем, тот станет всем».
Алешка произнес эти слова громко, отчетливо, взмахами руки как бы утверждая особую силу этих слов. Девочке передалась его энергия, и она с придыханием сказала:
– Очень хороший стишок!
– Чудачка! Это не стишок, а песня коммунаров всего мира. «Ин-тер-на-ционал» называется.
Они помолчали, не зная, о чем можно говорить вот так сразу, после того как прозвучали необыкновенные и покоряющие слова.
– Ты читать умеешь? – спросил наконец Алешка.
– Немножко умею. По печатному лучше. По писаному хуже.
– В следующий раз я привезу тебе эту песню. Перепишу печатными буквами. Ладно?
– Привези! Я мигом выучу. Я памятливая!
– Давай дружить! Ладно?
– Давай!
Надюшка схватила мальчика за руку, и они побежали, приплясывая и подпрыгивая, по крутому, местами осыпающемуся и нависшему над рекой берегу.
Девочка показала Алешке яр, изрытый круглыми дырами. Здесь, в углублениях, стрижи выводили своих птенцов. Потом Надюшка повела Алешку в огород. Тут под черемуховым кустом у девочки был сделан из тальниковых прутьев игрушечный домик. Алешка не без труда, сгибаясь в три погибели, пролез в дыру, завешенную, как у правдашней двери, цветастой тряпкой.
Домик очень понравился Алешке. В нем было уютно, сумрачно и прохладно. На кроватях из щепок безмятежно спали тряпичные куклы. На столе из неоструганной доски на месте самовара стоял старый, весь в сквозных дырках эмалированный чайник, чашки заменяли осколки разбитой тарелки.
– А я еще лучше дом сделаю. Налеплю кирпичей, обожгу их на костре и сложу. Большой дом! Чтобы целая коммуна могла жить! – покидая игрушечный домик, сказал Алешка.
Из огорода ребятишки направились во двор. Надюшка решила поразить Алешку новыми потайными диковинками, о которых не знал даже дед Порфирий.
В амбаре над стропилами, в уголке, свила себе гнездо белочка летяга. Белочка была осторожной и чуткой. Надюшка выследила ее единственный раз в раннее утро, пролежав в сусеке с зерном часа два в полной неподвижности. Белочка, распрямив свои перепонки, пролетела через весь амбар, схватила из короба кедровую шишку с невыпущенными орехами и так же быстро вернулась в свой уголок над стропилами.
Надюшка рассказывала, а Алешка только смотрел. Но смотрел он не на гнездо белки летяги, а на хозяйское добро, которым был забит амбар от пола и до крыши. Многое приметил цепкий Алешкин глаз… Окорока, висевшие на железных крючках, десятки хомутов с наборными шлеями и уздами на длинных кляпах, вбитых в бревенчатые стены, полные сусеки зерна, вороха неводной и сетевой дели, мотки бечевы и проволоки, бочки с варом, два круглых жернова. Но больше всего потрясло Алешку то, что увидел за дверью, на обычном четвертом гвозде. Он вгляделся в это и раз и два, чтобы ненароком не ошибиться.
– Теперь пойдем, Алешка, в сарай. Я покажу тебе гнезда ласточек касаток, – сказала Надюшка.
Алешка кинул последний взгляд на амбарную дверь. Нет, ошибки не было!
Надюшка не успела ладом показать Алешке ласточкины гнезда. На крыльцо вышли мужики. Они шумно разговаривали, топали сапогами по ступенькам. Надюшка испуганно схватила Алешку за руку.
– Пойдем скорее в огород, чтобы дедка нас здесь не приметил. Не велит он сюда чужих водить.
Алешка в первое мгновение тоже испугался, но потом вспомнил, что он коммунар, и у него мелькнуло желание идти через двор без всякой опаски. Однако Надюшка тянула его за руку, и он покорился. Они с разбегу перемахнули через забор в огород, пробежали между грядок и вышли в калитку на тропку, по которой ходили к реке за водой. Когда мужики показались в воротах, Надюшка с Алешкой прыгали на круче возле лестницы как ни в чем не бывало.
– Смотри, товарищ Бастрыков, как парень-то твой пришелся моей сиротке по нраву! Как бы нам еще не породниться! – расплылся в довольном смешке Порфирий Игнатьевич.
– Ну, загадывать не будем. До той поры, как им жениться, много воды утечет в Васюгане, – без улыбки, серьезно ответил Бастрыков.
Алешке сейчас же хотелось шепнуть насчет амбара, но Исаев ни на шаг не отставал от Бастрыкова. Он провожал председателя коммуны до самой лодки. Только теперь, когда лодка оказалась на середине реки, Алешка решил, что его томлению наступил конец. Исаев хотя и стоял все еще на берегу, но расслышать Алешкиных слов уже не смог бы.
– С Надюшкой, тятя, мы ходили в хозяйский амбар, – с тревогой в голосе заговорил Алешка. – Добра там в день не пересчитаешь! И знаешь, что там за дверью на гвозде висит? Винтовка! В точности такая, какую ты из Красной Армии принес, а потом у кулаков по селам отбирал.
Бастрыков будто застыл на миг с веслом в руке:
– Боевая винтовка?! А ты не ошибаешься, сынок?
– Ни капельки, тятя! Я все высмотрел: где затвор, где спусковой крючок, где мушка. Вот так на стволе как раз поперек его – цифры…
Сидевший на носу лодки Митяй поднял греби, горячась, сказал:
– Повертывай, Роман, назад. Винтовку надо отобрать, иначе спрячет ее Порфишка и при случае начнет по коммунарам постреливать.
Бастрыков задумался. Лодку повернуло стрежью, и она тихо плыла на самостоке без всякого управления.
– Да, но как подступиться? Объявить обыск? Нужны понятые из посторонних. Ты, Митяй, для этого не годишься: из коммуны, да и заодно со мной. А без понятых закон не позволяет, – размышлял вслух Бастрыков.
– Зачем тебе, Роман, обыск? Зайдем в амбар, конфискуем винтовку – и до свиданья! – горячился Митяй. – Одно знай: нельзя ее у Порфишки оставлять.
– Уж это так, Митяй. Если не вырвать у змеи жала, то при случае она тебя все равно ужалит.
– Вот об этом-то я и толкую.
Как только Исаев поднялся по лестнице к дому и скрылся во дворе, Бастрыков повернул лодку носом против течения.
– Ну, Митяй, дай ходу! – воскликнул Бастрыков.
Митяй попросил Алешку пересесть подальше в нос и с такой силой начал работать гребями, что лодка, как скорлупка, заскользила по темной васюганской воде. Алешка с удивлением смотрел на дюжую спину парня. Лопатки его ходуном ходили то вниз, то вверх.
Скрытые крутым берегом, подплыли к лестнице никем не замеченные. У ворот навстречу бросилась Надюшка, закрутилась возле Алешки, даже позабыв удивиться возвращению коммунаров.
– Позови-ка, Надюша, дедушку, – строгим голосом сказал Бастрыков.
Но звать дедушку уже не требовалось. Исаев выскочил на крыльцо в подштанниках, в распущенной рубахе, босой. Во взъерошенных волосах торчали выбившиеся из подушки перья. Порфирий Игнатьевич только что лег отдохнуть после трудной встречи с этими, будь они трижды прокляты, коммунарами. И вот на, они снова тут как тут. В одно мгновение он понял, что вернулись они не из-за пустяка. Многое перевидал он на белом свете, но тут сердце его заколотилось, и он стал белее стены.
– Именем закона, гражданин Исаев, я обязан осмотреть твой амбар, – грозно, чеканя каждое слово, сказал Бастрыков.
Порфишка сморщился, как от удара, замахал руками, захныкал:
– Господи боже мой! И что я вам плохого сделал, что вы так изгаляетесь надо мной?!
– Ну пусть он постоит поплачет, а я амбар сам тебе открою, товарищ Бастрыков, – сказал Митяй и направился к амбару.
И тут Исаев с резвостью жеребчика кинулся наперегонки с Митяем. Но тот ловко схватил его за подол широкой рубахи и осадил.
– Охолонись, Исаев, малость, а то не ровен час паралич вдарит, а у тебя вон баба молодая, – со злой усмешкой сказал Митяй, железной рукой сдерживая рвущегося вперед хозяина.
Ударив в дверь сапогом, Митяй открыл амбар, пропуская в него Бастрыкова.
– Вот теперь и ты, Исаев, входи, – Митяй выпустил Порфишкину рубашку из своей руки.
Порфирий Игнатьевич с трудом перешагнул через лиственничный порог амбара. Бастрыков чуть отвел тяжелую, из кедровых плах дверь, заглянул за нее. Ай да Алешка, ай да коммунарский сын! Все оказалось в точности, как он сказал. На ржавом гвозде висела боевая, свежесмазанная винтовка. Бастрыков снял ее, уничтожающе глянул на Порфишку.
– Объясняй, Исаев, где взял винтовку? Почему не сдал уполномоченному Чека? Ты разве не знаешь, что советская власть за хранение боевого оружия карает строго, вплоть до расстрела?
Порфирий Игнатьевич стоял посреди амбара с перекошенным лицом, опустив руки, бормотал дряблыми губами:
– Ёська, так его разэтак, донес!
– Кто нам донес о твоих контрреволюционных действиях, про то мы сами знаем. Объясняй: где взял винтовку? И помни: за ложь и утайку под расстрел пойдешь!
Подбежавшая Устиньюшка, услышав слово «расстрел», заголосила, кинулась к Бастрыкову, встала перед ним на колени. Даже сейчас, в минуту яростного, ослепляющего гнева, Бастрыков отметил, каким молодым и красивым было белое, холеное лицо Устиньюшки. В больших серых глазах ее метались испуг, страдание, мольба. «Купил Порфишка ее, для утех своих купил!» – пронеслось в голове Бастрыкова, и он крепче сжал винтовку, удерживая себя от желания ударить Порфишку в грудь прикладом.
– Ну-ка, убирайся отсюда, купецкая шлюха! – крикнул Митяй и носком сапога ткнул Устиньюшку в бок.
Женщина обхватила голову руками, судорожно сжалась, ожидая ударов. Митяй протопал к двери. Под его тяжелыми шагами жалобно заскрипели половицы амбара.
– Иди, Исаев, во двор. Комиссар Бастрыков допрос с тебя снимет, – кинул на ходу Митяй.
– Встань, Устинья, принеси столик и два стула. Писать буду, – спокойно и даже с долей сочувствия сказал Бастрыков.
Эта нотка сочувствия, прозвучавшая в голосе Бастрыкова, не ускользнула от Порфирия Игнатьевича. Он словно встрепенулся и голосом, в котором не было уже ни дрожи испуга, ни прежней повелительности хозяина, а сквозила лишь робкая надежда просителя, тихо сказал:
– Иди, Устиньюшка, иди принеси стулья.
Устиньюшка поднялась быстро, ловко и до того молодо, что Бастрыков взглянул на нее с удивлением.
«Она еще моложе, чем я думал», – мелькнуло у него в уме, и новый приступ ненависти к Исаеву обжег сердце.
– Шагай, Исаев, – хрипло сказал Бастрыков.
Взгляд председателя коммуны был таким красноречивым и так отчетливо выражал его чувства, что Исаев опасливо покосился на руку, сжимавшую винтовку.
Как только Бастрыков и Порфирий Игнатьевич вышли вслед за Устиньюшкой, Надюшка коршуном бросилась на Алешку.
– Ты доказал? Ты дедку выдал?
– Я.
– Он же забьет меня до смерти! Я же говорила тебе, что дедка не велит никого чужих в амбар и сарай водить! – Надюшка заплакала. В глазах ее стояли не слезы, а живой укор и отчаяние.
Алешка поежился от ее упреков. Ему нестерпимо было жаль девчонку. Беззащитная она, сиротка… Алешка взял Надюшку за руку, утешая ее, сказал:
– Станет тебе невмоготу, беги к нам в коммуну. А дедку своего не бойся. В амбаре он нас не видел и думает, что его остяк Ёська выдал. Слышала ведь?
– Слышала. А ты не проговоришься? – приободрилась немного Надюшка.
– Да что ты?! Честное коммунарское…
– Ну и я промолчу, пусть хоть на огне пытает.
– Не царское время. За обиду головой ответит.
Надюшка повеселела. Оба выскользнули из амбара во двор. Тут возле крыльца, за столом, сидел Бастрыков, а напротив него Порфирий Игнатьевич. Митяй стоял за его спиной. Устиньюшке Бастрыков велел уйти в дом.
– Итак, Исаев, ты утверждаешь, что винтовку купил по случаю в Томске?
– Точно так. Был я на толкучке. Присматривал кое-что купить для дома. Вдруг подходит ко мне мужичок лет так тридцати пяти – сорока, говорит: «Охотой, дружок, не занимаешься?» – «Занимаюсь, говорю, в тайге живу». – «Винтовку купишь? Отдам дешево». Прикинул я в уме: «Хоть от властей запрет есть, а в таежной жизни такая штука может и на медведя и на лося пригодиться».
Надюшке захотелось вдруг крикнуть: «Врешь, дедка! Врешь!» – но, посмотрев на Бастрыкова, поняла, что комиссар не очень-то верит словам ее деда.
Глава пятая
Как только лодка с Бастрыковым отчалила от берега, Порфирий Игнатьевич бросился с кулаками на Устиньюшку.
– Тыщу раз приказывал тебе не водить остяков в амбар. Доведешь ты меня до тюрьмы, стерва!
Устиньюшка заплакала, прижала руки к груди, хотела что-то сказать в свое оправдание, но поперхнулась, сильно закашлялась. Смахнув платком слезы, выпрямилась, с укором сказала:
– Ты же сам, Порфирий Игнатьевич, водил Ёську в амбар. Припомни, как было дело. Там у вас и сыр-бор разгорелся. Ты требовал пушнины, а он припасов. Там ты в него и топором запустил…
– Ну, ты не кори меня… топором запустил… Все вы готовы сжить меня с белого света!..
Исаева трясло от ярости. Устиньюшка знала, что на белом свете есть лишь одно средство против его ярости. Она широко развела полные, белые руки, обняла его, пользуясь тем, что была выше на целую голову, прижала лицо к своей груди. От Устиньюшки повеяло теплом, уютом, покоем.
– Будет тебе ругаться-то, Порфирий Игнатьевич, будет… Пойдем, пойдем… Отдохни. Приласкаю тебя… Успокою…
Исаев встал с постели совсем другим. Обеденный хмель прошел, улегся и испуг от допроса, который учинил ему этот ненавистный комиссар Бастрыков.
Устиньюшка уже хлопотала по дому. Порфирий Игнатьевич позвал ее, с благодарной ухмылкой погладил по крепкой спине, вполголоса сказал:
– На заимку пойду. Совет будем держать, как жить дальше.
– Иди, Игнатьич, иди. Ты когда уснул, я тихонько встала и Надюшку к господам послала с жареным. Время обеденное.
Вдруг в прихожей раздался Надюшкин голос:
– Отнесла, матушка!
– Вот и хорошо. Молодец! Возьми-ка вон пряжу, начинай разматывать. – Устиньюшка посмотрела на мужа, слегка приложила палец к губам. – Девчонка наша, Игнатьич, не того, не сболтнет лишнее?
Исаев замотал головой:
– Дите! Не по разуму ей.
– Ну, то-то. С богом, Игнатьич!
Хозяин вышел на крыльцо, Устиньюшка за ним.
– Поглядывай почаще, Устиньюшка, на реку. Теперь в любой час эта коммуния может заявиться. Столько лет жили тихо-мирно – и на тебе!..
– Бог милостив, Игнатьич. Был твоим Васюган, твоим суждено ему и остаться.
Порфирий Игнатьевич на ходу махнул рукой, и Устиньюшка не поняла – не то он одобряет ее слова, не то сомневается в них.
Исаев пересек двор, огород и вскоре скрылся в густом кедраче, подступавшем к усадьбе. Чуть приметной извилистой тропкой он миновал кедрач, спустился в глубокий лог, заросший непролазным пихтачом, и, когда поднялся снова на кручу, до заимки осталось сто шагов. На круглой, как пятачок, поляне стояли пятистенный дом, амбар, крытый скотный двор.
Заимка находилась в таком укромном месте, что о ней не знали даже остяки. Все постройки Исаеву срубили парабельские плотники, привезенные им по особому уговору на время рекостава, когда всякие связи по Васюгану прерывались на долгое время. Здесь, в амбарах, Порфирий Игнатьевич хранил на вешалах пушнину, а в ларях под замками – запасы пороха, дроби, пистонов, охотничьих ружей. Тут же лежали и запасы самых ходовых товаров: ящики со спиртом и водкой, тюки табака, коробки с бусами, разноцветными ленточками, блестками из золоченой и серебряной канители. Остяки ради них ничего не жалели.
В иные годы на заимке скапливалось богатство, которому мог позавидовать иной столичный коммерсант-воротила: сотни шкурок соболей, выдры, горностаев, лисиц, многие тысячи белок.
Порфирий Игнатьевич подошел к заимке бесшумно. Он умел передвигаться по земле так осторожно, что лист на кустах не дрожал. «Возможно, господа офицеры отдыхают, – пронеслось у него в голове. – Пусть отдыхают, пока советская власть дремлет. Не приведи господь, если она очнется, а видать, приближается тот день».
Но хозяина заметили, и, когда он приблизился к заимке, с вышки дома раздался голос:
– Здравия желаем, Порфирий Игнатьич!
– Ишь какие зоркие! Здравствуйте, господа!
– Мы сейчас спустимся вниз, – послышалось с вышки.
За домом, перед амбарами, стоял сарай. Под крышей лениво дымился костер, отгоняя едким запахом таежный гнус. Порфирий Игнатьевич подошел к костру, опустился на табуретку. От дома торопились к нему трое мужчин. Они были в крестьянской одежде, но, посмотрев на них, Порфирий Игнатьевич невольно усмехнулся. Строевая выучка чувствовалась во всем: в посадке головы, в развороте плеч, в размахе рук, Даже шагали они сейчас по-военному, в ногу.
«Дураки! И тут не могут забыть свое благородство!» – с неудовольствием подумал Порфирий Игнатьевич.
– Только, господа, идиот не опознает, что вы военные, – ворчливо сказал он. – Идете, как на параде, нога в ногу.
Офицеры смутились, сбили ритм шага, засмеялись.
Слева шел штабс-капитан, прибалтийский барон Кристап Карлович Отс, справа – поручик Михаил Алексеевич Кибальников, а в середине вышагивал на крепких, пружинистых ногах чернобровый, кудрявый красавец подпоручик Гриша Ведерников. Не по доброй воле оказались эти офицеры в далекой таежной стороне. Все произошло до удивления просто.
Генерал Пепеляев, осевший на некоторое время в Средней Сибири, отправил группу офицеров с командой солдат в Нарымский край. Генерал не был бы генералом, если бы не мечтал о славе, подкрепленной богатством. О Нарыме рассказывали такое, что не могло не захватить воображение генерала. У остяков и местных русских богатеев амбары забиты пушниной. Но кому же не известно, что пушнина – это золото? Генерал временами мечтал, и виделось ему в мечтах будущее: Петроград, русское влиятельное общество, Париж, Лондон, иностранные банки, большой свет…
В большом свете куда уютнее, если, кроме золотых погонов на плечах, в кармане мундира лежит чековая книжка хотя бы на сотенку тысяч золотых рублей.
Генерал избрал для экспедиции верных, преданных людей. Нарым не близок. Но пока экспедиция добралась до стойбищ остяков и редких русских поселений, Красная Армия стремительно ударила из-за Урала. Покатились войска белых и интервентов на восток, как катится с кручи обвалившийся край берега: чем дальше, тем быстрее, отламывая при каждом повороте глыбу за глыбой.
Офицеры, застигнутые этим событием, остались в глубоком тылу. Солдаты только того и ждали. Они вышли из повиновения, побросали оружие и разошлись. Но кто же мог поручиться за то, что завтра эти же солдаты не поведут по следу посыльных генерала Пепеляева отряды чекистов и чоновцев? Офицеры бросились заметать свои следы. Они переходили от одной заимки к другой, пока в Каргасоке не укрылись в доме управляющего конторой купца Гребенщикова. Однако задерживаться здесь на длительное время было опасно. Каргасокский ревком начал перестраивать жизнь на советских началах. Но белогвардейским центром, оставшимся в Томске после бегства армии Пепеляева, они не были забыты. С первым пароходом поступили инструкции: передвинуться на Васюган, к Порфирию Игнатьевичу Исаеву, осесть там, приступить к действиям, исходя из обстановки, не забывать, что победа Красной Армии – дело временное и недалек тот день, когда при помощи объединенных усилий международной буржуазии советская власть будет свергнута навсегда.
И начались в жизни трех офицеров дни самые томительные и тоскливые.
– Располагайтесь, господа. Есть важные новости, – сказал Исаев, приглашая офицеров сесть на скамейку.
– Господи, неужели нашему ужасному и преступному бездействию приходит конец? – воскликнул Ведерников.
Кибальников и Отс промолчали, но и у них мог вырваться тот же возглас. Видя, как заинтересованы офицеры, Порфирий Игнатьевич не спешил.
– Не тяните, князь, рассказывайте! – взмолился Отс и картинно раскинул руки.
Исаев бросил на Отса благодарный взгляд. Князь! Как-то, мечтая о будущем, когда большевики исчезнут с лица русской земли, барон Отс вполне серьезно сказал:
– Я уверен, как только большевистская чума будет окончательно побеждена, русское общество не останется в долгу перед людьми, спасшими отечество. Все, все, в том числе и мы, господа, будем достойно награждены. Вам, Порфирий Игнатьевич, будет присвоено звание князя Васюганского…
– Ну, какой я князь! Мой отец – простой прасол из Томска, – притворно возразил тогда польщенный Порфирий Игнатьевич.
– Это ничего не значит! В интересах России и прогресса все эти предрассудки будут отброшены, как отбросил их в свое время Петр Великий. Поверьте мне! Это говорит вам человек с родовым титулом.
С тех пор Отс, а иногда и другие офицеры называли Исаева князем, называли, конечно, в шутку, но всякий раз при этом он чувствовал какое-то сладостное благорастворение в душе.
– Да, господин Отс, бездействию приходит конец, – заговорил наконец Порфирий Игнатьевич.
Он рассказал офицерам о прибытии на Белый яр коммуны, о доносе остяка Ёськи, о своей встрече с председателем коммуны, наконец, об изъятии винтовки.
Отсиживаясь здесь, в безлюдном таежном краю, офицеры даже не допускали мысли о том, что жизнь может потребовать от них каких-то действий. Казалось, ну вот пройдет еще некоторое время, и о них позаботятся: либо организуют им переход за границу, либо вручат обычные гражданские документы. Это на худший случай. А в лучшем случае Советы падут, власть снова перейдет в руки белых. Но жизнь поворачивалась по-другому.
– Коммуну надо уничтожить, пока не пустила здесь корни! – горячо воскликнул Ведерников, когда Порфирий Игнатьевич смолк.
– Мальчишка! – Выпуская густую струю дыма, Кибальников нахмурился, устало опустил голову, исподлобья взглядывая то на Отса, то на Исаева.
– Но в принципе Гриша прав. Васюган должен остаться владением князя. Пусть он здесь хозяйничает до конца дней своих. Вы согласны, Порфирий Игнатьевич? – Отс в упор посмотрел на Исаева.
– Не знаю, господа, ваших дум, но у меня положение ясное: если я не столкну коммуну в Васюган, то коммуна столкнет меня туда.
Исаев обвел глазами офицеров, как бы стараясь проникнуть в их мысли и понять, что у каждого из них хранится в сокровенных тайниках души.
– Порфирий Игнатьевич трезво оценивает обстановку, – сказал Ведерников.
– Именно поэтому нам необходимо: во-первых, перейти на строгую отсидку, чтобы не разоблачить себя раньше времени; во-вторых, изучить положение вещей в коммуне. Как это ни сложно, надо проникнуть в нее. – Кибальников помолчал, потом добавил: – Остяка за донос надо убрать. Эта мера остановит других. Правильно я говорю, князь? – обратился Кибальников к Исаеву.
– Это первым делом, господин Кибальников, – энергично закивал тот.
– Да, господа, жизнь зовет нас к действию, а действие требует команды, – потирая облысевшую голову, сказал Отс. – Кто же возглавит наши усилия? Кто возьмет на себя ответственность?
– По старшинству вам бы надлежало, барон, принять на себя команду, – сказал Кибальников.
– Но ты же знаешь, Михаил Алексеевич, мою беду: нестроевик, интендантская крыса! – засмеялся барон.
– Кибальников! Вот кому карты в руки! – воскликнул Ведерников, вскочил с табуретки и, прищелкнув каблуками, вытянулся перед Кибальниковым.
Отс помедлил секунду и тоже встал, вытягиваясь перед поручиком и чуть склоняя голову.
– Ценю ваше доверие, господа. – Кибальников поднялся, поклонился Отсу, потом Ведерникову. Глядя на Исаева, спросил: – Твое мнение, Порфирий Игнатьевич?
– Смотрите сами, господа, я человек штатский, ваших офицерских порядков не знаю, – развел руками Исаев.
– Нет, Порфирий Игнатьевич, так не пойдет. Мы тут залетные птицы: сегодня здесь, завтра там. Я думаю, господа, – возвысил он голос до торжественных нот, – будет правильным, если во главе всего нашего предприятия встанет господин Исаев. – Кибальников повернулся к нему: – Принимайте команду!
Исаев был и польщен, и обрадован, и испуган. Он встал, замахал руками и, вероятно, начал бы отказываться, если б барон не сказал:
– Да, бери, князь, бразды правления! Михаил Алексеевич прав: твои здесь владения, тебе и отстаивать их. И знай: как офицеры доблестного русского воинства, мы в твоем распоряжении, если не будет, конечно, приказа свыше… – добавил он многозначительным тоном.
Ведерникову не очень было приятно оказаться под командой малограмотного мужика, совершенно не знающего военных порядков, но оспаривать мнение товарищей он не рискнул.
– Приказывай, Порфирий Игнатьевич, – пристукнул каблуком Ведерников.
Исаев постоял молча, как бы свыкаясь со своим новым положением, и, видя, что офицеры выжидающе смотрят на него, тихо обронил:
– Садитесь, господа. Надо обмозговать, как дело делать. Бастрыков хитрый и сильный. Его голой рукой не возьмешь.
– Вот это голос не мальчика, а мужа, – одобрил Кибальников.
Офицеры вернулись к своим местам, послушно опустились на табуретки.
– Спусти-ка, господин Ведерников, кобелей с цепи, чтоб постерегли нас, – присаживаясь, сказал Исаев.
– Один момент! – вскочил Ведерников и кинулся к амбару, про себя негодуя: «У генералов на побегушках был, а вот служить деревенскому лаптю не приходилось. Дожил!»
Глава шестая
В коммуну отправился Ведерников. Ему было приказано плыть только ночью, и то с большими предосторожностями. Одна неожиданная встреча с кем-нибудь из остяков могла свести на нет весь замысел. Ведерников, которого офицеры знали как человека горячего и храброго, дал слово действовать осторожно, без нужды не рисковать, ничего не предпринимать свыше того, о чем договорились, как бы благоприятно ни складывались обстоятельства.
Чтобы придать всему делу больше достоверности, Ведерников должен был спуститься по Васюгану до Югина и только оттуда повернуть назад. Этот участок пути он обязан был проделать днем и не уклоняться от встреч с людьми, а, наоборот, искать их. В этом случае каждый встречный поверил бы, что плывет молодой человек из Каргасока, что туда он приехал на пароходе из Томска.
В свое путешествие Ведерников отправился в приподнятом настроении, что было вполне объяснимо. Если томительно было отсиживаться без дела, без вестей от родных и близких, без общения с людьми пожилым Отсу и Кибальникову, то ему, двадцатитрехлетнему юноше, привыкшему с детства к оживлению и сутолоке большого города, такая жизнь казалась мукой.
Исаев и офицеры проводили Ведерникова в путь глубокой ночью, еще раз пожелав ему успеха в нелегком деле.
На рассвете Ведерников завернул в какую-то курью, вытащил обласок на берег, спрятал его в тальнике. Разбив на мыске под прикрытием черемуховых кустов палатку так, чтобы обозревалась река, Ведерников лег спать. Он спал долго, но когда проснулся, солнечный день приближался только к середине. «Столько времени пропадает зря! Излишние предосторожности! Этот доморощенный васюганский князь прибрежного куста боится!» – негодовал он на Порфирия Игнатьевича, настоявшего на том, чтобы плыть только ночью. Просидев на берегу еще часа два-три, Ведерников решил пренебречь наказом и отправился в путь. Он плыл, прижимаясь к самому берегу, готовый в любую минуту забиться, как налим, под первую же корягу.
Около пяти часов он плыл спокойно, временами забывая об осторожности. Но перед вечером, когда солнце повисло над лесом, произошел случай, который сразу остепенил Ведерникова. В одном месте яр, под прикрытием которого он плыл, делал крутой выступ. Попыхивая папироской, Ведерников держал легкое весло под мышкой, не давая обласку поворачиваться поперек течения. Вокруг было тихо, пустынно, и Ведерникову в этой тишине хорошо думалось. Вспомнились Петроград, жизнь в семье родителей, университет, потом юнкерское училище и фронт. Отец его был директором российского представительства шведской телефонной компании. Мать – актриса драматического театра. В доме у них всегда было людно и шумно. Отца часто посещали иностранцы, мать – поклонники и поклонницы ее таланта, артисты, художники и режиссеры театров. «Как далеко ты меня забросила, безжалостная судьба! И ради чего? Во имя чего? Петроград – и Васюган… Цвет столичного артистического мира – и Порфишка, сын прасола, опереточный князь Порфишка…» – проносилось в голове Ведерникова.
Обласок скользнул под нависшей над рекой березой, и впереди открылся новый плес. Ведерников увидел на противоположном берегу людей. Их было трое. Двое из них шли по песку с бечевой в руках. Третий сидел на корме лодки рулевым. Ведерников вскочил, рискуя перевернуться, схватился за ветки березы, затормозил обласок. Прячась за березу, он приткнулся к берегу, изо всех сил пригибал дерево, стараясь замаскировать и себя и обласок ветками с густой зеленой листвой.
Ведерников хорошо слышал говор людей, хотя Васюган был здесь широким и многоводным. Это остяки возвращались из Каргасока. В лодке лежали мешки с провизией и охотничьими припасами.
Ведерников отпустил березу только после того, как остяки скрылись за поворотом реки. Слава богу, они его не заметили. Больше он не осмелился рисковать. Миновав яр, Ведерников завернул в устье первой же речушки, скрылся в тальнике, прилег отдохнуть. Стаи жадных комаров набросились на него с писком и звоном. Ведерников надел на голову продымленную сетку, помазал руки чистым дегтем. Проклятие! Комары ухитрялись проникать под сетку и кусали так больно, что казалось, кто-то невидимый вбивает в тебя иголки. Ведерников отчаялся. Нет, это невыносимо. Надо плыть дальше. На реке комаров не было, там можно было хоть дышать нормально. Ведерников приготовился уже вытолкнуть обласок из тальниковых зарослей, как вдруг до слуха его донесся стук весел. Он подполз ближе к берегу, развел ветки. Послышались отчетливые голоса, а еще через минуту-другую большая тесовая лодка, груженная неводом и бочонками, медленно проползла под самым носом Ведерникова. В лодке сидело пять человек. Молодой мужик с окладистой русой бородкой, которого несколько раз назвали Терехой, рассказывал какую-то смешную историю про деревенского попа. «Коммунары! – догадался Ведерников. – Хозяева! Эти не прячутся по кастам», – подумал он с завистью. Но вот коммунары скрылись за поворотом реки, смолкли их голоса, затих стук гребей, и Ведерникову стало мучительно тоскливо.
Он решил немедленно двинуться в путь, но что-то его все-таки удерживало. «Боюсь! Боюсь встречи с людьми», – мелькнуло в голове. Усиленно отбиваясь от комаров веткой, он просидел в тальнике еще с полчаса, потом набрал сухих сучьев и принялся разводить костер. Он разжег его в ямке так, чтобы не было видно с реки, подставил искусанные комарами лицо и руки под струю едкого дыма. Сидел, отдыхая от натиска гнуса.
С наступлением темноты Ведерников двинулся дальше. Ночь стояла такая непроглядная, что небо, река, берега сливались, и его обласок то втыкался в песчаные косы, то налетал на свалившиеся с яров деревья.
Вдруг обласок со скрежетом наскочил на карч. Ведерников замер. Одно неверное движение, и обласок перевернется, как скорлупка. Осторожно, чуть шевелясь, Ведерников сдвинулся на корму. Нос обласка приподнялся, и Ведерников почувствовал, что может плыть дальше.
В полночь выглянул месяц. Его свет был далеким и робким, но все-таки на реке появились серебрящиеся полоски. Ведерников плыл от полоски к полоске и ни разу больше не сел на мель.
Вскоре он увидел впереди себя красные огоньки, мерцавшие в темноте манящим светом. Это был Белый яр, на котором поселилась коммуна. Впервые за все время путешествия Ведерникову стало не по себе. Неужели его обнаружат? Наверняка у коммунаров выставлена на берегах охрана. Что же он скажет, если его остановят? Что? Хитроумный Порфишка вместе с Отсом и Кибальниковым предусмотрели все, но они ничего не сказали ему о том, как вести себя в случае, если он будет обнаружен.
Ведерникова охватил озноб, но он быстро подавил чувство страха. «Скажу, что еду от дяди Порфирия. Почему ночью? Тороплюсь в Каргасок к пароходу». Ему показалось это очень убедительным и он окончательно успокоился.
Огоньки приближались с каждой минутой. Они стали большими, и цвет их был уже не красный, а оранжево-желтый. Чуть не за версту до Белого яра Ведерников услышал переливы гармошки и слаженные девичьи голоса. Он не мог разобрать слов песни, но печальная мелодия, которую доносило до него эхо, схватила его за сердце. «Вот так где-нибудь погибнешь в этой темноте, не дожив своего века, не сделав положенного тебе, никем не любимый, никем не обласканный». А мелодия песни становилась все слышнее и отчетливее, и сердце щемило все сильнее и сильнее. «Пойте, пока поется. Скоро ваши песни кончатся», – подумал Ведерников, стараясь возбудить в себе ненависть к коммунарам и этим подавить чувство одиночества и тоски. Чтобы не выдать себя неосторожным стуком весла, он поднял его, решив проплыть мимо коммуны на самостоке. Вероятно, он плыл очень близко к берегу, так как в зареве костров рассмотрел силуэты гармониста и девушек, продолжавших своей песней будоражить его душу.
На рассвете Ведерников приплыл в Югино. Протокой, как ему велел Исаев, он спустился верст на пять ниже Югина, потом повернул обласок обратно. Когда он приблизился к деревне, остяки уже поднялись, и кое-кто из них хлопотал на берегу, возле своих лодок. Его заметили сразу же, стали поджидать.
Порфирий наказал остановиться у остяка Мишки. Мишка был его тайным доверенным и за небольшую плату умело подбивал остяков продавать пушнину только ему, Исаеву.
За две бессонные ночи Ведерников измучился, на руках у него всплыли кровавые волдыри. Он дал остякам бутылку водки, якобы захваченную из города, а сам залез на сеновал, под крышу амбара, лег на почерневшее, прошлогоднее сено и сейчас же уснул.
Проснулся он от крика и ругани. Подвыпившие остяки, обычно пьяневшие после первой же рюмки, лупили Мишку. Не поднимая головы, Ведерников прислушался к возгласам пьяных. Остяки вспоминали Порфирия, корили его за какой-то прошлогодний обсчет, грозили Мишке, что они поедут в коммуну. «Нет, Игнатьич, остяки ни в чем не окажут тебе поддержки, а вот нож в спину при случае всадят», – мысленно обращаясь к Исаеву, думал Ведерников.
Остяки пошумели еще немного и разошлись. Ведерников снова уснул. В полдень он поднялся, поел у Мишки в избе жареной рыбы и, делая вид, что торопится к дядюшке, отправился в путь.
Приближаясь к коммуне, Ведерников почувствовал сильное волнение. «Что же это с тобой делается, Григорий? Так ты выдашь себя с первой же минуты. Куда девалась твоя отвага, удивлявшая на фронте товарищей?» – рассуждал он сам с собой. Но уверенности в душе не появлялось. Не было какой-то искорки, которая высекалась в минуты опасности на фронте.
Ведерников приткнулся к берегу и долго наблюдал за Белым яром. Если бы не костры, дымившиеся то там, то здесь, можно было подумать, что Белый яр покинут людьми. Но вот к реке подошла женщина. Она несла большой таз. Ведерников подумал: «Это хорошо, что женщина. С ней проще заговорить». Он оттолкнулся веслом от берега, быстро пересек Васюган.
– Здравствуйте, тетушка! – громко сказал Ведерников.
Женщина сидела на корточках спиной к нему, чистила коротким ножом свежих язей.
– Ой, кто там? – вздрогнула она и поспешно поднялась, одергивая на себе короткую кофточку.
– Один незнакомый вам человек. Прошу любить и жаловать, – забормотал Ведерников, пытаясь балагурством скрыть одолевшее его волнение.
Женщина смотрела на него большими жгуче-черными глазами. Глаза были не просто черные, а какие-то золотисто-черные, будто подсвеченные откуда-то жарким огнем. На строгом бледном лице выступил румянец. Высокая, полная грудь сильно вздымалась, хотя женщина дышала спокойно.
– Кто ты такой? – тихо спросила она.
Ведерников выпрыгнул из обласка, подтащил его за нос на песок, чувствуя, что произвел впечатление на незнакомку, ласково улыбнулся:
– Твоя судьба! Сними-ка платок-то с головы. Зачем красоту свою прячешь?
Нож выпал из ее руки, ставшей безвольной. Она послушно сняла платок.
– Боже мой! Какая ты! – Ведерников задохнулся.
Смолево-черные волнистые волосы, заплетенные в две косы, опустились на грудь. Голова чуть склонена набок… Из-под завитков просвечивали розовые уши, высокая белая как молоко шея. Женщина была совсем еще юной и при своей строгости и физической силе стройной и гибкой, как прибрежная талинка.
– Ай, ай, ай! – протянул Ведерников, продолжая с восхищением глядеть на женщину. – Тебя как зовут? Ты откуда тут появилась?
– Лукерья я. Терехина баба. А сам-то откуда взялся?
Женщина смутилась, зарделась вся и в своем смущении стала еще привлекательнее.
– А я Гришка Ведерников, племянник вашего соседа Порфирия Исаева. Еду из Томска к дяде в гости. В Каргасоке еще мне сказали: «В коммуне побывай, посмотри там красавицу Лукерью».
Женщина опустила голову, быстро набросила платок и в одно мгновение переменилась, став старше и суровее.
– Будет болтать-то! – недружелюбно сказала она.
– Истинный Христос! – Ведерников так искренне и горячо перекрестился, что Лукерья посмотрела на него с доверием. – А тебе сколько годов, Луша?
– Двадцать четвертый с Масляной недели пошел.
– Вот тебе и на! Мы с тобой ровесники. А замужем давно?
– Три года мыкаюсь.
– И дети у тебя есть?
– Да ты кто такой, чтобы обо всем меня выспрашивать? – с напускной строгостью спросила Лукерья, поднимая с песка нож.
– Я-то? Парень просто. Холостой, неженатый. Чего же мне не спросить-то? А только раз не хочешь отвечать – не говори.
Ведерников сделал вид, что он чуть-чуть обиделся.
– А тебе кого надо, парень? Ты к кому? – спохватившись, спросила Лукерья.
– Кого мне надо-то? Тебя, Луша. Тебя одну-разъединую…
Красота Лукерьи поразила Ведерникова, и, говоря это, он говорил правду. А Лукерья стояла ошарашенная. Никогда не слышала она таких слов. Да и сама-то никому и никогда их не говорила. На всем белом свете был один человек, которому она могла бы сказать такие слова, но до этого человека было далеко, как до неба.
– Сладкие твои песни, парень, – тяжело вздохнув, сказала Лукерья, – а только ни к чему они: мужняя я жена, отрезанный ломоть. Давай-ка проваливай восвояси.
Но Ведерников даже не шевельнулся. Чем больше он смотрел на Лукерью, тем больше она изумляла его. «Боже мой, какие у нее брови и совершенно алебастровый лоб, точеные ноздри, а губы, какие красивые губы!..» – проносилось у него в голове.
– Давай-ка, парень, проваливай! Мне на ужин рыбу надо почистить. Скоро коммунары с работы придут, – видя, что парень не намерен уходить, сказала Лукерья.
– А я тебе помогу! – Ведерников выхватил из ножен, висевших у него на ремешке, острый охотничий нож и с ловкостью принялся вспарывать крупных, жирных язей.
– Ты смотри-ка, как быстро он ножом орудует! – искоса поглядывая на Ведерникова, с одобрительным смешком сказала Лукерья. Что бы там ни было потом, но сейчас присутствие этого красивого, кудрявого парня, одетого в сатиновую рубашку, широкие брюки с напуском, в добротные сапоги, радовало Лукерью.
«Ах, милая ты моя, пожила бы с мое в одиночестве, побродила бы столько же по Нарымскому краю, не тому бы еще научилась», – с жалостью к самому себе подумал Ведерников и, боясь потерять дорогое время, спросил:
– А где у вас народ-то, Луша?
– Коммуна дома строит, лес под пашню корчует. А кое-кто рыбачить уехал. А тебе… забыла, как зовут-величают тебя, кого надо?
– Гриша я, Лукерья. Гришей меня зови. Спрашиваешь, кого мне надо? Никого не надо… Была бы ты. Руки вот я без привычки надсадил. Смотри, какие волдыри вздулись. Хотел дальше сегодня плыть, да сил нет, весло из пальцев вываливается. Пальцами ведь только и держу.
Ведерников обмыл руки от язевой шелухи и повернул их кверху ладонями.
– Ой, какие волдыри, да еще кровавые! Как же ты так?! Рукавицы бы надел! – осматривая его ладони, выговаривала Лукерья.
– Конечно, надел бы, если б не забыл в Каргасоке на берегу.
– Ну подожди, сейчас я рыбу унесу и гусиным салом мозоли смажу. И тряпочками завяжу. А то как начнут лопаться – не приведи господь, какая боль будет.
– Благодетельница ты, Луша! Спасибо тебе! – тронутый сочувствием Лукерьи, горячо прошептал Ведерников.
Лукерья взяла таз и понесла к столам, неподалеку от которых под дощатым навесом стояла полевая печка-времянка, сбитая из синеватой васюганской глины. Ведерников провожал ее неотрывным взглядом. И все, все в Лукерье: ее быстрая, уверенная походка, плавный размах свободной руки, крепкие, в меру полные ноги, круглая, как бы выточенная спина – вызывало в нем затаенный восторг. «А может быть, потому она кажется мне необыкновенной, что я долго не видел женщин?! – мелькнуло у него в уме, но тут же он опроверг себя: – Нет, нет, она действительно прекрасна…»
Лукерья вернулась быстрее, чем ожидал Ведерников. Она принесла пузырек с желтоватой жидкостью и белые, хорошо отстиранные тряпки.
– Ну, давай руки, парень, – сказала Лукерья, взбалтывая гусиное сало.
– Григорий я, Луша.
– Ну, Григорий так Григорий.
Ведерников вытянул руки, повернул их ладонями вверх. Лукерья вытащила из пузырька глухариное перо, быстро и бережно помазала мозоли гусиным салом.
– Теперь давай завяжу, – отставляя пузырек в сторону, сказала Лукерья и развернула тряпочки. Так же бережно и так же проворно она обмотала тряпкой вначале одну руку, потом вторую, закрепила обмотки тесемками, сказала: – До свадьбы заживет!
Взглянув на нее в упор, Ведерников почувствовал нестерпимое желание обнять ее. Но он сдержал себя, закинул забинтованные руки за спину.
– Отдыхай, парень Григорий, а я пойду дело делать, – бросила Лукерья и торопливо пошла к печке.
Вечерело. Солнце наполовину опустилось за синевший лес, и весь Васюган с крутыми и отлогими берегами покрылся отблесками его. Голубизна высокого неба начала постепенно затухать, зато уходящее солнце запустило оранжевые щупальца в самый зенит, и они теперь дрожали и вспыхивали по всему небосводу.
Ведерников лежал на песке, закинув за голову руки, наблюдал за игрой красок предвечернего часа, думал: «Пока все идет хорошо, даже мозоли мои пригодились. Есть чем оправдать остановку на ночь. Лукерья… Луша… Никогда не думал, что встречу в этой чертовой глухомани такую красавицу».
Говор, крики, обрывки песен, донесшиеся со стороны берега, прервали размышления Ведерникова. Он поднялся, сел на нос своего обласка. С кручи по тропинке цепочкой шли коммунары. У некоторых в руках поблескивали топоры, пилы, лопаты. Среди пожилых мужчин и женщин Ведерников заметил много юных лиц. То и дело тишину Васюгана разрывали всплески дружного смеха, такого беззаботного и озорного, что Ведерников даже позавидовал: «Хорошо им. Они своего достигли».
Лукерья вышла навстречу коммунарам. Они окружили ее, и Ведерников понял, что говорят о нем. Вот толпа раздалась, и Ведерников увидел, как ровным, спокойным шагом к нему направился высокий русоволосый мужик. «Главный коммунист, комиссар Бастрыков», – догадался Ведерников и вдруг почувствовал, что мелкая дрожь пронизывает его от головы до пяток. «Ну-ну, что ты, Григорий, трусишь? С главковерхом встречался, с генералами разговаривал, а тут, подумаешь, перед мужиком робеешь», – мысленно подбодрил себя Ведерников. А мужик все приближался. И хотя на нем не было мундира и эполет, хотя был он внешне такой же, каких тут было много, Ведерников отличил бы Бастрыкова ото всех. Что-то властное было в его костистой, нескладной фигуре, в длинных, крупных руках. Он посмотрел на Ведерникова прищуренными глазами, и тому показалось, что его стеганули чем-то горячим.
– А кто такой будешь, товаришок? – спросил Бастрыков.
Ведерников готовился к этой встрече, тренировал свое воображение, и все-таки в первое мгновение он растерялся. Несколько секунд он не знал, что сказать. И тут вспомнил совет Порфирия Игнатьевича: «Чтоб Бастрыков не лез к тебе в душу со своими расспросами, ты старайся, господин Ведерников, изобразить из себя глупого».
– Кто такой я-то? – входя в роль, переспросил Ведерников. – Порфирия Исаева племянник. К дядюшке плыву. Да вот руки сносились. – И Ведерников показал на свои обмотанные руки. – Ночевать, дяденька, дозволишь?
– Ночуй, – разрешил Бастрыков и кивнул на повязки. – А где тебе бинтовали?
– А вона тетенька ваша сжалилась. Такие набил желваки – страх смотреть.
– А откуда плывешь?
– Из Каргасока…
– Когда же ты из города?
– Да уж давненько. Вначале у тетушки в Иарабели погостевал, а потом к дядюшке отправился.
– Удачливый ты. Вон сколько у тебя родни!
– Да уж что говорить! Знай себе гостюй.
– А при каком деле ты в городе приставлен? – спросил Бастрыков, с внутренней усмешкой подумав: «На таком парне пахать при нужде можно».
– У матушки нашей постоялый двор на Заозерной улице. При нем я.
– О, да ты богатый жених! – засмеялся Бастрыков.
Ведерников поддержал его; изо всех сил стараясь показать, что ему очень весело, он громко захохотал.
Многие из коммунаров подошли к Бастрыкову и Ведерникову, рассматривали незваного гостя, слушали их разговор.
– Как город-то живет? Крестьян много бывает у вас на постоялом дворе? – спросил Бастрыков.
– Зимой бывали. А к весне как обрезало. Матушка хотела уже заведение закрывать.
– На базаре торговлишка есть какая-нибудь?
– Совсем плохо.
Бастрыков громко и протяжно вздохнул. Ведерников не понял, чем вызван этот вздох председателя коммуны, вопросительно посмотрел на него.
– Поразорила война и город и деревню. Много забот у советской власти будет, – высказал свои раздумья Бастрыков.
Ведерников остался к суждениям председателя коммуны равнодушным. Промолчав, сделал при этом простовато-глупый вид.
– А не слышал, товаришок, на Дальнем Востоке побили наши интервентов и белых? – вновь поинтересовался Бастрыков.
Ведерников так и замер. Можно было сказать, что Красная Армия терпит на Дальнем Востоке сильное поражение, белоинтервенты стремительно продвигаются к Байкалу. Наверняка это сообщение могло бы повлиять на настроение коммунаров. Но, прикинув кое-что в уме, Ведерников решил, что идти ему на такой шаг опасно, можно провалиться.
– Часовой мастер у нас по соседству живет. Был я у него как-то по весне. Читал он газету. Прописывалось там, будто к белым из других держав оружия и войска ужасть сколько пришло! – сказал Ведерников, с сожалением видя, что возможности его ограничены и изобрести большего он сейчас не в силах. Сказанное им не произвело того впечатления, на которое он рассчитывал.
– Сколько они ни посылают, а конец у них один – могила! – воскликнул Бастрыков.
– Да где им с русским народом справиться? Наших сил – океан! – послышался убежденный голос.
«Нет, на слухи тут не падкие», – подумал Ведерников, вспомнив наказ Порфирия Игнатьевича: «А самое главное, господин Ведерников, слушок им какой-нибудь запусти, да позабористее: Ленин, дескать, при смерти, а дружки его передрались. Шатается, мол, советская власть. Вот-вот новая головка в России объявится».
– Ну что же, гость, пойдем. Время ужинать, – сказал Бастрыков и направился к столам.
Ведерникова посадили за крайний стол, на самый угол. Отсюда ему хорошо были видны все остальные столы. Лукерья то и дело сновала от столов к печке и обратно. На железных противнях она приносила жареных язей, хлеб в мисках, нарезанный крупными ломтями. Ведерников делал вид, что смотрит на луга, простиравшиеся за рекой, а сам ни на минуту не упускал из виду Лукерью. Все, за что бы она ни бралась, она делала быстро, ловко и уверенно, и это, очень нравилось Ведерникову. Некоторые коммунары что-то говорили Лукерье, должно быть, шутливое, потому что то там, то здесь раздавался смешок, но в ответ Лукерья лишь кротко улыбалась. Заметив, что она снова повязала голову старушечьим платком, Ведерников подумал: «И хорошо делает, что прячет свою красоту! Разве эти дикари оценят ее по-настоящему?!»
Подав на столы большие медные чайники, Лукерья подошла к вихрастому мальчишке, сидевшему рядом с Бастрыковым, и начала что-то говорить ему. Ее строгое лицо вдруг стало мягким, ласковым, а обжигающий свет золотисто-черных глаз излучал сейчас только доброту, неиссякаемую доброту. Мальчишка почему-то сконфузился, и Лукерья отошла, бросив не на него, а на Бастрыкова взгляд, полный затаенной нежности.
«Может быть, этот мальчишка ее сын? Но ведь ей двадцать с небольшим, а хлопчику лет десять…» – недоумевал Ведерников.
После ужина, когда совсем уже стемнело, коммунары разложили костры, окружили их. И тут Ведерников был снова поражен. Заводилой веселья, которое царило чуть не до полуночи, был сам Бастрыков. И все он умел! Вначале председатель коммуны играл на балалайке, потом ему принесли гармонь, и он без устали целых два часа ублажал танцоров и плясунов. Наконец коммунары принялись петь. У Бастрыкова оказался сильный баритон. Он не только запевал, но временами управлял хором. И все он делал с жаром, горячо, увлекаясь сам и увлекая других. «Живет как все, не отделяется», – думал Ведерников, испытывая какую-то внутреннюю растерянность от острого любопытства к жизни этого человека, такого далекого, непонятного и чужого.
– Ну, братаны, пора на покой! Завтра, как и сегодня, – одни на раскорчевку, другие на постройку, – вставая с бревна, сказал Бастрыков.
Коммунары стали расходиться по шалашам, которые тянулись в ряд по берегу.
Ведерников, забытый всеми в часы веселья, тоже встал и направился к реке. Вдруг кто-то в темноте взял его осторожно за плечо. Ведерников оглянулся. За ним шел сам Бастрыков.
– Ну, гость, где думаешь спать-ночевать? – спросил он с шутливостью в голосе.
– У меня палатка в обласке лежит. Сейчас ее быстренько на козлы поставлю – и готово, – ответил Ведерников, с беспокойством подумав: «Лучше б ты забыл обо мне».
– Спокойной ночи, стало быть, – сказал Бастрыков откуда-то из темноты.
Ведерников обрадовался, что Бастрыков уходит, вдогонку буркнул:
– Приятных сновидений.
Он быстро раскинул палатку возле обласка на песке и залез в нее. Но спать ему не хотелось. Вечер, проведенный в коммуне, особенно встреча с Лукерьей произвели такое сильное впечатление, что ни о чем другом он думать сейчас не мог. «Где же она? Почему не пришла на танцы? Видимо, потому не пришла, что дала слово мужу не выходить без него на гулянья… Но почему она сказала: «Три года мыкаюсь?» Потом мысли Ведерникова приняли иное направление. «Итак, что же я узнал о коммуне? Что я могу рассказать на заимке? Точно ничего не узнал, а впечатление о жизни коммуны все-таки имею. Дух коммунаров крепок. Будь у них распри или уныние – не веселились бы. И, судя по разговорам, коммуна строится. Кажется, уже срубы новых домов готовы. И лес корчуется под озимый сев… Что же еще?» Ведерников имел кое-какой военный опыт и потому из обрывков разговора, из отдельных фраз коммунаров старался воссоздать общую картину. «И каков же твой вывод?» – как бы услышал он вопрос друзей, ждавших его на Порфишкиной заимке. «А вывод такой, – мысленно отвечал Ведерников, – если коммуну не разгромить нынче, то на будущий год она будет неподступной. Коммуна соберет вокруг себя всех остяков, и тогда Исаеву конец. Остяки сами уберут его. Бунт Ёськи только начало… Если же коммуну ликвидировать, то даже при условии полной победы советской власти в Сибири Порфирий Игнатьевич останется хозяином Васюгана еще на десять – пятнадцать лет. Едва ли среди крестьян найдется другой такой энтузиаст, как Роман Бастрыков, который увлечет других на жизнь в безлюдной таежной стороне. Но… Что ты лично, Григорий, выиграешь, если втянешься в эту борьбу?»
Ведерников даже привстал в палатке, опираясь на локоть. «Как тебе не стыдно! Разве можешь ты, честный русский офицер, ставить так вопрос? Да ведь разгром коммуны – это удар по советской власти, которая отняла у тебя все: молодость, достоинство, будущее. Да, но не будь мальчишкой! Ради благополучия мелкого торговца, которому ты обязан только временным приютом, ты можешь поплатиться жизнью. Кому нужен такой героизм?»
От всех этих противоречивых мыслей Ведерникову стало нестерпимо душно. Пятясь, он вылез из палатки. Над Васюганом стояла темная, беззвездная ночь. Молодой месяц светил робко, и его холодный свет едва пробивался сквозь толщу облаков. Было тихо. Откуда-то издали доносились ровный и нескончаемый звон таежного родничка и редкие всхлипывания филина. Ведерников закурил, стараясь всмотреться в темноту, подумал: «А живет Бастрыков безмятежно. Один взвод разведчиков в три минуты оставит от коммуны лишь одно воспоминание…» И тут же Ведерников снова вспомнил о Лукерье. «Где она спит? Может быть, она ждет меня? Я ведь сказал ей всерьез, что приехал ради нее».
На длинных дорогах войны у Ведерникова немало уже было случайных встреч с женщинами. Но это были встречи, которые не оставляли никакого следа в душе и забывались на другой день. «Спит она сегодня одна. Тереха ее с рыбаками», – промелькнуло у него в уме. Но, едва подумав об этом, Ведерников почувствовал, что встреча с Лукерьей волнует его по-особенному. Он постоял с минуту, прислушиваясь к тишине, и осторожно побрел по берегу в сторону шалашей. Вдруг чуть повыше того места, где он шел сейчас, послышался приглушенный разговор. В нем невозможно было разобрать ни одного слова, но по звукам, которые доносились в виде какого-то однообразного и напряженного говора, он понял, что люди не шутки шутят. Он затаил дыхание. Ему казалось, еще одно мгновение – и это напряжение взорвется. Но он ошибся. Говор затих совершенно – правда, сейчас же раздался хруст сучьев. Кто-то быстро уходил в темноту, туда, где стояли шалаши.
Ведерников напряг зрение, но рассмотреть уходившего не успел. В тот же миг заскрипел сухой речной песок. Не глазами увидел он, а чутьем понял: это она, Лукерья. В порыве волнения, быть может, отчаяния она не вскрикнула даже, когда он подхватил ее на бегу. Потом так же доверчиво села рядом с ним на песок. Рыдания душили ее, и она вся изгибалась. Он обнял ее, поддержал.
– Кто тебя, Луша, обидел? – горячим шепотом спросил Ведерников.
Лукерья всхлипывала, пряча лицо в платок.
– Кто это тебя, Луша? – снова спросил Ведерников.
Но вот она затихла и вдруг, выпрямившись, громко сказала:
– Увез бы ты меня, парень, отсюда, пока я живая…
«Куда же я ее увезу? И зачем я ее увезу?» – пронеслось у него в голове. Но тут Лукерья вскочила – то ли пришла в себя, то ли почувствовала растерянность Ведерникова – и вмиг исчезла в темноте, словно растворилась в ней. Ведерников кинулся вслед, но наскочил на куст и сильно расцарапал руку. Ощупью он добрался до своей палатки и долго сидел, ошеломленный. Все, что случилось сейчас, походило скорее на сон.
«Что же произошло?» – спрашивал он себя, напряженно всматриваясь в темноту и прислушиваясь, не идет ли Лукерья. Но тишина теперь была такой, что даже не звенел родничок и не вскрикивал филин. Люди, видимо, крепко спали. Ведерников спать не мог. Он курил без конца, втягивая горький табачный дым глубокими затяжками. «Возможно, вечером приехал ее муж, что-то между ними произошло. А может быть, он видел ее со мной и приревновал?» – терялся в догадках Ведерников. Он просидел без сна почти до рассвета. От реки тянуло свежестью, и комары совсем не донимали его. Когда чуть забрезжило, он залез в палатку и уснул так сладко, что не слышал, как поднялись коммунары, как они позавтракали и ушли на работу.
– А ты мастер поспать, парень Григорий, – улыбнулась Лукерья, когда заспанный, со взъерошенными волосами Ведерников вылезал из палатки. Она смотрела на него своими золотисто-черными глазами, и ничто в ней, ни одна черточка на лице, ни одно движение не напоминали о том волнении, которое было пережито ночью.
– Товарищ Бастрыков велел тебя покормить, – сказала Лукерья.
Ведерников подошел к реке, осторожно, боясь замочить тряпки на руках, умылся, направился к столам. Лукерья принесла миску с лепешками из белой муки, эмалированную кружку и чайник.
– Угощайся сам, Григорий, – сказала она. – А мне хлеб надо в печь сажать.
Ведерников понимал, что задерживаться дальше в коммуне у него нет оснований, но уехать, не поговорив с Лукерьей, он тоже не мог.
– Ты, Луша, еще разок помажешь мне руки? – спросил Ведерников, глядя на нее ласковыми глазами.
– Ешь пока, а я тем временем хлебы в печь посажу и жир принесу.
Ведерников пил чай, ел лепешки, а сам наблюдал за каждым шагом Лукерьи. Нет, нет, причислить встречу с ней к маленьким пошло-любовным приключениям Ведерников почему-то не мог. Давясь, наскоро съел он три лепешки, выпил полкружки чаю и отодвинул миску. В те короткие минуты, когда Лукерья будет смазывать гусиным салом его ладони, ему надо очень многое узнать у нее и многое сказать.
– Ну, давай руки! – подходя к Ведерникову, приказала Лукерья и обернулась, крикнув своей помощнице: – Загляни, Мотя, в печку, как бы хлебы не подгорели!
– Побудь, Луша, подольше со мной. Так мне хорошо, когда ты рядом, – понизив голос до шепота, сказал Ведерников.
– Опять ты про свое! А сядешь сейчас в лодку – и до свидания на веки вечные, – усмехнулась Лукерья и быстро-быстро принялась сматывать с его рук свой самодельный бинт.
– Не говори так, Луша! Я снова скоро приеду. Приехать?
– Вольному воля.
Лукерья обдавала Ведерникова своим дыханием, прикасаясь к нему то плечом, то грудью. От нее пахло здоровьем молодого тела, свежевыпеченным хлебом и чуть дымком смолевых дров. Ведерников с трудом удерживал себя от желания обнять ее и поцеловать в сочные малиновые губы.
– А почему ты плакала ночью, Луша? Что случилось? Я так переживал за тебя! – заглядывая Лукерье в глаза, взволнованно прошептал Ведерников.
– Что было, то прошло, – с тоской в глазах сказала Лукерья.
– А почему ты все-таки плакала?
– Не я одна плачу. Многие молодые бабы еще горше меня плачут.
– Почему?
Лукерья тихо, с грустью засмеялась. В ее голосе послышались искренние, ласковые нотки.
– Да потому, дурачок, что не каждая тропка в заветный дом приводит. Случается, идешь в одни ворота, а попадаешь в другие. А бежать назад – дороги нет. – Помолчав, Лукерья с каким-то задором спросила: – Уразумел?
«Она не любит мужа, тяготится им», – подумал Ведерников.
– Уразумел, да не совсем, – проговорил он, намереваясь еще кое о чем спросить ее. Но она опередила его:
– Подумай на досуге, парень. Авось все до конца уразумеешь. Подумай, пока молодой.
– Подумаю, Луша. А скажи: тебе хорошо здесь живется?
– Хорошо бы жилось – не просила бы увезти отсюда.
– Тебя ночью обидел кто-то?
– Ну, много будешь знать – скоро состаришься…
– Я люблю тебя, Луша.
– Не торопись, подумай-ка лучше, той ли тропкой идешь. Ну, вот и готово! Поезжай, Григорий, теперь…
Лукерья заторопилась к печке, где орудовала ее помощница, краснощекая девка-здоровячка Мотька.
– Луша, подожди минуточку! – кинулся вдогонку Ведерников.
Она приостановилась, предостерегающе подняла руку, как бы удерживая его на месте.
– Я приеду, Луша. За тобой приеду, – громко сказал Ведерников, позабыв в этот миг о всякой предосторожности.
– Прощай, Григорий! – Она посмотрела на него с тоской в глазах и, опустив голову, торопливо пошла в сторону шалашей.
Ведерников стоял, ожидая, что она обернется, но Лукерья не оглянулась. «Ну вот и все. Больше мне здесь делать нечего», – подумал Ведерников. Он бесцельно походил вдоль стола и, чувствуя смятение в душе, то и дело оборачиваясь, спустился к своей лодке.
Собрав в два счета палатку, он бросил ее в обласок, столкнул нос с берега, сел в корму и взял весло. Течение подхватило обласок и понесло. С минуту Ведерников сидел неподвижно в каком-то забытьи, словно не знал, куда ему надо плыть. В глазах стояло лицо Лукерьи с выражением тоски, которая, должно быть, тяжким пластом легла ей на душу.
Опомнился он от сильного толчка. Обласок стукнулся о корягу и зашатался. Веслом Ведерников выровнял его, повернул против течения и начал грести с тупым ожесточением и яростью.
– Нет, нет, она должна быть моей! – бормотал он, не замечая, что тряпки сползли с его рук и мозоли кровоточили.
…А на Исаевской заимке Ведерникова уже ждали. Отс и Кибальников, побаиваясь после конфискации винтовки выходить на яр, то и дело посылали самого Порфирия Игнатьевича посмотреть, не приближается ли лодка. Но лодки все не было, потому что Ведерников уже не плыл, а просто едва-едва карабкался с больными руками против течения. Выбившись из сил, он остановился на ночевку верстах в семи-восьми от усадьбы Исаева. Ночь выдалась пасмурная, тихая, и комары словно сбесились. Звенящими стаями они бросались на израненные руки. Всю ночь Ведерников не спал, сидел у костра, вспоминал Лукерью, бормотал как в бреду: «Все равно она будет моя». На рассвете, так и не сомкнув глаз, Ведерников поплыл дальше. Руки совсем плохо слушались. В голове стоял протяжный шум, и всюду виделись ему жгучие золотисто-черные глаза Лукерьи. Каким-то далеким отголоском сознания Ведерников понял, что он не выдержал огромного напряжения бессонных ночей, тревог и заболел.
На заимке в ту ночь тоже не спали. Срок возвращения Ведерникова миновал, а его все не было. Может быть, Бастрыков под конвоем коммунаров уже отправил Ведерникова в Томск, в губчека? Возможно, следовало уже начать сборы к уходу? Но куда? Вверх по Васюгану не было больше никаких явок, а вниз по реке стоял железный заслон – коммуна. И вдруг в минуту самого крайнего отчаяния, когда перепуганный Порфирий Игнатьевич перестал даже бегать на яр и смотреть на реку, из лесу вышел Ведерников. Он шел шатаясь. Воспаленные глаза его смотрели устало и отчужденно, руки были полусогнуты и неподвижны.
– Ну, как твоя экспедиция, Гриша? – чуть не в один голос спросили Отс и Кибальников.
– Господа, – патетически, с надрывом воскликнул Ведерников, – обо всем потом, после! И не судите меня жестоко: мне двадцать три года.
Ведерников прошел мимо до крайности удивленных Порфирия Игнатьевича и офицеров прямо в дом и рухнул на свою постель, не сказав больше ни слова.
Глава седьмая
Роман Бастрыков жил в непрерывных хлопотах. Ночь у него походила на день, а день был наполнен до отказа работой. С детства руки Бастрыкова привыкли к труду. Это были сильные и проворные руки. Ладонь широкая, как топор, пальцы длинные, жесткие – кость да кожа. И если уж что-нибудь требовалось зажать в руках, то Бастрыков сжимал намертво, без отдачи, как в слесарных тисках. С тем, что иные делали за неделю, Бастрыков справлялся за день. В молодости, когда Роман батрачил, кулаки Вороно-Пашенской волости Томской губернии наперебой старались сманить его к себе и не стояли даже за платой. «Этот парень ломит за троих», «Роман ворочает как бык», «Всякое дело у него кипит в руках» – так говорили о Бастрыкове. И это было истинной правдой.
И теперь, в коммуне, Бастрыков делал больше всех. Тогда, в молодости, у хозяев он работал много, потому что по силе и сноровке своей, по врожденному прилежанию не мог работать меньше. Теперь же он старался – хотел сделать как можно больше, лишь бы скорее люди, собранные им в коммуну, увидели, что они могут достигнуть при коллективном труде.
На рубке новых домов Бастрыков поднимал самую тяжелую стойку, рубил самое глубокое связующее гнездо, кладя бревно на бревно «в замок». Именно на его плечо ложился увесистый, как из железа, литой комель лиственничного сутунка, когда надо было поставить его на попа под фундамент амбара. И на неводьбе Бастрыков брал на себя ту часть работы, от исполнения которой зависели быстрота дела и его удача. Он становился в корму и, направляя веслом ход лодки, как бы очерчивая границы будущей тони, второй рукой выбрасывал поплавковую часть невода и матицы. Выброс матицы, представляющей собой длинный мешок из двухслойной дели, не просто работа – это мастерство. Матицу, лежащую в лодке бесформенным ворохом, надо выбрасывать так, чтобы она при броске распрямилась и в длину и в ширину и плавно, влекомая хвостовым грузилом, уходила в воду. От того, как легла матица в реке – прямо, с натяжением или же с перекосом и перехватом, – зависит удача тони. Если матица идет правильно, вся рыба, захваченная неводом, будет в ней, если же она где-то сцепилась или переплелась, невод идет косо, в нем образуются «подхваты», «проломы», и рыба, в особенности самая крупная, уйдет в реку. Неводить с неопытным метальщиком, или, точнее, поставщиком невода, – все равно что черпать решетом воду. В реке будет рыбы невпроворот, а в неводе – пусто.
Никто в коммуне не мог сравняться с Бастрыковым в умении метать невод, и потому-то, когда надо было поймать рыбы побольше, поймать наверняка, председатель коммуны сам отправлялся на рыбалку.
Удачливее других был Бастрыков и на охоте. Он умел и любил стрелять птицу влёт, а тот, кто не ради прогулки бродит по озерам и борам, кто «кормится» ружьем, тот понимает, что охотник, умеющий стрелять по летящим целям, выигрывает в сравнении с остальными вдвое.
На обдумывание жизни, на подготовку распоряжений у Бастрыкова оставалось только ночное время. Нередко в полночь, а иной раз и под утро возле костра можно было увидеть Романа то с Васюхой Степиным, ведавшим складами коммуны, то с его братухой Митяем, секретарем партийной ячейки, то с Лукерьей, кормившей и обстирывавшей коммунаров, то с Иваном Солдатом, главным среди плотников.
Но как ни был завален работой Бастрыков, как ни спрессовано было его время, он всегда находил полчаса-час, чтобы побыть с Алешкой, поговорить с ним один на один, послушать его мальчишечью бесхитростную болтовню.
Бастрыков не просто любил сына, видя в нем некоторые собственные черты и свойства, он любил его нежно и горячо еще потому, что мальчик напоминал ему Любашу, он как бы соединял в себе их прошлое с настоящим и будущим. Манерой говорить и смотреть Алешка так походил на мать, что временами Бастрыкову казалось: вот она, встала из небытья, его драгоценная Любаша, отдавшая ему, Бастрыкову, все, что имела, вплоть до крови своей, пролитой в муках и страданиях…
– Сынка, хочешь поедем удить? – спросил как-то Бастрыков Алешку.
Дело было под вечер. Бастрыков пришел с раскорчевки весь измазанный сажей и смолой. До ужина оставалось час-полтора. Лукерья вместе с Мотькой хлопотали еще у печки, гремя жестяными противнями.
Алешка закрутился вьюном возле отца. Удочки и банка с червями у него всегда были наготове. Пока Бастрыков умывался с мостков, отфыркиваясь от теплой и мутной васюганской воды, Алешка подогнал обласок.
– Садись, тятя, в нос. Я сам тебя повезу! – ликовал Алешка.
– Ну давай, сынка, вези. Поедем в конец Белого яра. Там заводь есть. На закате окуни должны браться.
– Лады, тятя, поплывем к заводи, – подражая кому-то из взрослых, деланным баском сказал Алешка.
Течение под яром было быстрое, и Алешка легко справлялся с обязанностями рулевого. Он даже не греб, а только чуть водил веслом, не давая лодке разворачиваться.
– А сегодня, тятя, – рассказывал Алешка, – на постройке Иван Солдат дал мне свой топор. Остер как бритва! Пока дядя Иван курил, я целое бревно обтесал, он посмотрел мою работу и сказал: «Молодец! Твердо топор держишь. Хороший из тебя плотник будет». Как по-твоему, тятя, буду я плотником?
– Конечно, будешь, сынок! Война под закат идет, люди обстраиваться начнут, народ в коммуны хлынет. Много домов плотникам срубить придется. О хорошем ты деле думаешь.
– А как по-твоему, тятя, когда я большой вырасту, я Ленина увижу? – спросил Алешка и затаил дыхание в ожидании ответа отца.
– Ленина? Может, и увидишь. Работать хорошо будешь, учиться станешь, в Союз молодежи запишешься. А подрастешь – в Красную Армию пойдешь служить. А там, гляди, по каким-нибудь делам в Москву поедешь. Ну а в Москве Ленина увидеть проще простого. Он и на собраниях бывает и на митингах, а то, глядишь, в Кремль попадешь. Он там и живет…
– А ты, тятя, не видел Ленина?
Сын не первый раз спрашивал об этом. Ему очень хотелось, чтобы отец ответил на этот вопрос утвердительно, но Бастрыков ни в чем не хотел лгать Алешке.
– Нет, сынка, Ленина не видел. Он один, а нас много. Помощники его приезжали к нам на фронт.
– А у Ленина много помощников, тятя?
– Видимо-невидимо, сынок. Весь трудовой народ его помощник. И Митюха вон помощник, и я помощник, и ты сам помощник…
– И я тоже? – строго спросил Алешка, и загоревшее, с облупившимся носом лицо его озарилось восхищением.
– И ты тоже, – твердо сказал Бастрыков. – А почему? А потому: ты коммунар. А раз коммунар – значит за Ленина. А если ты за Ленина, – значит ты его помощник.
– Здорово! Помощник Ленина! Стараться, тятя, буду, – серьезно сказал Алешка, задумался, помолчав, спросил: – А Лукерья, тетя Луша, помощник Ленина, тятя? Она все время про коммуну ворчит.
Теперь задумался Бастрыков. Сын задал вопрос, на который ответить было не просто.
– Лукерья-то? – зачем-то переспросил Бастрыков. – Она, сынок, хоть и ворчит, а дело делает. Кормит нас, поит, бельишко нам стирает. А вот кое-что поймет и ворчать перестанет. Нелегкое это дело, сынка, помощником Ленина быть…
– Вот мамушка моя лучше всех на свете была помощницей Ленина! Правда, тятя?! – воскликнул Алешка, и глазенки его загорелись яркими голубыми огоньками, и весь он выпрямился, став как-то сразу тверже и шире в плечах.
– Правда, сынок! Мамушка твоя на смерть пошла, а от Ленина не отказалась, – тихо проронил Бастрыков.
Отец и сын долго молчали. В уголках глаз Бастрыкова выступили слезы, и, пряча их, он низко опустил взлохмаченную голову. «Будь она со мной, вся моя жизнь такой бы хорошей, полноводной была, вон как Васюган в разлив», – думал Бастрыков.
У Алешки теснились в уме свои думы. За последнее время стали ослабевать его воспоминания о матери. Она как бы уходила куда-то все дальше и дальше от него, и живой образ ее, с весельем в глазах, с вьющимися русыми косами, с громким заразительным смехом, теплыми, ласковыми руками, застилался в его сознании какой-то досадной дымкой, которую всякий раз хотелось куда-то сдвинуть или продуть, но ни сдвинуть, ни продуть было невозможно. «Карточки ее давно не смотрел. Завтра утром, как встану, первым делом тятин ящик открою и мамушку посмотрю», – подумал Алешка, продолжая легким движением весла направлять обласок.
– А что, тятя, чужую маму ты мне не приведешь? Дядя Иван говорит, лучше нам жить будет, – вдруг нарушая затянувшееся молчание, спросил Алешка.
Бастрыков понимал, что эта мысль давно уже беспокоила мальчика. Не раз она проскальзывала в Алешкиной болтовне.
– А ты что, сынок, хотел бы, чтоб у нас снова была мамушка? – спросил Бастрыков не столько потому, что желал услышать ответ сынишки, сколько для выигрыша времени. Ему казалось: пройдет минута-другая, и он сумеет мысленно взвесить все обстоятельства своей жизни и дать сыну ответ, веский и правдивый.
Алешка чуть поник головой, призадумался.
– Я бы хотел, тятя, – без колебаний сказал мальчик. – А ты хотел бы? – Алешка смотрел на отца в упор – глаза в глаза.
«Какую же трудную задачку задал ты, сынка!» – подумал Бастрыков и попробовал снова отсрочить ответ.
– А почему ты хотел бы? – спросил он.
– А потому, тятя, что жалеют все. «Сиротиночка!» Будто я несмышленыш трехлетний! – простодушно признался Алешка. – Тетя Луша вон проходу не дает, то по голове меня гладит, то к себе прижимает. А от нее жарища, как от печки. А сядешь за стол – тащит еду, отдельную от всех. Когда Порфишкин племянник у нас ночевал, она за ужином язя мне, жаренного на масле, принесла. «Всем, говорит, будет язь на рыбьем жире, а тебе на масле. Ты у нас самый малый, да еще и сиротка». Я не хотел язя брать, так она разобиделась. Ну ладно, раз так, съел уж. А сегодня днем я пришел с постройки за водой, она давай на мне новую рубашку примерять. «Старая-то, говорит, у тебя совсем сносилась, вот-вот с плеч сползет». Да и другие коммунары чуть что – сразу за свое: «Он сиротка». А я хочу, чтоб как все, так и я, тятя…
Бастрыков слушал напряженно, слова сына больно сжимали сердце. Он даже и не подозревал, что его одиночество – как палка о двух концах: одним концом бьет его самого, другим бьет сына. Но выход из этого положения он пока не видел. Не мог Бастрыков сейчас, в трудную пору жизни коммуны, заниматься собой, думать о невесте, о женитьбе. Он знал, что живет под неусыпным контролем двух сотен глаз и целой сотни сердец. Один неверный шаг – и в коммуне появится трещина, которую не залепишь потом десятком самых правильных поступков. Нет, лучше крепче сжать сердце, замкнуть свои чувства и ни о чем, кроме жизни коммуны, не думать.
– Новой мамушки, сынок, у тебя не будет. Такой, как мама Люба твоя, на земле больше нету, а… – Бастрыков хотел сказать, что никогда в жизни не женится, но почувствовал какую-то фальшь в этой мысли, замялся, помолчав, продолжал: – А тетю Лушу, сынок, не обижай. Она от чистого сердца о тебе заботится. Она прямая, она не умеет лгать и притворяться.
– Ладно, тятя, не обижу. За все буду говорить спасибо, – как о решенном, убежденно сказал Алешка.
– Вот и хорошо. Знай, сынок, когда человек говорит «спасибо», он не просто благодарит за добро, он и сам готов сделать то же самое…
– Я тете Луше теперь воду по утрам буду таскать.
– Хорошо. Тебе забава, а ей подмога.
– А как думаешь, тятя, когда-нибудь по Васюгану пароходы будут ходить? – спросил Алешка, круто меняя направление разговора.
– Уж это наверняка! Вот погоди, коммуна наша разбогатеет и катер заведет, а потом, может быть, и пароход.
– Чур я капитаном буду!
– А что же, вполне возможно! Подрастешь, обучишься. Советская власть к тому времени тоже в силу войдет. Ты знаешь, сынок, с годами мы тут, на этих васюганских землях, такую жизнь наладим – диву дашься!
– И город построим?
– Построим.
– А железку проведем?
– А без железки ни то ни се.
– Я машинистом на паровозе буду.
– Тоже неплохо. А пароход все-таки, сынок, мне больше по душе. Текут реки, а он себе идет и идет. Кругом вода, лес, небо.
– Правда, тятя, лучше. Буду капитаном.
– Ну, вот мы и приплыли. Подгребай, сынок, вон туда, под куст. Видишь, как крутит. Воронка тут, братец мой, до донышка, как до неба. Поплавки на лесках подымем под удилища.
Водоворот подхватил обласок, понес его от берега, потом начал крутить туда-сюда. Алешка старательно работал веслом, но ни умения, ни сил перебороть капризы заводи у него не хватало.
– Причаль, тятя, к кусту сам, – немного виновато сказал Алешка и передал отцу весло. Роман двумя-тремя гребками приблизил обласок к берегу, под самый куст. Тут было глубоко и тихо.
– Вот видишь, сынок, чуть подальше круговерть, а здесь вода как в ведре. Окунь любит такие места. Сейчас мы его выхватим. – Роман быстро размотал леску, насадил червяка на удочку и забросил ее. Едва леска скрылась в воде, как поплавок задрожал, задергался и скрылся. Отец вскинул над собой удилище, красноперый окунь, изгибаясь и дергаясь, повис в воздухе и, сорвавшись с удочки, шлепнулся прямо в обласок.
– Как ты его ловко, тятя! – засмеялся Алешка и забросил свою удочку на самую стрежь.
Вдруг ему показалось, что в таежном мусоре, который крутился в воронке, что-то блеснуло. Алешка вытянул шею, стал пристально наблюдать. Кедровая скорлупа, еловые шишки, засохшие березовые листики, обломки от тальниковых, пихтовых, сосновых, черемуховых сучков, стебельки брусничника, несгоревшие угли из какого-то неведомого костра, щепки, неизвестно кем брошенные в воду, – все это собрала река, может быть, на протяжении двух-трех сотен верст и теперь гоняла по замкнутому кругу причудливыми струями своего течения. Только сильный ветер мог разорвать этот круг и выплеснуть мусор на стрежь. Алешка прилежно следил за мусором, забыв на минуту о своей удочке. И опять что-то блестящее мелькнуло в этом крутящемся темном месиве.
– Тятя, там какая-то блестка! Второй раз видел, – сказал Алешка.
Бастрыков увлекся уже своим делом.
– Потише, сынок, окунь шум почует и уйдет. Хитрый, язва! – прошептал он.
Но Алешка был неумолим.
– Снова, тятя, блеснуло!
Бастрыков понял, что сын от него не отстанет, повернулся лицом к реке, уставился на воронку.
– Ну, что ты там увидел?
– Вон! Не то железка, не то стеклышко…
Бастрыков и сам уже заметил что-то блестящее, горевшее светлячком на воде, освещенной предзакатным солнцем.
– Сейчас, сынок, посмотрим. – Роман поднял свое удилище и, подобрав леску, концом начал разводить мусор. Блестка вспыхнула. Отец прижал ее слегка, осторожно повел на себя, перебирая руками по удилищу.
Когда блестка приблизилась к обласку, он нагнулся и взял ее, погружая руку чуть не по локоть в воду.
– Трубка! Смотри, сынок, трубка! – забыв о всякой осторожности, громко засмеялся Бастрыков. – И трубка-то хорошая, кто-нибудь из остяков потерял. Вот бедняга! И покурить теперь не из чего!
Бастрыков выбил из трубки воду, подал Алешке посмотреть.
– Тятя, ты знаешь, чья это трубка?! Ёська-остяк из нее курил. Вот посмотри, блестящее колечко. Точь-в-точь как у него.
Роман снова взял трубку, покрутил ее и так и этак.
– Походит! Помнится мне, у Ёськиной трубки вот такое же латунное колечко было…
– Уж это я точно, тятя, помню.
– Давай, сынок, мы ее высушим, а когда Ёська приедет, подарим ему трубку. Вот удивится! В Васюгане трубку нашли! Это все равно что отыскать иголку в стогу сена, – смеялся Бастрыков.
– Вот сюда, тятя, на дощечку ее положим. Она в момент высохнет!
Алешка не без торжественности уложил трубку на дощечку, которой он обычно прикрывал банку с червями, и поместил ее на среднем сиденье обласка.
– Ну, теперь, сынок, берись за работу. Окуни заждались нас, – насаживая червяка на крючок, усмехнулся Бастрыков, поглядывая на трубку и чувствуя какое-то смутное, неосознанное беспокойство.
Молча принялись удить. Но то ли потому, что они громко разговаривали и окуни действительно побоялись шума, а скорее потому, что кончилось время клева, рыбалка протекала вяло. Бастрыков вытащил пяток окуней, но это были мелкие окуни, величиной с ладонь. Три штуки таких же поймал Алешка. Крупные, увесистые окуни, ловля которых доставляет наслаждение и рождает в душе рыбака азарт, не брались за наживку. «Ах, черт их подери, что же они не хватаются?» – с неудовольствием думал Бастрыков, не привыкший терять время зря и намеревавшийся наловить окуней на уху для всей коммуны. Он то и дело посматривал на трубку и не понимал, что она-то и являлась причиной неудачной рыбалки. Секрет состоял в том, что ужение, как всякий промысел, требует сосредоточенности, не терпит посторонней мысли, а Бастрыков в этот вечер никак почему-то не мог отдать себя всего начатому занятию.
Когда стало смеркаться, Бастрыков поднял удилище, смотал леску.
– Поехали, сынок, ужинать. Давай поменяемся местами.
Отец встал, схватился за склонившиеся сучья черемухи и перешел из носовой части обласка в корму. Алешка ловко проскользнул на его место.
Плыли быстро. Роман греб, не щадя сил. Ему не хотелось опаздывать к ужину, а главное – надо было скорее увидеть Митяя.
Тот стоял на берегу и ждал его.
– Ну, как, Роман, добыча? – спросил он, уверенный, что Бастрыков, не привыкший тратить время зря, и в этот раз приехал с удачей.
– Трубку поймали.
– Какую трубку? – не понял Митяй.
– Алешка говорит, Ёськина трубка.
Митяй взял трубку, стараясь в сумраке рассмотреть ее, покрутил в пальцах, молча возвратил Алешке. Когда мальчишка убежал, Митька наклонился к Бастрыкову:
– Ты не думаешь, Роман…
– Думаю, Митяй, – прервал его Бастрыков. – Очень думаю и знаю, что остяк трубку не бросит и за всяк просто ее не потеряет. Для него трубка, ружье и обласок дороже всего на свете.
– Вот и меня сумленье берет…
– Утром поеду в Маргино, узнаю, дома ли старик. Иначе покоя не будет…
– Поезжай. Кого-нибудь с собой возьмешь?
– Никого. Алешку утром, Митяй, прихвати на постройку. Иначе увяжется со мной… И пока молчок о нашей тревоге.
– Лады.
Они направились к столам. Коммунары садились ужинать. Алешка показывал им трубку, ее передавали из рук в руки, шутили:
– А что, пусть Лукерья уху из нее сварит. Может, она слаще осетра окажется!
Когда трубку осмотрели все, Бастрыков подозвал Алешку.
– Дай ее мне, сынок, чтоб не потерялась. – Роман положил трубку в карман штанов.
Ночью Бастрыков встретился с Васюхой Стениным. У того были свои тревоги: запас муки с каждым днем сокращается. Через неделю надо плыть в Каргасок, а то и в Парабель, хлопотать насчет продовольствия. И только мукой не обойтись. Нужна еще соль. Ее особенно много пойдет, когда коммуна начнет лов рыбы на засол. А сахар? А чай? Без них тоже жизнь не в жизнь. Васюха понимал, что отрывать в такое время силы на поездку за продовольствием значило сильно затормозить постройку домов и корчевку леса под осенние посевы, но его долг – вовремя предупредить председателя коммуны.
Роман и сам знал, что впереди немалые трудности. На первых порах коммуну поддержали, но рассчитывать на то, что и дальше ее будут безвозмездно снабжать, не приходилось. У молодого Советского государства столько было нужд, что Бастрыкову от одной мысли об этом становилось страшно. «Ленин от нас, от коммун, ждет подмоги. Просить у государства – бесчестно. Соленой рыбы надо побольше подкопить и хоть этим отплатить государству», – думал Бастрыков.
– Ты знаешь, Вася, наши дела. Продержаться бы дней пятнадцать – двадцать, – сказал Роман.
Пояснять Васюхе, какой выигрыш коммуне могли принести двадцать дней, не требовалось. Он сам понимал, что за эти дни срубы домов будут выведены под крыши, а гарь раскорчевана до конца.
– Есть у меня десять мешков овсянки, – проговорил Васюха. – Можно их пустить в дело. Беда, Роман, в другом: приучили людей к хорошему хлебу, как бы роптать не начали.
– Этого не бойся. Люди поймут, что дома нужно подготовить к холодам. А потом попроси Лукерью что-нибудь почаще печь из овсянки…
– Пусть ее кобель бесхвостый просит. Не послушается она меня.
– Ну я сам поговорю с ней. Сходи к шалашу, разбуди ее, пусть придет.
Васюха ушел. Через несколько минут он вернулся с Лукерьей.
– Здравствуй, Роман Захарыч. Доброй ночи тебе! – громко сказала Лукерья.
– Присядь, Лукерья, на минутку да извини, что сон твой нарушил.
– А я и не спала еще. Думала.
– Просьба у меня к тебе, Лукерья, есть. Если можешь, выручай.
Бастрыков подробно рассказал о запасах муки и соли, о планах быстрее завершить постройку домов и раскорчевку, о намерениях побольше выловить рыбы для государства. Лукерья слушала, не проронив ни слова. Васюха ее молчание понимал по-своему. Недоверчивая улыбка скользила по его полному, круглому лицу, настолько сильно освещенному пламенем костра, что были видны даже мелкие морщинки под глазами. Ему все еще не верилось, что разговор принесет пользу. Васюха забыть не мог, как рьяно Лукерья протестовала против отъезда на Васюган.
– Смогу тебе помочь, Роман, – дослушав Бастрыкова, спокойно сказала Лукерья. – Пусть Васюха подвезет овсянку на кухню. Буду прибавлять ее в квашню. Три плицы пшеничной муки, одну овсяной, потом напеку овсяных коржиков, блинов… Так и протянем недельку-другую.
– Вот и хорошо, Лукерья, – не удержался Васюха, но женщина даже не взглянула на него.
– Приятного сна, Лукерья. Иди отдыхай, ночи уже много, а вставать тебе рано.
– Спокойной ночи, Роман! И себе то же посоветуй. – Лукерья задержала на Бастрыкове взгляд. Отблески костра метались в ее глазах то красными, то ярко-фиолетовыми искрами.
– Не посмела она с тобой, Роман, в суды-пересуды пускаться, – сказал Васюха, когда затихли шаги Лукерьи. – А мне ведь проходу не дает: «Куда вы людей привезли? Зачем? Что вам, ближе к городам и селам земли не было?»
Бастрыков склонил голову набок, смотрел в темноту, скрывшую Лукерью.
– Может быть, переболеет она недоверием к нам, Вася. А потом поймет, что ошибалась… Не одна она такая в коммуне.
– Может быть, – чуть слышно проронил Васюха, и Бастрыков понял, что тот не сильно-то верит его словам.
Васюха ушел. Бастрыков, оставшись один у костра, поставил локоть на колено, оперся на руку головой, задумался. Ему давно уже надо было отправить в губком партии донесение о положении дел в коммуне, но, занятый другой работой, он откладывал это со дня на день. «Вот съезжу в Маргино, узнаю, что с Ёськой, и тогда напишу обо всем. Подробно», – решил он.
Ночь уже была на второй половине, когда Бастрыков подошел к своему шалашу, откинув полог, пролез в него, нащупал Алешку, крепко прижал его к себе и, как-то сразу успокоенный, безмятежно уснул.
А на рассвете, когда коммуна еще не проснулась, Бастрыков двинулся в путь.
Чтобы попасть в Маргино, нужно было подняться немного по Васюгану, потом пересечь реку и дальше плыть протокой до самой деревни.
Маргино – это семь бревенчатых избушек, наполовину врытых в землю. Избушки смотрят на белый свет маленькими оконцами в два бревна. Они разбросаны по широкой поляне: одна возле самой реки, вторая стоит в «затылок» первой, а третья под кедрами за четверть версты от этих… Остальные четыре еще дальше друг от друга.
К избам подступает тайга – маргинский урман. Она начинается кедровником, потом кедровник отступает под натиском пихтача и ельника и растекается на многие версты, никем не считанные. Таежные озера и речки в маргинском урмане кишмя кишат рыбой. Однако не просто ее доставить по нетореным таежным тропам в деревню, но зато рыбу любит выдра, а выдра – дорогой зверь. Порфишка охотно дает порох и дробь, муку и водку, когда обещаешь добыть выдру.
Бастрыков плыл торопливо. Его обласок отличался ходкостью. Задранный кверху нос легко рассекал воду, а корма обласка, несколько раздавшаяся вширь, свободно скользила по упругой глади, почти не оставляя за собой волны.
Тихо и безлюдно было в деревне. Бастрыков смотрел на сырые, вдавленные в землю избушки, думал: «Беспросветно живут. Чуть окрепнет коммуна, возьмем их к себе. Если не поедут отсюда, построим им здесь новые дома, баню, дадим бесплатно ловушек и ружейных припасов. Пусть охотятся, а пушнину будем брать в коммуну, без всякого обмана, по государственной цене».
За все время, пока Бастрыков подплывал к Маргину, ни один человек не показался в деревне. «По-видимому, на промысле все. Может случиться, что из Ёськиных никого не застану», – подумал Бастрыков.
Но едва его обласок приткнулся к маргинскому берегу, из самой ближней избушки выбежали мужики, бабы, ребятишки. Их было человек двадцать, не меньше. С криком и плачем они кинулись к лесу, изредка оборачиваясь и размахивая руками. Возле избушки осталась только одна старая-престарая женщина. Она с полминуты стояла на месте, потом сделала несколько неуверенных шагов к реке и остановилась.
Бастрыков в молодости бывал на Васюгане, сопровождая баржу с товарами купца Гребенщикова. Еще тогда он узнал некоторые обычаи остяков. Когда они не хотели кого-нибудь принимать у себя, они все до единого покидали свои жилища и уходили в лес. Бастрыков не ждал такой встречи. Смущенный и озадаченный, он направился к старухе, которая мелкими шажками тоже приближалась к нему. На ней была разодранная и ветхая, сшитая из грубой холщовой мешковины юбка и грязная мужская рубаха с обрезанными рукавами. Клочья седых волос спускались на воспаленные, изъеденные трахомой и дымом глаза. Еще не дойдя до старухи шагов десять, Бастрыков почуял запах прогнившей рыбы и водочного перегара. И сейчас старуха была пьяной и с трудом держалась на ногах.
– Здравствуй, мать! – громко, опасаясь, что старуха глуховата, сказал Бастрыков.
– А ты кто будешь? – не ответив на приветствие Бастрыкова, с вызовом в голосе спросила старуха.
– Председатель коммуны Бастрыков.
– А я Фёнка, Ёськина баба.
– А где сам-то старик?
Фёнка замахала руками, остервенело взглянув на Бастрыкова из-под седых прядей, крикнула:
– Ты погубил Ёську! Ты бросил его на потеху лесному!
Старуха помолчала, выставив, как напоказ, длинные изгнившие зубы, и разразилась отборной мужской руганью. Бастрыков попытался остановить ее, но она и слушать его не хотела. Потрясая сжатыми кулаками, перемешивая русские слова с остяцкими, Фёнка проклинала и Бастрыкова и коммуну.
Бастрыкова так и подмывало прикрикнуть на старуху, но он сдерживал себя, зная, что ее гнев вот-вот иссякнет. И в самом деле, устав от своего исступленного крика, Фёнка смолкла даже раньше, чем ожидал Бастрыков.
– Давай, мать, присядем. Поговорить мне с тобой надо, – спокойным тоном сказал Бастрыков и сел на пенек.
Фёнка тоже села на пенек в пяти шагах от Бастрыкова.
– Скажи мне, куда девался старик? – спросил Бастрыков.
Старуха попыталась вскочить, но сил у нее на это уже не хватило, и она опять шлепнулась на пенек.
– Сам знаешь, губитель, – с ярой ненавистью прошептала Фёнка.
– Кто тебе сказал, мать, что я погубил старика? – спросил Бастрыков, заглядывая старухе в ее красные глаза.
– Шаман Иванка все знает, от него ничего не скроешь, – все тем же яростным шепотом сказала Фёнка и, помолчав, продолжала: – Шаман Иванка мох жег, в золу смотрел. Шаман Иванка с птицами разговаривал, с водой разговаривал, с лесом разговаривал. Он один их язык знает, на тебя они показывают.
– Давно ли исчез Ёська? – делая вид, что наговоры старухи совершенно не задевают его, спросил Бастрыков.
– Семь ден. На охоту он поехал, хотел вернуться через одну ночь. И сгинул.
– А утонуть старик не мог? Водки у него не было?
– Откуда у него водка? Разве ты давал ему водки?
– Я давал муку, порох, дробь…
– Утонуть можно в бурю – бури не было с весны.
– А где сейчас водку взяла? Порфишка дал, на помин Ёськиной души дал?
Старуха внимательно посмотрела на Бастрыкова, и воспаленные глаза ее выразили удивление.
– Откуда знаешь?
– Я тоже мох жег и в золу смотрел, – сказал Бастрыков. – И знаешь, мать, что я еще в золе увидел: шаману Иванке Порфишка велел на меня наговорить. И знаешь, почему? Ёську-то Порфишка загубил…
Фёнка торопливо вытащила из кармана своей одежды большую щепоть листового табака, положила его в рот и принялась с остервенением жевать.
– Ты колдун? – мелко-мелко крестясь, спросила Фёнка: видно, страх обуял ее.
– Я не колдун, мать, а правду знаю, – сказал Бастрыков и зашагал к реке.
Фёнка сидела на пеньке как пришибленная, провожая Бастрыкова испуганным взглядом.
Глава восьмая
В партийной ячейке коммуны состояло четыре члена партии: Бастрыков, Васюха и Митяй Степины, Тереха Черемисин. Самым старым партийцем по стажу был Роман Бастрыков. Он получил партбилет на фронте в ноябре тысяча девятьсот семнадцатого года. Остальные трое были приняты в партию в начале двадцатого года в партизанском отряде, которым командовал все тот же Роман Бастрыков. Все четверо, не исключая и самого молодого из них, Митяя Степина, были людьми много испытавшими, перенесшими на своих мужицких горбах короба горя и невзгод. Как и Бастрыков, братья Степины были вечными батраками. На фронте Васюха был ранен, захвачен в плен, после излечения жил у одного богатого юнкера в Восточной Пруссии, ломал на него хребтину. Пока Васюха мыкался по белому свету, на родине случилась беда: от скоротечной чахотки умерла его жена Поля, оставив на чужие руки дочку Мотю.
Митяй в эти годы сам был, как говорят, «аршин с шапкой», но безропотно принял на себя заботу о несмышленыше. В родной деревне Песочной жила-была в жуткой бедности одинокая старуха Пономариха. Митяй перевез ее в избу брата, препоручив догляд за сироткой. Теперь ему надо было кормить не только себя, но и племянницу со старухой. Парню исполнилось шестнадцать лет, и, хотя был он рослый и сильный, как взрослый мужик, хозяева при найме полного заработка из-за малолетства ему не давали. Но, как ни трудно было Митяю, прокормил он старуху с девочкой до возвращения брата.
Судьба Терехи Черемисина была чуть полегче. Он был единственным сыном у родителей. Жили Черемисины не богато, но и не бедно, лебеду не ели, по людям за куском хлеба не ходили, семян по весне у кулаков не выпрашивали. Вся крестьянская справа у Черемисиных была своя. Случалось, правда, что в разгар весновспашки прихватывали Черемисины у богатых мужиков на день, на два двухлемешный плуг, так как завести собственный было не просто. Но нужда все-таки крепко прижала Тереху на самой заре его молодых лет. В течение месяца умерли отец и мать Терехи. А вместе с их смертью задрожал и рухнул весь непрочный достаток черемисинского двора. Вначале охромел один конь, потом второй. Тереха бросился к одному коновалу, к другому, но то ли сап, то ли сибирская язва, то ли еще какой-то летучий мор свалили коней. Остался Тереха с одной коровой и телкой. В эти-то дни, мучительно стараясь спасти гибнущее хозяйство, Тереха привел в свою избу молодую жену, красавицу Лукерью. Любил ли он ее? Возможно. Но думать об этом ему было некогда. И у Лукерьи тоже не хватало времени на размышления о своих чувствах к Терехе. Жилось ей в эти дни еще горше, чем Терехе. Лукерья появилась в Песочной года три назад. Ее старшая сестра Наталья вышла замуж за мельника и торговца Луку Твердохлебова. Наталья принесла в дом хорошее приданое, доставшееся ей от умершей тетки, томской попадьи, и привела двух сестер – среднюю Аксинью и младшую Лукерью. Все три сестры походили друг на друга и внешне были так хороши, что глаз не оторвешь.
Лука прожил с Натальей меньше года. Был он жаден до жены и ненасытен, как бес. Лука часто отлучался по своим торговым делам то в Томск, то в соседние села. В это время ревность грызла его до исступления. Возвращался он ожесточенный, лютый и в припадке подозрения жестоко избивал жену. Наталья скончалась в муках от страшных кровотечений. Лука справил «сороков», погрустил еще месяц-другой и сосватал себе в жены Аксинью. Через полтора года супружеской жизни и Аксинья отправилась на тот свет по той же причине. Лукерья поняла: наступил ее черед. Лука еще ходил в трауре, но тяжелый бычий взгляд скользил по гибкой, точеной фигуре девушки. Вот тут-то и подвернулся Тереха. Лукерья спаслась от Луки бегством в Терехин дом. Правда, вскоре после этого партизаны сожгли дом Луки, а его самого расстреляли по приговору отрядного ревтрибунала за выдачу карателям жен партизан, в числе которых была и Любовь Тимофеевна Бастрыкова.
Жизненные невзгоды, совместная борьба в партизанском отряде свели мужиков воедино, а мечта о лучшей доле сплотила. Когда окончилась война, поманило их на вольные земли, где еще никто не сеял, не жал. Бастрыков предложил Васюган. В губисполкоме, в губкоме партии поддержали начинание крестьян деревни Песочной, выделили натуральную помощь из фонда конфискованного у богатеев имущества, высказали добрые советы и наказы.
Партийная ячейка в коммуне собиралась почти ежедневно. Это были необычные собрания. На них не избирали председателя и не писали протокола. Это были встречи партийцев для разговора по насущным вопросам жизни коммуны. Чаще всего встречи происходили после ужина, тут же, за столами, в присутствии большинства коммунаров. Но случалось и так: у партийцев возникала необходимость поговорить с глазу на глаз, и тогда встреча передвигалась на ночное время. Когда в шалашах все затихали, коммунисты собирались к костру, садились возле огня и разговаривали иногда почти до рассвета. Партийная ячейка была той незримой силой, которая направляла усилия людей, поддерживала в них приверженность к новой жизни и укрепляла веру в коллективный труд.
Гибель Ёськи оставалась для Бастрыкова во многом загадочной. Но чем больше он думал о посещении Маргина, о своем разговоре с Фёнкой, о трубке, пойманной в Васюгане, тем более росло в нем убеждение в причастности Порфирия Исаева к смерти остяка.
Ночью, как обычно, партийцы собрались у костра. Бастрыков сказал:
– Если Ёська погиб по злому умыслу Порфишки, – это значит, что Порфишка чувствует за собой силу и не оставит коммуну в покое.
Митяй перебил Бастрыкова:
– Винтовка – вот что наводит меня на сомнение. Если она у него была одна, – ладно, разговора нет, но не верю я в его подписку: «Нижеподписавшийся Исаев Порфирий Игнатьевич заявляет, что никакого недозволенного оружия больше не имеет». Оружие у него есть! Голову мне отрубите на пороге, если не так!
Васюха выразил свое мнение еще более кратко:
– Что же получается? На Белом яру – советская власть и коммуния, а рядом живут, как при царе Николашке. Исаев обирает остяков, держит их под постоянной угрозой. Терпеть нам такое немыслимо.
– Как, Вася, по-твоему, убрать его с нашего пути? – спросил Бастрыков.
Васюха не успел и рта раскрыть, как в горячей запальчивости ответил Митяй:
– Имущество конфисковать в пользу коммуны. Порфишку расстрелять как заклятого врага советской власти. Остяков сселить в одно место, в Маргино, чтоб были под боком у коммуны!
– А по чьему решению все это сделать, Митяй? Даже до губисполкома неделя пути. Да и вряд ли губисполком сам пойдет на такие меры. Будет испрашивать центр, – Бастрыков посмотрел на Митяя с укором, подумал: «Горяч ты, как огонь, дружище, а только пойми: огонь слепой, он сжигает и хлам, и доброе дерево».
– По чьему решению? – возвысил голос Митяй, поблескивая при свете костра возбужденными глазами. – По общественному приговору коммуны. Каждый подпишет! Советская власть – власть народа. И никто, ни один трудовой человек нас за это не осудит.
– Нет, братуха, это не власть, а произвол, – твердо сказал Бастрыков. – Во время войны мы расстреляли Луку Твердохлебова, мы отомстили ему по законам войны. А теперь войны нету… она отодвинулась на Дальний Восток. Кто же нас одобрит за такие дела?
– Остяки, Митяй, не захотят сселяться в Маргино. Чуть их тронь – разбегутся по тайге. Они волю любят! – вступил в разговор молчаливый Тереха.
– Никак нам нельзя послушаться тебя, Митяй, – снова заговорил Бастрыков. – Ленин без устали твердит: советская власть – власть с законом. Ничего не делайте без закона. Беззаконие погубит революцию. Ты подумай, Митяй, что будет, если в каждом селе, в каждом городе, в каждой коммуне начнут устанавливать свои законы? Будет беда, неразбериха, начнется потасовка…
– Враг не спрашивает, Роман, есть закон или нет, а лупит нас, когда ему выгодно. А мы что должны делать? Молчать? – не сдавался Митяй.
– Зачем молчать? Отвечать врагу по нашему закону. Пусть знает: советская власть ни на шаг не отступит от закона, а закон у нее как штык – в сторону не согнешь. – Бастрыков вытянул свой долгий указательный палец и строго покачал им, как бы изображая этим незыблемость и штыка и закона.
Всю ночь просидели партийцы у костра, спорили, слушали друг друга и снова спорили. Уже перед рассветом единодушно порешили на одном: отправить Тереху в Парабель в волостной комитет партии с письмом. Пусть волком, если его власти недостаточно, сам попросит разрешения у губернских властей на экспроприацию хозяйства Порфирия Исаева. А его самого давно пора отдать под суд. Долголетний эксплуататор населения и богатств Васюгана, ростовщик, злостный нарушитель советского закона, прячущий недозволенное оружие, Исаев заслуживает строгого наказания.
И Бастрыков, и Митяй, и Васюха понимали, что Тереха Черемисин для роли посыльного партячейки мало подходил. Ведь нужно было не просто передать письмо – при необходимости требовалось и словом защитить предложения партийной ячейки, добиться, чтобы волком дал им незамедлительный ход. Тереха был мужик молчаливый, замкнутый, застенчивый, косноязычный, да к тому же еще и неразвитый. Но никто другой из партийцев, кроме Терехи, отлучиться сейчас из коммуны не мог. Как бы ни складывалась судьба Исаева, какие бы решения ни были приняты в отношении его хозяйства, рассуждали Бастрыков, Митяй и Васюха, самое главное для коммуны – не упустить летнее время и закрепиться на Белом яру. Если будут построены дома, раскорчеван лес и засеяны озимые, заготовлены корма скоту, то, как бы Порфишка ни хитрил и ни подличал, он не осилит коммуны.
Прикорнув на часок в шалашах, партийцы поднялись вместе со всеми и, делая вид, будто проспали ночь напролет, отправились на работу. Остался у шалашей один Бастрыков. Отъезд Терехи был намечен на следующее утро. Бастрыков обязан был подготовить к этому времени протокол партийного собрания и письмо волостному комитету партии. Многое умел Бастрыков делать быстро и сноровисто, но перед чистым листом бумаги всегда терялся и мучился. В трехклассной церковноприходской школе, которую он когда-то кончил, писарей не готовили.
Тереха уехал на рассвете, когда все еще спали. Путь предстоял неблизкий – сутки по Васюгану, двое суток по Оби. Проводить его вышли Бастрыков и Лукерья. Бастрыков махнул на прощание рукой, вдогонку громко сказал:
– Ты там, Тереша, больше про нашу жизнь рассказывай. Пусть знают везде люди, как живем мы на свете.
Тереха повернул голову, молча улыбнулся в окладистую русую бородку. Лукерья засмеялась, но Тереха уже не слышал ее смешка.
– Нашел кому, Роман, такое дело поручить, – воскликнула Лукерья. – Да он мне не научился больше трех слов говорить, а ты: «Пусть знают люди…»
Бастрыков только вздохнул. «А все-таки стоило мне поехать самому. За восемь дней ничего бы тут без меня не случилось», – подумал он, но сразу же промелькнуло в голове: «Нет, покидать мне коммуну ни на один день нельзя. Да и неизвестно, на месте ли волком. Может быть, колесят товарищи из волкома по всей обширной округе. Пришлось бы ждать их неделю-другую».
Бастрыков и Лукерья дождались, когда обласок с Терехой скрылся за изгибом реки, и направились к шалашам.
– Досыпать пойдем, Лукерья, или как? – шутливо спросил Бастрыков.
– Мне пора к печке, Роман, а ты иди поспи. У тебя вон глаза ввалились. Доведешь себя с этой коммуной до чахотки. – Лукерья посмотрела на Бастрыкова дружелюбно и заботливо.
– Ну ничего, Луша, живы будем – не помрем, – усмехнулся Бастрыков.
Они не отошли от берега и двадцати шагов, как увидели, что навстречу им торопится Алешка.
– Ты что, сынок, так рано соскочил? – спросил Роман.
– Мамушку я во сне видел, тятя. – Заспанные глаза Алешки вспыхнули, на тонких красных губах задрожала улыбка умиления. – Будто сидим мы с тобой вот тут на берегу. Чиним обласок. Вдруг смотрим, а по этой тропке, с горы, идет наша мамушка Люба. Такая веселая-веселая. Подошла к нам, села вот тут на чурбачок, спрашивает меня: «Ну, как ты, сынка, доволен тятей? Ласковый он с тобой или нет?» Я говорю: «Мамушка! Я предоволен тятей. Мы с ним заодно и везде вместе». Потом вижу, она встала, положила одну руку тебе на голову, вторую мне и говорит: «Ну и живите дружно всегда-всегда. А меня теперь никогда уже больше не увидите». И тут, тятя, я проснулся. Хотел тебе сон этот рассказать, пощупал постель, она пустая, холодная… Вот я и побежал тебя искать.
Бастрыков почувствовал, как горло стиснула боль. Он прижал Алешку к себе, обхватил его худенькие плечи большими горячими ладонями, закрыл глаза и минуту стоял в каком-то оцепенении, забыв, кто он, где он и что происходит вокруг. Лукерья взглянула на Бастрыкова, всхлипнула, кинулась в сторону, в кустарник. Их скорбь была такой безутешной, что сердце Лукерьи не вынесло.
– Пойдем, сынок, в шалаш, полежим часик. В голове у меня как-то плохо. Шумит, – сказал Бастрыков, снимая руки с плеч сына.
Они залезли в шалаш, сплетенный из тальника, обнялись и затихли. Алешка лежал с открытыми глазами, вспоминал сон. Бастрыков поцеловал сына в голову и быстро уснул. Алешка лежал, боясь пошевельнуться, понимая, что отец устал и ему надо поспать. Мальчику уютно и тепло было в объятиях отца. Однако сон Романа был недолог. Послышались шаги, говор, и к шалашу подошли Васюха и Митяй Степины. Бастрыков встал, вылез из шалаша. Над Васюганом занимался солнечный тихий день. Река блестела, переливался серебром прибрежный песок, и зелень кустов была ослепительно яркой.
– Какой денек нам боженька, мужики, посылает! Можно подумать, что он тоже в коммуну решил записаться! – воскликнул Бастрыков и потянулся с аппетитом, так, что хрустнули кости. Поспал он едва ли больше часа, а сил прибыло на целый день.
– Тереха наш теперь уже далеконько, – вспомнил Митяй о посыльном партячейки.
– На рассвете мы его с Лукерьей проводили.
– А я слышал, как вы мимо шалашей ходили, разговаривали, но, холера ее возьми, спится под утро – прямо удержу нет. Так и не встал, как сурок какой-то, – упрекнул сам себя Митяй.
– А у меня всю-то ноченьку рука ныла. Забылся только под утро, – морщась, пожаловался Васюха и покосился на свою руку, висевшую плетью.
– Мужики, сегодня народ поведем на раскорчевку. Дело там затормозилось, двинем его общей силой, – сказал Бастрыков и, согнувшись, заглянул в шалаш. – Вставай, сынка, поднимайся, рабочий народ!
– Сейчас, тятя, я мигом. Пуговка от штанов оторвалась. Пришью – и готов воду тете Луше таскать! – отозвался из шалаша Алешка.
– Вот и хорошо, сынок! Вот и лады, – сказал Бастрыков и вместе с Митяем и Васюхой заторопился к столам, где уже собрались коммунары на завтрак.
Глава девятая
Сумерки настигли Тереху верстах в десяти от устья Васюгана. Река становилась все шире, берега ниже, свист ветра ожесточеннее, удар волны яростнее. К вечеру небо помрачнело, опустилось. Откуда-то из-за леса доносились отдаленные раскаты грома. Тереха чувствовал, что руки его уже сдают, в пояснице появилась ломота, но он плыл и плыл, намереваясь остановиться на ночевку где-нибудь на обском берегу.
Когда до Оби осталось не больше двух-трех верст, Тереха вдруг увидел в сгустившемся сумраке задрожавший огонек.
– Ого, пофартило мне! – радостно крикнул он и, позабыв об усталости, принялся грести сильнее, убеждаясь, что в его руках еще немалый запас силы и ловкости.
Чтобы лучше понять чувства Терехи, представьте на минуту себя на его месте. Вы плывете по таежной реке. Плывете почти вслепую, не зная ее берегов и плесов, догадываясь о пройденном расстоянии лишь по каким-то приметам, о которых вам не очень уверенно рассказали другие. Вы плывете в полном одиночестве, а вокруг притихшая бескрайняя тайга, необозримый разлив полноводной реки, плещущейся в темноте упругой и коварной волной. Вы понимаете свой долг, сознание ваше подготовлено к любым трудностям, вы все преодолеете – и одиночество и страх, который нагоняет заунывный свист ветра в темноте, и переборете сон, который трехпудовой гирей будет гнуть вас завтра, на восходе солнца, но вы человек, и вы с радостью уменьшите меру своего напряжения, если к этому представится хоть какая-нибудь возможность. Вы плывете в ночи и думаете о самом маленьком благе – более высоком береге для ночевки, и вдруг совсем недалеко, почти рядом, вспыхивает огонек. Это уж не маленькое благо – это то, что люди в тайге называют фартом. Вам повезло, пофартило, вы проведете ночь вместе с другим человеком. Вы будете рады ему, а он будет рад вам, хотя ни он, ни вы не скажете об этом ни слова. Да разве только словами говорят люди между собой? Есть еще у них язык чувств, выражающий мир незримый, неслышимый, но великий, бесконечный и необозримый, как сама жизнь…
Еще издали Тереха увидел, что у костра сидели двое. Он всматривался в силуэты людей, резко очерченных пламенем, думал: «Кто же это – остяки или русские?» Судя по тому, что на голове у мужчин были обыкновенные кепки, а не платки, какие в летнюю комариную пору носят все остяки независимо от пола и возраста, Тереха догадался, что это русские люди. Подплыв вплотную к костру, Тереха крикнул:
– Эй, земляки! На ночевку принимаете?!
Его возглас был неожиданным, и люди в первую минуту даже испугались. Они засуетились возле костра, потом один отозвался:
– Подворачивай!
Когда Тереха ткнулся в берег, застучал веслом, загремел котелком, тот же голос от костра спросил:
– Откуда и далеко ли плывешь, земляк?
– А вот сейчас расскажу, – уклонился от прямого ответа Тереха, сам еще не зная, как ему быть: не то говорить всю правду, не то придержать ее на всякий случай при себе.
Подходя к костру, Тереха осмотрел путников. Он был по сравнению с ними в выгодном положении: из темноты видел все. Они же, ослепленные пламенем, не видели ничего. Мужчины были одеты в добротные сапоги с длинными голенищами, в брюки галифе с кожаными леями, полувоенные куртки со стоячими воротниками, в кожаные кепки. Как показалось Терехе, оба были примерно одного возраста: пожалуй, от тридцати пяти до сорока. Они очень бы походили друг на друга, если бы один из них не носил очков в роговой оправе, что делало его при простоватом полном лице недоступно строгим. «Видать, какие-то начальники, недохватки в одежде-обутке не имеют», – подумал Тереха.
– Ну вот, теперь можно и поздоровкаться, – входя в круг, освещенный пламенем, сказал Тереха и от всей души пожал руку вначале незнакомцу в очках, так как, по его представлению, он был старшим по званию, по должности, потом тому, который был без очков.
– Откуда, земляк, плывешь? Как зовут? – спросил очкастый.
– С Белого яра плыву. Терентий я, Черемисин.
– С Белого яра? Это где же такой?
– Да есть тут на Васюгане неподалечку одно место с таким прозванием, – решил не спешить с откровенными ответами Тереха. – А вы кто такие будете?
– Я Касьянов, он Звонарев. Оба из Томска, из губпотребсоюза. Едем к вам на Васюган. Фактории будем открывать, сказать проще – магазины со всякой всячиной. Нам пушнину, рыбу, вам – что душа захочет.
– Вот оно какое дело! Белый яр не вздумайте обойти.
– А кто вы такие? И почему вас нельзя обойти? У вас что, пушнины видимо-невидимо?
– А вы что, не слышали, кто мы такие?! Коммунары мы! Коммуна «Дружба» на Белом яру поселилась.
Очкастый посмотрел на приятеля, после небольшой заминки с подчеркнутым оживлением сказал:
– Да ты что, Черемисин, умный или дурак? Кто же нам позволит обойти коммуну?! Уж где-где, а на Белом яру обязательно факторию откроем. Под крылом коммуны. А домишко под магазин найдется у вас?
– Для такого дела вмиг построим. Нас все-таки артель. По бревну каждый мужик прикатит из леса – вот тебе и дом.
Путники переглянулись и добродушно рассмеялись.
– Это верно, что одному мужику на год, то артели на один день, – рассудительно подтвердил очкастый и вдруг спросил: – А ты, Черемисин, партийный или только сочувствующий?
– Партийный. В двадцатом году в партизанском отряде в партию мы записались.
– Ну вот и мы со Звонаревым тоже с двадцатого года в партии, – сказал очкастый и, шуруя костер, добавил с усмешкой: – Так что мы с одного куста ягодки.
– Выходит, что с одного, – с большим облегчением сказал Тереха, подумав: «Люди хоть городские, а закваски нашей, партийной».
Тот, который был без очков, снял с костра вскипевший чайник и поставил его на землю возле разостланного плаща, на котором лежала уже приготовленная к ужину снедь.
– Давай, земляк, пододвигайся сюда ближе. Ужинать будем, – пригласил Тереху очкастый.
– Ужинать – не дрова рубить, – засмеялся Тереха и встал, чтобы сходить к обласку за своим припасом.
Очкастый понял его намерение, остановил:
– Куда ты, земляк? У нас тут еды на пятерых хватит.
– А у меня стерлядочка копченая имеется.
– Копченая стерлядочка – это неплохо! Очень даже неплохо! Может, Иван Денисыч, по такому случаю бутылочку выставишь? – ухмыльнулся очкастый, взглянув на своего приятеля.
– Так и быть! Берег на случай простуды, – сказал тот и, что-то бурча себе под нос, извлек из мешка бутылку водки.
Тереха сходил за своим припасом и, раскладывая копченую стерлядь, кивнул с улыбочкой на бутылку:
– Расстарались где-то товаришочки. По нонешним временам эту штуку днем с огнем не найдешь.
– Как-никак при торговом деле мы. А в дорогу без этого нельзя. Дождь ли промочит, усталость ли сморит, ветром ли прохватит – лучшее лекарство.
Очкастый ловким ударом ладони по дну бутылки вышиб пробку и щедро разлил всю водку до капельки по кружкам. По ухватке чувствовалось, что он был большой мастер выпивки и, по-видимому, не скупердяй. Тереха заметил, что в его кружку очкастый налил нисколько не меньше, чем в кружки приятеля и свою. Выпили, закусили. Тереха давненько уже не выпивал и сразу почувствовал, как по всему телу разлилось приятное, возбуждающее тепло. «Скажи ты на милость, как фартануло! Ночую не один, с людьми, да еще водочкой угостился… Вот вернусь в коммуну, будет что рассказать мужикам», – испытывая какую-то тихую радость и умиление, подумал Тереха.
– А вы, мужики, в Парабели сейчас были? – спросил Тереха, сокрушая своими крепкими зубами стерляжьи хрящи.
– А как же! Почти неделю прожили, – ответил очкастый.
– Волком партии там, на месте? Не разъехался никуда? – вспоминая опасения Бастрыкова, поинтересовался Тереха.
– А тебе зачем он, волком-то?
– С важным пакетом я от нашего председателя Бастрыкова еду, – сказал Тереха и как бы в доказательство своих слов погладил себя по груди, где у него во внутреннем кармане верхницы лежал конверт, адресованный в Парабельский волостной комитет партии.
– Волком на месте! На днях мы у них были, насчет открытия факторий разговоры вели, – сказал очкастый, аппетитно похрустывая хрящами Терехиной стерлядки.
– Это хорошо, значит, быстрее вернусь.
– А что у вас за пожар такой случился? Народ из коммуны разбегается? – с усмешкой спросил очкастый.
Его усмешка больно уколола Тереху, и он, с укором взглянув на очкастого, с гордостью в голосе сказал:
– Наш народ из коммуны никогда не разбежится. Не для этого собирались.
– Тогда зачем вам волком и губком? Что вы, сами безрукие? – с каким-то затаенным вызовом в голосе спросил очкастый.
– Не безрукие мы, а законы советской власти пуще глаза блюдем! – воскликнул Тереха и вкратце рассказал, что беспокоило партийную ячейку.
Очкастый и его приятель слушали Тереху, обжигаясь о горячие кружки, пили чай, изредка переглядывались. Когда Тереха кончил рассказывать, очкастый с сочувствием в голосе сказал:
– Вот теперь и нам понятно, земляк, зачем вам волком нужен. В добрый путь! Нашим факториям от этого Порфишки тоже, кроме мороки, ждать нечего.
Очкастый угостил папиросой Тереху и своего приятеля и, молча посмотрев на небо, предложил:
– Давайте укладываться на покой. До рассвета не так уж долго осталось.
– Давайте, – с готовностью согласился Тереха. Хмель все сильнее его захватывал. Отяжелели веки. Глаза то закрывались, то открывались. Клонило набок.
Приятель очкастого собрал свой припас, сложил в мешок. Тереха проделал то же самое. Потом очкастый подбросил в костер дров и лег на плащ. Тереха расстелил свой зипунишко с другой стороны костра и, ощупав, на месте ли пакет, тоже лег. Уснул он мгновенно и крепко, без всяких дурных предчувствий.
Наползли тучи, скрыли звезды, темь стала еще плотнее. Пригас и костер. Пламя уже не прыгало. Не рвались ввысь красные языки. От жарких углей растекалось тепло. Мужчина в очках поднялся, осторожно вытащил из кармана наган и, наставив его в Терехин висок, два раза выстрелил. Тереха дернулся всем телом раз-другой, захрипел, вскинул руки и замолк. Очкастый вытащил пакет из-под рубахи убитого, подошел к огню, разорвал конверт. Тот, который был без очков, бросился к реке, вытянул Терехин обласок на берег, разрубил его на части и сложил на костер. Снова запрыгало пламя, острые угольчатые концы его взлетели к макушкам деревьев, осветили берег.
Когда чуть рассвело, очкастый с приятелем потащили Терехино тяжелое тело в глубь леса. Там в окружении густого черемушника находился глубокий, но неподвижный, покрывшийся плесенью омут. Труп столкнули в воду, придавили его сырой, тяжелой корягой. Сюда же, в омут, бросили старый дробовик, выданный Терехе со склада коммуны.
– Какой случай, Иван Денисыч! Все планы Бастрыкова теперь у нас в руках. – Мужчина сдвинул очки на лоб, посмотрел на приятеля круглыми коршунячьими глазами.
Тот хмыкнул в ответ, сел на корточки, принялся мокрым песком оттирать с рук Терехину клейкую ярко-алую кровь.
Глава десятая
Не впервые отлучался из дому Тереха, но ни прежде, ни теперь Лукерья по нему не томилась, не переживала разлуку, как переживают ее обычно любящие жены.
Еще в самом начале их супружеской жизни Лукерья поняла, что она совершенно не любит мужа. Сама страдая от этого безразличия, она все-таки надеялась, что со временем родится чувство к нему. Но шли недели и месяцы, а перемен в ее душе не появлялось. Лукерья жила словно в панцире. Тереха не пробуждал желания к доверию и откровенности, поскольку сам он мало нуждался в этом. Зная, что жена его красива, что парни и мужики говорят о ней всегда восторженно и завидуют ему, он решил держать Лукерью в строгости. Надо не надо, он покрикивал на нее, не раз и не два бивал даже – правда, осторожно, так, чтобы при этом не пострадала ее красота, но чувствительно и не столько для тела, сколько для сердца, которое было у Лукерьи гордое и вольнолюбивое. Тереха по наивности думал, что его власть над женой становится крепче, но день ото дня он значил для Лукерьи все меньше и меньше. Все еще живя с ним, будучи женой его, она не испытывала ни духовно, ни телесно радости совместной жизни, без которой супружество – суровое наказание, каторга без цепей и оков.
В декабре тысяча девятьсот девятнадцатого года, когда партизаны вышли из тайги, Лукерья впервые увидела Романа Бастрыкова. Гибель Любаши, его жены, потрясла ее. Ей казалось, что такое горе, какое выпало на долю Бастрыкова, способно ожесточить его. Но душа этого человека оказалась загадкой для Лукерьи. Бастрыков ходил из двора во двор, ездил к мужикам на поля, пахал, косил, рубил новые избы, и все видели, что он не знает усталости. Он каждому хотел помочь, каждого хотел поддержать, каждому сделать добро. И никто не знал, что стоит ему остановиться, перестать чувствовать, что он нужен другим, и горе, как непосильный груз, согнет его.
Лукерья пристально следила за Бастрыковым. Он был старше ее на двенадцать лет, но думала она о нем, как о молодом, как о своем сверстнике. Все в нем казалось ей ладным, отменным. Боясь сознаться самой себе в своем чувстве к Бастрыкову, Лукерья зачастила в церковь и горячо молилась за него. Это приносило ей успокоение, возможно, потому, что она не имела среди людей никого, кто наподобие воображаемого бога мог бы с доверием выслушать ее.
Бастрыков жил себе на белом свете, не подозревая, что почти рядом с ним, всего лишь через три двора, живет женщина, для которой нет никого дороже его.
И вот однажды Лукерья встретилась с Бастрыковым в необычном месте – на кладбище. Произошло это неожиданно. Лукерья часто ходила к могилам сестер, замученных Лукой Твердохлебовым. Она по обыкновению вошла в оградку, которой были обнесены могилы, и села на скамейку. Кладбище размещалось на холме, заросшем высоким березником. Даже в самый жаркий день здесь стояли прохлада и свежесть. И тихо, очень тихо было на кладбище. Не многие приходили сюда в обычные, будничные дни. Лукерья задумалась. Разные мысли шли ей в голову. То она вспоминала сестер, совместную жизнь с ними у богатой тетки, то воображала, как бы могло сложиться все, если б сестры не умерли так рано. Посматривая на буйную траву, росшую между скамейкой и могилой средней сестры, Ксюши, Лукерья думала: «А это место для меня Лука оставил. Как раз еще на одну могилу. Теперь лежала бы я тут вместе с сестричками, и ничего бы на свете не надо мне было…»
Вдруг она услышала неподалеку от себя чьи-то шаги. Лукерья встала. Из глубины кладбищенского березника по тропинке, пролегавшей между могил, шел Бастрыков. Он шагал медленно, руки его были закинуты за спину, голова опущена. Лукерья догадалась, что Бастрыков ходил на могилу жены. Бабы болтали, будто бывал он на кладбище каждую неделю, да еще не раз.
Бастрыков увидел Лукерью, когда совсем уже подошел к оградке.
– Здравствуй, Черемисина, – сказал Бастрыков, посмотрев на Лукерью глазами, в которых теплилась какая-то другая мысль, далекая от той жизни, к какой возвращала его встреча с Лукерьей.
– Здравствуй, Роман Захарыч. Что, женушку ходил проведать?
Бастрыков хотел пройти мимо оградки, но вопрос Лукерьи остановил его.
– Случай сейчас произошел прелюбопытный, – сказал Бастрыков, опираясь на оградку. – Подошел я к могиле Любы, сел на скамеечку, сижу. Вдруг откуда-то с самых вершинок берез пташка опустилась над моей головой и давай трезвонить. Да так истово, будто что-то рассказывает. Я перешел в другое место – она за мной. Снова опустилась над головой и говорит, говорит без умолку. Будь я верующий, мог бы вообразить, что это Любина душа наказы мне какие-то передает…
– А может быть, Роман Захарыч, птичка-то в самом деле неспроста трезвонила, – сказала Лукерья, удивленная и откровенностью, и задушевным тоном Бастрыкова.
– А что же, может быть, – чуть усмехнулся он и, помолчав, продолжал: – И пташку ту я понял, Луша! Понял от ее первого слова до последнего, даром что птичьему языку не обучен…
– Как же ты так? – Лукерья посмотрела на Бастрыкова с живым любопытством, но и беспокойством: «Уж в своем ли разуме он?»
– А вот так. – Губы Бастрыкова дрожали в усмешке, но глаза были печальны и строги. – Первым делом передала мне птичка спасибо за то, что не выбросил ее сразу из своего сердца. Помню. Думаю о ней. А вторым делом отругала меня Люба… И как еще отругала… «Помнить, говорит, помни меня, а злой тоске-кручине душу свою не отдавай. Захватит она тебя в полон, скрутит по рукам, по ногам, куска хлеба на пропитание не заработаешь. Я бы, говорит, хотела, чтобы жил ты на белом свете, как живут все люди: работать пришла пора – работай, час веселья наступил – веселись. А задумал дело какое – не откладывай, берись за него смелее. И не страдай по мне зря. Живому до мертвого так далеко, как до дневной звездочки. Глазом не увидишь, рукой не достанешь. Смертный час твой ударит, тогда станем мы с тобой ровней…»
Бастрыков опустил взлохмаченную голову, помолчал, потом резко вскинул ее, взглянул на Лукерью.
– Вот что, соседка, птичка мне напела.
Лукерья поняла, что Бастрыков высказал свои затаенные раздумья, и так были дороги ей чистосердечные его признания, что она невольно подумала: «От Тереши такого не услышишь. Живет он не думая. Только и знает понукать меня».
Видя, что Лукерья стоит в какой-то растерянности, пораженная его рассказом, Бастрыков предложил:
– Пойдем, соседка, к домам, дело делать…
Лукерье очень хотелось пойти с Бастрыковым вместе, побыть возле него еще минутку-другую. Но она боялась суда людского, Терехиной взбалмошной ревности.
– Извиняй, Роман Захарыч. Посидеть я тут хочу. Спасибо тебе, что за человека меня посчитал… – Она вдруг заплакала тихими, но горькими-горькими слезами.
И то, что он не удивился ее слезам, не стал уговаривать, а лишь посмотрел на нее понимающим и добрым взглядом, еще больше расположило ее к нему.
– Ну, будь здорова, Луша, – сказал он и скрылся среди берез.
Она села опять на скамеечку и задумалась. Вспомнила каждое его слово. «Злой тоске-кручине душу свою не отдавай… чтобы жил ты на белом свете, как живут все люди: работать пришла пора – работай, час веселья наступил – веселись. А задумал дело какое – не откладывай, берись за него смелее», – звучал в ушах его голос. Лукерья сидела, сложив руки на груди, не зная, как и чем унять свое сердце.
«Ну зачем же, зачем она такая неладная, доля наша людская? – рассуждала сама с собой Лукерья. – Живешь в обнимку с несчастьем, мыкаешь горе, не знает твоя душа радости-просвета, а рядом ходит твое счастье, и подступа к нему тебе нет и нет…»
И хотя хорошо Лукерья запомнила слова Бастрыкова, не сразу она поняла весь их смысл. Только через неделю после встречи на кладбище стали ясны ей бастрыковские слова: «А задумал дело какое – не откладывай, берись за него смелее».
Однажды вечером Тереха вернулся домой необыкновенно взволнованный. Лукерья подоила корову, прибрала в избе, поужинала и, потосковав у раскрытого окна, легла на кровать. Когда пришел муж, она еще не спала. Он не полез к ней со своими глупыми попреками. Раз прошелся по избе, второй раз прошагал от окна до двери и обратно. Лукерья догадалась: Тереха необычен, произошло что-то особенное.
Она поднялась на локоть.
– Ты что, Тереша, не ложишься?
– У Бастрыкова был, Луша. Не я один. Еще мужики были.
– И что?
– А то, что пора начинать другую жизнь.
– Какую же?
– В коммуну Бастрыков зазывает. На вольные васюганские земли.
Лукерья вспомнила слова Романа о деле и смелости. Вот он какое дело-то задумал!
– И как же ты, Тереша?
– А что я, хуже других? Мужики согласились. Васюха Степин, Митяй, Иван Солдат…
Тереха кое-что недоговаривал. Мужики согласились идти в коммуну – это верно. Но у него был еще один повод, чтобы дать согласие Бастрыкову. Давно хотелось ему увезти Лукерью с чужих глаз подальше, чтоб не засматривались на нее парни да молодые мужики.
Лукерью бросило в жар. Она представила себе жизнь в коммуне. Все вместе. Все работают сообща. Все на виду друг у друга. И он, Бастрыков, тут же. Каждый день, каждый час перед ее глазами.
– Господи боже мой! И зачем ты послал мне муки мученические? – громко простонала Лукерья.
– Ты что, не хочешь в коммуну, Лукерья? – раздраженно спросил Тереха.
– Тяжко мне будет там, Тереша.
– Тяжко? Ты что же думаешь, я в партию записался так просто, только для счета? Я за советскую власть и коммунию рану принял.
Тереха начал кричать, ругаться. Лукерья долго лежала молча, наконец поднялась на кровати, упавшим голосом сказала:
– Делай как хочешь! Моего веку на земле – капелька.
Тереха закричал пуще прежнего:
– Ты меня не стращай! Будешь контру разводить, я живо на тебя управу найду! Не посмотрю, что ты мне жена. Да и жена ли? Скорее полюбовница. Сколько живу с тобой, а ты все пустоцвет. Затяжелеешь ты когда-нибудь или нет?
Лукерья уткнулась в подушку, лежала ни живая ни мертвая, зная, что Тереха в любой миг может наброситься на нее с кулаками.
И вот пролетели дни, недели, и коммуна двинулась в путь…
Все существо Лукерьи встало на дыбы против этой бастрыковской затеи. Ни умом, ни сердцем не могла она понять, зачем потребовалось Роману взваливать на свои плечи тяжелую, изнурительную заботу о целой ораве мужиков, баб и ребятишек. Пугала ее и чужедальная таежная сторона. А пуще всего пугала любовь к Бастрыкову – сильная и тревожная. Но ничего уже остановить было невозможно. Лукерья попыталась возбудить в себе ненависть к Бастрыкову за то, что он сделал. Но ненависть ее вспыхивала на короткие мгновения, а вот любовь горела негасимым огнем. Иногда этот огонь, как таежный костер под порывами ветра, начинал так разгораться, что Лукерья с ужасом видела: еще один порыв – и она сгорит вся дотла, Лукерья старалась в такие минуты не видеть Бастрыкова, убегала от него в лес.
Но дело оставалось делом. Роман звал ее к себе, расспрашивал, чем она будет кормить людей завтра, послезавтра, в конце недели. Понимал ли Бастрыков, что она его любит, Лукерья не знала, но временами он так участливо смотрел на нее, с такой теплотой в голосе говорил с ней, что ей казалось: все знает.
Однажды, когда Тереха уехал на дальнюю рыбалку, а в коммуну заявился Порфишкин красивый племянник, Лукерья не удержалась и сказала Бастрыкову всю правду о своей любви. Он выслушал ее и страшно рассердился. Она была в таком смятении, что не слышала его слов, только чувствовала, что он говорит что-то резкое, очень резкое, но совладать с собой уже не могла. Кинулась к нему, чтобы схватить его за руку и прижать ее к своей груди. Однако Роман предугадал это движение, оттолкнул ее и сердито зашагал к шалашам, чуть посеребренным холодным светом месяца.
Но дело оставалось делом. На другой день Бастрыков снова позвал ее к себе. Они сидели друг против друга за широким столом, и он ничем не напомнил ей о вчерашнем. И так было почти ежедневно. Он усаживал ее, спрашивал, советовал, порой о чем-нибудь просил и ни взглядом, ни словом не упрекнул ее. Казалось, все, что произошло в ту ночь, он считал принадлежащим ночной темноте, которая бесследно канула в вечность с наступлением рассвета.
Лукерья не знала, какие думы занимают его, есть ли среди этих дум одна маленькая думка о ней, но с каждым днем она все больше и больше понимала, что жить так дальше не может. Она должна еще раз сказать ему все-все. Пусть сердится, пусть отталкивает ее – он должен знать, как она его любит.
Когда Тереха по заданию партийной ячейки отправился в волостной комитет, Лукерья поняла, что вот за эти восемь или десять дней отсутствия мужа ее жизнь должна переломиться.
Бастрыков не удивился, когда Лукерья дня через три после отъезда Терехи сама подошла к нему.
– Хочешь, Роман, покарай меня, хочешь помилуй, а надо тебе сказать кое-что.
Бастрыков сидел на пеньке у своего шалаша с тетрадкой на коленях. Хотя хозяйство коммуны было еще немудрящее, но оно все-таки было хозяйством и жило, двигалось, каждодневно менялось. Бастрыков тщательно запоминал все, а потом заносил в тетрадку, не пропуская ни одного дня. В любой момент он мог сказать, сколько коммуной заготовлено бревен, сколько пудов поймано рыбы, сколько десятин раскорчевано.
Было раннее утро. Коммунары позавтракали и ушли на работу. Даже помощница Лукерьи по кухне, Мотька, и та убежала на раскорчевку. Лукерья знала, что другого часа, такого же удобного для разговора с Бастрыковым, долго не будет.
– Присесть, Роман, позволишь? – приглядываясь к Бастрыкову и стараясь уловить, как он настроен, спросила Лукерья.
– Садись, Луша, садись вон на чурбачок, – не отрываясь от тетрадки, кивнул Бастрыков на кедровый обрезок, поставленный на попа.
Лукерья чуть подобрала широкую сатиновую юбку, одернула белую кофточку, осторожно села.
Бастрыков захлопнул тетрадь, посмотрел на Лукерью. Смуглое лицо ее горело румянцем, глаза блестели, волнистые черные волосы, собранные в тугие косы, отливали синеватым глянцем. Она была взволнована, дышала с трудом, но сидела прямо, голову держала чуть вскинутой, и это придавало ей какую-то скрытую торжественность. Невольно Бастрыков залюбовался ею.
Долго молчали. Бастрыков ждал, когда заговорит она, а Лукерья, хотя все и обдумав, никак не могла преодолеть робость, вдруг с новой силой охватившую ее.
– Скажу тебе, Роман, все, как Господу Богу сказала бы, – наконец послышался ее голос.
– Я слушаю тебя, Луша. Говори, как можешь. Чего ж ты? Мы свои люди.
Ей послышалось в голосе Бастрыкова и тепло и сочувствие.
– Плохо мне, Роман Захарыч. Очень плохо.
Она посмотрела на Бастрыкова. В уголках ее глаз появились крупные слезы. Он решил, что она сейчас разрыдается и разговора не получится. Но Лукерья вскинула руки, хрустнула пальцами, и он понял, что она не позволит себе плакать.
– Чем же тебе плохо, Луша?
– А ты не знаешь? Ты хоть раз подумал обо мне?
– Думал, Луша, много раз думал.
– И?
– Скажи, что тебя мучает?
– Ты мучаешь.
– Ты еще не выбросила эту думку из головы?
– Не сердись, Роман. Будь человеком, пойми меня.
– Я не сержусь. Откуда ты взяла?
– Нету у меня сил перестать любить тебя.
– Ты же мужняя жена. Тебе не стыдно?
– Не стыди меня. Не поможет. Убей лучше, как собаку.
– Перестань такими словами бросаться!
– Ну, приласкай меня хоть один разочек, Роман, а потом кинь в омут.
– Я вот встану и уйду от тебя.
– А уйдешь, и я уйду. Навсегда. Кирпичи на веревке.
Роман взглянул ей в лицо. Она побледнела. Глаза были сухие и горячие, как угли. Она не шутила. И опять невольно, сквозь свою сдержанность Бастрыков подумал: «Пламенем пылает! Нелегко пройти мимо такой… И как только у Терехи рука на нее поднимается! Знать, душа мелковата».
– С тобой можно говорить, Луша, спокойно?
– Твоими разговорами и живу. В них одних вся отрада. От Терехи только ругань слышу.
– Ты его хоть чуть любишь?
– Одного тебя люблю.
– Опять она за свое!
– Пойми ты меня как умный, добрый человек. Не могу без тебя. Исказнил ты меня. Не сердце у меня внутри – решето, раны одни. Погибну я. И ты один на свете спаситель мой…
– А ты можешь понять меня? Или твоя боль заслонила тебе глаза?
– Роман, ты любишь меня?
– Не люблю, Луша. Чтобы полюбить тебя, надо иметь душу свободной. А я все еще Любу помню.
– А полюбил бы потом?
– Не знаю, Луша. Зачем говорить о том, чего нет?
– Полюбил бы! Я знаю. И какой бы я тебе подругой была, как бы хорошо нам было!
– Ты так говоришь, будто мы с тобой двое на этом берегу. А что бы люди сказали? Коммунары? Они сказали бы: председатель наш подлец, он обманул нас. Он разбил семью товарища. Ему нельзя верить: он предаст любого и в другом. Он хвастал, что отдаст жизнь людям. А что оказалось? Он устраивает поудобнее свою жизнь, еще никак не устроив ее для всех. Ты это понимаешь, Луша, или нет?
– Уйдем отсюда, Роман. В коммуне Васюха останется.
– Лучше застрели меня на этом месте.
– Выходит, нет у меня надежды.
– Нету, Луша.
– Ты жестокий, Роман. Камень.
– Ты жестче, Луша. Ты как река в половодье: заливает и берега и острова. И нет ей дела до того, что тут люди, избы…
– Ты можешь, Роман, одну мою просьбу исполнить?
– С охотой, Луша.
– Какая моя доля будет дальше – не знаю. Вижу только – жить так нельзя… Позволь мне проститься с тобой. Дай поцелую тебя.
Лукерья встала, бережно обняла Бастрыкова за голову и поцеловала его в лоб неловким, коротким поцелуем. Теперь встал и Роман.
– Дай мне, Луша, свою руку. Я хочу пожать тебе ее на счастье.
Он крепко сжал Лукерьину заветревшую руку.
– Погасло мое счастье, Роман.
– Загорится еще, Луша.
– Едва ли.
Она пошла прочь нетвердой походкой. Роман сел, развернул тетрадь, но тут же закрыл ее. Вдруг ему нестерпимо стало жаль Лукерью. «Ну зачем я так с ней говорил? Ведь любит же она меня, любит». Ему захотелось догнать Лукерью и сказать ей что-то доброе и сильное. «А что ты ей скажешь? – спросил он себя. – Единственно, что может обрадовать ее, – твои слова: «Луша, прости меня. Все, что я сказал тебе, – неправда. И я ведь люблю тебя».
Бастрыков постоял у шалаша минуту-другую в задумчивости и вдруг бросился по тропинке в гору, откуда доносился дробный стукоток разговорчивых топоров.
Глава одиннадцатая
Болезнь Ведерникова оказалась неопасной. Проспав крепким, беспробудным сном почти целые сутки, он встал в полном здравии. Правда, руки его были ни на что не годны. Он с трудом застегивал на себе пуговицы, с трудом держал ложку и хлеб. Ладони сплошь покрылись коростой.
Порфирий Игнатьевич и офицеры подкарауливали его пробуждение. Им не терпелось услышать обстоятельный рассказ о выполнении задания, о жизни коммуны. Едва Ведерников сел за еду, его окружили.
– А мы, Гриша, не на шутку перепугались. Решили, что ты заболел какой-то ужасной болезнью, – потирая голый череп, улыбаясь бесцветными глазами, проговорил Отс.
– Скажу по чести, я подумал, сыпняк! – мрачновато ухмыльнулся Кибальников.
– Ты ведь бредил, господин Ведерников, – вступил в беседу Порфирий Игнатьевич. – Кричал, что в кого-то влюбился. А потом во сне, когда я заглянул сюда в дом, ты называл даже имя. Луша! Я сразу понял, что наш господин Ведерников вспомнил какую-то петроградскую симпатию…
Щегольнув перед офицерами своей осведомленностью, Исаев засмеялся. Заулыбались и Отс и Кибальников. Только Ведерников оставался угрюмым.
– Нет, Порфирий Игнатьевич, я не бредил, – сказал он. – Я действительно влюбился. И очень серьезно. И ее действительно зовут Лушей. Вот так, господа.
– Фю-фю-фю, – многозначительно присвистнул Кибальников и долгим, обеспокоенным взглядом посмотрел на Отса.
Обескураженный Порфирий Игнатьевич беспомощно развел руками.
– Каждый из нас свободен в своих чувствах, Гриша, – прервал затянувшееся молчание Кибальников. – Но мы живем в особых условиях, и, право, нам сейчас, кажется, не до любви. Расскажи, пожалуйста, был ли в коммуне? Какова она?
Ведерников склонил голову, и на его щеках выступили желваки. Он упрямо молчал. Отс решил несколько поправить Кибальникова, заговорил мягким, отеческим тоном:
– Во всяком случае, мы, твои друзья, Гриша, должны знать все, буквально все. Не потому, что хотим влезать в твою душу, а хотя бы потому, что наши судьбы неразрывны, мы, грубо говоря, связаны одной веревочкой. – Отс посмотрел на Кибальникова, стараясь взглядом удержать того от новых резкостей. «Пойми ты его, Михаил Алексеич, сам молодым был. Наскучила парню тайга; он и задурил», – говорил взгляд Отса.
– Я готов, господа, по чувству офицерского братства рассказать вам все. – Ведерников отодвинул от себя тарелку с едой и смотрел только на Кибальникова и Отса. – Женщину зовут Лукерья. Она из коммуны. Жизнь там тяготит ее. Смею утверждать, такой красавицы вам встречать не доводилось. В самое ближайшее время я привезу ее сюда. У нас обо всем уже договорено, – приврал для большего веса Ведерников.
«Еще одна нахлебница! И всех поить-кормить чем-то надо», – подумал Порфирий Игнатьевич и так сокрушенно вздохнул, что все поняли, о чем он думает.
– Перестань, господин Исаев, жадничать! Ты свое получишь сполна. Золотом. – Ведерников бросил на Порфирия Игнатьевича суровый взгляд.
– Разве я жадничаю? Каждый хозяин обязан рассчитывать. Иначе он вылетит в трубу, – повеселел Исаев, услышав о золоте.
– А вред не нанесет твоя акция, Гриша, нашему общему предприятию? – переглядываясь с Отсом и уже более осторожным тоном, спросил Кибальников.
– Я считаю наоборот, – убежденно сказал Ведерников. – Бегство Лукерьи из коммуны не может не дать там трещины. Это заставит многих призадуматься.
– Ну а коммуна, какова она? – с прежним нетерпением спросил Кибальников. – Есть надежда, что она развалится?
– Я провел, господа, в коммуне вечер, ночь и утро и понял, что коммуна – это нечто более серьезное, чем мы думаем. Они живут дружно, у них господствует уверенность, что они хозяева земли. Так мне показалось. Их нужно расшатывать постепенно и осторожно…
– А они тем временем нас не сковырнут? Не лучше ли ударить по коммуне одним разом? – пристукнув кулаком о кулак, горячо сказал Порфирий Игнатьевич.
А где у тебя, господин Исаев, силы для такого удара? Я, к примеру, не знаю, как и каким оружием вооружены коммунары. Не думаю, чтоб у них была только одна винтовка, которую Бастрыков отобрал у тебя. Выяснить мне это не удалось.
Порфирий Игнатьевич недовольно крякнул. Он был сторонником крутых и самых крайних мер против коммуны. Но Кибальников и Отс согласились с Ведерниковым. Лезть на рожон, не зная, какими силами располагает противник, было бы безрассудно, да и охоты рисковать жизнью тут, в этой глухомани, у офицеров не было. Они все еще надеялись, что жизнь их вот-вот переменится.
Я не случайно, Гриша, обозвал тебя однажды мальчишкой, когда ты заявил, что коммуну надо уничтожить, – с раздумьем заговорил Кибальников. – В каждом деле нужно быть реалистом. Необдуманными, поспешными действиями можно лишь навредить. Я могу с уверенностью сказать, что в самое непродолжительное время мы получим из центра указания по всей стратегии и тактике нашей борьбы с советской властью. Не исключено, что нам преподнесут что-то совершенно новое и неожиданное. Не так ли, господа?
– Ты прав, Михаил Алексеич, – сказал Отс.
– В таком случае один вопрос, господа офицеры, – заговорил Порфирий Игнатьевич. – Привезет господин Ведерников свою… ненаглядную, нужно ли посвящать женщину в наши мужские дела? Я, например, даже Устиньюшку, хозяйку дома, и то стараюсь держать в неведении. Если что она и знает, то от собственных догадок.
– Я предлагаю поступить так, – опережая других, сказал Ведерников. – Пусть она о наших делах ничего не знает. Я остаюсь, как и было условлено, племянником Порфирия Игнатьича. Кристап Карлович – его управляющим или главным приказчиком. Ты, Михаил Алексеич, – двоюродным братом из Томска и моим дядей по матери.
Все согласились с Ведерниковым.
– Далее, господа, я хотел бы доложить, – снова заговорил Порфирий Игнатьевич, – что наше решение относительно остяка, донесшего на меня, приведено в исполнение. Все произошло довольно просто: я приехал к нему на стан, будто бы помириться. Старик крепко выпил. Затем мы выехали, каждый на своей лодке, смотреть его переметы, и он, знаете, перевернулся. Тело его и челн пущены по воле волн. Но маленькая речка, на которой все случилось, в корягах и перекатах – далеко не унесет, а найти немыслимо: забьет илом.
– Думаю, господин Исаев, что подробности для нас не обязательны, – поморщился Ведерников.
– Важно, чтоб не оказалось свидетелей вашей встречи, Порфирий Игнатьич, – сказал Кибальников, а про себя невольно подумал: «Немало он их тут за тридцать лет на тот свет отправил».
– Свидетель, господин Кибальников, был только один: Господь Бог. – Порфирий Игнатьевич судорожно дернул тупым подбородком, и трудно было понять, что скрывалось за этим: улыбка палача или его сочувствие своей жертве.
Когда офицеры встали, чтобы разойтись, Исаев движением руки остановил их.
– Еще один вопрос, господа: как вы разместитесь в доме? Ведь все-таки нельзя, чтобы господин Ведерников со своей… – замялся Исаев, – были у всех на виду. Не правда ли?
– Благодарю, Порфирий Игнатьич. Я оборудую жилье на вышке амбара, – сказал Ведерников. – Там будет хорошо. По крайней мере, до холодов.
Отс и Кибальников стали уговаривать Ведерникова занять дом и уступить вышку амбара им, но тот настоял на своем.
Оставшись один, Ведерников зашагал по комнате из угла в угол. «Не поторопился ли я? А вдруг она не согласится? А вдруг мои чувства переменятся?» – рассуждал он сам с собой. Но как он строго ни допрашивал себя, как ни настораживал свое сердце, он испытывал только одно желание – скорее сесть в обласок и плыть в коммуну, чтобы увидеть Лукерью, побыть с ней хоть час, хоть минуту. Если б не больные руки, он сделал бы это сейчас же, не откладывая ни на один день. Он вспомнил, что в доме Исаева в шкафу стояли аптечные склянки с лекарством. Ему не хотелось лишний раз быть просителем и унижаться перед хозяином заимки, но ради встречи с Лукерьей он готов был на все. Он выскочил из дому, догнал Исаева уже на тропе, остановил его:
– Прояви, Порфирий Игнатьич, великодушие… Видишь, какие руки.
Исаев посмотрел на его вздувшиеся ладони, удивленно покачал головой, почмокал толстыми, вялыми губами.
– Для жениха недопустимое дело. Даже невесту не приласкаешь…
Исаев засмеялся, но Ведерников сжал челюсти, покорно промолчал.
– Есть у меня заживляющий порошок. Через знакомого провизора в Томске достал. Пришлю. С Надюшкой пришлю.
– Душевно благодарю, Порфирий Игнатьич.
Но как ни действенно было лекарство, миновало много дней, пока руки Ведерникова зажили. Все это время он терзался и мучился. Порой ему казалось, что все потеряно. Лукерья забыла его, а главное, забыла свое смятение, свою мольбу: «Увез бы ты меня, парень, в Томск, пока я живая».
Отс и Кибальников по-прежнему не одобряли намерений Ведерникова, но отговорить его были не в их силах.
Да и нужно ли отговаривать? Когда-то они и сами немало чудили. Сколько раз самое обычное и пустое волокитство за хорошенькими женщинами приходилось выдавать за пылкую любовь! К тому же появление молодой, красивой женщины в стане при этой унылой, скучной жизни сулило все-таки какое-то разнообразие и могло внутренне подтянуть их, удержать от апатии, которая давила камнем. Пусть Ведерников через неделю-другую покинет свою красотку. Не первая она у него. Но все-таки перед их взором промелькнет новый человек, свежее лицо…
Как-то утром, во время завтрака, Ведерников не без торжественных ноток в голосе сказал:
– Итак, братья офицеры, я сейчас уезжаю. Вернусь либо счастливцем вместе с ней, либо презренным одиноким бродягой… бродягой на всю жизнь.
– Ну, дай тебе бог удачи, Гриша, – со вздохом напутствовал его Кибальников.
…И вот Ведерников приближался к коммуне. День стоял ласковый и яркий, шелковистый мягкий ветерок пробегал по листве прибрежных кустов, разбрасывал по глади реки продолговатые пятна ряби. Было то время, когда, по предположению Ведерникова, в лагере коммуны Лукерья оставалась одна или на худой конец с помощницей. Прижимаясь к берегу, хоронясь под кронами нависших над рекой берез и тополей, Ведерников не подплыл, а скорее подполз почти к самой кухне. Не только возле шалашей, но и по всему коммунарскому берегу было тихо и пусто. Ведерников встал в обласке, чтобы обозреть берег в глубину, и сейчас же увидел Лукерью. Она сидела возле печки-времянки на табуретке, вытянув руки. Лицо ее показалось ему бледным и осунувшимся. Но долго наблюдать за ней у него не хватило терпения.
– Луша!
– Ой, кто меня? – испуганно вскочила с табуретки Лукерья, не зная еще точно, откуда донесся до нее чужой голос.
– Луша, это я, Григорий. За тобой я приехал. – Ведерников выскочил на берег, и она сразу же увидела его.
Она кинулась к нему, схватила за руки. Он привлек ее к себе и поцеловал в губы.
– Погибла я, Григорий, – упавшим голосом сказала Лукерья.
Он понял, что она начнет сейчас некстати рассказывать ему о себе что-то длинное-длинное.
– Потом, Луша, – отмахнулся он. – Собирайся скорей. Я жду тебя в обласке. Скорее, пока здесь никого нет.
Только теперь она поняла, о чем идет речь. Она испытующе посмотрела на него, сдерживая дрожь в губах, спросила:
– Ты увезешь меня?
– Скорее, Луша! Я люблю тебя, Луша, люблю. Понимаешь?
– Ну и увези меня… в Томск, на люди, чтоб никто не знал, где я, чтоб затерялась я, как капля в реке.
На несколько секунд она оцепенела и вдруг кинулась опрометью к своему шалашу.
– Только бы никто не пришел! Скорее иди… скорее, – шептал Ведерников, и каждая минута казалась ему нескончаемой.
Наконец Лукерья выскочила из шалаша. В руках у нее был деревянный сундучок, крашенный охрой. Она направилась к обласку, но вдруг остановилась, постояла и побежала к столам. Печка скрыла ее от его глаз, и он не видел, что она делает. А Лукерья подняла уголек и принялась писать им на чистом, дожелта выскобленном столе:
«Не кляните меня, коммунары. Не от жизни вашей, от самой себя убегаю. Не ищите меня, непутевую, с одним человеком уплыла в Томск, а то и подале. Прости, Тереша, меня, беспутную. Опозорила тебя. А тебе, Роман Захарыч, дай бог жизни хорошей и беспечальной».
Когда Лукерья снова появилась на берегу, Ведерников почувствовал, что терпение его иссякло. Он бросился к ней навстречу, выхватил из ее рук сундучок и поставил его на середину обласка. Взяв весло, он сел на корму, готовый к жаркой работе. Едва Лукерья опустилась на скамеечку, он с силой оттолкнул обласок от песчаной косы. Теперь все зависело от его силы и ловкости. Он греб с такой яростью, что сгибалось весло. Обласок подпрыгивал, словно кто-то невидимый толкал его в корму. Ведерникову казалось, вот-вот оттуда, с коммунарского берега, закричат, засвистят, начнут палить из ружей и, хочешь не хочешь, придется повертывать обратно. Но никто, ни один человек не видел их. Коммуна работала в этот день на раскорчевке гари, отгороженной от реки плотной стеной непроглядного леса.Глава двенадцатая
По тропинке, пробитой ногами коммунаров, Бастрыков возвращался к шалашам. До обеда оставалось час-полтора. Люди сегодня работали горячо, с азартом, и Бастрыкову хотелось, чтоб с обедом у них не произошло никакой заминки. Он намеревался сам проверить, как обстоит дело на кухне, и, если это требуется, помочь Лукерье. Она очень беспокоила его за последние дни. Очень! После их разговора возле шалаша Лукерья стала неузнаваемой. Она ходила нахохлившись, опустив плечи, глаза ее ввалились и погасли. Свою работу она исполняла механически, ни с кем не разговаривала, на вопросы либо не отзывалась совсем, либо отвечала жестами, как немая. Вечерами, сразу после ужина, она укрывалась в своем шалаше и больше не появлялась до утра. Когда глаза Бастрыкова случайно встречались с ее глазами, она опускала голову и торопилась поскорее уйти.
Однажды он решил позвать ее, поговорить на обычную тему: чем кормить коммунаров, какие продукты пускать в дело. Но вместо нее прибежала Мотька.
– Дядя Роман, не может тетя Луша прийти. Голова у нее разболелась. Велела спросить вас: что на завтра готовить? Есть вяленое мясо, есть соленые язи.
Бастрыков понял уловку Лукерьи. «Что она, в самом деле, за мальчишку меня принимает? Любовь еще вздумала разводить тут!» – негодуя, про себя подумал он, но Мотьке виду не подал, что сердится.
– Передай, Мотя, пусть сама решает, чем народ кормить. На ней ответ, с нее и спрос.
Мотька убежала, а Бастрыков сел на свой любимый пенечек. Мысли его были о Лукерье. «Неужели не переборет она себя? Хоть бы скорее Тереха возвращался. А впрочем, не отрада он для нее. Что же делать? Как поступить? Может быть, признаться мне ей: так и так, мол, Лукерья, пришлась ты мне по сердцу, а только не могу я сейчас дать ему волю… Нет, негоже мне в потемки играть… к добру такое не приведет… Пусть лучше будет как есть. Пусть знает – полюбить ее никогда не смогу. Долг мой перед людьми превыше всего… Ну а она-то ведь тоже не пенек – человек. И не шутки она шутит, когда страдает так… А что, если на другое дело ее направить? Скоро придется отправлять две-три лодки в Каргасок за мукой. Пошлю и ее. Пусть поразвеется, поживет вдали от меня, посмотрит на все со стороны. И беседовать о нашей коммунарской жизни с ней чаще надо, доказывать спокойно, без злости и резких слов нашу правду, чтоб не думала она, что собрались тут бездушные, черствые люди».
Не было теперь такого утра, дня и вечера, чтобы Бастрыков не думал о Лукерье. Еще раза два он попытался вызвать ее на разговор, и снова она подсылала Мотьку.
Теперь, торопливо шагая по тропинке, Бастрыков думал: «Пока коммунары подойдут на обед, я успею о многом с ней переговорить». Бастрыков шел, насвистывая, потому что из головы не улетучился еще бодрый, веселый мотив песни, какую пели коммунары только что на привале.
Он спустился по земляным ступенькам с яра и огляделся. Ни здесь, ни на мостках, где обычно Лукерья полоскала белье, ни возле печки-времянки ее не было. «К себе пошла отдохнуть», – подумал он и направился через кустарник к шалашам.
– Луша! Лукерья! – останавливаясь возле ее шалаша, позвал он. Никто не откликнулся. Бастрыков нагнулся, отбросил полог и заглянул внутрь. Он увидел ужасный беспорядок. Постель была переворочена, подушки разбросаны по углам. На скомканном одеяле валялся прожженный фартук и старая, вся в жирных пятнах юбка.
«Ералаш какой-то! Не похоже это на нее, – с тревогой подумал Бастрыков. – Купаться небось убежала. На песок», – успокоил он себя и пошел назад. Подходя к столам, он еще издали увидел, что крайний стол испещрен крупными буквами. Бастрыков ускорил шаги, остановился. Лукерьины строки разбежались по широким плахам столешницы, буквы наскакивали одна на другую, Бастрыков не без труда разобрал все, что она написала. Он прочитал один раз про себя, потом прочитал снова и уже вслух. Роман допускал, что Лукерья способна на самые неожиданные поступки, но все только что происшедшее обрушилось стремительно, как ураган. «Виноват во всем я, только я, – с горечью думал Бастрыков. – Я слишком долго откладывал разговор с ней. Как же отнесется к этому коммуна? Что скажут люди?»
– Ах, Луша, Луша! И зачем ты так сделала? – с укором сказал он громко, будто Лукерья стояла перед ним.
Бастрыков кинулся в гору. Раз случилось такое, он не мог держать коммуну в неведении. Пусть люди скажут свое мнение о происшедшим. Если он достоин того, он без спору примет упрек от них. Он, в первую очередь он отвечает за побег Лукерьи. «С кем она убежала? Кто-то проплывал мимо Белого яра и захватил ее с собой. Неужели этот шалопай, Порфишкин племянник?.. Вот тебе и шалопай! Зря я тогда оставил его без присмотра. Всю ночь и утро он проторчал в коммуне».
Раздумывая и рассуждая сам с собой, Бастрыков вышел на поляну, где работали коммунары. И хотя он был сильно расстроен побегом Лукерьи, то, что он увидел, привело его в состояние радостного возбуждения. Под натиском людей все дальше и дальше отодвигалась старая гарь с невообразимыми завалами полусгнившего леса, зарослями чертополоха, с дыбящимися пеньками. Перед Бастрыковым уже простиралась ровная, черневшая сочной взрытой землей чистина на пятнадцать – двадцать десятин. Тут смело можно было запускать плуг! Но люди шли вперед и вперед. Там, где старый исковерканный лес все еще щетинился обломками стволов, звенели пилы и стучали топоры. А чуть поближе коммунары, вооруженные ломами, кайлами, лопатами, стягами, веревками, выдирали из земли крепкие, как сталь, корневища, похожие то на бивни мамонта, то на рога сохатого. Помощником человека в этой тяжелой работе был огонь. По обочинам чистины пылали ненасытные костры, пожиравшие все, что люди бросали в них. Пахотная земля! Нелегким трудом коммуна добывала ее, но Бастрыков знал, что эта земля принесет благодатные плоды. Коммуна не только будет сыта сама, она вдоволь накормит хлебом остяков всего Васюгана. Отпадет необходимость завозить сюда хлеб за многие сотни изнурительных верст. К богатствам края коммуна прибавит еще одно – хлеб, самое главное, самое бесценное сокровище человека.
«Ах, как работают! Как работают!» – отвлекаясь на минуту от дум о Лукерье, мысленно воскликнул Бастрыков, видя, с каким прилежанием заняты своим делом коммунары. Он любил общий труд, пламенно верил в идею коллективной жизни и сейчас, сам того не замечая, заговорил вслух, будто с ним рядом шел кто-то другой.
– Вот попробуй подыми эту землю в одиночку! На первой же десятине живот надорвешь, за десять лет столько не сделаешь, сколько мы за месяц своротили!
Бастрыков подошел вплотную к коммунарам. Никто не удивился его возвращению, не прервал работы. Тогда он поднял руку, громко сказал:
– Соберитесь-ка, братаны, ко мне!
Его услышали не все, но те, которые услышали, передали из уст в уста дальше, и по всей поляне прокатилось:
– Кончай! Председатель к себе зовет.
Смолкли топоры, пилы, люди бросили наземь инструмент, скинули с плеч рогули и сушины, не донеся до костров. Бастрыкова окружили, недоумевая, смотрели на него и настороженно и вопросительно. Вид председателя не обещал ничего доброго: голова взлохмачена, бородка торчит клиньями, в руках – беспокойство: то лягут на грудь, то вскинутся, как крылья птицы при взмахе.
– Не все швы, братаны, прочно сшиты на нашей коммунарской рубахе, – заговорил Бастрыков. – Лопнуло в одном месте. Скажу вам – удивитесь, не поверите… Лукерья-то… Вот так устроила! Мужа не дождалась, ни мне, ни кому другому не сказалась, уплыла неведомо с кем и неведомо куда. Прихожу на кухню – ее нет, я к шалашу – и там нет. Смотрю, весь стол углем исписан. – Бастрыков на память, но не пропуская ни одного слова, передал прощальное «послание» Лукерьи. – Как прочитал я, заспешил к вам…
Бастрыков обвел взглядом собравшихся, всмотрелся в чумазые от дыма, от земли, от золы, от смолы, вспотевшие лица, в настороженные, застланные потом и усталостью глаза.
– Пожалкуем, братаны! Отменная стряпуха была!
– Ей наша коммуна что хомут с гвоздями! Грудь колет!
– Умаялась бедняга! Таку ораву попробуй накорми!
– Работы много навалил, Роман! Сам себе спуску не даешь, ну и других к земле гнешь! Поослабь вожжу!
– Что вы заныли о ней? Не от работы она! Тереха ей поперек горла пришелся… лупил ее!
– По тебе, Бастрыков, она сохла – давно заприметили! Другой бы приласкал. А ты кремень!
– Тетка у нее попадья была! В ней та же гнила закваска.
– Не бреши, Митяй! Житуха ее – нужда и слезы, слезы и нужда.
– Когда в шеренге боец падает, остальные солдаты ближе друг к дружке встают.
– Да ты что, на войне, дядя Иван?! Окстись!
– Тереха приедет, а его бабы след простыл.
Бастрыков прислушивался к говору, стараясь понять, глубока ли рана, нанесенная коммуне. Когда все выговорились и шум стал стихать, Бастрыков снова поднял руку.
– Вот что, товарищи и братаны, хочу сказать; хулить Лукерью вдогонку не стану. Старалась она. А одного старания мало. Понятие должно быть, ради чего стараешься. Тогда сколько работы ни наваливай, все ее будет мало. Призываю к понятию всех. В коммуне каждый живет ради других, а другие живут ради него. В том наша сила.
Он помолчал, взглянув в сторону женщин, сбившихся в одном месте, продолжал:
– Кто теперь на кухне встанет, ума не приложу. Может быть, ты, тетка Арина? – кивнул он на жену Ивана Солдата.
– А почему нет? Могу, Роман Захарыч! – с готовностью отозвалась женщина.
– Вот это по-нашему, по-коммунарски! – одобрил Бастрыков.
Коммунары дружной гурьбой с говором направились к тропе, продолжая обсуждать поступок Лукерьи.
Бастрыков задержался, осматривая чистину, отстал, шел сзади всех. Алешка убежал с собаками вперед, покрутился где-то на берегу, заскучав по отцу, вернулся, встретил его на тропе. Отец шел тихо-тихо, как слепой, прищуренные глаза его были устремлены куда-то вдаль, а губы чуть-чуть шевелились. Он думал о Лукерье, мысленно желая ей и счастья и успеха. Втайне он сердился на нее за то, что она унизила коммуну, но сердился без злобы, понимая, что жить и дальше по-прежнему было бы ей лихо. Грусть о Лукерье, а может быть, просто раздумье о том, какими трудными и путаными тропами ведет жизнь иного человека по земле, легла мрачной тенью на лицо Бастрыкова.
Алешка хотел спрятаться в кустах и, внезапно выпрыгнув из-за них, напугать отца. Но у Романа такой был вид, что проказничать мальчишке не захотелось. Он дождался отца на тропе, взял его за руку, пошел рядом – шаг в шаг. Алешка понимал, что отец занят какими-то своими думами, и шел молча.
– Вот, сынок, как построим дома, вспашем землю, уберем с нашего пути Порфишку, так и поедем с тобой в Томск, – после длительного молчания сказал отец.
– А зачем, тятя?
– Школу нам в коммуне открывать надо. Соберем в нее всех остяцких ребятишек. Учителя привезем.
– А жить они у нас будут?
– Дом построим. Светлый. С большими окнами.
– Вот это здорово, тятя! На рыбалку с ребятами ходить буду!
Они подошли к спуску с яра. Взглянув на столы, на дымившуюся печку-времянку, Бастрыков с затаенной надеждой подумал: «А вдруг Лукерья вернулась?» Он шел по ступенькам, вглядываясь в суетившихся людей, но нет, ее не было, лишь в памяти его горели Лукерьины золотисто-черные глаза.
Глава тринадцатая
Три дня Лукерья просидела на вышке амбара, никому не показываясь. Здесь, под крышей из еловой дранки, было уныло и сумрачно. Попискивали в щелях летучие мыши, забившиеся от дневного света. По углам валялась разная рухлядь: разбитая прялка, измятые жестяные банки из-под пороха, разорванные патронташи, погнутые шомпола.
Посреди вышки, на толстых свежих досках, пахнувших смолой, – перина, подушки, розовое пикейное покрывало, принесенное из дома Порфирия Игнатьевича.
Ведерников много раз принимался упрашивать Лукерью познакомиться с дядей Порфирием, дядей Михаилом, с тетушкой Устиньей, со всеми другими домочадцами. Но она была непреклонна и твердила только одно:
– Уедем скорее в Томск. Погибну я тут, погибну.
– Конечно, уедем, Луша. Вот погостим чуток тут, у дяди, и уедем, – отговаривался Ведерников.
На четвертый день своей новой жизни Лукерья впервые вошла в дом, где жили Кибальников и Отс. Тут же оказался и Порфирий Игнатьевич.
Ведерников привез Лукерью глубокой ночью, и никто из них ее не видел. Офицеры сидели вместе с хозяином за столом и играли в карты. Заметив в окно Ведерникова и Лукерью, Кибальников поспешно сгреб карты, сунул их в карман.
– Ведет наконец Гришка свою дикарку! Ну-ну, посмотрим, – сказал он, и все уставились в окно.
Ведерников широко раскрыл дверь. Учтиво пропустил вперед Лукерью. Она вошла строгая, бледная, неуверенной, крадущейся походкой. Сделав от порога три шага, остановилась, посмотрела на мужчин и слегка поклонилась им. На Лукерье все было сестринское, доставшееся ей от Аксиньи, заведенное Лукой Твердохлебовым. Желтые ботинки на высоком каблуке, шумящая из китайской тафты черная юбка, розовая кофточка из расписного шелка будто на нее были сшиты, хорошо облегали крепкое тело. С плеч Лукерьи спускался кашемировый с махровой каймой платок.
Красота, которой природа наделила Лукерью, была на редкость щедрой. В отличие от людей, которым красота сопутствует лишь в радости и довольстве, Лукерья была красива всегда. И теперь страдание и отчаяние придавали ее внешности особенные, неповторимые черты. След бессонных ночей, горьких раздумий до удивления тонко сочетался с нежностью, бесконечной женственностью облика, а кротость бледного лица – с буйством взгляда ее золотисто-черных глаз. Застенчивость и смущение словно сковали Лукерью. Но эта-то застенчивость и сдержанность и произвела впечатление. Мужчинам показалось, что она почтительна, но в то же время горда и серьезна.
Отс и Кибальников встали перед незнакомой женщиной, бесцеремонно рассматривали ее. Порфирий Игнатьевич, сидевший с вытянутыми ногами, решил не отставать от офицеров, тоже поднялся, хотя такая учтивость смешила его. «Побалуется он с тобой, голубка, да и вытурит на все четыре стороны. Побывало у него таких красоток немало», – сдерживая усмешку, думал Исаев.
Ведерников заметил, что Лукерья очень понравилась всем обитателям заимки, и, сияя довольной улыбкой, сказал:
– Вот, Луша, мой дядюшка, Порфирий Игнатьич, любезным гостеприимством которого мы пользуемся. Это мой второй дядюшка из Томска – Михаил Алексеич. А это дядин помощник Кристап Карлович. Прошу тебя уважать и любить моих родичей и друзей, как уважаю и люблю их я сам.
Чувствуя на себе внимательные, изучающие взгляды, Лукерья молча подала руку сперва Порфирию Игнатьевичу, потом Кибальникову и, наконец, Отсу. Исаев задержал Лукерьину руку в своей, не сдержав больше усмешки, заглянул ей в глаза, весело сказал:
– И тебя просим, Луша, любить нашего Гришу.
Лукерья еще ниже опустила голову. Она знала, что ей нужно что-то сказать, но язык будто отнялся. Так она и вышла из дому, не проронив ни единого слова. «Любить нашего Гришу», – каким-то далеким отзвуком проносились в ее памяти слова хозяина. Да разве могла она кого-нибудь любить, кроме Бастрыкова! Она посмотрела на Ведерникова, и ей захотелось оттолкнуть его прочь, чтоб не слышать больше этих красивых и пустых слов, которые он шептал в ухо. Ведерников помог ей влезть по лесенке на вышку амбара, а сам вернулся в дом.
Кибальников, Отс и Порфирий Игнатьевич все еще были под впечатлением, которое произвела на них Лукерья.
– Ты что-то, Гриша, скрываешь от нас, – заговорил Отс, едва Ведерников перешагнул порог. – Я ни за что не поверю, чтобы эта женщина была из простолюдинок. Она ведет себя с достоинством, как воспитанница Смольного института. Какая величавая сдержанность, какая выразительность каждого жеста и взгляда! Ни одного слова, и вместе с тем все предельно ясно…
– Да, Гриша, вот она какая хитрая штука, жизнь. Не окажись ты в этой дыре, под кровлей нашего князя, не знал бы ты, что на свете есть такая красавица, – сказал Кибальников.
– Представляю, как грызет сейчас себе локти комиссар Бастрыков. Уж наверняка эта красотка предназначалась для его постели, – отозвался и Порфирий Игнатьевич.
– И неужели, князь, ты не отметишь такое событие какой-нибудь дружеской пирушкой? – обратился Отс к Исаеву. – У Гриши будут все основания презирать нас как самых последних эгоистов! Ведь надо понять его радость! И разделить ее!
Порфирий Игнатьевич поморщился, пожевал дряблыми, вялыми губами, но офицеры смотрели на него с откровенным презрением.
– Ладно! Прошу вас с наступлением сумерек пожаловать в мой дом, – сказал он и поднялся. – Пойду. По такому случаю баранчика надо прирезать.
Отс шутливо перекрестил его вслед.
– Дай бог тебе удачи!
– А может быть, Порфирий Игнатьич, собраться здесь, в этом доме? Безопаснее, – кинул вдогонку хозяину Кибальников.
Порфирий Игнатьевич оглянулся.
– Не печалься, господин Кибальников. На ночь глядя едва ли кто к нам пожалует. Ну а потом кобелей со двора выпущу. На худой конец у меня из дома потайной ход есть… Оно конечно, можно бы и здесь, на заимке, но ведь хочется ради такого случая сделать все получше… Там, в доме, и мебель, и посуда, и скатерти…
Порфирий Игнатьевич многозначительно посмотрел на Ведерникова, и тот понял его так: «Ничего не жалею для тебя. Учти это, господин хороший, когда наступит час расплаты за все мои благодеяния».
– Благодарю, господин Исаев. Полностью отнесешь сегодняшние расходы на мой счет, – тихо сказал Ведерников.
Порфирий Игнатьевич небрежно махнул рукой, по-простецки бросил на ходу:
– А! Сочтемся, господин Ведерников. Не чужие мы теперь…
В сумерки офицеры направились в большой дом хозяина. Ведерников вел Лукерью под руку, заглядывая ей в лицо, оживленно говорил:
– После коммунарского шалаша, Лушенька, дядин дом на берегу покажется тебе дворцом.
Но тут же Ведерников спохватился. Лукерья вполне резонно могла спросить: «Почему же тогда дядюшка запрятал тебя вместе со мной на вышку амбара?»
– Дядя зазывал меня, Лушенька, жить в этом доме, а я отказался, – продолжал Ведерников. – То ли дело на вышке. Тебе никто не мешает, и ты никому не мешаешь. Правда ведь, Лушенька?
– Все равно мне, Григорий, – равнодушно сказала Лукерья.
– А что же, Луша, все коммунары в шалашах живут? – вступил в разговор Кибальников.
– Все. А куда же деваться? Дома-то еще не построены.
– И главный комиссар коммуны тоже вместе со всеми?
– Бастрыков-то? Как все, так и он.
– Сколько же у него жен?
– Ни одной. Жену у него белые каратели сожгли.
– Ну любовниц-то небось имеет?
– Да что вы, господь с вами! Любовниц? Это святой человек! – В голосе Лукерьи прозвучали и обида за Бастрыкова, и преклонение перед ним.
Ведерников переглянулся с Кибальниковым, а тот дернул за рукав Отса.
– Что же, все коммунары живут, как солдаты – в обнимку с ружьями? – не желая терять нить разговора, спросил Кибальников.
Лукерья засмеялась впервые за все эти дни, и смех ее был звонким и веселым.
– Зачем же им ружья? Они по доброй воле все собрались и угнетать никого не собираются. Война им и без того осточертела. У них забота сейчас одна: чтоб жилось людям полегче.
– А добро-то все-таки охраняют или нет? Иначе все порастащат и следов не найдешь.
В словах Кибальникова Лукерья почувствовала что-то недоброе по отношению и к себе и оскорбительное для коммуны.
– Чего не знаю, того не знаю, – опустила голову Лукерья, давая понять, что она не желает в таком тоне разговаривать о коммунарах.
– Ну а как же они, все делят поровну или кто сколько захватит? – не улавливая настроения Лукерьи, продолжал расспрашивать Кибальников.
– Не знаю.
– А кормятся из одного котла или каждый сам себе варит?
– Поезжай посмотри.
Кибальников через плечо взглянул на Отса, подмигнул одним глазом и замолчал. Возле крыльца они задержались, и Кибальников склонился к уху Отса.
– А барышня-то, Кристап Карлович, с норовом. Как бы она нашего Гришу в свою веру не обратила.
– Я все понял, Михаил Алексеич. Говорит: «Не знаю», а слышится: «Валитесь от меня к чертовой матери».
Порфирий Игнатьевич встретил офицеров и Лукерью в прихожей. Он был тщательно причесан, одет в суконный праздничный костюм с плисовой поддевкой, в белую чесучовую рубаху, в лакированные сапоги с бизоновыми голенищами. В доме пахло жареным мясом, сдобным тестом, ароматными настойками.
– Устиньюшка, выйди, голубь, познакомься! – почти пропел Порфирий Игнатьевич, поглядывая на дверь.
Устиньюшка не вышла, а скорее выплыла, как пава. На ней была широкая, со сборками, шелковая юбка и шелковая кофта с буфами на плечах. Одежда делала Устиньюшку еще более пышной и чуть скрадывала ее высокий рост. С приветливой улыбкой Устиньюшка подошла к офицерам. Кибальников и Отс припали к ее ручке, а Ведерников взял под локоть и подвел к Лукерье. Улыбку с лица Устиньюшки будто ветром сдуло. Глаза словно остекленели, губы стали тонкими и злыми. Она бросила на Лукерью такой ненавидящий взгляд, что та отшатнулась.
– Проходи, Лукерьюшка, проходи, – деланным сладко-приторным голоском сказала Устиньюшка, а глаза ее говорили: «Я ненавижу тебя, и скорее, как можно скорее убирайся прочь! Я была тут одна среди них. И я не потерплю тебя».
Все, все: и эта прихожая с круглой вешалкой, и эти сытные запахи, и эти бизоновые сапоги Порфирия Игнатьевича – напомнило Лукерье дом Луки Твердохлебова, дом, в котором одна за другой погибли ее сестры и сама она приближалась к тому же. Лукерье стало нестерпимо тошно. Ей захотелось повернуться и убежать из этого дома, чтобы никогда больше в него не заходить. Но Ведерников, заметив, что она медленно пятится к двери, схватил ее за руку и повел за собой.
Порфирий Игнатьевич оказался хозяином слова. На столе, застланном розовой скатертью, были горы всякой еды. И на выпивку Исаев тоже не поскупился. Кроме графинов с наливками, настоянными на черной смородине и жимолости, поблескивала боками четверть настоящей хлебной, царского времени, водки!
Ведерникова и Лукерью посадили в центре застолья, как виновников торжества. Лукерья оцепенела, будто скованная обручем, рыдания теснились в груди. Ни на минуту ее не покидало ощущение, что Устиньюшка смотрит на нее ненавидящими глазами. Смотрит безжалостно, испепеляя ее жгучей злостью.
– Надюшка, Надька! – крикнул Порфирий Игнатьевич.
Лукерья подняла голову, так как это имя было для нее новым. На крик вбежала худенькая белобрысая девчонка в стареньком платьишке. Она окинула взглядом гостей, сидевших за столом, и быстрые, пытливые глазенки ее остановились на Лукерье. Лукерья тоже посмотрела на девочку. Их взгляды встретились, и Лукерья чуть-чуть, только одними уголками губ улыбнулась Надюшке. Девочка вскинула голову, глаза ее заискрились, расширились, и она, потешно шмыгнув носом, доверчиво улыбнулась Лукерье в ответ.
– Слазь, Надюшка, в подполье, достань жбанок с медовухой, – распорядился Порфирий Игнатьевич.
– Мигом, дедушка! – воскликнула Надюшка. Убегая, обернулась и еще раз посмотрела в глаза Лукерье.
И с этой минуты Лукерье стало почему-то легче и проще. Она не знала, почему это произошло, но теперь ей казалось, что в этом чужом доме она, горемычная, не одна.
Первый тост Порфирий Игнатьевич посвятил «счастью племянника Григория и распрекрасной красавицы Луши».
Кибальников и Отс захлопали в ладоши, а Устиньюшка завизжала:
– Горько! Горько!
Чувствуя, что Лукерью коробит от этих возгласов, Ведерников поспешно поцеловал ее не от души, а чтобы скорее исполнить обряд.
Устиньюшка снова завизжала на весь дом:
– Сладко! Сладко!
И снова Ведерников поцеловал Лукерью.
После этого о ней забыли. Не прошло и часа, а все уже опьянели, обнимались друг с другом, кричали. Мужчины почему-то называли хозяина князем, а он называл их господами, изредка Лукерья различала в шуме и говоре непривычные, ставшие далекими слова: «господин штабс-капитан», «господин поручик». Когда хозяин назвал Ведерникова «господином подпоручиком», Лукерья обеспокоенно привстала, вопросительно взглянула на него. Ведерников, покрывая шум, стоявший за столом, крикнул:
– Дядюшка Порфирий Игнатьич! Забудь, пожалуйста, эти дурацкие военные прозвища, не смущай Лушу. – Ведерников повернулся к Лукерье, обнимая ее за талию, пояснил: – Мой дядюшка – ужасный шутник. Завтра он может и тебя, Луша, назвать графиней.
Предупреждение Ведерникова подействовало ненадолго. Отс вдруг начал кричать:
– Кто здесь штабс-капитан? Я здесь штабс-капитан! Смирно! Глаза на-ле-во!
Ведерников, сидевший напротив Кибальникова, начал усиленно подмаргивать ему, призывая унять Отса, но Кибальников был занят своим делом: тискал Устиньюшку.
Ведерников встал, предложил Лукерье:
– Пойдем, Лушенька, послушаем музыку, потанцуем.
Они ушли в соседнюю комнату. Ведерников завел граммофон, поставил пластинку, и по дому загрохотал бас какого-то певца, с грустью возвестившего: «Когда я на почте служил ямщиком, был молод, имел я силенку».
Был уже поздний вечер, когда с берега донесся яростный лай собак. Первым его услышала Надюшка. Она прибежала из кухни, начала тормошить подремывавшего Порфирия Игнатьевича. Тот никак не мог понять, о чем говорит внучка, слегка отталкивал ее от себя, снова и снова укладывал свою голову на ладонь. Надюшка побежала к Ведерникову, который уединился с Лукерьей в гостиной и без устали заводил граммофон.
– Дядя Григорий, собаки сильно лают. Может, кто приехал.
Ведерников остановил граммофон, прислушался. Да, хозяйские кобели, выпущенные со двора, из себя выходили. Они не просто лаяли, а рвали под собой землю, кидались на кого-то, по-видимому не давая шагу ступить.
Ведерников привернул фитиль в лампе, подошел к окну, намереваясь всмотреться в темноту, стоявшую за стеной дома, но окна наглухо были закрыты ставнями. Ведерников заспешил в столовую.
Лукерья привлекла к себе девочку, погладила ее по худенькой, с торчащими лопатками спине, спросила:
– Ты кто в этом доме, малышка?
– Я-то? Сиротка.
– Чужая?
– Деду Порфирию внучка. Матушке Устиньюшке чужая. А ты, тетенька, кто?
– Я? Я просто подлая баба.
– Неправда, ты добрая. А ты откуда приехала? Из коммуны?
– Из нее.
– А Бастрыкова Алешку знаешь? Он тоже сиротка.
От одного упоминания фамилии любимого человека остро заныло сердце Лукерьи, застучало в висках, нахлынуло чувство раскаяния. «Ну зачем, зачем я сбежала? Хоть бы одним глазком взглянуть сейчас на него!.. Да и худо ли мне там было? Все свои… А эти… Нет, не те они, за кого себя выдают».
Надюшка доверчиво прижалась к Лукерье, только что-то хотела сказать ей, но в комнату вошли Порфирий Игнатьевич и Ведерников. Хозяин, пошатываясь, прислушался к лаю собак, усмехнувшись, сказал:
– На зверя собаки лают. Бродит где-то поблизости.
Порфирий Игнатьевич беспечно махнул рукой и ушел.
Ведерников отвел рычажок с мембраной, пустил граммофон. Надюшка почувствовала, что она тут лишняя, и убежала на кухню.
Вдруг где-то совсем под окнами прогрохотал выстрел, и протяжный визг раненой собаки огласил берег. Кибальников выскочил из спальни, подхватил Отса под руку. Оба скрылись в сенях. Там была дверь в конюшню, а из нее выход в огород. Ведерников сдернул рычажок граммофона так, что захрустела под иглой пластинка, задул лампу.
– Пойдем, Луша, скорее!
Он обхватил Лукерью за плечи, торопливо повел ее вслед за Кибальниковым и Отсом. Порфирий Игнатьевич, отрезвев в одно мгновение, заметался по прихожей, бормоча:
– Христом-богом прошу, не оставляйте меня одного! Бастрыков это! Бастрыков! Растерзает он меня…
– Не паникуй ты, Исаев! Я тебе говорил, не место этот дом для вечеринок! – ругался Кибальников.
– Не дайте погибнуть! – откровенно хныкал Порфирий Игнатьевич, но его уже никто не слушал. Офицеры стремительно уходили на заимку.
Порфирий Игнатьевич погасил лампу в прихожей, но было уже поздно: в ставни забарабанили с такой силой, что зазвенели стекла. Исаев приложил ухо к продушине, в которую был просунут железный болт. Два мужских голоса крыли матерными словами и собак и хозяев, которые спят мертвецки или делают вид, что спят. Порфирий Игнатьевич хорошо запомнил голос Бастрыкова. Нет, ни один из этих голосов не походил на комиссарский.
– Кто это? Кто там? – закричал Исаев в продушину.
– К Порфирию Исаеву мы! Из Томска! – послышалось из-за стены.
Дрожа от страха, Порфирий Игнатьевич вышел на крыльцо, прячась за толстой резной стойкой, крикнул:
– Эй, кто там? Отзовись-ка!
Собаки почуяли хозяина, перестали лаять и только рычали.
– Порфирий Игнатьич, открой. Из Томска мы, к твоим гостям приехали.
– К каким гостям? – Со страху Исаев забыл о своих гостях на заимке.
– К тем, которые весной прибыли.
– Ну-ну, сейчас открою.
Порфирий Игнатьевич спустился с крыльца, осторожно подошел к воротам, но открывать их не спешил, опасаясь все-таки какого-нибудь подвоха. Ночь стояла темная, но светил месяц, и, когда облака расходились, его молочно-голубоватый свет пронизывал темноту. В калитке у Порфирия Игнатьевича на всякий случай была выдвижная потайная дощечка. Он чуть поднял ее и увидел прямо перед собой двух рослых мужчин. Они были в сапогах, в брюках галифе с кожаными леями, в полувоенных куртках, в кепках. Порфирий Игнатьевич осмотрел их и раз и два и, осенив себя крестным знамением, открыл калитку.
– Не взыщи, Исаев. Самую злую твою собаку я отправил на тот свет. В ногу мне вцепилась, – смело подходя к хозяину, сказал один из приехавших. Он протянул руку, назвался: – Касьянов. Здорово, Порфирий Игнатьич.
Второй приезжий оказался мрачным и молчаливым. Он сунул Исаеву руку и не назвал даже своей фамилии.
– Он Звонарев, – представил его тот, который назвался Касьяновым.
Порфирий Игнатьевич потоптался, нерешительно произнес:
– Так, значит, один Касьянов, другой Звонарев. А кто вы по званию – по должности будете?
– Кто мы будем? Послушай. Я начальник северного отдела губпотребсоюза, Звонарев – инспектор этого отдела. Прибыли мы на Васюган для организации факторий потребительской кооперации.
– Вот оно какое дело, – недоуменно протянул Порфирий Игнатьевич.
Касьянов уловил это недоумение и сейчас же его рассеял:
– Ну, сам понимаешь, это официально. А на самом деле все обстоит иначе: я полковник Фиалков, начальник разведки подпольного губернского штаба по свержению советской власти. Звонарев – полковник Сновецкий – начальник оперативной части этого штаба. Прошу любить и жаловать!
Исаев от удивления причмокнул языком.
– Большие чины пожаловали! Проходите, ваши высокоблагородия. Мой дом – ваш дом.
– А в доме посторонние есть? – строго спросил Касьянов.
– Никого.
– А кто живет из своих?
– Жена и внучка-малолетка. Спят уже.
– А где разместил наших офицеров?
– На заимке, поблизости отсюда.
– Веди.
Порфирий Игнатьевич пошел впереди, на середине двора опасливо оглянулся, подумал: «А вдруг все обман и никакие они не полковники, а самые неподдельные коммунары?» Испуг продолжался одно мгновение. «А зачем коммунарам прятаться? Явился же тогда Бастрыков открыто и просто», – успокоил себя Порфирий Игнатьевич.
На крыльце Исаев снова чуть придержал полковника. Он с умыслом не торопился теперь. «Если Устиньюшка не дура, то она должна прибрать на столе, чтоб следов попойки не осталось», – думал Порфирий Игнатьевич.
В сенях и в прихожей хозяин снова чуть помедлил. Когда он ввел полковников в столовую, Устиньюшка с помощью Надюшки успела уже перетащить грязную посуду в кухню. Остатки закусок и жареного лежали на свежих тарелках, и можно было подумать, что в этом доме только то и делали, что ждали, когда пожалуют их высокие благородия. «Ай, душка моя, молодец ты! Не ударила перед высшим сортом в грязь лицом!» – мысленно поблагодарил Порфирий Игнатьевич супругу. А полковники обратили свое внимание прежде всего на стол.
– Это хорошо, Порфирий Игнатьич, что закусить приготовил. Проголодались мы зверски, – глотая слюну, сказал Касьянов, а Звонарев удовлетворенно хмыкнул.
– А как же! У меня с утра сегодня было предчувствие: кто-то прибудет важный, – присочинил Порфирий Игнатьевич. Но тут васюганский купчик хватил через край.
Полковники взглянули на него, как кипятком обожгли.
– Ну, ты ври, да не завирайся, – прогудел Касьянов, нисколько не заботясь о вежливости. – Предчувствие у него было! Пьянствовал ты целый вечер! В твой дом входишь, как в пивную бочку влазишь. Так и шибает спиртным.
– И небось все до капельки вылакал и нам не оставил, – впервые подав голос, сильно заикаясь, сказал Звонарев.
«Он потому-то и молчит, что заика», – про себя отметил Порфирий Игнатьич; а вслух воскликнул:
– Что вы, Христос с вами! «До капельки вылакал!» Да для таких особ я из-под земли достану.
Исаев выскочил в прихожую и вернулся с бутылками в руках.
– Быстро «под землю» слазил, – смягчившись, засмеялся Касьянов.
Порфирий Игнатьевич прикрыл двери в прихожую и спальню, пригласил гостей к столу, придвинул им хрустальные рюмки.
– Стаканы давай. Мы не дети, – отодвинул рюмки Касьянов. – Пьем по-мужицки. Один раз из большой посуды.
Порфирий Игнатьевич принес тонкие стеклянные стаканы, и Касьянов наполнил их до самых краев. Самому хозяину он не предложил даже рюмки.
«Вот это да! Привык к власти. Этот не будет, как те, с заимки, хвостом передо мной вилять да васюганским князем называть», – подумал Порфирий Игнатьевич, не зная еще, радоваться этому или печалиться.
Полковники чокнулись и молча осушили стаканы.
«И закусывать не спешат. Неужели не заберет их хмель?» – не без зависти подумал Исаев.
– Ну что, Порфирий Игнатьич, приуныл? Рассказывай, как живешь? – как-то неожиданно сказал Касьянов.
– Жизнь? Что ж, она идет. Если б не коммуна… Как грозовая туча над головой нависла…
– А какого черта вы сидите сложа руки? Разве вам такой приказ был дан?! – закричал Касьянов, багровея и тараща на Порфирия Игнатьевича круглые глаза, увеличенные стеклами очков.
– Они ждут, когда им победу над Лениным, как жареную гусыню в жаровне, поднесут. Остолопы и разгильдяи! – свирепо выругался Звонарев.
– А что я один могу сделать? – развел руками Порфирий Игнатьевич. – Была бы моя воля, я бы давно коммуне к Господу Иисусу дорожку нашел.
– Вас здесь целый боевой отряд! Почему бездействуете? Вам известно, что над вами меч навис? – Касьянов в своем гневе, казалось, готов был сожрать Исаева с потрохами.
– Господа офицеры не тянут, не везут, ждут новых инструкций, а я…
– А ты им попойки организуешь! – перебив хозяина, крикнул Касьянов.
– А что я… я подневольный. Сегодня вот Ведерникову свадебный бал устраивал. Женился вроде он…
– Женился?! Да я его, сукиного сына, вместе с его шлюхой собственной рукой расстреляю! – барабаня по столу кулаком, взревел Касьянов.
Порфирий Игнатьевич примолк, но в душе крутой прав полковников одобрил. «Предлагал я им потормошить коммуну – не захотели. Ну и пусть сами теперь отдуваются», – думал он о сидельцах на заимке.
Когда Касьянов и Звонарев, закончив ужин, закурили, Порфирий Игнатьевич решил забросить удочку насчет оплаты расходов по содержанию офицеров.
– Поиздержался я сильно, ваши высокие благородия. Как-никак три мужика. Их поить-кормить надо. Прошу ваших милостей… из казны, разумеется…
Касьянов свирепо посмотрел на Порфирия Игнатьевича из-под очков, сжал кулак и, поднеся его к лицу хозяина, ожесточенно сказал:
– А вот этого не хочешь? Ты что, вздумал наживаться на нашей трагедии? Знай, Исаев, сам и другим накажи: ни копейки тебе не будет возмещено! Если интересы борьбы потребуют, раскатаем твой дом по бревнышку, заберем все до последней нитки, отдадим твою жену под залог… А не захочешь идти с нами – на распыл!
Касьянов встал, зашагал вдоль стола.
– Ты понимаешь, как они тут живут?! – повернулся Касьянов к Звонареву. – Они живут преступно. Им наплевать на то, что мы на пределе! Они помышляют тут о наживе, о бабах, а рядом встает коммуна – оплот Ленина… Я из вас душу вытряхну, я заставлю вас кровью харкать!
Касьянов задыхался. Порфирий Игнатьевич стоял ни живой ни мертвый. Когда Касьянов чуть затих, Исаев решил восстановить свою репутацию.
– Верно вы говорите, господин полковник. И я так же думаю. А что о расходах заикнулся – по глупости. А этого Бастрыкова с коммунарами я готов своими руками задушить.
– Не бахвалься! Посмотрим вот, на что ты годен, – бросил Касьянов, глядя Порфирию Игнатьевичу в глаза, и, пройдясь еще раз по комнате, приказал ему, как своему денщику: – Приготовь нам постель! Утром подымешь пораньше… – Помолчав, вскользь добавил: – И вот что: победим большевиков – в обиде не останешься. Царьком всего Нарымского края сделаем!
– Благодарствую, ваше высокоблагородие! – От усердия Исаев даже пристукнул каблуками и бросился в спальню за подушками и бельем.
Уложив полковников спать, Порфирий Игнатьевич заспешил на заимку. Но встревоженные происшедшим Кибальников и Отс не сидели на заимке и встретили его за огородом на тропе. Они стояли под кедром, скрытые темнотой, мучительно гадая, что же в эти минуты происходит в доме Порфирия Игнатьевича. Не спалось и Ведерникову. Он прислушивался к каждому шороху, стараясь ничем не выдать Лукерье своего крайнего напряжения. Кибальников и Отс пообещали позвать его с вышки, если хоть что-нибудь удастся узнать о людях, нагрянувших в глубокий ночной час в дом Порфирия Игнатьевича. Но текли минуты и часы, а их не было.
С пятого на десятое Исаев рассказал Кибальникову и Отсу о своей встрече с полковниками. С особенным удовольствием он передал ту часть разговора, в которой начальники упрекали офицеров за бездействие. Не умолчал он и об угрозе Касьянова по адресу Ведерникова. Кибальников и Отс принялись расспрашивать Порфирия Игнатьевича о всех подробностях, но тот торопился. Важные гости могли почему-либо хватиться хозяина дома и его отсутствие расценить в каком-нибудь превратном смысле. Навлекать на себя их гнев Порфирий Игнатьевич не хотел…
Чуть не до рассвета просидели Кибальников, Отс и Ведерников на крыльце, обсуждая сложившееся положение.
Разошлись понурые, расстроенные, с самыми безрадостными предчувствиями.
– Что там стряслось? – спросила Лукерья, когда Ведерников осторожно поднялся на вышку амбара.
– Потеха, Луша! Приехали торгаши из Томска. Из потребсоюза. Будут по Васюгану потребиловки открывать. В каждом остяцком поселении… Ну вот… И дядины собаки их искусали. Одну они прикончили… требуют остальных перестрелять. Дядя уперся, не дает. Разве можно ему без собак? В тайге-то!.. А ты спи, Лушенька, спи…
Лукерья промолчала, втайне не веря ни одному слову Ведерникова. Она лежала с открытыми глазами. С вышки амбара в квадратную дыру лаза ей хорошо было видно темное небо, мигавшие звезды, неподвижный черный блеск оконного стекла в доме. Лукерья думала о вечерней попойке, вспоминала прозвища родственников Григория, почему-то все военные, его протест, и смущение, и, наконец, торопливый уход в комнату с граммофоном. «Нет, совсем, совсем они не те, за кого себя выдают. И ты тоже, Григорий, парень-ухарь, неспроста из Томска к дядюшке приехал. Знать, коммунары не зря говорят, что богатство ваше на остяцких костях нажито… Эх, были бы у меня крылья…»
Минутами Лукерье хотелось встать, сойти с вышки и сейчас же бежать, бежать куда глаза глядят. Но бежать отсюда было некуда. Кругом лежали непроходимые леса и болота без дорог и без троп, а река, темная, непроглядная река пугала ее пуще смерти. До самого рассвета Лукерья не сомкнула глаз. Ведерников тоже не спал, ворочался с боку на бок, вздыхал, будто на него давила какая-то тяжесть.
На восходе солнца на заимку прибежала Надюшка. Лукерья видела, как она заскочила на крыльцо и забарабанила кулачком в дверь. Но дверь оказалась незапертой. Надюшка забежала в дом, а через минуту выскочила назад и поспешно скрылась в лесу.
А еще минут через пять на крыльцо из дому вышел толстый лысый мужчина, которого Ведерников представил ей как помощника Порфирия Игнатьевича. Он подошел к лестнице, поднялся на две перекладины, негромко сказал:
– Спустись, Гриша, дело есть.
Ведерников быстро надел рубаху, брюки, сапоги, Лукерья чуть подняла с подушки голову. Ведерников прятал пистолет под рубаху, за пояс брюк.
– Ты что, Григорий? Ты что удумал? – с тревогой спросила Лукерья. Не столько поразил ее пистолет; хотя раньше она его и не видела, сколько лицо Ведерникова: бледное и какое-то неживое, похожее на лицо мертвеца.
– Лежи, Луша, лежи тихо. Ни себя, ни тебя в обиду не дам. – И он опустил ноги на лестницу, а она поняла, что больше не добьется от него ни одного слова.
Ведерников пересек двор и скрылся вслед за этим толстым лысым человеком. Лукерья легла поудобнее. В щель между драниц она неотрывно наблюдала за домом. Одно окно было рядом с крыльцом, и Лукерья видела все, что происходило внутри дома. Вот появился помощник Порфирия Игнатьевича, потом Ведерников. Вот к ним из другой половины дома вышел Михаил Алексеевич. Вот они сели к столу, озабоченно о чем-то заговорили.
Вдруг до Лукерьи донесся говор. По тропе к заимке шел Порфирий Игнатьевич вместе с двумя высокими мужчинами. Исаев шагал не впереди и не позади их, а как-то сбоку, рядом с тропой. Он то и дело учтиво кивал головой, заглядывал в лица мужчин, шагавших по тропе твердо, уверенно и даже чуть надменно. Все трое остановились возле крыльца, постояли с полминуты, Порфирий Игнатьевич не по годам бойко взбежал по ступенькам, раскрыл дверь, пропустил мужчин вперед. Потом взгляд Лукерьи перенесся на окно. Она увидела, как перед этими двумя незнакомцами те трое (в их числе и Ведерников) вскочили, вытянулись, стояли не шелохнувшись. Один из вошедших с Порфирием Игнатьевичем что-то кричал, потрясая наганом. Подойдя вплотную к Ведерникову, он особенно долго что-то говорил, яростно тыкал ему в грудь пальцем. Наконец сменив гнев на милость, он подал руку Михаилу Алексеевичу, лысому помощнику Порфирия Игнатьевича, и даже Ведерникову. Затем все они: и те, которые были в доме, и те, которые пришли, – сели за стол. Тот самый, который кричал на всех, надел очки, вытащил конверт из кармана полувоенной куртки и, развернув какие-то бумаги, принялся читать. Если бы Лукерья знала, что полковник Фиалков, он же Касьянов, читал не что иное, как письмо Бастрыкова в Парабельский волком партии, то самое письмо, с каким был послан из коммуны ее муж, Тереха Черемисин! Потом очкастый отложил бумагу, начал горячо говорить:
– Главное – истреблять коммунистов. Советская власть без них – это дом без опоры. Истреблять коммунистов и в одиночку и группами, особенно там, где они стоят на руководящих постах. Порфирий Игнатьевич высказал сегодня мне и полковнику Сновецкому план вооруженного нападения на коммуну. Но дело это излишне громоздкое. У нас нет таких сил. И риск. Можно навлечь на себя гнев Чека и поставить под удар весь замысел, рассчитанный на полный разгром советской власти. Коммуну можно ликвидировать проще – необходимо уничтожить ее партийную ячейку. Уничтожить и замести следы. И делать это надо, не откладывая ни на один день. План операции предлагается такой…
Конечно, Лукерья услышать этого не могла. Ей все еще казалось, что Ведерников, может быть, и не соврал, сказав: приехали торгаши. «Возможно, они насчет факторий и магазинов рассуждают», – думала она. И все-таки острая тревога с новой силой сжимала ее сердце.
Вот она увидела, как мужчины поднялись из-за стола и направились к выходу. Ведерников обогнал всех, застучал сапогами по ступенькам крыльца, подбежал к амбару. Он быстро поднялся по лестнице, торопливо, боясь отстать от других, сказал:
– Ты отдыхай, Лушенька, здесь. Мы поехали место выбирать. Магазин торгаши надумали неподалеку отсюда строить.
– А ты скоро вернешься, Григорий? – Лукерье почудились в его голосе фальшивые нотки.
– Ну не так чтоб очень скоро… Да куда я денусь?..
Он поспешно спрыгнул с лестницы и кинулся догонять мужчин, уже шагавших по тропе.
«Бежать надо отсюда, скорее бежать и не ждать его, не ждать, – пронеслось в мыслях Лукерьи. Она закинула руки за голову, с тоской подумала все о том же: – Были б у меня крылья, вспорхнула бы я и улетела на родную сторонку, поближе к могилкам сестриц». Ей стало вдруг так горько, что она уткнулась в подушку и тихо заплакала в каком-то смутном забытьи.
Очнулась она от стука в амбаре. Кто-то осторожно ходил там. Она приподняла голову, прислушиваясь, сдерживая дыхание. Из амбара вышли Порфирий Игнатьевич и его лысый помощник. Исаев нес на плече две винтовки, Отс одну. Тихими торопливыми шагами они вышли на тропу, по-видимому, убежденные в том, что их никто не видел. Лукерья проводила их глазами, пока они не скрылись в лесу, и опустила голову на подушку.
День разгорался во всю силу. Солнце поднялось из-за леса багрово-кровавое, палящее. По всему горизонту растекалась, вскидываясь в вышину, розовая синева: начал подувать порывистый ветер. Еще было рано, но ветер не приносил прохлады, и по всему угадывалось, что день будет беспощадно жаркий. Лукерье некуда и незачем было торопиться, и она закрыла глаза, намереваясь уснуть и забыть обо всем на свете.
Вдруг послышался вдали топоток. Кто-то бежал по тропе. Лукерья вскочила. Среди деревьев мелькала Надюшкина голова. Ветер косматил ее волосы, вздувал колоколом юбчонку, она размахивала руками, подпрыгивала, когда на пути встречались пеньки и кочки. Лукерья набросила на себя кофту, юбку, сунула ноги в ботинки. Надюшка прибегала уже сегодня на заимку, выполняя поручение Порфирия Игнатьевича. Наверняка она знала, что делается в главном доме, куда поехали Григорий и прибывшие ночью из Томска. Возможно, Надюшка знала и то, зачем Порфирий Игнатьевич и Отс взяли из амбара три винтовки. Лукерья торопливо спустилась с вышки амбара.
Девочка с разбегу бросилась к Лукерье и затряслась, рыдая и всхлипывая. Лукерья прижала ее к себе, гладила по голове. «Везет мне на встречи с сиротами, – думала Лукерья. – Потому, может быть, что сама я сирота, круглая сирота на белом свете».
– Они… они… поплыли коммунаров убивать, – пересиливая всхлипывания, с трудом сказала Надюшка и зарыдала, сотрясаясь всем своим худеньким телом.
– Что ты сказала?! Что сказала?!
– И Алешку… Алешку… они тоже убьют, – простонала Надюшка, пряча залитое слезами лицо на груди Лукерьи.
Лукерья поняла, что надо успокоить девочку, иначе от нее ничего не узнаешь. Унимая дрожь в руках и ногах, Лукерья подняла Надюшку и посадила на крыльцо амбара. «Вон они зачем винтовки-то из амбара унесли», – подумала она.
– Ну успокойся, успокойся скорее и расскажи мне все, все… Успокойся, моя родненькая… – шептала Лукерья.
Надюшка перестала всхлипывать. Лукерья концом своего головного платка вытерла ей лицо.
– Убивать коммунаров они поплыли… Тетенька Луша, страшно мне!.. Врут они… никакая они не родня дедке. Офицеры они! А эти двое тоже офицеры. Дорогой они убили коммунара. Плыл он в Парабель с пакетом из коммуны, утром сама слышала. Хвалились они дедке.
И вдруг, пронзая шум раскачавшегося от ветра леса, взлетел в мутное от густого зарева небо истошный возглас Лукерьи:
– Терешу они убили! Терешу!
Лукерья вскочила, заметалась по двору. Она кинулась к лестнице, но, встав на перекладину, обернулась.
– Давно они уплыли, Наденька? – спросила Лукерья, и девочка заметила, как ее сухие глаза вспыхнули жарким, нестерпимо жарким огнем.
– Они сели в лодки, я дала пойло коровам и побежала сюда.
Надюшка теперь не всхлипывала, не рыдала, она смотрела на Лукерью. «Ты приехала из коммуны, и ты должна отвести от Алешки, от коммунаров неминуемую смерть», – говорил ее взгляд.
– Ты беги, Наденька, голубчик, домой. Беги скорее. Хватятся тебя, искать станут.
Не этих слов ждала Надюшка от Лукерьи. Она взглянула на нее и с недоумением и с укором. Лукерья поняла это.
– Беги скорее! А я… запалю тайгу. Увидят с реки – вернутся, – добавила она тихо.
Надюшка сверкнула глазами, и Лукерья увидела в этом взгляде и одобрение и восторг перед ее решимостью. Девочка вскочила и хотела убежать, но Лукерья задержала ее, обняла и поцеловала в губы крепким и каким-то отчаянным поцелуем.
– Прощай, ласточка, прощай. Пусть твоя жизнь будет другой, – сказала Лукерья вдогонку Надюшке. Но та слов ее уже не услышала. Русая головенка замелькала между кустов и деревьев там, где петляла тропинка.
Как только Надюшка скрылась в лесу, Лукерья бросилась в дом. Теперь ничто уже не могло удержать ее от исполнения задуманного. Все в ней – каждый мускул, каждая жилка – трепетало в приливе ярого нетерпенья, каждый удар сердца толкал только на одно: «Действуй! Действуй!»
Лукерья схватила бидон с керосином, стоявший за печкой, и побежала к амбару. Здесь у Порфирия Игнатьевича за семью замками хранилось награбленное добро, отсюда вместе с Отсом он вынес винтовки, чтобы убить коммунаров. Отсюда вместе с убийцами ушел и Ведерников, лжец и негодяй, чтобы застрелить Бастрыкова и Алешку… Будь оно проклято, это место! Будь они прокляты, эти изверги, сгубившие Тереху! Лукерья сняла с бидона крышку, широко размахнулась и выплеснула керосин на солому, копной подбитую к стене амбара. Потом подбежала к навесу, возле которого в ямке робко чадил едким дымом костер, взяла из него головешку и сунула ее в солому. Пламя вспыхнуло, задрожало, задергалось и взлетело сразу выше крыши. Лукерью обдало жаром. Она отошла к навесу и села на скамейку, на которой любили сидеть по утрам эти выродки офицеры. Пламя, раздуваемое порывами ветра, потекло по земле, охватывая смолистые амбарные стойки, проникая во все щели и пазы.
– Хорошо, хорошо, увидят дым, бросятся назад… – бормотала Лукерья.
Вдруг она вспомнила, что там, на вышке амбара, остался ее сундучок с вещами. В нем лежали ее пожитки, но не они были ей дороги. На дне сундучка в узелках платочка сберегала она две пряди волос, отрезанные когда-то давным-давно от кос сестер. Это было единственное, что от них осталось. Лукерья кинулась к лестнице. Пламя уже охватило пол-амбара, огонь с треском раздирал смолевые стойки и опорные бревна. Однако со стороны лестницы пламени еще не было, лишь курчавились из-за угла косяки густого дыма.
Не спеша, будто вокруг ничего не происходило, Лукерья влезла на вышку амбара. С брезгливостью и ненавистью к самой себе, она пинками разбросала постель, на которой спала с этим извергом и убийцей Ведерниковым. Из перины и подушек взлетело белое облако пуха. Скрученное покрывало повисло в углу на старой прялке. На вышке уже становилось жарко от огня и душно от дыма. Лукерья схватила свой сундучок и шагнула к лестнице. И это был последний ее шаг на тяжком жизненном пути.
В амбаре у Порфирия Игнатьевича хранились не только пушнина и оружие. В углу, в высоком дощатом ларе, в плотных, водонепроницаемых мешках лежало около двадцати пудов пороха. Это было целое сокровище, позволявшее Исаеву и поныне оставаться васюганским князьком. Огонь стремительно проник в ларь, и порох взорвался. Взрыв поднял на воздух крышу амбара вместе с Лукерьей и ее деревянным сундучком. Пылающие щепки, как огненные мечи, взлетели в небо и обрушились на лес и строения заимки. И начался пожар, страшный таежный пожар, который не щадит ничего, превращая и лес, и траву, и землю в жуткий, серый, как смерть, пепел…
Глава четырнадцатая
Нет, не оправдались расчеты Лукерьи. Офицеры завернули уже за крутой мыс и плыли по узкому плесу, сжатому высокими ярами. Они не могли ни увидеть дыма пожара, ни услышать взрыва пороха. Сильный ветер дул им навстречу, унося эхо взрыва в противоположную их движению сторону, во тьму угрюмой тайги.
Плыли на двух обласках. В первом сидели: Касьянов, Звонарев и Порфирий Игнатьевич, во втором – Кибальников, Ведерников и Отс. Винтовки, патроны, охотничьи ружья, суточный запас продовольствия – все это находилось во второй лодке. Плыли молча. Разговаривать было не о чем. Все было условлено заранее.
Беспокойно стучалась о стенки лодок тугая васюганская волна. Заунывно шумела листва на прибрежных кустах, со скрипом сгибались дугой макушки тополей и осин. По пескам то там, то здесь вздымались вихревые столбы, кружились на одном месте, ввинчиваясь в поднебесье, а затем, паруся желтыми гривами, уносились в даль лугов, исчезая в розово-голубом мареве.
Возле устья Маргинской протоки лодка пристала к берегу. Порфирий Игнатьевич и Звонарев вышли на песок, и в обласке остался один Касьянов.
– Надо ли повторять боевую задачу? – не глядя ни на кого, спросил Касьянов.
Все хмуро промолчали.
– В таком случае, господа, прошу проверить оружие! – приказал он.
Заклацали затворы винтовок, защелкали курки и барабаны наганов. Касьянов веслом оттолкнул свой обласок от берега и поплыл; то и дело оглядываясь, он видел, как оставшиеся на берегу Порфирий Игнатьевич и офицеры вытащили лодку из реки, подняли ее на плечи и понесли. Им предстояло пройти по лугам верст пять, минуя участок Васюгана, примыкавший и по нижнему и по верхнему течению реки к землям, принадлежавшим коммуне. Потом они должны были переплыть Васюган и оказаться на склоне Белого яра. Все остальное взял на себя Касьянов.
Он приплыл к коммуне в удачное время. После обеда и короткого отдыха коммунары ушли на работу. В лагере остались только стряпухи – тетка Арина, жена Ивана Солдата, и Мотька.
Касьянов поздоровался с ними, спросил, где Бастрыков. Председатель коммуны был на раскорчевке. Показываться всем коммунарам не входило в расчеты Касьянова. Он попросил Мотьку сбегать к месту работы и позвать Бастрыкова.
– Скажи, дочка, Бастрыкову, что приехал товарищ из волкома партии.
Мотька исполнила просьбу молниеносно. Не успел Касьянов докурить папиросу, как увидел Бастрыкова. Тот шел по тропе скорыми, широкими шагами. Порфирий Игнатьевич настолько точно обрисовал внешность Бастрыкова, что Касьянов узнал бы его даже в толпе. «Крупный мужик. И сильный, видать», – подумал Касьянов, ощупывая наган, спрятанный на животе, и отвернулся – сделал вид, что смотрит на беркутов, круживших над просторами заречья.
– Здравствуй, товарищ, – сказал Бастрыков, когда до приехавшего осталось несколько шагов.
Касьянов не спеша обернулся, как бы недовольный тем, что его оторвали от наблюдений.
– Здравствуй, Бастрыков, здравствуй. – И Касьянов первым подал руку, усмехнулся, все еще глядя туда, в небо, в ширь лугов. – Старый беркут, видно, молодого летать обучал. Начнет молодой к земле прижиматься, а тот его в брюхо клюет, ввысь гонит.
– Тут вот, на соснах, три гнезда у них было, – сказал Бастрыков и круто переменил разговор: – А кто будете, товарищ? По какой нужде к нам пожаловали?
– Черемисина в волком посылал? – Касьянов посмотрел на Бастрыкова из-под очков и тут же отвел глаза. Бастрыков так и прошивал его насквозь своим взглядом. «Неужели о чем-нибудь догадывается?» – подумал Касьянов, ощущая холодок на спине.
Но Бастрыков даже повеселел от упоминания о Терехе.
– А где он сам-то? Мы ждем его, ждем, а его все нету. Думали, уж не стряслось ли с ним что-нибудь?
– А ведь в самом деле стряслось! Приплыл он в Парабель больной. С пятого на десятое доложил волкому о вашем житье-бытье, и положили его в больницу.
– Тереху? В больницу? Да он крепче вон той сухостойной сосны… – изумился Бастрыков, а Касьянов понял, что надо дать попятный ход.
– Ну, знаешь, бывает и на старуху проруха, – деланно улыбнулся он. – Чирей у него на шее вот такой вскочил. – Касьянов сжал кулак и потряс им. – Сделали разрез, заживает. А все-таки, сам понимаешь, веслом много не наработаешь, когда на шее рана.
– Фу-ты, чертовщина какая! Чирей! Не знал, что Тереха такой нежный, – засмеялся Бастрыков.
Касьянов решил сокрушить недоверие Бастрыкова и сделал с этой целью заход с другой стороны.
– Ну, Тереха ваш никуда не денется. Не сегодня, так завтра приедет. А письмо твое волком рассмотрел. Ряд важных вопросов ставишь: насчет экспроприации имущества Порфирия Исаева, о помощи туземному населению, об агитации за вступление в коммуну бедноты из Каргасока и Парабели.
Бастрыков даже придержал дыхание, чтобы ненароком не пропустить чего-нибудь из того, что говорил приехавший. Касьянов же с такой точностью излагал письмо партийной ячейки в волостной комитет, что если б у Бастрыкова и возникли какие-нибудь сомнения, то после всего услышанного для них не осталось никаких оснований.
Касьянов заметил, что глаза Бастрыкова подобрели, и сделал еще один ход, чтобы окончательно расположить его к себе.
– Извини, товарищ Бастрыков, за оплошность. Полагается все-таки предъявить тебе документы… Я забыл, а ты не спрашиваешь.
Из внутреннего кармана пиджака Касьянов извлек бумажник, раскрыл его с подчеркнутой медлительностью.
– Вот это удостоверение губпотребсоюза. Должностное. Из него тебе станет ясной цель моего приезда. Как видишь, затеваем на Васюгане постройку факторий. Настала пора вытряхнуть отсюда всякого рода торгашей и купчиков. Ну а это письмо тебе из волкома партии. Поручено мне познакомиться с работой партячейки, сделать коммунистам доклад о текущем моменте. Вот так, Бастрыков.
Бумаги Касьянова внушали уважение. Удостоверение губпотребсоюза было напечатано на бело-синей хрустящей бумаге и украшено внушительным угловым штампом и круглой печатью. Письмо из волостного комитета партии выглядело беднее: серая, толстая бумага военного времени, тусклый, машинописный текст, с проставленной от руки буквой «р», расплывшийся угловой штамп. Печати у волкома не было.
– Это очень правильно, что беретесь за Васюган. Богатств тут – непочатый край, – возвращая Касьянову документы, сказал Бастрыков.
– Надеюсь, что коммуна нам поможет. – Касьянов вытер платком вспотевшие лоб и шею.
– Уж об этом и говорить не стоит!
– Одну из факторий, товарищ Бастрыков, губпотребсоюз намерен построить здесь, на Белом яру. Как смотришь?
– Как смотрю? Очень хорошо смотрю, – засмеялся председатель коммуны, про себя подумав: «Ну и чудак! Спрашивает еще, как смотрю, будто не понимает, что коммуне от этой затеи прямая выгода будет… Рыбу, пушнину, зерно не возить за сто верст… Да и за городскими товарами не ездить черт-те куда…»
– Сам понимаешь, товарищ Бастрыков, времени у меня в обрез, – озабоченно заговорил Касьянов, – должен я за две недели объехать весь Васюган. Хотел бы вот о чем тебя просить: давай позови сейчас всех остальных коммунистов. Во-первых, съездим все вместе, посмотрим восточный склон Белого яра. Там намечено поставить помещение фактории. Мнение партячейки будет учтено. Во-вторых, где-нибудь приткнемся у берега, посидим поговорим. Есть кое-что сообщить строго по партийной линии…
Касьянов пристально посмотрел на Бастрыкова и, хотя не уловил в его глазах никаких сомнений, добавил упрашивающим тоном:
– Уж ты, пожалуйста, не задерживай меня.
Ах, Бастрыков, Бастрыков! Вот тут бы тебе и воспротивиться желанию Касьянова. Ведь где-то в тайниках твоего сознания промелькнула искоркой мысль: «А почему только коммунистов звать? У нас все коммунары заодно с нами. Поговорим со всеми, посоветуемся со всеми. И о текущем моменте важно послушать всем». Такие слова хотел сказать Бастрыков, но сказал совсем другое:
– Мотя, подойди-ка сюда!
Мотька бросила все свои дела у печки, подбежала на зов председателя коммуны. С улыбкой посматривая на краснощекую, крепко сбитую девушку, Бастрыков сказал:
– Придется тебе, Матренушка, еще разок сбегать на раскорчевку. Скажи отцу с дядей Митяем: пусть идут сюда!
– Пулей слетаю, дядя Роман.
Мотька с такой быстротой бросилась на тропу, что, глядя ей вслед, Бастрыков рассмеялся, ощерился в скупой улыбке и Касьянов.
– Сильная девчонка! Воздух тут у вас силу прибавляет.
– Воздух как дрожжи. Аж грудь распирает. – Бастрыков глубоко и свободно вздохнул, и крутая грудь его до отказа натянула старую, добела простиранную красноармейскую гимнастерку.
Касьянов покосился на Бастрыкова, щуря глаза под очками.
– Ты просил, товарищ Бастрыков, в письме насчет помощи коммуне семенным зерном. Будут вам даны семена. А как земля у вас? Сколько десятин готово?
Касьянов знал, какую струну тронуть в душе Бастрыкова. Встрепенулся Бастрыков, принялся рассказывать, как готовят коммунары землю к озимому севу, какой урожай рассчитывают получить на таежной целине. Бастрыков увлекся, не заметил, когда показались на тропе Васюха с Митяем. Они подошли к Бастрыкову и Касьянову, остановились, не зная, здороваться с гостем за руку или нет. Но тот сам пожал им руки – сначала Васюхе, потом Митяю.
– Жив-здоров наш Тереха, – сказал Бастрыков, сообщая своим товарищам прежде всего самое важное для них.
– Жив, жив! Думаю, что завтра приедет, а может быть, и сегодня, – подтвердил Касьянов. Ему пришлось повторить все, что он говорил Бастрыкову: о болезни Терехи, о постройке факторий на Васюгане, о необходимости осмотреть восточный склон Белого яра, наконец, о каких-то партийных секретах, которые он должен сообщить им непременно в доверительном порядке.
Васюха и Митяй, посматривая на Бастрыкова, весело посмеялись над Терехиной болезнью, но слов осуждения никаких не сказали. «Неловко я придумал. По-видимому, то, что барину, офицеру – смерть, то коммунару здорово», – подумал Касьянов. Боясь, как бы эта неловкость не породила каких-нибудь осложнений, Касьянов стал торопить коммунаров на осмотр восточного склона Белого яра.
Но тут Бастрыков вспомнил, что до сих пор он не предложил приезжему чего-нибудь перекусить с дороги. Он направился было к печке-времянке, где хлопотали Арина и Мотька, но Касьянов остановил его:
– Ну что ты, товарищ Бастрыков, в гостя меня превращаешь?! Неудобно, в самом деле! Вот вернемся, тогда и закусим. Все равно, видно, у вас мне ночевать придется. Давай-ка, дружище, садись в мой обласок… – И он кивком головы позвал младшего Стенина за собой.
Митяй с готовностью и без малейших колебаний шагнул в лодку. Видя, что Касьянов взял весло, он сел на носовое сиденье.
Бастрыков поторопился столкнуть с песчаной косы свой обласок, и Васюха прыгнул в него. И вот река подхватила и понесла лодки.
В эту минуту на берег выскочил Алешка. С самого утра он шуровал костры, сжигавшие таежный хлам, а после обеда убежал на постройку домов. Здесь Иван Солдат показал мальчику хитрую машинку под названием угломер. Алешка не только смотрел, он брал угломер в руки, вместе с дядей Иваном водил этой штукой по обтесанным бревнам. Все, что сегодня узнал Алешка на постройке домов, было так интересно, так занимательно! Он не мог не рассказать отцу обо всем, что произошло. Но отца у костров не оказалось. Алешка побежал на берег.
– Тятя, возьми меня! – крикнул Алешка, видя, что отец отправился куда-то без него.
Бастрыков обернулся, взмахнул веслом.
– Не могу, сынок, взять!
Случалось, что и раньше отец не брал его с собой, отказывал, но почему-то никогда не было Алешке от этого так мучительно горько, как теперь.
– Тятя, вернись! – надрываясь, закричал Алешка и побежал по берегу, как бы стараясь догнать лодку с отцом.
Бастрыков обернулся еще раз и еще раз. Алешка стоял на самой кромке берега, растирал по лицу слезы. Путь ему преградила крутизна яра, обрывавшаяся в бездонную заводь, и он стоял, чувствуя тоску и беспомощность.
Через час, а может быть и того меньше, лодки приткнулись к берегу. Коммунары и Касьянов вышли на песок, сделали несколько шагов, остановились, осмотрели склон яра, полого спускавшегося к реке.
– А место тут отменное! Не хуже нашего, – сказал Васюха.
– Наше лучше! И сдается мне, там и факторию надо строить.
– Правду говоришь, Роман, – поддержал Бастрыкова Митяй.
– Ну, посмотрим, – пробурчал Касьянов и зашагал вперед, увлекая за собой коммунаров.
Они отошли сажен пятьдесят от реки и стали подниматься через ельничек в гору. Вдруг, слившись в один залп, раздались три выстрела. Васюха и Митяй упали молча. Бастрыков успел сказать только одно слово: «Сынок…»
Эхо от выстрелов загрохотало, раскатилось и смолкло. Но жизнь… жизнь на земле продолжалась, ее нельзя было убить.
Книга втораяГлава первая
Наперекор всем невзгодам, назло своей горькой судьбе выжил Алешка Бастрыков, уцелел на белом свете!
После гибели коммунистов васюганская коммуна просуществовала несколько дней. Похоронив на Белом яру Романа Бастрыкова и братьев Степиных, коммунары сошлись на собрание. Все понимали – потеря невосполнима. Среди коммунаров не было никого, кто, подобно Роману Бастрыкову, принял бы на свои плечи тяжелое бремя руководства. На это и рассчитывал белогвардейский полковник Касьянов. Некому было вести коммуну, не оказалось разума, который направлял бы всех к единой цели. Да и кто мог поручиться, что не повторится пережитое! А к чему новые жертвы?
Иван Солдат предложил вернуться назад, на родину. Благо там целы избы, а поля и огороды не успели еще зарасти бурьяном и чертополохом. Полдня коммунары судили-рядили. С болью в сердце, со слезами на глазах, с возгласами проклятий убийцам люди проголосовали за роспуск коммуны и возвращение на старые места.
Естественно, встал вопрос об Алешке Бастрыкове и Мотьке Стениной. Кто-то предложил хлопотать об устройстве сирот в детский дом. Но Иван Солдат с Ариной не согласились с этим. В один голос они заявили, что берут их в свою семью.
– Пока руки мои держат топор – на хлеб, на соль заработаю. А там, гляди, мало-помалу сами подрастут, – сказал Иван Солдат.
Благородство его оценили, спорить не было смысла. Алешка с Мотькой стали как брат с сестрой.
Иван Солдат поселился в своей старой покосившейся избе на самом краю деревни Песочной. И Арина, и в особенности сам Иван жалели сироток. Своих детей у них было шестеро. Два сына пропали без вести на фронтах Первой мировой войны, а девки повыходили замуж, жили в других селениях, мыкали горе – каждая по-своему.
Года через два после возвращения с Васюгана Иван Солдат стал прихварывать. Как-то раз подрядился он срубить новый дом в соседней деревне. Ушел туда на своих ногах, с топором за опояской, а вернулся на чужом коне, в санях – мертвый. Арина поголосила на могиле и уехала к дочери возиться с внучатами. С той поры Алешка с Мотькой пошли в люди. Мотька была года на четыре постарше, посамостоятельнее, попала сразу в хорошие руки. Жили неподалеку от Песочной в селе Малая Жирова молодой учитель с женой – тоже учительницей. Были у них маленькие дети. Взяли они Мотьку к себе нянькой. Учителя помогали девушке, занимались с ней по школьной программе. Между делом обучилась Мотька грамоте, полюбила книги. Оказалась способной, знания схватывала быстро, запоминала все с первого объяснения. Решили учителя устроить Мотьку в город. Она поступила в вечернюю школу для взрослых. Днем работала, где и как придется: уборщицей в краеведческом музее, грузчицей на пристани, истопницей в клубе железнодорожников. Никакого труда не боялась девушка, понимала, что иначе не сможет учиться, а учение стало целью ее жизни.
Судьба Алешки Бастрыкова была горше. Когда Иван Солдат умер, мальчишка пошел в подпаски. Кормили его крестьяне поденно. День одна хозяйка, второй – другая. И так, пока не дойдет до последней избы. За время пастьбы раза по три гостевал Алешка в каждой избе. Ночевал – где придется: то во дворе, в телеге, то где-нибудь на старой соломе у овинов и амбаров. Случалось спать и просто на земле под черемуховыми ветками в палисаднике церкви. В теплое время – ночевка не задача. Недаром говорится, что летом каждый кустик ночевать пустит.
С наступлением осени, после Покрова, Алешка нанимался в работники. В первые годы сиротства брали его почти из жалости. Паренек был невидный, хилый, слабосильный. Именно в эту пору кто-то назвал его Горемыкиным. Кличка так привилась, что заслонила отцовскую фамилию, прилипла навсегда. Даже в сельсовете в поселенном списке Алешка был записан с двойной фамилией – Бастрыков и в скобках: он же Горемыкин. Доводилось Алешке и прихварывать. Тогда он переселялся куда-нибудь в баню, чтобы никому не докучать. Ну а сердобольные люди всегда и везде есть. Народ не даст человеку загибнуть. Бабы приносили кто молоко, кто хлеб, кто настой из брусничного листа, кто сушеную малину, распаренную в кипятке. Заглядывали и парни с девчатами, иные из интереса к его одинокой жизни, а иные – из сочувствия.
Проходила неделя-другая, и парень поднимался здоровей, чем был.
К семнадцати годам бастрыковская порода взяла верх в Алешкином естестве. Одолел он и слабосилие, и хилость, и хворь. Статью Алешка выдался в отца: высокий, длиннорукий, крепкий в кости, а в лице все материнское: большие, в черных ресницах, серые глаза, открытый, приветливый и в то же время застенчивый взгляд, румянец на щеках, мягко очерченные рот и подбородок, прямой и высокий лоб и резкие надбровые дуги. Волосы у Алешки были светло-русые, шелковистые, в крупных завитках – любая девушка позавидует.
Силой Алешка, может быть, не уступал отцу. Однажды в Святки собрались парни в пустой избе Ивана Солдата. Пели песни, плясали, дурачились – как кто может. Потом начали бороться, ухватившись за опояски. Алешка был еще в ту пору ни то ни се, не мальчишка, но еще и не парень. Но силенка уже скопилась в его гибком теле, наливалась удалью грудь, зудились руки.
Переборовший всех парней деревенский силач Пронька Стенькин схватил несколько таких мальцов, как Алешка Горемыкин, и с криком: «А ну, сколько вас, сушеных, попадет на ложку?!» – начал валить на пол. Тут-то Алешка и показал признанному силачу, что он уже не из «сушеных». Схватив Проньку за опояску, Алешка подался всем своим костистым телом на силача, потом в одно мгновение оторвал от пола и, чуть присев на полусогнутых ногах, перекинул его через плечо. Пронька так и шмякнулся об пол, как мешок с овсом. Парни захохотали, засвистели яростным свистом. Пронька вскочил. Гневный, уязвленный этим унижением, он бросился на Алешку с криком:
– А покажу я тебе сейчас, Горемыка, кузькину мать!
Силач обхватил Алешку и начал сжимать, надеясь, что тот запросит пощады. Но Алешка запустил пальцы под Пронькину опояску, изогнулся, присел и снова кинул силача через плечо в тот же угол. Пронька оторопело раскинул ноги, хрипло выругался:
– Ну и ловкач, паскуда! Подсекает, как окуня на удочку!
Парни, и в особенности Алешкины сверстники, завопили от восторга, кинулись к нему, жали руки, одобрительно хлопали по спине. Пронька поднялся, отряхнул с себя мусор, поглядывая на Алешку миролюбиво, как на равного, обронил:
– Сказывали мужики, что родитель твой, Горемыка, быка с ног сбивал. Знать, и вправду – яблочко от яблони недалеко падает.
Алешка в своем рваном, заплатанном полушубке смущенно переминался с ноги на ногу.
– Махай, Алеха, в Томск, – посоветовал силач, – с такой ловкостью и силой – не пропадешь. В цирк возьмут, людей удивлять станешь!
Ни в какой Томск Алешка, конечно, не махнул, но жить ему стало легче. Слух о том, как он дважды уложил силача, расползся по деревне, проник и в другие селения. Обижать Алешку за всяк теперь опасались и платили больше, чем прежде. В наступившее лето на покосе, на жатве, на молотьбе впервые Алешка столько заработал, что хватило ему на покупку нового полушубка и пимов, двух сатиновых рубах, беленого холста на две пары белья и зеркальца.
Зимой произошло еще одно важное событие в Алешкином житье-бытье. Подрядился Алешка к песочинскому пимокату Михею Колупаеву. Расчесывал шерсть, варил ее в большом котле, тяжелым рубелем сколачивал в комок, потом круглым березовым голышом раскатывал по широкой листвяговой плахе. Раскройку и заделку горячей кошмы на колоду пима производил сам Михей. Алешка был еще не обучен этому хитрому делу. Работать в пимокатной тяжело – душно и смрадно то от пыли (когда расчесывается шерсть), то от пара (когда шерсть часами варится в бурлящем котле).
Но как ни уставал Алешка за день – вечером он надевал новый полушубок и отправлялся на улицу. Жизнь брала свое – подросток становился парнем. На улице ждали товарищи, тут же где-нибудь неподалеку сороками гомонили песочинские девчата.
Однажды в ранний зимний вечер сидел Алешка за столом, ужинал вместе с хозяином и его семейством. Вдруг в окно громко, требовательно постучали. В Песочной каждый знал – так стучат только по казенному делу. И раньше, до советской власти, так стучали, когда староста рассылал посыльных для сбора мужиков на сходку, и теперь так же стучали сельсоветские посыльные.
Михей ткнулся бородатым лицом в промерзшее окно.
– Не глухие! По какому делу сходка?!
За окном послышался смех, озорной голос крикнул:
– Сиди, старый хрыч, на печке! А работника пошли! Молодняк на собрание в школу приезжие из города собирают.
Михей недоуменно развел руками, растерянно посмотрел на Алешку, сказал:
– Сходи, Горемыка, а то еще штраф хозяину за твою неявку сунут.
Алешка быстро доел ужин и заспешил в школу. Он еще не знал, зачем его зовут, но шел торопливо, будто этот вечер предвещал ему что-то необычное и хорошее.
Класс забит парнями и девками. Парни в расстегнутых полушубках втиснулись за парты, девки жмутся по углам, прячутся друг за дружку, смущенно шушукаются.
Класс освещает пузатая лампа-«молния», чем-то напоминающая курицу-наседку, сидящую на гнезде. Она занимает чуть не половину гладкой, крашенной охрой столешницы.
У доски учительница Прасковья Тихоновна и двое незнакомых: вихрастый мужчина похаживает туда-сюда, прихрамывает; молодая, полная и чернявая женщина сидит на табуретке, присматривается к лицам, прислушивается к говору.
– Вот, песочинская молодежь, сегодня у нас особенный день, – взволнованно начинает Прасковья Тихоновна. На ее худеньком, бледном лице проступает румянец. Большие глаза загораются, светятся добротой и лаской. Кроткая, застенчивая, она вмиг преображается, кажется выше ростом, сильнее. Десятки глаз смотрят на нее с изумлением, будто видят впервые. «Глянь, а она красивая», – перешептываются девушки. – К нам приехали из Томска, из университета, два товарища. Их фамилии Хазаров и Тарановская. Университет берет над нашей деревней культ-шефство. Хватит вам на посиделках околачиваться и по улице шататься. – Голос Прасковьи Тихоновны звучит и тверже и убежденнее. – Надо учиться жить по-новому, культурно. Будет у нас открыта изба-читальня в старом доме Луки Твердохлебова. Спектакли сами начнем готовить… Впрочем, я предоставлю слово товарищу Хазарову, он лучше меня обо всем расскажет.
Хазаров заговорил о комсомоле, о его задачах, о создании в Песочной комсомольской ячейки, и сразу будто перенес Алешку в далекое-далекое детство. Вспомнился отец, собрания и речи, которые он произносил, когда зазывал мужиков в коммуну, его неистовое стремление к другой, лучшей жизни. Сердце сжалось, защемило: «И зачем пришел?! Растравит он мне душу, а ведь совсем стал забывать тятю…»
Алешка сидел, напряженно вытянув шею, ловя каждое слово, но чем больше слушал он этого хромого, раненного в боях с Деникиным парня («Я, ребята, сам деревенский, с Алтая, в прошлом штурмовал белогвардейскую сволочь, а теперь штурмую высоты науки», – сообщил о себе Хазаров, и было сказано это не ради похвальбы, а как-то попутно, что называется, к слову пришлось), тем острее вспоминалась та жизнь, жизнь с отцом в коммуне, с раздумьями о счастье людском, о коммунизме.
С неприязнью сейчас Алешка подумал о разговоре с хозяином. Разговор этот происходил за ужином, только что, и закончился за несколько минут до стука в окно.
Михей любил поучать. С хрустом и сопением уминая картошку и капусту, приправленную конопляным маслом, он говорил:
– Перво-наперво, Горемыка, рукомесло! Второе дело – соображение, стало быть, голова чтоб на своем месте росла. Я тоже молодой был и вроде тебя кругом сирота. Другой бы загиб, а у меня рукомесло! Родитель Феклы моей умственный был человек. И хозяин – вон какой! Мельница, крупорушка, маслобойка, пимокатня. А дочь одна-разъединая. Замыслил он зятя в дом ввести. И прямо на меня прицел взял. А почему, думаешь, Горемыка? Спрашивал я потом тестя: «Почему же, Федот Федотыч, ты меня приметил? Разве мало парней на деревне было? И с достатком!» – «А потому, Михеюшка, – отвечал, бывало, Федот Федотыч, – что с рукомеслом ты с малолетства. А когда рукомесло да достаток, так оно и к шубе рукав». И посмотри, Горемыка, вышло, как он говорил! Ты вот что, слушай-ка меня лучше, – понизив голос, учил Михей, – ты в годы входишь, из себя ладный будешь. Девки на тебя, как мухота на мед, бросаться станут. А ты им не поддавайся, этого добра в каждой деревне невпроворот. Высматривай такую, чтоб в дом войти. Вот как я! Сразу заживешь хозяином. Ты понял, что я тебе говорю?!
– Понял, дядя Михей, – смущенно отвечал Алешка.
Сейчас ему стыдно было, что он не остановил Михея, не прервал его мерзкие рассуждения в самом начале…
Когда Хазаров рассказал о себе, парни и девушки переглянулись: свой мужик этот Хазаров, а добился немалого! Но еще больше удивила всех Тарановская. Она сказала такое, что все чуть не ахнули. Оказывается, ее родители были богатыми, владели заводами, миллионами ворочали. Но еще накануне революции, гимназисточкой, она ушла от них. Ушла в народ, чтоб бороться за его счастье. И счастлива, как может быть счастлив человек, если осуществляется его заветная мечта.
Никогда еще песочинская молодежь не слышала сразу столько горячих и разумных речей о своем будущем. Было в них и много незнакомых слов – о великих идеях социального освобождения людей, о переделке общества на социалистических началах, о грандиозном строительстве, которое партия коммунистов и советская власть развернут по всей России, но все они для Алешки сливались в одно манящее слово «коммунизм». Еще на Васюгане далеким ясным светом озаряло оно нелегкую жизнь коммунаров.
Звонким, напряженным голосом Тарановская стала звать и девушек и парней в комсомол.
В классе сразу наступила томительная и долгая тишина. Никто не осмеливался поднять руку и записаться первым. И тут снова выступила Прасковья Тихоновна. Сначала она рассказывала, как сама вступила в комсомол, и вдруг, прямо и ясно глянув Алешке в глаза, спросила:
– Ну почему вот ты, Бастрыков-Горемыкин, не подаешь голоса? Мне рассказывали, что твой отец был партизанским командиром, мать сожгли белые каратели, сам ты батрак. Кому же в комсомоле еще быть, если не тебе?
От неожиданности Алешка вспыхнул, словно его подожгли на бересте. Щеки сделались ярко-пунцовыми, на висках и на подбородке проступили капельки пота. А уж что творилось в нем самом, о том немыслимо передать словами, о том можно было лишь догадываться. В его душе, очерствевшей от невзгод и лишений, как-то угасшей и примолкшей после смерти отца, словно ударил набат от этих проникновенных слов учительницы и от участливых взглядов, которыми смотрели на него Тарановская и Хазаров.
Не зная, как совладать с собой, он встал и долго в замешательстве не мог произнести ни одного слова. Кто-то позади негромко хохотнул – уж больно растерялся парень, кто-то громко, на весь класс, сердито зашикал. А в глазах Прасковьи Тихоновны Алешка увидел такое понимание и такое сочувствие, что скованность его как рукой сняло.
– Не один я тут из партизанского корня. Вон и другие тоже! А что касаемо комсомола, то мне он по сердцу…
Алешка сказал это невнятно, тихо, себе под нос, но его все-таки услышали не только сидевшие за столом, но и на задних партах. Почин был сделан.
Вслед за Алешкой поднял руку еще один батрак – Мефодий Сероштанов. Осмелели и другие. Всего в комсомольскую ячейку вступило семь человек, восьмой была Прасковья Тихоновна.
С гомоном и шумом, как в престольный праздник, расходилась молодежь после собрания. В застуженном доме остались лишь комсомольцы. Тарановская и Хазаров стали подробно разъяснять, чем следовало бы заняться на первых порах комсомольской ячейке: оборудовать под клуб твердохлебовский крестовый дом, прочистить артезианский колодец, забитый ныне мусором, отремонтировать полуразвалившийся мост через Песчанку, подготовить спектакль (благо шефы привезли и пьесу под названием «Красный шквал»), каждую неделю по воскресеньям проводить (пока не подготовлен Народный дом – в школе) громкие читки газет и книг. И ко всему этому привлекать молодежь, не чуждаться и не отталкивать всех желающих.
Уже рассвет был недалек, когда составили, наконец, план работы ячейки. Минувший день показался Алешке далеким-далеким. В его жизнь входило что-то новое. Он комсомолец! Оказывается, мировая революция, о которой как о близком событии говорил Хазаров и участвовать в которой, по его словам, было священным долгом каждого комсомольца, оборачивалась для него простым и понятным делом: не сиди сложа руки, живи и действуй с пользой для всех!
Когда речь зашла о том, кого же избрать секретарем комсомольской ячейки, все дружно посмотрели на Алешку.
– Очень хорошо, очень правильно, – почти в один голос сказали Хазаров и Тарановская.
Алешка замотал было головой: он ведь окончил всего-навсего два класса, после гибели отца учиться ему не пришлось. Но Прасковья Тихоновна будто почувствовала, что он хочет сказать, и опередила его:
– Я знаю, что Алексей малограмотный, но это не беда. Я обещаю ячейке и нашим шефам за зиму пройти с ним программу еще одного класса, а если Бастрыков будет старательным, то и за два класса осилим.
– За мной дело не станет, – вспыхнув густым румянцем, сказал Алешка и опустил голову, скрывая смущение и радость.
Шефы пожили в деревне еще день-два и уехали. Весть об организации комсомольской ячейки дошла до каждой избы, в деревне судачили об этом и стар и мал. Не остался равнодушным к такому событию и Алешкин хозяин – Михей Колупаев.
– Эх, Горемыка ты, Горемыка, не в ту точку бьешь! – раздраженно выговаривал он Алешке во время работы в пимокатне. – Ну, посуди сам, зачем он тебе нужен, этот самый комсомол?! Шарахаются от него стоящие люди, как черт от ладана. Не просто теперь будет в дом к доброму хозяину войти. А ведь я хотел помочь тебе без корысти, потому сам все молодые годы ходил в твоем хомуте. Присмотрел я было тут одного хозяина. В Малой Широве живет. Дом крестовый на Городской улице, мельница, крупорушка, клади на полях с позапрошлого года. Дочь – одна-разъединая. И девка что надо: белая, тугая, как из натертого теста, косища – ниже пояса… Я уж и с отцом ее столковался. Вначале, конечно, про шерсть разговор завел. Я не дурак, а он тоже, видать, мужик не без царя в голове. Потом говорю как бы между прочим: «А что же, хозяин, сказывают, сынов у вас нету, а дом от достатка ломится. Небось зятя-то в свои хоромы зазывать станете?» – «Эх, говорит, хороший человек, сокрушает мою душу думка об этом». Я тут как тут. «Есть, говорю, золотой парень, с рукомеслом, силач, из себя приглядный – хоть картину пиши». И уж так, Алеха, тебя преподал, что у старика глаза загорелись. «Беспременно, говорит, должен увидеть я этого парня…» Понял, Алеха, куда ты можешь попасть?! Чуть не боярином сразу станешь! А ты в комсомол! Что он тебе, этот комсомол, пеструю телку на двор пригонит? Брось это дело! Отец твой тоже хотел равенство-братство на земле установить, да сам раньше времени землей накрылся…
Алешка слушал Михея, думал: «Ну комар! Вот комар! Зудит, тренькает в самое ухо! Ну, зуди, зуди сколько хочешь, мне от твоего нытья ни холодно, ни жарко!» Но когда Михей упомянул об отце, опалила Алешку ярость. В последние дни думал об отце все чаще и чаще, мысленно разговаривал с ним. Когда-то давным-давно на Васюгане сказал ему отец слова, которые зазвучали теперь в Алешкиной памяти, как живые: «…Работать хорошо будешь, учиться станешь, в Союз молодежи запишешься…»
– Ты моего отца, дядя Михей, не тронь, я за него любому горло перегрызу, – с дрожью в голосе сказал Алешка и остервенело заколотил тяжелым рубелем по горячей, парящей шерсти.
Михей не ожидал такого гнева от работника, посмотрел на него удивленно: «Вот тебе и тихоня, а как взъярился…»
– А я не хулю его, Алеха. А только жить-то дальше не ему – тебе. Соображай!
Об отце Михей больше не поминал, будто его никогда у Алешки и не было, но уговоров своих не оставил, точил ими душу парня упорно, неотступно, как точит ручеек твердь земную. А тут, на беду, объявился сам маложировский богатей. Алешка думал, что Михей приврал о своем разговоре с мельником, но вышло, что это была чистая правда. Мельник первым делом приперся в пимокатню и битый час из угла наблюдал, как Алешка справляется с распаренной в большом котле кошмой.
– Ну как, Иннокентий Кинтельяныч? – загадочно посматривая на Алешку, спросил Михей.
– И крепок, и проворен, – ухмыльнувшись в сивую бороду, сказал мельник.
Потом Михей и мельник ушли в дом и долго там о чем-то толковали наедине, осушив при этом попутно четвертную бутыль самогона. Пошатываясь, Михей проводил гостя за ворота и восторженно-сияющий вернулся в пимокатню.
– Ну, Горемыка, – закричал он от порога, – считай, что дом с мельницей у тебя в кармане! Сильно ты приглянулся маложировскому богатею.
– А мне, дядя Михей, было муторно смотреть на него. Зырит круглыми глазами, как филин, про себя, видать, счет минутам ведет: не замешкаюсь ли как-нибудь? Так и подмывало меня трахнуть его по сопатке…
– Ну-ну, Горемыка, полегче! Уже если что-то, трахнешь потом, когда хозяином станешь.
– Пустое ты, дядя Михей, задумал.
– Чурбан ты, Алеха! Дите неразумное! По гроб жизни будешь мне спасибо говорить…
Михей настроился рассуждать об этом и дальше, но вода из котла повыплескалась, и вдруг сильно запахло жженой шерстью.
– Ты мне, сукин сын, шерсть не изжарь! Развесил уши! – Матюгаясь, Михей бросился к печке – пригасить жар, но Алешка опередил его. Он схватил ведро, подбросил его над собой, и вода, как живой зверек, изогнувшись в полете, сиганула прямо в котел.
– Ах, Горемыка, и ловкач ты! Будь у меня дочь, ни за что бы тебя другому хозяину не уступил.
– Пьяный ты, дядя Михей, вот и несешь околесицу. Иди спи.
– Правду говоришь. Пойду. Управляйся-ка здесь один.
Михей ушел и с того часу к разговору о маложировском мельнике больше не возвращался. Алешка тоже призабыл хозяйскую болтовню, работал молча от рассвета до потемок, а после ужина убегал в школу – то на репетицию, то на занятия по арифметике и родному языку.
Однажды в середине зимы Михей сказал:
– Завтра, Горемыка, поедем в Малую Жирову за шерстью. Приоденься, конечно, как можешь. К невесте твоей завернем, посмотришь на свои будущие хоромы.
Алешка промолчал, недовольно посопел, но сопротивляться не стал. Благом ему показалось день-другой не торчать в смрадной пимокатне, не дышать серой пылью и вонючим паром, не обливаться едким потом.
Выехали рано утром, целый день колесили по хуторам и заимкам и только под вечер приехали в Малую Жирову.
В доме мельника будто ждали их. На пылавшей красными боками железной печке побулькивало, испуская аппетитные запахи, жаркое из баранины с картофелем. На столе – закуски, бутылки с самогоном.
Алешка попал с первого мгновения под обстрел хозяйских глаз. Мельник, его жена и дочь оглядывали его с ног до головы, как оглядывают новую покупку. Он смущенно переминался, в голове кляня и Михея и себя. Видимо, впечатление произвел он хорошее. Хозяева наперебой принялись приглашать его за стол, на минуту позабыв даже о другом госте – Михее. Но, судя по всему, тот был не в претензии за такое невнимание к себе. Подперев бока руками, он стоял с самодовольным видом посреди прихожей, мясистые губы расплылись в хитроватой ухмылке.
Не прошло и часа, как за столом стало шумно. Хозяин и Михей говорили, перебивая друг друга, и казалось, что в дом собрались мужики со всей деревни на сходку.
Дочь мельника зазвала Алешку в горницу. Мать прикрыла наглухо за ними дверь.
– А я тебя знаю, Алешенька. В окно Михеевой пимокатни на тебя целый час любовалась, ты и не видел даже, – беря его под руку, ласково сказала девушка. – Ты без рубашки был, весь как в дыму. Уж как я проклинала этот пар. Заслонял он тебя от моих очей.
Алешка растерянно осматривал горницу. Никогда ему не приходилось бывать в таких хоромах: до потолка вытянутой рукой не достанешь, по углам – шкафы, комоды, заставленные зеркалами и фарфоровыми зверьками, ящики с позолоченной обивкой. Кровать сияет шарами; белоснежные подушки вздымаются горой – не то что лечь, прикоснуться к ним боязно.
Мельникова дочь поняла, что парень ошарашен всем увиденным. Прижимаясь к Алешке своим горячим телом, она зашептала:
– Вот тут, Алешенька, жить с тобой будем. И все добро наше будет, ненаглядный мой…
Она положила его руку на свои плечи и начала с жаром целовать в губы. «Вот утащу ее сейчас на кровать, и будь что будет», – пронеслось в помутненном самогоном сознании Алешки. Он так сжал Мельникову дочку в объятиях, что у нее хрустнули кости.
– Ой, какой ты сильный, желанный мой! С такой силищей еще больше добра у нас будет. Новый дом на яру построим, – щуря от удовольствия глаза и увлекая парня в глубину горницы, к пышной белой кровати, ворковало мельниково чадо.
Не упомяни она в эту минуту о новом доме на яру, может быть, не устоял бы Алешка под напором взбушевавшейся плоти. Но слова эти, сказанные шепотом, как набат ударили его по барабанным перепонкам, острой болью отозвались в сердце. Вспыхнула в памяти картинка: изогнутый подковой Васюган, крутой, в обвалах, яр, крестовый дом Порфишки Исаева, похожий издали на беркутиное гнездо. И тут же еще одна картинка: тот же яр, только без дома, без леса, весь выжженный и мертвый от серого пепла, и берег, оголенный почти до самого горизонта.
«Там остяки красного петуха пустили, тут русские мужики его запустят. И поделом! На их крови это богатство замешено», – пронеслось у него в голове. Он сбросил с плеч горячие руки девки, попятился. И как только он посмел переступить порог этого дома?! «Ох, не похвалил бы меня за такие штуки тятя… Ненавистной была ему кулацкая жизнь. Пропади она пропадом, это мельниково отродье… Обнахалилась, лезет, бесстыжая…»
Алешка вышел в прихожую, стал торопить Михея: ночь на дворе, а по занесенному бураном проселку вскачь не помчишься.
Дорогой Михей принялся хвалить Алешку за решимость. Он, дескать, и сам в первую же встречу, задолго еще до свадьбы, сделал свою Феньку бабой, чтоб, не приведи господь, не передумали ее родители. Алешка угрюмо молчал, про себя решив – завтра же уйти от Михея.
– Как вступишь, Горемыка, в Мельниковы хоромы, – не умолкал хозяин, – совет с тобой буду держать: маслодельню хочу построить, а одному такого дела не поднять. Давай построим на паях!
– Ну что ты, право, взнуздал меня, Михей Демьяныч! – закричал Алешка не своим голосом. – Не бывать по-твоему! Ищи себе другого работника, а я тебе больше не слуга! Хватит с меня!
Алешка выскочил из кошевки и зашагал в сторону. То, что он собирался сделать только завтра, произошло сегодня. Хорошо еще, что случилось это вблизи от деревни. В избах поблескивали огни, из труб поднимались столбы дыма, обозначенные во тьме ночи летящими искорками, такими зазывными и веселыми.
Михей остановил коня, раз-другой крикнул в темноту, но, не дождавшись ответа, свирепо выругался и поехал к дому.
Алешка долго стоял, уткнув лицо от резкого ветра в воротник полушубка. Эх ты, доля батрацкая! Недаром же о тебе сложились в народе горькие, полные тоски и отчаяния, песни! Легко поругаться с хозяином, кинуть ему прямо в лицо: «Я тебе больше не слуга!» – но где вот в глубокий ночной час приклонить одинокую голову, где добыть кусок хлеба, чтобы утолить голод?!
Алешка прошел в один конец деревни, потом в другой. «Найти бы теплую баню, чтоб никому не докучать», – думал он, но бани обыкновенно топились по субботам, а сегодня был еще только четверг. Сколько раз за его короткую жизнь приходилось ему быть богаче всех богатых, подстилать себе всю землю, а одеваться целым небом! Но то бывало летом, а теперь земля лежала под снегом, скованная морозом, а небо переливалось бликами звездных дорожек, похожих на ледяные сосульки, от которых дуло мертвящей стужей.
Сам не зная каким образом, Алешка оказался возле большого дома, в котором раньше помещался кабак, а нынче – школа. В освещенное окно он увидел Прасковью Тихоновну. Ступая сторожко, так, чтобы не скрипел под валенками снег, Алешка встал на завалинку. Учительница сидела за столом и читала книгу. На ее плечах полушубок. Видно, в доме холодно. Лицо строгое, взгляд сосредоточен.
Алешка ощутил вдруг сильное желание зайти к Прасковье Тихоновне и рассказать обо всем, что произошло сегодня: рассказать без утайки, как Михей сватал его к мельниковой дочке из Малой Жировы, о своем разрыве с хозяином. Постучать бы в окно, чтобы открыла дверь! Но Алешка заколебался. Конечно, она комсомолка, с ней ему и хорошо и просто, он давно уже разговаривает с учительницей без всякого стеснения. А все-таки не стыдно ли будет за выпивку у маложировского мельника, за постыдную встречу с кулацкой дочерью? Алешка спрыгнул с завалинки, но не успел он шагу шагнуть, как услышал стукоток в окно и беспокойный голос:
– Кто там? Кого нужно?
Алешка обернулся. Прасковья Тихоновна, заслонясь от света лампы ладонью, прижала лицо к стеклу. Он не посмел убежать, вернулся: все равно его узнали.
– Заходи, Бастрыков! Сейчас отопру.
Алешка поднялся на крыльцо школы, и радуясь и печалясь. Поговорить с учительницей всегда приятно, как-то светлее становится на душе, но где же он найдет приют? Вечер перешел уже в ночь, а потом ни к кому не достучишься.
– Ты что, полуночник, в такую пору бродишь? – засмеялась Прасковья Тихоновна, пропуская Алешку в дверь. – Случилось что-нибудь?
– Случилось. От хозяина ушел.
– А ну-ка, расскажи! И пей вот чай, грейся. Дом как решето – тепла не держит.
Алешка, от природы бесхитростный и откровенный, ничего сейчас не утаил.
– А я приметила, что ты сумрачный ходишь, но, по правде сказать, и не предполагала, что тебя в кулацкий дом сватают, – сказала Прасковья Тихоновна. – Хозяин твой подлец из подлецов! Он отъявленный кулак!
Учительница задумалась, нахмурила свои крутые, резко вычерченные брови:
– Жалко мне тебя отпускать. Хороший ты парень. И работу в нашей ячейке мог бы поставить на «пять», а все-таки уходи в город! – Она опустила глаза, и по ее строгому, не по возрасту строгому лицу прошла тень уныния. – Ты, Алеша, хорошим бы товарищем мне был! Но Панка Скобеева – комсомолка и не может поступить по соображениям личной выгоды, – сказала она о себе, как о ком-то постороннем, с подчеркнутой твердостью в голосе.
Легко сказать: уходи в город! А куда? Кто тебя там ждет? На чье дружеское плечо сможешь ты опереться в этом самом неизведанном, чужом городе?!
Прасковья Тихоновна угадала его думы.
– Во-первых, я тебе письмо в горком комсомола дам. Сходишь туда. Ребята не оставят в беде. Во-вторых, напишу нашему шефу Хазарову. Ну и, наконец, у меня же отец в городе. Он всегда тебя приютит… – Она вновь задумалась. Какие-то сомнения все же обуревали ее. Встряхнув по-мальчишески стриженной головой, она сказала, как о чем-то решенном окончательно и бесповоротно: – Да, да, уходи в город!.. И вот что, Алексей: попробуй узнать правду о гибели своего отца…
Алешка вспыхнул огнем. И откуда только знает она его сокровенные думы? Все чаще и чаще хотелось ему думать об отце. Именно хотелось, очень хотелось. И все сильнее и сильнее стучалось в его сердце желание поехать самому на Васюган, припасть к земле, где пролилась кровь коммунаров, и попытаться приподнять завесу, которой окутан был тот давний трагический случай.
– На-ка вот тебе на дорогу. Дала бы больше, да нету, – пристукивая о стол двумя серебряными рублями, сказала Прасковья Тихоновна.
Алешка сконфузился, отодвинул рубли к чайнику. Учительница вскочила, щеки ее покраснели.
– Попробуй отказаться! Это не по-товарищески!
Алешка покорно взял деньги, встал. Можно было и уходить. Но куда уходить? Единственно куда – в ночь, в темень, на мороз. Он все-таки надел шапку, шагнул к двери. Она вернула его:
– Да ты в уме?! К рассвету оледенеешь. Ложись-ка здесь, на скамейке. Вот тебе мой полушубок, вот моя думка. А я обойдусь без нее.
Он сконфузился еще больше. Рядом ее кровать – правда, не такая белоснежная и пышная, как у мельниковой дочери, но все-таки опрятная, девичья. И опять она угадала о чем он думал.
– Ложись и спи, Алексей. И не думай, я к тебе не приду. Та маложировская девка не просто девушка, а еще и кулачка! Мы же с тобой товарищи по борьбе. Понял?
Алешка лег. Она загасила лампу, кровать легонько скрипнула.
Прасковья Тихоновна уснула быстро, дышала спокойно. А он не спал, перебирал в памяти все события минувшего дня, думал о ней: «Останется тут с кулачьем одна. Ребята плохие еще помощники. Вроде меня, а то и послабее».
Утром он сходил к Михею, под громкую брань хозяина забрал свой сундучок с вещами и, запрятав в карман верхницы письма Прасковьи Тихоновны, отправился в далекий, неизведанный путь.
Глава вторая
Текли воды в реках, шумели ветры над землей, время укладывало свой неостановимый бег в недели, месяцы, годы, но ничего не могло выветрить из памяти Надюшки событий того ужасного дня.
Помнилось ей, как отбежала она от заимки, может быть, сто, может быть, двести шагов. Взрыв не просто оглушил – резко и больно ударил по ушам. Ей показалось, что земля под ней задрожала мелкой дрожью, а потом заколыхалась волнами. И все-таки не это было самым страшным. Пронзая гул взрыва, свист вихря, над тайгой разнесся крик, нет, не крик, а предсмертный вопль гибнущего человека. Надюшка не то что узнала голос Лукерьи, – узнать его было невозможно, – она всем своим существом почувствовала, что это был последний след жизни той, которая только что прижимала ее к себе. Надюшка упала на землю, вцепилась ногтями в корневища деревьев, понимая: произошло что-то ужасное и непоправимое.
Вероятно, она долго лежала в беспамятстве. Очнулась от беспрерывного треска, будто кто-то над самой головой разрывал холстиновые полотнища. Подняв голову, она увидела, как по макушкам кедров скачет огонь. На мгновение почудилось, что это не огонь, а какой-то неведомый ей зверек, очень ловкий, стремительный и хищный. Зверек то вытягивался, охватывая своим лентообразным туловищем макушку дерева, то сжимался в клубок и прыгал на соседнее дерево. Смотреть на его проделки было хоть и жутко, но интересно. Испуг метался в глазах Надюшки, но она лежала на тропе как завороженная.
Вдруг ветер, дувший в это утро с реки, переменился. После короткого затишья тугими и резкими порывами он ударил откуда-то из глубин тайги. И тут красный зверек, метавшийся по верхушкам кедров, в одну минуту превратился в крылатое чудовище. Его крылья увеличивались с каждым мгновением. Вначале они были широкие, как скатерти, потом выросли и стали длинными, как дедкин стрежевой невод. Теперь это чудовище захватывало в свои объятия не одно и даже не десятки деревьев, а целые островки кедровника. Лес наполнился смрадом, небо, и без того сумрачное, еще больше насупилось.
Надюшка вскочила и, видя, что одно крыло чудовища простирается уже к берегу, как бы беря в полон дедову усадьбу, побежала по тропе, надсадно крича:
– Матушка Устиньюшка, огонь в тайге!
Но ветер гасил Надюшкин голос в пяти шагах от нее самой. К тому же Устиньюшке сейчас было не до Надюшки. Проводив офицеров и мужа в путь – кажется, на Белый яр, в коммуну, она поспешила в дом, легла на свою пышную кровать и уснула мертвым сном. После вчерашней ночной попойки противно ломило в висках, болело в груди.
Надюшке стоило больших усилий привести матушку Устиньюшку в чувство. Та долго отталкивала девочку от себя. Когда наконец хозяйка поднялась, багровые блики приближавшегося огня уже заглядывали в окна горницы.
Минуту Устиньюшка сидела на кровати полуголая, в одной короткой сорочке, оцепеневшая. Потом, схватив со стула платье, с лихорадочной поспешностью натянула его на себя и бросилась к окну. И большой исаевский дом огласился такими истошными причитаниями, что Надюшка не вынесла и выбежала на крыльцо.
Таежный пожар растекался все шире и шире. Потоками ветра дым прижимало к земле, но возле реки, где берег обрывался, клубы круто вздымались и уплывали в небо, будто по невидимой трубе. «Неужели дедка не видит, что сгорит тут все?» Надюшка испытывала такой дикий страх, что зубы ее выбивали дробь.
– Дедка, дедка, ну где же ты? – закричала она, выбегая на самую кручу и с надеждой вглядываясь в даль нижнего плеса, куда совсем недавно уплыли Порфирий Игнатьевич и его связчики по кровавому делу.
Но на реке было пусто. Ветер ворошил воду, вздымал волны, и они с тревожным шумом бились о берег.
«Да что же ты стоишь тут как мертвая? Коров и коней скорее надо со двора выгнать. Огонь подступает!» Эта мысль словно пронзила Надюшку. Она кинулась к дому, но навстречу ей бежала вся раскрасневшаяся, с взлохмаченными волосами матушка Устиньюшка. В ее руках была увесистая палка, которой она размахивала с ярым ожесточением.
– Это та подожгла! Та! – вопила Устиньюшка, и лицо ее было перекошено злобой. – А ты, паскуда, ты почему меня раньше не разбудила? Заодно с той! – Палка просвистела над головой Надюшки. Не увернись она от удара, лежать бы ей с разбитым черепом.
Устиньюшка больше озлобилась от своей неудачи. Палка снова взлетела, и снова Надюшка ускользнула от удара.
– Дед убьет нас с тобой, паскуда! Так я тебя сама, сама порешу! – Устиньюшка, как раненая волчица, ринулась на девчонку.
Но тут, на яру, Надюшка знала каждый уголок, каждую щелку в земле. Здесь в редкие часы, не занятые работой, она понарыла ямы с потайными выходами прямо на обвалы яра. Спасаясь от погони, Надюшка сиганула в такую ямку и будто растаяла перед Устиньюшкой.
Та сунулась в ямку и тотчас же отпрянула. Ямка была явно не по ее телесам. Кляня Надюшку, толстуха побежала назад, к дому.
– Все равно тебе не жить, падла ты такая! Я тебя не порешила, дед тебя прибьет! – надрывая голос, кричала она.
Работая плечами, Надюшка пролезла по узкому извилистому ходу к обрыву яра и здесь, в отверстии, похожем на птичье гнездо, затаилась. Тут ее не только матушка Устиньюшка не достанет, но и сам дед днем с огнем не найдет. И пожар здесь не страшен. Вблизи никаких деревьев, до усадьбы тоже далеко. Зато вся река как на ладони, а чуть приподымись, виден и дом, и двор, и огород с почерневшей от дыма баней.
Надюшка втиснулась в самый дальний и тесный угол ямы. Худую спину и острые плечи обняла прохладная земля. Песок ручейком потек по шее и рукам. Девочка еще больше съежилась, затаилась, как птаха перед грозой. Но страх, обуявший ее при виде Устиньюшки с палкой, улегся. Зубы не выбивали больше дробь. Пожар, надвигавшийся на усадьбу, не казался уже угнетающе страшным. «Ну и гори, злюка, с нахапанным у остяков добром, гори, змея подколодная!» – думала Надюшка, и это-то чувство жгучей ненависти, опалившей ее сердчишко, и вытеснило страх, который только что безжалостно сгибал в три погибели.
Теперь все, что происходило на берегу, Надюшка представляла по звукам и запахам. Вот на реку надвинулся густой смрадный дым. Он расползался над водой клубами и был такой едкий и горячий, что у Надюшки заслезились глаза. Запах смолы и горелого моха пропитал воздух. Дышать становилось все тяжелее. Вот дико, совсем не так, как обычно, замычали коровы, остервенело заржали лошади, надсадно загорланили петухи. Потом раздался треск в одном месте, в другом, и Надюшка поняла, что огонь охватил усадьбу с разных сторон…
«Ой, сгорит все, и придется жить в прокопченной бане», – с острым беспокойством подумала девочка.
– Надо бы огонь-то землей забрасывать, – вслух произнесла она, вспомнив, как однажды на лугах, спасая от пожара сено, дед с остяками гасили огонь не водой, а землей.
Надюшка высунулась из своей норы. В ее порыве угадывалась готовность добежать скорее до усадьбы, взять лопату и вступить в схватку с пожаром. Но, едва высунув голову из ямы, она поспешила юркнуть назад. Горели надворные постройки, амбар, конюшня, хлев. Занимался огнем и неподступный дедов дом. Пламя потекло по сухой тесовой крыше и возле трубы заполоскалось на ветру, как лоскут от изорванной рубахи. Простое любопытство пересилило страх, и Надюшка вылезла из норы, встала на кромке ямы.
– Маменька ты моя родная, и зачем ты меня родила? Все сгорит, все до нитки, – забормотала Надюшка, беспомощно сложив на животе свои натруженные руки.
Вся усадьба была в дыму, который плотно обложил горевшие постройки и, пронзаемый вспышками пламени, клокотал и клубился, как варево в котелке на жарком костре. Но вот сквозь слой дыма Надюшка рассмотрела очертания человеческой фигуры. Она сразу угадала, что это мечется Устиньюшка. «Увидит меня, прибьет насмерть», – подумала девочка и заспешила обратно в яму. Она снова протиснулась в самый дальний угол и, стараясь устроиться здесь поудобнее, вытянула ноги, а голову положила на песчаный выступ. Горькие мысли теснились в голове Надюшки. Она думала о деде, который привык тут, на Васюгане, быть царьком и вот в одночасье обеднел. Представила, как будет потрясен Порфирий Игнатьевич, когда увидит с реки пустой яр и дымящиеся головешки на месте усадьбы. Наверное, закричит благим матом. Кинется с кулаками на Устиньюшку, и… хорошо, что Надюшка вырыла этот потайной ход. Она прятала здесь свои самодельные тряпочные куклы, играла с ними, как с настоящими, живыми ребятами, и никогда не предполагала, что яма потребуется ей не для игры. Чувство жалости к деду шевельнулось в ней, но мысли ее перенеслись к Алешке. Они, эти кровожадные офицеры, поехали убивать коммунаров. Может быть, Алешки уже нет в живых. И дед Порфирий Игнатьевич поехал с ними, он тоже будет убивать людей. Нет, что бы ни случилось с ним, она не станет жалеть его. Коль замыслил злое, кровавое дело, то знай, что и тебе пощады не будет. От взрослых Надюшка не один раз слышала, что Бог, тот самый, который все знает, все видит и которому все подвластно на земле и на небе, направляет к людям своих посыльных и те творят, над кем надо, суд божий. «Может быть, тетя Луша-то и была послана от самого Господа Бога», – размышляла Надюшка. Уж больно все совпало: появление двух свирепых офицеров, поездка на расправу с коммунарами и этот пожар, как бы вспыхнувший в отместку и деду, и всем его связчикам. Надюшка лежала, думала и, сама не зная, в какую именно минуту, закрыла глаза и уснула.
Очнувшись, она долго прислушивалась. Но никакие звуки, кроме плеска волны, не донеслись до нее. На четвереньках она выползла по потайному ходу из своей норы и подняла голову. Ни дома, ни амбара с конюшней, ни высокого забора уже не было. Груды головешек, пылая жаром, дымились по всему берегу. Сделав свое дело, пожар наперекор ветру уходил теперь все дальше и дальше в тайгу.
Надюшка хотела пойти посмотреть, уцелел ли скот, смогли ли коровы и кони выломать ворота. Но, сделав два шага, она увидела Устиньюшку. Та бродила по кромке яра, сама на себя непохожая. Юбка и кофта висели на ней клочьями, полуобгоревшие волосы были распущены, и спутанные, взлохмаченные космы беспорядочно свисали на плечи и спину. Вдоль берега стояли два сундука, стол, навалом лежала посуда, одежда и разная домашняя рухлядь. Это было все, что Устиньюшке удалось вытащить из дома.
«Может быть, она умом рехнулась?» – подумала Надюшка и, стараясь оставаться незамеченной, бросилась на землю и снова юркнула в яму. В самом начале потайного хода у Надюшки была вырыта боковушка на манер печурки. Здесь она держала кое-какой пищевой припас: кусочки хлеба, сухари, ячменные зерна, конопляное семя. Когда в ее трудной, одинокой жизни выдавались редкие свободные минуты, она любила бросать это птичкам, сидя где-нибудь поблизости, наблюдать за ними. Но теперь она сама была голодна – ведь ела еще на рассвете, и то кое-как, на ходу, не присев даже к столу, а сейчас день уже перевалил на вторую половину. Надюшка засунула руку в боковушку и вытащила узелок. В тряпке было целое сокровище! Белый сухарь, ломоть черного хлеба, две-три горсти кедровых орехов и смесь самых разнообразных зерен. Девчонка принялась уплетать за обе щеки. Поев, она бережно завернула остаток зерен в тряпку и положила в боковушку. Жаль было птичек, которые не воспользуются сегодня ее щедростью, но жизнь не сулила пока ничего хорошего, и приходилось беречь даже неразмолотые зерна. К тому же и птичек-то не было: испуганные пожаром, они улетели на луга, за реку.
Надюшка снова улеглась, положив голову на песчаный выступ. Ей очень хотелось заснуть, чтобы хоть на час-другой уйти из этой страшной жизни. Но сон не шел, и в голове мелькали обрывки каких-то далеких-далеких воспоминаний, и вдруг поток их обрывался, в глазах вставали Алешкина белокурая голова, залитая кровью, его глаза, то потухающие, то, наоборот, живые, широко открытые, горящие задором. От этих видений Надюшка металась в своей норе, стонала, плакала.
Стало уже вечереть, когда до нее донесся с реки стук весел. Надюшка подползла по извилистому ходу к самой кромке берега и высунулась. Перед ней простирался Васюган, его песчаные отмели и косы. Она поняла, что это возвращаются они. Надюшку затрясло. Холод страха, смятения, ненависти к убийцам охватил ее с головы до пят. Ей захотелось, назло им, выбежать на самую кручу яра и броситься вниз головой в омут – пусть они знают, что она не хочет быть рядом с ними, не хочет дышать с ними одним воздухом, что они ненавистны ей.
Но руки и ноги ее одеревенели, и она с ужасом подумала, что этот ров и эта яма станут ее могилой.
А лодки приближались, и она уже различала тревожный говор людей, становившийся все более слышным и все более торопливым. Ей хорошо было видно и то, что происходило с Устиньюшкой. Завидев лодки, она засуетилась на берегу, кинулась к лестнице причала, но, постояв над ней с минуту в размышлении, побежала куда-то вдоль берега. Временами она останавливалась, осматривала ямки и бежала дальше. Надюшка без ошибки поняла, что ищет хозяйка. Она искала Надюшку, чтобы всю вину за пожар свалить на девчонку, выставить ее под грозный удар хозяина. Надюшка прижалась к земле поплотнее, решив в случае опасности уйти в нору.
Лодки причалили к берегу. Порфирий Игнатьевич отделился от других и заспешил по деревянной лестнице на кручу. Устиньюшка возвратилась на яр и, какая-то совсем растерянная, чумазая от копоти и от золы, стояла в ожидании, с опущенными руками.
Едва Порфирий Игнатьевич ступил на кручу, Устиньюшка упала и заголосила. Надюшке трудно было понять ее слова – они тонули в рыданиях и всхлипах. Порфирий Игнатьевич раз-другой ткнул жену сапогом в бок, остервенело закричал на нее, но неожиданно, сменив гнев на милость, склонился над ней, помог подняться.
Офицеры, взошедшие на кручу, окружили их, возбужденно заговорили, пораженные всем происшедшим. И вдруг над этим говором возвысился голос Порфирия Игнатьевича:
– Ты меня по миру пустил, господин Ведерников! Ты привез ее из коммуны! Ты думал: она простая шлюха, а она видишь что сделала! Ты! Ты! Господин полковник, рассудите! А не то я сам…
Порфирий Игнатьевич бросился на Ведерникова. По-видимому, его осадили, так как послышались грубые мужские голоса, ругань и выстрел. Ругань сразу оборвалась, и теперь в наступившей тишине заговорил полковник Касьянов:
– Злее будешь против них, Порфирий Игнатьич. А добро наживешь. Остяков покрепче прижимай. Победа наша наступит – твоих заслуг не забудем. – Он помолчал, вздохнул, с ноткой сочувствия в голосе продолжал: – Ты, Исаев, не сердись, что я выстрелил. В чувство хотел вас с Ведерниковым привести, чтобы не допустить кровопролития между своими. Мы на рассвете все уйдем в верховья Васюгана, а ты оставайся и знай в случае чего: всё остячишки сделали – и коммунистов перебили, и тебя подожгли…
Порфирий Игнатьевич захныкал, и слезы его показались сейчас Надюшке отвратительными до омерзения.
– Небось когда Алешку убивал, не плакал, душегуб, – прошептала она.
– Ты слышал, Исаев, что я сказал? Остячишки все сделали! Для них каждый русский – враг!
– Понял я вас, ваше высокоблагородие, понял! А только кто я теперь? Нищий! Трава! Любой остяк меня броднем раздавит.
Касьянов промолчал. Трудно было в таком положении говорить какие-нибудь слова утешения. Все переминались, судорожно позевывая, смотрели на широкую, черную от углей поляну, дымившуюся кое-где из подземелья не погасшими еще корневищами.
– Подпоручик Ведерников, – вдруг строго сказал Касьянов, – бабу из коммуны найти и сейчас же расстрелять.
– Слушаюсь! – сдавленным голосом произнес Ведерников. Он изменился в лице, однако пристукнул каблуками и ощупал пистолет, оттопыривший карман простенького, в серую полоску пиджака.
И тут в разговор вмешалась Устиньюшка. Поохивая, она сообщила, что ту, привезенную господином Ведерниковым, бог уже наказал. На ложбине, где раньше была заимка, она видела ее ногу, оторванную и искореженную. Видимо, коммунарка проклятая попала под взрыв порохового склада.
– Собаке – собачья смерть! – произнес Порфирий Игнатьевич и торопливо, с истинным удовольствием перекрестился.
– Вот они какие! Ради своего дела собственной жизни не щадят! И только одно смирит их с нами – смерть! – Касьянов сжал кулак и потряс им, и все покосились на него с затаенным страхом, чувствуя, что полковник опьянен кровью коммунаров.
С особенной боязнью смотрел на него Ведерников, и в своих опасениях он не ошибся.
– Подпоручик Ведерников за свое легкомыслие заслуживает расстрела, – сказал Касьянов и надолго замолчал. Ведерников побледнел как стена, но Касьянов продолжал: – Однако, братья, нам предстоит еще борьба, и он искупит свою вину отвагой.
Касьянов подал руку Ведерникову, а тот снова пристукнул каблуком и почтительно склонил голову.
– Вот как, Порфирий Игнатьевич, на войне, – повернулся Касьянов к Исаеву. – Думали погулять у тебя по случаю успеха, а вышло… что и поужинать нечем.
Но поужинать у Исаева все-таки было чем. Огонь прошелся по земле, а у Порфирия Игнатьевича немало хранилось добра в погребах. Живя с остяками на ножах, он всегда побаивался их мести, прятал свой достаток подальше. Был у него на противоположном берегу, на гриве, поросшей сосновым лесом, в окружении лугов, и новый пятистенный дом, в котором в пору сенокоса жили приезжавшие из Каргасока и Югина поденщики, но тащить туда офицеров Исаев не захотел. Там же, на лугах, нагуливало жир и мясо стадо нетелей и бычков.
«На прощанье последнее зачистят», – думал он об офицерах. И как ни велики были его потери, жить нужно было. Гости его не только ради себя там, на Белом яру, старались, от их ненависти к коммунистам была прямая выгода и ему. Он превозмог свое горе, решил пригасить его хлопотами. К тому же офицеры торопились, им некогда было сочувствовать ему без конца. Да и задерживать их после того, что только что случилось в коммуне, не входило в его расчеты. Пусть себе едут куда знают!
– Пойдем-ка, Устиньюшка, пошаримся в погребе, может быть, что и найдем на варево. А вы тем временем, господа, костер налаживайте, – сказал слабым голосом Порфирий Игнатьевич и, постаревший сразу лет на десять, согнувшийся, зашаркал к пепелищу. Но, сделав два-три шага, он остановился, спросил жену, шедшую вслед за ним:
– А где же девчонка, Устиньюшка? Она, неразумная, не сгорела у тебя?
То ли от всех переживаний, отбивших ей память, или по какой-то затаенной бабьей хитрости Устиньюшка всплеснула руками.
– Ой, Порфиша, золотой мой, где же она в самом-то деле? Тут она была, тут! Дом стал заниматься – она к скоту бросилась, коров и коней выпустила. Слава богу, все до едина уцелели. Может быть, она со скотом, под яром?
– Надюха! Надюха! – раза два крикнул Исаев, но на его зов никто не откликнулся.
Надюшка сидела в своей норе затаив дыхание и почти все видела и слышала из того, что происходило сейчас на берегу. «Значит, кони и коровы сами ворота выломали», – догадалась она.
Офицеры тоже обеспокоились исчезновением внучки хозяина. Они разошлись в разные стороны по яру, но вернулись ни с чем.
– От страха могла и сгореть. Совсем ведь еще дитя! – воскликнул Касьянов со вздохом.
Надюшка с первого взгляда определила, что очкастый Касьянов есть самый главный и самый безжалостный убийца, и эти слова о ней, произнесенные с оттенком жалости, перевернули ей всю душу. Дав себе слово просидеть в норе до той самой поры, пока не сгинут с глаз эти люди-звери, она с большим трудом сдержалась, чтобы не выскочить и не крикнуть ему в лицо, как она ненавидит всех их.
Но вскоре о Надюшке забыли. Исаев добыл из потайных погребов четверть водки, лопатку вяленого лосевого мяса, соленую рыбу. Уцелела от пожара и кухонная утварь. На жарком костре Устиньюшка быстро обжарила мясо и, нарезав его крупными ломтями, подала гостям.
Все быстро опьянели и говорили громко, наперебой. Надюшка вылезла из своей норы и вслушивалась в разговор пьяных. Ей очень хотелось по какому-нибудь слову или по обрывку разговора узнать, что же произошло в коммуне, удалось ли офицерам перебить коммунаров и остался ли в живых Алешка. Но офицеры говорили обо всем на свете, не упомянув ни разу о событиях истекшего дня. Можно было подумать, что так и сидят они тут, на берегу, с самого утра, никуда не отлучаясь.
В полночь погода резко переменилась. После короткого шквалистого ветра пошел сильный дождь. Возле костра растянули брезент, а Надюшка, чтобы не вымокнуть, залезла в глубь норы.
Спала ли она или просто лежала в забытьи, потеряв счет часам, – Надюшка сама не знала, но, услышав топот по лестнице, она вылезла из норы посмотреть, что происходит.
Нагруженные сумками, с винтовками на плечах, офицеры грузились в лодки. Над Васюганом занималось белесое, тихое утро. Река была прикрыта пеленой тумана. Дождь погасил пожар – очистил воздух от копоти, и пепельная земля, в черных обугленных пеньках, казалась выжженной навсегда.
Вот лодки скрипнули днищами по песку, застучали весла, и откуда-то уже из тумана донесся протяжный голос:
– Спасибо, Порфирий Игнатьич! Спасибо!
Порфирий Игнатьевич стоял на песке, возле самой воды, и слегка помахивал картузом.
Не только Надюшка, но даже сам Исаев не знал в точности, куда направились офицеры, каков их дальнейший план. Но по тому, что они плыли вверх по Васюгану, а не вниз, он догадывался, что они хотят до заморозков продержаться на васюганских неподступных болотах, а когда болота замерзнут и появится зимник, выйти в Омск или в Новониколаевск.
Исаев поднялся по лестнице, о чем-то пошептался с Устиньюшкой, и они торопливо зашагали прочь от реки. Когда они скрылись за обгоревшими пеньками, Надюшка выбралась на свет, глубоко вздохнула и потянулась, разминая затекшие суставы.
«Мамушка моя родная, – мысленно шептала Надюшка, – неужто еще когда-нибудь приключится такой страшный день? И зачем ты меня породила, привела в этот распроклятый край, заставила жить с нелюбимыми людьми? Уж не лучше ли мне набросить веревку на шею и повиснуть вот тут под лестницей?»
Но прошло десять минут, полчаса, брызнул сквозь туман солнечный луч, и Надюшка почувствовала, что крайняя степень ее отчаяния миновала. «А может быть, коммунары не дались им? И Алешка живой-здоровый», – думала она. От этих мыслей на душе становилось легче, вновь появлялось желание жить. «Только бы подрасти немного. Еще годок-два. Ни за что не буду жить с дедом и с матушкой Устиньюшкой. Уйду в Югино, а то и в Каргасок, наймусь в няньки, буду вольной птицей», – думала девочка. Под яром у реки Надюшка увидела коров. Они протяжно мычали, лезли в воду, вздевали на рога мокрый песок, и Надюшка поняла причину их беспокойства: второй день они были не доены. Она схватила ведро, валявшееся среди имущества, спасенного Устиньюшкой, и побежала по лестнице вниз.
Выдоить трех коров было нелегко, но Надюшка привыкла надрываться на тяжелой работе безропотно.
Когда она взобралась на лестницу с полным до краев ведром парного молока, к биваку подошли Порфирий Игнатьевич и Устиньюшка. Как бы они к ней ни относились в другое время, теперь, увидев девочку целой и невредимой, да еще с ведром свежего молока, оба обрадовались.
– Здравствуй, доченька! Ты где же ночью-то была? Мы вон с матушкой изболелись из-за тебя, – ласково заговорил Порфирий Игнатьевич, отбрасывая в сторону лопату, с которой подошел к костру.
– Хозяйка она у нас, Порфирий Игнатьевич. Вон, вишь, молочка нам припасла, – сказала Устиньюшка и хотела потрепать Надюшку по плечу. Но та ловко отстранилась, передвигая ведро с молоком от себя подальше.
– А что ж вы не крикнули мне? Я с коровами была, под яром. Прибежала бы, – ставя ведро на землю и как-то нарочно не глядя на старших, сказала Надюшка с некоторым вызовом в голосе.
– Шумели тебя, дочка, с вечера еще, а ты, видать, не слышала, – не замечая этой вызывающей нотки в голосе девочки, сказал Порфирий Игнатьевич и, посмотрев на нее в упор, вдруг сморщился, стянул морщины со всего лица к переносью и заплакал, приговаривая: – Обеднели мы, доченька, разорились… Ни дней, ни ночей теперь не придется считать, чтоб сгоношить кое-что по домашности.
Заплакала и Устиньюшка. Она всхлипывала, приговаривала вполголоса:
– Когда теперь все снова наживем? Господи, господи наш милосердный…
– Господь, он всему счет ведет. И добру и злу… – Надюшка произнесла эти слова, до конца не разумея всего их смысла, просто потому, что от кого-то слышала их раньше.
– Ты что это сказала? – вздрогнув, как от удара хлыстом, спросил Порфирий Игнатьевич.
Устиньюшка тоже перестала плакать, выразительно переглянулась с мужем, и Надюшка заметила, что в глазах женщины вспыхнула злоба. Была б ее воля, она тут же вколотила бы девчонку в землю!
Надюшка заметила все это и поняла, что за такие слова с нее еще спросится. И хоть была она еще совсем ребенок, без опыта, без знания самых обычных истин жизни, за последние дни мир людских взаимоотношений разверзся перед ней во всей своей наготе и суровости, и она, сама того не ведая, стала гораздо старше своих лет.
– Что сказала-то? А я то сказала, дедуня, что Господу Богу надо прилежно молиться. Он все видит, все знает, как ты к нему, так и Он к тебе.
– Вот уж истинная правда, доченька. Молись, молись, и Господь Бог воздаст тебе благо! – обрадовался такому повороту ее мыслей Порфирий Игнатьевич.
Устиньюшка с недоверием посмотрела на Надюшку, но, не заметив на ее озабоченном лице никакого лукавства, тоже вставила свое словечко:
– Несказанно душу успокаивает слово божье, Надюшка!
Девочка поняла, что вышла из этого поединка победительницей. Был миг, когда она чуть не сорвалась и не высказала все, что теснилось в ее уме. Ну и чего же она достигла бы? Жестоких побоев, а может быть, и смерти. Нет, так просто отдать себя на растерзание она уже не могла. Жизнь вдруг открыла перед ней тайну, о которой она раньше и не догадывалась: ум сильнее силы, и только умом можно победить неправду, коли ты слабее других.
– А где же мы теперь жить-то будем, дедуня? – спросила Надюшка, снова ощутив интерес к жизни и желание что-то делать.
– Поедем, доченька, в свой дом, на ту сторону. Хорошо вот еще, что дедуня твой срубил его. Не будь этого домика, хоть в шалаше живи. Давай-ка вон помогай матушке собрать всякую ремузию.
И вот началось переселение с одного берега на другой. Оно продолжалось целых три дня! Вначале перевозили то, что удалось вытащить из дома. Потом стали перетаскивать добро из погребов. Порфирий Игнатьевич боялся, что на пожарище могут нагрянуть остяки и опустошить погреба. Наконец, предстояло перегнать коров и коней. Но это было уже не так трудно. Скот на Васюгане обычно никем не пасется, он свободно бродит на заливных выгонах, но за лето хозяева несколько раз перегоняют его с берега на берег на сочные свежие корма, которые освобождаются от воды, начиная с июня и до осени. Скот привыкает к реке, вплавь пересекает ее на мелких и тихих плесах. Только погоняй его хворостиной, чтобы он понял, что от него требует человек.
Работали в эти дни от темна до темна. Но Надюшка сумела все-таки урвать свободный часок и сбегать на место заимки, посмотреть, не осталось ли каких-нибудь следов от Лукерьиной жизни здесь. Нет! И постройки и лес были выжжены дотла. В одном месте Надюшке показалось, что земля взрыта, потом притоптана вместе с золой и углями. Но она не задумалась над этим. Она представить себе не могла, что это место и было могилой, в которой покоились останки Лукерьиного тела, наспех захороненные Порфирием Игнатьевичем и матушкой Устиньюшкой.
Через несколько дней домовитая Устиньюшка привела новый дом в порядок. Все пошло своим чередом, и временами Надюшке казалось, что происшедшее на яру – страшный сон, что всего этого не было, как не было и Алешки-коммунара, и Лукерьи, и злого очкастого офицера Касьянова, учинившего смертоубийство.
Снова стали приезжать к деду остяки и русские батраки из Каргасока и Парабели. Одни из них косили на лугах, других дед отправлял на работу на васюганские и обские плесы, третьи уходили в тайгу промышлять зверя и птицу. Дед умел чинить с ними торг и расплату где-то на стороне, и они чаще всего даже не появлялись в доме.
От кого-то из приезжих Надюшка узнала, что коммуна снялась с Белого яра. Но кто из коммунаров был убит, да и убит ли – об этом она в точности допытаться не смогла. Одни говорили: кто-то убит, другие в неведении разводили руками.
Однажды, уже осенью, в дом на Сосновой гриве приехали какие-то начальники из Парабели. Порфирий Игнатьевич и матушка Устиньюшка очень обеспокоились, потому что начальники настойчиво расспрашивали их о коммуне, о приезде Бастрыкова к Исаеву, о связях коммуны с остяками, о пожаре, уничтожившем усадьбу Исаева.
И сам Порфирий Игнатьевич и Устиньюшка твердили одно и то же:
– Остячишки… их это рук дело. Умеют они прятать концы в воду. Не первый год с ними живем, хотят, чтоб на Васюгане ни одного русского не было!
Начальники переночевали в доме Исаева, утром снова посудили-порядили возле лодок и отправились в Югино. Там они арестовали трех остяков, подозреваемых в преступлении, и увезли в Парабель. Среди арестованных оказался и остяк Мишка, бывший доверенный Порфирия Игнатьевича. Но перед рекоставом за отсутствием улик остяков освободили, и они вернулись к своим семьям как ни в чем не бывало.
После этих происшествий все замолкло на целых семь лет. Шумели ветры, текли васюганские воды… Надюшка росла, менялась год от году.
В девчоночье время была она худенькой, невидной замухрышкой, с волосенками, торчавшими, как солома. В подростковую пору вытянулась, раздалась в кости. Реденькие темно-русые волосы пошли в рост. Зазолотилась на спине длинная толстая коса. В шестнадцать лет Надюшка округлилась, пополнела. На продолговатом, иконописном лице с прямым носом, черными, сильными бровями светились ясные, голубые глаза с небольшой, чуть заметной косинкой, придававшей лицу не проходящее никогда удивление. Все в ней было аккуратным в меру ее хорошей, ладной стати, все, кроме, пожалуй, рук – излишне крупных, узластых, недевичьих.
Но чем больше набиралась Надюшка сил, тем больше взваливала на нее работы матушка Устиньюшка.
Пожар подорвал богатство исаевского дома, и дед с Устиньюшкой не щадили ни себя, ни других, чтобы скорее добиться прежнего достатка. Однако легко это говорилось, сделать же было труднее.
Убрав с пути коммуну, Исаев решил, что теперь он снова на Васюгане «бог, царь и воинский начальник», но он жестоко ошибся.
Как ни далек был Васюган, советская власть о нем не забывала, особенно после трагической гибели коммунистов коммуны.
Вдруг как-то с наступлением навигации на Васюган нагрянула из Томска плавучая торговая база. База была хорошо подготовлена. В трех добротных паузках, вместимостью по тысяче пудов каждый, хранились мука, крупы, обувь, мануфактура, ружейные припасы. Ничего не жалел для таежных людей город. Другим отказывал, а им давал. Паузки тянул на буксире катерок, хотя и не новый, сильно побитый и потрепанный в Гражданскую войну, но еще способный делать свое дело, а главное, юркий, с малой осадкой и потому проходивший всюду – через перекаты, протоки и узкие рукава в заломах валежника.
База была обязана посетить все остяцкие стойбища, заключить договоры с охотниками и рыбаками, снабдить их в порядке аванса продовольствием, ружейным припасом и фабричными ловушками, а осенью по последнему водному пути собрать у охотников пушнину, у рыбаков рыбу и доставить все это в Томск или в Колпашево.
Все делалось на строгой основе, по ценнику, утвержденному в центре.
Весть о прибытии базы на Васюган привезли Исаеву остяки, неводившие по его найму на Оби, на каргасокских плесах. База еще стояла в устье Васюгана, а остяки запросили у Порфирия Игнатьевича перерасчета за рыбу. Причем цену они заломили такую, что Порфирий Игнатьевич схватился за голову. Все предприятие, затеянное им, оборачивалось чуть ли не убытком! Исаев возмутился. Тогда-то остяки и показали свой норов. Цена, которую они требовали, оказалась государственной. По ней база закупала рыбу в любом количестве и тут же давала аванс натурой под будущий улов. Уступать остяки не захотели и грозились продать рыбу базе.
Исаев сначала ругался с остяками, потом пытался уговорить их добром, даже поил водкой, но уступок никаких не добился.
Да, напрасно он торжествовал, когда коммуна уехала с Белого яра! Ее дух непокорства и непочтения к нему, единственному и давнему хозяину Васюгана, словно переселился в «косоглазых», как называл он остяков. Ладить с ними становилось все труднее и труднее.
База, конечно, не претендовала, как коммуна, на земли и угодья Васюгана, она не вытесняла Исаева с лугов и плесов, но сильно подсекала в главном – в коммерции. Приуныл, задумался Порфирий Игнатьевич. По ночам спал плохо, ворочался, похудел и постарел и стал гневен больше прежнего. Устиньюшка всякий раз и так и этак старалась успокоить его, расстилалась перед ним со своими нежностями, но иногда старик гнал ее от себя, сердился. Надюшка тоже внимательно наблюдала за хозяином. И, не зная еще ничего в точности, понимала, что в голове деда зреет какая-то страшная дума.
И она не ошиблась. Часто, очень часто вспоминал Порфирий Игнатьевич в эти дни и ночи своих старых друзей офицеров, особенно Касьянова. Вот кого ему сейчас не хватало! И куда только они все запропастились?! Неужели все-таки вездесущая рука Чека где-то настигла их?!
Однажды рано утром Порфирий Игнатьевич отозвал Надюшку за угол дома, с ласковой ноткой в голосе сказал:
– Совсем ты у меня, дочка, большая стала. И сильная, видать! Вон какие ручищи-то у тебя… Как грабли!
Надюшка насторожилась, почувствовав с первого его слова, что дед в своих размышлениях о жизни не забыл и ее.
– А ты, дедуня, поворочай с мое! От одних коров руки у тебя станут, как бороны. Ведь весь двор на мне. Матушка Устиньюшка-то полеживает больше…
Порфирий Игнатьевич сердито покосился, бессвязно помычал, пожевал обветренные, дряблые губы.
– А ты, доченька, не попрекай старших. Нехорошо это, Господь Бог за такое по головке не погладит… А я что подумал? – помолчав, продолжал он. – Не съездить ли тебе в Югино? С обласком-то управишься? Не понесет тебя стрежь? А ветерок подует – переборешь? А дело такое: Мишку Косого надо ко мне позвать. Чтоб приплыл как можно скорее. Шепнешь, конечно, ему одному: так, мол, и так, требует хозяин. Попутно передашь ему самоловы – и назад. Переночуешь в Маргине у Фёнки Ёскиной.
Порфирий Игнатьевич пристально посмотрел на внучку, гадая, можно ли положиться на нее в тех трудных и опасных делах, на которые он твердо решился. Надюшка опустила голову, помедлила с ответом. Буря поднялась в ее душе от слов Порфирия Игнатьевича. Помогать ему в каких-то темных предприятиях она не собиралась, хватит с нее и того жуткого дня, с зарницами и хмарью пожара и с душераздирающим воплем Лукерьи! Но вместе с тем поездка в Югино была ее давней мечтой. Приближалась самостоятельная пора жизни, которую она так нетерпеливо ждала. Еще тогда, прячась в норе, она дала себе слово уйти из дома Порфирия Игнатьевича, как только чуть подрастет и окрепнет. Такая пора пришла, и когда-то надо было начинать.
Стараясь не выказать перед дедом своего смятения, Надюшка с некоторым безразличием в голосе сказала:
– Давай поплыву, дедуня, раз тебе надо. А стрежь и ветер мне не препон. Что ж, я на обласке не ездила? Да и руки у меня, сам говоришь, сильные. Справлюсь!
О многом передумала Надюшка в наступившую ночь! Дорога по неизвестным плесам реки, встреча с людьми в юртах Югина и Маргина очень волновали ее. Занимало и тайное желание, возникшее этой ночью: проезжая мимо Белого яра, хоть на минуточку, на две приткнуться к берегу и походить по той земле, на которой жили коммунары, бегал Алешка, ходила многострадальная Лукерья.
На рассвете Порфирий Игнатьевич бросил мешок с припасом в корму обласка и проводил Надюшку в путь, осенив крестным знамением.
В первые минуты Надюшкой овладел страх. Она плыла одна по темной и тихой реке, и только птицы, вспугнутые стуком ее весел, взмывая ввысь, оглашали эти безмолвные просторы тревожным клекотом. Но вскоре Надюшка присмотрелась к воде, к берегам, к лесу, и уже не страх, а удовольствие, большое, никогда ранее не испытанное удовольствие овладело ею. Хорошо непрерывно двигаться вперед, хорошо смотреть, как меняются берега, и как же хорошо не чувствовать за спиной понукающих взглядов матушки Устиньюшки!
Окончательно освоившись и с обласком и с веслом, почуяв, что они подвластны и послушны ей, Надюшка попробовала даже запеть. Но пела она вполголоса, потому что все та же беспокойная мысль исподволь отравляла ей настроение, щемила сердце: «Зачем он послал меня к Мишке? Что задумал?»
Надюшка плыла без остановки, не посчитавшись с советом Порфирия Игнатьевича почаще приставать к берегу, чтобы отдыхали руки и спина. Больше всего ее торопило желание поскорее попасть на Белый яр. Плавать мимо Белого яра ей не приходилось, но однажды она вместе с дедом была в Маргине и знала, что стоит миновать нижнее устье Маргинской протоки, как с правой стороны начнется высокий берег, названный Белым яром.
Вот мелькнули за прибрежными кустами, за лугом избы Маргина, разбросанные, как из лукошка. Значит, скоро покажется устье Маргинской протоки. Надюшка приналегла на весло, гребанула им широко, захватно. Обласок заскользил по воде с легким плеском. Вот Васюган как бы распахнулся перед ней в просторном изгибе. По левую руку стоячая Маргинская протока, по правую – лес вскинулся, и от самой реки потек куда-то ввысь, к небесам. Пересекая Васюган, Надюшка засмотрелась на высокие и прямые деревья, уходившие под облака, на крутые обвалы берега, на белизну обнаженной кручи… Река под яром тугая, кружится воронками, тянет все, что ни попадает, с яростной силой. Пока Надюшка спохватилась – течением ее обласок проволокло мимо яра на целую версту. В двух-трех местах Надюшка ткнулась к берегу и тут же отчалила. Пристать можно, но взойти на берег немыслимо – яр прям, как стена.
Надюшка поплыла в конец яра, туда, где он постепенно оседал, переходя в косогор, а потом в равнину. Тут, выбрав удобное местечко между двух тополей, она выскочила на песок, втащила обласок до половины, чтоб не сбила его случайная волна.
Посматривая по сторонам, Надюшка пошла в гору. Ей было немного страшно, но более сильное чувство – живой интерес к людям, когда-то жившим здесь, подталкивал ее вперед и вперед!
На первой же равнине косогора, как бы на плече Белого яра, ей преградил дорогу осевший и уже поросший кустарником холмик. Надюшка решила обойти его, опасаясь, что за холмиком может оказаться яма, вырытая когда-то для погреба. Она свернула в сторону, в бурьян, и, пройдя десятка два сажен, наткнулась на бревно. Сквозь траву, буйно вздымавшуюся над бревном, что-то необычное в его очертаниях бросилось ей в глаза. Не жалея новых чирков, Надюшка притоптала траву. Один конец бревна был увенчан звездой, вырезанной из жести, а второй – подгнил и затрухлел. Надюшка подняла конец со звездой, положила на колоду. К середине бревна прибита доска. На ней выжжены буквы. По-печатному Надюшка умела читать, хотя и не очень бойко.
...«ЗДЕСЬ ЛЕЖАТ ВАСЮГАНСКИЕ КОММУНАРЫ, ЧЛЕНЫ РКП(б)
РОМАН БАСТРЫКОВ
ВАСЮХА СТЕПИН
МИТЯЙ СТЕПИН
ЛЮДИ, ЗНАЙТЕ: ИХ ЗАМАНИЛИ СЮДА И УБИЛИ.
УБИЙЦЫ НЕ ОПОЗНАНЫ, УШЛИ.
СЛАВА ГЕРОЯМ РЕВОЛЮЦИИ!
ПРОКЛЯТИЕ И СМЕРТЬ НАШИМ ВРАГАМ!»
Ниже более мелкими буквами добавлено:
...«Мы уезжаем с Васюгана, а вы остаетесь здесь навечно.
Прощайте, братаны! Без вас мы осиротели».
Надюшка стояла потрясенная. Она перечитала надпись на доске один раз, второй, третий… Голос ее с каждым разом становился все глуше и глуше, горло стиснули спазмы.
Роман Бастрыков… Порфирий Игнатьевич когда-то часто называл это имя… Она вспомнила приезд коммунаров. Роман Бастрыков… Алешкин отец. Он был высокий, длиннорукий, говорил громко… Он лежит тут убитый… может быть, пуля дедки сразила его?.. А где же Алешка? Он стал круглым сиротой, как и она… Роман Бастрыков… коммунары… Вот кого спасала Лукерья, вот ради кого шла она на страдания и смерть…
«Убийцы не опознаны, ушли». Опознаны. И не все ушли… Под одной крышей с ней живет один из них…
Охваченная болью, страхом, отчаянием, Надюшка могла бы стоять тут и час и два… Вдруг над головой хрустнул сучок. Она вздрогнула, вскинула голову. На кедре сидела рыжая белка, пошевеливала облезшим хвостом, смотрела на нее упорным взглядом глаз-бусинок. Надюшке стало не по себе. Недавно матушка Устиньюшка рассказывала, будто после смерти человека душа его становится то птицей, то зверем… Надюшка кинулась к реке, села в обласок, но руки дрожали, и весло не сразу стало послушным…
Перед Югином она причалила к берегу, не вылезая из обласка, поела, попила воды, умылась, прибрала волосы под платок.
Надюшка застала остяка Мишку одного. Он сидел во дворе, за избой, чинил сеть.
Мишка знал Надюшку, но никак не думал, что приехала она одна.
– Что, Порфишка прибыл? – меняясь в лице и суетясь, спросил Мишка. Он был маленький, тощий и очень изнуренный. Глаза у него, как у всех остяков, были воспаленные, веки красные и без ресниц. Ветхая одежонка висела на нем. Трудно было определить его настоящий возраст – по лицу дашь все шестьдесят, по бойкости рук, по проворству движений – тридцать.
– Нет, дядюшка, Порфирий Игнатьевич не приехал, меня вот послал за тобой. Велел тебе как можно скорее плыть к нему, – сказала Надюшка.
Вдруг мучительная гримаса исказила Мишкино испитое, желтое лицо, и он заплакал.
– Да что он, шайтан его забери, забудет когда-нибудь обо мне? Опять, поди, задумал кого-то со света сжить?
Мишка пробормотал эти слова себе под нос, но Надюшка расслышала их. Ей стало жаль его.
– А ты откажись, дядюшка. Я передам ему!
Мишка выпрямился, рукавом вытер лицо.
– Откажись? Попробуй! Сам там будешь! – с отчаянием воскликнул он и ткнул худым пальцем в сторону реки, золотившейся сейчас мелкой рябью под горячим солнцем.
Надюшка не знала, как и чем утешить Мишку. Тут она вспомнила о самоловах.
– А дедка ловушку тебе прислал!
Мишка встрепенулся, со вздохом сказал:
– Задаток, гадина, прислал. Опять покупает!
Надюшка думала, что Мишка откажется взять самоловы, но вместе с ней он заспешил на берег, к обласку. Когда Мишка направился к своей избе с самоловами, а Надюшке можно было отчаливать в обратный путь, она вспомнила вдруг, что не сделала еще одного и самого важного дела. Она кинула весло в обласок и бросилась догонять Мишку.
– Дядюшка, а в вашей деревне няньки кому-нибудь нужны?
Мишка посмотрел на нее вначале вопросительно, но потом, как бы догадываясь о ее намерениях, с сочувствием сказал:
– Что ты, девка! За этим ты в Каргасок поезжай, не живут у остяков ребятишки, мрут…
Надюшка повернулась, побрела обратно, чувствуя, что ноги подламываются в коленках, скользят, расползаются по речному песку.
Возле обласка, на самом краю берега, она села, выжидая, когда уляжется горький осадок от встречи с Мишкой, от его совета, высказанного без всяких сомнений: «За этим ты в Каргасок поезжай».
Но время шло, день повернул на вторую половину, и Надюшка, подавив в себе уныние, залезла в обласок. Обратный путь был труднее. Под ярами стрежь сбивала обласок с ходу, закидывала его нос. Попадались заводи. Обласок начинало кружить и подбрасывать, как на волне. Не сразу Надюшка сообразила, что самое тихое течение вдоль песков, а когда поняла это, обласок пошел легче и быстрее.
В Маргино она приплыла к вечеру. Вот теперь у нее побаливали спина и руки. Старуха Фёнка встретила ее у своей избушки, усадила подле костра, принялась угощать вялеными подъязками.
Надюшка передала остячке подарок Порфирия Игнатьевича – четвертинку водки. Старуха раскупорила бутылочку и, запрокинув голову, выпила водку, не переводя дыхания. Надюшка ждала, что Фёнка начнет благодарить Порфирия Игнатьевича за память и подарок, но вместо этого услышала совсем иные слова.
– Вот ирод какой Порфишка! – облизав губы, воскликнула Фёнка. – И как только земля такого терпит?! Утопил моего старика Ёську, и хоть бы что ему! Другого бы совесть на сухарь высушила, а этот живет себе как безгрешный. Видно, зачем-то ему понадоблюсь, раз водочкой обдарил. О, Порфишка хитрый, зря ничего не станет делать. А ты-то что у них в доме: приживалка или сродственница? – всматриваясь полуслепыми глазами в Надюшку, вдруг спросила старуха.
И, может быть, впервые Надюшка задумалась: а в самом деле, кто она в доме Исаевых – приживалка или родственница? Если приживалка, то зачем же зовет хозяина «деданькой», а хозяйку «матушкой Устиньюшкой», а если родственница, да еще близкая, то зачем они угнетают ее непосильной работой, заставляют ходить в обносках, держат подальше от хозяйского стола?
– Не знаю, как и сказать тебе, бабка Фёна, – тяжело вздохнув, проговорила Надюшка. – Отца не знаю, мать плохо помню. Говорят, будто внучка я Порфирию Игнатьевичу. А в доме все, что потяжельше, на меня валят и грамоте не хотят учить.
Фёнка аппетитно почмокала губами, пососала чубук трубки, выпустила дым густой струей, не по-доброму усмехнулась.
– Порфишка дармовщинку больно любит. Чуть не смолоду его знаю. И не верь ему, дочка, ни в чем не верь! Уходи ты от них! Загубят они тебя до времени…
Надюшка сидела как пришибленная. Как же ненавидела старая остячка Порфишку, если даже Надюшкино признание, что она ему внучка, не остановило ее! А встреча с Мишкой в Югине? Тот тоже клял Порфишку, клял, но не мог вырваться из-под его власти, хотя и желал, видимо, этого больше всего на свете.
Когда наступил вечер и старая Фёнка, пожарче распалив костер, бросила себе и гостье медвежьи шкуры вместо постелей, Надюшка решила спросить, что известно старухе о гибели коммунаров.
И то, что сказала Фёнка, поразило Надюшку в самое сердце, хотя она и раньше догадывалась о многом.
– Порфишкино это дело, Надька! О других и думать не хочу, – убежденно сказала Фёнка. – Хотели попервости все свалить на остячишек. Кой-кого из наших заарестовали, да отпустили вскоре по домам.
«И как все это сходит ему? Неужто всегда так будет?» – подумала девушка, сжимаясь в комок возле костра.
Горькие и тревожные думы о худой, неприкаянной своей судьбе гнали сон. Только под утро Надюшка будто провалилась куда-то. Она не слышала, как на рассвете Фёнка встала, распалила костер, повесила чайник.
Проснулась Надюшка все с той же думой, с какой и уснула. Как ей жить дальше? Как начать свой самостоятельный путь в жизни?
– А что, бабка Фёна, в Маргине никому нянька не требуется? – спросила Надюшка, когда старуха пригласила ее почаевничать перед дорогой.
Фёнка ответила почти теми же словами, что и Мишка в Югине:
– Какие там няньки! Не везет остячишкам с детвой. Бабы ходят пустые. В Каргасок поезжай, Надька!
Перед тем как сесть в обласок и продолжить свой путь, Надюшка заглянула в раскрытую дверь Фёнкиной халупы. С тех пор как дочь вышла замуж в Наунак, а сын отделился и уехал в Югино, старуха жила одна. Изба у нее была просторная, но захламленная рыбацким старьем: вентерями, самоловами, драными сетями. «На худой случай и тут, у Фёнки, можно притулиться», – подумала девушка.
Старуха проводила Надюшку до берега, кинула ей на дорогу двух вяленых подъязков, а когда обласок тронулся, сказала:
– Этому идолу Порфишке скажи, что Фёнка чуть не при смерти, чтоб не вздумал куда-нибудь по своим делам меня гнать…
– Ладно, ладно, бабка Фёна, передам, – пообещала Надюшка и подумала: «И эта боится дедку, чует, видно, что задумал тот недоброе».
Дорогой к дому Надюшка упорно размышляла над тем, как рассказать Порфирию Игнатьевичу обо всем, что узнала и услышала. По справедливости, ему надо бы сказать все: и о ненависти остяков к нему, и о могиле коммунаров, на которую она наткнулась на Белом яру. Но, поразмыслив, Надюшка решила отчитаться перед дедом только за то, что он поручил ей. «Правду об остяках скажу, начнет их еще больше притеснять. О могиле коммунаров лучше и не поминать – с землей сровняет», – думала она.
Оттого что не с кем было поделиться своими думами и переживаниями и приходилось до поры до времени кривить душой перед взрослыми, Надюшка испытывала приступы острого отчаяния. Она работала веслом, а слезы текли по лицу и с подбородка капали на грудь, на ситцевое платьишко, добела выгоревшее на васюганском солнце, таком щедром в летнюю пору.
Порфирий Игнатьевич встретил Надюшку на берегу. Он стоял, опершись на посох, в броднях, в широких шароварах, в длинной рубахе под крученым пояском. За последние два года он сильно постарел и как-то не просто потолстел, а раздался вширь. Еще задолго до того, как ей причалить, он приветливо замахал рукой.
– Ну что, доченька, видела Мишку? – спросил Порфирий Игнатьевич, едва обласок приткнулся к берегу.
– Все, дедуня, исполнила, как ты велел. Мишка завтра-послезавтра приедет, – поспешила успокоить его Надюшка.
– И у Фёнки была?
– Ночевала. Водку отдала.
– Вот и молодец! И дай бог тебе здоровья за твое послушание. Долго ждал, когда подрастешь, и дождался-таки! Помощница!
– А старуха хворает, деда, шибает ее во все стороны.
– Она тебя переживет.
Порфирий Игнатьевич погладил Надюшку по спине, взял у нее мешочек, в котором лежали остатки провизии, заботливо сказал:
– Давай мне мешочек-то, а рукам свободу дай. Пусть отдохнут. И пойдем домой. Матушка рыбы нажарила, ждет тебя не дождется…
Порфирий Игнатьевич зашагал по тропинке, тянувшейся через сосняк к новому дому. Надюшка шла, чуть приотстав от него. В ущах звучала фраза, сказанная стариком с затаенным восторгом: «Долго ждал, когда подрастешь, и дождался-таки. Помощница!» Какие-то смутные и нерадостные предчувствия снова овладели Надюшкой, как и в тот час, когда Порфирий Игнатьевич велел ей съездить в Югино.
Шли молча. Под ногами похрустывали сосновые шишки, поскрипывал песок, перемешанный с опавшей с деревьев хвоей.
Глядя на широкую спину, на приподнятые плечи, на крепкий, от загара словно литой, затылок, Надюшка чувствовала, как щемит сердце.
«Не дамся я тебе, Порфирий Игнатьич. Не дамся. Хоть озолоти, а в яму ты меня не затащишь…»
Устиньюшка встретила Надюшку не менее приветливо. Может быть, впервые за всю жизнь она с лаской усадила ее за стол и сама принесла еду. После ужина Устиньюшка велела Надюшке идти спать.
– И отдыхай, милаша, сколько твоей душе потребуется. Утром я подымусь и сама коров подою, – необыкновенно участливо сказала она.
– Да что же я, неужто с этой поры до утра не отосплюсь?! Встану я, матушка, как коров доить! – запротестовала Надюшка.
Но Устиньюшка замахала руками:
– Ни-ни! И не думай даже!
Ее поддержал сам Порфирий Игнатьевич:
– Поспи, дочка, понежься. Дорога твоя не малая, небось наломала спину.
Летом Надюшка спала на вышке дома. Хорошо там дышалось! По ночам, даже в самую жаркую погоду, от Васюгана несло прохладой. На вечерней и утренней заре с лугов подымался медовый аромат трав. А иногда при ветерке сосновый лес начинал так шуметь, что казалось, будто он поет тихие колыбельные песни. Никто тут не мешал Надюшке, и она никому не мешала. Бывало и так: задумается над своей долей, запечалится и поплачет в подушку, чтоб никто не видал, не слыхал. А случалось, и посмеется, вспомнив какой-нибудь потешный случай. Но особенно Надюшка любила разговаривать вслух, в лицах, воображая себя среди чужих людей то в Каргасоке, то в самом Томске.
Жизнь не баловала ее впечатлениями. Иной год проходил на Сосновой гриве как один день: работа, еда, спанье. Если и навертывался чужой человек, то Порфирий Игнатьевич замыкался с ним в горнице или уходил на луга. Но даже по тем обрывкам разговоров и новостей, которые доходили до Надюшки, она живо представляла, что где-то там, вдали от Васюгана, течет другая жизнь: буйная, разноцветная, многолюдная. Та жизнь пугала ее, настораживала, но и манила своей загадочностью.
Поднявшись на вышку, Надюшка легла на постель, раскинув руки. Непривычно длинный путь напоминал о себе нещадно: поясница как будто налилась свинцом и ныла, плечи одеревенели – не шевельнуть. Но лежать было приятно. По всему телу от этого спокойствия растекалась истома. Надюшка знала – это уходит усталость и возвращается сила.
С полчаса она лежала молча, потом в сумраке чердака послышался ее приглушенный голос. Надюшка «воображала» вслух:
– Здравствуй, Алексей Романыч!
– Здравствуй, Надежда! Как живешь-можешь?
– Как живу-то? Живу! Что ж делать, коли матушка родила?!
– Где бывала, кого видала, Надежда?
– Ой, Алексей Романыч, уму непостижимо, где я бывала, что я видала.
– А все ж таки? Небось не секрет?
– Для кого секрет, а для тебя нет.
– Говори, если так.
– Низкий поклон тебе привезла.
– От кого бы, Надежда?
– От родителя твоего, комиссара Бастрыкова…
– Что ты, Надежда? В своем ли уме? Родитель мой сгиб от заклятого врага… Поди уж, и косточки его истлели…
– Косточки истлели, да, говорят, душа-то доброго человека нетленна. В огне не горит, в воде не тонет… Не старится, не умирает, веки вечные по свету обитается, нравную думу людям вещает, к правде-свету их закликает.
Но «договорить» до конца с Алешкой Надюшке не удалось. Вдруг возле лестницы на чердак послышался скрип песка под ногами. Еще не услышав голоса, Надюшка поняла, что это Порфирий Игнатьевич бродит возле дома.
– Ты с кем, Надька, разговариваешь? – обеспокоенно спросил он.
– С Богом разговариваю, дедка. Все молитвы, которые с тобой учили, ему пересказала.
– Молодец! Бог ценит откровение людское… Спокойной ночи тебе!
Порфирий Игнатьевич потоптался на песке, поскрипел им, а с места все-таки не сошел. Но напрасно он хитрил! Надюшка хорошо знала все его ухватки. Громко и отчетливо, так, чтоб он услышал, она забормотала:
– Отче наш, иже еси на небеси…
Снова скрипнул песок, и, стараясь ступать как можно мягче, Порфирий Игнатьевич пошел в дом. Надюшка попробовала «вообразить» свой разговор с Алешкой Бастрыковым дальше, но подкрался сон, веки отяжелели, закрылись, и все думы отлетели прочь…
На другой день приехал остяк Мишка. Надюшке очень хотелось повидаться с ним, поговорить украдкой, узнать, зачем Порфирий Игнатьевич вытребовал его к себе. Но едва Мишка показался, Порфирий Игнатьевич посадил остяка в свой обласок и повез на противоположный берег, где когда-то, до пожара, была усадьба Исаева.
В полдень Мишка снова на минуту появился на Сосновой гриве. Но был он до того пьян, что с трудом держался на ногах.
– Порфишка, друг любезный! – кричал остяк, обливаясь слезами. – Хочешь, я за тебя в огонь прыгну? Хочешь?
«Значит, сговорил дедка Мишку на какое-то темное дело… Ну, Надька, гляди в оба!» – пронеслось в голове девушки. Она попробовала под видом неотложного дела пройти в горницу, где гость и хозяин сидели за выпивкой, но Порфирий Игнатьевич так рявкнул на нее, что она опрометью бросилась во двор.
Когда Мишка и Порфирий Игнатьевич, пошатываясь, направились по тропке через сосняк к берегу, Надюшка кинулась в кустарник. Тут у изгиба тропы она спряталась в темных густых ветках.
Мишка и Порфирий Игнатьевич прошли мимо нее. Заплетающимся языком Мишка невнятно бормотал:
– Я хитрец, Порфишка, хитрец! Они ко мне: «Говори!» А я им: «Не понимаю, остяк я, глупый тумак…» Притворился… Свят бог, не вру, Порфишка… Посмотрели-поглядели неделю-другую. «Иди отсюда, пока тебя вши не съели…»
Порфирий Игнатьевич не слушал Мишкину болтовню, говорил о своем:
– Ты не утопни, болван! Ишь, нажрался до ушей! Чуть помани вашего брата водкой – за сто верст прибежите! Обжоры! Дармоеды!
Надюшка вслушивалась в этот разговор, но ничего нового он не принес ей. «Ну и живоглот же дедка! Сам опоил его и сам же поносит», – негодовала она про себя.
И снова потекли дни, похожие один на другой как две капли воды. Надюшку изматывала тяжелая работа, вечером она, как сноп, валилась на свою постель, засыпала непробудным сном. Беспокойство, тревожное ожидание чего-то необычного, вызванное ее поездкой в югинские юрты, а потом приездом Мишки, постепенно улеглось. Теперь, когда выдавалась свободная минутка, Надюшка убегала на берег Васюгана. Тут она садилась в корму лодки, склонялась над водой и, вглядываясь в свое отражение, воображала до самых мельчайших подробностей, как начнет свою новую жизнь в Каргасоке, а потом и в Томске. Страхи ей чудились со всех сторон, но она убеждала себя быть смелой и не отступать, если даже придется очень трудно.
Глава третья
Надвигалась осень. Дни становились короче, зато ночи длиннее и прохладнее. Надюшка понимала, что, если до рекостава она не уйдет с заимки, волей-неволей придется ей торчать тут до весны. Прикидывая в уме, как ей лучше покинуть дом Порфирия Игнатьевича, Надюшка постепенно наметила подробный план. Вначале она соберет все свои вещички на вышку и сложит их в брезентовый мешок, потом подготовит обласок. Сбежит она ночью. Чтобы дед не подумал, что утонула, заедет в Маргино, попросит Фёнку съездить на Сосновую гриву и передать Порфирию Игнатьевичу, что начала жить по-своему, пусть он ее не ищет и не старается возвратить к себе. Не пойдет, ни за что не пойдет!
Думы об этом так захватывали Надюшку, что она стала еще более молчаливой и отчужденной. День отъезда приближался неотвратимо. Она уже загадывала: «Ну вот, в следующую среду и отчалю», – но пока загадки ее были нетвердыми. Подходила среда, а она передвигала отъезд еще на два-три дня. Все что-нибудь задерживало: то харчей на дорогу не набиралось, то дед начинал смолить обласок, на котором собиралась плыть, то матушка Устиньюшка, словно догадываясь о ее намерениях, ходила по пятам, появляясь возле нее всюду как из-под земли.
Наконец наступил день, а вернее, ночь отплытия. Надюшка легла рано, однако уснуть не могла. Вдруг из глубины ночи послышались скрип двери и покашливание Порфирия Игнатьевича. Она решила, что старик вышел во двор по нужде. Но вот шаги его стали отчетливее, он остановился у лестницы. Заскрипели перекладины под тяжелой стопой.
– Очнись, дочка!
Надюшка подняла голову с подушки, с испугом спросила:
– Что не спишь-то, дедка?
– Подойди-ка сюда. Дело к тебе есть.
Надюшка в темноте накинула на себя платьишко, натянула на ноги чирки, на четвереньках подползла к лазу. Порфирий Игнатьевич стоял на последней перекладине лестницы, чуть освещенной молочно-голубым светом месяца.
– Вчера мимо нас эта чертова база проплыла, – тяжело дыша от волнения, зашептал он, хотя никто их не мог подслушать, так как, кроме Устиньюшки, на всей Сосновой гриве не было ни одного человека.
– Ну и что же, дедка? Пусть себе плавают, товары остякам продают. – Надюшка зевнула.
– Так-то оно так, а все-таки, – почесал затылок Порфирий Игнатьевич.
– Что «все-таки»-то? У тебя товаров теперь нет, а остякам пить-есть надо? Ты чего меня разбудил-то? До утра небось еще четверть ночи.
Надюшка старалась напустить на себя беззаботность, но сердце ее билось тревожно. «Неужели как-нибудь прознал, что я решила убежать в Каргасок? Может быть, сонная что-то выболтала?» – думала она, стараясь подготовиться к самым неожиданным действиям с его стороны. Она знала, что, если он начнет ее упрекать, она ни в чем не уступит, если же вздумает бить, как случалось это не раз прежде, она даст ему сдачи. Не старое время! В руках у нее теперь силы побольше, чем у него!
Но вдруг Порфирий Игнатьевич заговорил елейным, почти подобострастным голоском:
– Я тебя что, дочка, разбудил? Вот что. Решили мы с матушкой Устиньюшкой пообшить тебя малость. Платьишко тебе новое надо сгоношить, отдельно юбку, кофту, полушалок. Ты ведь теперь не дите малое, почесть невеста! Вот-вот, да и сватов могут люди добрые заслать…
«Ну-ка, деданька, говори, а я послушаю да прикину, куда ты гнешь», – подумала она, а вслух сказала:
– Уж так много сразу!
– А что ж много! Ты нам не чужая, и мы тебе сродни. Да и работница ты, хлопотунья. Дом-то на чьих плечах держится? На твоих! Я у вас вроде головы – думаю за всех; матушка Устиньюшка – ноги-руки, туда-сюда ими шурует, а спина и плечи – ты!..
– Больно уж расхвалил, деданька! Не перед добром, однако…
– Да что ты, дурашка! Всегда о тебе печалюсь, всегдашеньки! Да еще как печалюсь! Знает только грудь да подоплека!
– Где же ты столько товаров на меня возьмешь?
– Сама купишь. Вот утро наступит, садись в обласок и плыви на базу. Сказывают, остановилась она под Наунаком, не доходя трех плесов.
– Бесплатно, пожалуй, там не дают…
– Уж как бы хорошо, если б давали… А раз не дают, выдру с собой прихвати. Давным-давно, ты еще совсем малышкой была, поймал я выдру и тогда же загадал: как подрастешь, купить тебе на нее нарядов что ни на есть самых лучших.
«Уж не врал бы ты, деданька, насчет выдры-то, – подумала Надюшка. – Сама видела, как зимой привез ее тебе Мишка из Югина».
– А что так к спеху, дедка? – спросила Надюшка.
– А то к спеху, что база поблизости. Уйдет потом на устье Чижапки, вот тебе и будет: за морем телуха – полуха, да рубль перевоз.
– И то верно! – согласилась Надюшка.
– Как начнет светать, ты и отправляйся. Обласок я просмолил, дырки законопатил. Пойдет так, что чуб засвистит. Приплывешь на базу – и прямо к самому начальнику. Так, мол, и так: принимай выдру, выкладывай товары. Выдра – высший сорт! Потянет подходяще. Ну, матушка Устиньюшка накажет кое-что купить, сделаешь все честь честью.
– Что ж не сделать-то? Сделаю.
– Вот и добро! А когда, дочка, будешь выдру сдавать, посмотри, много ли у них пушнины собрано. И на товары глазом кинь…
Надюшке захотелось перебить Порфирия Игнатьевича, спросить: «А это зачем?» – но она промолчала.
– И еще, дочка, такое дело: будешь когда ходить там, посмотри, как у них паузки к берегу причалены: простыми канатами или на железных цепях с якорями.
– А это зачем тебе, деданька? – против воли вырвалось у Надюшки.
Порфирий Игнатьевич притворно закашлял, и Надюшка поняла, что он скрывает свою растерянность.
– Да вишь, какое дело, – все еще прокашливаясь, сказал Порфирий Игнатьевич. – Хочу я в Каргасоке паузок купить и поставить у нас на берегу, вроде пристани. Страсть как неудобно приставать… Хоть песок, а все же ноги топнут… Да и груз какой привезти – с паузком способнее…
Надюшка снова сделала вид, что поверила, с готовностью сказала:
– Все, деданька, высмотрю. И насчет товаров, и насчет пушнины, а уж про цепи и якоря само собой…
– Вот-вот… чтоб, значит, как у них, так и у нас… И чтоб, значит, ни ветер, ни буря не сорвали… Ну, ты еще поспи. Я тебя приду перед утром разбужу.
«Поспи…» Да разве после всего этого пойдет сон на ум? Дверь скрипнула. Порфирий Игнатьевич вошел в дом, и над Сосновой гривой воцарилась такая тишина, что были слышны всплески рыбы на Васюгане.
Надюшка лежала с открытыми глазами. «И почему я вчера не сбежала? Чуяла ведь, что случится что-то неожиданное. Вместо Каргасока-то попаду бог знает куда… И не зря… нет, не зря велел он мне высмотреть все», – думала она, испытывая от новых тревог, свалившихся на нее, жажду и жар во всем теле. Но все-таки сон сломил ее.
Порфирий Игнатьевич разбудил Надюшку, когда уже стало совсем светло. Увидев яркое небо, солнце, Надюшка вскочила, ворчливо сказала:
– Подвел ты меня, дедка. Обещал разбудить на рассвете, а уж белый день на дворе.
– Да и я проспал! И матушка Устиньюшка только что встала. Ночь-то просудачили, вот он, сон-то, и сморил под самое утро. Ну, ничего, все равно к вечеру поспеешь вернуться.
Надюшка наскоро напилась чаю и заспешила на берег. Пока шли к лодке, Порфирий Игнатьевич повторил свои наказы. Но старался он зря. Надюшка запомнила их с одного раза и не заспала в крепком предутреннем сне. Запомнила она и распоряжения матушки Устиньюшки насчет покупок.
– Вот здесь, дочка, думаю я барку-то поставить, – указывая на небольшой заливчик между двумя песчаными косами, сказал Порфирий Игнатьевич. – Не знаю только, чем крепить: канатом или цепью…
– Да что ты, дедка! Канатом или цепью… Тут сетевая бечева и та выдержит. Вишь, залив-то между отмелей…
– Не скажи, дочка. Ветер когда разыграется, тут вон какая волна ходит. Оторвет, в реку сбросит! А то и на мель закинет. Посмотри, как там у них…
– Посмотрю, дедка, посмотрю!
Надюшка потуже запоясалась, ощупала грудь, где у нее под зипуном была спрятана дорогая шкурка выдры, и села в обласок. Она заработала веслом горячо, споро. Свежепросмоленный обласок легко заскользил по воде. Порфирий Игнатьевич долго стоял на берегу, выжидая, когда она оглянется, но Надюшка оглядываться не хотела. Слезы катились по щекам, рыдания стесняли дыхание. И какая же разнесчастная уродилась она! Не случись этого ночного разговора, плыла бы она теперь не вверх по Васюгану, навстречу каким-то неведомым ей коварствам Порфирия Игнатьевича, а летела бы, как вольная птица, в Каргасок, чтобы жить по-новому, самостоятельно…
Надюшка поплакала, вытерла слезы уголком платка и еще усерднее приналегла на весло. «Уж как бы ни случилось, а будет по-моему. Пусть дедка не надеется, что останусь бессловесной слугой вроде Мишки из Югина», – разговаривала она сама с собой. Увлеченная своими мыслями, Надюшка плыла и плыла по незнакомым плесам. К осени Васюган заметно обмелел. То и дело встречались на реке островки, намытые из белого чистого песка. Из воды местами торчали коряги, напоминавшие своей причудливой формой то быков, то коней, то каких-то сказочных чудовищ. Берега Васюгана стали выше, круче и оделись в пестрый наряд. И хотя этот наряд был диковинно яркий и пылал всеми цветами радуги, он навевал грусть. Летом, когда земля была однотонно-зеленой, она вся играла весельем. Теперь из прибрежных кустарников доносился заунывный шелест листвы, и шум этот так и рвал сердце.
По расчетам Надюшки, она проплыла уже половину пути, когда впереди над лесом показался столб дыма. «Наунакские остяки неводить начали», – подумала девушка и прибавила обласку ходу. Что ни говори, а все-таки приятно в осенний день встретить на пустынной реке живых людей. Долго ей некогда с ними лясы точить, но на минутку она все-таки подвернет, поговорит, посмотрит, успешно ли идет рыбалка, а заодно и узнает, далеко ли плыть ей до базы.
Надюшка миновала один плес, второй. Столб дыма стал ближе, виднее. Вот она обогнула яр, поросший высоким березняком, и выплыла на новый плес. В версте от нее, плотно прижавшись к берегу, стояли три паузка и катер. На берегу пылал костер, дым подымался в небо и там незримо исчезал.
То, что до базы оказалось гораздо ближе, чем ей сказал Порфирий Игнатьевич, очень обрадовало Надюшку. Можно было подольше побыть тут, да и на обратной дороге слишком не спешить, не надрывать рук.
Подплывая к базе, Надюшка приглядывалась к паузкам и катеру. Паузки, скорее даже баржи, были добротными, новыми, с палубными строениями в виде тесовых домов. Зато катер весь побитый, потертый, с большими грязно-масляными подтеками по бокам. Но все это было необычным для Надюшкиных глаз, переносило ее в другой, неведомый мир, и она с изумлением и жадностью рассматривала катер и паузки. Тут же она приметила и то, что так интересовало Порфирия Игнатьевича. Катер и паузки были причалены к берегу не цепями и не канатами, а простыми веревками.
Надюшка подплыла к базе тихо, не стуча даже веслом. На берегу и на паузках – ни души. Ткнувшись обласком в берег, Надюшка подумала: куда же подевались люди? Неужели ушли и не оставили сторожа? Но девушку давно заметили. В открытое круглое оконце катера за ней наблюдали трое мужчин. Занятые ремонтом машины, они не спешили встречать гостью, стояли, отложив инструменты, смотрели на нее, рассуждали – кто она, остячка или русская, откуда взялась, зачем приехала?
Надюшка выскочила на берег, подтянула обласок, по ступенькам, намытым водой, поднялась на невысокий яр, боязливо, все еще смущенная отсутствием людей, подошла к огню.
– Здравствуй, красна девица! – вдруг раздался громкий голос, и Надюшка увидела мужчину, шагавшего по трапу с катера. Он был высокий, худощавый и, судя по звонкому голосу и смешинке в карих глазах, приветливый.
– Здравствуйте, дяденька! – тоже громко отозвалась Надюшка. – А база вы будете? Сказывали, что вас искать надо под Наунаком, а вы вот где…
– Не дотянули, красна девица! Мотор забарахлил, еще дней десять будем чиниться.
– А пушнину принимаете?
– А почему бы не принимать? Каждый день к нам остяки наезжают. А у тебя что, пушнина имеется?
– Имеется!
– Какая же у тебя пушнина?
– Выдра!
– Вон как! Ты богачка.
– А товары у вас найдутся?
– За выдру из-под земли достанем, – засмеялся мужчина. – Зверь редкий, и цену дадим хорошую.
– А посмотреть товары можно, дяденька? – не без опаски спросила Надюшка.
Мужчина громко засмеялся, приветливо похлопал девушку по спине.
– А как же иначе, красна девица? Все, чем богаты, покажу. Ты ведь приехала не к Титу Титычу Обдиралову, купцу третьей гильдии. Хозяин нашей базы – советская власть. Понимаешь, что это такое: советская власть?
– Ну, конечно, понимаю. Это… это… когда все по справедливости…
– Молодец! Правильно, красна девица! – ласково поглядывая на свою юную гостью, воскликнул мужчина и, протянув ей руку, предложил: – Теперь давай знакомиться: я заведующий торговой плавучей базой, Тихон Иванович Скобеев. А тебя как зовут?
Надюшка подала руку и, почувствовав крепкое пожатие, ответила Скобееву таким же сильным пожатием.
– Надежда я. А зовут меня Надюшкой.
– А у тебя, красна девица Надежда, силенка водится. Молодец! Чем сильнее, тем легче жить на свете. Учти сие, красавица. Ну пойдем, покажу тебе все наши сокровища.
Тихон Иванович зашагал к паузкам, увлекая за собой и Надюшку. Все три паузка были причалены один к другому, борт к борту. С берега на ближний паузок был перекинут узкий трап. Когда Тихон Иванович пошел по трапу, Надюшка остановилась. Трап под тяжестью его тела выгибался, пружинил и зыбился. Скобеев оглянулся, сверкнув карими глазами, засмеялся.
– Ну, это ты зря, красна девица Надежда! Такой трап двух мужчин-грузчиков с поклажей выдерживает… А нас с тобой и подавно. Ну иди скорее, смотри наши богатства!
Скобеев отомкнул увесистый, слегка подернутый ржавой накипью замок и поднял крышку западни. Открылся ход в трюм. Надюшка спустилась вслед за Скобеевым по крутой лестнице на дно паузка. Товаров здесь было тьма-тьмущая! На полках, протянувшихся вдоль стенок, штабелями лежали разноцветные куски материи, платков, полотенец, коробки с пуговицами, бусами, одежными крючками. А в глубине трюма с вешал, поднятых к самой палубе, спускались пышные хвосты и лисиц, и белок, и колонков. Видно было, что база ведет торг успешно. Большую выгоду принесет она государству.
– Ого! Есть чем у вас таежных жителей нарядить! – с искренним восторгом воскликнула девушка, одним глазом уже прикидывая, какую из этих материй купить себе на платье.
После осмотра первого паузка Тихон Иванович показал Надюшке и второй и третий. В этих паузках были другие товары; съестное: мука, крупы, соль; промысловые охотничьи припасы: порох, дробь, пистоны, даже ружья и рыболовные снасти – сетевая и неводная дель, блесна. Как и в первом, здесь полным-полно было разной пушнины. На палубе третьего паузка возвышался ярус бочек, издававших острый запах соленой рыбы.
– Ну как, Надежда, есть кое-что у нас по мелочи? – хитровато прищурив глаза, спросил Скобеев.
Он понравился Надюшке с первой минуты. Теперь, когда она осмотрела всю базу, ей показалось, что она знает этого веселого и приветливого человека много лет. С ним было просто, хорошо, и она смущалась только в самом начале разговора.
– Да уж надо бы лучше, да некуда, дядя Тихон! – восторгалась Надюшка.
Черед дошел до покупки выдры. Девушка нахмурилась, жар кинулся в руки, ладони вспотели. В ушах зазвучал наказ Порфирия Игнатьевича: «Смотри, ох, смотри в оба, обжулят! Они хоть и товарищами прозываются, а своя рубашка и у них ближе к телу». И Порфирий Игнатьевич назвал цену, какую, по его мнению, должны заплатить на базе за выдру.
Скобеев несколько минут рассматривал шкурку. Он нюхал ее, сложив губы трубочкой, раздувал мех, встряхивал и даже тискал в своей узловатой пятерне. Пока они осматривали товары, Скобеев кое-что успел узнать от Надюшки о ее жизни.
– Сколько хозяин твой, красна девица, велел за выдру взять? – прищурясь, спросил Тихон Иванович.
Надюшка вспыхнула, зная ухватку Порфирия Игнатьевича ценить свое втридорога. Но поступить по-другому она не могла. Сдавленным от волнения голосом назвала цену, назначенную дедом. Скобеев от удовольствия даже подпрыгнул.
– Продешевил, жмот! – с азартом закричал он. – И как еще продешевил-то! На треть выше его цены база платит. Шкурка выдры – первый класс, она пойдет по высшей сортности. Вот так, красна девица! Вот так у нас, красавица!
Скобеев заразительно смеялся, хлопал себя по бокам, сдвигал кепку на самую макушку. Надюшка смотрела на него пристально и даже как-то придирчиво и все еще не верила тому, что услыхала. Поставь на место Скобеева Порфирия Игнатьевича или матушку Устиньюшку, окажись в их власти такой случай – ни за что бы эту самую треть цены от себя не упустили, положили бы разницу в собственный карман, без всякого сомнения! Она стояла в некотором оцепенении, с опущенными руками. Ветерок ворошил прядь ее мягких волос, выбившихся из-под платка. В глазах и настороженность, и удивление, и затаенный восторг.
– Что, девица, задумалась? – по-прежнему весело спросил Скобеев, понимая, какие чувства теснятся в ее душе.
– Другой бы на вашем месте, дядя Тихон, разницу-то в цене так бы и заглотнул, – сказала Надюшка. Помолчав, добавила: – Чистая у вас душа, ангельская…
– А ты брось меня в святые зачислять. Таких людей на земле – не перечесть. Разве рабочий человек пойдет на обман и преступление? Ты вот сама-то разве иначе поступила бы? – Коричневые глаза Скобеева так и обжигали Надюшку.
– Уж что вы! Ясно, как день…
– Вот то-то же! Ну, выбирай товары, а я буду счет тебе выписывать, чтоб отчиталась перед хозяином за каждую копейку.
Надюшка выбирала не спеша. Скобеев терпеливо ждал ее, потом тщательно отмерял, взвешивал, записывал в продолговатую тетрадь наименование товара и сколько отпущено. Надюшка купила все, что было заказано. Скобеев завернул покупки, перевязал шнурком, потом отсчитал деньги, которые полагались за выдру сверх всех проданных товаров. И деньги и «фактуру» (тонкий листок, исписанный синим химическим карандашом) Надюшка спрятала за пазуху.
– Теперь пойдем, красна девица, попьем чайку на дорогу. Уж так у нас полагается, – выпуская девушку из трюма, сказал Скобеев.
Вероятно, Надюшке следовало отказаться от приглашения, но ей было интересно и хорошо с этим человеком, и в ответ она промолчала.
Скобеев быстро подогрел чайник, сходил на катер, откуда все время доносилось легкое позвякивание («Ремонтируют», – смекнула Надюшка). Он принес хлеб и котелок с вареной рыбой. Неподалеку от костра, на чурбаках, врытых в землю, был сооружен стол. Скобеев придвинул Надюшке скамеечку той же серо-белой окраски, что и катер.
– А у меня, красна девица, дочка есть, – рассказывал за чаем Скобеев. – Постарше тебя годами будет. В комсомол вступила, курсы учителей окончила и вот откололась. Второй год свет и знания в деревню несет… А вот я тоскую. Пока летом плаваю по таежным рекам – ничего, терпимо, а зимой хоть волком вой. Жена у меня в войну скончалась…
Глаза Скобеева поблекли, лицо помрачнело, и он показался Надюшке сейчас гораздо старше, чем в первые минуты встречи. Она слушала его внимательно, но думала о своем. Когда Скобеев умолк, Надюшка с волнением в голосе сказала:
– Дядюшка Тихон, а вы не знаете, в Каргасоке кому-нибудь нянька требуется?
– А что тебе? Задумала выбираться в жилые места? – с сочувствием в голосе спросил Скобеев.
Надюшка чистосердечно рассказала о своем намерении. Жить дальше так нет мочи. Хоть и родня она Порфирию Игнатьевичу, да от этого ей не легче. Непосильно тяжелая работа. Одиночество. Постоянные попреки и подозрения. Годы идут, а она остается почти неграмотной. Что ей сулит здесь будущее? Беспросветность.
Скобеев слушал, покачивая головой, щурясь, собирая морщины к погрустневшим глазам. Своей откровенностью и доверчивостью девушка располагала к себе.
– Вот она какая у тебя, голубушка, жистянка-то… не позавидуешь! Верное ты дело наметила. И не сомневайся и не откладывай. Твой путь в комсомол, на рабфак… – Он замолчал, призадумался, потер ладонью лоб. – А в няньки идти погоди. Из огня да в полымя. Мало радости. Попробуем иначе.
Он вытащил из кармана своей поношенной и замусоленной курточки толстую тетрадь и, раскрыв ее, начал что-то писать. Надюшка через его плечо следила за карандашом, но, как ни напрягалась, прочитать не могла.
Вдруг Скобеев, не закончив строку, отступил ниже и четкими печатными буквами написал: «Член ВКП(б)».
– А что такое, дядя Тихон, ВКП(б)? – спросила Надюшка, заглядывая Скобееву в лицо нетерпеливыми от жаркого любопытства глазами.
– ВКП(б) – то? – По возвышенному тону голоса, по мимолетному взгляду, полному скрытой торжественности, Надюшка поняла, что это что-то необыкновенное, значительное. – ВКП (б), красна девица, – это Всесоюзная Коммунистическая партия (большевиков). О коммунистах слышала? О Ленине что-нибудь знаешь?
И тут в Надюшкиной голове словно вспыхнула молния. Она ярко-ярко вспомнила приезд комиссара Бастрыкова, свою игру с Алешкой в огороде и на яру, чеканные слова, произнесенные мальчишкой и запомнившиеся ей.
– Знаю, дядя Тихон! – воскликнула девушка и, встав, задорно отчеканила: – «Весь мир насилья мы разрушим до основанья, а затем мы наш, мы новый мир построим, кто был ничем, тот станет всем!»
– Молодец, красна девица! Именно так мы новый мир построим, а такие девчата и ребята, как ты, станут всем!
Скобеев взволновался не меньше Надюшки, встал, потоптался возле стола, опустился на прежнее место.
– Эту записку, красна девица, спрячь куда-нибудь подальше. Когда выберешься в Каргасок, то найди там базу потребсоюза. На этой базе работают и коммунисты и комсомольцы. Я им тут написал кое-что про тебя. Вот видишь: «Деваха Надежда может быть в будущем сознательным борцом за дело рабочего класса. Помогите ей выбиться на правильный путь, подыщите посильную работу, чтоб был кусок хлеба, а потом учить ее надо, учить во что бы то ни стало».
Скобеев длинным заскорузлым пальцем прочертил по прочитанным строкам, бережно вырвал листок из тетради и, свернув вчетверо, отдал девушке.
– Ой, дядя Тихон, какое же вам спасибо! – Надюшка схватила его за руку, дышала шумно, прерывисто, не зная, как и отблагодарить за участие в ее судьбе.
– Ну-ну… Живи, борись. Еще, может быть, где-нибудь и свидимся. – Он широкой ладонью похлопал ее по плечу.
Надюшка запрятала записку к самому сердцу, под лифчик, забрала покупки. Пора и в путь!
Скобеев пошел проводить девушку. По дороге наказывал:
– Встретишь остяков-охотников, скажи, что база ждет их. Товаров и припасов у нас в достатке. Не хватит, еще из Томска подвезут. Пусть едут и знают, что торгуем без обмана, по совести, как велит нам наша советская власть.
– Скажу, дядя Тихон, обязательно скажу!
Садясь в обласок, Надюшка вдруг почувствовала, что ей не хочется уезжать с базы, горько расставаться со Скобеевым.
– До свиданья, дядя Тихон! – И, уже отплыв от берега, крикнула: – Может быть, и свидимся еще! Свидимся!
Надюшка плыла в обласке и все оглядывалась, махая то рукой, то веслом. Скобеев переходил с одной барки на другую, чтоб лучше видеть девушку, и в ответ ей размахивал кепкой. На борт катера вышли из машинного отсека моторист и рулевой и с интересом наблюдали, как заведующий базой, и он же механик, провожал девушку в путь-дорогу.
Порфирий Игнатьевич не ждал Надюшку так рано и потому не встретил ее на берегу. Когда она вошла в дом, он вместе с матушкой Устиньюшкой сидел за столом возле шумевшего самовара и полдничал. Он, видимо, только что встал с постели, так как круглое, полное лицо его было помято. Старик любил часок-другой подремать днем на мягкой, пышной перине, под боком у матушки Устиньюшки.
Порфирий Игнатьевич так был поражен появлением Надюшки и так был убежден, что привезла она какие-то недобрые вести, что принялся набожно креститься, повернувшись всем туловищем в угол, к божничке.
– Ну, дедка, магарыч с тебя! – голосом, который так и переливался буйной радостью, воскликнула Надюшка.
Порфирий Игнатьевич взглянул на нее вопрошающе-сердито и, поняв, что ему ничто худое не грозит, встал с робкой улыбкой на дряблых губах.
Надюшку обуревало нетерпение. Она кинула на лавку узел с покупками, а деду бросила пачку денег, заклеенную Скобеевым в белую бумажную полоску.
– Продешевил ты, дедка, с выдрой! Дали куда больше! Считай!
– Да ты что, Надюха, не то на ковре-самолете к ним слетала? – пригребая деньги к себе, тихонько засмеялся Порфирий Игнатьевич и кинул взгляд в сторону Устиньюшки, застывшей в изумлении у стола. – Давай, матушка, неси скорее щи-кашу. Вишь, какой путь девка отмахала!
И тут не в силах дольше сдерживать свое нетерпение, Надюшка затараторила, желая в одно мгновение поведать обо всем – и о базе, остановившейся по необходимости почти рядом с Сосновой гривой, и о богатстве, которым забиты ее барки, и о приветливости заведующего базой дяди Тихона.
Но Порфирий Игнатьевич замотал головой, прервал Надюшку и велел обсказать все по порядку. Она стала рассказывать со степенной важностью, не упуская никаких подробностей. Порфирий Игнатьевич слушал внимательно, забыв даже о чае. Негромким и доверительным голосом он переспрашивал Надюшку в тех местах ее рассказа, которые особенно интересовали его.
– И товаров, говоришь, на баржах тьма-тьмущая?
– Непроглядно, деданька!
– И пушнины полным-полно?
– Столько хвостов висит, деданька, что и счету не хватит.
– И ни цепей, и ни канатов?
– Ничегошеньки, деданька. На одних бечевках причалены.
– И так и сказал: «Еще, мол, дней десять чиниться будем»?
– Слово в слово, деданька!..
– И всего их только трое?
– Как есть трое. Дядя Тихон на барке стоял, а те два с катера на меня смотрели.
Порфирий Игнатьевич необыкновенно был доволен рассказом Надюшки. Похвалил ее, придвинул ей миску с хлебом.
– Ну и молодец ты у меня! И глаз у тебя такой приметливый. Ешь-ка лучше, набирай-ка силы.
«И что это он меня чересчур хвалит? Чего я ему такого особенного сказала? И матушка Устиньюшка больно вкруг вьется!» – подумала Надюшка, вдруг приуныв.
Когда матушка Устиньюшка сгребла в охапку вместе со своими покупками и те, что предназначались Надюшке, и собралась унести их в горницу, Порфирий Игнатьевич сердито прикрикнул на нее:
– Ну-ка, шкура, отдай девчонкино! Не задаром она тебе семь киселей хлебала.
Устиньюшка, еще больше располневшая с годами, живо обернулась, виновато пропела:
– А я, вишь, Игнатьич, хотела прибрать к себе в ящик, чтоб поцелее было.
Порфирий Игнатьевич не смягчился:
– Отдай, говорю! Ей куплено – стало быть, сама найдет, куда прибрать. Не трехлетняя!
– Да что ж, я-то ей разве лиходейка?! Не я ли ее вырастила-выходила?
Смаргивая слезы обиды, Устиньюшка положила Надюшкины обновы на лавку возле нее и, с ожесточением шлепая босыми толстыми ступнями, удалилась в горницу.
Надюшке до того неприятна была эта забота Порфирия Игнатьевича и эта жадность матушки Устиньюшки, что она, не скрывая своей раздраженности, отодвинула от себя сверток.
– А я куда их дену? Ни сундука, ни мешка.
И тут Порфирий Игнатьевич поспешно выскочил из-за стола, схватил сверток и, прижимая его к себе, сказал:
– И впрямь тебе негде положить! А у меня место найдется…
– Вот и возьми! Возьми! – с облегчением воскликнула Надюшка и посмотрела на деда уничтожающим взглядом. Он затрусил рысцой в сени, где стоял большой, как шкаф, окованный железом сундук, четвертными шурупами привинченный к толстым плахам пола.
На вышке Надюшка всплакнула по обновкам, не доставшимся ей, но, вспомнив о записке Скобеева, запрятанной в лифчике, скоро успокоилась.
Глава четвертая
Порфирий Игнатьевич исчез неожиданно, вдруг. Надюшка узнала об этом утром, когда погнала коров на водопой и попутно завернула посмотреть, на месте ли обласок, на котором она собиралась в предстоящую ночь непременно уплыть отсюда. Обласка не было. Весла и греби с двух других лодок были сняты и, по-видимому, где-то запрятаны. Надюшка попыталась выведать у матушки Устиньюшки, далеко ли уплыл Порфирий Игнатьевич. Та все еще была сердита на девушку, сухо ответила, что не ее дело, куда отлучается «батюшка-благодетель», но если уж так ей это важно, то может сказать. «Батюшка-благодетель» поехал на озера добыть карасей. Разве не ведомо ей, что любит Порфирий Игнатьевич жареных карасей в сметане пуще всей другой пищи на свете?!
Но прошел день и еще день, а Порфирий Игнатьевич не возвращался. Приехал только на четвертые сутки. Никаких карасей он не привез, зато вслед за ним на Сосновую гриву нагрянул остяк Мишка из Югина и Ёськина старуха Фёнка.
За ужином Порфирий Игнатьевич объявил Устиньюшке и Надюшке, что вечером все они вместе с приезжими отправляются на ночную неводьбу на верхние плесы.
– Видел наунакских остяков. Говорят: «Лови, Порфишка, рыбу. Валом валит. В верховьях вода сильно сбыла, вот она и кинулась в низовья на большую воду».
Проговорив это скороговоркой, Порфирий Игнатьевич принялся изо всех сил дуть в блюдце с чаем. Надюшка посмотрела на него, потом перевела взгляд на окно, за которым стоял уже ветреный и дождливый вечер, и почувствовала, как тревожный холодок заполняет грудь. Нет, не ради неводьбы собирался на верхние плесы Порфирий Игнатьевич!..
Сразу после ужина двинулись в путь. В лодку с неводом сели все. Мишка и Надюшка взялись за греби. Устиньюшка легла на невод. В корму прошел сам Порфирий Игнатьевич. Фёнка поместилась на носу лодки. Старуха давно уже была полуслепая, но до того хорошо изучила реку, так умела по звукам ее течения улавливать ход воды, что на нее можно было положиться, как на самого опытного лоцмана. За кормой на бечевках тянулись гуськом три обласка: Фёнкин, Мишкин и свежепросмоленный Порфирия Игнатьевича.
Плыли в полной тишине. Изредка лишь слышался из темноты шепелявый голос Фёнки:
– Держи, Порфишка, флефо! Куды, шорт, правишь? Ворочай фпрафо!
Ночь стояла темная, моросил дождь, то и дело проносился над рекой заунывный свист ветра. Блеклые звезды прятались в тучах, перемигивались робко и воровато.
Лодка шла и шла, ни разу не наскочив на карч и не задев днищем об отмель. И чем дальше текла ночь, чем больше удалялась лодка от Сосновой гривы, тем сильнее сжималось Надюшкино сердце. Снова где-то внутри закровоточила царапина, которая, не переставая, мучила ее с того самого часа, как вернулась она с покупками. Теперь девушка была полностью уверена, что едут они не рыбачить, едут совершать худое, бесчеловечное дело. Задумано что-то против базы, против Скобеева. От одной мысли об этом Надюшке хотелось кричать истошным криком на весь Васюган. Она закусила губы, чтобы ненароком не выдать себя.
Не доплыв примерно одного плеса до стоянки базы, Порфирий Игнатьевич повернул в курью. Фёнка безошибочно провела караван в извилистую и узкую горловину старой протоки, прикрытую с обоих берегов зарослями ивняка и топольника. Как только протиснулись сквозь ветви деревьев и кустарник, Порфирий Игнатьевич причалил к берегу.
– Ну, вот что, бабы! – повелительным тоном сказал он. – Здесь у нас будет стан. Разводите в ложбинке костерок, а мы тем временем с Мишкой поедем пески посмотрим. Неводить начнем с рассветом.
– Дедка! И я с вами поеду, – с тревогой выпалила Надюшка, чувствуя, что наступают невозвратимые минуты.
– Я тебе так поеду, что ты с земли не встанешь! – сурово сказал Порфирий Игнатьевич и подтащил обласки ближе к берегу.
Шумно сопя, буровя ногами густую илистую воду, он сел в обласок и стал пробиваться сквозь заросли в реку. Мишка на втором обласке поспешил за ним. Ветки и тьма ночи через минуту бесследно поглотили обоих.
Устиньюшка наломала сучков, извлекла из-за пазухи сухую паклю, принялась чиркать спичками.
– Фёнка, Надька, идите-ка за дровами, – распорядилась Устиньюшка. – Чего стоите-то, раззявы, холера вас забери!
Старуха схватила Надьку за руку, потащила вдоль курьи к тому месту, где рос крупный топольник.
– Бабка Фёна, скажи мне по милости, куда дедка с Мишкой отправились? – прижимая руку старухи к своей груди, зашептала Надюшка, когда они отошли от Устиньюшки.
– Да ты что, только проснулась? Неужто не знаешь? Скоро будем мы с тобой богатые-пребогатые, – заговорила Фёнка. – Порфишка с Мишкой базу воровать поехали.
– Как это? – задыхаясь от страха, спросила девушка.
– А так… Срежут с причала барки-то, они и поплывут. А мы тут как тут. Выгрузим все добро на берег, а потом запрячем. Порфишка и склад обладил… Обманывать станет, идол, не дадимся, Надька…
Старуха засмеялась каким-то хрипящим и каркающим смехом, от которого девушке стало еще страшнее. Она отбросила Фёнкину руку, остановилась в полной растерянности. И какая же она, Надька, дура набитая! Ведь давным-давно приметила она, что Порфирий Игнатьевич затевает какое-то страшное дело… Он бессовестно врал ей об устройстве пристани возле Сосновой гривы, а она развесила уши, узнавала для него, как причалена база…
– Иди, Надька, сюда. Здесь сушняку много, – раздался из темноты голос Фёнки.
Надюшка пошла на голос, спотыкаясь о валежины и наскакивая на сучья.
Черт бы побрал эту старуху Фёнку! Каким-то совершенно неведомым Надюшке чутьем она отыскала в кромешной темноте и сырости сухостойные лесины и с завидной силой, оглашая лес хрустом и треском, выламывала их с корнями. Надюшка взяла за комель засохший тополек, потащила к огню, возле которого хлопотала Устиньюшка. Набухший от дождей бурьян больно хлестал девушку по рукам, но она шла напролом, не чувствуя боли. Нет, что бы ни было потом, она не может и не станет сидеть в бездействии! Давным-давно, когда офицеры вместе с Порфирием Игнатьевичем отправились убивать коммунаров, она была маленькая, слабая, но теперь – другое дело! Пусть он знает, этот злой и безжалостный человек Порфирий Исаев, что Надюшка не даст ему повторить прошлое. Сейчас же, не упуская ни одной минуты, она бросится за ними вдогонку, подымет на реке крик и не даст захватить Скобеева и его товарищей врасплох. Надюшка подтащила тополек к огню, принялась торопливо обламывать его.
Устиньюшка набросилась с руганью:
– И где вы, раззявы, запропали! Вас только за смертью посылать.
Надюшка промолчала. Наломав целое беремя сучьев, она кинула их в огонь. Пусть костер запылает во всю мочь! Ослепленная огнем, Устиньюшка не увидит, как Надюшка исчезнет в зарослях кустарника.
От умелых рук девушки огонь и в самом деле быстро принялся и запылал, прорывая мокрую и липкую темноту осенней ночи.
– Ну, я пойду снова за дровами, матушка, – дрожащим голосом сказала Надюшка.
Нащупав в темноте нос обласка, она столкнула его с берега, повела за собой на вытянутой руке, стараясь ступать как можно осторожнее, чтобы плеском воды не выдать себя. Возле устья, перед тем как сесть в обласок и нырнуть в заросли кустов, Надюшка оглянулась. Из темноты ей хорошо было видно Устиньюшку. Она стояла возле костра и, по-видимому, прислушивалась, тщетно стараясь пронзить взглядом ночь. Надюшка схватилась за ветки и, перебирая их руками, выскользнула из курьи. Студеный ветер резко ударил по лицу, обласок запрыгал на волне, и девушка поняла, что выбралась на широкий плес Васюгана.
Темнота была такой плотной, что в первую минуту Надюшка не сразу определила, куда ей плыть. Она всмотрелась в очертания берега, гребанула раз, другой. Прислушалась. Ветер свистел где-то в вышине, побулькивала у борта вода. Больше никаких звуков ухо не уловило. Да, конечно, пока она ходила за дровами и разводила костер, Порфирий Игнатьевич и Мишка уплыли уже далеко. Она заработала веслом, найдя ровный и точный ритм: глубокий наклон туловища вперед, выброс весла и резкий рывок. Вероятно, обласок шел с большой быстротой, но никакой видимости не было, и определить скорость движения было не по чему. «Догоню их! А может быть, и перегоню!» – с жаром думала Надюшка. Вдруг обласок со всей силой ткнулся во что-то мягкое и вязкое. Девушка всмотрелась в темноту. Перед ней был берег, самый обыкновенный берег, заросший лесом и обмытый дождями. Надюшка оттолкнулась, круто опустила весло и, проверив еще раз течение, снова принялась грести. Ей казалось, что она плывет посредине реки, но через некоторое время ее обласок опять врезался в берег. Надюшка заплакала от огорчения. Пропадали невозвратные минуты. Снова она оттолкнулась от берега, выбралась на середину реки и замахала веслом, не жалея сил. Временами она поднимала весло и прислушивалась, не идут ли где-нибудь по соседству с ней другие лодки. Нет, ничто, никакие посторонние звуки до нее не доносились. В одном месте ей показалось, что она плывет уже мимо базы. Сквозь темноту проступали очертания каких-то строений. Она повернула обласок влево, но когда приблизилась к «строениям», то поняла, что перед ней маленький островок, поднявшийся из воды крутыми берегами. «Пора, пожалуй, уже кричать», – думала она, по текли минута за минутой, а она не решалась подать голос. Непроницаемая темнота угнетала, сковывала ее, словно была она в окружении невидимых стен.
Между тем Порфирий Исаев и Мишка были уже возле базы. Они знали реку как свои пять пальцев и плыли, не теряя времени на блуждания.
Когда до базы осталось примерно полверсты, Мишка причалил свой обласок к тальникам. Отсюда он должен был прокрасться к базе берегом. В руках он держал ружье, на опояске болтался остро отточенный охотничий нож. Мишке предстояло трудное и опасное дело – перерезать кинжалом причальные веревки, освободить барки от трапа, чтоб ничто не мешало течению повернуть их в глубину реки и понести силой самостока. Порфирий Игнатьевич избрал для себя дело полегче. Как только барки повернут в реку, он поднимется на одну из них и встанет за руль. Из наблюдений за базой, которые он произвел за трое суток, ему было известно, что Скобеев и его помощники спят на катере, в носовой каюте. Катер стоял выше барок на сто – сто пятьдесят сажен, и там все еще продолжались ремонтные работы. Пока Мишка не выполнит своей задачи, Порфирию Игнатьевичу предстояло болтаться в обласке по плесу и ждать удобной минуты.
Мишка был опытный таежник. Он подкрался к базе с такой ловкостью и осторожностью, что ни одна птаха не вспорхнула. Нож у него был острее бритвы. Веревки он обрезал в одно мгновение. И трап снял моментально, подхватив его на руки и опустив на землю с такой бережностью, будто был он стеклянным.
Все, все благоприятствовало Мишке: и дождь, который полил как из ведра, и ветер, который налетел на деревья и, раскачивая их, поднял сильный шум, и волна, которая ударила в борта паузков, раскачала их, смыв с носовой части ближнего к берегу паузка тину, намытую течением. Исполнив свое дело, Мишка шмыгнул в лес. Барки, освобожденные от причальных креплений, медленно стали отходить от берега, поворачивать в реку.
Порфирий Исаев не видел еще этого, он был на середине реки, но натренированным воровским чутьем угадывал, что все у Мишки идет благополучно. Он ждал с нетерпением, ждал того вожделенного момента, когда взойдет на паузки и почувствует себя хозяином добра, которым были набиты трюмы. Снова он зажмет тогда остяков в кулаке, снова будет хозяином Васюгана. Когда-то советская власть соберется направить сюда новую базу! Вот если б остался здесь Бастрыков с коммуной, ну, тогда песенка Порфирия Исаева была бы спета. А пока бог милостив, жить ему можно…
Приезд Надюшки на базу немало озадачил Скобеева. Проводив девушку, он долго ходил по берегу, размышляя, почему же Исаев не явился на базу сам? Время для отлучек из дома было удобное. Уборка урожая кончилась, а сезон охоты только начинался. Остяки передавали, что шныряет Порфишка по Васюгану без устали. Своей горькой, незадачливой судьбой девушка вызвала у Скобеева желание помочь ей, но чем больше думал он о ее жизни, тем очевиднее становилось ему, что, посылая Надюшку с выдрой, Исаев имел какую-то особую цель. Уж не замышлял ли он что-нибудь недоброе против базы?
Скобеев вспомнил, что в первый же день, когда они причалили к берегу из-за неисправности в машинном отделении катера, на базу явились наунакские остяки.
– Ой-ой, плохо, большой начальник! – со скорбным видом говорили они, качая головами.
– Что плохо? Объясните, не понимаю, – встревожился Скобеев.
– А то плохо, что близко от Порфишкиного гнезда. Шибко нехороший Порфишка человечишка…
Скобеев попытался уточнить, чем же Исаев вызвал их неудовольствие, но остяки переглянулись, сделали вид, что не понимают его вопросов, и поспешили приступить к торгу.
Остяки продали пушнину, накупили товаров и уехали, но их беспокойство запало Скобееву в душу. Хотя экипаж базы состоял из трех человек и работы всем и без того хватало, Скобеев решил ввести ночное дежурство. Тот, на кого выпадала очередь, обязан был в течение ночи два-три раза подняться с постели и сделать обход берега, побывать на паузках, подправить костер, чтоб снова не разводить его поутру. Может быть, эти меры предосторожности были зряшными, тем не менее Скобеев их не отменил.
После отъезда Надюшки тревога Скобеева стала еще острее. Взваливать дополнительные обязанности на моториста и рулевого он не мог – они и так работали от зари до зари. И Скобеев решил охрану базы взять целиком на себя. На крайнем к реке паузке поставил нары, соорудил над ними крышу из брезента и каждый вечер, захватив с собой винтовку, уходил туда на ночь. Нельзя сказать, что он специально сторожил базу, нет. С вечера он ложился на постель и быстро засыпал. Но поселившаяся в душе тревога делала сон сторожким. Скобеев часто просыпался, прислушивался, иногда даже вставал, обходил паузки, снова ложился, мгновенно засыпал, а через час-другой опять открывал глаза. С реки его жилье невозможно было заметить, так как, прикрытое брезентом, оно напоминало кипы товаров. Это-то и обмануло Порфирия Исаева, когда, спрятавшись в тальниках напротив базы, он зорко наблюдал за ее жизнью с раннего утра до позднего вечера.
Было так и в эту ночь. Дождь начался в сумерки. На костре заклокотало варево в котле. Скобеев, исполнявший эти сутки обязанности дежурного по кухне, унес котел и чайник в каюту катера. Тут при свете семилинейной лампы работники базы поужинали. Потом моторист и рулевой улеглись спать, а Скобеев, прихватив тулуп, отправился на паузок.
Уснул он, как обычно, сразу, но скоро проснулся. Подняв голову, прислушался. Тоскливо постукивали о брезент дождинки, ветер посвистывал, Васюган бился в борта паузков, но силенок по малой осенней воде у него на буйство не хватало – паузки покачивались чуть-чуть. Скобеев заскучал от этих однообразных звуков, натянул тулуп повыше и опять уснул.
Второй раз он проснулся за полночь. Еще не открывая глаз, почувствовал какие-то перемены. Он сразу понял: паузки покачивались сильнее. Васюган бился в борта с плеском. Похрустывали бортовины. Встав на ноги, он понял и другое: паузки плыли.
Скобеев надел шапку и, приподняв брезент, бросился к рулевой слеге. «Неужели с причалов сорвало? Давно ли? Проспал… проспал», – пронеслось у него в голове.
Когда он выбежал на ветер, первое, что услышал, – это протяжные возгласы, доносившиеся откуда-то из глубины ночи. Он, конечно, и представить себе не мог, что это кричала Надюшка, вконец отчаявшаяся после долгих блужданий по ночной реке. Не успев осмыслить, что к чему, он услышал, как чья-то лодка тычется в борт паузка, и шагнул в сторону, оставив рулевую слегу.
– Кто там? Что там надо? – склоняясь над водой и всматриваясь в темноту, спросил Скобеев.
Никто не отозвался. Толчки прекратились, и продолговатое пятно растворилось в темноте.
– Стой! Ни с места! Стрелять буду! – во все горло завопил Скобеев. Однако стрелять ему было не из чего – винтовка осталась на нарах. Он решил было взять ее, но по пути схватил стоявшую возле рулевой слеги железную трубу – рупор, который имеется на каждом паузке на случай разговора вахтенного с катером в пути, и закричал в нее:
– Эй, Лавруха, дай свет на нижний плес! А Еремыч пусть обласок ко мне гонит!
Голос, усиленный трубой, поднял моториста и рулевого. Скобеев повторил приказ и бросился за винтовкой.
Вдруг темноту ночи разверзло пламя, и над головой Скобеева просвистела пуля. Он лег на палубу, пополз к нарам. Второй выстрел прогремел, сливаясь с эхом первого. Пуля ударила в кромку, отколола щепу, и та с тонким свистом взвилась над паузком.
– Лавруха, свет! – снова прокричал Скобеев и, не целясь, выстрелил в темноту…
Зарокотал мотор на катере, и вначале в небо, а потом вдоль реки всплеснулась, пронзая неподвижную темь, желтая полоска прожектора. Полоска заметалась от берега к берегу, и вот в пучке света мелькнуло плотное пятно: лодка и человек на ней. Это продолжалось несколько секунд, но Скобеев не упустил их. Он прижал винтовку к плечу, поймал пятно на мушку и выстрелил три раза подряд. Прожектор почему-то погас, но, когда зажегся опять, поймать лодку в пучок света уже не удалось.
Порфирий Исаев выронил винтовку после второго выстрела Скобеева. Пронзенный пулей, он склонился на борг обласка, раскинув руки навстречу Васюгану, будто поджидавшему его…
…Надюшка успела крикнуть несколько раз. Эхо ее голоса еще не смолкло, когда совсем неподалеку раздался выстрел. Потом поднялась такая пальба, что ей показалось, будто земля раскалывается на части.
Нет, двигаться вперед, туда, откуда доносились выстрелы, Надюшка уже не могла. Она подняла весло, сжала его и отдалась на волю течения…
«В Каргасок, скорее в Каргасок», – шептала она, не смея от ужаса шевельнуть рукой.Глава пятая
Ах, какие это были тяжкие дни для Алешки Бастрыкова! Жил он на постоялом дворе на Большой Подгорной улице, который содержала кооперативная артель инвалидов, процветавшая под названием «Единение – сила».
И самое трудное состояло не в том, что денег было в обрез и день за днем он питался одним хлебом, – невыносимо было другое: город со всем его незнакомым укладом, с суетой людей на улицах, с каменными домами, смотревшими равнодушно и даже сурово, казался сложным, непознаваемым, чужим. Все, все тут было непривычно! Даже запахи и те были непонятными, незнакомыми, вызывавшими в его часто пустом желудке тошноту. Когда-то Томск отапливался только дровами, но чем больше налаживалась мирная советская жизнь, тем больше закладывалось шахт на соседних анжеросудяенских копях. В Томск теперь двигались один за другим эшелоны с углем. В зимние морозные дни над городом вставали столбы каменноугольного дыма. По деревянным улицам и переулкам разносился непривычный для сельского жителя неприятный запах.
Несколько раз Алешку подмывало плюнуть на всю эту городскую жизнь и вернуться назад, в деревню.
Особенно невмоготу было оставаться на постоялом дворе вечерами. Ходить по улицам в это время он опасался. Город он знал плохо – легко можно было заплутаться на неосвещенных улицах. В вечерние часы Алешка ложился на жесткую, с голыми досками, кровать и, закрыв глаза, живо воображал, что в это время делается там, на родной сторонушке. Деревенские парни и девчата тянутся либо в школу на занятия к Прасковье Тихоновне, либо собираются в Народный дом на репетицию. От тоски-кручины ныло Алешкино сердце. Невыносимо тянуло домой… Домой? Но дома у него там не было, так же как и здесь. Алешка перемогал тоску, надрывая сердце в одиночестве, ждал, когда же повернется его судьба к удачам. Сколько их, таких деревенских парней, шло в ту пору в города, чтобы стать кадровыми рабочими, пополнить рабочий класс молодой Советской страны!
В горкоме комсомола, куда он направился первым делом, встретили его приветливо. Тут хорошо знали комсомолку Панку Скобееву, которая добровольцем ушла на культурный фронт в деревню. Ее письмо прочитали на бюро. Решили Алешку включить в «пятисотку», которую томский комсомол отправлял на строительство Кузнецкого металлургического комбината. Пусть парень станет строителем! Но мобилизация «пятисотки» затягивалась. Когда наконец ее сформировали, со строительной площадки поступила телеграмма: «Отправление “пятисотки” задержите. В настоящий момент площадка не может принять рабочих из-за полного отсутствия какого-либо жилья. В первой половине апреля вступит в строй сто новых бараков, из которых часть будет выделена для томской колонны».
В первой половине апреля! Но до нее, до этой первой половины, оставалось больше месяца. В горкоме комсомола принялись подыскивать Алешке новое место. Дело никак не ладилось. Парня нужно было не только определить на работу, но и обеспечить жильем. Алешка вспомнил, что Прасковья Тихоновна дала ему еще одно письмо – к своему отцу, который жил и работал на пристани. В горкоме обрадовались: речной транспорт тоже немаловажная область в строительстве социализма, там тоже есть где приложить руки. Зазвонил горкомовский телефон. С пристани сказали: пусть парень приходит прямо к Скобееву, можно даже домой, в нерабочие часы.
Тихон Иванович Скобеев жил неподалеку от пристани в маленьком деревянном домике в глубине сада, заросшего таким густым черемушником, что в летнюю пору, когда лист буйно распускался, домишко утопал в зелени. При царизме домик Тихона Скобеева служил для томских большевиков явочной квартирой. В колчаковщину под домом, в подземелье, размещалась типография. Здесь печатались большевистские листовки, которые разлетались потом по всей обширной Томской губернии.
Когда советская власть окрепла, Тихону Скобееву предложили новую квартиру в большом каменном доме на Почтамтской улице. Заманчивое это было предложение – вдруг поселиться в замечательном купеческом особняке с огромными окнами, водопроводом и паровым отоплением. Но, поразмыслив, Скобеев отказался. Этот домишко, старый уже, неказистый на вид, был дорог ему, как бывает дорого все, что связано с молодостью человека. Да и стоял он возле реки, а Тихон Скобеев, сын старого обского лоцмана, проведший все свое детство с отцом на пароходах и караванах барж, не представлял себе жизни без реки. Скобеев остался в родительском домике навсегда. Тут умерли мать и отец, тут сыграл он свою свадьбу, тут родилась и выросла его единственная дочка Параша, тут скончалась жена, рано оставив его вдовцом. Не просто было покинуть дом, который стал частью твоей жизни.
Именно сюда, на эту заснеженную усадьбу, в этот крохотный, в сугробах домик и приплелся Алешка Бастрыков вьюжным мартовским днем. От холода и голода его пошатывало. «Если тут не клюнет – уйду завтра в деревню. Пусть он, этот город, огнем горит», – думал Алешка, отчаявшись в поисках счастья.
Скобеев недавно пришел с работы – сидел за столом, обедал. С первого взгляда он показался Алексею очень худым, морщинистым и неприветливым. Сухо поздоровался, медленно принял конверт, не спеша разорвал его. Пока Скобеев про себя читал письмо дочери, Алешка пристроился на краю табуретки, рассматривал жилище. Кроме прихожей, наполовину занятой плитой, в доме было еще две комнаты. В первой, по-видимому, помещался сам Скобеев. Тут стояла простая железная кровать, застланная грубым серым одеялом, круглый стол. На стене висели барометр, бинокль, двуствольное ружье центрального боя, кинжал на цепочке. В углу виднелась этажерка, забитая книгами. Пробежав глазами по корешкам, Алешка прочитал: «Ленин. Сочинения», «К. Маркс. Капитал», «Речные пути России», «Лоция», «М. Горький. Мать», «Н. Некрасов. Избранные стихи». Вторую комнату можно было разглядеть лишь частично, так как дверь в нее была полуоткрыта.
Алешка увидел большое зеркало – от пола до потолка, шкаф с книгами, письменный стол. Вероятно, в этой комнате когда-то жила Прасковья Тихоновна.
– Та-ак, – протянул Скобеев, пристально посмотрел на Алешку и, сунув письмо в конверт, бережно положил его во внутренний карман пиджака. – И давно ты, дружище Алексей, в городе?
– Давненько.
– Почему не зашел раньше?
Алешка смутился, дернул плечами, но подходящих слов не нашлось, промолчал.
– Не хотел беспокоить. Понимаю, – сказал Скобеев и чуть улыбнулся, став сразу проще и приветливее. – А зря! Ничего в этом плохого нет. Тем более что привез ты мне письмо от дочки. Да ты раздевайся и садись обедать.
Алешка махнул рукой, отказываясь, но Скобеев заметил, как при этом парень не сдержался и проглотил слюну.
– Давай садись, не заставляй упрашивать себя, – сердитым голосом, но с доброй искоркой в глазах сказал Скобеев.
Не дожидаясь, когда Алешка сбросит полушубок, он вышел в прихожую, к плите и вернулся с тарелкой, от которой поднимался пар и шел такой вкусный дух, что парень снова сглотнул слюну.
Алешка принялся есть, стараясь жевать обстоятельно, не спеша, чтобы не казаться слишком жадным.
– Сам, брат, я теперь дома хозяйствую, – говорил Скобеев. – Раньше мы с Парашей все дела справляли: я на базар ходил, в магазины, она обед варила, в квартире убирала. Поначалу, видать, скучала у вас там, в деревне, писала часто, а сейчас, наверное, работы выше головы стало…
Скобеев посетовал на одиночество и, не задерживаясь больше на своей особе, начал расспрашивать Алешку о его житье-бытье: куда девались родители? Сильно ли прижимали хозяева? Имеет ли к чему-нибудь склонности? Владеет ли грамотой?
Алешка вначале стеснялся, старался говорить покруглее, но Скобеев так внимательно слушал его, так заинтересованно смотрел на парня, что через несколько минут от его стеснительности не осталось и следа.
– Не знал я, что родитель твой на Васюгане голову сложил. Приходилось бывать там, – задумчиво сказал Скобеев, щурясь и что-то, по-видимому, вспоминая.
Они надолго замолчали. Скобеев о чем-то размышлял, а Алешка, как всегда при упоминании об отце, мысленно перенесся в свое детство, ставшее совсем уже далеким. Молчание прервал Скобеев.
– Вот что, Алексей, – постучав длинными пальцами о стол, заговорил он, – оставайся жить у меня. Работать тоже будешь со мной. На базу мне матрос нужен. До начала навигации на ремонте станешь помогать, А реки вскроются, мы с тобой к остякам и тунгусам подадимся! Хорошие люди они, только уж очень сильно забитые. А сам знаешь – коли долго согнутым ходишь, то сразу-то не выпрямишься…
Алешка слушал Скобеева с чувством радости, смешанной с удивлением. Спокойный говор, степенная рассудительность и это душевное сочувствие к бедным таежным людям напомнили ему давно минувшее… Отец сидит в окружении коммунаров. Только что из коммуны уехал старый остяк Ёська. Отец рассказывает коммунарам о жизни остяков, и в тоне его голоса и сочувствие к их горькой доле, и готовность помочь.
– В точности, как тятя, вы говорите! – вырвалось у Алешки, и он даже сконфузился, покраснел, как девчонка.
Скобеев посмотрел на парня ласковым, одобрительным взглядом, подумал: «Ах ты горе горькое! Отца, видать, любил пуще всего, а расти довелось сиротой». А у Алешки вспыхнули в голове свои думы: «По рекам пройти – это хорошо. Гляди, и на Васюган попадем, на Белый яр. Ах, как охота побывать на тятиной могиле… Интересно бы и к Исаевым заглянуть. Надюшка вымахала, поди, большая. Не позовет теперь играть на кручу, как когда-то».
– Кому лихо пришлось, Алексей, всегда бедного пожалеет. Ну, давай место тебе для спанья соорудим. Вот тут, на ящике, почивать будешь. Смотри, удобно ли? Коротковато разве? Парень ты длинный. Да ничего! Можно табуретку придвигать, – рассуждал Скобеев, набрасывая на ящик тюфячок в темном немарком чехле.
– Да что вы беспокоитесь? Я могу вон и на полу. У меня полушубок! – смущенный заботой о нем, забормотал Алешка, приглаживая отросшие волосы. Удобно ли?! Алешка даже не мог задавать себе такого вопроса, потому что чаще всего у него не было никакого выбора. А тут, на ящике, у плиты, в сторонке от прохода, не только удобно – тут просто замечательно!
Скобеев принес из комнаты дочери подушку и покрывало, положил на ящик, примериваясь, прилег, встал.
– И вправду хорошо! – одобрил он и пододвинул из угла маленький треугольный столик с семилинейной лампой. – А здесь можешь заниматься. Почитать вздумаешь или уроки надо будет готовить…
Скобеев придвинул табуретку и снова, примеряясь, сел, облокотился на стол.
– Вот и готово! – он дружески похлопал Алешку по спине. – И мне веселее будет. А то, братец мой Алексей, иной раз хоть волком вой. Знаешь, каково одному?
– Уж как не знать! – сказал Алешка, и голос его, тихий, скорее даже сдавленный, задел Скобеева за сердце – столько в нем было никому не высказанной боли, затаенных слез, ни с кем не разделенных страданий!
– И чур, уговор, Алексей: будь со мной во всем по простоте. Если что надо – выкладывай, не таись. И зови меня без величания, дядей Тихоном. Согласен, нет?
В душе Скобеева дрожала струна, тронутая возгласом парня: «Уж как не знать!» – и ему хотелось, чтоб тот почувствовал себя здесь, у него в доме, хорошо и свободно, почувствовал сразу, вот сейчас же.
– Конечно, согласен, дядя Тихон! Конечно, согласен, – бормотал Алешка, и длинные руки его от волнения то одергивали синюю сатинетовую рубаху, то взлетали к заросшей густым, волнистым волосом голове.
Не первый раз в жизни приходил он в чужой дом в поисках защиты от своей горькой судьбы, но в первый раз он не услышал хозяйского слова, звучавшего всегда одинаково: «Твоя работа от темна до темна на поле, мои хлеб-соль на столе».
Все, что происходило сейчас, для Алешки было ново, необыкновенно. Его подмывало броситься к Скобееву, прижаться к нему по-сыновнему, но он сдерживал себя, прятал глаза. А Скобеев думал, что парень не совсем еще понял его, продолжал говорить:
– У нас все должно быть по-свойски: я рабочий, и ты рабочий. Нам друг от друга что необходимо? Подмога, приветливость. Соли-дар-ность! Слышал об этом?
– Рассказывала Прасковья Тихоновна.
– Параша? Ишь ты! Она, братец мой, мастак по книжной части!
Скобееву приятно было упоминание о дочери, и о том, что она «мастак по книжной части», он сказал дважды. Сухое, с мелкими морщинками лицо его сияло при этом от улыбки, мысленно обращенной к Параше.
Он вытащил из кармана пиджака письмо, бережно разгладил ладонью на столе и снова принялся читать. Алешка наблюдал за ним, и ему еще плохо верилось, что этот простой человек с руками в ссадинах и ожогах – отец самой Прасковьи Тихоновны, происхождение которой казалось ему каким-то необыкновенно благородным. Конец письма дочери Скобеев прочитал вслух:
– «Помоги ему, папа. О жизни своей не пишу. Дни идут в работе, то в школе, то в комсомольской ячейке. Если хочешь поподробнее узнать о моем существовании – расспроси Бастрыкова. Он все знает…»
Алешка насторожился: «Он все знает». А что он, в сущности, знает о ее жизни? Да ничего! Занимался с ней вечерами в классе, кое-когда сидел рядом на комсомольских собраниях…
Но Скобеев будто угадал, о чем думает парень. Его вопросы не составляли особой сложности. Он попросил Алешку рассказать вначале о самой деревне: сколько в ней дворов? Как она расположена? Есть ли река? А потом расспросил о школе: большой ли дом, в котором она разместилась? Тепло ли там в морозные дни? Хорошо ли оборудована школа?
На все это Алешка ответил самым подробным образом и с большим удовольствием.
Так за разговорами они досидели до позднего вечера. Перед сном Скобеев предложил выпить чаю с мороженой брусникой. Алешка не отказался, так как после сытного обеда ему давно хотелось пить. Потом они разошлись по своим углам.
Алешка лег, забросил руки за голову. Ему было тепло, удобно, давно он не имел такого уюта. Но все-таки одна забота его сокрушала – как, чем отблагодарит он Скобеева за его доброту?.. Алешка не привык есть-пить у людей задаром. Там, в деревне, все было проще: чтобы прожить день, он отправлялся на поденщину, – здесь все было иначе. Сегодня он уже ел хлеб, заработанный другим, завтра едва ли наступит перемена. Мысль эта была неотступной, гнала сон. Вдруг заскрипела кровать под Скобеевым.
– Ты не спишь еще, Алексей? – послышался его шепот.
– Не сплю, дядя Тихон, – тоже шепотом ответил Алешка.
– Слушай-ка! Кухарить с тобой будем совместно. На покупки запись будем вести. Пока у тебя деньжонок нет, я платить буду. А потом вернешь. В навигацию у нас знаешь, какой заработок? Ого, брат! Согласен, нет?
– Спасибо, дядя Тихон! Спасибо… – Голос у Алешки задрожал, к горлу подступил комок. Он уткнулся в подушку.
Он был взволнован. Но теперь, когда ему стало ясно, что он не будет нахлебником, его волнение улеглось быстро. Он уснул крепко и сладко, так крепко и так сладко, как спал когда-то под боком у отца…
Тихон Иванович разбудил Алешку рано утром осторожным прикосновением к плечу. В эту минуту парню снился дурной сон: Михей снова сговаривает его войти в дом к маложировскому мельнику. Он отбивается, но вдруг вбегает Мельникова дочка, изгибается перед ним, вскидывает до головы юбки с кружевными подолами, манит к себе, жарко шепчет: «Некуда тебе податься, все равно мой будешь».
– Уйди, ведьма! – старается крикнуть Алешка, но в этот миг открывает глаза.
– Это я – дядя Тихон. – Скобеев стоял руки в бока, добродушно улыбался.
Алешка вскочил как ошпаренный, ладонью принялся растирать шею.
– Фу, язви ее, приснилась чертовщина!
– А я уже давненько встал, чай вскипятил, картошку в чугунке сварил. Да, понимаешь, воду стал наливать из кадушки, ковш выронил, грохоток такой поднял – на весь дом, ну, думаю, разбудил парня! Смотрю, а ты даже пальцем не шевельнул. Крепкий у тебя сон. А спишь тихо-тихо, совсем не слыхать.
Скобеев говорил это с каким-то особенным удовольствием, Алешка и не догадывался, как наскучила ему одинокая жизнь, когда дома не с кем словом обмолвиться.
– Ну, я сейчас буду готов. – Алешка натянул штаны, рубаху, кинулся босой к умывальнику.
– А ты это зря – босиком. Домишко дырявый, пол холодный, как лед. Застынешь… Полотенце, Алеша, там, у рукомойника.
Алешка не привык к таким нежностям. Случалось, начинал ходить босым до Пасхи, когда снегу по ложбинкам было еще полным-полно.
– Пустяки, дядя Тихон! Такой холод мне нипочем!
– А все ж таки, Алексей, к чему без нужды храбриться? Возьмет она, болячка-то, и прилипнет, подкосит…
Алешка слушал Скобеева, умывался холодной-прехолодной водой, а во всем теле – жар и пыл. Нет, что ни говори, а приятно, да как еще приятно, чувствовать заботу о себе, знать, что рядом человек, который доволен, что ты с ним вместе.
Завтракали в маленькой кухоньке, у плиты. Тихон Иванович то и дело потчевал Алешку, вспоминал попутно всякие назидательные присказки насчет еды.
– Ешь, Алеша, плотнее. Обедать будем не так скоро и прямо на берегу, в затоне… Покрепче заправиться с утра – это хорошо. Недаром в старину говорили: «Как утром полопаешь, так днем потопаешь». А вот у восточных людей иначе говорится, а про то же самое: «Завтрак съешь сам, обед раздели с товарищем, а ужин отдай врагу». И русские наши немало насочиняли: «Ужин не нужен, да дорог обед…» Я, грешный, на еду хоть не очень жадный, а люблю, чтоб все было при мне: и завтрак, и обед, и ужин.
Алешка ел под этот мерный и ласковый говорок Скобеева и невольно вспоминал свое житье-бытье у Михея.
…Как-то утром занемог Алешка. Ночь провел в хлеву. Не спалось. Утром пошел в дом к хозяину завтракать – на еду смотреть тошно. Михей заметил, что ложка у работника снует от чашки ко рту почти пустой. Зыркнул он злыми глазами, крикнул:
– Ты что, падла, брезгуешь, что ли?
– С души воротит. От хвори, никак.
– Ешь силком! А то и навильника с сеном не подымешь! И насчет хвори забудь. В сеннике – две охапки сена. Пять возов нынче доставишь.
Алешка глотал против воли, с трудом. День он провел на морозе. Лихорадка трясла его, стучали зубы, холодный пот застилал глаза, в ногах и руках дрожь, в мускулах нудная ломота. А чуть передых сделаешь от работы – стужа вползает под шубенку, по взмокшим плечам ползет к шейному позвонку, и от этого лихорадит еще сильнее…
После завтрака Скобеев ушел в свой закуток. Вернулся он в теплых стеганых брюках, в телогрейке. Алешка тем временем вымыл в миске посуду, поставил на плиту подсушить. Скобеев осмотрел тарелки, стаканы, вилки.
– Проворные у тебя руки, – похвалил он. Помолчав, добавил: – И прилежные… Я, брат, как-то сызмальства невзлюбил неряшество. И в грязный стакан ни за что чай не налью. А только сейчас можно было не мыть. Я все это вечером делаю.
Похвала Скобеева была приятна Алешке. «Эх, дядечка Тихон, – подумал он, – наставил бы меня на хорошее дело, я б тебе такое проворство показал, что ты ахнул бы».
Скобеев кинул взгляд на ходики, тикавшие со стены, подошел к вешалке, усмехнулся.
– Отчизна, Алеша, на труд, на подвиг зовет. Пора, братец мой.
Пока добирались до устья Ушайки, рассекавшей город на две части, Скобеев знакомил Алешку с подробностями своей теперешней жизни.
– В прошлом, Алеша, был я обыкновенным механиком. Плавал и на пароходах и на катерах, работал в Самульском затоне в судоремонтных мастерских. А потом призвала меня партия и сказала: «Быть механиком мало. Станешь вдобавок заведующим торговой плавучей базой. Берись-ка за новое дело». Отродясь я не думал, что буду когда-нибудь спецом в торговом деле. А пришлось! Отправился на торговые базы и склады. Учился у знающих людей, как товары содержать, как правильно, без просчета для государства, без обсчета покупателя сбывать их рыбакам и охотникам. Но и этого оказалось мало. Пришлось учиться закупке пушнины, соленой рыбы, кедрового ореха, сосновой смолы, сушеных ягод… А зима наступает, моя плавбаза встает на ремонт. Тащить ее в большие затоны резона нет. Нашлось удобное местечко в протоке рядом с устьем Ушайки. Льдом особо не затирает и полой водой не смывает. В затишке! Вот сам посмотришь!
Вскоре по тропке, занесенной снегом, спустились с крутого берега. И вот он, затон плавучей базы. Прижимаясь к яру, вмороженные в синеватый двухаршинный лед, застыли скобеевские баржи и чумазый, с ржавыми потеками катер; лед возле судов был выколот, глубокие траншеи тянулись влево-вправо. Баржи и катер стояли на ледовых опорах, как на специальных подставках. Тут же, возле барж на откосе, – теплушка, сбитая из толстых сосновых плах.
Скобеев загремел замком, открыл теплушку. В ней железная печка, верстак с тисками и набором инструмента, по углам всякая всячина: ведра, снятые с барж, витки жести, банки с краской, бочонки со смолой, пакля в тюках, круги канатов, якоря.
Запахи здесь другие, чем в пимокатне или в хлеву. Алешка повел носом: дух здоровый, пахнет не противно, а даже вкусно – жить можно.
– Тут мы и обедаем, когда домой идти охоты нет, – сказал Скобеев и покосился на печку.
– Сейчас, дядя Тихон, я ее распалю, – перехватив его взгляд, сказал Алешка.
– А что ж, давай! В холоде неуютно. А потом клей надо варить. Хочу вон планки склеить, на водомерную рейку, – ответил он, а про себя подумал: «Ну, парень, ну, остер у него глаз!»
Алешка схватил топор, в мгновение ока искрошил горбыль на щепки, достал из-под верстака какие-то завалявшиеся стружки, сунул в печку, и она загудела от первой серянки. В раскрытую настежь дверцу хлынули игривые огневые блики, покрыли Алешкино лицо позолотцей. «Ловок», – с улыбкой в глазах отметил Скобеев.
Чуть только вольным душком потянуло от печки, Алешка скинул полушубок, принялся наводить порядок. Скобеев помешивал палочкой клей в жестяной банке, то и дело поглядывал на Алешку. Видать, силенка водилась у парня! Круги каната он передвигал играючи. Бочонки со смолой из угла в угол перенес, как кутят, бережно прижимая к груди.
– А ты силач, Алешка! Бочонки-то три пуда весу! – не удержался Скобеев.
Парень от похвалы зарделся, как бы в свое оправдание сказал:
– Хозяева научили. К последнему, к Михею Колупаеву, нанимался, так он заставил вначале двухпудовую гирю левой рукой выжать. «Мне, говорит, слабосильного не надо, я сам хилый».
– Ах, живоглот беспощадный! – возмутился Тихон Иванович.
За стеной теплушки раздался говор. Скобеев прислушался, с усмешкой сказал:
– Собирается мой боевой экипаж.
Дверь раскрылась, вошли двое мужчин. Первый был низкорослый, плотный, на кривых ногах, расставленных широко и с некоторым вывертом ступней. Чувствовалось, что стоит он на земле цепко, как припаянный. На круглом немолодом лице желтые глаза, нос с горбинкой и крупными подвижными ноздрями, пышные, пшеничного цвета усы. Второй – высокий, тощий, с сухим лицом, с выбритыми до синевы щеками. Он чем-то напоминал самого Скобеева.
– А, да у нас новичок! – громким, даже каким-то зычным голосом сказал усатый. – Ну, будем знакомы!
Лаврентий Лаврентьевич Лаврухин. Попросту и во всех случаях жизни – Лавруха.
– Алешка… Бастрыков Алексей… В деревне прозывали Горемыкиным. – Алешка пожал руку Лаврухе, повернулся ко второму.
Тот протянул свою костистую руку, длинную и прямую, как жердь.
– Василий Еремеич Котомкин. Для всех окружающих – от жены до начальника базы – Еремеич.
Лавруха и Еремеич откровенно разглядывали Алешку, дымили цигарками, ухмылялись: краснощекий, чубатый верзила располагал к себе.
Через две-три минуты Алешка уже знал, что Лавруха – моторист катера, а Еремеич – штурвальный, «заврулем», как он в шутку сказал о себе.
Скинув полушубок, Лавруха вытащил из ящичка верстака нанизанные на проволоку кольца, загремел ими. Еремеич потуже подтянул опояску, поглубже нахлобучил шапку. Заметив его сборы, Скобеев сказал:
– Особо посмотри, Еремеич, лед под первой баржей, чтоб она не осела и не перекосилась.
– А как же, посмотрю. Околоть надо побольше вокруг нее.
– Вот-вот, – одобрил Скобеев. – Немного погодя придем все, околем. Приналяжем артелью.
Еремеич ушел, и в теплушке каждый занялся своим делом: Лавруха протирал кольца, Алешка наводил порядок в углах, Скобеев, чуть присвистывая, склеивал легкие, гибкие рейки.
Еремеич вернулся раньше, чем намеревался.
– Ты знаешь, Тихон Иванович, со стороны реки такая трещина – ужас! На четверть лед раздвинуло! – заговорил он, едва открыв дверь. – И прямо на подставы первой баржи ползет. Как бы не перекосило!
– Ночью, видать, трахнуло. Морозец был, скажу тебе, ого какой! – зычно добавил Лавруха.
– Выходит, надо упредить. Пошли, подолбим. Одевайся, Алексей, если охота есть с пешней поиграть, – отодвигая табуретку, скомандовал Скобеев.
Все быстро оделись, вышли из теплушки на волю.
Небо чистое, высокое и синее-синее. Солнце было еще холодным, но светило ярко и с такой щедростью, что блестели даже баржи, почерневшие от осенней мокроты и ветров. На фоне глубокой синевы речной простор, закованный льдом, забитый сугробами, казался не просто белым, а ослепительным, пылавшим белизной до рези в глазах. Заснеженная равнина тянулась километров на десять до бурого леса, и только в одном месте ее как бы прошивала темная строчка – гужевая дорога.
Алешка сощурился, смотрел то на небо, то на высокий городской берег, застроенный продолговатыми, из красного кирпича пакгаузами, заставленный вытащенными на сушь паузками, катерами, козлами и трапами причалов, лодками, мостками. По всему берегу Томи насколько хватает глаз дымились костры. Ветерок доносил от тех костров запах смолы. Еремеич дал Алешке увесистую пешню. Засунув рукавицы в карманы полушубка, в ожидании, когда получат свой инструмент остальные, он стал перебрасывать пешню из руки в руку, разминая мускулы. Давно, очень давно не было ему так хорошо, как сейчас…
– Ну, божий человек Алексей, пойдем, – с усмешкой сказал Скобеев и на мгновение доверчиво, ласково полуобнял парня. Рука его пробыла на Алешкином плече две-три секунды, но словно ток радости прошел от нее по всему телу.
– Пошли, дядя Тихон, пошли, – с каким-то яростным нетерпением сказал Алешка, взмахнув пешней.
Цепочкой – впереди Скобеев, потом Алешка, а за ним Лавруха и Еремеич – они отошли от барж на некоторое расстояние и остановились, обернувшись к берегу. Потом разошлись друг от друга шагов на десять, встали на одну линию.
– Тут долбить не передолбить, – прикрываясь от солнца рукавицей, сказал Скобеев и вздохнул с явным огорчением.
– А куда пойдешь? Кому скажешь? С Господом Богом спорить не станешь. Морозцем сегодня ночью тюкнет еще разок, и повиснут над щелями наши баржи. Тьфу! – Лавруха сдвинул мохнатую шапку-ушанку из собачьей шкуры на затылок и плюнул на ладонь, готовясь ударить пешней.
– А потом легче будет, Тихон Иваныч, как таять начнет. Вода в ложбину скатится, скорее паузки на себе подымет. – Еремеич тоже наподобие Лаврухи сдвинул шапку, одернул свой кургузый полушубок.
– Раз так – долбанем! – почти крикнул Скобеев и вонзил пешню в зеленоватый, с голубым отливом гладкий лед, очищенный в этом месте ветрами от снега.
Лавруха ударил ему вдогонку. Размахнулся и Еремеич. Осколки льда со звоном, блестя как стекло, полетели во все стороны. Острые, особым приемом закаленные пешни зычно застучали, полыхая на солнце обточенной сталью.
Алешка с минуту не вступал в этот перестук. Он присматривался, стараясь понять, как Скобеев с помощниками рубят лед. Конечно, не в первый раз держал он пешню в руках. Как-никак у Михея Колупаева на дворе было двадцать голов скота. Чтобы их в зимнее время утром-вечером сгонять к реке на водопой, надо было немало постучать пешней. Даже старые проруби мороз схватывал в одночасье и замораживал накрепко. Та работа была совсем иной, но и в этой Алешка не увидел хитрости, однако приноровиться не мешало.
И в эту минуту, которую он пропустил, он понял самое главное: успех зависит от чередования ударов. Один удар должен быть прямым и сильным. Пешня при этом должна пронзать лед как можно глубже, разрывать его поперек. Для такого удара нужна только сила. А вот второй удар требовал уже сноровки. Входя в лед не вертикально, а как бы по его верхнему слою, пешня взрывала надорванный прямым ударом лед, крошила его и на гладком месте образовывала искрящийся ворох.
Алешка поднял пешню, секунду-другую подержал на весу, ударил что было силы. Она вошла в лед чуть не по деревянную рукоять. Алешка потянул пешню вверх – не поддалась, стала намертво. Расшатал ее, вытаскивая, сообразил, что перестарался. Ударять следует легче, иначе основное время займет не долбежка, а вытаскивание пешни.
Раздвинув ноги пошире, точь-в-точь как это делал Скобеев, Алешка согнулся и рубанул по верхнему слою льда. Сталь легко раздробила лед, но удар оказался слишком поверхностным. Вороха не возникло, по сторонам разлетелись тонкие пластины, прозрачные, как слюда. Алешка понял свою ошибку мгновенно. Острием пешня должна рваться вглубь, к отверстию от первого удара, а гранями вспарывать покров, вздымать его.
Скобеев с помощниками был впереди Алешки уже шагов на пять – семь, когда наконец парень понял, в чем у него промашка. Пешня стала вдруг послушной и пронзала лед не больше и не меньше, чем требовалось для спорой работы.
Алешка сбросил полушубок, повязал опояску прямо поверх рубахи, снял и шапку. Ну, теперь можно было и приналечь! Он ударил и раз и другой, и пошел, и пошел, и пошел! Пешня у него в руках не просто мелькала, а сновала, как челнок у ткачихи. Удары, хруст и звон льда слились в один протяжный гул. Пригодились, да еще как, силенка и сноровка, накопленные нелегким трудом в пимокатне Михея Колупаева. Скобеев и его помощники то и дело останавливались, чтобы перевести дух, – Алешка был неутомим. Он не долбил лед, а таранил его страшным натиском рук, ног, всего своего гибкого мускулистого тела. Позади него оставался глубокий проем. Вздыбленный лед лежал по краям, будто его набросали сюда лопатой. За десять – пятнадцать минут Алешка вышел на линию Скобеева с помощниками. Заслышав этот непрерывный звук сокрушаемого льда, Скобеев выпрямился, отставил свою пешню. Прекратили работу и Лавруха и Еремеич. Прошло еще две-три минуты, и Алешка опередил их, вырвался вперед, – увлеченный работой, будто сросшийся и с пешней, и с торосами льда, он шел и шел к паузкам, не оглядываясь.
Скобеев, Лавруха и Еремеич глядели на него как завороженные, переговаривались, не в силах приняться за работу.
– Ну и ломит, чертяка!
– И где ты его выкопал, Тихон Иваныч? Ну, огонь! Вот огонь!
– Комсомол прислал. Батрачонок. И такой горькой судьбы паренек – послушаешь, слезы на глазах закипают.
Алешка дошел до старой канавы возле паузков и только теперь разогнулся. Вытирая ладонью взмокшее лицо, обернулся. Скобеев и его помощники стояли, опершись на свои пешни, смотрели на него и с удивлением и с восторгом.
– Одевайся скорее, пар от тебя пошел! – закричал Скобеев.
Лавруха схватил Алешкин полушубок, затрусил ему навстречу.
– Голова остынет! – хватая шапку паренька, заторопился вслед за Лаврухой Еремеич.
Алешка набросил на плечи полушубок, подставил голову Еремеичу, и тот нахлобучил ему шапку до самых ушей.
– А хозяева в деревне из-за тебя не ссорились?.. Сердце-то не надорвал? Ты уж, братец мой Алексей, зря так… – Скобеев заглядывал Алешке в лицо, и чувствовалось, что ему и приятно и радостно сейчас за парня.
– Привычный я, дядя Тихон! Ей-богу, привычный! Бывало, у Михея Колупаева с утра до ночи вальком лупишь, и ничего. Да ведь пар, смрад, разве такой дух-то, как здесь?
– Видать, Алеха, родители твои в добрый час тебя сотворили, раз удался ты такой, – смеялся Еремеич.
– Мировой бы из тебя боцман получился, Алексей! С такой силой только на флоте и служить! – поглаживая усы, прогудел Лавруха.
– Ну, отдыхай, Алеша. А мы тем временем свой урок исполнять будем. Приотстали от тебя. – Скобеев поднял пешню, изловчился к удару, обернувшись к парню, шутливо пригрозил: – Махом догоню! – И застучал часто-часто.
Лавруха и Еремеич смотрели на него, бросали на Алешку лукавые взгляды, подзадоривая, покрикивали: «Давай, Тиша, давай!» Но сердце да и сила у Скобеева были не Алешкины. Запыхавшись, он оставил пешню.
– Эх, и слабак же ты, Тихон! Вот у кого учись! – Азартно поблескивая глазами, Лавруха замахал своей пешней. Но он не прошел и того расстояния, которое одолел Скобеев. Отбросив пешню, конфузливо развел руками. – Ф-фу! Вот холера ее возьми! Сердце куда-то подпирает под горло, того и гляди, на волю вырвется.
– Негожи вы, мужики! А ты, Лавруха, зажирел. Вот как надо! – Еремеич поплевал на ладони, вызывающе поглядывая на Лавруху и Скобеева, ударил пешней. Работа у него спорилась, и он прошел дальше всех, но обрести ловкость и скорость, равные Алешкиным, ему все-таки не удалось. Он остановился внезапно, чувствуя, что в глазах поплыли разноцветные круги.
– Нет, братцы мои, тут, окромя силенки, талант нужон. – Еремеич стоял, опираясь на пешню, вытирал пот с худощавого лица, грудь колыхалась, дышал со свистом.
Алешке забавно было смотреть на взрослых мужчин, втянувшихся в азартное соревнование. Забавно и приятно. Ведь никто из них не перегнал его!
После перекура Скобеев, принимаясь за работу, всерьез сказал:
– Чур, не вперегонки! Всяк как может.
Алешка начал тоже долбить слегка, вразвалочку, но через две-три минуты не выдержал. Пешня застрочила по ледяному полю, загудело, захрустело вокруг. Он пошел, пошел, вздымая за собой поземку из искрящейся ледяной крошки и снега.
И тут произошло неожиданное. Скобеев, только что предупредивший, чтоб работать «не вперегонки», застучал пешней в два раза быстрее. Лаврухе и Еремеичу его горячность передалась, как по проводам. И такой раж охватил мужиков, что задрожали берега Ушайки. Извозчики, стоявшие в ожидании седоков на своей бирже возле деревянного моста через речку, заслышав этакий гул, кинулись смотреть, что происходит. До ледохода было еще далеконько, а лед хрустел, будто его ломало, как при первых сдвигах в паводок.
Когда Алешка снова, по второму кругу обойдя всех, чуть не уткнулся в баржу, на круче уже маячили люди. Они удивленно переговаривались, не зная, чем объяснить такую запальчивость мужиков.
– Ну что вы там вылупились? Или не знаете, как бывает у мастеров? – закричал Лавруха зевакам, которые продолжали стоять на берегу, несмотря на то что долбильщики уже прекратили работу.
– Ну и схватились! Прямо как ребятенки! И наворочали сколько! Без азарту за день не сробишь! – переговаривались на круче.
В теплушку отправились все вместе. Шли не спеша. На плечах пешни, как ружья. Посмеивались друг над другом. Алешку не трогали. На душе у него сейчас было светло, солнечно, как на небе. Приняли его эти бывалые, пожившие люди как своего, как равного. А он боялся, тревожился. Думалось, что потребуются какие-то объяснения: откуда появился, где жил, способен ли на какую-нибудь стоящую работенку или круглый неумеха, мастак черпать из чашки ложкой!..
Отдых в теплушке был недолгим. Скобеев предложил сварить смолу, вар и начать конопатить барку, благо день теплый, припекает даже. Весна долго ждала, зато надвинулась сразу. Пока Скобеев разводил костер на самой кромке берега, Лавруха, Еремеич и Алешка повесили на козлы пятиведерный котел, сложили в него куски вара, вскрыли бочку со смолой, наковыряли ее долотом и побросали туда же, в котел. Потом Еремеич приволок из теплушки тюк кудели. Тюк развязали, принялись скручивать куделю в косы.
Костер запылал, задымил черными завитушками. Вскоре котел забулькал, запыхтел, и по всему берегу разнесся аромат смолы.
Когда варево стало жидким, Скобеев принялся длинными деревянными щипцами окунать косы кудели в котел и бросать их на фанерный щит. В одно мгновение Алешка подносил этот щит Лаврухе и Еремеичу. Те брали руками в кожаных рукавицах пропитанную кипящей смолой косу за концы и, растянув ее вдоль барки, стамесками и деревянными молотками забивали в пазы. Работа шла в стремительном темпе: раз-два – и готово!
– Велик ли один человек, а смотри, как в деле важен! – трубил Лавруха. – Встал Алексей на подноску кудели, и все пошло быстрее в десять раз. Помнишь, Тихон Иванович, как в прошлом году на этом самом месте не ладилось? Кой ты куделю вынешь из котла, принесешь, а она уже остывает, холера ее забери…
– Четверо – не трое. У троих шесть рук, у четверых – восемь, – смеялся Скобеев, и все ласково посматривали на Алешку.
Вдруг Скобеев вскинул руки над головой, крикнул:
– Стоп, братцы! И куделя и смола кончились!
Лавруха и Еремеич забили последний паз, победно размахивая молотками, подошли к костру.
– После такой работы, Тихон Иванович, и пообедать не грех, – сказал Еремеич. – А что, если наварить картошки? Я соленой рыбы принес.
Лавруха шумно одобрил предложение Еремеича. Согласился с ним и Скобеев. Обед готовили сообща: Скобеев принес из проруби два ведра воды, разлил воду по котелкам, Еремеич и Алешка начистили картошки, а Лавруха наколол дров. И картошка и чай на жарком костре поспели быстро.
Обедали в теплушке. Кроме картошки, соленых чебаков и черного хлеба, на столе ничего не было. Но Лавруха, исполнявший обязанности раздавальщика, приправлял эту скудную пищу веселым словцом:
– Кушайте, Тихон Иванович, гусятинку-поросятинку. Вот ножка, вот крылышко, а это сладкая, вся в желтом жирке гузка, персидскому царю такая вкуснота не снилась, – сыпал он как по-писаному, накладывая картошку на обыкновенную фанерную дощечку. – А тебе, Еремеич, я кусочек пожирнее положу. Ты из себя сильно худой, тебе жир-то впрок пойдет. Ешь, ешь, не стесняйся, наращивай тело. – И он, почтительно изогнувшись, подносил Еремеичу дощечку с парящейся картошкой. Алешку тоже потчевал от всей души, приговаривая, что он молодой, в рост еще идет, и ему особенно важно питаться мясом, салом в маслом. Мускулы, мол, еще крепче будут от такого питания.
Скобеев, Еремеич да и Алешка покатывались со смеху, а Лавруха даже не улыбался. По его серьезному виду можно было подумать, что он говорит правду, не выдумывает.
Обед и в самом деле показался Алешке необыкновенно вкусным. Хорош был и чай. Собственно, чая в точном смысле этого слова не было. Скобеев бросил в котелок горсть чаги. Чага разопрела, окрасила кипяток в темно-коричневый цвет, отдавала приятным березовым запашком. После крепко соленых чебаков Еремеича пилось с истинным удовольствием. Лица у всех раскраснелись, на лбах заблестели капельки пота, Лавруха громко крякал, аппетитно причмокивал языком, приговаривал:
– Эх, холера ее возьми, и пьется же с гусятинки-поросятинки…
После обеда всем скопом направились к катеру. Лед вокруг него был давно расчищен, и катер, как и барки, покоился на подставах. Но, побаиваясь, как бы подставы не подтаяли и не рухнули раньше времени, Скобеев решил протолкнуть под корпус катера увесистые лиственничные сутунки. Их скатили прямо с кручи. Пробив пешнями отверстия, сутунки положили поперек корпуса катера. Теперь уже никакие причуды весны не могли оказаться опасными. Когда четвертый сутунок просунули под самую корму, над городом, над всем заснеженным простором Заречья раздался протяжный гудок.
– Ну вот, и шабашить пора! – сказал Скобеев и посмотрел в ту сторону, откуда несся этот густой, бархатистый, приятный уху Алешки звук.
Но слова Скобеева озадачили парня. Он беспомощно заморгал, поглядывая то на Тихона Ивановича, то на Лавруху с Еремеичем.
– Это паровая мельница бывших Фуксмана и Кухтерина, Алеша, голос подает. Значит, четыре часа, кончай, рабочий люд, работу до завтра, – пояснил Скобеев, заметив недоумение на лице парня.
– А солнце-то еще высоко! – воскликнул Алешка. Он не привык у деревенских богатеев работать по часам. Его время измерялось иначе: от темна до темна.
– До революции, Алеша, и рабочие трубили по двенадцать часов, а случалось и больше, – сказал Скобеев. – А теперь хозяин – сам рабочий класс. Он устанавливает порядки. Чтобы хорошо работать завтра, чтобы победить завтра – надо беречь силы сегодня, отдыхать сегодня. Михей твой о тебе не думал.
– А зачем я ему был нужен? Он о себе пекся.
– В том-то и дело.
Забрав инструменты, понесли их в теплушку. Алешка тащился с пешней и топором последним. Революция, конечно, правильно сделала, что отменила изнурительно длинный рабочий день, но вот ему лично сегодня не хотелось бросать работу, расставаться с этими людьми, уходить с речного простора, на котором и дышалось-то по-особенному легко.
Лавруха и Еремеич жили в верхней, нагорной части города. Они забрали свои кошелки из-под еды, попрощались и ушли. Скобеев не спешил. Он разобрал инструменты, разложил их по ящикам, потом достал из-под верстака какие-то гайки и болтики и бросил в банку с керосином. Только после этого он взял тяжелый амбарный замок, открыл дверь, загремел щеколдой.
– Ну, двинулись, Алексей-душа!
Алешка был убежден, что их путь – к домику Скобеева. Но едва перешли мост через Ушайку, как он зашагал мимо базарной площади вправо.
Бродя в поисках работы, Алешка сравнительно неплохо изучил старый сибирский город.
– А мы куда, дядя Тихон? – спросил он, видя, что направляются они в сторону, противоположную пристанскому району.
– В клуб молодежи зайдем, Алеша. Со мной, стариком, тебе скучновато будет с утра до ночи торчать. Да и свободное время не надо попусту прожигать. Жалеть потом будешь.
Алешке нравилось быть со Скобеевым, и он принялся горячо разубеждать его:
– Что вы, дядя Тихон, скучновато! Очень мне хорошо с вами. Да и привык я ко всякому. Бывало, на отгонных лугах пасешь скот, и все-то летечко один-одинешенек. Приедет хозяин – привезет на две недели еду, наругает тебя ни за что ни про что, и снова никого. Со скотиной, бывало, разговаривал, чтобы речи не разучиться. А то пел еще во всю глотку…
Алешка беззаботно рассмеялся, но у Скобеева от его рассказа сжалось сердце. С каждым часом их знакомства, узнавая все новые подробности жизни этого паренька, Скобеев чувствовал, как входит он в его душу, становится по-сыновнему дорогим и близким.
Скобеев шел рядом с Алешкой молча, но думал о нем, и не только о нем, а обо всей жизни, которая текла неостановимо, день за днем, как река, неся на своих потоках людские судьбы.
«Пел во всю глотку… Пел не от веселья, не от радости, а чтобы не разучиться речи… Да разве для такой жизни рожден человек? И ты молодец, парень, что не надорвал себя, не ожесточился против людей, не разучился смеяться над тем, что у другого могло вызывать только слезы… Знать, из хорошего теста замешен ты, батрачонок…» Занятый своими думами, Скобеев прошел бы мимо клуба, если б Алешка не остановил его:
– Дядя Тихон, кажется, здесь входят. Вон и вывеска: «Клуб молодежи “Юный ленинец”.
– Тут, Алеша. А меня понесло, брат, куда-то, – сконфузился Скобеев. – А ты знаешь, мил человек, что в этом доме помещалось до революции? Жандармское управление! Доводилось мне дважды бывать тут. Один раз схватили нас за городом, на сходке по случаю Первого мая. Ну, были мы тогда молодые, совсем еще желторотые, а все-таки обвели жандармов, от всего отперлись. Мы, дескать, попали понапрасну, пришли сюда на Басандайские горы с девушками гулять, а вы тут нагрянули как снег на голову. Потомили нас дня три на казенных харчах и выгнали… А вот второй раз хуже было. В войну это случилось. Был я уже большевиком и ходил помощником механика. Через меня комитет снабжал ссыльных большевиков Нарымского края подпольной литературой. Приходилось иной раз перевозить и беглецов… И вот раз посадили мне на пристани в Инкино какого-то ссыльного. Наказали: человек позарез нужен партии в Петербурге, не рядовой товарищ, за многих ворочает головой. Довези до Томска во что бы то ни стало.
Отвел я его в свою каюту, сам ушел в машинное отделение. Подходим к Молчановой. Выбежал я на борт, глянул на берег – и обомлел. Полицейских и жандармов никак не меньше двух десятков. Бросился я в каюту, говорю тому: так и так, дела наши плохи. Он посмотрел на меня с усмешкой: «Ну, говорит, помирать раньше срока не будем. Возьми мою тужурку, а свою робу дай мне». Схватил он тут мою замасленную кепку, натянул на плечи брезентовую куртку, и вышел из каюты. Что же, думаю, он будет дальше делать. А в Молчанову везли мы груз. Матросы скучились возле ящиков и мешков. Как только пароход пристал, он кинулся к ящикам, взвалил один на спину и, сгибаясь, ступил на трап самым первым. Не то что жандармы, даже наши матросы не успели заметить, когда он это проделал. И ушел! – Скобеев засмеялся и, понизив голос, сказал: – Вот, браток, какие люди были! Идет себе прямо в лоб на опасность, смотрит смерти в глаза, и у той поджилки начинают трястись…
Скобеев умолк. В его чуть прищуренных глазах горел живой огонек воспоминаний. «Любит дядя Тихон смельчаков, – подумал Алешка. – О тяте надо ему рассказать. Бывали у него истории с белыми похлестче этой…»
– Ты, поди, спросишь: «А потом что?» – заговорил Скобеев, как-то неожиданно прервав свое раздумье. – А было то: жандармы учинили обыск всего парохода. Иголку бы отыскали, не то что человека! Ворвались в мою каюту. Быстро нашли студенческую тужурку и форменный картуз: ссыльному человеку нелегко было заменить одежду. Купить негде, да и не на что. А в бумаге, какая у жандармов на руках, все приметы: в чем одет человек, какого роста, какого обличья. Тут меня как миленького – раз, и готово: ты, дескать, побег устроил, – арестовали. Привезли в Томск, и пошло и поехало. Три месяца денно и нощно мытарили. Чего со мной не творили! И лупили, и без воды держали, и награду обещали, чтоб я только сознался. Выстоял все-таки. Вот, смотри, Алексей: тут в подвале камеры у них были. Видишь, вот оно, окошечко. Здесь я и томился…
– Вижу, дядя Тихон. – Алешка в самом деле неотрывно глядел на перекосившееся окошечко подвального этажа, уже вросшего в землю. Рассказ Скобеева дал ему живое представление о жизни, которую он знал только по воспоминаниям старших.
– Ты и сам, дядя Тихон, под стать тому беглецу. Герой.
– Ну, какой там герой! Таких героев было – не счесть. Доведись тебе, и ты смог бы…
«А смог ли? Не сдрейфил бы?» – спросил себя Алешка и задумался, не посмел легким словцом отделаться перед своей совестью. По отцу знал: не простая это штука – смочь, не сдрейфить, когда жизнь по-настоящему прижмет.
– И ты знаешь, что было с тем? – заговорил снова Скобеев. – Дошел-таки до Петербурга. Всех жандармов и шпиков вокруг пальца обвел, а дошел. Сказывали потом товарищи: самому Ленину был он нужен, переправили его к нему, за границу. Видать, из его помощников кто-то был. А кто, до сей поры опознать не могу… Ну, пойдем в клуб.
Они вошли в здание. По гулким каменным ступенькам поднялись на второй этаж. Алешка вообразил на мгновение, что ведут его сюда под конвоем. Это не Скобеев, а он, Алешка, вез в своей каюте беглеца, которому место не в глухой нарымской деревушке, а в Петербурге, рядом с Лениным. «Смочь! Только бы смочь!» – думал Алешка. Мысли его прервались внезапно. В раскрытую дверь выплеснулись звонкие голоса:
Наш паровоз, вперед лети!
В Коммуне остановка.
Иного нет у нас пути,
В руках у нас винтовка!
Скобеев тронул Алешку за руку, чуть придержал его:
– Слышишь, Алеша? Это ведь твои дружки-приятели поют. Живет комсомол, действует!
У Алешки от волнения замерло сердце. Чувствуя легкую дрожь в коленях, он переступил порог зала, наполненного парнями и девчатами. Две сотни глаз, задумчивых, спокойных, озорных, веселых, отчаянных, взглянули на него с живым любопытством, как бы спрашивая: «Кто ты, парень? Откуда взялся? Будешь ли ты настоящим товарищем? Сможешь ли?»
Алешка зарделся, пот выступил у него на лбу, но головы он не опустил и глаз не отвел в сторону.
Глава шестая
День за днем все больше приживался Алешка в городе. Тут были у него теперь работа, хлеб, дом, были добрые люди. Деревня вспоминалась реже, тоска по ней становилась глуше. Вечером он засыпал с желанием, чтобы ночь прошла быстрее. Утро встречал с весельем в душе. Ему нравилось все, что предстояло: завтрак вместе со Скобеевым, потом путь с ним до затона, а там работа в компании с ловкими, сильными мужиками, обед довольно скудный по недостатку харчей, но зато обильный насчет выдумок Лаврухи, всякого рода рассказов и шуток Еремеича и Скобеева.
А уж как желанно было приближение вечера!
За деревянным мостом через Ушайку они расставались. Скобеев отправлялся своей дорогой – домой, Алешка своей – в клуб молодежи.
– Ну, в добрый час, Алеша. Иди учись уму-разуму. Вернешься – расскажешь, – напутствовал его Скобеев. – К ужину ждать тебя буду.
В клубе ежедневно что-нибудь происходило: то показывали кинокартины, то студенты университета или Политехнического института ставили спектакли, то лекторы, обозначенные на афише возле входа в клуб непонятными и потому таинственными словами «доцент», «ассистент», «аспирант», выступали с докладами. Иногда в клубе разучивали революционные песни, потом были спевки комсомольского хора. Бывали и танцы. Но Алешка не проявлял к ним интереса, выходить на круг стеснялся, а глядеть со стороны не хотел.
Любимое Алешкино место в клубе – читальня и библиотека. Прежде всего он заходил сюда, устраивался в уголке, листал журналы, смотрел картинки, читал короткие статейки, заметки, рассказы, стихотворения. За длинные сочинения, особенно за те, которые печатались с продолжением, браться не рисковал. Записался он и в библиотеку. По совету Скобеева пока брал книги только Максима Горького. Нравилось! Иногда книги читали вслух попеременно со Скобеевым. И один и другой за чтением забывали о времени, просиживали до полночи.
В читальне Алешка обычно сидел до начала лекций. Около семи вечера он переходил в соседнюю комнату, которая называлась «Лекционный зал». Лекции читались на самые разнообразные темы: по текущему моменту, по истории, по литературе, по физике, по химии, по технике и чаще всего по геологии. Иногда маленький лекционный зал будто распирало от слушателей, люди садились на стулья по двое. Случалось и так, что желающих собиралось не больше двадцати – тридцати человек. Однако сколько бы на пришло, лекции никогда не отменялись. Этот твердый порядок был по нраву Алешке. Среди лекторов попадались слабоголосые и даже косноязычные, и Алешка непременно выбирал себе место поближе, чтобы все расслышать, ничего не упустить. Но довольно часто он уходил в полном смятении, подавленный тем, что ничегошеньки не понял. Слова вроде у лектора были обыкновенные, русские, но вывести из них какие-то понятия он никак не мог, хотя слушал все с таким сосредоточенным напряжением, что начинало поламывать и поднывать где-то за ушами.
Когда Алешка понимал все услышанное на лекции, он возвращался домой сияющий, еще с порога кричал:
– Все до капельки, дядя Тихон, запомнил! Вот сейчас слово в слово перескажу.
К его возвращению Скобеев выставлял на стол ужин, и они совмещали, как говорится, полезное с приятным. Алешка ел и рассказывал, рассказывал и ел.
– Память у тебя, Алексей-душа, отменная, – сказал однажды Скобеев. – Запоминаешь все хорошо. А все-таки приучись кое-что записывать. Возьми-ка вот для такой нужды тетрадь и карандаш. Тогда тебе легче будет пересказывать. А я, братец мой, большой любитель послушать.
Скобеев достал с полки толстую тетрадь в ледериновом переплете, неочиненный карандаш, подал Алешке.
– Ну, здорово, дядя Тихон! – обрадовался Алешка. Он прижал тетрадь к груди, вертел карандаш в пальцах. От тетради пахло клеенкой, залежалой бумагой, и запах этот напоминал бакалейную лавку. Зато карандаш источал острый и приятный аромат, незнакомый Алешке, и, может быть, потому казался вещичкой таинственной и дорогой.
Тетрадь и карандаш очень помогли Алешке. Вначале он пытался записывать речи лекторов слово в слово, но писать быстро он не умел и вскоре отказался от этого. Решил, что будет заносить на бумагу только то, что может забыть. И получалось хорошо.
– Вот видишь, что значит записывать! – довольный и за Алешку, и сам за себя, говорил Скобеев, замечая, как меняется парень день ото дня, становясь образованнее, смелее, речистее.
Иногда Алешка возвращался поникший и печальный. Ничего не мог рассказать! Не помогала и тетрадь. Скобеев утешал его:
– Не унывай, Алексей-душа, не унывай! Не сразу Москва строилась. Сегодня не понял – завтра поймешь.
Вот погоди, разовьешься побольше – многое станет доступным.
Алешка отмалчивался, втайне яро на себя злился: «Лопух длинноухий! Другие люди как люди, все уразумеют, только я один темный, как пенек в лесу. Болван неспособный!..» Но как бы Алешка в гневе ни обзывал себя, он понимал, что способности тут ни при чем. Прав дядя Тихон – знаний не хватало, чтобы понимать сложные вопросы хитрых наук. И потому что в глубине души он хорошо понимал это – огорчения его быстро проходили. Помогали и утешения Скобеева.
– У тебя, мил человек, все впереди! Ты еще не такое научишься постигать. Вот мое дело – другое. Хоть не старик, а в гору уже не побежишь, одышка давит. Давай-ка садись ужинать, а потом читать Максима Горького будем…
Они ужинали и принимались за чтение. И плавная, певучая речь писателя двумя-тремя волшебными фразами пробуждала воображение, переносила совсем в иной мир. Собственные огорчения исчезали бесследно, как исчезает первый иней, когда землю обогреет лучистое солнце…
Да, мало-помалу привыкал Алешка к городской жизни. Раздумывая в иные минуты о себе, о своем теперешнем положении, он был доволен. Правильно сделала Прасковья Тихоновна Скобеева, что отправила его в город. Иначе нелегко было бы устоять ему под натиском Михея Колупаева и маложировского мельника… Еще труднее было бы найти новое место в Песочной. Но чем дальше, тем сильнее занимала его одна мыслишка: хорошо ли он поступает, не отыскав до сих пор Мотьку Степину? Ведь жили они у Ивана Солдата в его старой, покосившейся избе, как брат с сестрой. Может быть, ей сейчас требовалась какая-нибудь подмога? А возможно, Мотька прочно встала уже на ноги. Давно еще доходил слух до деревни, что учителя помогли ей определиться в какое-то учебное заведение.
Поразмыслив с недельку, Алешка поделился своими тревогами со Скобеевым. Тот выслушал рассказ парня заинтересованно, внимательно и не сдержал упрека:
– Не делают так, дружище Алексей, верные товарищи. Давно надо было отыскать ее.
– А как ее найдешь, дядя Тихон? У каждого встречного не станешь спрашивать: не знаете ли, граждане, мол, Мотьку Степину? Народу здесь – тыщи!
Алешка развел руками, искренне озадаченный.
– Ну, это проще простого! – воскликнул Скобеев. – Имя и отчество ее знаешь? Фамилию знаешь. Год рождения и место рождения знаешь?
– Все знаю.
– А раз знаешь, то и горевать не приходится. На улице Розы Люксембург помещается адресный стол. Там тебе квартиру любого жителя города скажут. Только запрос сделай.
– Вот это да! – изумился Алешка, присматриваясь к Скобееву и решая про себя: не шутит ли тот? Именно трудности в поисках Мотьки, которые ему представлялись непреодолимыми, и останавливали его.
– Вот подожди еще денька два-три – покрасим катер, и я с тобой сам схожу, – пообещал Скобеев, видя, что парень о многих сторонах городской жизни не имеет никакого понятия.
Алешка засмеялся, постучал пальцами по лбу, сказал о самом себе, как о постороннем:
– Ну и балда же ты! Даже и в ум не пришло, что есть такой на свете стол, которому все адреса известны.
– А как же, милый человек?! Здесь город, здесь всех прописывают. И тебя я уже прописал. Вон посмотри мою домовую книгу.
Почти весь вечер Алешка горячо расспрашивал Скобеева о городских порядках. Скобеев охотно и даже с увлечением рассказывал парню о почте и пожарной охране, о водопроводе и канализации, о телеграфе и телефоне, о городских складах продовольствия и топливе.
«И удивится же Матрена, когда явлюсь к ней», – засыпая, думал Алешка, заранее радуясь этой встрече.
На другой день Алешка, как обычно, после работы поспешил в клуб молодежи. Сегодня с лекцией выступала знаменитая в городе женщина. Уже три дня возле клуба висела огромная афиша, на которой четкими буквами было выведено: «Профессор государственного университета Вера Николаевна Наумова-Широких прочитает лекцию из цикла “Сокровища мировой литературы” – “Божественная комедия” Данте».
Ни о «Божественной комедии», ни о самом Данте Алешка, разумеется, ничего не знал. По фамилии он сообразил, что Данте – чужестранец. Писателей других народов и стран читать ему еще не доводилось, и лекция его очень интересовала.
Он пришел пораньше, но лучшие места уже были заняты. Алешка забился в уголок, думал: «Видать, этот Данте большая голова, коли все хотят о нем послушать». Уже по началу лекции понял, что Данте не просто «большая голова», а прославленный на весь мир писатель.
Лекция очень нравилась Алешке. Женщина-профессор говорила просто, понятно, и хотя встречались слова, неведомые ему, они не мешали воображению создать живой образ великого писателя, представить его скитания, его долголетнюю работу над своей знаменитой поэмой.
Когда лекция кончилась, все ринулись к дверям. Вдруг в толпе мелькнуло знакомое, мало сказать знакомое, – родное лицо Мотьки Стениной. Расталкивая впереди идущих, потея от волнения, страшно боясь, что он может упустить ее в этой сутолоке, Алешка заспешил к выходу.
– Мотя! – звонко крикнул он, оказавшись в коридоре. Но его возглас потонул в говоре людей, в стуке и шарканье ног по каменным ступенькам. Алешка крикнул еще громче, и снова никто не откликнулся. «Неужели обознался?» – обеспокоенно подумал он и, опережая всех, выскочил на улицу. Встав возле телеграфного столба напротив клуба, Алешка неотрывным, жадным взглядом всматривался в каждого, кто выходил из дверей.
Ну конечно же он не ошибся. Вот и она, Матрена, – крепкая, ладная, с румянцем, заливавшим смуглые щеки. Они пылали сейчас густым малиновым цветом, и казалось, что поднеси к ним бересту – враз вспыхнет огнем. На девушке были высокие коричневые ботинки со шнурками, чуть не до колен, черная юбка-клеш, отороченное желтым мехом коричневое полупальто и шапка-ушанка, сдвинутая на затылок. Не заметив впопыхах, что Мотьку поддерживает под локоть молодой человек, Алешка кинулся к ней с радостным возгласом:
– Здравствуй, Матренушка! Вон ты какая стала!
Алешка чуть не столкнул двух девчат, оказавшихся в этот момент между ним и Мотькой. Те обозвали парня «дикошарым», но он даже не услышал этого.
– Горемыкин! Алешка! Как ты оказался здесь?! – воскликнула Мотька, и в ее голосе был испуг. Беспечно веселое лицо вмиг переменилось – стало страдальческим, губы перекосились в горькой гримасе. Она торопливо отошла от молодого человека, схватив Алешку за руку, отвела в сторонку. Он заметил перемену в ней, но охваченный радостью встречи, не подумал о причине.
– Как живешь, сестра Матрена? Чем занимаешься? Тоскуешь по деревне или забыла? – заглядывая Мотьке в глаза, говорил Алешка.
Но Мотьке было не до разговоров. Кидая через плечо растерянные, виноватые взгляды, она возбужденно зашептала:
– Не могу, Горемыкин, сейчас говорить с тобой. Приходи завтра в семь. Никольская, тридцать три. Буду ждать… – Не закончив, она бросилась к молодому человеку, нетерпеливо поглядывавшему вокруг. Едва она подошла к нему, он взял ее под руку, и они зашагали по тротуару быстро, не оглядываясь.
Алешка стоял не двигаясь, будто пришибленный, все еще не веря тому, что произошло. Покачивая крутыми плечами, Мотька уходила с чужим, незнакомым парнем как ни в чем не бывало. Издали уже до него донесся ее веселый смешок, показавшийся Алешке нестерпимо обидным. «Эх, Матрена, Матрена, видать, не впрок пошла тебе городская жизнь», – шептал Алешка, провожая Мотьку с ее ухажером долгим горестным взглядом.
Когда они скрылись, Алешка повернул в переулок и медленно, по-стариковски шаркая ногами, поплелся домой. Если б часом раньше кто-нибудь сказал ему, что его сеструха по сиротству, Мотька, не выкажет никакой радости при встрече с ним, он полез бы в драку. «Уж не с ума ли она спятила? Или, может быть, забыла, как мы больше года на полатях у Ивана Солдата чуть не в обнимку спали?» – рассуждал он.
Возле дома Скобеева Алешка остановился. Наверняка Тихон Иванович попросит его пересказать лекцию. Но этот случай с Мотькой вышиб из головы все, что он так старательно запоминал. Алешка простоял у ворот с полчаса, приводя свои мысли в порядок. Наконец большим усилием воли он избавился от горького осадка и направился в дом. А Скобеев с первого взгляда понял, что с парнем произошло что-то неладное. Он был мрачнее тучи.
– Стало быть, крепкий орешек этот Данте? Не поддается с первого раза? Не унывай, Алексей-душа, – заинтересованным тоном заговорил Скобеев.
На улице Алешка решил, что он пока воздержится рассказывать о встрече с Мотькой, по крайней мере до завтра, когда снова повидается с ней. Ведь столько разговору было у них о поисках этой подлой девки! Но от Скобеева ничего не скроешь, не то что на целый день, на одну минуту!
– Про Данте, дядя Тихон, все понял, а вот с Мотькой беда! – сказал Алешка, пряча глаза, на которых вот-вот могли выступить слезы.
– Что за беда? Ну-ка, выкладывай! – Скобеев придвинул парню табуретку, сам сел рядом на ящик. Алешку он слушал с озабоченным видом, стягивая к переносью морщинки со всего худощавого лица. – Ну и что? Ну и ничего, Алексей-душа! – дослушав до конца и заметно повеселев, сказал он. – Девчата есть девчата! Они, брат, такие… Что ж, по-твоему, она должна была бросить ради тебя своего ухажера? А может быть, у них уже дело клеится и они станут мужем и женой? Она, братец мой, Мотька твоя, ломоть уже отрезанный.– Как это так?! – воскликнул Алешка, не представляя Мотьку в роли чьей-то жены.
– А вот так, дружище! По законам жизни. И ты не расстраивайся попусту. Завтра сходи к ней по адресу, и она сама все тебе объяснит.
– Сходить – схожу, а все ж таки не по-товарищески убегать к ухажеру от родни, подождал бы, – пробормотал Алешка, чувствуя, что в доводах Скобеева есть что-то неотразимо убедительное.
– Ладно, Алексей-душа, хватит, не идет тебе ворчать по-стариковски. Давай-ка рассказывай про этого самого Данте. Был у нас на пароходе «Колпашевец» один кочегар с такой фамилией.
– Тот Данте, дядя Тихон, великий из великих. И проживал он в чужой стране, которая прозывается Италия. – Алешка принялся с горячностью пересказывать лекцию, через минуту забыв о всех огорчениях, причиненных ему Мотькой. Засыпая поздно вечером, он еще раз вспомнил о ней, но теперь совсем уже миролюбиво: «А ведь прав дядя Тихон. Девки на одну колодку. Мельникова дочка из Малой Жировы тоже ко мне льнула… Так и Матренушка. Втюрилась по уши в этого долговязого и бегает, наверное, за ним, как телушка за коровой… Ну, завтра расспрошу ее, почему забывает старых друзей».
Пожалуй, первый раз за все время работы в затоне Алешка не пожалел, что наступил конец рабочего дня. Он проводил Скобеева до дома и направился на Никольскую. Времени было более чем достаточно, и он шагал по улице, залитой вешним потоком, не торопясь.
Дом номер тридцать три оказался продолговатым, двухэтажным, на кирпичном фундаменте. На воротах висела стеклянная вывеска. Алешка прочитал: «Общежитие студентов Томского государственного медицинского института». Вывеска озадачила его. «Не ошиблась ля Матрена номером? А может быть, в сторожихи или уборщицы нанялась?» – недоумевал он, робко входя во двор и направляясь к высокому крыльцу.
Едва открыв дверь, он натолкнулся на толстую женщину, которая поднялась навстречу ему, заполнив собой всю ширину коридора – от стены до стены.
– А кого тебе надо, кавалер? Адрес ты случайно не попутал? Здесь девичье общежитие, – подозрительно осматривая Алешку, скрипучим голосом сказала толстуха.
– К Стениной я. Здесь она живет?
– Тут Стенина проживает. А ты кто ей будешь?
– Кто? Братуха!
– То-то же. Кавалер к ней другой ходит. И годами постарше, и по одежке не сродственник тебе.
Вдруг одна из дверей в глубине коридора раскрылась, и из нее вышла Мотька. Она бросилась к Алешке – возбужденная, радостная, обняла его. На ней было красное, с большими черными цветами, платье, городские туфли на высоких каблуках, и веяло от нее тонким ароматом духов. Черные волосы ее были острижены коротко, под кружок – так стриглись песочинские староверы – и зачесаны вверх. Такая прическа открывала лоб и делала Мотькино круглое простое лицо каким-то строгим, совсем не похожим по выражению на прежнее, к какому привык Алешка.
– Ну, пойдем, пойдем, братишка. Я тебя уже давно жду, – заговорила Мотька, осматривая Алешку и втайне отмечая, каким видным и ловким он стал.
Алешка пошел за ней, чувствуя скованность и смущение. Он был и рад этой встрече и в то же время подавлен. Мотька! Она единственная на всем белом свете могла напомнить сейчас коммуну, отца, все то самое радостное и самое горькое, что никто не поймет, если не пережил сам. Но почему же она не смотрит ему в глаза? Почему вчера бросила его одного на улице? Неужели есть что-нибудь на свете дороже того, что они пережили, что известно только им двоим?
– Как я рада, Алешка, что ты живой и целый! Часто я тебя во сне видела, и все маленьким, худым. А ты вон какой вымахал! – торопливо заговорила Мотька, когда они вошли в комнату.
Алешка осмотрелся. Комната была небольшой, но опрятной, чистой. Возле стен стояли четыре аккуратно застланные кровати, посередине – продолговатый стол под белой залатанной скатертью. У кроватей тумбы, на них девичьи вещички: флакончики с духами, баночки с помадой и пудрой. На одной из тумбочек Алешка увидел в круглой рамке фотографию, чутьем угадал: «Он. Мотькин ухажер». Алешка всмотрелся придирчиво, но молодое лицо было приятным, даже красивым и похожим на кого-то из тех людей, с кем Алешка когда-то виделся. «Наверное, в клубе его встречал», – подумал он.
– Ты кто же теперь, Матренушка? Сказывали в деревне, что по первости сторожихой служила? – спросил Алешка, устраиваясь на скрипучем стуле напротив девушки.
– Я теперь Мария, Алешка. Зови меня Мусой, – смущаясь, сказала Мотька.
– Да ты что?! Кто это тебя перекрестил? – засмеялся Алешка, бросая на Мотьку неодобрительные взгляды.
– Кто перекрестил? Так одному человеку нравится. – И Мотька кинула мимолетный взгляд на фотографию. – И правда, Алешка, уж очень деревенское это имя – Матрена.
– Ну и что же, что деревенское!.. А мы с тобой и в самом деле деревенские… Нет, нет, Матренка, не то ты придумала… Ведь тебе имя отец давал, дядя Васюха. А он не просто отец, а коммунар, за советскую власть полег. – Алешка, как это случалось с ним в минуты крайнего волнения, покраснел, глаза его заблестели, руки беспокойно задвигались, взлетая то к груди, то к волосам.
– Мертвому все равно, Алешка! А потом, темный он был, малограмотный, некультурный, как поп-батюшка сказал, так и стало.
Мотькины рассуждения еще больше задели Алешку. Он высоко чтил и своего отца, и Мотькиного, и всех их сподвижников-коммунаров.
– Как это темный? Ты что, совсем сдурела? Ты подумай-ка, что бормочешь?! Если б дядя Васюха был темный на самом деле, он не пошел бы в революцию за Лениным. Выходит, он почище нас с тобой понимал, какой будет жизнь дальше… Ты, Матренушка, что тут, умом, что ли, приослабла или уж очень в рот своему ухажеру смотришь?
– А ты-то откуда такой речистый стал, Горемыка?! Ведь я доктором скоро буду. Ты думаешь, приятно мне насмешки от своих коллег слушать?! «Матрена? Боже! Вот это имечко! Почему бы вас тогда свеклой или брюквой не назвать?» Это мне один доцент в клинике прямо в глаза влепил…
«Доктором скоро буду», «доцент в клинике»… Таких слов от Мотьки Алешка не ждал. Они так его удивили, что он вмиг прикусил язык. Мотька – и вдруг доктор! Невообразимо…
– Неужели добилась-таки, Матренушка-Марья?! – заглядывая Мотьке в лицо, голосом, в котором уже слышалось восхищение, спросил Алешка.
– Ну, хоть не добилась, а добьюсь. На третьем курсе я медицинского института.
– Вот это сила… Вот здорово… Знал бы дядя Васюха! – воскликнул Алешка, посматривая на Мотьку и испытывая уже некоторую неловкость за резкость своего разговора с ней.
– Ты знаешь, Алешка, я ведь ради этого себя не щадила, ночи напролет занималась. Днем работала, вечером в школу бегала. Даже в комсомол не пошла, чтоб ничто, совершенно ничто не отвлекало меня от образования… и вот… видишь, студентка…
И снова Алешка был поражен: «Даже в комсомол не пошла…» Он встал, глаза его заблестели, задвигались руки.
– Ты что, Матрена, в уме? Чем же он, комсомол-то, помешал бы тебе? Все ж таки коммунарская у тебя родова! Дядя Васюха не похвалил бы тебя за такое…
– А может, и похвалил бы! Нечего на сто дел размениваться. Решила стать доктором, значит, все остальное пусть катится ко всем чертям. Самое главное, Алешка, специальность. Будет она у тебя в руках – будешь жить по-человечески…
– А разве комсомол против этого? Наоборот! Ты бы такой в комсомоле сознательной стала, что тебе любые трудности трын-трава… Закалилась бы во как!
– Я и так закаленная. А трудностей с меня хватит. Пожила я и в холоде и в голоде… Да что тебе говорить! Сам знаешь. Будет специальность – начну хорошо получать. За всю свою бедность расчет произведу. Досыта есть буду, наряжаться стану, квартиру чистую и просторную заведу…
– Подожди-ка, послушай, что я тебе хочу сказать. Перво-наперво о всех людях думай, – попытался перебить ее Алешка, но Мотька с ожесточением замотала стриженой головой, замахала руками:
– Не трогай меня, Алешка, не разубеждай! И сам пойми: основное – специальность…
– Ну точь-в-точь говоришь, как Михей Колупаев. Тот тоже мне без передыху долбил: главное, Алеха, рукомесло, и еще в богатый дом зятем войти. А мне всякое богатство – кол в брюхо!
– А ты меня в буржуйки тоже не записывай. Учусь я затем, чтобы жить хорошо. И ты не смотри на меня волком, вот что. Ты еще темный. Культуры побольше хватишь – иначе запоешь…
Но тут Мотька явно загнула через край. Алешка покраснел, насупился и, взяв со стола шапку, хотел уйти.
– Да что это мы схватились-то по пустякам! – воскликнула Мотька, преграждая Алешке дорогу. Она остановила его, усадила на стул. – А ты-то как живешь, братишка? Расскажи! Ведь не чужой ты мне…
В голосе девушки слышались и доброта, и сочувствие, и интерес. В одно мгновение вспомнил Алешка, как Мотька возилась с ним, когда жили они у Ивана Солдата. Он то и дело прихварывал, она и поила его, и кормила, и даже однажды в бане от простуды веником хлестала.
– Горячий я стал. Как необученный конь, – пряча глаза, виновато сказал Алешка.
– Да и я кипяток, – призналась Мотька тоном раскаяния.
Они долго молчали. Трудно было сразу переменить душевный настрой.
– Ну что, сеструха, слушай про мое житье-бытье, – наконец сказал он и, взглянув на Мотьку, застенчиво улыбнулся.
Они просидели дотемна. Сначала говорил Алешка, потом Мотька, потом снова Алешка. Вспомнили и коммуну, и добрых Ивана Солдата с теткой Ариной, и деревню, и много-много всяких случаев из той жизни, которая отодвигалась все дальше и дальше, называясь уже прошлым.
Они разговаривали бы без конца, если б не пришли Мотькины товарки по комнате. Увидев незнакомых девушек, с любопытством и даже с некоторой бесцеремонностью оглядывавших его, Алешка заспешил. Мотька попыталась удержать его, пошутила:
– Не торопись, братишка. Видишь, какие у меня подружки. Одна лучше другой. Гляди, и невесту себе выберешь.
От этих слов Алешка смутился еще больше и, опустив голову, выскользнул за дверь. Мотька проводила его до ворот. Тут они постояли с минуту, простились. Алешка пообещал прийти к ней осенью, когда база вернется с далеких таежных рек на зимовку. Шагнув, он обернулся, с ласковой усмешкой сказал:
– А все ж таки, Матренушка, Муськой звать тебя не стану. Чужая ты с этой-кличкой.
С деланной строгостью она погрозила ему пальцем из сумрака весеннего вечера, подождала, когда он уйдет, вдогонку крикнула:
– Могилке на Васюгане за меня поклонись!
Он ничего не ответил. Возможно, не слышал ее возгласа. Когда затихли его шаги, она, кутаясь в полушалок, пошла в дом, все еще оглядываясь и прислушиваясь неизвестно зачем.
Глава седьмая
Кто не живал на реках, не трудился на воде, тот, возможно, и не знает, что реки, как люди: у каждой свой норов, свои повадки, свое обличье и даже, как это ни странно, свой голос.
Раньше Алешка и представить себе не мог, что Чулым совершенно иной, чем Обь, что Тожь никак нельзя принять за Васюган, а Парабель и Кеть настолько же походят одна на другую, насколько и не походят.
С каждым днем своей жизни на торговой плавучей базе Алешка открывал все новые, неожиданные подробности в большом и загадочном мире, который окружал его.
Три месяца минуло уже с того дня, когда база сняла чалки и двинулась в далекий путь. Стояло тогда ясное утро. Было тихо-тихо. Томь блестела под солнцем, гладкая, как зеркало, голубая, как небо. Томск посверкивал на этом ослепительном свету маковками церквей, стеклами домов, разноцветными крышами, белобокими пароходами.
На берегу стояли люди. Тут были жены и дети Лаврухи и Еремеича, старые друзья Скобеева – лоцманы, капитаны, штурвальные, списанные с судов по старости и нездоровью. Пришли проводить базу представители потребсоюза, профсоюзного баскомреча и управления Томь-Обским пароходством.
По рассказам Скобеева Алешка знал, что раньше, в царское время, на пароходе и пристанях перед началом навигации служили молебны. Как-никак люди отправлялись в долгое путешествие, в края необжитые, безлюдные, отправлялись навстречу неизвестности. В дороге их ждут и невзгоды, и бури, и тяжкий труд.
По сдержанному говору толпы, по лицам людей – серьезным и обеспокоенным – Алешка, стоявший на носу катера, чувствовал, что проводы эти не простое прощание, есть в них что-то более значительное, торжественное, проникающее до самого сердца. Он неотрывно прислушивался к разговору, рассматривал людей, напряженно ждал, когда Скобеев крикнет: «Подбирай чалку!»
Вот наконец Скобеев вышел из толпы, зашагал по трапу. Так уже было принято: уводил базу от городского причала он сам. Лавруха и Еремеич потянулись за ним. Толпа задвигалась, послышался ребячий плач – это младший сынишка Еремеича не хотел расставаться с отцом. Еремеич поднял мальчишку с земли, поцеловал, передал с рук на руки жене и матери, которые донимали его разными наказами. Отшучиваясь, Лавруха взошел на борт катера, прощально помахал рукой и скрылся в машинном отделении. Еремеич понял, что и ему пора на пост. Он заторопился на паузки, плотно скрепленные канатом, встал у рулевой слеги среднего паузка.
– Иван Христофорыч! – крикнул кому-то из знакомых Скобеев, высунувшись из рубки. – Сбрось-ка нам чалки. А ты, Алексей-душа, подбирай-ка чалки. Еремеич, и ты подбирай!
– Есть подбирать! – громко ответил Алешка.
Еще с месяц тому назад Лавруха с Еремеичем рассказали Алексею, какие команды существуют на речном транспорте. Он записал все это в тетрадь и в первый же свободный вечер выучил наизусть.
Теперь на глазах посторонних людей ему хотелось не ударить в грязь лицом и всю работу выполнить точно и быстро. И он действительно убрал трап, а причальные канаты смотал с такой ловкостью и уменьем, что старые речники подумали: «А матрос у Скобеева – тертый калач, видать, немало поплавал по рекам».
– Давай, Лавруша, тихий вперед, – просто, не повышая голоса, сказал в трубу Скобеев.
Лавруха включил мотор. Стены, пол катера задрожали мелкой дрожью, винт закрутился, забурлив водой, и вот катер, а за ним и паузки медленно-медленно поползли вдоль берега. Скобеев положил руки на рулевое колесо и, свободно перебирая ими, начал поворачивать катер в реку. Изогнув кривую, схожую с формой лука, катер и паузки оказались на стремнине. С берега энергично замахали кепками и платками.
– Прощайте! Счастливого плаванья! Благополучного возвращения!
Скобеев высунулся из рубки, потряс в ответ рукой. Алешка перешел на корму. Отсюда берег был виднее, а он сам заметнее. Вскидывая над головой руки, он покачивал ими. Еремеич с паузка размахивал платочком. Только один Лавруха не участвовал в прощании с берегом. Запустив мотор на «самый полный ход», он прислушивался к его работе, из остроносой масленки добавлял смазку в маслоприемники.
Вскоре лица людей на берегу расплылись, фигуры потеряли очертания, провожавших теперь можно было отличить только по цвету одежды. Но прошло еще пять, а может быть, десять минут, и люди слились со строениями и теперь лишь чернели круглым пятном на фоне красной кирпичной стены пристанских пакгаузов.
Алеша опустил руки и, испытывая от расставания с городом грустинку, поднялся на палубу катера. Скобеев тотчас же позвал его к себе:
– Заходи, Алексей-душа, в рубку… Посидим рядом.
Алеша устроился на скамеечке, чуть подальше Скобеева, примостившегося на высоком круглом стуле.
– Ну как, не обволокла тебя грусть-печаль? Надолго ведь с людными местами расстаемся.
– Ничего, дядя Тихон, мне бы только вот так плыть и плыть, хоть на самый край белого света. Люблю двигаться.
– А я, братец мой, с тучей в груди отплываю. От Панки моей, Прасковьи Тихоновны, целый месяц – ни звука. Не бывало с ней такого. Знает ведь, что ухожу не на один день. Буду теперь в Колпашеве и Парабели писем ждать. Уж не захворала ли?
Алешка искоса посмотрел на Скобеева. В прищуре коричневых глаз, в изломе плотно сомкнутых тонких губ как бы лежал отпечаток невеселых дум. «Захворала? Это еще ничего, терпимо. А если с кулацкой шайкой схватилась? Вот тут все может быть», – подумал Алешка, и неясная тревога за дочь Скобеева охватила и его.
– Весна, дядя Тихон. Работы у нее и в школе и в комсомоле располным-полна коробушка, – попробовал он утешить Скобеева.
Тот вертанул рулевое колесо, расправил плечи, стараясь освободиться от тревожных раздумий о дочери, сказал:
– И я так думаю, Алексей-душа. – И, вздохнув, добавил: – Ну, короче сказать: живы будем – не помрем. – И сразу, без всякой остановки заговорил совсем о другом: – А как ты думаешь, Алеша, почему вон там, на самой середке реки, вода рябит?
– Вон там-то, слева? – указывая рукой, уточнил Алешка. – А мель там, дядя Тихон.
– Правильно. А знаешь, почему я сейчас к яру не приближаюсь? – спросил Скобеев, вполоборота, с хитринкой посматривая на Алешку.
– Почему? Очень просто почему. Яр лесистый. Вон как лесины нависли. Ну как обвалится. Захлестнет паузок или катер. Не приведи бог!
– Нет, не потому.
– Не потому? Значит… – Алешка задумался. – А! Вот почему: коряги сплошные под яром. Винт у катера можно загубить.
– И опять не потому. Коряги, Алексей-душа, по самой кромке берега тянутся, они нам не помеха. А ну, подумай-ка получше.
– Не знаю, дядя Тихон.
– Ну, слушай, коли так. Не иду я по подъяру потому, что там сплошные воронки, а раз воронки, значит, обратное течение, а раз обратное течение, значит, снижается скорость движения, больше расходуется топлива. На-ка вот бинокль, взгляни, какие там шапки из желтой пены на воронках.
Алешка приложил бинокль к глазам, и, словно чудом, яр с осыпями, с обрывистой глинисто-песчаной кромкой, с корягами, с пышно взбитой коловертью воронок пеной приблизился на расстояние вытянутой руки.
– Хитрая эта штука – бинокль! – с восхищением сказал он. – Все как на ладони. Вон даже видно, как щепки плывут. Головастый был тот человек, который придумал эту машинку. Правда, дядя Тихон?
Скобеев не имел образования, но долголетняя работа масленщиком, а потом и машинистом на пароходах, самостоятельное чтение книг, постоянные разговоры с дочерью, когда она училась в школе и на курсах учителей, сделали его человеком осведомленным во многих областях жизни. Теперь он охотно делился с Алешкой всеми своими знаниями.
– Не сразу, Алеша, человек придумал бинокль, или, точнее сказать, подзорную трубу.
И Скобеев рассказал длинную и поучительную историю о том, как люди изобрели увеличительное стекло.
К вечеру в этот же день плавбаза пришла к устью Томи. После обеденной остановки за рулевое колесо на катере встал «заврулем» Еремеич. Скобеев и Алешка перешли на паузки. Заимки и деревеньки, луга и перелески обозревались отсюда на десятки верст. Дома утопали в зарослях берез, черемухи и рябины. Рослые кудрявые кедры подступали к огородам и усадьбам, и казалось, что они поставлены тут природой, как часовые, охранять мир и покой людей.
До устья Томи осталось не меньше часа ходу, когда Скобеев и Алешка перебрались с кормы на нос, чтобы не прозевать и увидеть при солнечном свете границы двух рек.
– У Томи, Алексей-душа, расцветка одна, а у Оби другая. Ты, когда в коммуну-то на Васюган шел, не запомнил этого?
– Малый да глупый я тогда был, дядя Тихон.
– А отец-то не рассказывал об этом?
– Рассказывал, конечно! О многом он мне рассказывал. А только где же запомнишь? Прошло столько лет!
– Ну а теперь сам посмотришь. Вот-вот и конец Томи будет. Солнце только бы не закатилось. Тогда пропадет наше с тобой удовольствие.
Но, к их счастью, солнце еще сияло во всю силу, когда катер подтащил паузки к слиянию рек.
– Смотри, Алеша, вперед. Вон видишь, какая вода в Оби! Желтая и серая, а в Томи прозрачнее и с зеленоватым отливом.
– Такая вода, как в Оби, дядя Тихон, бывает в ручьях после сильных дождей.
– Правильно. А знаешь почему?
– Потому, думаю, что в Томи камня много, дно и берега тверже, а Обь глины, песка, ила несет невпроворот.
– Верно рассудил, Алексей-душа.
Да, это действительно было зрелище любопытное, необычное. Томь, сталкиваясь с Обью, не меняла своей окраски ни на одну сажень, а Обь, вбирая воды Томи, стремительно и бесследно поглощала их. Реки стояли друг против друга, как стены, и границы их обозначались резким различием цвета воды.
– Видел, Алеша, какие чудеса бывают в природе? Ну, это дело понятное, вполне объяснимое, а сколько еще всего не узнано человеком? – рассуждал Скобеев, примечая, с какой жадностью Алешка всматривается в речные просторы.
Вот прозрачно-зеленая Томь кончилась, началась Обь. Еремеич обошел полукруглый, заросший крупным топольником мыс, и взору Алешки открылся широкий обский плес. С первой же минуты Алешка понял, что река Обь могущественнее Томи. Берега тут были ниже, и лежали они друг от друга в два-три раза дальше, чем берега Томи. И волна тут плескалась в борта паузков упорнее, злее. И ветерок здесь был прохладнее, озорнее, ерошил его густые волосы, стучал дверью сторожевой каморки. Парусила на спине Алешкина рубаха.
– Томь, Алеша, река почти южная, горная. А эта северянка. Иной раз даже летом так задурит, что спасу нет. Ты бы пошел набросил пиджачишко. Вишь, как к ночи ветер-то начал посвистывать.
– Не холодно мне, дядя Тихон. В самый раз.
Уйти сейчас с борта даже на одну-две минуты Алешка не мог. Эта встреча двух рек, этот майский вечер с оранжево-пламенным закатом, этот разговор со Скобеевым о не познанных человеком чудесах природы настроили его на особенный, раздумчивый лад. Он стоял на борту паузка, слушал плеск воды, свист ветра и думал, думал. Спроси его сейчас тот же Скобеев, о чем его думы, не ответил бы Алешка. Он не думал о чем-то определенном; его мысль впервые, может быть, в жизни вырвалась на такие необозримые просторы. «Хитро да и, пожалуй, забавно живет человек на земле: можно все свои годы просидеть на одном месте и всегда видеть одно и то же; а можно идти все дальше и дальше, и земля будет открывать тебе картину за картиной. Что же лучше? Как же тебе суждено прожить твою жизнь?» Вот так, а скорее всего почти так размышлял Алексей Бастрыков, почувствовав в этот час, что мыслить, думать интересно и важно для самого себя. Мыслить – это и сила и счастье человека. Можно, оказывается, вот так стоять на борту утлого паузка, озирать небо, землю, воды на темно-желтом плесе Средней Оби, а думать о чем угодно, мысленно переноситься из одного времени в другое, быть то в прошлом, то в настоящем, то в будущем. Людей, которые тебя окружают, и мир, который сопутствует твоей жизни, можно узнавать не только посредством решения с ними, но и посредством мысли, которая, как луч, способна пронзить сумрак и расстояния.
Пылающее солнце скатилось за лес, и над Обью быстро стемнело. Пора уже было приставать к берегу на ночевку, но «заврулем» Еремеич продолжал плыть и плыть дальше. Темноты он не боялся. У него было острое, годами натренированное зрение. К тому же он изучил реку так хорошо, что мог бы идти по ней порой с закрытыми глазами. Скобеев и Лавруха не мешали ему. Они знали, что Еремеич станет на ночевку не раньше и не позже того, как дойдет до Красного яра, за перелесками которого тянется цепочка озер, кишащих и рыбой и птицей. «Заврулем» одновременно считался в экипаже «завобщепитом». Завтра на заре он с ружьем уйдет на озера, и наступит конец городскому недоеданию.
Приближалась уже полночь, когда катер подтащил паузки к берегу. Алешка так и не ушел с борта, простояв тут несколько часов и чувствуя, что в душе его произошли какие-то сдвиги, каких не было никогда прежде.
С того дня, первого дня, проведенного Алешкой на воде, пролетели недели и месяцы. Алешка помнил этот день в мельчайших подробностях. Он принес ему самые разные открытия и стал ступенью в новую жизнь.
Май, июнь, июль база провела на ближних рейсах. На складах в Молчановой забирали товар и развозили его по факториям потребсоюза. Чаще всего ходили по Чулыму и Кети. По одному разу бывали на Парабели и на Чае.
Алешка знал теперь почти все большие реки Средней Оби. Раздумывая об особенностях этих рек, он однажды сказал Скобееву:
– Хочешь, дядя Тихон, узнать, на кого походят реки, по которым мы нынче ходим?
Скобеев с любопытством посмотрел на него.
– А ну, расскажи, Алексей-душа, расскажи. – И, прищурив свои карие внимательные глаза, приготовился слушать.
– Обь, дядя Тихон, походит на старую-престарую старуху с посохом в руке. Непокорная эта старуха, нрава капризного. Не упросишь ее – настоит на своем. Разгневается – день бушует, ночь бушует. Вздумает запеть – не поет, а только шипит и шипит. Другого голоса у нее нету. А уж если в хорошем настроении, то растянется на солнце, как зверь, греет старые кости, дремлет, и такая в этот час тихоня, будто никогда и нигде никого не проглатывала в свою ненасытную утробу. Только уж все люди знают ее повадки, посматривают в оба и, коль лодки вертки да дырявы, держатся возле берегов…
Скобееву очень понравилась фантазия Алешки. Он позвал и Лавруху послушать его небылицы. Плавбаза стояла в устье Кети, неподалеку от села Тогур, куда Еремеич отправился с мешком за печеным хлебом.
Лавруха поднялся на палубу катера, вытирая свои крупные, запачканные в машинном масле руки клочком пакли.
– Послушай-ка, Лавруша, что тут Алексей про наши реки бает.
Лавруха сел рядом со Скобеевым, с лукавинкой взглянул на рослого, плечистого парня.
– А вот Чулым, дядя Тихон, походит на молодого мужика. Высокий, гибкий и уж такой скорый да шустрый он, что ни конному, ни пешему не догнать. И баловник изрядный. И в тихую погоду и в ветреную все волной поигрывает. А еще петь любит. Выводит густым голосом, как шмель: ж-ж-ж-ж! И почему-то, дядя Тихон, этот мужичок глазами походит на тебя…
Алешка залился веселым протяжным смехом. Засмеялся и Скобеев, а Лавруха почти всерьез сказал:
– Уж вот влил так влил! Чистая правда! И ты знаешь, Тиша, не токмо глазами, всей натурой – и костью и телом – походишь ты на Чулым!
– Ну и кудесники вы, скажу я! – снова зашелся смехом Скобеев. – Придумали тоже! Похожу на Чулым! Ха-ха-ха! – Потом, помолчав, вдруг строго сказал: – А что, ребята, может, и есть в ваших словах истина. Считайте Чулым моим старшим братом. На нем я житью-бытью учился. По первости из Тегульдета на плотах ходил, а потом и на катерах и на пароходах. Вот оно, обличье-то мое, и стало смахивать на его обличье. Младший-то всегда ведь походит на старшего.
– А вот, юнга, как, по-твоему, Томь на кого смахивает? – едва дослушав Скобеева до конца, с хитрой ухмылкой спросил Лавруха, называя Алешку на морской манер – юнгой.
– Томь? Скажу. О ней тоже думал я. Кажется она мне девкой, такой крепкой, ладной, как моя сеструха по сиротству Мотька Степина.
– И коса на ней, – подсказал Лавруха.
– А глаза синие-синие, как небо, – продолжал Алешка.
– Вот, вот. И певунья она, – разжигал собственную фантазию Лавруха.
– А голосок у нее звонкий, высокий. И если Обь шипит, Чулым жужжит, то Томь чаще всего посвистывает: «Ф-фью! Ф-фью!»
– Ах, фантазеры, ах, кудесники! Жалко, что нет Еремеича. Уж он тоже не промолчал бы в таком потешном разговоре, – смеялся Скобеев.
– А вот Васюган, как, по-твоему, юнга, Васюган? Какой он? – с оттенком некоторой лихости в голосе спросил Лавруха.
Но едва он произнес слово «Васюган», как беззаботно-веселое, загоревшее лицо Алешки с облупившимся носом померкло, будто в одно мгновение солнце закрылось непроницаемой тучей. Если б не Скобеев, Лавруха, увлеченный уже течением обуявшей его фантазии, ничего и не заметил бы. Он уже собрался было что-то добавить к своему вопросу, но Скобеев, наградив его толчком в бок, сказал:
– Подожди, Лавруша, подожди. Васюган у нас еще впереди, Алексей был там мальцом. Вот посмотрит снова, и тогда уж…
Скобеев говорил тяжело, с натугой. К его радости, с берега донесся голос Еремеича. Он нес на спине мешок с печеным хлебом. Алешка кинулся по трапу навстречу Еремеичу, скрылся в прибрежном кустарнике.
– Черт меня дернул за язык с этим Васюганом, – виновато сказал Лавруха.
– Живуче его горе! Смотри-ка, прошли годы, взрослым стал, а один звук этого слова бьет в самое сердце. И помни всегда об этом, Лавруша.
Скобеев и сам как-то сразу померк, нахохлился, голос его стал старческим и даже чуть ворчливым. Но Лавруха не обиделся. Поглядев вслед уходившему Алешке, он задумчиво молвил:
– И хорошо, Тиша, что горе его живучее. Ни в коем разе не должны мы забывать злодейства врагов. Ведь что значит забыть? Значит, стать добреньким. А нам еще бороться да бороться. И как знать, может, не раз придется смотреть смерти в глаза…
– Ой, придется, Лавруша, придется! И ты его не отстраняй от нашей партийной ячейки. В прошлый раз мы отослали его с закрытого собрания удить рыбу. И долго у меня на душе был от этого нехороший осадок. Какие у нас могут быть от него секреты? Ну скажи, какие? Коммунар, комсомолец. И работяга какой – безотказный!
– Не говори, Тиша! Я тоже переживал это, как и ты. Его место с нами, в наших рядах, Тиша!
– Ну, поднагрузился наш Еремеич! Гнет холку! – вдруг послышался голос Алешки совсем рядом с катером. Он шел с мешком на спине, а вслед за ним, весь мокрый от пота, в высоких сапогах, широких шароварах и в рубашке без пояса, шагал Еремеич.
Скобеев и Лавруха резвой рысцой затрусили к Алешке, подхватили с его плеч мешок, бережно опустили на землю.
– Осторожно, братцы! Хлеб из печи, – затревожился Еремеич.
– Давай неси, Лавруша, из каюты клеенку. Небось помялся в мешке, разложим. Пусть немножко выбыгнет, – распорядился Скобеев.
Лавруха, несмотря на свою полноту, стремительно юркнул в боковой пролет катера и сейчас же вернулся с клеенкой в руках. Клеенку расстелили на лужайке, и Скобеев с Еремеичем принялись выкладывать круглые, зарумянившиеся на раскаленном поде ржаные ковриги.
– Эх, скуснота-то какая! – зачмокал языком Лавруха. – Вы чуете, дух-то какой жизненный идет. Недаром его, хлебушко-то, называют кормильцем.
– Уж ты ли не молодец, Еремеич? – заговорил Скобеев. – Столько свежего хлеба команде приволок! А то от сухарей изжога стала донимать.
– Да, уж такой хлеб сам персидский царь не отказался бы кушать, – подхватил Лавруха. – Сегодня у нас будет обед из пяти блюд; на первое – уха, на второе – рябчики, на третье – кислица, или, сказать по-ученому, красная смородина. На четвертое – чай из чаги с черносмородиновым листом, на пятое – чай из чаги без смородинового листа…
– А шестое блюдо будет, Лавруша? – сдерживая смех, спросил Еремеич, зная, что Лавруха при подобных вопросах за словом в карман не лазит.
– А как же! На десерт мед цветной на рознюх. Правда, ложками его черпать нельзя, а нюхать позволительно, сколько душа просит.
Еремеич сам был немалый выдумщик, но первенство уступал Лаврухе. Неистощимость того на выдумки восхищала бывалого речника. Он всплеснул руками и, закинув голову, загоготал.– Ты послушай, Тиша: мед цветной на рознюх! Ты, Алексей Романович, что-нибудь подобное слышал?! – Еремеич хлопал себя от восторга по бедрам.
– А я тебе скажу, Еремеич, что зря ты смеешься. Сказывали мне, будто прежде в богатых домах и перед едой и после еды запашок такой вроде аромата распускали, чтоб слюна лучше выделялась. Без слюны ведь пищеварение – как мой мотор без смазки. Далеко ли уедешь!
Лавруха в упор, нарочито строгими глазами смотрел на своих товарищей, а те покатывались со смеху. В такие минуты Алешке, любившему похохотать до колик в животе, казалось, что он не в компании пожилых мужчин, а среди песочинских парней, удивлявших односельчан такими потехами, что голова кружилась!
После обеда, когда все блюда, объявленные Лаврухой, были поданы и «цветной мед на рознюх» струился от прибрежных зарослей кочевника и белоголовника в таких щедрых дозах, что экипажу базы мог бы, как сказал Скобеев, позавидовать сам персидский царь, Лавруха решил сделать важное объявление:
– Итак, товарищи коммунисты, как секретарь партийной ячейки, сообщаю: сегодня в паужин на среднем паузке состоится партийное собрание. Быть всем. Приглашаю и тебя, товарищ Бастрыков, посетить это собрание, поскольку ты у нас единственный представитель комсомола, а комсомол – наша надежда и наша смена.
Алешка знал, что Скобеев, Лавруха и Еремеич – партийцы, но он никак не предполагал, что здесь, на плавбазе, есть партячейка. Бывать на партийных собраниях Алешке еще не приходилось, и он с нетерпением ждал, когда же наступит час паужина.
Посуду вымыли Алешка и Еремеич. Лавруха и Скобеев, захватив папку с какими-то бумагами, ушли под черемуховый куст и там в тени долго о чем-то разговаривали. Алешка взялся за уборку палубы. Обмакивая швабру в реку, он то и дело посматривал в их сторону. Вид у обоих был озабоченный, и Алешка следил за ними с некоторым беспокойством. «Может быть, какие нелады у них объявились? Что-то дядя Тихон посматривает на Лавруху не очень приветливо», – мелькало у него в уме. Алешке сильно нравилась дружба и простота в отношениях, которые были на плавбазе, и ничто бы так не омрачило его настроения, как появление какой-нибудь трещинки в жизни экипажа.
Но вот Лавруха и Скобеев поднялись и зашагали на паузки. Они смеялись, и Алешка с радостью отметил про себя: «Видать, договорились! Ну, да быть не может, чтобы такие люди по пустякам друг друга задирали».
А они тем временем взошли по трапу на паузки, но даже и тут, попыхивая цигарками из рубленой махорки, не переставали беседовать. Алешка все ждал, когда позовут его на собрание, и уже начал терять терпение, но тут из каюты вывалился заспанный и взлохмаченный Еремеич. В хлопотах о печеном хлебе он ночь почти не спал. Ушел в село на рассвете и томился там до тех пор, пока одна из тогурских хозяек не вытащила хлебы из печки.
– Пойдем, Алексей Романыч, на собрание, – сказал Еремеич. Он спустился с катера, присел на корточки у самой воды и принялся пригоршнями обливать голову.
– Хуже нет, язви ее, спать днем, да еще под вечер, – ворчал он, негодуя сам на себя.
Расчесав гребешком русые, с рыжеватым оттенком волосы, он подобрал рубаху в брюки, под ремешок, и оглядел себя с ног до плеч. Алешка заметил это и пошутил:
– Видать, щеголем ты, Еремеич, был в молодые годы!
– Будешь щеголем, Алексей Романыч! Ты обратил внимание, какой аккуратный у нас начальник базы? Через день бреется. Я раз над ним посмеялся. «И перед кем, говорю, Тихон Иваныч, красоту наводишь? Вокруг, говорю, одни коряги да лесины». Как он взъярился, как почал меня поносить! «Сам перед собой, говорит, красоту навожу, чтоб не одряхлеть раньше времени, как вон тот пень на берегу. И еще, чтоб не походить на тебя, чудака. Ты на семь годов моложе меня, а посмотри, какой ты есть? Не то ты по званию рабочий, не то калика перехожий, без роду без имени, какие до революции бродили по Сибирскому тракту!» С тех пор и я стал на себя поглядывать. И скажу тебе, Алексей Романыч, когда опрятнее держишься, то и на душе вроде светлее. На-ко гребешочек. Прибери свои кудри, а то они у тебя тоже как трава-мурава после дождичка с градом…
Алешка тоже причесался. Возвращая гребешок Еремеичу, подумал: «Надо мне расческу из алюминиевой пластинки сделать. У Лаврухи в машинном отделении дополна таких пластинок».
Паузки стояли на приколе чуть подальше катера. Еремеич и Алешка шли, оставляя следы на чистом, серебрящемся песке. Лавруха позвал их на средний паузок, усадил на круглые чурбаки за стол, сбитый на скорую руку из грубых, толстых плах.
– Все в сборе, – сказал он. – Считаю собрание партийной ячейки государственной торговой плавучей базы открытым. Как насчет председателя и секретаря?
– Председательствуй сам. А протокол Еремеич напишет. Другого выбора у нас нету, – с ноткой сожаления заметил Скобеев.
– Так и порешим. Бери, Еремеич, бумагу, карандаш. Вот тут, в папке. – Лавруха придвинул Еремеичу ту самую папку, которую Алешка уже видел в его руках во время беседы под черемуховым кустом. – На повестке дня у нас один вопрос: доклад товарища Скобеева Тихона Иваныча об итогах работы базы за три месяца и о задачах предстоящего плавания во Васюгану.
Алешка от любопытства вытянул шею. Все, что здесь происходило, ему было внове и потому интересно. Скобеев достал клеенчатую тетрадь, точно такую, какую когда-то подарил Алешке, надел очки и обвел всех неторопливым взглядом.
– Как можно назвать нашу базу? Полпредом советской власти в бассейне Средней Оби! Полпредом! Ленин завещал крепить смычку города и деревни, союз рабочих и крестьян, дружбу трудящихся всех национальностей. Свою долю вносит в это и наша база. Царское правительство превратило край Нарымский в место каторги и ссылки. Немало тут погибло славных борцов революции. Помянем их добрым словом…
Скобеев произнес эти фразы глухо, на самых низких нотах своего обычно звонкого голоса. Потом примолк, глядя куда-то в даль реки, щурился, переступал с ноги на ногу.
– А ты, Тихон Иваныч, сел бы. И сидя можно говорить, – стараясь как-то заполнить образовавшуюся паузу, сказал Еремеич.
– Нет, Еремеич, не так я обучен. Не только перед вами – перед партией стою, ответ держу. – Скобеев бросил на Еремеича недовольный взгляд и перевел глаза на Алешку. – Советская власть много уже сделала для Нарынского края. Но пока у нас нет ни сил, ни средств, чтобы переделать эти просторы, заселить их, освоить реки, тайгу. И потому-то особенно важна работа нашей базы.
Скобеев раскрыл тетрадь и начал называть цифры перевезенных товаров с центральных складов в глубинку, к местам, куда осенью, в разгар охотничьего сезона, придут за припасом и продовольствием охотники и рыбаки. В числе товаров, которые доставила база в самые отдаленные фактории, были мука, крупы, сахар, табак, лекарства, ружья, рыболовные снасти, порох, дробь, патроны, обувь, одежда, текстильные изделия, стекло, спирт, топоры, лопаты, кухонный инвентарь…
База завезла уже годовой запас товаров во многие районы. Люди будут жить и трудиться нормально. Взамен этих товаров государство получит пушнину. А пушнина – это валютный фонд страны. Чем больше будет собрано пушнины, тем больше можно купить машин в капиталистических странах. Буржуазия ничего не дает Стране Советов в долг. Вот и выходит, что база работает на индустриализацию Родины, на пятилетку.
Алешка и раньше, конечно, знал – база выполняет дело нужное, но и не подозревал, что оно самым, прямым путем связано и с пятилеткой, и с ленинскими заветами, и с отношениями Советской страны с капиталистическими странами. Ему очень понравилось, как сказал Скобеев о значении базы: «Плаваем мы по таежным безлюдным рекам, плаваем на видавшем виды катере, таскаем три стареньких паузка, а если капнуть поглубже, то стоим в первой шеренге борцов за победу социализма, за мировую революцию…» Значит, и он, Алешка, в одном ряду с коммунистами, идет по дороге отца…
Мысли об отце, о Васюгане завладели Алешкой, отвлекли от доклада, а когда он снова стал слушать Скобеева, тот уже говорил о задачах базы в оставшиеся месяцы навигации.
В начале августа база передвинется на Васюган. Здесь она будет ходить до самой осени. Как в прежние годы, база станет плавучей факторией. Она будет продавать городские товары и закупать товары у охотников и рыбаков. Особенно важно – собрать пушнину, которая добыта охотниками во время зимнего промысла и по «чернотропью». Перед самым рекоставом база должна вернуться в Томск для ремонта.
Все это Алешка знал и раньше. Но в докладе было сказано и такое, что поразило его и заставило призадуматься, посмотреть на дело, на самого Скобеева новыми глазами.
– Работа на Васюгане потребует от нас повышенной бдительности. Там долгие годы властвовал кулак Исаев и всякая другая контра, сгубившая в свое время коммунаров. На Васюгане база в прошлом году подверглась нападению. Как раз в ночной перестрелке я порешил Исаева. Югинские остяки потом говорили об этом без всяких сомнений. Встает вопрос: все ли белокулацкие корешки там вырваны? Гадать на гуще не будем! Постараемся так организовать свою жизнь, чтоб никакая случайность не захватила нас врасплох.
Когда Скобеев назвал имя васюганского хозяйчика Исаева, Алешка чуть было не вскрикнул: «Знаю я его. С тятей у него был. Боевую винтовку в его амбаре засек!» – но перебивать Тихона Ивановича не рискнул. Промолчал, вспомнил Надюшку: «Совсем одна осталась. У меня дядя Иван с теткой Ариной были, а кто же у нее? Мачеха? Ну, мачеха – это хуже, чем никто. Кто же ей поможет? Кругом тайга, безлюдье…» Слова Скобеева о том, что, видимо, его пуля сразила васюганского хозяйчика, заставили вмиг забыть о девушке.
Алешка слушал Скобеева и дивился: «Такой тихий, спокойный и вдруг…» Трудно было представить его с винтовкой в руках, стреляющим в темноте ночи по колыхающейся под лучом слабого прожектора живой цели. Но это было, и об этом говорил сейчас сам Тихон Иванович.
– Наше дело мирное. Мы призваны торговать. Торговать честно, по-советски. Но если классовый враг бросает нам вызов, если навязывает борьбу, то мы в любую минуту обязаны быть готовы сокрушить его. И тут каждому из нас должно быть ясно: если мы прозеваем, растеряемся или окажемся неумелыми, враг нас положит на лопатки и уничтожит. Вот что зарубите себе на носу, товарищи коммунисты и комсомольцы.
Скобеев вытер платком бронзовое, залоснившееся от пота лицо, опустился на чурбак.
Алешка ждал, что будет дальше. Лавруха и Еремеич сидели молча. Доклад Скобеева вроде и не содержал для них ничего нового и вместе с тем невольно заставлял задуматься о той работе, которую приходилось выполнять ежедневно и ежечасно.
– Все в общем ясно, – заговорил Лавруха. – Но и я все же скажу. И вот о чем: о запасах топлива. Если б у нас был запас топлива в Югине и Наунаке, нам ни к чему бы в разгар заготовительного сезона выходить с Васюгана в Каргасок и даже в Парабель для пополнения горючим. На будущий год первый рейс надо начинать раньше и сделать его сквозным: от Томска до верховий Васюгана. Нагрузиться горючим, развезти его по складам. Часть оставить в Югине, вторую часть – в Наунаке, третью – на устье Чижапки. Тогда оборот наверняка повысится…
– Дельно, Лавруша, очень дельно, – поддержал Скобеев.
Тот разгладил свои опаленные цигарками пшеничные усы, откашлялся.
– А что касается, Тихон Иваныч, твоего призыва – повысить бдительность, то понимаем, очень необходимо. Хотя случаев не было, чтоб мы проспали где-нибудь, но этим хвалиться не будем, и дальше надо стоять на своем посту как положено.
Лавруха сел. Еремеич придвинул к нему бумагу и карандаш, шутливо попросил:
– Подмени меня, Лавруша, на секретарском деле. Хочу и я кое-что сказать.
Еремеич одернул рубаху, склонил голову набок.
– Может быть, Тихон Иваныч, ты меня отругаешь, а все ж таки скажу, что пришло мне сейчас на ум. Вот, думаю, черт возьми, плаваю тут по рекам, кручу колесо туда-сюда, таскаю малотоннажные барки с товарами и не подозреваю, что на мне вся пятилетка держится…
Скобеев засмеялся. Басовито хохотнул и Лавруха. Алешка оставался серьезным. Еремеич говорил то, что чувствовал сейчас он сам. Все-таки не одно и то же: работать на хозяина, к примеру, на Михея Колупаева, и работать на государство, на весь народ. В Алешкину голову глубоко запали рассуждения Скобеева о валютном фонде страны, который пополняет база, о смычке рабочих и крестьян, о помощи глухим окраинам, о пятилетке.
– О чем я говорил, Тихон Иваныч? – несколько смущенный смехом товарищей, продолжал Еремеич. – Не стоит ли нам еще один паузок на буксир принять? Катерок у нас все-таки мощный, хоть и собран из старого хламья. Вполне еще одну барку потянет. Ну конечно, скорость чуток упадет, зато какой же выигрыш будет! Обмозговать бы это!
– А ведь дельно советуешь, Еремеич. Как, Лавруша, не превысит это крайнюю нагрузку на мотор? – обратился Скобеев к Лаврухе.
– Потянет! Вполне потянет. Особенно по Васюгану. Там не течение – тишь, – закивал головой Лавруха.
– А выгоды в самом деле немалые. Возьмем, скажем, вместимость нашего первого паузка. На нем мы перевезли… – Скобеев снова открыл свою клеенчатую тетрадь, начал извлекать из нее цифру за цифрой…
И потекла оживленная беседа. Уж в самом конце, когда и Скобеев, и Еремеич, и председатель высказались раз по пять, Лавруха вспомнил об Алешке.
– Ну а как комсомол? Имеет или нет какие-нибудь предложения? – Он сделал рукой приглашающий жест. – Давай, Алексей-душа, влазь в наши заботы. Может быть, тебе что-нибудь у нас не по нраву? Мы-то ведь сработались, пригляделись. Сколько лет вместе плаваем!
– Нравится мне на базе, – сказал Алешка, рукавом утирая пот с носа. – А предложения от комсомола имеются. Вот, скажем, библиотека. На базе больше сотни книг. А где читки? Читок нет.
– Верно, Алексей-душа! Верно! И мы с тобой, Лавруша, не догадались внести в проект постановления насчет читок. Молодец, матрос Алексей Бастрыков! О недостатках надо лупить прямо. В лоб! Это тебе, Лавруша, минус. Ты должен, как секретарь партии на базе, заниматься такой работой…
Никогда прежде Алешка не видел Скобеева таким возбужденным, радостно возбужденным. Алешка и не подозревал, что причиной этого был он сам. «Будет из парня толк. Будет! Уж раз пробуждается в нем интерес к общему делу – пойдет он и дальше, не остановится!» – думал Скобеев, одаривая Алешку щедрой улыбкой своих карих глаз, ласковых, серьезных и чуть-чуть настороженных в этот миг.
На другой день, на рассвете, плавучая база подняла якорь, подобрала причальные чалки и канаты и отправилась вниз по Оби. По пути она должна была зайти в Парабель, принять на борт товары и двинуться к устью Васюгана.
Глава восьмая
«– Послушай, Панка Скобеева, Прасковья Тихоновна, задаю я себе вопрос: кто ты такая? В чем представляется тебе твое назначение в жизни? Как рисуется тебе идеал человека твоего времени?
– Кто я такая? В самом деле, кто же? Я дочь рабочего, революционера и коммуниста. Интеллигентка в первом поколении. Мой отец – сын рабочего класса, сын его революционной партии, и я горжусь этим. Почему? А потому, что наша революция представляется мне самой великой и прогрессивной революцией в мире. Я читала историю Великой французской революции, историю чартистского движения в Англии, историю Парижской коммуны, историю крестьянских революций в Европе. Не было другой революции, цели которой охватывали бы таким всеобъемлющим образом весь уклад современного общества, переделывали бы его в интересах девяноста девяти процентов народа.
Я принимаю ее всей душой, она – дело моей жизни. Отсюда мои представления об идеале человека моего времени. Жить ради интересов революции, творить ее вечно живое дело, видеть ее плоды в жизни! Что может быть лучше!
– Итак, ты считаешь себя революционеркой, Панка? А знаешь ли, какие огромные обязанности накладывает это на тебя? Ты не боишься? Тебя не страшит тернистый путь? Трудности? Ожесточение борьбы?
– Да, я революционерка. Отчетливо сознаю, что это значит. Ничего не боюсь. Трудности? Ожесточение борьбы? Но нет трудностей и ожесточения борьбы без радостей. Будет радость от чувства, что ты борец, будет радость преодоления трудностей, наконец, будет большая радость победы. Как можно без всего этого представить себе жизнь? Можно просто и без особых усилий создать для себя радужный мирок домашнего уюта, стать канарейкой, забавлять себя и других, подобных себе, тихим чириканьем, просуществовать, ничего не увидев, ничего не сделав. Нет, это не по мне!
– Кого бы ты выбрала, Панка, в пример себе?
– Многих! Целые поколения русских революционеров. Их жизнь – великая школа для нас. Их работа, подвиги, самоотверженность – это бесценные уроки для нас.
– Но кто особенно близок твоей душе? Чей образ вызывает в твоем сердце чувство преклонения и восхищения?
– Ленин! Ленин! Кроме него, мне близок и дорог Чернышевский. Из зарубежных деятелей – Карл Либкнехт. Из женщин – Софья Перовская, Надежда Крупская, первая женщина-комиссар Лариса Рейснер.
– Твои общественные чувства не подавляют в тебе твоих личных чувств? Ты не попадала еще в такие обстоятельства, при которых бы между этими чувствами возникали неодолимые противоречия?
– Мои общественные чувства – это и мои личные чувства. Расчленению они не поддаются. Для меня: ради всех – это значит и ради себя.
– Но есть же у тебя люди любимые, менее любимые и нелюбимые?
– Конечно! Но важно научиться владеть своими симпатиями и антипатиями. Иначе не отличишь большого от малого, впадешь в себялюбие. Я говорю лишь о людях, близких мне по духу, одних со мной устремлений. Враг – это совсем другое. Он может вызвать во мне жалость, но никогда не вызовет во мне сочувствия, сострадания и тем более симпатии.
– Кто же особенно дорог тебе вот сейчас? Кого ты любишь горячо, преданно и без всяких оговорок?
– Отца. Тихона Ивановича Скобеева. Я часто-часто думаю о нем. Наверняка на земле есть люди более значительные по запасу своих духовных сил, и все же он остается для меня высоким примером. Я думаю о нем всегда с большой нежностью, но без жалкого умиления. Мне дороги его мысли. Я часто воображаю, что он скажет в том или ином случае. Мне радостно мысленно слышать его голос, молодой и звонкий: “Ты, Прасковьюшка, думай больше. Ум, как руки, как ноги, должен работать. И не заносись высоко. Падать будет больно. На небо поглядывай, а от земли не отрывайся”. Я очень люблю его простую, ясную речь, присказки и поговорки, которыми его щедро одарила суровая рабочая жизнь. Иногда он кажется очень красивым, и я начинаю жалеть, почему мне не выпал талант художника. Я непременно нарисовала бы его портрет. Худощавое лицо, карие, а точнее коричневые, временами острые, как сверкание бритвы, глаза, морщинки, исчертившие лоб. Особенно прекрасно его лицо в мгновения перехода от глубокой серьезности и даже строгости к умной полушутке, к мудрой улыбке. Тут особенно четко проступают в нем бесконечная чистота чувств, ясность опыта, бесхитростность, простота и, может быть, наивность. Как у ребенка. Только уловив эти черточки его внешности, можно создать правильный портрет, в котором будут выражены и признаки натуры, и свойства души.
– Ты пристрастна, Панка. Он тебе отец.
– Да, да, пристрастна, и, может быть, не в меру.
– Ну а еще кого ты любишь?
– Понимаю намек. Нет, того еще не люблю. Того я еще не встретила, но убеждена: он существует на земле и, может быть, как и я, думает о той. А эта та, которая составит его счастье, и есть я, Панка Скобеева. Бывает, что люди рождаются на разных концах страны, но жизнь сводит их в одно место, затем делает друзьями и, наконец, превращает в единое целое. Возникает семья, а это уже огромный рубеж в жизни.
– Были ли увлечения?
– Конечно, были! Но то большое и сильное, что пробуждает любовь, лежит пока нетронутым во мне. Иногда я прислушиваюсь сама к себе, спрашиваю безжалостно, сурово и придирчиво: “Способна ли ты полюбить глубоко и ярко? Способна ли ты выдержать все испытания, которые несет любовь?” И чувствую, как из глубины моей души несется возглас: “Да! Да! Да!”
– Теперь о другом. Скажи, Панка, какое событие больше всего потрясло тебя?
– Смерть Ленина. Вопреки всякой логике я была убеждена, что он вечен физически. Я мучительно привыкала к тому, что он мертвый, не движется, в гробу.
– А какой день в своей жизни ты отмечаешь как самый значительный?
– День, когда я выехала в деревню. Объясню почему. В этот день я поняла, что обрела над собой власть, что могу повелевать настроениями, могу поворачивать свою судьбу и, как говорят, творить свою биографию. Всем колебаниям и сомнениям был положен конец, и я почувствовала, как торжествует моя воля, мои убеждения.
– Кто из всех деревенских жителей стал тебе ближе?
– Два человека. И оба очень горькой судьбы. Первый – Алексей Бастрыков, сирота, сын коммуниста, погибшего от злодейской пули бандитов. Батрак кулака Михея Колупаева. Второй – Мефодий Сероштанов. Батрак, сын батрака, внук батрака. Потомственный пролетарий. Работник песочинского священника.
Оба очень разные. Алешка еще мальчишка, любознательный, пытливый, способный на редкость! Уверена, его ждет завидная судьба человека науки и общественного деятеля. Занималась с ним по школьной программе. Был малограмотен. Но через месяц стал делать чудеса. Арифметические задачи решал за все классы. Попыталась познакомить его с алгеброй. Понял. Русский язык, все его внутренние законы угадывал каким-то врожденным чутьем. Писал так грамотно, что мне приходилось лишь удивляться. Рассталась с ним не просто, с болью (он мог бы стать моим хорошим товарищем и, кто знает, может, даже и другом?), но сделала это сознательно. И теперь радуюсь, что он в городе, с папой, слушает лекции в молодежном клубе.
А Мефодий Сероштанов совсем иной. Он гораздо старше Бастрыкова. Из числа тех, над кем природа долго не мудрила. Высокий, широкоплечий, с грудью богатыря. Ходит вразвалку. Говорит тихим голосом, и кажется, что он делает это нарочно, чтобы сдерживать свой могучий бас. Застенчив, как девушка. Глаза светлые, с синью и добрые-добрые. Предан товарищам, берет под защиту слабых. С ним я тоже занималась. В отличие от Бастрыкова к наукам туговат, но то, что усвоит, по-видимому, запоминает навсегда. Считает, что рожден для жизни в деревне. Мечтает работать на машине, хоть сам еще слабо представляет, какая это будет машина. “Чтоб делала все за человека”, – говорит.
Дружба с этими парнями принесла мне много отрадных часов. Я видела, как пробуждается в них интеллект, складываются взгляды, как расширяется представление о жизни.
Пишу – в будущее. Даю отчет людям, которые придут после нас. Пусть знают, как все было. И пусть помнят, что их счастье рождено очистительной борьбой революции, враги которой не давали нам никакой пощады.
…К началу полевых работ колхоз нашей деревни объединил всех крестьян. Оставался на положении единоличника один – Михей Колупаев. И, конечно, поп. Среди песочинских мужиков оказалось несколько бывших коммунаров, ходивших за новой долей на Васюган вместе с отцом Алексея Бастрыкова. В них жила тяга к коллективной жизни, которую они знали по своему опыту. С мужицким упорством они зазывали соседей в колхоз. “Тогда было рано, когда Роман Бастрыков увел нас на Васюган, теперь самое время. Жить дальше в одиночку нельзя”. И крестьяне им верили, шли в колхоз охотно, хотя слухов хватало. Поп и Михей Колупаев старались изо всех сил. Подбросили однажды мне записку. Оскорбляли, грозили расправой, требовали не лезть в крестьянские дела, заниматься только школой. Но ничего они этим не достигли. На собрании женщин и молодежи я зачитала их гнусную пачкотню. Это еще больше раскалило ненависть к ним. Поджог скотного двора, гибель двадцати двух дойных коров довершили все. Каждому стало ясно: либо враги разорят колхоз, ввергнут людей в еще большую нищету, либо нужно их убрать из деревни. Я поставила этот вопрос на закрытом комсомольском собрании.
Предложение нашей ячейки о выселении из Песочной попа и Михея Колупаева единодушно поддержали собрание бедноты, собрание женщин, собрание молодежи. С этими документами мы с Мефодием Сероштановым поехали в район. Вскоре оттуда пришло решение райисполкома: “Попа и Михея Колупаева выселить из Песочной в специально отведенные для кулаков отдаленные места. Назначить уполномоченным по выселению Скобееву Прасковью Тихоновну”. Далее указывались сроки исполнения решения.
Сказать, что при получении этого известия не дрогнуло мое сердце, значило бы солгать. Я сильно взволновалась. Но, взяв себя в руки, я подумала: “Ну вот, Панка, ты мечтала когда-то о баррикадах. Твоя мечта сбылась. Революция ставит тебя на такой участок, важнее и острее которого в настоящее время нет. Покажи, на что ты способна, и убедись, можешь ли соединять революционное слово с революционным делом”.
Однажды ночью поп с попадьей и дочерью бежали из Песочной в неизвестном направлении. Остался Колупаев. И вот я направилась к Михею в его большой дом, пропитанный какими-то кислыми, затхлыми запахами. Хозяин встретил меня учтиво, даже с некоторым подобострастием, но с явным испугом. Его костистое лошадиное лицо покрылось розовыми пятнами, глаза стали настороженными и злыми. Конечно, он понял, что я пришла к нему неспроста. Вероятно, он уже знал от кого-то из своих лазутчиков, что поставлен вопрос о “ликвидации его как класса”. Михей Колупаев стал приглашать меня в горницу, но в это время вошли представители сельсовета, колхоза и комсомольской ячейки, которые чуть приотстали от меня.
– “Гражданин Колупаев, – начала я читать постановление и чуть повысила голос, почувствовав, что он дрожит, – решением органов советской власти вы подлежите выселению из Песочной, а ваше имущество, как нажитое нетрудовым путем, то есть эксплуатацией, экспроприируется, то есть изымается в пользу колхоза и государства. С вами выселяются члены вашей семьи.
Скот, сельскохозяйственный инвентарь и орудия труда, запасы зерна, а также все недвижимое имущество будет принято у вас по акту и согласно показаний поселенного списка. Вы можете взять с собой лишь предметы первой необходимости: одежду, посуду, кухонную утварь. Завтра к шести часам утра к бывшей вашей усадьбе будет подана подвода, на которой вы проследуете на сборный пункт выселяемых граждан”. Все ли вам ясно, гражданин Колупаев?
И тут я увидела, что Михей стал белым как бумага. Он стоял пошатываясь, и я думала, что он рухнет сейчас замертво. Но он вдруг весь преобразился, сбросил с себя маску вежливого гостеприимства, закричал визгливым голосом:
– Ты все-таки доконала меня, змея подколодная! Вначале работника у меня из-под носа увела, теперь за меня принялась…
Он клокотал от ярости, дышал, как запаленный конь, и мне казалось, что из ноздрей его хрящеватого длинного носа вылетают искры ненависти. Когда Михей начал обзывать меня бранными и обидными словами, я топнула ногой и, глядя в его разъяренные глаза, крикнула:
– Перестаньте! Я действую от имени революции, а не по своей прихоти!
Он примолк, но через полминуты принялся так ругать советскую власть, что меня затрясло. Я боялась, что не сдержусь – еще миг, и брошусь на него, схвачу за горло и… Это было бы несчастье! Я унизила бы революцию, советскую власть, большевистскую партию и комсомол. Унизила бы себя, своего отца. И, стиснув челюсти и кулаки, я переборола себя. Спокойно, холодным голосом сказала:
– Прошу комиссию приступить к приемке имущества. Начнем со скотного двора.
Михей разинул широкий мокрый рот, но мое спокойствие словно парализовало его. Так и стоял – с раскрытым ртом, а вместо брани из его груди вырывался лишь протяжный хрип.
Уполномоченные действовали решительно. Скот быстро перегнали в колхозный двор. С амбаров сбили хозяйские замки и повесили свои. Телеги нагрузили плугами, боронами, хомутами, и все это тоже отправили на колхозный двор.
Наступившую ночь мы, комсомольцы, скоротали в большой тревоге. Мы знали, как изворотлив и коварен Михей Колупаев. Вооружившись осиновыми слегами, ребята во главе с Мефодием Сероштановым без устали ходили от усадьбы Михея к дворам колхоза. Михей мог пойти на все – на поджог, на убийство.
Наступил рассвет. Я бросилась в контору колхоза. Под окнами дома стояли уже две подводы и оседланная лошадь, тяжело поводившая боками. Оказывается, из района прибыл милиционер, которому поручалось доставить Михея на пристань, куда со всего района собирали выселяемых кулаков.
– Здравствуйте, товарищ уполномоченный, – поздоровался со мной милиционер. – Хочу дать вам один совет: отправьте Колупаева как можно скорее. Вчера в Малой Жирове выселяли его дружка-мельника. Произошла какая-то задержка. Сбежался народ. Мельник на народе расхрабрился, стал сопротивляться. В толпе появились сочувствующие, стали кричать: «Дайте человеку с родным гнездом проститься!» Короче сказать – вышла перепалка. Уполномоченному переломали пальцы на руках, а дочка мельника, заядлая кулачка, грозившая поджечь все вокруг, скрылась неизвестно куда… Конечно, мельника с женой все-таки увезли, но вот я к вам чуть не опоздал: ночью пришлось везти уполномоченного в больницу.
Совет милиционера был очень кстати. Правда, и сами мы еще раньше договорились проделать все быстро, без каких-либо оттяжек. Мы расселись по телегам, милиционер вскочил на коня, и через несколько минут мы остановились возле дома Михея.
Сурово и мрачно смотрели на нас пустые окна кулацкого дома. На наш говор и стук никто не выглянул. “Уж не сбежал ли Михей по примеру попа?” Но мои опасения оказались напрасными. Все семейство Колупаевых было в сборе. Михей, его жена, теща, двое рослых сыновей хлопотали вокруг огромного деревянного, окованного железом сундука. Я увидала в нем подушки, одеяла, одежду, белье, сковороды, ухваты, рукомойник, самовар.
– Пора грузиться на телеги, – сказала я, входя в дом.
– Все готово, – как будто очень миролюбиво ответил Михей, а женщины, не взглянув на меня, принялись креститься, устремив глаза в передний пустой угол. Иконы Михей уже снял.
Вошли наши мужчины и милиционер. Увидев среди них Мефодия Сероштанова, Михей посмотрел на него с ненавистью.
– Ну, учителка с этим… мильтоном перед властью выслуживаются, а тебе что за это будет? Батюшку уже “умыл”? Теперь меня допекаешь? Смотри, Мефодька, придем назад, все с тебя по списку спросим!
Мне очень хотелось, чтобы Сероштанов не ввязывался ни в какие разговоры с Колупаевым, и он будто почувствовал мое желание.
– Демьян! Бери-ка ящик за тот конец, понесем на телегу, – обратился он к председателю сельского Совета, не удостоив Михея Колупаева даже взглядом.
Они подхватили ящик и, кряхтя от натуги, понесли его во двор.
– Не задерживайтесь, гражданин Колупаев, – заторопил Михея милиционер.
– Бабы, парни, – на колени! Помолимся в последний раз в родном доме, – сказал Михей, первым торопливо опустился на пол и принялся креститься, широко размахивая крупной жилистой рукой.
Бабы и парни поспешили встать на колени позади него и с молчаливой истовостью стали молиться. Я удивилась, что никто из них не плакал, не голосил. “По-видимому, ночью свое отплакали”, – подумала я, но вскоре поняла, что ошиблась.
Когда вслед за семейством Колупаевых я вышла из дома, оставив его пустым, с отворенной настежь дверью, во дворе появилось уже несколько старух, смиренно наблюдавших у забора за всем, что здесь происходило.
– Надо торопиться, товарищ, чтобы не повторилось происшествие в Малой Жирове, – сказала я милиционеру, проходя мимо него.
Он согласно закивал головой и кинулся к теще Михея, которой по старости никак не удавалось взлезть на высокую телегу. Вот уселась рядом с матерью и жена Михея.
На другой телеге, где возвышался сундук, устроились его сыновья. Теперь очередь была за ним самим.
– Вот сюда, на эту телегу, давай, гражданин Колупаев, – стремясь ускорить ход событий, сказал милиционер.
И тут произошло то, чего никто из нас не ожидал: Михей Колупаев широко разбросил руки и кинулся на сырую после ночного дождя землю.
– Моя! Моя! Потом и кровью полита! – исступленно кричал он.
Крики и громкий мужичий плач разнеслись окрест. К голосу Михея присоединились голоса баб и парней.
Стояло хмурое утро. Небо было в сизых тучах и темных потеках над горизонтом. Все возгласы казались особенно зычными и рождали протяжное эхо. Вероятно, поэтому на эти возгласы бежали люди даже из дальних дворов. Толпа росла, двор наполнялся женщинами, ребятишками, стариками. Кое-кто из них плакал просто так, «за компанию».
– Поднимите его и посадите в телегу, – сказала я нашим мужчинам.
Мефодий Сероштанов с помощью милиционера и председателя сельского Совета Демьяна схватил Колупаева за плечи и стал поднимать с земли. Но Михей будто прирос к ней. Он лежал на животе, как пласт, и только размахивал одной ногой, старался лягнуть тех, кто пытался посадить его в телегу.
– Плачешь? Кричишь “моя”?! – отступая от него в сторону, с исказившимся от злобы лицом заговорил Мефодий Сероштанов. – А почему ты, гадина, не кричал, когда меня обсчитывал? Почему не рыдал, когда Алешку Бастрыкова от темна до темна в своей пакостной пимокатной работой умучивал?! Почему ты не лил слезы, когда парня хотел в Малую Жирову продать?! Аль забыл, волчья твоя шкура, как шерсть за бесценок скупал? А почему ты слезы не проливал, когда вместе с попом скотный двор колхоза поджигал? Молчишь, онемел сразу, барсучья твоя душа? Вставай сейчас же, иначе огрею колом – и затихнешь навеки!
Гнев Сероштанова был так справедлив, что вызвал немедленный отклик. Кто-то из ближнего угла двора запустил в Михея слежавшимся куском земли. Удар пришелся между лопаток и, по-видимому, был ощутимым. Михей вскочил, кинулся ко второй подводе.
– Не положен самосуд! Не положен! Взыщет с вас за это советская власть! – кричал Михей и поднимал руки, как бы загораживаясь ими от новых ударов.
– Трогай! Вперед! – закричала я, подбегая к возчику первой подводы.
Заскрипели под тяжестью колеса телег, зачавкала под копытами коней жижа. Толпа раздалась, вытянулась и двинулась вслед. И снова заголосили колупаевские бабы. Какие-то прыткие соседки кинулись к телегам, и над улицами Песочной разнесся дикий вопль.
Но колхозные возчики знали, что делать. Они принялись погонять коней. Вскоре вопящие женщины стали отставать от подвод, они, тяжело дыша, останавливались, прощально махали платками. С удивлением я узнала среди них некоторых активисток, рьяно обличавших на собрании Михея Колупаева.
Да, не легко и не просто расставались люди со старым укладом жизни. Их путь к новому лежал через трудные испытания и был полон противоречий.
За поскотиной позади подвод тянулись уже только одиночки. Вместе с Мефодием Сероштановым мы шли еще километра три. В логу я подозвала милиционера, передала ему пакет с документами выселяемых и пожелала благополучно доставить Колупаевых до пристани.
От бессонных ночей, от всех переживаний глаза у милиционера были воспаленные, красные. Он улыбнулся мне потрескавшимися губами, сказал:
– Все самое опасное кончилось. До свиданья, товарищ уполномоченный! Возвращайтесь в деревню!
Мы с Мефодием долго стояли на обочине дороги, смотрели вслед подводам. Вот они скрылись в березняке, и мы зашагали домой. Шли не спеша, молча, погруженные в свои думы.
Когда стали приближаться к деревне, день неожиданно посветлел. Выглянуло солнце, земля, лежавшая до этого в сумрачной, сизой испарине, засияла свежестью трав и зеркальной гладью озера.
– Смотрите-ка, Прасковья Тихоновна, денек-то развидняется! Видимо, и природе радостно, что избавились мы от этого изверга Михея! – сказал Сероштанов и впервые за последние дни засмеялся.
– Конечно, Мефодий, конечно! – поддержала я его. – Ты только подумай, насколько легче, проще, спокойнее будет теперь жизнь в нашей Песочной. Вот что значит социальная справедливость, социальное равенство! Ведь недаром об этом мечтали самые выдающиеся люди мира!
В памяти у меня всплыли проникновенные строки из “Общественного договора” и “Исповеди” Жан-Жака Руссо, и мне захотелось рассказать об этом Мефодию, но он, как и я, был, видимо, настроен философически и возбужденно заговорил сам:
– Я, когда, Прасковья Тихоновна, помоложе да поглупее был, не думал, что люди так накрепко привязаны к своему классу. Мне казалось, есть просто добрые люди и просто злые. А когда я поишачил лет пяток на Михея Колупаева, а потом на попа, – понял, где собака зарыта. Собственность! Вот откуда идет злость людская! Ее надо прежде всего изничтожить.
В эти минуты нам казалось, что и воздух стал чище, и дышится легче. Но радость наша, вполне оправданная и объяснимая, была все-таки преждевременной. И Мефодий и я хорошо знали, какой неожиданный и хитроумный оборот принимает порой классовая борьба, но представить себе до конца, на какие неслыханные преступления способен враг, мы тогда еще не могли.
Мне трудно, почти невозможно писать, но я спешу рассказать всю правду. Людские сердца отходчивы. Это старая истина. С высоты пройденных лет легко судить о прошлом. Может быть, найдутся такие, которые скажут: “А не очень ли вы, дорогие наши предшественники, были жестоки, когда изгоняли Михея Колупаева или маложировского мельника? Может быть, следовало бы как-то иначе поступить с ними?” Да, возможно, что все было бы иначе, если б они поняли свою обреченность. Но они не могли понять этого, они оказывали сопротивление, и единственной мерой против них оставалась власть и сила.
Прошла неделя после выселения Михея Колупаева. Колхоз жил своими интересами, люди работали как никогда дружно. Никто не сеял злобных слухов. Скот ночевал в пригонах и хлевах без охраны. А между тем туча заходила над моей головой.
Вечером, после репетиции, я шла из Народного дома в школу. Было темно, душно, где-то далеко-далеко над полями посверкивала молния, но грома не было слышно.
Вот я поравнялась с колодцем. На мгновение мне показалось, что кто-то шевельнулся за его срубом, но я не обратила внимания, шагала себе дальше. Вдруг что-то жидкое, маслянистое шлепнуло мне в бок, поползло по ногам. И еще и еще… Теперь уже на плечо и грудь. По запаху я поняла: керосин, вероятно, смешанный с каким-то другим горючим веществом.
– Кто это? Кто тут? – закричала я не своим голосом, видя, как от колодца ко мне бежит человек в белом.
– Это смерть твоя – вот кто! Ты разорила и нас и Колунаевых. Ты нарушила нашу жизнь, паскуда! И Алешку в город угнала ты! ты! – услышала я тонкий, пронзительный женский голос, клокотавший от злобы. И в ту же минуту передо мной вспыхнул синий клубок пламени. Я почувствовала, что горю. Секунды две-три я не знала, что делать. Даже не кричала, страх перехватил горло. Я только видела, как белый призрак исчезает в ночи. Вспомнив, что позади должны идти Мефодий Сероштанов и комсомольцы, я наконец стала звать на помощь. Я не видела, кто первым подбежал ко мне, только почувствовала, как чьи-то сильные руки повалили меня на землю и, поворачивая со спины на бок, принялись тушить горящую одежду.
– Кто это вас? – спросил мужской голос, и я узнала Мефодия Сероштанова.
– Дочь мельника из Малой Жировы, – сказала я и потеряла сознание.
В себя я пришла только на другой день в больнице. Надо мной склонился человек в золотых очках.
– Кто вы?
– Доктор, милая.
– Ой, почему же я голая?
– Вы вся в ожогах. Целы только руки и глаза.
…Так началась моя жизнь в больнице.
Я лежу в Ново-Кусковской районной больнице. За окном березовая роща. Нянечка сказала: “Это роща старого доктора. Он приехал сюда совсем молоденьким и перво-наперво насадил березы”. Ровные, высокие стволы, ослепительные своей первозданной белизной и зеленью. По обочинам этой рощи – великолепные кедры. Они разлаписты, мохнаты, высоки и до удивления спокойны. А дальше, за рощей, – косогор, речка, спрятанная в черемушнике и рябиннике, и снова косогор, а на нем изба. Я вижу по утрам, как выползает дымок из трубы, поблескивают через стекла двух окон горящие в печи дрова. Говорят, в этой избе живет бывалый чулымский охотник и рыбак. Нянечка как-то сказала: “Этот человек знаменитый. Две деревни в наших краях названы его именем”. – “За что же такая честь ему выпала?” – спросила я. “Он первый хаживал тут по таежной целине. Первый, понимаешь, что это значит – первый? Никто до него не ходил. Он прошел. Рискнул. И деревни обосновались там, где у него были станы”. – “И места оказались удачными? И новоселы ые разбежались?” – спросила я. “Живут люди, не уходят, а будет плохо, передвинутся на другое место. Теперь что? Теперь легче. Вот первому тяжко”.
Ночью я несколько раз просыпалась и все думала о первых, прокладывающих дорогу другим. Как им трудно, очень трудно!
Однажды я снова спросила нянечку: “Почему же доктор начал свою жизнь здесь с того, что насадил рощу?” – “А потому, пташка, – сказала она тихим, умиротворяющим голосом, – потому, что он хоть и доктор, а тоже смертный. Он умрет, а роща будет жить. Все, что есть на земле живого, все тянется в будущее. Вообрази на минуту: вдруг кончилось это. И тогда все остановится, все сгниет”. Она помолчала и рассудительно добавила: “И еще вот почему, пташка. Ты помнишь, что находится позади больницы. Кладбище. А раз кладбище – то и печаль, и тоска, и отчаяние, и, конечно, покой вечный”.
Доктор вырастил рощу, и теперь каждый знает, что у человека отсюда есть иной путь – в рощу, в жизнь. Доктор наш – умный и мудрый врачеватель. Ничто так не убивает человека, как его собственное размышление о тщете существования, его представление о себе как о ничтожестве, о песчинке в неохватном мире.
Как только я поправлюсь, я обойду докторскую рощу по всем ее тропинкам. Я приметила любопытную особенность: в разное время суток роща выглядит по-разному и рождает совершенно различные чувства.
Как-то я проснулась на рассвете. Стоял еще предутренний сумрак. Я взглянула в окно и первое, что увидела, – белизну стволов. Зелени в эти минуты словно не существовало. Она еще была пригашена серым светом ночи. Я смотрела долго и неотрывно. Ударил солнечный луч, и вот все вмиг преобразилось. Роща стояла пышная, щедрая, ласковая и чародейски манила под свои купы.
Вчера я наблюдала за рощей в предвечерний час – от заката солнца до темноты. С каждой минутой она становилась все загадочнее и уже не звала к себе, как днем, настораживала и даже отталкивала. Временами казалось, что темнота надвигалась не на нее, а, наоборот, незримо струилась из потайных чащоб рощи и обволакивала землю непроницаемой пеленой. Вскоре спустился густой мрак. Роща растворилась, слилась с косогорами. Будто провалилась в бездну. Но и во тьме продолжалась жизнь. Я слышала, как перекликаются птички, как шумят крыльями над листвой ночные хищники, как ветер, со свистом прилетевший откуда-то с широких плесов Чулыма, пробегает по макушкам берез и затихает с такой же внезапностью, с какой и появился. Мне казалось, что он проваливается в бездну, которая была теперь на месте рощи. Я представила себе эту бездну, и мне, материалистке, стало страшно. Я постаралась больше об этом не думать, но ощущение страха долго еще не проходило. Я презираю себя за это чувство.
…Когда человек прикован к постели, надолго ограничен в общении с другими, самые обыкновенные явления и предметы начинают приобретать особый смысл. Белая докторская роща… Она стала для меня такой притягательной, полной таких красок и звуков, которые делают ее неисчерпаемой для чувства и мысли.
Время тянется бесконечно. В полдень, когда под знойным солнцем замирает даже стебелек метлицы, кажется – течение жизни остановилось. Раньше в работе и спешке часы пролетали, как минуты, теперь же минуты представляются мне часами. Они длинны и тягостны.
Чтобы скоротать время, уменьшить боль, бороться с одиночеством, я веду сама с собой длинный и откровенный разговор. Стараюсь выяснить то, что мне не до конца понятно. Я хочу достигнуть предельной ясности, назвать белое – белым, черное – черным без тени лукавства и украшательства…Все повернулось к худшему. Старый доктор сегодня долго сидел возле меня, хмурился, сдержанно покачивал головой. Я поняла, что положение мое плохое. Осторожно я спросила его об этом. Он ответил, глядя в окно: “Будем надеяться на лучшее”. Но мне стало страшно от его голоса… Страшно…
Я умираю. Да здравствует социальная справедливость! Будьте счастливы, люди! Я с вами!
Папа, прощай, родной!.. Я хотела людям добра»....«СПРАВКА
Выдана по требованию комсомольской ячейки деревни Песочной.
Гражданка Скобеева Прасковья Тихоновна, 22 лет от роду, скончалась на 35‑й день пребывания в Ново-Кусковской районной больнице вследствие общего заражения крови, вызванного неизлечимыми ожогами.
Заведующий больницей доктор Лампадов».
...«Протокол
строго секретного
закрытого комсомольского собрания
Песочинской ячейки.
Слушали: Доклад товарища Сероштанова Мефодия Кузьмича о злобных действиях классового врага и чтение записок товарища Скобеевой Прасковьи Тихоновны.
Все комсомольцы говорили одно: еще теснее сплотимся вокруг ленинского знамени нашей партии, дадим классовому врагу достойный отпор!
Постановили: 1. Поставить на могиле Прасковьи Тихоновны Скобеевой памятник из лиственничного кряжа с пятиконечной красной звездой. На памятнике сделать надпись: “Вечная слава тебе, наш любимый товарищ Прасковья Тихоновна. Ты жила, как герой, и умерла, как настоящий революционер-борец. Твоя жизнь, подобно факелу, освещает нам путь в будущее”.
2. Беглые кулаки, а также прочие контры продолжают вредить колхозному делу и жизни людей, потому ввести с сегодняшнего числа ночные дежурства комсомольского патруля.
3. Так как милицейские работники бездействуют в поимке врага советской власти и колхозного строя, дочери маложировского мельника Аграфены Брызгаловой, убийцы Прасковьи Тихоновны Скобеевой, а нам доподлинно известно, что она скрывается на старой таежной заимке купца Луки Твердохлебова (брата ее матери) и от нее можно ожидать новых злодейств, – именем Великой Октябрьской социалистической революции приговорить ее к смертной казни. Расстрелять ее, как бешеного зверя, из охотничьего ружья, пулей на медведя.
Поручить Мефодию Сероштанову привести приговор в исполнение. Тело этой кулацкой суки сжечь вместе с заимкой, потому как она недостойна погребения в нашей священной и свободной земле.
4. Записки Прасковьи Тихоновны Скобеевой и протокол комсомольского собрания переслать ее отцу, старому большевику, товарищу Скобееву Тихону Ивановичу.
Клянемся Вам, товарищ Скобеев, что никакие подлые происки классовых врагов не посеют в наших рядах испуга и смятения и правое дело строительства социализма мы доведем до победного конца (следует семнадцать подписей)».Пакет, в котором были записки Прасковьи Тихоновны и протокол собрания Песочинской комсомольской ячейки, принес с парабельской почты Алешка. Сам Скобеев в спешке принимал товары и с помощью Лаврухи и Еремеича в строгом порядке распределял их по паузкам.
– Дядя Тихон, пляшите! Письмо вам. Толстое-претолстое!
Услышав эту весть, поднялись из трюмов Лавруха и Еремеич. Все сошли на берег, окружили Алешку, который был рад-радехонек, что именно ему пришлось доставить письмо: ведь его с таким нетерпением ждал Скобеев, заходя на почту и в Молчановой, и в Колпашеве, и в Мочагине, что на устье Чулыма.
Скобеев принял пакет дрожащей рукой, ощупал его и не спеша, с лицом, на котором застыло напряжение, надорвал.
– Ну вот, Тихон Иваныч, а ты все беспокоился. Я говорил, что дочка на Парабель напишет, – смахнув руками пот со лба, сказал Лавруха.
Скобеев вынул из кармана очки, развернул листы бумаги, сложенные по размеру конверта, и начал читать. Под нетерпеливыми взглядами товарищей он пробежал глазами две-три страницы, потом его пальцы судорожно затеребили листки, исписанные неровным, скачущим почерком дочери. Наконец его глаза, враз будто остекленевшие, задержались на справке доктора Лампадова.
– Лавруша… Еремеич… Алеша… – Губы Скобеева задрожали, щека задергалась в нервном тике, голос упал до шепота. – Нету у меня дочки, нету больше Параши.
– Да ты что, Тихон, что ты говоришь?! – взревел Лавруха, бледнея и покрываясь потом.
Еремеич и Алешка, видя, что Скобеев шатается, подхватили его под руки, посадили на тюк мануфактуры.
– Ах, как же ей тяжко было!.. И остался я теперь один-одинешенек. Бобыль, – опуская голову на грудь, глухо, со стоном выдавил Скобеев.
– Скажи, Тиша, что стряслось-то? – спросил Лавруха, садясь рядом со Скобеевым на другой тюк и осторожно кладя ему руку на плечо.
– Страшно… Страшно, Лавруша. Читай вслух. – Отяжелевшей, почти неподвижной рукой он подал Лаврухе листки.
Еремеич и Алешка опустились на песок рядом. Лавруха начал читать. Голос его то звенел, то дрожал, то становился гневным, наливался яростью. Временами надолго замолкал. Дышал Лавруха шумно, со свистом, раза два его горло перехватывали рыдания, но он переборол их и продолжал читать.
Пустынно было в этот час на Парабельской протоке, где, приткнувшись к берегу, изрытому дождевыми потоками, стояла база. Никто, ни одна душа во всем белом свете не слышала горького стука сердец четырех товарищей, не видела согбенных мужицких спин и этих слез молчаливого горя, которые текли по загоревшим, обветренным и как бы окаменевшим сразу лицам.
Глава девятая
До устья Васюгана плыли три дня. Ни ночевки, ни остановки на обед, ни участливые разговоры Лаврухи и Еремеича – ничто не могло вывести Скобеева из состояния тяжелого уныния и задумчивости. Если останавливались, он уходил куда-нибудь в прибрежные леса или на луга собирать ягоды и возвращался к самому отходу базы с грустными, покрасневшими от долгие слез глазами. Если база была в пути, Скобеев выходил на нос одного из паузков и, опустившись на круг каната, сидел неподвижно, ссутулившись, и час, и два, и три – глядел вперед и думал о своем.
– Молчит дядя Тихон! Как бы не стряслось с ним что-нибудь худое, – высказал как-то Алешка свои опасения Лаврухе и Еремеичу.
– Я уж и то думал об этом, Алексей Романыч. Может быть, Лавруша как-нибудь поможет нам расшевелить его, отвлечь от горьких дум, – поддержал Алешку Еремеич.
Но Лавруха на этот счет был иного мнения.
– Не такой человек Тихон Иванович, чтоб с ним стряслось что-нибудь худое. Переживает! Трудно ему смириться – нету больше дочери. И жалко, мочи нет! Умирала ведь она на медленном огне. А молчит – это хорошо, с силами собирается. А мы-то с вами разве много в эти дни разговариваем?!
Действительно, горе Скобеева сильно изменило жизнь экипажа базы. Лавруха словно забыл свои шутки-прибаутки. Еремеич тоже примолк. Раньше из его капитанской рубки то и дело слышались песни, а то и ухарский, задорный свист, теперь он крутил свое колесо, насупившись, будто сердясь на весь белый свет. Мучительно переживал смерть Прасковьи Тихоновны и Алешка. Пока стояли на причале, он отвлекался от мыслей о трагическом событии в Песочной, но стоило базе двинуться в путь, как под мерный плеск воды снова наваливались на него тяжкие раздумья.
«И как же они ее там не уберегли?! – в который раз рассуждал об одном и том же Алешка. – Мефодьке-то Сероштанову надо было бы не отдельно идти, а вместе с ней. Тогда бы не бросилась на нее эта паскуда, мельничиха, с керосиновой банкой».
Иногда во всем случившемся Алешка начинал обвинять себя. «Тебе легко рассуждать о том о сем. Улепетнул в город, а товарищей укоряешь. Они там ночей не спят, себя под кулацкие пули подставляют, а ты живешь-поживаешь тут, будто никакой классовой борьбы и в помине нет. Остался бы в деревне, больше бы сил у комсомольцев было, труднее б врагу приходилось».
Но особенно много размышлял Алешка о записках Прасковьи Тихоновны. Живо представлялась ему картина выселения Михея. И ночь, темная ночь над Песочной, и коварный, безжалостный всплеск огня, и крик, душераздирающий крик в тишине. Алешке казалось, что он слышит этот крик вот здесь, вот сейчас, на пустынном, безлюдном просторе обских плесов.
Слова Прасковьи Тихоновны о нем самом, о ее вере в его способности он твердо запомнил. «Опять четыре дня за книги не брался», – упрекал Алексей сам себя и мысленно давал Прасковье Тихоновне слово ни одного дня не тратить впустую.
На устье Васюгана пришли утром. Летний разлив воды, когда берега Оби раздвигались местами до трех – пяти километров, кончился, и теперь на большой реке все стало определеннее и резче: берега поднялись, некогда залитые водой кустарники оказались на суше, вылезли на свет краснобокие островки, храбро рассекая реку и отбрасывая в стороны ее упругие нескончаемые струи.
Перед впадением в Обь Васюган круто изгибается, как бы сдерживает свою прыть. Темные воды Васюгана врываются в Обь с плеском и шумом. Белогривые плескунцы бегут, бегут с задором, бьют в тугую, катящуюся стену обской воды, отскакивают, разъяренные и шипящие, чтоб удариться с еще большим ожесточением.
– Ну, Алексей-душа, вот он и Васюган твой. Смотри во все глаза, вспоминай, – сказал Скобеев, и впервые за последнюю неделю на его почерневшем, заострившемся от горя лице промелькнула скупая улыбка.
Услышав по-прежнему твердый голос Тихона Ивановича, увидев прежний блеск его коричневых глаз, парень чуть не закричал от радости. Будь он сейчас не на паузке, а на катере, опрометью бросился бы в машинный отсек, чтоб сообщить Лаврухе первостепенную новость: «Собрался дядя Тихон с силами, переборол горе!»
– Уж как смотрю, дядя Тихон, на все, на все! – Алешка придвинулся ближе к Скобееву, ворочавшему рулевой слегой, глядел неотрывным взором на берега Васюгана.
Берег, тянувшийся от Каргасока, был темным, суровым, поросшим крупным кедровником, пихтачом, ельником. Зато противоположный верхний берег курчавился ивняком и топольником, поблескивал старыми протоками, зеленел равнинными выпасами и лугами.
– Вот где, дядя Тихон, травы-то! У нас из-за каждой делянки мужики на сходках дрались, а тут все гниет и пропадает! – сказал Алешка, когда катер тянул паузки в устье Васюгана и вид на луга стал еще безбрежнее.
– Тут, Алексей-душа, несчетно добра гибнет. Придет время, возьмут все это люди себе на пользу, – сказал Скобеев и, присматриваясь к парню, что-то решая про себя, спросил: – А ты знаешь, куда Еремеич решил дотянуть нас сегодня на ночевку?
– Куда?
– До коммунарского яра!
– На могилку к тяте схожу.
– Беспременно, Алексей-душа. Все сходим, не ты один.
Миновав плес с плескунцами и водоворотами, катер пошел шибче.
Алешка все так же стоял подле Скобеева, молча смотрел на реку, на берега, на небо. Далекие, пригасшие от времени воспоминания детства разгорались здесь, на васюганской стороне, как разгораются угли в костре от свежих порывов ветра. В сознании Алешки возникали одна за другой картины той жизни, которая была не совсем понятна в детстве, не познана в подробностях, но теперь стала бесценно дорогой, близкой, кровной до щемящей боли в сердце, потому что постиг ее теперь Алешка не только сердцем, но и умом.
Алешке вспоминалось, а может быть, так казалось теперь, что вот здесь, на островке, они ночевали коммуной, а вот тут, на песке, рыбачили, черпая богатый улов сорокасаженным неводом, выделенным коммуне губисполкомом.
Где-то тут же скрип лодок вспугнул глухаря, глотавшего под яром мелкую гальку, без которой не перетирается в зобу грубая пища таежной птицы. Глухарь взмыл над рекой. Отец выстрелил влет, и птица, распластав крылья, упала возле лодки, угадав к веслу рулевого Ивана Солдата. В обед на стоянке глухаря ощипали, опалили и, сварив в большом котле, съели. Мужики и бабы добродушно смеялись над отцом, над его умением добывать пищу людям походя, чуть ли не играючи. «У счастливого, Роман, и петух несется», – говорили они, не подозревая еще, что счастье отца недолговечно, а их жизнь тут коротка, как июньская вечерняя зорька: загорится, окунется земля в ночную тишь, а гляди, уже утренняя заря занимается.
– Дико здесь, дядя Тихон. Куда более дико, чем на Оби и на Чулыме. И что только тятю позывало сюда? – отрываясь от своих воспоминаний, принимался вслух размышлять Алешка.
– Дико-то уж дико! А все-таки были у него, видать, Алексей-душа, не малые расчеты. Хотел он взорвать эту дикость и сонный покой коллективным трудом. И получилось бы у них, наверняка получилось! Если б не классовый враг, все бы преодолели коммунары: и нужду и бездорожье. Как думаешь сам-то?
– Жили бы! А все-таки, дядя Тихон, не одну тут коммуну надо. Эвон, как неохватно. От лесов аж темно в глазах.
– Гляди, возле одной коммуны и другие бы появились. Ну, если не коммуны, то по-теперешнему – колхозы.
– Тятя о многом мечтал. Говорил, что разбогатеем – пароходы пустим, потом железку построим.
– Далеко смотрел! Понимал, что без техники такой край не возьмешь до конца. Светлую голову, видать, на плечах носил. – Скобеев помолчал, с болью в голосе воскликнул: – Ах, Алексей-душа, сколько их пало, таких вот отважных бойцов за коммуну! Не счесть!
– Вот и Прасковья Тихоновна, – одними губами прошептал Алешка, сознавая, что он усиливает боль Скобеева, по говорит то самое, что не сказать нельзя, не имеет права.
– И она тоже… Параша, – опуская голову, глухо сказал Тихон Иванович. И заморгал.
Молчание было долгое и тягостное. Скобеев решил не поддаваться скорби, которая уже вторую неделю стискивала сердце, сжимала грудь. Он заговорил через силу, вытягивая шею и сглатывая не прорвавшиеся наружу рыдания:
– И знаешь, Алексей-душа, какой им всем памятник будет по заслугам? Машины! Чтоб появилось у нас своих машин располным-полно, чтоб не карабкались мы на таких вот развалюхах, как наш катерок, дай бог ему здоровья и долголетья… Одним словом – индустриализация!
Алешка встрепенулся: «Индустриализация!» Да ведь и отец, когда говорил о пароходах на Васюгане, о железке в таежных краях, думал о том же самом! Но, видно, не такая это простая штука – индустриализация, не так легко ее осуществить на деле!
Давно Алешка приметил, что Скобеев хотя и старый большевик и закаленный человек, но, как все люди, чуток и к сочувствию и к утешению. Щедро отдавая тепло своей души другим, он и сам нуждался в дружеском участии. И Алешке захотелось поддержать Скобеева, поверить в его мечту.
– Будут машины, дядя Тихон! – воскликнул Алешка. – Нынче эвон сколько пушнины по рекам томской Оби насобираем. А мы ведь не одни. Небось и в других местах такие базы плавают. Будет на что купить!
– Уж это справедливо говоришь, Алексей-душа! Раз задумано – то будут и машины, и пароходы, и катера, и все прочее остальное. Свои заводы, советские, начинают машины подавать. Вот что радостно.
– Лекцию в клубе молодежи я слышал одну, дядя Тихон. Уму непостижимо. Научиться в будущем леса корчевать машиной. Зацепит такая машина за пенек – и конец ему. А наши-то, коммунары, помню: когда землю под пашню расчищали, все топориком, да стежком, да веревкой.
Они увлеклись беседой, забыв поглядывать на солнце. А вечер близился, зной ослабел, затих перезвон птичьих голосов. От устья Васюгана до Белого яра оказалось далековато. Шли целый день, не обедали, а намека на остановку не было.
Еще через часок небо помутнело и сумерки поползли из прибрежных кустарников. Когда Еремеич пришвартовался к берегу, было совсем темно.
– Причалил прямо к Белому яру, Алексей Романыч. У нижнего бьефа! – сообщил Еремеич Алешке, когда ловким маневром руля Скобеев поставил паузки, что называется, впритирку к берегу.
У Алешки застучало сердце.
– Коммунарская могила тут, Еремеич, тятя мой здесь лежит! – воскликнул он с дрожью в голосе.
– Припозднились! Сейчас и шагу не ступить в сторону – ни зги не видно, – виновато сказал Еремеич, понимавший, что Алешка охвачен нетерпением и готов хоть сейчас идти на могилу.
Когда разожгли костер, Алешка попробовал все-таки подняться по косогору, но прошел не больше ста шагов. Заросли бурьяна и кустарника были тут такие густые, что не продерешься. И темнота стояла особенно плотная, непроглядная, не такая, как у реки.
Отмахиваясь веткой от комаров, Алешка поспешил назад. За ужином как-то сам собой возник разговор о жизни коммуны, о гибели партийцев, об отъезде коммунаров на старые места. Скобеев да и Лавруха с Еремеичем все это уже знали, но, чувствуя, что Алешка рассказывает с охотой, слушали его заинтересованно, то и дело поглядывая в темноту, на косогор, ставший местом трагедии, и живо представляя, как все здесь происходило.
– Тятя махнул мне рукой, я побежал было по берегу, но яр стал крутым, и я остановился, – медленно, тихим голосом рассказывал Алешка. – Потом я вернулся к шалашам, начал ладить удочки. Не помню, сколько прошло времени, когда донеслось эхо выстрелов. В самое сердце ударили меня эти выстрелы. «Поехали место выбирать для фактории, а подняли пальбу», – подумал я с удивлением. Еще просидел, пожалуй, с час, все посматривал вдоль яра и поджидал, не покажутся ли лодки с нашими мужиками и с очкастым уполномоченным. Лодки не появились, и все сильнее сосало у меня под ложечкой: «Что-то не так, не простая это была стрельба». Побежал я на стройку, к дяде Ивану Солдату. Рассказал ему. Он тоже забеспокоился, сунулся было к лодке, но тут подошли коммунарские плотники, стали смеяться и надо мной и над ним: «Эка, дескать, невидаль – выстрелы! А где мы живем-то?! В тайге! Да они на медведя, может быть, нарвались». Дядя Иван заколебался: «Подождем, Алешка. Вот-вот вернутся!» Так и дотянули до ужина.Солнце стало закатываться, когда дядя Иван, я и еще двое плотников сели в лодку и поехали вот сюда, в нижний конец яра. Место, где наши приставали, увидели сразу: песок истоптан, следы от стоянки лодок, кустарник пообломан. Вылезли, пошли по следам в гору. Первым увидели Митяя, рядом с ним дядю Васюху, а тятя лежал дальше всех. Лежал он на спине, вся грудь в крови, рука закинута над головой, сжата в кулак…
Дядя Иван Солдат заплакал, набросился на плотников с руганью: «Не послушались парнишку! Если б схватились тогда, хоть бандитов-то не упустили, прихватили бы их поблизости!»
Ну, похоронили наших партийцев и кинулись искать злодеев. Одни поехали в Югино и Каргасок, другие – в Наунак, а попутно заглянули и в Маргино. Да где там, разве у убийцы написано на лбу, что он убийца?!
Когда вернулись назад – приуныли. Стали пуще прежнего ждать Тереху Черемисина. А его нет и нет. Тут уж ясно стало – либо утонул он, либо и его подкараулили те же злодеи.
Разлад пошел. На беду, харч кончился. Ни муки, ни рыбы, ни мяса. Дядя Иван Солдат собрал всех у шалашей, начали судить-рядить, что же делать дальше. Каждому понятно стало: надо уходить, да и коммуну некому к цели вести. Вот и поехали кто куда. Некоторые осели в городе, некоторые разошлись по другим селам, остальные вернулись в свои избы в Песочной.
Потрескивали на огне дрова, пламя взвивалось витой стружкой, дрожало, пробивало темноту, освещая то уголок таежной чащи, то гладь притихшей реки, то квадрат белого песка, промытого половодьями.
Спать разошлись молча. Скобеев долго ворочался на своем топчане, вспоминая дочь, забывался на минуту, в полусне ощупывал винтовку, которую после нападения на базу под Наунаком никогда не забывал класть подле себя. Лавруха и Еремеич лежали в каюте катера и тоже не спали, перебрасывались короткими фразами – о погибших коммунарах, об Алешкиной доле, о бдительности, без которой в нынешней жизни шагу не ступишь.
Алешка остался у костра. Обычно он спал на паузке, по соседству со Скобеевым, но в этот раз решил ночевать на берегу. Ему хотелось сразу же на рассвете уйти к могиле, никого не беспокоя и не тревожа.
За всю ночь он забылся сном всего на час-полтора. Лежал у костра с подветренной стороны. Его обдавало и дымом и теплом. Комары потренькали, позвенели с вечера, но, когда с реки потянуло прохладой, отступили в чащу.
Алешка поднялся, когда рассвет чуть забрезжил. В костре чадили последние головешки. Над рекой белел туман. Ночь уходила, небо светлело, преображая землю, раздвигая ее просторы, делая зеленое – зеленым, желтое – желтым, белое – белым, красное – красным и не меняя лишь черного.
Алешка направился было к реке умываться, но вдруг обернулся и долго стоял, вглядываясь в пологий косогор, заросший чащобой. Прошло не так уж много лет, а все тут сильно переменилось. Тогда косогор был полуголый, лес начинался где-то на середине, а на самом гребне прерывался, образуя чистую поляну, с которой хорошо виделось заречье и нижнее устье извилистой Маргинской протоки. На этой поляне, на склоне, и похоронили коммунары своих вожаков. Теперь яр осел, поляна заросла молодым березняком, и берег вычертил в этом месте глубокий полукруг, отступив под неслышным напором реки.
«Лежишь ты тут, тятя, и ничего не знаешь. А если б мог знать – доволен был бы, что не забыл я тебя, пришел навестить твою могилу, хочу, как и ты, чтоб жили на Васюгане люди», – думал Алешка. Он спустился к реке, умылся, причесал густые, волнистые волосы самодельной расческой. «Пойду поклонюсь тятиной могилке. Передам от Мотьки поклон дяде Васюхе и Митяю», – решил Алешка и зашагал по берегу.
Он отошел от паузка сажен двадцать, когда услышал шаги позади. Оглянулся. Его догонял Скобеев, а от катера наперерез ему торопились Лавруха и Еремеич.
На середине косогора в зарослях молодого, пахнущего свежей смолою пихтача сошлись.
– Я сегодня ночь не спал, все думал, – загудел Лавруха. – Вся душа моя то в печали, то в ярости кипела. И что они, эти изверги рода людского, только с нами, коммунистами, не делают?! В леса заманивают, керосином обливают, стреляют в нас! И все из-за чего? Не хотят от власти и богатства отступиться, не хотят, чтоб люди жиля в истинном братстве и равенстве. Нет, кто как, а я сердобольным к ним не буду! Пусть не надеются! И надо, юнга, жизнь положить, а дознаться, чьих это рук дело!
– А ты представляешь, Лавруша, что здесь, на этом яру, было бы, если б коммуна уцелела? Я представляю! Дома, постройки, земля не в диком бурьяне, а в хлебах и цветении, – мечтательно протянул Скобеев.
«И пароходы идут по Васюгану, и по железке паровозы мчат», – вспомнилась Алешке мечта отца.
– Стой, братцы! Сюда! Сюда! – вдруг воскликнул Еремеич, шагавший по косогору несколько выше остальных.
Скобеев, Лавруха и Алешка бросились на его зов, сокрушая ногами хрустящий валежник и подминая бурьян и чертополох.
Еремеич стоял возле большого почерневшего столба. Верхний конец его когда-то Надюшка приподняла на колоду, и благодаря этому он не был скрыт зарослями копевника, папоротника, дурманящего своим сладким запахом белоголовника. В верхней части столба была прибита доска, покрывшаяся местами мягкой, бархатной травкой. Еремеич ладонью очистил с доски траву и мусор, нападавший с деревьев, и все увидели потускневшие, когда-то выжженные буквы.
– «Здесь лежат васюганские коммунары, члены РКП (б) Роман Бастрыков, Васюха Степин, Митяй Степин», – вслух прочитал Еремеич.
Скобеев снял с головы кепку. В молчании стояли с минуту.
– Значит, здесь могила? Или нет? Ты помнишь, где была она, Алексей? – спросил Скобеев.
– Могила повыше, дядя Тихон. Тут должна стоять большая лиственница. Под ней. Это я точно помню. Она здесь одна была на всем яру.
Алешка зашагал впереди, остальные за ним. Вот он поднялся на первое плечо косогора, остановился, вспоминая, как несли сюда на руках мужики тяжелые гробы, как безутешно плакали люди, как причитала во весь голос тетка Арина в тот незабываемый день жаркого лета двадцать первого года.
– Постойте-ка, а где же лиственница? Куда же она девалась? – Алешка недоуменно пожал плечами.
– Видно, срубили ее, Алексей-душа! Сейчас пенек поищем, – сказал Скобеев и, сгибаясь, принялся и руками и ногами раздвигать бурьян, кустарник.
Лавруха последовал его примеру, а Еремеич между тем спустился к самому краю ямы. Только Алешка будто прирос к месту – одни глаза горели. Он бросал вокруг взгляды, что-то про себя примерял.
– Вот она, ваша лиственница! Под яром! – крикнул Еремеич.
Все заспешили к нему. Алешка перегнал Скобеева и Лавруху, в горячке чуть не свалился под кручу. Еремеич схватил его за рукав, придержал.
Да, это была та самая лиственница! Алешка сразу узнал ее. Она стояла теперь торчком. Обломанная макушка упиралась в реку, а комель с крепкими черными корнями, торчавшими во все стороны, лежал на свежих осыпях яра.
– Все, дядя Тихон. Искать нечего – могила была ближе к реке, чем лиственница. А бревно с доской не то оползень, не то добрая душа какая передвинула. – Плечи Алешки затряслись, став сразу худыми и костистыми, как бы утратившими мускулы.
Ни Скобеев, ни Лавруха, ни Еремеич не видели лица Алешки, но все, что происходило в его душе, хорошо понимали без слов по вздрагивавшей от рыданий спине.
– Ах ты, незадача! И надо же! Такой обвал! – шептал Лавруха.
– Ну, ты ничего, ничего, Алексей-душа! Ты это самое… Ты отошел бы… Яр весь в щелях, – бессвязно утешал Скобеев.
Еремеич встал ближе к парню, взял его за руку; тот порывисто дышал, будто только что остановился после изнурительного бега.
– Вот какая она бывает, житуха. И все надо перенести, и против всего надо выстоять… – заговорил Скобеев. – И ты того, не опускай головы… Оно, значит, выходит так: не один Белый яр, а весь Васюган стал им могилой… И по праву, Алексей-душа, по праву… Принесли они новую жизнь сюда, и что бы враг ни делал, она тут возьмет свое. Не вчера, так сегодня, не сегодня, так завтра… И ты вот сам встал на ноги, сам теперь все в разум возьмешь… Сам свой путь наметишь…
Скобеев говорил, говорил. Теперь ему не надо было вспоминать, подбирать слова, они сами шли откуда-то из тайников сознания. Алешка уже не всхлипывал, и спина его снова стала округлой и крепкой.
– До гробовой доски, дядя Тихон, не будет мне спокойствия. Все будет сюда позывать… На этот распроклятый милый Васюган.
Он быстро нагнулся, отломил увесистый кусок суглинка, прошитый белыми корешками трав, размахнулся, кинул его в реку. Кусок мягко шлепнулся о коричневую воду. Круги игриво разошлись, ласково взбежали два-три раза на песок и сузились, чтобы исчезнуть навсегда. Что-то в этом было потешное, по-детски забавное, и Скобеев, глядя на Алешку, усмехнулся:
– Вишь, Алексей-душа, ты вроде на него, на Васюган-то, сердишься, а он твое сердце за ласку принимает!
– Чует, что свой, не чужой, с ним балуется! – поддержал Лавруха и тут же по обычной своей прямолинейности сказал: – А что, юнга, если мы памятник на видное место перенесем?
– Хорошо бы! – с горячностью согласился Алешка.
– И я об этом же подумал, – поддержал Скобеев.
Еремеич вытянул руку, указывая на безлесый взлобок.
– Вон там его поставим. От реки далеко, и видно хорошо.
– Можно и подальше. А то гляди, как он, Васюган-то, берега сжирает. Тихий, а прожорливый.
– Сажен двести было, дядя Тихон, от берега до лиственницы.
– Видал, как ломает!
Поднялись на взлобок, облюбованный Еремеичем, осмотрели его. Место оказалось вполне подходящим. И отстояло оно от берега на таком расстоянии, которое при самом жадном аппетите река не могла одолеть и за сто лет.
Когда вернулись к столбу с памятной доской, Алешка вызвался сбегать на паузки, принести лопаты, топоры и поперечную пилу. Пользуясь тем, что он ушел, Скобеев сказал Лаврухе:
– А что, Лаврентий Лаврентьевич, не возникала у тебя сегодня, как у секретаря партийной ячейки, одна мысль?
Лавруха провел ладонью по пышным усам, хитровато взглянул на товарища.
– Возникала, Тихон Иванович, эта мысль. И знаешь, когда? Тогда, в Парабели, когда весть пришла о Параше. Чтоб назло врагам.
– А у меня сегодня. Вот сейчас, когда он сказал, что будет его позывать сюда до гробовой доски… Подожди. А ты думаешь, я о чем говорю?
– Об Алешке. Чтоб принять его в наши коммунистические ряды.
– Угадал, Лавруша. Одну рекомендацию я дам.
– Вторую я напишу, – с готовностью сказал Еремеич.
– И будет это, братцы, справедливое революционное дело, – убежденно сказал Лавруха. – А разговор с ним ты, Тиша, начни. Он тебе верит святой верой. Понимаешь, как это важно ему: перед светлой памятью отца войти в нашу партию, в которой тот был. Такое запомнится на все годы.
– Понимаю, Лавруша. Как не понять? И все исполню, – закивал головой Скобеев.
Выкурили по цигарке. Подошел Алешка с лопатами, топорами и пилой. Столб очистили от мусора и мха. Конец у него оказался совсем гнилым, его отпилили напрочь. Подновили и доску, заново зачистив ее углы и подправив отдельные буквы. Звездочка из жести изоржавела вконец. Скобеев отбросил ее в траву, сказал в утешение Алешке:
– На будущий год привезем сюда кирпич, сложим настоящий памятник.
Когда столб и доска были приведены в порядок, памятник подняли на плечи и понесли на взлобок. Вырыли яму и поставили памятник надписью к реке.
Алешке захотелось пройти в верхний конец яра, где у коммуны стояли шалаши, строились дома и корчевалась земля под хлеба. Решили проплыть туда на обласке, идти по яру через чащобу и валежник было бы и дольше и неудобнее.
Однако в самый последний момент, когда уже все приготовились занять места в лодке, Скобеев сказал, что бросать базу без присмотра неосторожно: мало ли какой случай может быть.
– Поезжайте, а я останусь, поброжу здесь, поищу ягод к завтраку, – сказал Еремеич.
– Тут ягод дополна! Сюда вот чуть подальше озерко должно быть, и там прямо осыпная черная смородина бывает. Мы с тятей не раз здесь хаживали.
– Ну вот и хорошо. Вернетесь, у вас на столе, как у персидского царя, разносолы, каких свет не видел, и даже птичье молоко выставлено, – усмехнулся Еремеич и посмотрел на Лавруху с озорной искоркой в глазах.
Лавруха причмокнул языком, шевеля крупными ноздрями, сказал:
– И меду на рознюх не забудь выставить. Чтобы, значит, все как следует быть.
– Будет, будет, Лавруша, чище некуда! – воскликнул Еремеич.
Скобеев и Алешка смотрели на моториста и штурвального с дружелюбной улыбкой. Хотя горькие события последних дней выбили жизнь экипажа из обычной колеи, они же и сплотили, как никогда.
Скобеев, Лавруха и Алешка вернулись часа через два. Еремеич уже поджидал их. На песке, возле костра, лежала охапка веток черной смородины, унизанных гроздьями ягод. Побулькивал чай в круглом медном чайнике. Из котла расползался вкусный запах вареной рыбы.
– Ну как, Алексей Романыч, узнал родные места? – спросил Еремеич, когда обласок ткнулся носом в берег.
Алешка сидел на средней доске необыкновенно строгий, подобранный, прямой, сдерживая волнение, которое переполняло его в это утро.
– Ничего не узнаешь, Еремеич, – заговорил он каким-то звенящим голосом. – Срубы почернели, погнили, осели, раскорчеванная под пашню земля заросла молодым лесом, а от шалашей и знатья не осталось. Видать, половодьем снесло их в первую же весну.
Алешка выскочил на берег и, подойдя к Еремеичу, схватил его за руку. Смущаясь и краснея, крепко-крепко стиснул ее.
Еремеич вначале не понял, чем вызван этот неожиданный порыв, но, взглянув на Скобеева, сообразил, что тот важный разговор, о котором условились коммунисты базы, уже состоялся. Теперь взволнованность Алешки передалась и Еремеичу, и он так же молча пожал парню руку, стиснув ее не менее крепко.
– Ну, пора завтракать! А то время к обеду начнет поворачивать! И есть еще одно дело. Скажу за едой.
Еремеич засуетился возле костра, расставляя железные миски и большие эмалированные кружки.
Дело, которое имел в виду Еремеич, увлекло всех.
– Пошел я за смородиной, вижу – озерко. Правильно, думаю, указал Алексей Романыч место, – начал рассказ Еремеич. – Ломаю я смородину, а сам на воду посматриваю. И вдруг вижу – ходят там окуни и караси, как поросята. Ну, думаю, хорошо. Рыба у нас кончилась. Добудем. Иду дальше по берегу, кинул в одном месте взгляд на озеро и – замер: вот такое пятнище мазута или еще какого-то жира на воде плавает! Откуда оно взялось? Ты, Лавруша, случайно не выливал туда отработанное масло?
– Да ты что, Еремеич! С вечера вместе были! А потом, кто же потащит в твое озеро старый мазут, когда река под рукой. Выплесни – и хлопотам конец! Унесет невесть куда! – сказал Лавруха.
– А все-таки кто-то же это сделал? Из ничего жирные пятна не возьмутся, – настаивал на своем Еремеич.
– А ты устья у озерка не приметил? Случаем это не курья какая-нибудь? Может быть, судно туда заходило? – спросил Скобеев.
– Какая там курья! Озеро круглое, все в берегах, кругом лес. Туда обласок через чащобу не протащишь, не то что судно. Ты вот посмотри сам, Тихон Иваныч!
– Посмотрю, беспременно посмотрю. Очень удивительно!
Озеро и жирное пятно на нем так всех заинтересовали, что завтрак закончили необыкновенно быстро.
В кормовой части одного из паузков лежал старый, чиненый-перечиненый бредень. Еремеич взвалил его на спину и, шагая впереди, повел экипаж базы к озеру. Оно было совсем рядом – шагах в трехстах от реки.
Озеро действительно было рыбное и местами до того чистое, отстоявшееся, что, несмотря на огромную глубину, дно просвечивалось, как в ведре. Крупные рыбины ходили, шевеля хвостами и перьями. Но не рыба сейчас привлекала внимание всех. Сбросив бредень, Еремеич пролез через смородинник на самую кромку берега, подозвал отставшего Скобеева.
– Гляди, Тихон Иваныч, какой пленкой вода прикрыта!
Скобеев подошел, недоуменным взглядом начал осматривать жирное пятно. Алешка и Лавруха тоже склонились над водой.
– Нет, это пятно не от мазута. То гуще держится на воде, а это, вишь, какой тонкой пленкой разошлось, – заключил Лавруха.
– А ты прав, Лавруша, – согласился Еремеич. – Вот закавыка! Вот загадка! Ты, Алексей Романыч, самый молодой из нас, и ты обучись понимать это.
– Один опытный человек объяснял мне, – заговорил Скобеев, – что такие пленки бывают разного происхождения. Одни появляются от окисей железа и других металлов, другие – от разложения на дне погибших организмов, а случается, и от нефти, которая залегает в глубине недр. Но вот попробуй тут угадать, отчего эта пленка тут объявилась. Большим спецом надо быть.
– Неужели, Тиша, может быть здесь и железо и нефть? – спросил Лавруха.
– А почему бы и нет? Вполне может! Что, разве тут не такая же земля, где все это залегает? – уверенно сказал Скобеев.
– Такая, да не такая, Тиша! Железо и нефть в горной местности добывают, а здесь же равнина, болото, – возразил Лавруха.
– Положим, что так. А все-таки, Лавруша, все ли людям о земле известно? Много еще потемок, много! Не все еще светом знаний озарено. Особо наш Васюган! Кто о нем истинную правду постиг? Никто!
Алешка слушал этот разговор молча. Он упорно вспоминал лекции по геологии в клубе молодежи, но никаких сведений относительно жирных пленок в них не содержалось. А как бы хорошо сказать сейчас что-то настоящее, научное! Оттого, что у него не оказалось никаких знаний, стало тоскливо, и то возвышенное настроение, которое родилось после разговора с ним Скобеева о вступлении в коммунистические ряды, немножко пригасло.
– Когда буду снова в клубе молодежи, до последней точки все про это разузнаю, – промолвил он наконец. – Там один старичок насчет угля и железа рассказывал. Сила! Вот я к нему и подкачусь!
– Вот, вот, Алексей-душа! – одобрил Скобеев и, присев на корточки, начал длинным прутом стегать воду в том месте, где плавало жирное пятно. – Ты смотри, как стойко держится! Вишь, кругами расходится и опять в одно место стягивается.
Алешка и Лавруха присели рядом со Скобеевым, увлеклись своими занятными наблюдениями.
– Сколько лет хожу по таежным рекам, а такого встречать не доводилось, – гудел Лавруха.
Еремеич постоял возле них несколько минут и пошел по берегу, отыскивая более пологий спуск. Он быстро нашел место, удобное для рыбалки, позвал товарищей:
– Эй вы, герои с разбитого корабля, хватит вам диковать! Пора рыбачить!
– Идем, Еремеич, идем! – откликнулись они на зов, но с места не сдвинулись.
Тот рассердился, пригрозил:
– Оторветесь вы или нет?! Не то подам на обед щербу с жирной водой из озера!
Наконец рыбалка началась. Улов был отменный. После трех тоней Еремеич скомандовал:
– Кончай! На засол рыба нам пока не нужна, а обед, ужин, завтрак и еще обед обеспечены.
В полдень на среднем паузке состоялось собрание партийной ячейки. Единогласно Алексея Бастрыкова приняли кандидатом в члены партии. Напутственное слово сказал Лавруха:
– Ну, юнга, крепко дорожи званием коммуниста. Дается оно не каждому. Отец твой многое сделал для советской власти и партии, а сделать, видать, хотел еще больше. Почаще вспоминай о нем – и в час радости и в час печали, а особо в час борьбы.
Алешка сидел на кругу канатов, посматривал на яр, заросший густым лесом, сбегавшим волнами по косогору к самой реке, думал: «Знал бы ты, тятя, какой у меня сегодня день, вместе со мной порадовался бы. А только знать этого ты никак не можешь. Ни живого, ни мертвого тебя не захотел принять этот Белый, а по мне, черный, безжалостный яр…»
Глава десятая
Надюшка Исаева жила в Каргасоке хорошо, настолько хорошо, что вся прежняя жизнь вспоминалась ей, как тяжелый кошмар. С работой она устроилась быстро и удачно.
На базе потребсоюза ее приняли сейчас же, как только она предъявила записку Скобеева. Кадкин, заведующий складами, очень толстый и очень медлительный человек, низким ростом и неподвижностью фигуры действительно напоминавший кадушку, сказал ей:
– Будешь с другими девушками кедровый орех сушить, провеивать и готовить к отправке. Привозят его нам сырой и сорный. Зимой начнет стекаться пушнина. С ней тоже будет работа: подсушивать, сортировать, упаковывать. Понятно? Если понятно, ступай в сарай, я туда сейчас приду.
Так же просто устроилась она и с жильем. Узнав, что Надюшка сирота, бездомная, приехала издалека, с Васюгана, девушки с базы начали наперебой зазывать ее к себе. Оказалось, что одна из них жила с матерью и отцом в просторном доме. Надюшка согласилась поселиться у нее и осталась довольна своим выбором.
И другие ее заботы, казавшиеся сложными и трудными, были устранены без особых усилий, как-то само собою. Через неделю Кадкин выдал Надюшке аванс под зарплату. В магазине райпотребсоюза она купила себе ботинки, материи на два платья и брезентовую курточку. Живя у Порфирия Игнатьевича, она и мечтать не могла о таких обновках.
Работать на складах ей нравилось. Там всегда было весело, шумно: девушки пели песни, откровенно рассказывали о своих ухажерах, сообщали новости о жизни села, пристани, а то и всей страны. Привыкшая к одиночеству, Надюшка держалась поодаль от всех, ничего о себе не говорила, но всех слушала с любопытством и все примечала. На складе ее уважали: одни – за скромность и застенчивость, другие – за кротость и молчаливость; третьи – за проворство в работе, и все без исключения – за ласковое отношение, за постоянную готовность помочь.
Восьмичасовой рабочий день, начинавшийся в семь утра, казался Надюшке коротким, легким, и, вернувшись домой, она успевала переделать уймищу разных дел: вымыть полы, натаскать воды для скотины, сшить что-нибудь для подружек, истопить баню, приготовить ужин.
В Каргасоке был Дом культуры. Каждый вечер там устраивались то спектакли, то спевки, то читки. Надюшка ходить туда пока опасалась. Иногда ей казалось, что эта ее новая жизнь – временная. Вот приедет Порфирий Игнатьевич, заставит ее плыть на Васюган, на Сосновую гриву и снова жить по-прежнему – тупо, одиноко, изнурительно.
Перед рекоставом на склады нахлынули остяки из самых разных мест: с Тыма, с Оби, с Васюгана. Везли орех, пушнину, соленую рыбу, ягоду. Приближалась зима, а с ней наступало длительное бездорожье: остяки спешили запастись хлебом, табаком, охотничьими припасами, пока реки не сковал еще лед. К этому времени плавучая база Скобеева, опасаясь быть застигнутой рекоставом, свертывала свою работу и спешила в Томск.
Девушки со склада трудились в эти дни от темна до темна. Кадкин, переваливаясь с боку на бок на своих коротких ногах, сновал туда-сюда. Встречая таежных промысловиков, торжественно говорил:
– Приветствую вас, дорогие люди – ханты! Везите нам больше добра, везите! Ваша пушнина и кедровый орех – кирпичи в зданье социализма.
Когда кто-нибудь из девушек называл таежников остяками, Кадкин горячо поправлял:
– Нет больше остяков, есть ханты. Старое звание оскорбительно для этих храбрых таежных людей.
Остяки молча ухмылялись, знали, что Кадкин подластивается не зря – ждет подарка в натуре. И некоторые одаривали его, называя «другом Кадушкой».
Именно в один из этих суетливых дней поздней осени Надюшка встретилась на пристани с Мишкой Косым. Увидев ее живую, здоровую, даже повеселевшую, Мишка попятился, перекрестился, будто перед ним было привидение.
– Ты откуда, Надька, взялась? Ты же утонула в ту ночь! Так сказывали.
– Не утонула я, дядя Мишка, а сбежала от той жизни сюда, в Каргасок. Хорошие люди не дали загибнуть, работаю на складе.
– Ой, Надька, уж как мы все рады, что Порфишка – вор и прохвост – кончился! – воскликнул Мишка.
Как Надюшка ни пыталась настроить себя на безразличный лад ко всему, что могло происходить на Сосновой гриве, к такой новости нельзя было остаться равнодушной.
– Когда кончился? – спросила она.
– Тогда же, Надька! В ту ночь, когда грабить базу ездили. Уж такие страхи случились – вспомню, и сейчас лихорадка трясет.
– Ничего не знаю я, дядя Мишка. Расскажи-ка!
– Порфишка, язви его, думал, что паузки с товарами не охраняются, да на базе не дураки. Встретили его, как он только поближе к паузку подплыл. Кричат: «Сдавайся!» А он, дьявол, из винтовки начал палить. Они тогда зажгли прожектор да и взяли его на мушку. Пять ден с Фёнкой мы тело его по Васюгану искали. Так и не нашли. Видать, под коряги куда-нибудь забило. Кормит налимов, идол такой!
«Ну вот и получил свое», – без сожаления подумала Надюшка, понимая теперь, кто стрелял в ту темную ночь на реке.
– А как матушка Устиньюшка живет?
– Снялась она с Сосновой гривы. Куда-то на устье Чижапки подалась. Сказывали, нового мужика себе присмотрела.
– И сорокова дня не дождалась, – с упреком в голосе сказала девушка.
– А вишь, Надька, нельзя ей было ждать. Как только Порфишка нахлебался васюганской воды выше горла, зачали ее наунакские и маргинские остяки тормошить. Кто добром, а кто и силой принялись взыскивать с нее за Порфишкины угнетения.
– А ты-то чем-нибудь попользовался, дядя Мишка, или нет? – с откровенным добродушием спросила Надюшка.
– Свое взял, Надька! Две плавежные сети, переметы, самоловы, – с такой же добродушной откровенностью ответил Мишка.
– И хорошо! Правильно сделал!
– Не для себя старался! Для всех. Будем теперь артелью промышлять, бумагу с базой Скобеева подписали. Слава богу, Порфишки нету, никто поперек дороги не встанет, отнимать не будет. И забот у меня теперь, Надька, семь коробов! Старшим в артели назначили. Захочешь – приезжай. На засолку рыбы поставлю. Заработок у нас будет ладный.
– Спасибо, дядя Мишка. А только никуда не уйду я отсюда. Мне хорошо здесь.
– Вижу, Надька. Ты тут глаже стала.
– И ты вроде помолодел, дядя Мишка! Раньше я тебя стариком считала, ты какой-то согнутый ходил.
– Благодетель Порфишка в баранку скручивал, ни дна ему, ни покрышки!
Надюшка помогла Мишке погрузить товары и следила за его лодкой, пока она не скрылась за поворотом берега.
А дня через три после этой встречи на Каргасок надвинулись тяжелые тучи, пошел снег, легла суровая, долгая зима.
Как для кого, а для Надюшки эта зима была сплошным праздником. Она отдыхала и физически и душевно. Не нужно было вставать в полночь, бежать на мороз, чтобы кинуть скоту три-четыре навильника сена, не нужно было с утра и до вечера топить печи, ворочать чугуны, таскать в тяжелых бадейках пойло телятам. Не нужно было подстраиваться под настроение матушки Устиньюшки, всегда недовольной чем-то, бросающей обидные укоры и по поводу и без повода. А главное – не нужно было жить в страхе перед дедом, который все что-то замышлял, выискивал, подстраивал, и непременно такое, что оборачивалось злобой, унижением, смертью для других!
Заботило Надюшку только одно: дядя Тихон наказывал ей учиться, а она не знала, как приняться за это, с чего начать. Подружки ее, сказать по чести, особо к этому не стремились. Свободное от работы время они проводили в гуляниях с парнями, на посиделках и вечерках, бывали на всяких развлечениях в Доме культуры. Все они раньше учились в Каргасокской семилетней школе, и грамотность была для них делом уже достигнутым.
Порой и Надюшку тянуло на такую жизнь, но одежонка была у нее плохонькая, платьишки бедные, и она предпочитала сидеть дома, в теплой горнице.
В середине зимы Надюшка увидела на дверях Дома культуры объявление: «Молодежь – внимание! Организуется группа желающих готовиться на рабфак. Приходите в субботу вечером».
Надюшка пошла. Желающих оказалось не так много – семь человек, но каргасокские учителя решили, что и этим числом нельзя пренебречь. Занятия начались. Они проходили два раза в неделю – в понедельник и четверг.
Надюшка посещала занятия аккуратно, ни одного вечера не пропуская. С увлечением делала и уроки, которых задавали столько, что хватало на все остальные дни недели. Поначалу заниматься ей было трудно, она быстро утомлялась. Неожиданно нашлись помощники. В соседнем доме жили две девчонки, ученицы четвертого и пятого классов. Они-то и стали лучшими друзьями Надюшки; с их помощью девушка готовила уроки, читала, писала и так пристрастилась к учению, что заняла первое место в группе.
– Ну вот, Надежда, позанимаешься еще зиму и можешь ехать в Томск, на рабфак, – сказал ей учитель весной, когда занятия подошли к концу. Он пожал ей руку, пожелал успехов, а девушке и верилось и не верилось, что когда-нибудь может случиться такое счастье.
Вскоре после открытия навигации на складе поднялась суматоха. Кадкин каким-то образом разузнал, что в ближайшее время к нему может нагрянуть управляющий межрайонной конторой «Сибпушнина».
Кадкин, естественно, хотел показать себя начальству с самой лучшей стороны. Помимо трех продолговатых амбаров, срубленных из самых отборных сосновых бревен, где хранился кедровый орех и пушнина, склад занимал два тесовых сарая, где обычно обрабатывалась для хранения и отправки продукция обской тайги. Амбары содержались в строгом порядке, что же касается сараев, то за осень и зиму тут скапливались горы кедровой шелухи, стружек и щепок от ящиков и всякого иного мусора.
Целую неделю девушки работали в сараях. Даже стены, скопившие пыль за многие годы, и те были промыты горячей водой.
Кому доводилось жить в отдаленных местах, на реках, тот знает, что нет здесь большего праздника, чем приход парохода.
Приближение парохода знатоки обнаруживают даже не по дыму, который на равнине виден над лесом километров за пять. Есть более сложный, но безошибочный способ. Человек с острым, натренированным слухом прикладывается к земле и слушает. Плицы пароходных колес ударяют по воде с такой силой, что отзвуки распространяются на многие километры.
Случается, что только через полчаса после того, как слухачи обнаружили пароход, над лесом появляется дым. Чем ближе он к пристани, тем оживленнее на берегу. Тут и старые и малые. В этот час ничто не может задержать людей дома – разве только тяжелая болезнь. Прекращаются всякие заседания, занятия в школе, работа в магазинах и на складах. Все, все откладывается на время стоянки парохода!
Вот наступает самый волнующий момент события: белобокий, ослепительно поблескивающий надраенными медными деталями обшивки пароход выползает из-за мыса. Он не просто движется, плывет, он величественно приближается, торжественно надвигается, одним своим появлением преображая пустынные просторы, делая их невообразимо красивыми, до восхищения живописными. В эти минуты кажется: как ни велика земля, как ни много на ней красот и чудес, нет ничего прекраснее этого обского плеса, омывающего лесистый берег, по которому раскинулся попыхивающий вкусными дымками, прижавшийся к кедровой таежке деревянный Каргасок!
Но есть в этом событии еще одна минута, впечатление о которой уж просто непередаваемо. Чтобы понять очарование этой минуты, ее нужно пережить самому.Пароход приближается. Вот уже виден тяжелый якорь на железной цепи, повисший на носу парохода. Дальнозоркие, остроглазые люди читают даже название, вычерченное четкими буквами в носовой части корпуса. Пароход плывет по прямой линии. Кое у кого закрадывается сомнение: не пройдет ли он мимо Каргасока? Уж очень устремлен он куда-то вдаль! И вдруг возле трубы возникает клубок белого пара. Проходит еще две-три секунды, и все необозримое пространство каргасокского плеса оглашается зычным, протяжным гудком, рождающим в душе каждого такие переживания, которые не опишешь пером. Гудок сотрясает застоявшуюся тишину. Необыкновенная мощь и ласкающая ухо мелодичность сливаются воедино. Гудок, нет, теперь уже не гудок, а чудесная музыка, во сто крат усиленная акустикой неба, преобразованная и деформированная воздушными потоками, разливается окрест, тревожит птиц и зверей, а в людских сердцах рождает мечты и надежды. Эта музыка затихает не сразу, постепенно, но когда она угасает, то люди еще долго стоят прислушиваясь, ибо она звучит в их душах.
Потом пароход поворачивает к берегу, сбавляет ход. На мостике стоит капитан или его помощник. Он кажется волшебником, который повелевает миром с помощью одного слова: «Тихий» – пароход чуть движется, «Стоп» – пароход замирает, «Чалки» – на берег летит веревка с круглым, похожим на гирьку грузилом, «Якорь» – с грохотом якорь устремляется в пучину реки, «Трап» – с парохода на берег выбрасываются гибкие, но очень прочные сплотки двух плах, соединенных полукруглыми планками.
С берега толпа спешит на пароход. Каждому хочется не только глазами, но ногами, руками, всем существом почувствовать, охватить это чудо, благодаря которому люди, живущие на огромном расстоянии друг от друга, постоянно связаны с большим миром.
А из кормового пролета на берег уже выбрасывается еще один трап. Матросы извлекают из трюма ящики, мешки, тюки, узлы. Начинается выгрузка товаров. Таежный край получает дары города. Живи, трудись, радуйся, коли тебе выпали на роду успех и счастье!
Надюшка никогда в жизни не видела еще двухпалубных пароходов. По Васюгану если когда и проходили суда, то это были маленькие, обшарпанные буксиры, тащившие на тросах или канатах старые, пестрые от заплат барки.
Вместе с подружками Надюшка в числе первых заскочила на пароход, поднялась на палубу и, не осмотрев еще всех диковин этого плавучего четырехэтажного дома, вдруг замерла. Навстречу ей с чемоданом в руке, в сером отутюженном костюме шагал высокий, очень стройный мужчина, как две капли воды похожий на того, который привез когда-то на заимку тетечку Лушу. Да, это он… С тех пор человек этот пополнел, в его осанке появилась важность, мягко очерченное лицо округлилось, но большие, немного выпуклые глаза смотрели по-прежнему дерзко. Давным-давно, когда трое офицеров жили у деда на заимке, Надюшка пуще всего боялась именно этого, самого молодого. Они звали его Гриша, Григорий. Она это точно помнила.
Приезжий проводил Надюшку пристальным взглядом. Может быть, он и не узнал ее, она сильно переменилась, но взгляд его был внимательный, изучающий. Правда, была в ее внешности одна вечная примета: косинка в голубых глазах.
Мужчина быстро спустился по лестнице и через минуту-две был уже на берегу. К нему сейчас же засеменил Кадкин, кланяясь чуть ли не в пояс, и, забрав чемодан, повел его к возку на железных рессорах. Еще через минуту оба катили к дому Кадкина, стоявшему поблизости от складов. «Управляющий “Сибпушниной” – вот он кто теперь!» – догадалась Надюшка.
Пароход стоял в Каргасоке два часа. И два часа местные жители прогуливались по палубе, заходили в ресторан, осматривали каюты, салоны, машинное отделение. Надюшка не отставала от своих беспечных подружек, но тревожное чувство, вселившееся в душу при встрече со старым знакомым, не покидало ее. «Если он меня узнал, то быть того не может, чтоб он не стал вредить мне. Ведь я все про него знаю, все!» – думала девушка.
Она не ошибалась в своих предчувствиях. После плотного, сытного ужина Кадкин повел управляющего в контору. Здесь, наедине, за плотно закрытыми дверями они повели разговор о работе склада, о плане заготовок на предстоящий осенне-зимний сезон. Переменив вдруг тему, Григорий Ведерников сказал:
– А ну, познакомь меня с людьми, кто у тебя на складах работает? Посмотрю, как ты знаешь свои кадры!
Кадкин вынул из стола список работающих и стал перечислять по порядковой нумерации.
– Исаева Надежда, – произнес он в самом конце, так как после нее никто больше на работу не принимался.
– Постой, постой! Эта Исаева не внучка ли Порфирия Игнатьевича? – спросил Ведерников.
– Она самая.
– Ты что же, Кадкин, кадры мне чуждым элементом засоряешь? Разве тебе не известно, что ее дед, Порфирий Исаев, кулак и враг советской власти?
– Известно. Известно и то, что в прошлую осень он попытался ограбить государственную плавучую базу и был убит в перестрелке. Один хант из Югина все подробности сообщил.
– Тем более, Кадкин, нельзя ротозействовать!
– Но Исаеву рекомендовал мне заведующий плавбазой, член партии Скобеев.
– Скобеев? Удивительно! И он не устоял перед классовым врагом!
– Работает девчонка прилежно, товарищ управляющий.
– И, тем не менее, нет никакой гарантии в том, что она не пустит тебе в складские помещения красного петуха. Смотри, Кадкин, пожалеешь других, погубишь себя. Советская власть – справедливая власть, но рука у нее не задрожит, когда потребуется за благодушие отвалить тебе десяток лет казенного содержания, – сказал Ведерников и посмотрел на заведующего суровыми глазами.
– Прямо не знаю, что и делать мне с ней! – испуганно покусывая губы, воскликнул Кадкин.
Ведерников многозначительно помолчал, как бы стараясь облегчить его трудное положение, посоветовал:
– Ты вот что, Кинтельян Пантелеич. Преждевременно не переживай, пока еще ничего не случилось. Но меры прими. Где у тебя есть вспомогательные склады?
– По Тыму. У черта на куличках. Есть такой Кедровый яр.
– Вот и пошли ее туда.
– Пожалуй, можно.
– И Скобеев в случае чего будет доволен, и мы с тобой обезопасимся. А ведь, если что случится у тебя, мне тоже не поздоровится.
– Само собой разумеется.
– Вот и действуй. Когда все уладишь, дашь мне знать. И не раздумывай долго, иначе с тебя взыщу. Ясно?
– Яснее некуда.
Надюшка, конечно, не знала, не ведала об этом разговоре, но держалась начеку и, когда управляющий «Сибпушниной» обходил склад, забилась в угол за мешки с орехом и просидела там, пока тот не ушел.
Ведерников уехал из Каргасока с обратным рейсом того же двухтрубного парохода-великана, который курсировал от Томска до Александровского.
Прошла с тех пор неделя, может быть, и более. Тревога на душе у Надюшки улеглась. «Не признал меня, знать, управляющий», – думала она, радуясь, что снова наступает спокойная жизнь.
Но вдруг однажды на складе появился Кадкин. Встал посреди сарая и, посмотрев, как девушки лопатами провеивают на сквозняке вороха кедрового ореха, подозвал Надюшку.
– Собирайся, Исаева, в отъезд, – сказал он.
У Надюшки сердце будто оборвалось.
– Куда, Кинтельян Пантелеич?
– На Тым. Будешь работать помощником приемщика. Зарплата на сорок рублей больше, ну а харч у хантов дешевле, чем в Каргасоке.
– Миленький, родненький Кинтельян Пантелеич, не хочу я туда, не хочу! Доучиться мне надо, а потом в Томск на рабфак собираюсь я, – взмолилась Надюшка.
– На рабфак?! А ты забыла, кто твой дед? Ты забыла, что он отъявленный кулак и враг советской власти?
Надюшка сжалась, как от удара, заплакала.
– Чужим он мне был. Как батрачка жила в доме…
Кадкин посмотрел на Надюшкины слезы, ему стало жалко ее, но он вспомнил слова управляющего: «И не раздумывай долго, иначе с тебя взыщу», – и, притопнув толстой ногой, прошипел:
– Поплачь у меня, кулацкая недобитка! Я тебя совсем отсюда выгоню и о куске хлеба твоем не подумаю! А Скобееву, твоему заступнику, тоже словцо сказану, чтоб он знал, кому писать рекомендации!
Надюшка притихла, опустила голову, сползла со спины ее толстая коса, удивлявшая подружек, повисла, как веревка. Кадкин, выходя из сарая, задержался возле ворот, кинул:
– Завтра-послезавтра лодка тымских хантов будет туда возвращаться с товарами. С ней и уплывешь. И чтоб без всяких разговоров!
Распоряжение заведующего возмутило всех девушек.
Многие из них были комсомолки, и они решили заступиться за подругу через комсомольскую ячейку.
– Он что, наш Кадкин, умный или вовсе дурак?! Если б она была кулачка, разве бросила бы свой дом?! Нет, от хорошего плохое не ищут! – рассуждали они между собой.
Кадкин усадил вокруг стола пришедших к нему девушек, выслушал их горячие, сбивчивые речи, прищурив и без того узкие глаза, сдерживая гневные нотки, сдавленным шепотом сказал:
– А вы знаете, как ваши разговорчики называются? Оппортунизмом, правым уклоном! Вы что, хотите, чтоб всех нас, как пособников классового врага, из партии, из комсомола вышвырнули? А вам известно, что сам управляющий, товарищ Ведерников Григорий Валерьянович, строго-настрого предупредил держать в вопросе подбора кадров четкую классовую линию?!
Помолчав и слегка подобрев, он продолжал в тоне яштейского утешения:
– И что вы, право слово, взбеленились? Я ведь не выбрасываю вашу Надюшку на улицу, как сплошь и рядом делают воротилы зарубежного капитализма! Я предлагаю ей пост помощника приемщика на Тымском приемном пункте. Ответственность, хорошая ставка, харчей до дьявола… Живи, наслаждайся… природой. Ну, правда, далековато, глухо… К пароходам навстречу не выбежишь, за неимением таковых, в Дом культуры не сходишь… Так… верно… А вы что же думали, по гладенькой дорожке к вершинам социализма взойти? Не выйдет, не получится. И потом, если Исаева не поедет, из вас кого-нибудь пошлю. А у вас семьи, она одиночка. Вот так, девчата. Идите трудитесь, а будете шуметь – взгрею. Права Кадкину даны, слава богу, не малые.
Девушки ушли и весь разговор с заведующим слово в слово передали Надюшке. Всю ночь девушка металась и плакала, а к утру решила: надо ехать, нет оснований уклоняться от нового назначения, не привыкла она быть непослушной, да тем более теперь, когда работает на государство. Жаль вот только расставаться с подружками, бросать занятия. И еще жаль, что не увидит она Скобеева. Навигация началась, и, наверное, скоро его база двинется снова на Васюган, а по пути туда непременно зайдет на денек в Каргасок. Хорошо бы повидать его, поведать ему о своей жизни, поделиться своими радостями и огорчениями. Не надеясь на свое умение изложить все это в письме, Надюшка наказала девчатам передать поклон Тихону Ивановичу, как только он появится в Каргасоке, и рассказать о ее житье-бытье все как есть.
На другой день рано утром лодка тымских хантов, груженная до верхних бортовин товарами, отошла от каргасокского берега. На тюках, укрытых в дальний путь берестой, прикрывшись брезентовой курточкой, нахохлившись, сидела Надюшка. Накрапывал редкий дождик. Небо было сумрачное, низкое. Дул порывистый ветер, и волна, колотясь о просмоленные борта лодки, обдавала девушку холодными брызгами. На душе у Надюшки было уныло и горько, и казалось ей, что уезжает она отсюда навсегда, на веки вечные.
Глава одиннадцатая
Между Томском и средним течением Чулыма лежит обширная лесная сторона. О ней не скажешь, что она безлюдна, как Васюган. Проселочные дороги, пробитые через гребни холмов и топи логов, через чащобу пихтачей и ельников, через пахотные земли и поросшие густыми, пышными травами елани, соединяют между собой села и деревни, выселки и заимки. Эти тропы и проселки, хитроумно сплетенные наподобие таежных речек и ручьев, стекаются в две-три большие дороги, носящие название городских.
До середины прошлого столетия Среднее Причулымье было почти безлюдным. Лишь по устьям таких рек, как Большая Юкса, Чичкаюл, Яя, обитали остатки тунгусских племен, смешавшихся с остатками вымиравших племен кетов и хантов. В пятидесятых годах девятнадцатого века царское правительство стало усиленно заселять Сибирь крестьянами Тамбовской, Курской и Орловской губерний. Наряду с другими местами Сибири для переселенцев были отведены земли, лежавшие к северо-востоку от Томска. Тяжким, мучительным, но вместе с тем и славным был путь первых переселенцев. Каждую десятину пахотной земли, каждую версту проезжих дорог люди отвоевывали у вековечной, дремучей тайги в жестокой и часто неравной борьбе. Поводырями пришельцев по таежным тропам были, как правило, Иваны-непомнящие – беглые каторжники и государевы преступники, которых на долгие годы укрыла и приютила сибирская тайга, сделала их отменными охотниками, рыбаками, пасечниками, а то и обитателями староверческих монастырей и скитов.
В семидесятые – восьмидесятые годы Среднее Причулымье уже славилось на всю Томскую губернию великолепными пахотными землями, богатыми пасеками, невиданными по изобилию зверя и птицы охотничьими угодьями. По таежным дорогам в старый Томск тянулись обозы с кожей и медом, гречихой и воском, с кедровым орехом и рыбой, с льноволокном и пушниной.
Городской капитал раскрыл свои объятия навстречу этому потоку. Чулымская пушнина легла на плечи великосветских красавиц Петербурга и Парижа, Лондона и Вены, Берлина и Рима. Чулымская пенька получила признание на причалах и верфях Гамбурга и Амстердама, Севастополя и Николаева. Чулымский воск проник на свечные заводы Европы, и с его помощью святые отцы освещали иконостасы не только Успенского собора в Москве, но и, как это ни странно, собора Святого Петра в Риме, собора Богоматери в Париже: российский капитал набирал силу, и ему не было никакого дела до вражды православной церкви с католической и протестантской. Он поклонялся только одному господу богу – барышу.
В годы Первой мировой войны приток населения в Среднее Причулымье снова увеличился. В поисках тихой и мирной жизни в Сибирь потянулись из Прибалтики и Поволжья крепкие хозяева, для которых хозяйствование на земле было привычным, испытанным и традиционным. То там, то здесь, по всему Причулымью, появлялись хутора на европейский образец – с добротными постройками, с распаханными землями, с артезианскими колодцами, с батраками и злыми, матерыми, как породистые годовалые телята, собаками.
Гражданская война, прошумевшая над Сибирью огневым ураганом, перевернула жизнь городов и деревень, опалила своим жаром и Среднее Причулымье. Железная рука совдепов и партизанских отрядов вытряхнула из насиженных мест купцов и купчиков, владевших магазинами и лавками, пасеками, хлебными складами, скотобойнями, лесозаводами. Но дойти до самых истоков собственничества революция в те дни еще не смогла.
Сразу после окончания Гражданской войны Среднее Причулымье получило еще небольшую прибавку населения. Вернулись фронтовики. Были тут и такие, которых многие годы считали пропавшими без вести. Из городов пришли те, кого война вынудила бросить свои избенки и уйти ради куска хлеба на заводы и в мастерские, работавшие на нужды фронта. Среди новых пришельцев были и залетные птахи, искавшие тут, в далекой таежной стороне, тихого, укромного местечка, чтобы как-нибудь скоротать время потрясений и бурь.
В нижнем течении речки Итатки, на целых тридцать – сорок километров, местность становится всхолмленной. Березовые и лиственные леса придают косогорам и долинам живописный вид, как щитом отгораживают Кайбинские хутора от близлежащих сел и деревень, от проезжих проселочных и трактовых дорог. Хутора протянулись прямой полоской вдоль речки Кайбы. Усадьбы разместились просторно, по-сибирски вольготно – одна от другой в километре, а то и более. В жаркие дни лета Кайбу перехватывают песчаные перекаты, но ни зной в июле и августе, ни свирепые морозы в декабре – январе не в силах осушить ее глубоких омутов. Воды тут хуторянам хватает на круглый год.
В тысяча девятьсот двадцать третьем году на восточной окраине Кайбинских хуторов появились еще две усадьбы. Крестовые лиственничные дома срубили в великой спешке – за одно лето. Так же быстро поставили надворные постройки – амбары, конюшни, хлева. Плотники, рубившие новые дома, были не местные, а городские, – сделав свое дело, вернулись назад, в Томск. Когда в среднечулымских селах и деревнях кое-кто заметил новых жителей на Кайбинских хуторах, осенние дожди и ветры пригасили уже свежесть желтизны обструганных рубанком лиственничных бревен. Казалось, что эти усадьбы стоят тут, на гребне холмов, давным-давно. На самих Кайбинских хуторах появление новоселов никого не обрадовало, но и не опечалило.
В этих местах каждый двор жил сам по себе, как самостоятельное государство, а точнее, как удельное княжество. Пахотных земель, пастбищ, лесов, воды было здесь так изобильно, что помешать друг другу, урвать кусок у соседа можно было только при одном условии – поселиться с ним совсем рядом, заведомо зная, что и тебе самому это не сулит никакой выгоды.
Жизнь на Кайбинских хуторах протекала тихо и мирно. День здесь походил на день, как походят друг на друга две капли воды. Год от года отличался только тем, что одно лето было более знойным, другое более дождливым, одна зима протекала с меньшими морозами и снегопадами, другая с большими. Пожалуй, существенным измерителем течения времени являлись постройки и сами люди. Они старели. Крыши домов покрывались мхом, кособочились амбары и заборы, истлевали в земле просмоленные лиственничные стойки. А среди людей совершался свой неостановимый ход: дети становились взрослыми, взрослые старели и, случалось, умирали. И тогда умершего несли на кладбище. Оно было общим для всех хуторов, и с этим хуторяне мирились. Возможно, мирились потому, что те, кого приносили сюда в гробах на полотенцах, не могли уже протестовать против близкого соседства с другими.
Но даже в стоячее болото ветер доносит песчинки далеких земель, а жизнь людей полна самых неожиданных превратностей и перемен. Они стерегут человека каждый миг. Этот миг не настает и год, и два, и десять лет, но вдруг, наконец, пронзает жизнь человеческую так же ослепительно и сильно, как молния темную грозовую тучу.
Кайбинские хутора в этом смысле не представляли собой никакого исключения.
В сумерки одного обычного летнего вечера на хуторах появился никому не знакомый путник. Он ехал на сытом гнедом коне, запряженном в легкую тележку на железном ходу. Был он одет в дождевик, хромовые сапоги и серую кепку с длинным козырьком. Судя по тому, что тележка его по самые ступицы была в грязи, а лошадь с подвязанным хвостом тяжело поводила мокрыми боками, путь его был не близким.
Хуторские собаки свирепо облаяли путника. В одном месте он подвернул к пастуху, пасшему скот на широкой поляне, спросил:
– Скажи, дружище, как мне проехать на хутор Кибальникова Михаила Алексеича?
– Прямо по дороге, у первого свертка – направо. А там сбиться негде. В его дом так и упрешься, – ответил пастух, с любопытством осматривая проезжего.
Путник поблагодарил, стегнул коня ременным бичом, поехал дальше, угрюмо поглядывая на пастуха. Через час, а может быть, и того менее, совсем уже в потемках, путник остановился возле высоких тесовых ворот, наглухо закрытых на ночь.
В доме было темно. Во дворе, чуя чужого человека, рвались с привязи злые псы. Путник долго барабанил в ворота. Наконец с визгом кто-то отодвинул запор, звякнула железная щеколда. В раскрытой калитке появился бородатый высокий человек.
– Кого вам надо, товарищ? – глухим шепелявым голосом спросил он.
– Неужели не узнаешь, Михаил Алексеич?
И тут хозяин разбросил руки и обнял приезжего.
– Гриша! Ведерников! Вот уж не ведал, не ждал!
Кибальников и Ведерников стояли с минуту молча, полуобнявшись, слегка похлопывая друг друга по спине. За эту минуту многое ожило и пронеслось в их памяти. Ведерников первым снял руки со спины Кибальникова, отступил на полшага. Чувствуя, что приезжий сквозь сумрак старается рассмотреть его, Кибальников как-то виновато сказал:
– Поражен, Гриша, моей внешностью? Да, братец мой, постарел я и опустился. Мужик! Типичный крестьянин с таежного хутора… А ведь когда-то, в свое времечко, были и мы рысаками.
– А как Кристап Карлыч поживает? – спросил Ведерников, все еще вглядываясь в Кибальникова и думая: «Странная и хитрая штука – жизнь. Пережитые годы реально воспринимаешь через других. Твоя собственная жизнь кажется остановившейся. А ведь, наверное, и я тоже поражу их тут не меньше, чем они меня».
– Кристап Карлыч-то? Постарел он еще больше, чем я. И тоже опустился, обабился, обзавелся детьми… Ах, Гриша, Гриша… Ты молод, тебе проще и легче дались и война, и революция, и вся эта неслыханная встряска… Уж как он будет рад увидеть тебя!..
– Он дома? Не в отъезде?
– Дома! А куда он может уехать?.. Да ты проходи, дорогой мой гость, проходи!
Они вошли во двор. На крыльце дома Ведерников придержал хозяина.
– Приехал я, Михаил Алексеич, всего лишь на одну ночь. Приехал, чтоб поговорить с тобой и Отсом. Обстановка складывается так, что надо крепко подумать, как жить дальше…
– Неужели мы еще что-то значим? Я мыслил так: все, все давно отболело и кануло в небытие.
– Не совсем так, Михаил Алексеич… Не совсем… У вас есть возможность где-нибудь уединиться?
– Сегодня у меня дом пустой. Жена уехала с сыном в больницу. Тридцать пять километров. Вернутся завтра к вечеру.
– С сыном?
– Да, Гриша. На старости лет завел сына. Давно ведь известно: от худого семени не жди доброго племени. Старик! Да и супруга не первой молодости. Малец родился хилый, золотушный. Из восьми лет жизни шесть пролежал в постели. А у тебя как? Есть дети, нет?
– Потерпи, Михаил Алексеич. И об этом разговор будет. Зазывай как-нибудь скорее Кристапа Карлыча. Потолкуем обо всем не спеша.
– Ты, Гриша, поскучай в доме пока один, а я сяду на твоего коня – привезу Кристапа. До него тут километра два, не больше.
– Что ж, пусть будет по-твоему, Михаил Алексеич.
Кибальников ввел гостя в дом, указал на табуретку у окна, а сам заспешил за Отсом.
– Если надоест темнота, Гриша, лампу зажги. Керосин в нее налит, – сказал уже от двери Кибальников.
– Ладно, Михаил Алексеич, ступай да возвращайся побыстрее.
Ведерников в ожидании закурил. В доме и на улице с каждой минутой становилось темнее, а на душе неуютней и тревожней. Стоило ли ему приезжать сюда? Может быть, Кибальников прав, сказав: «Неужели мы еще что-то значим?» В самом деле, пути их давно разошлись, да и годы всегда лежали водоразделом между ними: разных они поколений. Но нет, были в их жизни события, которые объединяли их, несмотря на разницу в возрасте и в судьбе, объединяли вопреки даже их желанию. Если б не это обстоятельство, разве он, Ведерников, поехал бы сюда? На кой черт они ему нужны, эти омужичившиеся офицеры? Он был бы рад никогда с ними не встречаться, с великим удовольствием вычеркнул бы их из своей памяти навсегда…
Ведерников не заметил, долго ли просидел у окна в одиночестве: размышляя, он забыл о времени. Но вот за окном послышались говор и погромыхивание колес телеги на сносившихся осях. Пора зажечь свет. Он вытащил из кармана спички, чиркнул. Над столом висела куцая, из белой жести семилинейная лампешка, с круглым, из простого стекла абажуром, засиженным мухами. При свете Ведерников осмотрел убранство дома, муторно ему стало. Обыкновенная крестьянская изба, хотя дом просторный, большой. Деревянные грубые кровати, такие же грубые табуретки, стол из кедровых плах, некрашеная скамейка вдоль русской, битой из глины печи. В углу дешевые, запачканные тараканами иконы, лампадка на медной позеленевшей цепочке. «Ну что-то же должно сказать, что живет тут бывший офицер русской армии… Неужели нет на это и намека?» Ведерников заглянул в горницу. Но и в горнице все было по-крестьянски примитивно. Хотя света от семилинейной лампы проникало сюда мало, Ведерников увидел широкую кровать с горой подушек в цветных наволочках, высокий ящик, обитый полосками жести, в углу иконы и стол, заваленный каким-то тряпьем. Над окнами висели пучки сухих трав, заготовленных, вероятно, для лечебных нужд. «Хоть бы для приличия какую-нибудь книгу выставил… Ведь все-таки в прошлом назывался образованным человеком, неплохо владел французским языком». Ведерников чувствовал, как водораздел между ним и Кибальниковым стал в эти минуты угрожающе увеличиваться. «А ведь может случиться, что мы разойдемся, не поняв друг друга», – с унынием подумал он. Ему уже казалось, что он попал впросак и надо бежать отсюда скорее, пока его откровенность не стала еще достоянием людей, которых он лишь по собственному заблуждению считал близкими.
Но в первую же минуту Отс разрушил эти его горькие умозаключения. Он бросился к Ведерникову, прижал к себе и заплакал такими слезами, цену которых не нужно было объяснять.
– Друг мой любезный, – говорил Отс, всхлипывая, – ты приехал вовремя. На душе так гадко, так гнусно, что хоть руки на себя накладывай. Живем, как трава, без цели и смысла… И посмотри на нас, посмотри, какие мы стали, – обрюзгшие, обросшие дурным волосом старики.
Отс сделал шаг назад к двери и встал рядом с Кибальниковым. Ведерников посмотрел на них и стиснул челюсти. Теперь впору было заплакать и ему. Как ни старо выглядел Кибальников, но это был все-таки тот самый человек, которого Ведерников когда-то хорошо знал. Тот же взгляд, тот же рост, та же посадка головы, те же энергичные жесты. Но Отс, Отс совершенно не походил на себя.
В нем все переменилось. Перед Ведерниковым стоял необыкновенно полный, мешковатый человек, в просторной крестьянской одежде, с поблекшими глазами, короткорукий, с длинными, казацкими усами и каким-то изнуренным выражением лица. «Как он изменился, однако!» – думал Ведерников, не находя слов, которые могли бы утешить и друзей, и его самого.
– Коня твоего, Гриша, мы с Карлычем выпрягли и поставили на выстойку, – сказал Кибальников, чувствуя, что надо что-то сказать.
Если Ведерников был поражен видом Отса, то, пожалуй, не меньшее удивление вызвал у Отса он сам. Осматривая Ведерникова с ног до головы, Отс видел, что перед ним сейчас совершенно другой человек. Тогда, давно, Ведерников еще только формировался, хотя ему и было уже за двадцать. В ту пору он был похож на лозу, которая не выпустила еще всех своих отростков, а только набирала для этого силы. Теперь Ведерников находился в самом расцвете. Он стоял перед Кибальниковым и Отсом, высокий, мускулистый, подобранный, как гвардейский офицер на смотру. Взгляд его больших глаз был уверенным, спокойным. От чистого, тщательно выбритого лица так и веяло решимостью. Одежда на Ведерникове была проста – брюки, вправленные в сапоги, недорогой пиджак, вышитая косоворотка, но все это сидело на нем ловко и ладно, как бы слитое со всей его фигурой.
– Ну что же мы стоим?! – воскликнул Кибальников и, полуобняв одной рукой Ведерникова, другой Отса, повел их к столу. – Садитесь! Я мигом принесу из погреба кое-какую закуску и достану бутылочку наливки, которую берег три года, словно для этого прямо-таки исторического случая.
– Нет, Михаил Алексеич, насчет бутылочки оставь, – категорическим тоном сказал Ведерников. – Тема нашего разговора, друзья, так серьезна, что она потребует от каждого большой ясности ума.
– Что ты, Гриша! Неужели с одной бутылки на троих у нас замутится разум? А не выпить по случаю такой встречи как-то не по-русски…
– Михаил Алексеич прав, Гриша! – поддержал Кибальникова Отс.
– Ну, хорошо, я уступаю, но ставлю сразу условие: одна бутылка – и ни капли больше.
– А больше и достать негде. Здесь, дорогой друг, не Москва, не Петербург, к Елисееву не сбегаешь, даже если у тебя золотые слитки в кармане.
– В таком случае – ближе к делу.
Кибальников зажег свечку, взял тарелку и миску и вышел. Через несколько минут он принес куски мясного студня и соленые огурцы. Потом шмыгнул в куть и вернулся с хлебом, вилками, стаканами и бутылкой вишневой наливки.
– Давай, Михаил Алексеич, разлей ее сразу, выпьем – и конец, – с ноткой недовольства в голосе поторопил Ведерников.
Кибальников ударом ладони в донышко бутылки выбил пробку и с аптекарской точностью разлил наливку по стаканам.
– За нашу встречу, Гриша, за нашу дружбу, прошедшую огни, и воды, и медные трубы, – чокнувшись с Ведерниковым и Отсом, сказал Кибальников.
– И за нашу новую, полнокровную жизнь – без опасений и без терзаний, – добавил Ведерников.
Кибальников и Отс недоуменно переглянулись, потом посмотрели внимательно на Ведерникова и, не поняв значительности его намеков, выпили.
– Ну, как вы живете-то? Есть ли хоть какие-нибудь в жизни радости или… – Ведерников не договорил, потому что его и без слов поняли.
– Вначале, Гриша, крестьянское существование было просто невыносимым, но, как известно, можно даже к тюрьме привыкнуть. Привыкли… – Отс грустно опустил голову.
– Привыкли, Гриша! – подхватил Кибальников. – В каждом положении ищешь что-то отрадное. Ну, первое – это природа. Тут ты всегда с ней. Я теперь приучился радоваться всему: ясному небу, теплому дню на земле, благодатному дождю в весеннюю пору. А второе: крестьянский труд – реальный труд. Ты его видишь глазами и чувствуешь руками и животом. Посеял ты, скажем, пшеницу, вложил в нее труд, и она сторицей окупает твои старания. Ты собираешь добрый урожай.
– Да ты, Михаил Алексеич, прямо философ! – усмехнулся Ведерников.
– А как же! Бог дал человеку разум, и если разум не нашел каких-то точек опоры, то в душе пустынно, как в покинутом доме.
– Михаил Алексеич молодец, Гриша! – вскинув лысую, лоснящуюся от пота голову, воскликнул Отс. – Я часто прихожу к нему, чтобы призанять у него этого спокойствия и созерцательности. Силен дух его…
– Зато ты силен телом, – чуть улыбнулся Кибальников. – Знаешь, Гриша, сколько у нашего Карлыча детей? Трое!
– Верно! И, кажется, будет четвертый. И за что Бог наказал меня на старости лет? – невесело рассмеялся Отс.
– Это хороший признак, Кристап Карлыч. Значит, в молодости ты не растратил себя на пустяки, сберег силы.
– А ведь и в самом деле, Гриша, я был сдержан в молодости, порок разврата был чужд мне…
– А как вы пережили коллективизацию? Коснулась она вас или нет? Я частенько с тревогой думал: «А уцелеют ли от этого урагана наши хуторяне?»
– Пока, ты видишь, уцелели! На хуторах настоящего колхоза не организуешь – все разбросаны. Но все-таки остаться совсем в стороне от коллективизации было невозможно. Мы нашли наименьшее зло. Все мы, хуторяне, объединились в промыслово-кооперативную артель. В зимнее время производим сани, дуги, оглобли. Это дает нам денежный заработок, а наши земельные участки снабжают нас хлебом, молоком и овощами. Мы не единоличники. И фактически и юридически.
– И это устраивает вас, Михаил Алексеич? – спросил Ведерников, когда Кибальников сделал паузу.
– Еще как! У нас с Карлычем уже трехлетний стаж жизни в коллективе. Ты знаешь, Гриша, я часто с благодарностью вспоминаю этого хама и грубияна полковника Касьянова – Фиалкова, который принудил нас идти в сельскую жизнь. В условиях города мы давно бы сгинули. Уцелеть на государственной службе белому офицеру так же трудно, как медведю пролезть в игольное ушко. А тут мы живем. Советская власть довольна нами, а мы довольны ею. Я говорю без тени иронии.
– Обрати внимание, Гриша, как научился рассуждать Михаил Алексеич! – поглядывая то на Григория Ведерникова, то на Кибальникова, засмеялся Отс. – Его трезвый ум заметили даже у нас в артели. Он избран от наших хуторян членом правления. Еще год – и мы увидим его во главе нашего промыслово-кооперативного союза. Советская власть ценит умных, знающих людей. Этого у нее не отнимешь. Вспомни, каким завлекательным оказался лозунг Ленина о привлечении военспецов к управлению Красной Армией. Брусилов-то клюнул именно на эту приманку.
– Ты, Михаил Алексеич, не вступил еще в большевистскую партию? – перебивая Отса, спросил Ведерников.
Кибальников бросил на него испуганный взгляд: шутит он или говорит всерьез? Но понять этого не смог. Гость хмуро сощурился и смотрел на него с напряженным интересом.
– Что ты, Гриша?! Какой же я большевик? Правда, происхождение мое бедняцкое. Мой отец имел в Саратове часовую мастерскую, и сам в ней работал, не разгибая спины. Я служил в царской армии, а потом был белым офицером, – неуверенно, с долей робкой растерянности сказал Кибальников, подергивая себя за черную, с проседью бородку.
– А ты, Кристап Карлыч, как думаешь на этот счет? – спросил Ведерников, обернувшись к Отсу.
– Как думаю? – переспросил Отс и замялся, испытывая неловкость от пристального взгляда Ведерникова. – Думаю так: пустой, ненужный это разговор. Я хоть обнищавший, но все-таки барон. Я ведь, господа, не Отс. Отсы – это эстонцы. Я Отсбург – немец. Я признаю, что большевики победили, за ними сила и власть, но торжествовать по этому случаю я не хочу.
– Но и бороться ты перестал с ними, – как бы мимоходом вставил Ведерников, и не свойственная ему ранее ехидная улыбочка скривила губы.
Отс смущенно посмотрел на Кибальникова, взгляд его вопрошал: что он, этот приезжий друг, от нас хочет, куда он клонит со своими неясными, сбивающими с толку вопросами?
– Мы говорим, Гриша, что думаем. Возможно, что говорим не то, но мы ведь жалкие провинциалы, жутко отставшие от жизни, – поспешил на помощь Отсу Кибальников. – Расскажи лучше о себе, покажи, какой ты теперь? Поучи нашего брата – деревенского жителя – уму-разуму.
Ведерников встал из-за стола, скрестив руки на груди, сделал два шага назад, очевидно, для того, чтобы лучше видеть Кибальникова и Отса. Снова его сочные, полные губы скривились в усмешке.
– Каков я? А я таков: закончил университет, вступил в большевистскую партию, нахожусь на руководящей работе в Советском государстве.
– Постой, подожди! Как же ты обошел все подводные рифы?! – воскликнул Отс восхищенно.
– Вы отстали, милые друзья! Умопомрачительно! Особенно ты, Кристап Карлыч. Ты имел некогда титул барона. Ну и что из того? Нельзя держаться за старые понятия и представления, как за нечто неподвижное. Невольно станешь рабом этих понятий, идолопоклонником. А ведь времена язычества давно миновали! Надо идти в ногу со временем, улавливать его веяния, ставить паруса по ветру, а не против него. Иначе – гибель. А погибают пусть дураки, мы же должны жить и процветать. Процветать! Не правда ли, Михаил Алексеич?!
Ведерников ждал от Кибальникова одобрения, но тот опустил глаза и молчал. То, что он услышал, было новым, поразительным и захватывающим. Кибальников в размышлениях о жизни не раз и сам приближался к этой мысли. Но так четко сформулировать ее, высказать хотя бы тому же Отсу, у него не хватало смелости. Полковник Касьянов – Фиалков и полковник Звонарев – Сновецкий перед своим бегством за границу, когда их провал был уже неизбежен, предписали им линию поведения жизни: уходите глубже в народ, прячьтесь в нем, мужиковствуйте до поры до времени и бойтесь только одного – растраты ненависти к коммунистам.
Долгие годы Кибальников и Отс держались этой линии. Она принесла им успех. Они отсиделись в целости и сохранности. Рядом с ними советская власть корчевала бывших буржуев, чиновников, офицеров, кулаков. Ураган проходил то где-то в стороне, то над их головой, но у них земля под ногами оставалась твердой. Однако они понимали, что вечно так продолжаться не может. У всего есть свои пределы.
– Да, Гриша, ты сказал умные слова. Над ними стоит серьезно подумать. Я долго молчал потому, что ты поразил меня в самое сердце, – наконец с раздумьем произнес Кибальников, оглаживая бородку.
– А я окончательно сбит с толку, Гриша! Уж ты извини меня, – беспомощно взмахнул руками Отс.
– Ну что, Карлыч, младенца-то из себя разыгрываешь?! – набросился на Отса Кибальников. – Гриша в самом деле вообразит, что мы превратились тут в истуканов. Все просто, как дважды два: плетью обуха не перешибешь. Советская власть сильна и крепка сейчас. Бороться с ней старыми приемами не только рискованно, но, главное, нецелесообразно.
– Браво, Михаил Алексеич! С советской властью тоже можно жить, если не быть идиотом, – одобрил Ведерников и покосился на Отса. – А на тебя я дивлюсь, Кристап Карлыч…
– Нет, право, я заплутался. По-вашему выходит, что советской власти я должен поклоняться так же рьяно и преданно, как я поклонялся его императорскому величеству… Но душа-то есть у нас или мы бездушные существа?
– Откуда у тебя, Карлыч, такая привязанность к старому строю? Что он тебе дал? Титул, который не стоит и ломаного гроша?
Отс подпер рукой подбородок, задумался.
– Да, Гриша, ты прав. Если быть реалистом, то, конечно, тот строй мне лично ничего реального не дал. Я часто думаю: а что было бы со мной, если б Ленин не опрокинул царскую Россию? И представь себе, мне порой кажется – могло быть то же самое, что и сейчас. Я вышел бы из армии великовозрастным штабс-капитаном. У меня ни поместья, ни капитала, ни славы. Один титул и тот ставший архаизмом. Куда податься? Пришлось бы ехать в Сибирь, селиться на вольных землях, заводить свое хозяйство или стать чиновником, зарабатывать свои сто целковых и растягивать их каждый месяц на тридцать дней жизни… Все это так. Но, друзья, было бы то, что выше всех иных благ, – сознание, что ты кость общества, его цвет, его душа. Ты не на дне жизни, а на ее поверхности, и тобой не повелевают, ты не прячешься. Вот в чем трагедия, вот в чем ужас…
– Вот это главное. Вот в этом ты прав, Кристап Карлыч, – одобрительно закивал Ведерников. – Но из каждой трагедии есть два выхода: один – молчаливое страдание и гибель, второй – действие, действие и успех, победа!
– Да ведь хорошо, если знаешь, как, в каком направлении действовать, – заметил Отс, вопросительно поглядывая на Ведерникова.
С ожиданием посмотрел на него и Кибальников.
– Надо менять шкуру, Кристап Карлыч! – пристукнув кулаком по своему колену, воскликнул Ведерников. – И чем быстрее, тем лучше! И оттого-то ненавистны мне твои рассуждения о прошлом, о своих званиях и чинах. Что было, то прошло. Лить слезы о былом – удел старух.
Нам же не к лицу сидеть сложа руки и вздыхать. Нам нужно рваться вперед! А это значит – идти в партию, влезать в государственный аппарат, занимать командные посты. В партии борются разные силы. Ленинцы – эти за индустриализацию, за колхозы, за превращение России в независимое от других стран государство. Но, слава богу, ленинцы не одни. Есть еще, как называют их, оппортунисты, уклонисты – «левые», «правые», их сам черт не разберет! Эти, всерьез говоря, льют воду на нашу мельницу. Их курс подходит нам: сотрудничество с иностранным капиталом, концессии и займы, не спешить с индустриализацией, деревню не перекраивать с ног до головы. А колхозы – это дело как повернешь. Можно ведь и так вот, как у вас, вывеска колхозная, а жизнь прежняя, практически единоличная, построенная в главном на интересе крепкого хозяина. И учтите: борьба идет жестокая. Правда, ленинцы пока перебарывают, но может случиться, что и ненадолго. Войной снова припахивает. А уже если мировой капитализм затеет новую битву, он не станет ее вести ради превращения России в индустриально-колхозную державу, как теперь пишут в газетах. Загранице Россия нужна покорная, бессильная, без больших самостоятельных целей.
– Политик ты стал, Гриша! И какой политик! – восторженно сказал Кибальников.
– Ты смотри, Гриша, после твоих слов и я прозреваю, будто щенок какой, – сдержанно, с печальной улыбкой добавил Отс.
Ведерникову польстили эти признания. Он выпрямился, раздвинул плечи, искорка откровенного превосходства над друзьями сверкнула в его глазах.
– И вот вам первый совет, – продолжал Ведерников, – уходите с хуторов! Нельзя вечно прозябать тут, в этой дыре! Подумайте, кому нужна эта жертва и во имя чего! Я предоставлю вам ответственные посты, хорошую зарплату, городские квартиры. Мне всюду нужны свои люди. Подумаем о вашем вступлении в партию. Вы поймите, чем нас больше в ней, тем мы сильнее…
– Ну а как же быть с прошлым?! – не без удивления спросил Отс.
– А какое, собственно говоря, у вас прошлое?! – с серьезной наивностью воскликнул Ведерников и, в упор посмотрев на Отса и Кибальникова, сидевших в состоянии крайнего напряжения, убежденным тоном продолжал: – Ну, правда, ваше происхождение не пролетарское, но ведь происхождение само по себе еще ничего не решает. Да, вы служили в царской армии, но в ней были миллионы, в том числе и пролетарии. Зато когда началась Гражданская война, вы хотя и не сразу, но решительно встали на революционные позиции. Из Томска вы, группа офицеров, дезертировали в Нарымский край, покинув ненавистную службу у генерала Пепеляева.
– А жизнь на заимке Исаева? – нетерпеливо спросил Отс.
– Была такая жизнь. Вы пробивались через верховья Васюгана в жилые места, чтобы отдать себя в распоряжение командования Красной Армии. Остановившись по пути к этой цели у Исаева, вы увидели, что его заимка – это база контрреволюции, и вы уничтожили эту базу, уничтожили начисто поджогом всей усадьбы.
Кибальников и Отс смущенно переглянулись, не зная еще, как отнестись к тому, что говорил Ведерников.
– Ну а расстрел партячейки коммуны? – тихо, вполголоса спросил Кибальников.
– Чистое совпадение! С партячейкой расправились остяки, которые считали, что коммуна покушается на все их угодья. Это ведь еще версия полковника Касьянова. Но таков и наш общий взгляд на события тех лет. И если этот взгляд будет действительно общим – все иное недоказуемо!
– И верно, Гриша, – сказал Кибальников, – есть что-то обволакивающее в твоих словах. Вначале ложь удивила меня, но вот прошло несколько минут, и я стал сживаться с ней. Когда пройдут месяцы и годы, выдуманное покажется таким же естественным, правдивым, как и пережитое.
– Счастливые вы люди! А мне все еще как-то не по себе! – сознался Отс.
– Может быть, Кристап Карлыч, побежишь каяться?! – Ведерников взглянул на Отса глазами, полными презрения.
– Привыкну, Гриша! Прости! – виновато сказал он.
– Надо не привыкнуть, а поверить, – твердо и требовательно отчеканил Ведерников.
– Ты сильный человек, Гриша! Ты призван свершить что-то значительное. Я всегда восхищался тобой. Помню твой приезд из коммуны. Мы с Алексеичем ждали, что ты привезешь стратегию и тактику наших действий, а ты привез любовь. Ах, как ты тогда и рассердил, и порадовал, и удивил меня. Вот это характер!
– Я отнес тогда этот поступок на счет его храбрости и молодости. Но теперь, как и ты, Кристап Карлыч, вижу в этом натуру крупного человека.
Кибальников и Отс не хитрили: Ведерников изумлял их своей энергией и устремленностью.
– А второе, что я должен вам сообщить, – как бы продолжая прерванный разговор, сказал Ведерников, – не порадует вас. Внучка Порфирия Игнатьевича жива-здорова. Помните, звали ее Надюшкой. Иногда она таскала нам на заимку еду.
– Ну как же не помнить?! – воскликнул Кибальников.
– И я ее отлично помню, – подтвердил Отс.
– Живет! И ни от кого столько беды не может быть, сколько от нее. Встретил я ее в Каргасоке. И порадел ей немножко, поскольку деда ее отправили все-таки на тот свет, – усмехнулся Ведерников.
– Неужели загубил?! – с испугом спросил Отс.
– Ну зачем же, Кристап Карлыч, так плохо думать обо мне? Просто попросил одного человека послать ее подальше, на Тым, чтоб она поменьше с людьми общалась.
– Далеко заглядываешь, Гриша, ничего не скажешь! – одобрил Отс.
– Обязан сообщить вам, кроме того, еще некоторые важные подробности. У комиссара Бастрыкова был, оказывается, сын. Он жив. Парень работает матросом на катере. Присматривать за ним стоит. Самое опасное, если эта молодежь пойдет в политику, вздумает продолжать дело отцов…
– И откуда, Гриша, ты все это знаешь? – спросил Кибальников.
– Откуда?! Скажу сейчас. И немало вас удивлю. Среди убитых коммунаров был Василий Степин. У него осталась дочь – Мария. Она учится в Томске, будет скоро врачом и, по всей вероятности, станет моей женой.
– Батюшки! Чего только не бывает в жизни! – по-бабьи всплеснул руками Отс.
– И что же, Гриша, это у тебя по любви или из соображений родства с коммунарской порослью? – поинтересовался Кибальников.
Ведерников махнул рукой, отшутился.
– По любви, Михаил Алексеич, по любви, хотя я и отлюбил свое еще в Петербурге… А потом на Исаевой заимке…
– Ты что же, Гриша, так и не был женатым? – продолжал любопытствовать Кибальников.
– Был, конечно, Михаил Алексеич. Три года с одной дурехой жил, а потом обнаружилось, что она дочь мариинского исправника. Ну, с такой женой, сами понимаете, в большевистскую партию не проскочишь. Бросил, развелся подобру-поздорову. Мне на счастье подобрал ее один новоявленный попик. Приход ему надо было получить, а для этого требовалось матушкой обзавестись…
Ведерников весело засмеялся, поблескивая в сумраке белками своих выпуклых глаз.
– А кто ты теперь, Гриша, по должности? – прошептал забившийся в угол Отс.
– Начальник межрайонной государственной конторы «Сибпушнина». По всему краю мои люди работают.
– Как это по-старому? Чему равно? Статскому советнику? – спросил Кибальников.
– Нет, Михаил Алексеич. К такому делу статского советника и близко не подпустили бы. Миллионами ворочаю!
– Вот оно как! Выходит, у тебя генеральский чин. Ваше превосходительство! А мы тебя с Карлычем все Гриша да Гриша. Извини, Григорий Валерьянович, неучтивость нашу. – Кибальников встал и с напускной почтительностью поклонился.
Встал и Отс как-то механически вслед за Кибальниковым.
– Да что вы, в самом деле, смущаете меня?! – воскликнул Ведерников. – Садитесь. Немедленно садитесь.
– Ах, черт возьми, жаль, что нечем обмыть ваше высокое звание, Григорий Валерьянович. Еще раз извините, – сказал Кибальников, на этот раз уже без всякой шутки.
– Не печалься, Михаил Алексеич. У меня в сумке, в телеге, есть бутылочка спирта. Первача. Сейчас принесу. Кстати, и коню пора корм дать. – Ведерников встал, намереваясь выйти во двор. Но Кибальников преградил ему дорогу.
– Что вы, ваше превосходительство! Я быстренько все исполню.
Все трое рассмеялись. Кибальников открыл дверь, шагнул в темноту.
Глава двенадцатая
Больше месяца база плавала по Васюгану. Всюду, где только было возможно, еще по ранней воде, уполномоченные из района организовали артели и бригады охотников и рыбаков. Девяносто процентов товаров, выделенных базе на товарообмен, поступило в артели и бригады.
Артельный труд не являлся новинкой в жизни таежного люда. Как однолошадный крестьянин-земледелец был вынужден довольно часто прибегать к помощи соседа, так и охотник-рыбак, имевший только лодку и ружье, искал союза в труде с подобным себе. Втроем, впятером легче идти на промысел зверя куда-нибудь в дальние уголки Васюгана, где еще не ступала нога человека, или осваивать новый рыбный плес на реке, недоступный одиночкам, но готовый покориться, отдать свои богатства артели.
Ханты – старые и молодые, за исключением, может быть, самых ярых приверженцев кочевого образа жизни, верующих в лесных богов и шаманов, – охотно вступали в артели и бригады.
Идея коллективного труда была и здесь близка и понятна, как она была близка и желанна абсолютному большинству крестьянства всей земледельческой России. Каждый труженик видел в этой идее воплощение своих сокровенных надежд на лучшую жизнь.
В нынешний рейс по Васюгану плавбаза впервые столкнулась с нехваткой товаров, необходимых артелям и бригадам. Не хватило сетевой и неводной дели. Мало оказалось бечевы, вязальных ниток. Ружья были только дробовые, центрального боя, а охотники в один голос просили капсюльные малопульки или какие-либо другие пулевые ружья небольшого калибра для промысла белки.
Изменения, происходившие в укладе жизни, порождали новые потребности. Скобеев без устали расспрашивал и охотников и рыбаков об их нуждах, стараясь представить себе, как пойдет развитие артельного труда.
Заказ на подготовку товаров к рейсам будущего года дважды обсуждали всей партячейкой. Вдобавок к тем товарам, которые завозили прежде, решили прибавить моторы для лодок, продольные пилы, семена овощных культур, плакаты, набор инструментов для поделки бочек и прочей деревянной тары. По ходу жизни угадывалось, что спрос на этот товар непременно будет.
Была у партячейки и другая забота: добиться правды о кровавых событиях на Белом яру. Но как ни расспрашивали коммунисты охотников и рыбаков – никто ничего вразумительного им не рассказал. Только на устье Чижапки один старый хант, назвавший себя Юваном, убежденно проговорил:
– Убийцы коммунаров прошли через верховья Васюгана.
– Почему ты, отец, так думаешь? – спросил Скобеев, а Лавруха, Еремеич и Алешка затаили дыхание. Разговор происходил за чаем, после того как Юван сдал добрую толику пушнины и накупил на базе всякой всячины на целую зиму.
– А я это точно знаю, большой начальник.
– Откуда же знаешь?! Расскажи, Юван, пожалуйста. Вот видишь – парень, – показал Скобеев на Алешку. – Он сын одного из убитых коммунаров! Живет, томится оттого, что правды о гибели отца не знает.
Старик пристально посмотрел на Алешку, тронув его за плечо, сказал:
– Сильный мужик будет. В отца, что ли, паря?
– В него.
– Я тут неподалеку от устья Чижапки в протоке промышлял в тот год рыбу, – помолчав, начал Юван. – Промышлял сетями. Добывал хорошо. Балаган у меня был на берегу, повыше от реки, чтоб с лугов ветерком обдувало.
Гнусу в тот год было густо, хоть лопатой отбивайся. Как-то раз утром сижу под куривом, сеть чиню. Слышу: утки с испугом взлетели. Кто же, думаю, их вспугнул? Уж не медведь ли с того берега вплавь отправился? Заторопился я к берегу. Вижу – плывут в двух обласках люди. В одном – двое, в другом – трое. Вот подплыли к моим сетям, начали выбирать рыбу. Я глазам не верю, не бывает у нас так. Если хочешь рыбы – попроси, отказу не будет. Я закричал: «Нельзя! Подворачивай, гостем будешь!» Они вроде оробели, но сеть не бросили. Когда я заругался, один поднял винтовку, погрозил мне. Потом они засмеялись, поплыли дальше. Больше этих людей я не видел. Ну а вскорости слух пошел: «Партячейку убили, коммуна снялась, ушла. Голову ей срубили».
– А русские эти люди были или, может быть, остяки? – спросил Скобеев, переглядываясь то с Лаврухой, то с Алешкой.
– Русские! И русские не наши, не нарымские. Видать, из других краев.
– А как ты узнал, что не нарымские? – с недоверием спросил Скобеев.
– А так. Наш житель веслом гребет отменно от других. Часто-часто, и весло у него как пришито к борту. А житель других мест сколько гребет, столько и правит веслом, закидывает его вот этак, от себя подальше.
– А ведь в самом деле, отец. Я тоже примечал это, – вступил в разговор Еремеич.
Юван оценил слова Еремеича, закивал головой, весело сказал:
– Чтобы на обласке по-нашему ездить, надо обвыкнуть, вырасти на нем. Необвыкшего человека хоть где узнаю.
– И говоришь, которые вынули у тебя из сетей рыбу, не из этих мест были? – стараясь преодолеть какие-то свои сомнения, вернулся к прежнему Скобеев.
– А это уж так – не из наших, – с усмешкой ответил старик.
– А еще какие-нибудь приметы были, что люди не наши? – не отступал от расспросов Скобеев.
Юван молчал, чмокая, сосал чубук трубки. Вдруг встрепенулся весь, с твердостью в голосе сказал:
– Были!
– Какие же? – Скобеев смотрел на старика в упор, боясь моргнуть.
– А вишь какие. Тот, с обласка, грозил мне винтовкой. А у наших, у нарымских, откуда могут быть винтовки?
– А ты насчет винтовки не ошибся, отец? Мог и просто ружье принять за винтовку.
Юван даже обиделся на такие слова Скобеева.
– Да, я что, слепой! Ты, может, большой начальник, сам плохо видишь? Ну-ка, что вон там, на сосне, чернеет?
– Где? Укажи точнее, – немного растерялся Скобеев.
– Вон на той стороне реки, на мысочке. Третья сосна справа.
– Ничего там не чернеет. Тебе кажется, отец.
– Нет, чернеет, большой начальник. Птица сидит. Постой, разгляжу: беркут или глухарь. – Юван прищурился, приложил ладони к глазам. – Глухарь!
Лавруха, Еремеич, Алешка принялись с азартом рассматривать третью сосну справа.
– Ничего там нет, – сказал Лавруха.
– По-моему, птичье гнездо.
– Нет, Еремеич. Скорее какой-то нарост. А сейчас я принесу бинокль, – вставая, сказал Алешка.
– Постой, паря, я докажу. – Юван взял свое ружье, выстрелил в небо, и все увидели, как над сосной, размахнув саженные крылья, взмыла огромная птица.
– Глухарь! – в один голос крикнули Скобеев и Лавруха.
– Ну вот, большой начальник. Знай, как Юван все примечает! – Старик весело рассмеялся, его и без того широконький нос расплылся на скуластом плоском лице.
– Хорошо, отец! Ты и молодых заткнешь за пояс, – похвалил старика Скобеев.
– Как же иначе? Нельзя остяку-ханту без глаз. Ничего не добудешь, – просто, без всякой похвальбы сказал Юван.
– А как, по-твоему, отец, с чьей подмогой эти, которые рыбу у тебя вынули из сетей, сотворили черное дело? – допытывался Скобеев.
– С Порфишкиной. От него все беды случались на Васюгане. Если хочешь правду узнать, большой начальник, тут ее ищи.
– А ваши не злились на коммуну? Не могли они озлобиться за то, что коммуна на хорошие угодья села?
– Порфишкина эта уловка. От себя отводил. И отвел-таки! Замазал парабельским начальникам глаза. Остяк и при царе на русского не подымал руку, а при советской власти и подавно. Коммуна никого не угнетала, она Ёське хлеб дала, припас дала. За что же на нее нападать? Сам посуди!
До полудня Юван сидел у костра. Он еще не вступил в артель, сомнения обуревали его, и он не скрывал своих сомнений.
– Без артели плохо, с артелью тоже несладко, – делился своими раздумьями Юван.
– Почему, отец? В артели легче будет жить. Крупные ловушки начнете заводить, новые угодья осваивать. А мало-помалу катера у вас появятся, моторы. Одному-то разве под силу такое? И на купчиков больше надеяться нельзя. Время Порфишки кончилось, – убеждал его Скобеев.
– Так-то оно так, большой начальник, а только артель для меня – чистый убыток. Добываю я больше всех, а получать буду вровень с другими.
– Э, так не годится, товарищ Юван. Раз больше добыл, больше и от артели получай.
– Так-то бы подошло. А только у наших в артели все поровну дают. Плохие охотники верх взяли. За спиной у других жить хотят.
– Наладится, отец! Трудно с первого дня на новую жизнь перейти так, чтоб ни сучка ни задоринки не было.
– Не ладное это дело – за лодырей промышлять, – стоял на своем Юван.
Когда Юван принялся собираться в отъезд, Скобеев решил подарить ему трубку с насечкой из красной меди. Трубку Скобеев сделал сам, коротая в городе длинные зимние вечера, еще до прихода к нему Алешки.
Юван обрадовался подарку, как ребенок. Он долго рассматривал трубку, то поднося ее к самым глазам, то любуясь ею на расстоянии вытянутой руки. Потом он заложил в трубку табак и принялся ее раскуривать. Тяга была хорошей, табак не горел, а медленно тлел, трубка оказалась на редкость удачной…
– Шибко добрая трубка, большой начальник. Юван никогда тебя не забудет. Юван – большой друг тебе, – бормотал старик, выпуская изо рта густые клубы дыма. Вдруг он молодо вскочил, побежал к своему обласку и тут же вернулся. В руке он держал несколько чернохвостых горностаевых шкурок, нанизанных на нитку.
– Возьми, большой начальник, от Ювана, – протянул он горностаев Скобееву, – Епишке-шаману вез. Старуха хворала. Шаманил. Лисицу дал, мало показалось, ругался, паскудный. Велел еще пушнину везти.
Скобеев в первые секунды опешил, попятился. Но, услышав, что старый хант приберег горностаев для шамана, сказал:
– Правильно, Юван, что не шаману, а государственной базе горностаев сдаешь.
– Тебе, большой начальник, тебе! Друг ты мне! – Юван обнял Скобеева.
– Нет, братец мой, так не пойдет. Такого подарка Скобеев не примет. Он не шаман Епишка.
– Бери, говорю, друг Скобеев! – уже сердясь, сказал старик. – Юван еще добудет. Юван – фартовый!
– Пойдем, Юван, на баржу, – предложил Скобеев. – Горностаев твоих оприходую по книге, выпишу квитанцию, купишь еще товаров.
– Не пойду! Тебе дарю, – упорствовал Юван.
Лавруха и Еремеич стали уговаривать охотника, но идти на паузок за товарами он отказывался, настаивая, чтоб Скобеев взял горностаев.
– Нехорошо так, Юван, – теперь уже начал сердиться и Скобеев. – Если ты не возьмешь платы за горностаев, я буду вынужден трубку у тебя отнять. Мы поругаемся, а нам дружить надо.
Только это и образумило Ювана. Он с досадой махнул рукой.
– Пойдем! Давай товар, большой начальник Скобеев!
Юван уплыл, загрузив свой обласок мукой, ружейными припасами по самую бортовину. Его провожали всем экипажем. Вначале шли за ним по берегу, потом, когда берег стал обрывистым, остановились и долго махали вслед Ювану кепками.
– Перво-наперво, Алексей-душа, запиши все, что рассказывал Юван насчет тех, в обласках. Может быть, старик не сочиняет, говорит правду, – сказал Скобеев, когда вернулись на базу.
Алешка сбегал на катер за тетрадью и записал в нее под диктовку Скобеева рассказ Ювана. Лавруха и Еремеич да и сам Алешка припомнили отдельные выражения старика и вписали их с доподлинной точностью.
Но свидетельство Ювана оставалось пока единственным.
В конце сентября, распродав все товары, база двинулась в обратный путь. Скобеев решил остановиться возле Сосновой гривы. Снова, как и в первый раз, вместе с Алешкой ходили они по опустевшей усадьбе Исаева. Окна в доме были уже кем-то вынуты, двери сняты, и из каждого угла веяло запустением, будто люди не жили здесь долгие годы.
Переезжали и на противоположный берег. Алешка в детстве бывал здесь дважды. Первый раз с отцом и Митяем Степиным в гостях у Порфишки. Второй раз спустя три-четыре дня после гибели партийцев, с дядей Иваном Солдатом. И до сей поры помнил Алешка подробности и первого приезда и второго. Помнил, как играл на круче с Надюшкой, как изымали у Порфишки винтовку, помнил, как во второй приезд коммунары, замышлявшие потрясти Порфишку за грудки и выведать у него кое-что, были ошарашены, увидев вместо неподступной усадьбы васюганского князька безлюдное, дымящееся пепелище, простиравшееся в глубь тайги на многие версты.
Теперь этот берег был совершенно неузнаваем. Он осел, местами осыпался, образовав глубокие буераки, зарос березняком вперемежку с темными колючими елками. На месте Порфишкиного дома рос буйный малинник. Ягод уже не было – успели осыпаться.
– И все-таки не верится мне, Алексей-душа, чтоб эта деваха утонула, – ловкая и сильная на вид была. Выдумали это в Наунаке. А если такое случилось – жалко! Загублена молодая жизнь ни за что ни про что! – с печалью в голосе говорил Скобеев.
Когда еще шли в первый путь, Скобеев показал Алешке место, где было совершено нападение на базу. Тут же, припоминая все подробности этого происшествия, Скобеев рассказал о приезде на базу батрачки Исаева для продажи выдры. «Да ведь это Надька, наверное!» – подумал Алешка, но Скобеев имя девушки забыл, и парень не смог утвердиться в своем предположении.
У Белого яра передневали. Предстояла длинная дорога в Томск. Лавруха решил тщательно осмотреть мотор. Пока он занимался своим делом, Скобеев, Еремеич и Алешка рыбачили на озере. Жирная пленка, возле которой они провели тогда столько времени, исчезла, и вода в озере была чистой, отстойной.
– Видать, сильным ветром весь этот жир на берег вышвырнуло, – сказал Скобеев, и все с ним согласились.
Во время остановки в Югине, на другой день, Скобеев решил навестить кое-кого из знакомых югинских охотников, промышлявших теперь артелью. Надо было уточнить их заказ на товары, чтоб не привезти весной ненужное.
Скобеев вернулся скорее, чем ожидали. Он был оживленный, веселый, шел бодрым шагом, даже присвистывал.
– А ты знаешь, Алексей-душа, – завидев Алешку, заговорил Скобеев, – исаевская деваха-то жива-здорова! Сейчас мне старшой артели, Мишка Косой, сообщил. В Каргасоке на складах работает. Вот и пригодилась ей моя записка. А зовут ее Надюшка!
– Я ее знал, эту Надьку, дядя Тихон!
– Как знал?
– А вот так. – И Алешка самым подробным образом рассказал о своей поездке с отцом и Митяем к Порфишке, о конфискации у него боевой винтовки, о Надькином слове намертво молчать перед дедом, чтоб не узнал он, что Алешка заходил в хозяйский амбар.
– А не кажется тебе, Алексей-душа, что базой нападения на коммуну и была Порфишкина усадьба? – сказал Скобеев, выслушав Алешкины воспоминания.
– Наши коммунары так же вначале думали, дядя Тихон. А вот пожар сбил всех с толку.
– Пожар… Верно. Не складывается как-то. А все-таки Юван не зря советует тут правду искать.
– А может быть, пожаром этим думали прикрыть злодейство? – высказал свое мнение Лавруха.
– Да уж очень дорогая цена прикрытия. Все ведь начисто выгорело. Своими глазами видел. И дом, и амбары, и двор, и кедровые угодья – все с землей сровнялось.
– Нет, здесь что-то другое, Лавруша. Алексей Романыч прав. У всякого прикрытия есть пределы, а тут огонь все захлестнул, все покорежил, – покачал головой Еремеич.
– В Каргасоке постараемся разыскать Надьку. Она наверняка что-нибудь знает. Так я думаю, дядя Тихон.
– Непременно, Алексей-душа. Наш долг. И мы не отступимся, пока правду не найдем. Лавруша с Еремеичем будут насчет горючего хлопотать, а мы тем временем этим делом займемся. Ну что ж, братцы, давайте трогать.
Скобеев заспешил на паузок. Вслед за ним поторопились на свои рабочие места и остальные члены экипажа. Изображая прощальный свисток, какой по обыкновению давали суда, уходя от пристаней в последний перед окончанием навигации рейс, Еремеич огласил югинский плес пронзительным свистом на манер сказочного Соловья-разбойника.Ночевали неподалеку от устья Васюгана, на высоком берегу. Никому, конечно, и в голову не могло прийти, что именно на этом месте белогвардейские изверги Касьянов и Звонарев покончили с Терехой Черемисиным, что совсем рядом с рекой и теперь еще не зарос омуток, который стал вечным пристанищем посыльного Васюганской партячейки.
Каргасок встретил базу суровым зазимком. Небо как-то вдруг помрачнело, опустилось, задул порывистый холодный ветер, пошел липкий снег, и база пристала к каргасокской пристани вся белая, будто окутанная ватой.
– Плохи наши дела, Алексей-душа. Как бы не прихватила нас зима где-нибудь еще до Томска. Вморозим и катер и паузки, а самое главное – не доставим пушнину к сроку. А заготовили нынче хорошо, больше, чем в прошлые годы.
– Не зря, дядя Тихон, старались! Хватит буржуям за машины уплатить!
– Со всей-то Сибири еще сколько соберется, Алеша! А прибегут еще буржуяки к нашей стране на поклон. Прибегут! Гляди, Алексей, тебе еще самому придется с ними тары-бары разводить…
– По-ихнему бы балакать научиться, дядя Тихон, чтоб не провели где нанароком.
– Обучишься, Алеша. Не боги горшки обжигают.
– Распознавать секреты земли обучиться бы, дядя Тихон.
– Одно к другому вполне ляжет.
Причалили к мосткам. Едва Скобеев сошел на берег, к нему кинулись складские работницы, чтоб выполнить наказ Надюшки.
– Поклон низкий-пренизкий велела передать. А уж как плакала! По мертвому так не плачут. И все потому, что от учения оторвали, о рабфаке мечтала. И всегда, чуть что, о вас вспоминала, как о родном отце, – наперебой рассказывали девушки.
– Да, что он, Кадкин, в уме или без ума?! Неужели нельзя было послать в этакую даль семейного человека? Она же там одна от тоски повесится! – негодовал Скобеев.
– Просили Кадкина! Заладил одно: «Вы за кого заступаетесь? Кого защищаете?» Так наорал, что мы выскочили от него как ошпаренные. Еще бы ему слово сказать – он нам и контрреволюцию бы пришил, – жаловались девушки.
Разъяренный Скобеев поспешил к Кадкину на склад.
– Ты что же, Кинтельян Пантелеич, самоуправством занимаешься? Разве допустимо коммунисту так относиться к молодежи? Надо разумные задачи перед молодым человеком ставить, а не бросаться его жизнью очертя голову. Куда ты Исаеву загнал?! И разве позволительно мстить ей за деда?!
Кадкин знал Скобеева не первый год, знал и побаивался. Наезжавшие в Каргасок с Васюгана, с Парабели, с Чижапки охотники – и русские и ханты – рассказывали, что заведующий базой неподкупен: себе оторванного беличьего хвоста не возьмет. Ни за что не позволит снизить сортность пушнины. На каждую копеечную куплю-продажу фактуру выпишет. А у него, у Кадкина, случались грешки: любил он и подарок принять, якобы в благодарность за особое старание отоварить охотника, и первосортную пушнину принять по цене второго, а то и третьего сорта… Короче говоря – семья, а зарплата хоть и по северной сетке, но не так, чтоб можно было капитал скопить. Не приведи господь, если Скобеев что-нибудь разнюхает…
Взвесив в уме, как лучше вести себя с ним, Кадкин миролюбиво сказал:
– Да ты же, Тихон Иваныч, мои слова говоришь! То же самое слово в слово управляющему я доказывал. Куда там! Слушать не захотел. «Отправь мне, – говорит, – Исаеву на Тым и об исполнении донеси официально». Вот как!
– Персонально о ней шла речь?
– Именно о ней!
– Почему? В чем дело?
– Классовую линию, говорит, надо в подборе кадров выдерживать. Благодушество к добру не приведет.
– Всякое понятие легко довести до абсурда, Кинтельян Пантелеич.
– Я же не мог ослушаться самого управляющего.
– Надо было ослушаться. Приказы должны быть умными.
– Согласен с тобой, Тихон Иваныч.
– От твоего согласия никому сейчас ни холодно, ни жарко. Чиновник ты, а не коммунист, Кинтельян Пантелеич.
– Обзывай как хочешь меня, Тихон Иваныч. Вынесу.
– Ты не прикидывайся христосиком!
– А ты не вставай горой за кулацкое отродье! Большевику-подпольщику это не пристало.
– Я не дам вам с управляющим погубить человека. Не затем революцию делали, чтобы произвол царил.
Скобеев хлопнул дверью и отправился на базу. Алешка, Лавруха и Еремеич уже поджидали его на берегу возле паузков. То, что они услышали от Скобеева, ожесточило их не меньше его самого.
– Неспроста это сделано! – сказал Лавруха, рубанув кулаком. – Не знаю еще только, чей тут интерес соблюден: управляющего или самого Кадкина. Пойдемте сейчас же на катер и обсудим, как быть дальше.
Зайдя в каюту, стали рассуждать. Алешка уже не стеснялся высказывать свое мнение. Он встревал теперь во все. И сейчас убежденно сказал:
– Ни в коем разе не можем мы уйти из Каргасока, не повидав Надьки Исаевой. Со всех сторон это важно. Для нее – раз. Для раскрытия правды о расстреле партийцев – два. Для нашей совести – три.
– Я места себе не найду, если эту девицу одну в тайге зимовать оставлю. Получится так: я ее поднял на новую жизнь, а в самую тяжелую минуту бросил, не протянул руку, – горячился Скобеев.
– А ну, посмотри по карте, Еремеич, сколько пути до этого самого чертова Кедрового яра? – сказал Лавруха.
Еремеич поднялся в свою рубку, принес толстую книгу «Речные пути Западной Сибири». Быстро перелистывая карту за картой, он нашел лист с надписью: «Тым». Все склонились над картой. Скобеев переломил спичку, сверил ее с масштабом карты, принялся измерять расстояние.
– Да, ходу до нее немало. Пять дней туда, четыре – обратно. Девять-десять дней. Как раз зима ляжет. Что же делать? А делать что-то надо, – рассуждал вслух Скобеев.
– Если б у нас было горючего в достатке, – заговорил Лавруха, – можно было бы на катере пройти, но горючего в обрез. До Томска кое-как дотянем – и все.
– Не только в этом дело, Лаврентий Лаврентьич. По всем приметам зима ранняя будет. Утки и гуси уже пролетели, ледяные забереги появляются. Нам нельзя медлить ни одного дня. Вморозим катер и паузки, все наши успехи пойдут насмарку.
– Какие у тебя, Еремеич, предложения? – спросил Скобеев.
– Рисковать, Тихон Иваныч!
– В каком смысле? Как?
– А так. Кто-то один должен попробовать сходить за девчонкой на Тым на обласке. Успеет до морозов – счастье, не успеет – будет выбираться с мукой по снегу. На лыжах.
– Жуткое дело!
– Жуткое, Лаврентий Лаврентьич, а другого выхода нет.
– Еремеич прав. И надо, не теряя часа, отправляться в путь… И в тяжелый путь. От правды отворачиваться не будем.
Скобеев склонил голову, и взгляд его заскользил по лицам товарищей. Все поняли, что значил этот взгляд. Скобеев про себя соображал, кого лучше послать в это далекое путешествие, кого проще заменить здесь на базе, у кого больше хватки и силы, без которых не одолеть трудного пути. Сам он мог заменить и Лавруху и Еремеича. Его мог заменить любой из них. Алешка, по его представлениям, не подходил – слишком мало еще был испытан на реках. Одна навигация! Это еще не экзамен. Но, опережая других, Алешка сказал:
– За Надькой на Тым пойду я. Меня проще заменить в экипаже. До этого года база ходила без матроса, значит, и теперь может без него обойтись. Потом еще вот что: у Лаврухи и Еремеича жены, дети. Ждут их. А я что же? Кругом один. Если и прихватит зима в этих краях, либо выберусь, либо здесь до весны отсижусь.
– Нельзя тебе, Алеша, зиму терять. Ты учиться обязан. Светлая память отца направляет тебя на этот путь, – с ноткой торжественности в голосе сказал Лавруха.
– Ах, Алексей-душа! Силы и ловкости у тебя больше, чем у любого из нас, а вот опыта жизни на реках маловато. А реки в такое время года капризные, опасные. Надо глаз да глаз, чтоб неусыпно следить за водой.
– Буду осмотрительным, дядя Тихон! Слово даю всем вам. – Алешка встал, ударил ладонь об ладонь. – И не через десять дней, а раньше, вернусь в Каргасок.
– Нам столько нельзя здесь стоять. Придется ведь тебе догонять нас.
– Буду догонять, дядя Тихон!
– Не знаю, не знаю. Опаска меня берет!
– Не бойся, дядя Тихон! Очень прошу отправить меня. Ну, что тут, ей-богу, долго раздумывать! Все будет хорошо!
Алешка так горячо упрашивал, такая готовность сквозила в каждом его жесте, что Скобеев всерьез заколебался.
– Как смотрят товарищи коммунисты? – спросил он, взглядывая то на Лавруху, то на Еремеича.
– Я бы позволил юнге пойти, Тихон Иваныч, – сказал Лавруха.
– И я бы тоже. Путь дальний и трудный – это верно, но парень крепкий, разумный. Такой в панику не ударится, глупостей не наделает. – Еремеич посмотрел на Алешку с лаской, дружески подмигнул ему.
– Ладно. Согласен, – вздохнув, сказал Скобеев. – Отправление завтра на рассвете. Лавруха и ты, Алексей, принимайтесь сейчас же готовить обласок. Ты, Еремеич, собирай провизию, все снаряжение, ружье, запасное весло, одежду. Да не забудь дать ему карту Тыма. А я сейчас снова пойду к Кадкину, возьму у него распоряжение о возвращении Исаевой и договорюсь, чтоб в случае чего дал ей место опять здесь, в Каргасоке.
Все встали. Алешка открыл дверцу каюты. Ветер с липким снегом хлестал в бока катера. Обская волна с ожесточением набегала на каргасокский берег, с ярым шипением и злым урчанием откатывалась назад в реку.
Глава тринадцатая
– Дай-ка, Алексей-душа, я тебя обниму, чтоб все у тебя было хорошо, чтоб не наступила зима и догнал ты нас как ни на есть скорее. – Скобеев обнял Алешку, прижал к себе, отпустил. – Ну, полезай в обласок! Счастливого пути!
Над каргасокским плесом занимался рассвет. После ветреной ночи и ошалелого буйства река притихла и дымилась туманом. Гасли последние звезды.
– Не рвись, юнга, сразу, не надрывай рук. Всегда сохраняй запас сил. Помни: если силы иссякли – начинается отчаяние. А это плохая штука, – наказывал Лавруха.
– Живы будем – не помрем! – пошутил откуда-то уже издали Алешка.
Скобеев, Еремеич и Лавруха долго стояли молча, прислушивались к стуку Алешкиного весла. Наконец стук затих. Лишь из прибрежной таежки доносилось поухивание филина: «Шу-пу! Шу-пу!»
– Ишь, холера его забери, шубу запросил. Чует, что зима на пороге, – засмеялся Лавруха.
Алешка плыл не спеша. И не только потому, что Лавруха советовал не надрывать рук поначалу. Мешал туман. Смешанный с серым сумраком рассвета, он был местами плотным и непроглядным, вроде каменной стены. Так и казалось, что обласок с ходу ударится сейчас в эту степу и закачается, черпая бортом воду.
Туман держался бы все утро, а может быть, не исчез и до полудня, если б не подул ветер. Он пригнал лохматые тучки, наползавшие на небо из-за слившихся с горизонтом темных лесов. Минутами тучки сбрасывали на реку снежную крупку. Она была жесткая, как песок, и хлестала Алешку по лицу и рукам с ожесточением, оставляя красные полосы, как от ударов бичом. Встречный ветер задирал нос обласка, но, к счастью, он вскоре переменился и подул в спину. Пригодился совет Еремеича: «Обские плесы за Каргасоком, Алексей Романыч, широкие, ветреные. Хитри на них. Прижимайся к берегу, пользуйся каждой извилинкой».
Значение этого совета Алешка оценил в первые же часы путешествия. Берега у Оби даже на прямых плесах исчерчены заливчиками, крутыми изгибами, косами.
Алешка плыл, стараясь учесть все: попутную стрела под яром, затишье, которое наступало вдруг, когда одна туча сваливалась за горизонт, а вторая только еще подымалась в зенит.
Воспользовался он и другим советом своих старших товарищей – без крайней нужды не пересекать Обь. Осенью река редко бывает спокойной, а борьба с волной требует больших усилий. Лучше проплыть пять – десять километров по кривой, чем в поисках прямой то и дело пересекать бурную реку.
Скобеев велел ему не отказывать себе в еде, обязательно делать остановки на обед, варить рыбу или рябчиков. Но в первый день пути Алешка решил ослушаться Скобеева. «Пока развожу костер, варю, ем – час-два пройдет. А мне скорее надо до Тыма добраться. Самое трудное – Обь, а Тым, как и Васюган, посмирнее, потише нравом», – думал Алешка, вспоминая рассказы старших о Тыме.
Обедал он, не вылезая из обласка. Скользя под яром, он увидел в одном месте склонившиеся над водой заросли черной смородины. Ягод было так много и они были такие крупные, что у Алешки потекли слюнки. Кому доводилось хаживать по рекам в позднюю осеннюю пору, тот знает, что нет на свете еды восхитительнее, чем сибирские ягоды, прокаленные солнцем и прихваченные первым морозцем. Чудом уцелевшие от ветров и от птиц, они обладают в это время волшебными свойствами. Доставляя редкостное наслаждение своим ароматом и вкусом, они не только насыщают человека, но делают его бодрым, обостряют зрение и слух, добавляют ему новые силы.
Завидев черносмородиновые заросли, Алешка схватился за ветку, придержал обласок. Запас провизии лежал у него на корме, в брезентовом мешке. Подсунув под себя длинную ветку, пригодную заменить сейчас причальную бечеву, Алешка достал хлеб и принялся уплетать его вместе со смородиной. Через десять – пятнадцать минут он насытился, зачерпнул кружкой мутную обскую воду, попил и двинулся дальше.
– Ну вот, пообедал быстро, дешево и сердито, – усмехнувшись, вслух сказал Алешка.
Во второй половине дня произошел крайне неприятный случай: обласок наскочил на карч. Алешка попытался сняться с карча, но обласок прочно висел на нем и не двигался. Тогда Алешка, придерживаясь за борта, начал осторожно перемещаться в носовую часть. По тому, как обласок покачивался при малейшем неверном движении, Алешка понял, что случилось. Обласок сидел на каком-то крепком тычке, вонзившемся своим острием в днище. Теперь все зависело от того, сумеет ли Алешка тяжестью тела подломить тычок. Опасаясь в каждое мгновенье перевернуться, Алешка достиг того места в обласке, на котором он был подвешен. Слегка приподымаясь и опускаясь, Алешка старался давить на тычок. Наконец раздался хруст, тычок обломился, и обласок понесло течением. Алешка осмотрел днище. К счастью, тычок не смог пропороть его насквозь.
Хороший это был урок для Алешки! Будь у него с собой длинный шест, он не чувствовал бы себя зверьком, пойманным в капкан. Опираясь о шест, он легко бы снял обласок с тычка. У первого же березняка Алешка вылез на берег и быстро смастерил себе шест из гибкой высокой березки. На неудачах надо было учиться, и учиться немедленно, не откладывая до нового подобного случая.
Ночь прихватила Алешку вблизи от Тыма. В сосновом бору на обском берегу мерцали огоньки селения. Ветер доносил запах печного дыма. Алешку поманило в избяное тепло и уют. Но искать ночлег в селе не входило в его расчеты. Он проплыл в сумраке по Оби, может быть, километр, может быть, два и подвернул к костру, пылавшему на берегу. Возле костра сидели мужики, бабы, ребятишки, ужинали. Алешку встретили с любопытством, пригласили отведать ухи, чаю со смородиновой веткой. Вскоре Алешка уже знал, что он стал гостем семьи каргасокского охотника, возвращавшейся с кедрового промысла.
– До Кедрового яра далеко, нет? – спросил Алешка за ужином.
– Как плыть будешь, паря. Ходко – три дня, тихо – четыре, пять ден, – сказал мужик с круглой бородкой, по-видимому, глава промыслового семейства, и тут же спросил: – На зимовку?
– Нет. Назад должен вернуться. По делам – на вспомогательный склад.
– Рисковый ты, паря. Тым вот-вот льдом закует.
– Постараюсь поспеть.
– Ну-ну, спробуй.
Алешка поужинал, принес полушубок, завернулся в него, выбрал местечко поудобнее, лег и сейчас же уснул. Коли вокруг люди, можно спать без тревог. Завтра он будет ночевать один, и спать вот так безмятежно ему не удастся.
Очнулся Алешка перед рассветом. Мужик с круглой бородкой хлопотал уже возле костра. На таганке висел чайник и котелок с варевом. Еще не вставая, Алешка почувствовал, что ломота в пояснице прошла, нашарканные об весла ладони перестали гореть. Он вскочил, сбегал к реке, умылся, принес свой припас к завтраку. Но гостеприимный хозяин ночевки не велел ему беспокоиться. В котле варился целый глухарь – на всех хватит.
Стало уже заметно светлеть, когда Алешка, поблагодарив семейство промысловиков за приют, за пищу, сел в обласок. Да, люди говорили справедливо: Тым готовился напялить зимнюю одежку. Повсюду бросались в глаза белые пятна нерастаявшего снега, наметанного ветром, и поблескивающие ледяные островки. С опаской и тоской посматривал Алешка на берега, все ускоряя и ускоряя бег обласка.
Тым оказался рекой на свой особый манер. Его нельзя было сравнить не только с Обью, но и с Васюганом. Плесы у него прямее, берега и круче и ровнее, а силенок у течения поменьше. Зато леса тут такие густые и рослые, что временами Алешке казалось – облака лежат на макушках деревьев. Местами берега сходились так близко, что Алешка видел только небо и воду. А уж зверья и птиц в тымских лесах было столько, что никакой Васюган в сравнение не шел! Прибрежные сухостойные кедры чернели от глухарей. Березняки и рябинники были унизаны тетеревами и рябчиками. Бродили и лоси, нагуливая жир в последние дни перед зимней голодухой. Алешка спугивал их стуком своего весла, и они, оглашая леса треском валежника, устремлялись в глубь тайги.
Время в пути тянулось тягостно. Вначале Алешку развлекала новизна незнакомой реки. Но потом глаза его притомились, внимание приослабло. Плесы походили друг на друга, как близнецы. Однообразный стук весла и монотонное побулькивание воды утомляли, и рождалось такое ощущение, будто ты не движешься вперед, а крутишься на одном и том же месте. Алешка спохватывался, принимался грести чаще, шире до тех пор, пока глаза не застилались потом.
В конце дня Алешке встретился обласок, в котором сидели старик и старуха. Увидев их, Алешка обрадовался, решил еще разузнать, далеко ли до Кедрового яра. Он пересек реку наперерез встречному обласку, громко поздоровался. Но старик положил весло, развел руками. Старуха, закутанная, как кукла, в пышную лосевую доху, молчаливо сосавшая трубку, замотала головой. Алешка понял, что они ни слова не знали по-русски.
– Вы кто, ханты?
Теперь замотал головой старик.
– Э, да вы, наверно, эвенки?
Старики замотали головами оба.
– Селькупы вы! – догадался Алешка.
Старик слегка поднял руки, захлопал в ладоши, и Алешка понял, что на этот раз он не ошибся. И хоть ни одного русского слова не услышал Алешка, эта встреча с людьми была отрадной.
Ночевал Алешка на песчаной косе. Всюду – только шаг шагни – лежали сукастые лесины, застрявшие здесь с весеннего половодья. Топлива тут было изобильно, и он запалил костер, осветивший чуть не весь плес. Ночь надвигалась холодная, с пронизывающим ветром, небо вызвездилось, и мог ударить мороз. Побаивался Алешка и шалого зверя, хотя медведи уже залегли. Зная, что на большой огонь зверь не пойдет, Алешка не жалел валежника.
Поужинал Алешка так, как наказывали ему на базе, – и с варевом и с чаем. Спал хорошо, хотя за ночь три раза вставал, подбрасывал в огонь сушняк.
Ветер к утру не угомонился, и Алешке это было на руку. Туман, мешавший ему два утра подряд, был раскидан и прижат к самым берегам. Отдых обновил силы. Обласок заскользил по воде с такой быстротой, будто толкало его не весло, а мотор.
Раздумывая о том, как сократить время, Алешка решил попробовать плыть с огнем. Днем он выискал березовую таежку, насбирал охапку бересты с валежин и сложил ее в обласок. Когда сгустился сумрак, Алешка обвязал витки бересты проволокой и подвесил их на шест, отведя его верхний конец в сторону. Другой конец шеста он просунул под переднее сиденье обласка. Теперь шест выдвигался на всю длину вперед. Алешка запалил бересту. Ветер играл пламенем, раздувал его, обдавал Алешку сажей. Витки горели ярко и не сразу, а один за другим. Правда, темнота не расступалась, берега оставались неосвещенными, и Алешка не видел реку. Плыть было трудно. Заменив сгоревшие витки новыми, он продолжал путь. Запаса бересты ему хватило ненадолго, и он подвернул к берегу на ночевку, уставший, с болью в глазах.
Свою третью ночь в пути он провел в тревоге и почти без сна. С вечера еще ему приснился ужасный сон, будто его бывший хозяин Михей Колупаев угнал обласок. Будто он отплыл на середину Тыма и начал издеваться оттуда над Алешкой, предвещая ему медленную и голодную смерть в безлюдной тайге. Сон был таким правдоподобным, что Алешка, словно наяву, услышал даже Михеев скрипучий голос. Он вскочил с земли как ошпаренный и бросился к реке. Обласок стоял на месте, целиком вытянутый на песок и привязанный веревкой к сушине. На сибирских реках бывало всякое. Случалась и нежданная прибыль воды. Алешка это хорошо знал.
Кое-как подавив испуг, оставшийся от худого сна, Алешка попытался опять заснуть, но не успел – внезапно налетела буря. Река взбудоражилась, волны заколотились о берег, засвистели, сгибая до корней тальниковые заросли, задрожала земля от ударов вывороченных деревьев. Алешка прикрылся брезентом, лег поближе к огню. Жутко было слушать оглушительный треск и хруст тайги, бешеный плеск воды, буйный шум песчаных осыпей, обнаженных свежими обвалами яров. Алешка вытягивал шею, всматривался в темноту. И хотя вокруг не было ни одного большого дерева, ему мерещилось – вот-вот сучья падающей лесины ударят его, подомнут под себя. Буря ушла куда-то далеко-далеко в неведомые дебри тайги, но на смену ей надвинулся холодный дождь с градом. Алешка слушал, как градинки стучат в брезент: «Зима наступает. Все кончено. Обратно не выбраться».
Но как это часто бывает после бури даже поздней осенью, рассвет наступил ясный, дождь перестал, и на восходе солнце блеснуло из-за леса, как бы напомнив, что оно существует. Не теряя ни минуты, Алешка тронулся в путь.
Он проплыл три или четыре плеса, когда увидел вдали высокий берег, поросший ровным кедрачом. «Неужели это Кедровый яр?» – подумал он, не веря еще сам себе, но приглядываясь к берегам. Скобеев, ходивший в начале прошлой навигации по Тыму, сказал ему:
– Кедровый яр, Алексей-душа, ты узнаешь и днем и ночью. Река прямо упирается в него. Это первая примета, вторая – такого длинного яра на Тыме больше нет. Час мимо него едешь. Есть третья примета: километра за два до Кедрового яра впадают в Тым две речушки. Одна с правого берега, вторая с левого. Как их проедешь – посматривай. Склад в самом начале яра.
Дорогой Алешка и так и этак воображал свою встречу с Надюшкой. Все ему представлялось обычным, простым. Он поздоровается с ней, поговорит о том о сем и только потом уже скажет, кто он такой. Наверняка она его не узнает. Сколько лет прошло с тех пор, как они виделись, да и виделись-то всего один раз. Но теперь, когда до встречи оставались считанные минуты, Алешка почувствовал и волнение и тревогу. Ему показалось, что не так-то легко объяснить Надюшке причины, побудившие партийную ячейку базы отправить его в этот далекий и рискованный путь. Да ведь может случиться и так, что, выслушав его, она не пожелает поехать с ним. Как бы управляющий «Сибпушниной» не оказался прав, сказав Кадкину, что нельзя благодушествовать, когда имеешь дело с выходцами из классово чуждой среды! Наконец может произойти и так: Надюшка ушла в тайгу на промысел и вернется через неделю. Ему же не только неделю, но даже и дня нельзя здесь сидеть в ожидании.
Все эти мысли всколыхнулись в Алешкиной голове, когда, проплыв мимо устья двух речек, он увидел на чистом склоне яра продолговатый амбар на высоких стойках, а ниже его – окошечко и дверь, ведущую в землянку, которая по-местному называлась карамо. Возле карамо чуть дымился костер. Еще ниже, на песке у реки, лежали перевернутые вверх дном тесовая лодка и обласок. Подплыв поближе, Алешка решил как-то известить живущих здесь людей о своем прибытии.
– Эй, кто тут есть живой-здоровый! – крикнул он. Эхо далеким, неясным отголоском отозвалось на его призыв, и снова все затихло. Переждав с минуту, Алешка крикнул еще раз, громче, протяжнее.
Дверь землянки распахнулась, и Алешка увидел женщину в пимах, в длинной юбке, в полушубке, завязанную полушалком по-зимнему: лицо прикрыто до самых глаз. Несколько минут женщина присматривалась к Алешке и, когда он подплыл к самому берегу, вдруг бросилась назад в землянку. «Что она? Не то меня испугалась?» – с беспокойством подумал Алешка, не зная, как ему теперь поступить: идти ли в землянку или ждать возле костра? Он вытянул обласок на берег, постоял в нерешительности, потом по земляным ступенькам зашагал к костру вверх по косогору.
Дверь землянки снова открылась, и из нее вышла как будто другая женщина – в сапогах, в короткой жакетке и в платке, аккуратно повязанном на голове. Она пошла навстречу Алешке, который ждал ее возле костра.
Все, все в Надюшке Исаевой стало иным. Повстречай он эту девушку в толпе среди других людей, ни за что не признал бы ее. Но сейчас он был убежден, что это она. С любопытством и удивлением, чуть кося, на него смотрели голубые Надюшкины глаза.
– Здравствуйте, – тихим, сдавленным от волнения голосом сказала Надюшка, уже предчувствуя, что этот парень, нежданно-негаданно появившийся здесь как с небес, привез ей какую-то новую судьбу.
– Здравствуйте! Вы Исаева будете? – подавая руку девушке, сказал Алешка, чувствуя почему-то и стеснительность, и робость, и учащенный стук сердца.
– Да, Исаева. А что такое? Вы откуда?
– Ну и хорошо! Наконец-то нашел вас! – глядя девушке в глаза, ставшие теперь настороженными и широкими, попытался улыбнуться Алешка.
– И долго искали?
– Долго. А вы не помните меня, Надя? А я знаю вас.
И тут Надюшка вдруг всплеснула руками и, не спуская глаз с Алешки, попятилась, прикусывая губы и боясь закричать.
– Бастрыков я. Когда-то на круче вместе с вами играли, – сказал Алешка, думая, что она никак не может вспомнить его.
А она узнала его с первого взгляда, но, признав, не поверила себе, подумала, что сходство приезжего с младшим Бастрыковым просто почудилось ей.
– Проходите, Алеша, в карамо. Проходите, – всхлипывая и пряча от него выступившие слезы, сказала Надюшка и отступила с дорожки, протоптанной ее ногами.
– Нет, Надя, проходить мне некуда. Там, в землянке, могут помешать нам. А поговорить нужно о важных делах.
– А там никого нет. И завтрак на столе.
– Женщина выходила в полушубке…
– Это я и есть.
– Ну, тогда пошли.
В землянке было довольно сумрачно, но зато тепло, сухо, пахло вкусной едой. На маленьком столике – сковородка с жареной дичью, свежий хлеб, брусника, припорошенная сахарной пудрой. Из носика зеленого эмалированного чайника выползает струйка пара. В одном углу землянки – железная печка, в другом – нары. Постель аккуратно застлана ситцевым стеганым одеялом. У столика вместо стульев два чурбака, поставленных на попа.
– Одна тут живете?
– Одна.
– Не боялись?
– Боялась попервости. Потом привыкла. А кто тут тронет? Пусто тут на сотни верст. За всю осень только трое промысловиков были. Кедровый орех привезли. Выдумал Кадкин эту должность помощника приемщика.
– А где же приемщик живет?
– На устье реки. Версты две отсюда. У них с женой рубленая изба. Восьмой год тут. Да вы снимайте, Алексей Романыч, одежду, садитесь завтракать.
Алешка снял с головы кепку, сбросил куртку. Не рассчитав, выпрямился, ударившись макушкой о бревенчатый потолок.
– Ой, осторожнее! Голову можно проломить! – прыснула Надюшка.
Алешка тоже засмеялся и стал, притворно морщась (ему вовсе не было больно), растирать голову ладонью и взъерошивать свои густые, взмокшие от пота волосы. Это маленькое происшествие как-то сразу сблизило их. Они посмотрели друг на друга без настороженности и снова засмеялись. Теперь уже язык не поворачивался называть друг друга на «вы».
За столом Алешка рассказал о цели своего приезда. Тут же он вынул из кармана приказ Кадкина о возвращении Надюшки в Каргасок. Надюшка вся зарделась от радости, готовая сейчас же бежать к приемщику. Но Алешка заговорил о Скобееве, о партийной ячейке базы, о решении доискаться правды обо всем происшедшем на Белом яру. Надюшка вскочила в сильном волнении.
– Все знаю, Алеша! Все до капельки. И кто убивал твоего отца знаю! И про тетю Лушу все знаю! И про ее мужа Тереху Черемисина! И все, все расскажу хоть тебе, хоть кому.
– Ну вот! Недаром партячейка за тобой послала! Ах, дядя Тихон, как он был прав!
Алешке захотелось сейчас же расспросить девушку, но ветер ударил в дверь землянки, жалобно затренькало стекло.
– Опять повалил снег, – взглянув в оконце и опускаясь на свой чурбак, с тревогой сказала Надюшка.
– Беги, Надя, скорей к приемщику, и будем трогаться в путь. Расскажешь дорогой.
Алешка встал, подошел к оконцу. Снег уже залепил стекло плотным слоем, и сквозь него не было видно даже костра.
– Только приходи скорее! Иначе не выберемся, вмерзнем где-нибудь. И скажи, что тебе тут собрать. Я помогу.
– Да нечего особо у меня собирать. – Она взглянула на него с усмешкой в глазах, пошутила: – Голому одеться – только подпоясаться.
Надюшка набросила на голову платок, надела полушубок, с порога сказала:
– Вон постель разве свернуть.
Дверь захлопнулась, и Алешка услышал топоток. Надюшка припустила по тропинке что было духу.
Алешка свернул ее постель и, коротая время в ожидании, вышел из землянки на волю. Мокрый снег облепил деревья и кусты, покрыл косогор белыми пятнами. Река плескалась о серый песок ленивой волной, оставляя на берегу ледяные комья. Вокруг, куда ни кинь взгляд, стояли хмурые леса, такие густые и плотные, что казалось, попробуй пробить тут тропу – не пробьешь, лазеек не найдется. «Какая же скотина этот управляющий “Сибпушниной”! Да и Кадкин хорош! Отправили девку в такую яму, ровно в тюрьму засадили», – думал Алешка, поглядывая вдоль косогора, в сторону устья речки.
Надюшка вернулась быстрее, чем ожидал Алешка. Всю дорогу от избушки приемщика она бежала. Раскраснелась, запыхалась и стала еще пригляднее. В руках у Надюшки были вяленые подъязки. Она бросила рыбу Алешке.
– Жена приемщика на добрый путь дала. Уж так они рады за меня, что я уезжаю. Хорошие старики! Если б не они – утопилась бы я в Тыме давным-давно.
Надюшка заскочила в землянку и вскоре вернулась оттуда с сундучком и постелью, собранной и увязанной в узел Алешкой. Оба спустились к обласку, уложили имущество в носовой части.
Алешка пролез в корму, вычерпал старой жестяной банкой воду, скопившуюся в обласке и от волны, и от мокрого снегопада. Можно было бы уже отправляться в путь, но Надюшка не хотела покинуть Кедровый яр, не попрощавшись с приемщиком и его женой.
– Они сейчас-сейчас придут. Вслед за мной собирались выйти, – сказала она, заметив, как нетерпеливо Алешка посматривает на небо, с которого, не переставая, падали хлопья снега.
В самом деле, приемщик с женой не заставили себя долго ждать. Старик тащил связку бересты, а старуха несла легкое, только что выделанное из сухой кедровой кремнины весло.
– Не щади, паря, силенок. А это на всякий случай вам. – Старик сбросил со спины бересту. – Костерок в такую пору лучше мамы родной. А ведь мокрота кругом.
Запасное весло у Алешки было, но, не желая обижать стариков, он взял и их весло, положил его впереди себя. Надюшка обнялась со старухой, потом подошла к старику. Пожимая Надюшке руку, старик давал наказы:
– Скажи там Кадкину, чтоб еще чего-нибудь не учудил. А то вздумает по зимнику послать мне помощника. Тут одному делать нечего. И еще скажи, что по весне жду паузок. За зиму подкопится и ореха и пушнины. Как вот снег ляжет, эвенки на лыжах с верховий речек за мукой пойдут.
– Ладно, дедушка, непременно передам.
Надюшка оттолкнула обласок, вскочила в него, села на носовое сиденье. Алешка развернул обласок, вывел на стрежень и заработал веслом.
Приемщик с женой долго махали вслед обласку. Надюшка отвечала им, вскидывая над головой обе руки и конфузясь перед Алешкой за слезы, которые катились по ее щекам.
Когда Кедровый яр скрылся из глаз и Надюшка заметно повеселела, Алешка решил, что пора приступить к разговору.
– Скажи мне кто-нибудь, Надя, тогда, на круче, что вот так буду вывозить тебя с Тыма, ни за что бы не поверил. А вот смотри, пришлось!
– И никогда не думал, что мы снова встретимся? – спросила Надюшка, глядя Алешке в глаза не только уже без застенчивости, но и с некоторым вызовом, блеснувшим в глубине ее голубых глаз.
– Нет, не думал. Вспоминать – вспоминал иногда. Как, бывало, начну думать об отце – вспомню Васюган, коммуну, нашу поездку к твоему деду и тебя, конечно, – чистосердечно, без всякого лукавства, которое и в малом и в большом совершенно было чуждо ему, сказал Алешка.
– А я вот знала, Алеша: рано ли, поздно ли я снова встречусь с тобой. И так мне запомнился тот ваш приезд – до самой последней минуточки. Все, все помню… Да и хитрого в том ничего нету. Людей приезжало к нам мало, а из сверстников ты один был за все годы. Помнишь или нет, как мне «Интернационал» на память рассказывал?
– Что-то мельтешит, Надя, в памяти, а яркости нету. Вот насчет винтовки дедовой помню. Как увидел ее за дверью в амбаре, как сдержался, чтоб сейчас же не побежать к отцу…
– Ну а я и это помню, и многое другое. Помню, вы уехали, а дед Порфирий Игнатьич бросился на матушку Устиньюшку с кулаками: «Зачем пускаешь остяков в амбар? Они донесли!» А потом она утихомирила его и, когда он уснул, отправила меня на заимку с обедом для офицеров… извергов этих…
– Офицеров? Каких офицеров? – с недоумением глядя на Надюшку, спросил Алешка.
– А тех самых, которые убили твоего отца…
Алешка замер, придержал весло. И с этой минуты время словно понеслось вспять, разверзлись его тайны, и Алешка увидел все события лета двадцать первого года с другой стороны, самой страшной, самой жестокой и бесчеловечной…
Он сидел, будто окаменев, только руки его, как прикованные к веслу, двигались механически. Глаза утомленно блуждали, пригасал их блеск, и лишь в отдельные мгновения в них вспыхивали горячие огоньки ненависти. Снег перестал, но ветер не унимался, обжигая бледное лицо Алешки упругой, холодной струей.
Ничего не пропустила Надюшка, все припомнила и из того, что знала сама, и из того, что выболтала невзначай матушка Устиньюшка. Даже самые ужасные подробности передала она Алешке, зная, что лучше сразу отмучить его и отмучиться самой.
Тяжко было Алешке слушать. И только настойчивое желание скорее довезти Надюшку до базы придавало ему силы.
– Скажи мне, Надя, скажи по совести, почему ты, по какой причине не стала такой же лютой к людям, как этот… Порфирий Игнатьич? Почему ты почуяла, что правда на нашей стороне? – спросил Алешка, просидевший в полном молчании, может быть, целый час.
– Ты должен знать, Алеша, что, по несчастью, был мне Порфирий Игнатьевич родным дедом. Мать моя служила у него в доме на Васюгане, когда на побывку из армии прибыл его сын. Мать видела: он неровня ей, да не устояла. Так и появилась я на свет божий. Порфирий Игнатьич выгнал мою мать, когда заметил, что она беременная. А тут в войну погиб тот, кто был моим отцом. В двадцатом мать умерла от тифа. Жили мы с ней в Колпашёве. Она ходила по людям, перебивалась с кваса на воду. Порфирию Игнатьичу кто-то сообщил, что осталась я одна-одинешенька. Он и подобрал меня. Родня не родня, а работница, хоть и было мне девять годов. Так и жила я до той поры, пока Скобеева не встретила… У земли, говорят, конца-краю нету, мир велик, да и добрых людей, видать, на свете немало.
– Уж это правда, Надя! И все эти люди одного с нами корня – от сохи да от молота. Ну а когда управляющего «Сибпушниной» увидела, испугалась?
– Еще как! Сразу поняла – не даст он мне пощады. И когда Кадкин позвал меня, начал кричать, что я кулацкое отродье, показалось мне – поступает он по указке Ведерникова.
– А ты бы возмутилась!
– Ну и выгнал бы он меня на все четыре стороны. Он и Скобееву вроде пригрозил…
– Руки у него коротки грозить Скобееву!..
Они плыли, разговаривали, не замечая, что надвигается ночь. А ночь собиралась быть ясной, морозной. Уже выплыл из-за леса месяц, на темном небе вспыхнули и задрожали, как в ознобе, робкие звезды.
Стало совсем темно, когда Алешка подвернул к берегу. Быстро разожгли костер, вскипятили чай. Поужинали. Недосып в предыдущие ночи, усталость сгибали Алешку. Ему хотелось растянуться, уснуть хотя бы немножко. Но мороз становился все сильнее. Берега покрылись плотной изморозью, поблескивая под светом месяца серебряной россыпью снежинок.
– Ты ложись поспи, Алеша, а я костер покараулю, – сказала Надюшка, видя, с каким нелегким упорством превозмогает он усталость.
– Ладно. Но только чуть-чуть. И поплывем дальше. Видишь, какой мороз, и плесы тут тихие, мертвые, перехватит ледком – и кончилась наша дорога.
Алешка лег на полушубок, повернувшись спиной к огню, и сейчас же уснул. Надюшка сняла свой полушубок, накрыла его. Но он ничего не слышал. По ее расчетам, прошло часа два, когда она решилась разбудить Алешку. Тот вскочил, едва она тронула его за плечо.
– Хорошо! Ах, как хорошо! – потягиваясь, сказал Алешка. – Ну, в путь, Надя!
Попробовали плыть, освещая реку горящей берестой. Надюшка сидела на носу, держала шест и, когда береста догорала, надевала на шест новый виток. Девушка немало уже походила по рекам, знала их норов и причуды. Доводилось ей плавать и ночью.
– Держись, Алеша, ближе к яру. Тут стрежь сильнее.
– А ты изредка подымай шест повыше, чтоб видел я дальше.
Они молчали, всматриваясь в темноту, прислушиваясь к завыванию ветра и плеску воды. Один раз обласок ударился боком обо что-то твердое, заколыхался. Оба они знали, что надо делать в таких случаях: сиди крепко, не выравнивай качания обласка, иначе не успеешь моргнуть, как окажешься в реке.
– На лесину наскочили. Вчера ночью, видать, ураганом свалило, – сказал Алешка, круто отталкиваясь от дерева, погруженного в воду.
Теперь коряги ему чудились всюду. Пришлось выйти на берег. Сидели у костра и томительно ждали, когда минует ночь.
На рассвете они решили, что надо плыть быстрее и у них есть для этого запас сил. Надюшка села спиной к Алешке, взяла весло, подаренное приемщиком. Теперь они гребли двумя веслами.
Алешка был уже отменный ездок на обласках, но он и подумать не мог, какой опытной мастерицей окажется Надюшка. Она работала веслом уверенно, соблюдала строгий ритм движений, и при каждом ее гребке обласок чуть вздрагивал, подаваясь вперед. Вскоре Алешка приноровился к Надюшкиной работе, и они летели по реке, словно под парусами.
От темна до темна без устали плыли они, рассказывая друг другу о всем пережитом, что выпало им на долю. Разговаривать было не очень удобно. Он видел только ее спину и затылок, а она не видела его совсем. Но изредка Надюшка оборачивалась, и тогда перед Алешкиным взором сияли счастьем ее голубые глаза. Алешка видел ее строго очерченный профиль, с прямым носиком, высоким лбом и словно точеным подбородком.
За весь день они сделали две короткие остановки, чтобы пожевать хлеба с брусникой. С наступлением темноты решили причалить на ночевку. Бересту сожгли в прошлую ночь, да если б она и осталась, плыть дальше они не смогли бы – силы иссякли.
Алешка развел костер, сразу же свалился на землю и уснул. Надюшка приготовила ужин, но есть одна не захотела. На все ее уговоры Алешка не откликался. Он спал так крепко, что поднять его сейчас было б не просто.
Надюшка сняла котелок с варевом, отставила под куст, подложила в костер побольше дров и прилегла с намерением караулить Алешкин сон. Она долго боролась с дремотой, пересиливала усталость, но в середине ночи уснула внезапно, не успев даже подсунуть под голову собственный кулак.
Когда она очнулась, Алешка бродил уже возле костра. Открыв глаза, она увидела, как, осторожно ступая на носки, он несет из топольника сукастую сушину. Не желая рубить ее топором, чтобы стуком не разбудить Надюшку, он положил сушину на костер целиком.
«Не сплю я, Алеша. Зря осторожничаешь», – хотела сказать Надюшка, но его забота была так приятна, что она лежала несколько минут неподвижно, молча наблюдая за ним.
Перед рассветом позавтракали, разогрев ужин. Прежде чем отправиться дальше, Алешка сходил к обласку, вычерпал воду, уложил припас. Вернулся от реки повеселевший.
– Забереги, Надя, за ночь такие образовались, что вот-вот река станет. А только она нам теперь не страшная. До Оби, по моим приметам, рукой подать, а Обь еще с недельку подымится.
Едва забрезжил рассвет, они сели в обласок, взялись за весла.
Часа три плыли без передышки. Снежная крупка секла их лица. Встречный ветер буровил воду, гнал волну, сдерживал движение. Алешка снова применил прежний маневр – прижимался к берегам, старался использовать каждую минутку затишья. Работать приходилось не щадя сил, и разговор не клеился. Вдруг в тот момент, когда Алешка направил обласок к берегу, чтобы сделать остановку на отдых, над тайгой разнесся протяжный гудок парохода.
– Ты слышишь, Надя?! – закричал Алешка. – Вот бы нам попасть на него! И базу догнали бы, и сами целее были бы!
– А может быть, Алеша, пароход-то этот в низовья плывет? – усомнилась Надюшка.
– Ни в коем разе! В низовьях поблизости ни одного затона нету. В Томск идет! Наверняка в Томск. Припоздал где-то!
И вместо того чтобы отдыхать, они приналегли на весла. В устье Тыма находился огромный дровяной склад. Здесь все пароходы делали остановку, чтобы пополнить запасы топлива. Если пароход станет под погрузку – часа два простоит, это уж наверняка. Неужели они за два часа не успеют добраться до Усть-Тымского?! По прямой тут до пристани пять километров самое большее, но рекой, да еще при встречном ветре, не сложить и в десять.
– Повезло нам, Надя! Только бы не упустить, догнать! – Алешка круто выбрасывал весло, глубоко погружал его, тащил к себе. Насчет сноровки и силенок Надюшка немногим уступала ему. Ее весло так и строчило воду!
Несмотря на студеный ветер, который с каждой минутой становился и резче и холоднее, оба взмокли от напряженной гребли. До пристани оставалось два-три километра, когда послышался гудок парохода, вначале протяжный и после перерыва короткий. Алешка хорошо знал сигналы судов. Пароход давал первый отвальный свисток. Через некоторое время раздастся второй, потом третий свисток – и пароход начнет отчаливать.
– Ну, Надя, отстать нам от него никак невозможно! Это же будет беда! – с хрипотцой в голосе от натуги сказал Алешка и с новой силой принялся грести.
Вскоре пристань открылась перед ними, и они увидели у причала буксирный пароход, прижимавшийся к барже.
– Это «Фрунзенец»! Он хоть и не ахти какой на вид, а силенка в нем есть, довезет нас до базы за милую душу, – обрадовался Алешка. Теперь было ясно, что пароход не уйдет раньше того, как они подплывут к нему.
Второй гудок парохода послышался как раз в тот момент, когда обласок заскрипел днищем по песку. Алешка плеснул в лицо ледяной водой, обтер его ладонью и бросился на палубу к капитану.
Надюшка стояла возле обласка, ждала. От долгого напряжения в глазах ее расплывались голубые, розовые, фиолетовые, зеленые круги. Одеревеневшие руки висели бессильно, пальцы не разгибались, будто до сих пор держали весло. «Вот это гонка! Сроду с такой быстротой не ездила на обласке. И все он, Алеша! Одной бы ни за что пароход не догнать», – думала она.
Алешка вернулся сияющий.
– Берут нас и с обласком в придачу! Как только сказал, что мы со скобеевской базы, капитан даже обрадовался. «Пожалуйста, говорит, заходите, грейтесь. Если, говорит, база ушла из Каргасока недавно, догоним ее. Мы все-таки в два раза быстрее движемся, да и ночью редко стоим». И как же пофартило нам, Надя!
– Удачливый ты, Алеша, быстрый! Другой бы замерз у Кедрового яра.
– Это ты удачливая, Надя! Ах, обрадуется Тихон Иваныч! Отправлял меня в путь, а у самого кошки на сердце скребли.
Они подхватили обласок на руки, перенесли на баржу, закрепили, чтобы не сдуло ветром, и побежали на пароход. В ту же минуту раздался третий гудок, и пароход медленно повернул в реку.
На другой день прибыли в Каргасок. Всеведущие пристанские мальчишки сообщили, что база Скобеева вчера утром направилась в Томск. Скобеев наказывал Алешке плыть до Парабели. Там база возьмет еще один паузок – четвертый – и будет принимать на него дорогой груз. Простоит дня три верных.
– Ну а в Парабели-то, Надя, не они нас, а мы их будем встречать, – усмехнулся Алешка.
Пока команда «Фрунзенца» пополняла судно топливом, а потом грузила на баржу мешки с кедровым орехом, Надюшка побывала на складе, получила отпускные и расчет. Кадкин был теперь шелковый, расстилался перед Надюшкой, как лист перед травой. Уговаривал остаться в Каргасоке и даже стращал городской жизнью. Но ничто, никакие страхи не могли теперь остановить Надюшку. Уж если ее не кинули одну там, в страшной глухомани, то в городе, среди людей, она наверняка не загибнет.
И вот пароход, оглашая каргасокский плес зычным прощальным гудком, стуча плицами колес по воде, поплыл дальше.
– Смотри теперь, Надя, в оба глаза, чтоб не пропустить базу, – сказал Алешка, выходя за ней на палубу.
Но база тоже не стояла на одном месте. Она двигалась вперед и ушла уже от Каргасока довольно далеко. До самого позднего вечера Алешка стоял на палубе на холодном ветру. Пусто и уныло было вокруг. Раза два лишь встретились одинокие лодки охотников и бесконечно – коряги, коряги…
– Если ночью обгоним базу, они и знать не будут, что едем, как короли, живы-здоровехоньки, – беспокоился Алешка.
Но тревога его была напрасной. Ночью пароход долгое время стоял на пристани в Нарыме. Отправились дальше только с рассветом. Алешка спал на дровах около машинного отделения, но как только заработал мотор, проснулся и побежал на палубу. Было ветрено, сумрачно. Алешка кутался в полушубок, боясь остаться без шапки, нахлобучил ее до самых глаз.
Только днем пароход догнал базу. При виде ее Алешка чуть не закричал от радости. Он сбежал в трюм, позвал Надюшку на палубу.
– Смотри, вот она, наша база! И ты не думай, что она ничего не везет. Большое богатство в ее паузках. Пушнина! А ты знаешь, что это такое? Это машины, Надя. А без машин социализм – пустая болтовня, – вспоминая скобеевские слова, возбужденно говорил Алешка.
– Видела я эту базу, Алеша, на Васюгане. Спасибо ей. Из-за нее вся моя жизнь перевернулась. И теперь вот, если б не база, погибла бы я там, на Кедровом яру, спятила бы…
Пароход все приближался и приближался к базе. Вот раздался гудок, и с борта помахали белым флагом: «Обхожу слева». У катера не было свистка, но флаг был, и тотчас оттуда ответили: «Буду справа».
– Еремеич работает! – с нежностью в голосе сказал Алешка.
Отсюда, с парохода, катер базы и особенно паузки, которые он тащил на буксире, казались маленькими, обшарпанными, но Алешка не замечал этого.
– Ты смотри, Надя, смотри, как они вкалывают! Такой сильный пароход, а обойти базу и ему сразу не удается!
Наконец пароход почти поравнялся с базой. Скобеев стоял на носу среднего паузка.
– Дядя Тихон! – закричал Алешка и, сняв шапку, принялся крутить ею в воздухе. – С Надей мы! С Надей!
Возможно, Скобеев и не услышал Алешку, но увидеть – увидел. Узнал и Надюшку. Он тоже снял шапку и высоко вскинул над головой. Потом Алешку заметил Еремеич, встрепенулся, позвал из машинного отсека Лавруху. Тот вышел к рубке, и вместе с Еремеичем оба долго смотрели на Алешку, оживленно жестикулируя и, по-видимому, о чем-то споря.
– Сроднился я с ними, Надя! Они роднее мне всех родных, – сказал Алешка, восторженным взглядом провожая катер и паузки, которые все больше и больше отставали от парохода.
Глава четырнадцатая
Зима прочно легла на второй день после прибытия базы в Томск. Но теперь она была уже не страшна. Катер и паузки стояли в затоне в устье Ушайки! Целую неделю еще экипаж не покидал базы: пушнину вновь пересчитывали, складывали в брезентовые мешки и увозили для обработки на меховой склад. Отсюда ей предстоял далекий путь на международные пушные аукционы в Ленинград, а то и подальше – за границу.
Пока экипаж базы разгружал товары тайги и готовил паузки и катер к зимовке, Надюшка привела в жилой вид домишко Скобеева. Тихон Иванович настоял на том, чтобы поселилась она в комнате дочери.
– Заместо Прасковьюшки жить у меня будешь, Надя, – сказал Скобеев. И хотя глаза у Скобеева оставались печальными, Надюшка поняла, что не пустые слова произнес он, что стоит за этими словами доброе, сердечное чувство.
Закончив работу на берегу, Скобеев повел весь свой экипаж в контору. Тут каждому из них готовы были деньги – зарплата сверх аванса, полученного весной, северные – надбавка к зарплате, отпускные да еще премиальные. Алешке отвалили такую кучу денег, что он вначале не поверил, попросил снова пересчитать. Бухгалтер проворчал под нос насчет Алешкиного недоверия, прибросил на счетах, победоносно глядя на Алешку поверх очков, сказал:
– Тютелька в тютельку, молодой человек! У нас ошибок не бывает.
Скобеев посоветовал Алешке расходовать деньги разумно. Во-первых – одеться, обуться, во-вторых – вместе с ним, Скобеевым, кое-что купить к зиме Надюшке, в-третьих – приобрести полный комплект необходимых учебников, тетрадей, карандашей, наконец, положить часть денег на сберкнижку. Зима длинная, мало ли какие покупки понадобятся.
– Деньги у тебя трудовые, Алексей-душа, добытые честным трудом. Учись их расходовать бережно. Не жадничай, но и не мотай попусту. Ты не купец, а рабочий.
В этот же день Алешка сходил в магазин речников и по ордерам, которые выдали ему в профсоюзе, купил себе костюм, штиблеты с калошами, суконное зимнее пальто, сатинетовую рубашку с ремешком.
Дома, надев на себя костюм, рубашку и штиблеты, он подошел к большому зеркалу Прасковьи Тихоновны и долго стоял, рассматривая себя.
– Дядя Тихон, Надя, посмотрите! Не то я, не то кто другой.
Скобеев и Надюшка хлопотали у плиты. Они оторвались от своего дела, пришли посмотреть на него.
– Ой, какой ты красивый, Алеша! – не сдержала своего восхищения Надюшка. И щеки ее запылали румянцем.
– Парень что надо! Одним словом – молодец! – одобрительно усмехнувшись, сказал Скобеев и вышел. Вернулся он в ту же минуту с узлом в руке. – А это, Надя, тебе от нас с Алешей. Носи на здоровье! Тут все-таки не Васюган и не Тым, а город, в чем попало не пойдешь на улицу.
Надюшка развернула узел и еще больше покраснела и от смущения, что дарят ей такую дорогую вещь, и от радости, что есть в чем теперь выйти на люди.
– Ну-ка примерь, Надя! Хорошо ли тебе придется? Покупали с Алешей на глаз, рисковали. – Скобеев взял пальто за рукава, встряхнул его, помог Надюшке надеть. Пальто пришлось впору, словно шили на Надюшку.
– Хорошо! Гляди, Алеша, как хорошо!
Скобеев осматривал Надюшку то спереди, то сбоку, то со спины. И действительно, пальто ей очень шло. Оно было густо-голубого цвета, совсем как ее глаза, с голубым беличьим воротником, с крупными пуговицами в два ряда, с поясом.
Обновку купили с рук на толкучке. Прежде Скобеев попытался было достать Надюшке ордер, но страна жила трудно, товаров широкого потребления производила мало, и потому распределялись они главным образом через профсоюзные организации. Получить там ордер было не так-то легко.
– Ладно, Алексей-душа, купим на толкучке. Деньжонки у нас с тобой водятся, не будем скупиться для хорошего человека.
Они отправились на толкучку и вскоре вернулись с этим голубым пальто, решив, что вручат его Надюшке сразу же, как только Алешка принесет свои покупки. Так, казалось им, деликатнее. Все получалось удачно, как бы одно к одному, и самолюбие Надюшки не пострадало.
В этот же день под вечер Алешка предложил Надюшке познакомиться с его сестрой по сиротству Матреной – Марией Степиной. Алешка бегал уже раз в студенческое общежитие, когда они еще жили на базе. Ему не терпелось сообщить Мотьке, что тайна гибели их отцов перестала быть тайной и вот-вот все подробности этого дела будут преданы огласке. Но общежитие пустовало. Студенты томских вузов работали на лесозаготовках. Строительство Большого Кузбасса требовало леса, а рабочих рук на плотбищах не хватало. Студенты объявили декаду под лозунгом: «Даешь лес! Поможем стройкам!» Декада истекла. Студенты должны были вот-вот вернуться, и Алешка надеялся увидеть наконец Мотьку. Скобеев одобрил его намерение:
– Правильно, Алексей-душа, сходить надо. Пусть и она узнает, кто сотворил это черное дело над вашими отцами-героями.
Стояли теплые дни ранней зимы. Как это часто бывает, после первых сильных морозов наступила оттепель. Снег хотя и не таял, но был мокрый и рыхлый. Ребятишки не упустили случая – всюду во дворах виднелись снежные бабы с угольками вместо глаз и носами из цельной морковки. На улицах людно. Никто не спешит, все с наслаждением дышат чистым воздухом. Алешка был в новом костюме, в штиблетах с калошами, в новом суконном пальто. Надюшка тоже в обнове. Пальто сидело на ней ловко, в обтяжку. Правда, ботинки грубые, деревенские, зато чулки вязаны в «елочку», в цветных вензелях. Сама вязала там, на Кедровом яру, плача от скуки и одиночества.
Шли медленно-медленно, разговаривали о всяких пустяках. Надюшка не привыкла еще к городу, и все ей здесь было в диковинку: автомобили, изредка пробегавшие по улицам, огромные окна в больших домах, каменные здания, церкви, задравшие свои золоченые маковки под самые облака.
Прежде всего Алеша показал Наде клуб молодежи. Здесь слушал он лекции. И нынче он станет ходить сюда. В прошлом году тут открыли вечерний рабфак. Если его примут, он будет учиться. Но есть у него еще одна мечта: отыскать того ученого-старичка, который так занимательно рассказывал о строении Земли и ее богатствах. Он непременно должен выведать у него насчет жирного пятна на озере у Белого яра. И ей, Надюшке, советует не терять времени и ходить сюда, в клуб.
Темнота сгустилась, в домах загорелись огни. И это было в диковинку Надюшке. Никогда она не видела такого множества огней на земле.
– Смотри, Алеша, сколько звездочек-то! Как на небе!
Не торопясь, они подошли к общежитию. Дом был освещен, и это означало, что студенты вернулись с лесозаготовок.
– Сейчас, Надя, мы увидим ее в окно. Живет она со своими подружками на первом этаже. Кажется, крайнее окно, как зайдешь во двор, – сказал Алешка.
Войдя первым во двор, Алешка остановился напротив Матрениного окна и чуть приподнялся, чтобы оказаться выше занавески, которой снизу было задернуто окно.
– Дома сеструха! Только не одна. Ухажер ее, видать, сидит. Ну а нам что? Пусть себе сидит. Мы свое скажем – и уйдем. Правда ведь, Надя? Что он нам сделает за это? У нас полное право ходить к ней.
Надюшка оперлась на его плечо, встала на носки – ей не терпелось скорее увидеть Мотьку.
– Не пойду я, Алеша! – испуганным голосом вдруг сказала она и отступила за угол дома, словно готовясь бежать.
– Почему, Надя? Это же Мотька, она, как и мы с тобой, деревенская. Правда, студентка, так что в том? И мы, гляди, когда-нибудь будем студентами.
– Ты знаешь, кто у нее?! Тот самый Ведерников, управляющий «Сибпушниной»! – прошептала Надюшка.
– Обозналась, поди, Надя!
– Да ты что? Разве я могу обознаться! По весне последний раз его видела. В Каргасоке.
– Ну, посмотри еще раз!
Они подошли к окну и, поддерживая друг друга, осторожно заглянули в комнату. Ведерников сидел у стола, а Мотька суетилась возле своей тумбочки, заглядывая в зеркальце.
– Он, Алешенька, не кто иной – он! Голову руби мне на пороге – он!
– Постой! Надо обдумать. – Алешка взял Надюшку за руку, и оба торопливо вышли из двора общежития.
Перейдя улицу, остановились, стали советоваться.
– И где он к ней присосался, гад?! А она-то растаяла, дуреха! Фотографию его выставила на своем столике. Имя родительское отменила. А что, если пойти мне сейчас, взять его, гада ползучего, за горло… Да ты знаешь, у меня столько против него силы скопилось, что я из него в два счета лепешку смастерю. Он и пикнуть не успеет. Я его коленом к полу прижму, змею подколодную!
Алешку трясло, кулаки сами собой сжимались. Нетерпение, мучительное нетерпение охватило его.
– Как можно?! У него наверняка оружие. Он и тебя не пощадит, и твою кровь прольет…
– Ну, это еще как сказать! А вот другое… Наша партячейка дело возбудила… Можно навредить только…
– Да и что ты руки будешь марать, Алеша! Советская власть сама их найдет!
– Охота мне самому его ударить! – со стоном сказал Алешка.
– Пойдем отсюда, пойдем скорее. – Надюшка схватила его за руку, тянула за собой.
– Пойдем, Надя! Расскажем дяде Тихону. Как он посоветует.
Только они тронулись с места, как на той стороне улицы послышался звонкий голосок Мотьки. Она что-то увлеченно и бойко говорила. Ведерников вел ее под руку и негромко посмеивался. Алешка вспомнил свою первую встречу с Мотькой у клуба молодежи, подумал: «И тогда она с ним же была. Знать, давненько они хороводятся».
Скобеев выслушал новость с большим вниманием.
– Хорошо, правильно, Алексей-душа, поступил, что не полез на него, сдержался. Для коммуниста личная месть и расправа унизительны. Тем более что кара рабочего класса скоро настигнет и Ведерникова, и его дружков. Без вас приходил Лавруша. Отысканы еще двое из убийц: Отс – Отсбург и Кибальников. Их Ведерников приютил у себя в аппарате «Сибпушнины» на руководящих постах. Вопрос о пребывании Ведерникова в партии тоже будет решен в ближайшие дни. А вот о Матрене надо подумать. И ты, Алеша, не сердись на нее. Она же ничего не знает! И вполне может быть, что любит его, этого белогвардейского гада. Нужно помочь ей понять все и перебороть свое несчастье! Давай-ка, Алексей-душа, зазывай ее к нам. Поговорим с ней по-дружески, расспросим, обо всем расскажем.
Не откладывая дело в долгий ящик, Алешка сбегал в общежитие, оставил Мотьке записку: «Матренушка-Марьюшка! Зайди завтра вечерком, проведай братца по сиротской жизни. Есть что сообщить. А еще угощу тебя кедровыми орешками с Васюгана и всякой рыбой. Адрес знаешь, но на случай, если забыла, повторяю: Приречная, 6, Алеха-братуха».
Ожидая Мотьку, все очень волновались, не исключая и Скобеева. Он ходил из угла в угол, закинув руки за спину, и все о чем-то думал, думал. Вдруг остановился, сказал:
– А все-таки, Алексей-душа, лучше, если разговаривать с ней будешь один на один. Ты и она как брат с сестрой, у вас друг с другом свои отношения, свои счеты, свои суды-пересуды. Вы можете и пошуметь и покричать – и все по-свойски. А мы с Надей для нее чужие, незнакомые. Оттого, что в ее тайну будут посвящены посторонние люди, ей может стать во сто крат тяжелее. Короче: ты оставайся, веди с ней беседу, угощай, а мы с Надюшкой в кино отправимся.
Алешка и сам чувствовал, что разговаривать с Мотькой один на один проще и легче, но были у него и некоторые опасения.
– А вдруг, дядя Тихон, она не поверит, заартачится?
– Ну, что ж, это вполне возможно. Вот тогда-то и я пригожусь, и Лавруша, и Надя. Наконец столкнем ее лицом к лицу с фактами. Они же теперь в наших руках.
Скобеев и Надюшка торопливо собрались и ушли. А через полчаса послышался стук в дверь. Алешка поспешил в сени.
Мотька вошла оживленная, розовощекая с мороза. На ней были ботинки со шнурками, юбка-клеш и коричневое полупальто с меховой оторочкой. На голове – мужская шапка-ушанка. Именно в этой одежде Алешка и увидел ее впервые в клубе молодежи как-то ранней весной.
– Ты что же, братишка, приехал и глаз не кажешь? – крепко сжимая Алешкину руку, сказала Мотька.
– Как это глаз не кажешь? Я был у тебя три раза. Первый раз – не застал: ты на лесозаготовки махнула. Второй раз – не зашел потому, что ты с ухажером миловалась, а третий раз – записку оставил. Ну, садись за стол, чай давно готов, тебя жду.
Мотька присела к столу и с удовольствием принялась за еду. Уплетая за обе щеки, она пожаловалась на свою студенческую жизнь.
– Как правило, у всех девчонок последние дни перед стипендией голодные. Даже стрельнуть не у кого.
– А я тебя выручу, сестренка. Сколько тебе? Десятки хватит? – И, не дожидаясь ее согласия, он вытащил из кармана новый бумажник, лихо открыл его, кинул на стол десять рублей.
– Верну, Алешенька-братец, не раньше двадцатого. Вот девчонки обрадуются! А то ведь сегодня и хлеба даже не покупали.
– Возвращать не надо, Мотя. За лето я неплохо подзаработал. А скоро ремонт базы. Опять деньги пойдут. Ну, теперь слушай внимательно. Наказ твой поклониться могилкам на Белом яру не исполнил…
Мотька удивилась:
– Почему так?
Обстоятельно, со всеми подробностями Алешка рассказал о том, что произошло с могилой их отцов.
Мотька насупилась. Хотя живой образ отца все тускнел и тускнел в ее памяти, тягостно было услышать такую новость.
– Уж что ж это дядя Иван Солдат! Куда он смотрел? Не мог, что ль, выбрать места понадежнее? И другие мужики тоже…
– Да ведь реки капризные, Мотя! Кто же знал, что Васюган начнет грызть яр с такой силой?
– А вот насчет памятника дельно вы придумали. И меня в пай на расходы включите. Сейчас не внесу, не из чего, а вот доктором буду – в долгу не останусь.
– Да разве кто тебя осудит?! Что ты!
Они замолчали: разговор хочешь не хочешь настроил их на печальные воспоминания.
– Моть, ты не серчай только. Хочу давно тебя спросить: откуда ты знаешь этого… ну, ухажера своего? – волнуясь, спросил Алешка.
– Как откуда?! Познакомилась. Он ходил в клуб молодежи, и я ходила. Приметила я – посматривает он на меня. Ну как-то подошел, спрашивает: где учитесь, где живете, кто ваши родители? Когда узнал, что я сирота, дочь погибшего коммунара, еще внимательней стал. «Вот, говорит, дочь героя революции вы, а ведете себя тихо, скромно».
«Сволочь!» – мысленно выругался Алешка.
– И как же у вас? Ну, одним словом, любовь или так себе – препровождение времени?
– Ой, братишка, скажу тебе откровенно: полюбила я его. Как только перейду на последний курс, сразу поженимся.
– Это что же, ты так решила или он так хочет?
– И он и я. И одна у него забота, чтоб была у меня специальность.
– Так, так. Видать, весной ты его слова мне повторяла: «Комсомол – помеха ученью, и самое основное в жизни – иметь специальность и хорошо получать…»
– Не скрою – его слова! А что, разве это не правильно?!
– Задурил он тебе голову, Матренка!
– Ну, бросим об этом… Не твое это дело. Я сама знаю, с кем мне дружить.
– Нет, не бросим, никак не бросим…
– Да уж ты что-то начинаешь грозить, Аника-воин!
– А ты постой, погоди, Моть. Ты его не спрашивала, зачем он к нам в коммуну в двадцать первом году приезжал? Не спрашивала?
– Что ты чудишь-то, Алешка! В коммуну приезжал! Скажет тоже! Он сам из Ленинграда, там учился в университете, потом с Пятой Красной Армией в Сибирь пришел. Здесь остался по случаю неудачной женитьбы. В Томске доучился, в университете, диплом получил. Партийный он. Я сама партбилет его видела. Теперь на ответственной работе. Вон какими делами ворочает! «Сибпушниной» управляет!
– Так вот, Матренушка, знай и не спорь: был он у нас в коммуне три раза. Вначале под видом Порфишкиного племянника, чтобы разнюхать, что это за коммуна, легко ли ее с Белого яра сковырнуть, потом приезжал за Лушей Черемисиной. Ее сманил, полюбовницей сделал, сгубил… И наконец…
– Ты давно это выдумал? Ну и фантазер, Алешка!
– Нет, нет, подожди, не перебивай меня, дослушай! И наконец в третий раз он приезжал… убивать наших отцов и Митяя Степина! Их было пятеро, бандюков. И коммунист он липовый, и в Пятой армии не был, он всех обманул и тебя тоже обманул! И от кары он не уйдет, как и его приятели не уйдут…
Алешка говорил с такой горячностью и с таким искренним волнением, таким правдивым гневом горели его глаза, что Мотька притихла, сжалась, глядела на него исподлобья.
– Ты сам все это где-нибудь узнал или еще кто? – спросила она, и румяное, раскрасневшееся от горячего чая, круглое ее лицо стало белым, как скатерть.
– Что я один бы сделал?! Разве смог бы! Вся партийная ячейка плавбазы по этому делу работала. Живую свидетельницу нашли. Привез я ее с Тыма. Чуть не застыл вместе с ней. Зима там раньше ложится…
– А кто она, Алешенька? – сдерживая слезы, спросила Мотька.
– Надюшка Исаева. Вроде внучки приходилась Порфишке. И все-то, Матренушка, она знает, все до капельки! И Ведерников этот самый… убийца и прохвост, и ее-то хотел со света сжить…
– Алешка! Алешка! Ну зачем же ты мне все это сказал? Зачем?! – зарыдала Мотька, уткнув мокрое от слез лицо в ладони.
– Зачем?! А затем, чтоб знала ты правду, чтоб знала, в какой капкан попала. И перестань нюнить, перестань рыдать… Он, подлец, твоей слезинки не стоит… Был он врагом наших отцов и нашим врагом остался…
– Алешка! Братишка! Ну как же это?! Любимый… мог стать мужем… И вдруг убийца отца! Какие же у него нервы! Какая же черная совесть! Ну ты подумай! Вообрази все это, представь! Кровь стынет!
Мотька рыдала на весь дом. Испуганный Алешка брызнул на нее холодной водой, поднес чашку ко рту. Зубы ее стучали о края, но пить она не могла.
Вернувшись домой, Скобеев и Надюшка без слов поняли, что произошло. Они бросились к Мотьке, с помощью Алешки довели ее до дивана, тепло укрыли, а когда она, вконец измученная, забылась, долго сидели в прихожей, шепотом советовались, как ей помочь на первых порах.
Прошло с того вечера три месяца.
Партячейка плавбазы в полном составе была вызвана в райком. Впереди шагали Лавруха и Еремеич. Чуть приотстав от них – Скобеев и Алешка. Предстояло обсуждение дела управляющего «Сибпушниной» Ведерникова и результатов расследования гибели партийцев васюганской коммуны.
– А что, дядя Тихон, как ты думаешь, дадут мне слово? – Алешка заглянул Скобееву в лицо.
«Не вот разом такого вражину возьмешь. Будет ведь выкручиваться, сваливать на других, лгать», – думал Скобеев, а вслух сказал:
– А почему не дадут? Попросишь – дадут.
– Я непременно попрошу, дядя Тихон. Хочешь послушать, что я скажу?
– Давай послушаю.
– «Ты, Ведерников, со своими дружками, – скажу я, – хотел правду скрыть, да не вышло! Революция, как прожектор, высвечивает все углы. Революция – это сама правда. И эта правда, как меч, сечет всякую ложь под корень».
– Правильно, хорошо, Алексей-душа, хорошо, – шептал Скобеев, с тайной отцовской гордостью думая об Алешке: «Вырос человек, вырос! Будет борец не хуже отца. Значит, живет наше дело вот в таких ребятах и будет всегда жить. Мы умрем, а оно будет жить, жить!»...Средняя Обь – Москва
1962–1964 гг.
Орлы над Хинганом Повесть От автораУ каждой книги своя судьба, своя история. Есть она и у моей повести «Орлы над Хинганом» («Солдат пехоты»).
Годы Великой Отечественной войны я провел на дальневосточных рубежах Советского Союза. Восемнадцатого июля 1941 года вместе с другими писателями Иркутска я пришел в горвоенкомат для получения мобилизационного предписания. Ни у меня, ни у моих товарищей по работе не было никаких сомнений относительно того, что путь наш лежит на запад.
Когда мы погрузились в вагоны, наш эшелон двинулся на восток. Как все советские люди, мы, писатели-сибиряки, были охвачены тогда одним желанием – скорее влиться в ряды Советской Армии и принять непосредственное участие в ее героической борьбе с фашистскими ордами, вероломно вторгшимися на нашу священную землю. То, что эшелон двигался в противоположном от фронта направлении, означало, что нам уготована какая-то иная воинская судьба. Так оно и случилось.
Двадцатого июля 1941 года политуправление Забайкальского военного округа, преобразованного с осени этого же года в Забайкальский фронт, направило меня в редакцию ежедневной красноармейской газеты в качестве специального корреспондента – писателя. Газета называлась «На боевом посту». Трудно было бы иными словами передать смысл нашего существования в Забайкалье, чем это передавалось названием военной газеты.
Ежечасно, ежеминутно быть на боевом посту – таков был патриотический долг воинов Забайкалья, всего Дальнего Востока.
В первые же дни войны с немецкими захватчиками стало очевидно, что их союзники на Дальнем Востоке – японские империалисты будут делать все, чтобы осложнять и без того трудное положение Советского Союза. Забайкалье становилось не только школой подготовки боевых резервов для Действующей армии, оно наряду с войсками Дальневосточного фронта принимало на свои плечи все тяготы, всю ответственность по защите неприкосновенности советских рубежей на Дальнем Востоке.
Более четырех с половиной лет прослужил я в редакции военной газеты. Войска Забайкальского фронта были разбросаны на огромном приграничном пространстве. Тысячи километров проехал я на попутных грузовиках и подводах, выполняя задания редакции.
Зимой и летом, осенью и весной, ясным днем и темной ночью ни на минуту не ослабевала напряженная жизнь в Забайкальских войсках. Наши воины понимали, что Вторая мировая война не завершится, пока не разрубится узел противоречий, возникший в результате захватнической политики японского империализма. Это придавало воинской службе в Забайкалье и на Дальнем Востоке особое значение, насыщало ее постоянным ожиданием значительных событий.
Как известно, такие события развернулись в августе 1945 года, когда Советская Армия, выполняя свои союзнические обязательства, обрушила на Квантунскую миллионную армию японцев сокрушительные удары.
Вместе с войсками Забайкальского фронта я участвовал в походе через Хинган, был свидетелем крушения и развала лучших соединений японской армии.
Таким образом, материал для моей повести скапливался по ходу самой жизни. Начал я ее писать по горячим следам событий. Первые фрагменты повести были опубликованы в октябре 1945 года в газете «Суворовский натиск». Однако повесть я дописал уже после демобилизации. Она была опубликована в журнале «Сибирские огни» и выпущена в свет Иркутским книжным издательством в 1948 году.
Мне думалось, что пройдет какое-то время – и в литературе появятся новые романы и повести, посвященные подвигу советских людей на Дальнем Востоке. К сожалению, пока дело ограничилось несколькими названиями, и мне представляется, что эта тема остается поныне неисчерпанной. Но я убежден, что художники слова не оставят этот материал без внимания и рано или поздно он найдет самое широкое освещение в разнообразных жанрах литературы.
Предпринимая переиздание повести, я не считаю возможным подвергать ее каким-либо коренным переделкам, хотя теперь, когда мой литературный опыт стал богаче, я мог бы, может быть, иные сцены написать лучше.
Но книга эта, на мой взгляд, прежде всего важна своей достоверностью. Некоторая ее очерковость дорога мне потому, что она приближает повесть к жанру записок участника и очевидца событий. Что же касается обобщений, к которым, естественно, стремится каждый писатель, то трудно сказать, как, каким способом они достигаются. Я думаю, что мой рассказ о людях «в пределах батальона» даст читателю верное представление о чертах времени и особенностях морального облика советского человека, призванного Родиной на тот пост, который обеспечивал защиту ее великих интересов.
Часть первая В сопках Забайкалья1
Все перевернула по-своему война, всех задела, заглянула в каждый уголок, и малому и большому дала дело, и каждого заставила жить не как он хочет, а как ей, войне, надобно.
Не избежал этой участи и Филипп Егоров. И его настигла она на двадцатый день. Этот день стал в жизни Филиппа вехой: потекла жизнь по другому руслу.
А случилось все так.
В знойный июльский полдень прибежал из военкомата запыхавшийся посыльный с повесткой. Филипп был уже наготове, начиная со второго июля ждал он этого со дня на день, с часу на час. Подумывал даже: не забыт ли он, сам справлялся в военкомате, но ушел оттуда успокоенный. «Помним о вас, потребуетесь – позовем», – сказал ему худощавый, смуглолицый военный, с покрасневшими от бессонницы глазами.
И вот свершилось то, что так ждалось, мерещилось все эти двадцать тревожных дней…
Филипп стоял у окна, смотрел на мигающие огоньки уплывающего в темноту города. Огоньков становилось все меньше и меньше, они мигали все реже и реже и наконец исчезли совсем. Из темноты в стекло стучались упругие струйки дождя и светлыми полосками, поблескивавшими от горевшей свечки, стекали за окно. Потом мелькнул высоко в небе ярко-красный огонек радиомачты и тут же загас.
Вглядываясь в темноту, Филипп подождал еще с минуту, надеясь, что огоньки появятся снова, но не дождался – окраины города кончились и начался лес, подступавший к самому полотну железной дороги.
– Всё. Всё. Кончено. Всё, – шептал Филипп, уже не видя даже окна, так как слезы застилали глаза и на губах от них было неприятно солоно.
Он и сам не знал, почему плакал. В душе его не было ни горечи разлуки с близкими, ни боли расставания с родным городом, ни страха перед неизвестным будущим. Все это было уже пережито и перечувствовано раньше. Сейчас ему было необыкновенно легко, просто, и тихая, безотчетная радость наполняла его до краев.
«Отчего тебе так хорошо? Не оттого же, что ты покинул надолго, а может быть и навсегда, дорогую семью, оставил любимую профессию и пустился в неизведанное?» – не без упрека подумал о самом себе, как о постороннем, Егоров. Но раскаяния от этой мысли он не почувствовал.
«А, да это предчувствие!» – ухватился он за новую мысль. Люди, бывавшие на войне, утверждали, что человек, которому суждено погибнуть, чувствует это задолго до смерти. Чувства же его, Филиппа, были светлыми, какими-то возвышенными, и он воспринял это как счастливое предзнаменование.
Он постоял несколько минут у окна, испытывая наслаждение от мысли, что впереди будет день его возвращения домой, и повернулся посмотреть, чем заняты товарищи.
Они сидели по полкам безмолвные, взгляд их был не то что притушен, а как бы обращен внутрь самих себя. Лица у всех были задумчивыми, строгими, и печальная сосредоточенность проглядывала в каждой черте.
«Да, видно, и они переживают то же, что и я», – подумал Филипп, и мысль о предчувствиях, только что занимавшая его, показалась ему вздорной. «Нет, тут дело не в предчувствиях, – продолжал размышлять он. – Люди едут защищать отечество, они берут на свои плечи судьбу народа, а сознание всего этого свято…»
Он отошел от окна и, не желая мешать товарищам, вскочил на верхнюю полку и лег лицом к стене.
И только лег, в памяти всплыли картинки из пережитого…
Двадцать второго июня он вышел с парохода по узкому, зыбкому трапу на крутой, изрезанный красными прожилками, высокий яр. Стояло тихое, светлое утро. Небо было нежно-голубое и бездонное.
Ночью над тайгой прошел дождь. Воздух был свежий, легкий, смешанный с запахом смолы, меда и земли. Зелень трав и березовой листвы, омытая дождем, стала еще нежнее, ярче и поблескивала, будто подернутая лаком.
Дождевая вода, скопившаяся в размытых ложбинах, уже отстоялась, и большие лужи, как огромные зеркала, отражали небо, деревья, разбросанные по берегу сараи и амбары пристани.
Филипп расспросил у рыбаков, суетившихся возле лодок, путь на опытную полеводческую станцию и не спеша зашагал по дороге, ведущей в густой сосновый лес.
Шел он долго. Местами лужи так разлились, что приходилось их обходить, петлять по гривам и холмикам. Путь до станции увеличился чуть не вдвое.
А день с каждым часом становился солнечнее. Уже припекало. Лес наполнился звоном: пели наперебой птички, без умолку строчили кузнечики, шмели кружились в воздухе с протяжным, монотонным жужжанием. Все живые существа выползли из щелей и потайных мест, в которых они спасались от дождя, и суетились сейчас на просторе, наполненном теплом и светом.
Взойдя по подсохшей дороге на горку, Филипп увидел впереди девушку в красном, светящемся на солнце платье и высокого кудрявого парня в вышитой белой рубашке-косоворотке, подвязанной пояском, в широких шароварах, спущенных на сапоги. Девушка и парень шли навстречу Филиппу, но не замечали его. Парень то и дело останавливал девушку и целовал ее в губы, в глаза, в щеки. Она всякий раз обвивала его шею руками и радостно вскрикивала. И это счастье, которому они отдавались на таежной глухой дороге, так сливалось со звоном, стоявшим над землей, с торжественностью, царившей в густом, величавом лесу, с неуемной суетней разнообразных живых существ, ошалело кружившихся в воздухе, что Филипп невольно усмехнулся и подумал: «Жизнь… Всюду жизнь…»
Парень и девушка прошли мимо Филиппа в пяти шагах, даже не взглянув на него. Они были опьянены своим счастьем – мир, звенящий, поющий, сверкающий тысячами красок, в эти часы существовал только для них, он безраздельно принадлежал только им…
Филипп поднялся на взлобок и не утерпел – взглянул назад. Не зависть, а какое-то другое чувство, трудно объяснимое, но более чистое, пробудилось в его душе при встрече с парнем и девушкой. Ему стало хорошо, радостно, радостно безотчетно, просто потому, что он движется, обоняет самые тонкие запахи, видит небо, лес, счастье других и живет сам в этом лучистом, звенящем дне как ого миллионная частица.
Сам того не замечая, влекомый новым приливом сил, которые поднялись в нем вместе с этим ощущением слитности с окружающим миром, Филипп запел что-то бессвязное, но идущее из самых сокровенных глубин его души, и зашагал еще быстрее.
Он прошел уже достаточно большое расстояние, но усталости не чувствовал. Полнота ощущений и переизбыток физических сил, которые сегодня владели всей его высокой, худощавой фигурой, несли его вперед и вперед.
Филипп остановился не скоро – солнце повернуло за полдень, сквозь лес проглядывали постройки, сооруженные из чистых ровных бревен, цвета топленого воска. Он одернул на себе легкий серый пиджак, поправил на ощупь галстук, очистил веточкой налипшую на ботинки грязь и направился в поселок.
Опытная станция была расположена на веселой лужайке, на берегу реки, поросшем черемушником и гибким ивняком. Все домики были новые, опрятные, с крашеными белыми наличниками, с маленькими уютными террасками и аккуратными трубами из красного кирпича.
На середине лужайки, огороженной новой оградкой, размещался метеорологический пункт: башенка с лестницей, флюгер на длинном шесте, два-три ящичка на невысоких деревянных подставках.
Лужайка была окружена густым лесом – сосняком и пихтачом. Должно быть, когда-то лес выходил к самой реке – десятки невыкорчеванных пней чернели между домами.
Филипп оглядел постройки станции, подумал: «На веселом месте пристроились» – и, тут же спохватившись, начал глазами искать посевы, размышляя про себя: «Ну, посмотрим, что они тут за пшеницу вырастили».
Нетерпение охватило его, и он заспешил к станции чуть не бегом.
У крайнего домика Филипп увидел низкорослого мужика с черной окладистой бородой, в широкой рубахе без пояса, в клетчатых, тщательно разглаженных брюках, в желтых начищенных ботинках.
Подперев руками бока, тот стоял не шелохнувшись и, прищурив глаза, внимательно осматривал приближающегося незнакомца. «Как прифрантился!» – подумал Филипп, тоже внимательно осматривая мужика.
Еще на пароходе Филипп обратил внимание на одежду здешних крестьян. Прошло лишь пять-шесть лет, как появились в этой таежной стороне колхозы, а облик мужиков переменился. Теперь не было видно ни домотканых шабуров, ни бродней, исчез и дедовский обычай носить летом теплые бараньи и заячьи шапки-ушанки.
«Годков через пять проложат тут автострады, запустят на поля тракторы и комбайны, и тогда совсем не узнаешь прежних кержаков», – подумал Филипп.
– Здравствуй, отец! – приветствовал он мужика.
– Здоровенько бывал! – ответил мягким, вкрадчивым голосом тот.
– Скажите, пожалуйста, где живет директор станции?
– А вот домик под зеленой крышей, там они и проживают, – с готовностью ответил мужик, указывая рукой.
Филипп направился к домику под зеленой крышей, но директора не оказалось. Не было дома и сотрудников станции – агрономов. Рано утром они ушли на свои опытные участки, расположенные где-то в пихтачах.
В поселке было пусто. Ребятишки удили в заводи, под яром, женщины разбрелись кто куда: в лес за цветами, на поля, в поселок на базар. Филипп сел на пенек с понурым видом: директор и сотрудники станции вернутся с полей только вечером, а до вечера еще добрых пять-шесть часов.
Но в одиночестве Филипп просидел не больше получаса. Позади послышались осторожные шаги. Подошел мужик в клетчатых брюках.
– Не застали? Их с утра нету. И жди теперь не раньше полночи. Никанор Петрович, директор наш, днюет и ночует там, на поле.
Филипп, не вставая с пенька, повернулся к подошедшему, подумал: «Вот и хорошо. Начну разговор с тобой».
– А вы кем здесь служите? – спросил Филипп, приглашая мужика жестом руки присесть на соседний пенек.
– Сторожем я тут, с самого основания станции, – проговорил тот, но на пенек почему-то не сел.
Филипп взглянул на мужика и заметил, что лицо его, прежде спокойное, почти непроницаемое, было сейчас бледным, глаза смотрели с тревогой. Филипп не успел еще подумать о причинах этой перемены, как мужик заговорил вновь:
– Как, товаришшок, в год-два разобьем?
– Вы о чем?
– О германцах. Войной они пошли на нас. Города наши сегодня ихние самолеты бомбили. Радио вон у меня в избе только об этом и говорит.
Филипп посмотрел на мужика – не вздумал ли тот пошутить. Нет. К сожалению, нет. Бородатое, крупное лицо его было неподвижно хмуро, и большие добрые глаза под редкими, выцветшими бровями смотрели обеспокоенно и просяще, словно искали у него, Филиппа Егорова, опоры. Филипп встал, чувствуя, что сердце от этого известия вначале будто оборвалось, а потом заколотилось сильными, редкими ударами.
О чем он, Филипп Егоров, подумал в этот первый миг? О себе? О своей новой судьбе? Нет. Он вспомнил встретившихся ему в лесу парня и девушку. Они, должно быть, идут еще по таежной дороге, наслаждаются своим счастьем и не знают того, что над этим счастьем занесен смертный меч…
2
– Стоп, дальше ехать некуда!
Возглас прозвучал где-то за вагоном, когда поезд еще не остановился.
Филипп уже проснулся от сильного толчка, но подниматься не спешил, выжидая, не ошибка ли. Дневальные были неопытные, не привыкшие еще к четкому несению воинской службы.
Но на этот раз ошибки не было. За вагоном разговаривали:
– Товарищ капитан, когда прикажете разгружаться?
– Немедленно, Власов.
Через минуту в стену вагона забарабанили. Задремавший дневальный, услышав стук, заорал благим матом:
– Подъем, ребята!
Разбуженные тревожным криком люди повскакали со своих мест и в страшной суете, мешая друг другу, принялись одеваться. Вскоре они выскочили из вагона и, не отходя от него, встали в ряд, в точности так, как их учили.
Была ночь. Темень стояла такая, что хоть глаз коли. Филипп всматривался в темноту, но разглядеть ничего не мог. Даже фигуры товарищей, с которыми он стоял бок о бок, потеряли очертания.
– И куда только нас завезли? Ни язвы не видно! – бранился кто-то.
– Да город-то где? Или тут нету города? – настойчиво допытывался другой голос.
– Город?! Рассвет наступит – увидишь, – сказал кто-то важным баском, и в тоне, которым были произнесены эти слова, всем послышалась угроза.
– А, гляди, как бы не провезли дальше, – попытался кто-то сгладить впечатление безнадежности от этого угрожающего восклицания. Но тот же басок, теперь уже с явным ожесточением в голосе, изрек:
– Провезут? А куда провезут? К черту на рога?!
Теперь уже никто ничего не посмел возразить, тем более что подошел начальник эшелона капитан Тихонов вместе с дежурным по эшелону и во всеуслышание сказал:
– Вот, товарищи, мы и приехали. Дальше ехать некуда. За сопкой, в трех километрах отсюда, граница. Давайте разгрузимся тихо, бесшумно, чтоб не привлекать внимания кого не нужно…
Что значило это «кого не нужно», поняли не все, и чей-то голос выразил общее любопытство:
– А что тут, товарищ капитан, город какой или какое другое селение?
Капитан почему-то засмеялся в ответ на этот вопрос, заданный вполне серьезно, и сказал почти то же самое, что все уже слышали:
– Вот наступит рассвет, и сами все увидите.
Обладатель баска тотчас же отозвался из темноты с торжествующей ноткой в голосе:
– Ну, что? Не то ли я вам говорил?
Начальник эшелона и сопровождающий его командир отдали старшему по вагону указания о разгрузке и удалились. По тому, как скрипела под их ногами земля, Филипп определил, что почва здесь песчано-каменистая.
Прислушиваясь к удаляющимся шагам командиров, он позавидовал их умению свободно двигаться в такой кромешной темноте. «Я бы и пяти шагов тут не сделал», – подумал он о себе. Но это было преувеличением. Вскоре началась разгрузка. Из вагона пришлось вытаскивать тюки с продовольствием, оружие, корзины, наполненные посудой, тяжелые кипы каких-то бумаг.
Филипп, как и все остальные участники выгрузки, быстро освоился с темнотой и безошибочно сновал между вагоном и складом, устроенным прямо на земле, в ста метрах от железной дороги.
Разгрузка шла дружно и с сохранением возможной при таких обстоятельствах тишины. Но как ни были люди заняты работой, все с нетерпением посматривали на небо и ждали рассвета.
Еще задолго до рассвета совершенно неожиданно воздух наполнился треньканьем и протяжным писком. Тучи комаров, скрытые сумраком ночи, набросились на людей. Они были отвратительно липкие и ухитрялись проникнуть в уши, в нос, в глаза, роем облепляли руки, шею, забирались под одежду. Откуда они появились – было неизвестно. Можно было подумать, что их принес ветер, как он приносит тучи с ливнем и громом. Но над землей стоял покой, и на ветер не было ни малейшего намека.
– Вот это привезли, язви их, в местечко! – ожесточенно отбиваясь от комаров, ругался кто-то.
Филипп замотал шею платком, второй платок надел под пилотку, прикрыв им лоб. «Держись, Егоров», – мысленно сказал он себе, стараясь быть спокойным. Он убедил себя в том, что впереди предстоят тяжелые испытания, и решил не растрачивать сил на пустяки, беречь их для будущего, которое рисовалось ему пока что крайне неясно.
Рассвет наступал медленно. Сумрак был вязкий, неприятно серый и расползался с трудом, нехотя. Но чем больше светало, тем сильнее щемило сердце у Филиппа, тем чаще слышались горькие возгласы.
Басок со своим «рассвет наступит – увидишь» настроил всех на мрачные мысли и безрадостные ожидания, но то, что люди увидели, превзошло даже самые худшие предположения.
Вокруг, насколько хватало глаз, тянулись песчаные сопки, чуть-чуть поросшие жидкой травой. Они были унылые, похожие одна на другую. Узкие извилистые долины поблескивали обширными плешинами. Вероятно, когда-то давно на этих местах были озера. Потом вода испарилась, и вместо нее остались бесплодные солончаковые пятна.
Да и небо здесь было совсем иным. Оттого что обзор местности был ограничен, горизонт смыкался с землей за первыми же сопками.
Облака тут висели низко, и казалось, что весь этот безрадостный клочок земли живет под каким-то стеклянным колпаком.
С первой же минуты Филипп почувствовал в себе желание подняться куда-нибудь на высокую гору и взглянуть за пределы этого колпака.
Когда после окончания выгрузки и отдыха раздалась команда о построении, Филипп встал в строй с большой охотой. Он знал уже, что жить им придется где-нибудь в другом месте, находящемся от железной дороги на значительном расстоянии, и ему хотелось скорее оказаться в движении, чтобы увидеть новые сопки и долины и развеять ощущение скованности, которое рождалось при виде неба, колпаком опустившегося над сопками.
Дорогой, после каждого поворота, Филипп жадно всматривался в даль. Но картина была однообразной и вызывала только тоску.
Шли по команде «вольно», и в строю кто-то громко философствовал:
– А что, неужели, ребята, можно в этом краю прижиться и полюбить его не по службе, а так, добровольно, по расположению сердца? Ну места! Тут не токмо человек, зверь не станет жить. А все природа-матушка. Нет, чтоб по справедливости, поровну всю красоту поделить, она взяла собрала ее в отдельных местах. Байкал-то какой! Век гляди – не налюбуешься!
В сознание Филиппа этот бойкий голосок врывался какими-то обрывками, отдельными фразами. Филипп думал о себе:
«Хватит ли у меня сил жить тут так, как надо. Место унылое, безлюдное… Какие удручающие душу сопки, а земля-то… Песок… песок… Даже в глазах от желтизны режет…»
От железной дороги было пройдено уже километров десять, когда из передних рядов, возле которых шагал капитан Тихонов, передали, что за следующей сопкой – остановка.
– А что – остановка на отдых или насовсем? – спросили из задних рядов.
Вопрос тотчас же передали из уст в уста и вскоре получили ответ, вызвавший оживленное обсуждение.
– Капитан сказал, что остановка будет на зимние квартиры…
– На зимние квартиры?! Стало быть, тут казармы, да и городок, наверное, какой-нибудь есть.
– Ну, ясно: раз на зимние квартиры, то уж точно городок, а казармы – это обязательно.
– Выходит, зазимуем здесь. Это что-то неподходяще. Там, на западе-то, без нас, пожалуй, успеют управиться…
– Да ведь как война там пойдет. Вишь, как он, немец-то, жмет.
– У него все наготове было…
Когда до сопки, о которой говорил капитан, осталась сотня-две шагов, разговоры в строю смолкли. Люди настороженно смотрели вперед.
Колонна обогнула сопку. «А где же казармы и городок?» – спрашивали друг друга бойцы.
– Ошибка! Капитан не об этой сопке говорил. Вот за той сопкой остановка, – успокоил кто-то. И все в это поверили.
Но почти в ту же минуту послышалась команда самого капитана:
– Направляющий, стой!
Колонна остановилась, и люди замерли, испытывая недобрые предчувствия. Капитан вышел к середине колонны, повернул строй лицом к себе, сказал:
– Товарищи, эта падь, – он энергичным взмахом руки очертил полукруг, – называется Ченчальтюй. Тут мы будем жить и трудиться. Помните: у солдата родной дом там, где его рота, где он несет службу своему отечеству. Полюбите это место!
Капитан помолчал, намереваясь что-то добавить, но как бы придержал невысказанную мысль до другого раза.
– Рразойдись! – произнес он совсем неожиданно.
Бойцы не были готовы к исполнению этой команды и стояли еще несколько секунд без движения. Потом строй распался на мелкие группы, и над бойцами заструился сизоватый дымок цигарок.
«Полюбите это место! Легко сказать! Что же здесь можно полюбить?» – подумал Филипп, осматривая падь, окруженную голыми сопками.
Уже теперь, после такого краткого пребывания здесь, Филипп почувствовал, что его мутит от этого унылого однообразия.
«А вдруг тут придется жить и год и два? Надо стать ближе к людям, завязать с ними дружбу», – размышлял он.
Ему захотелось свое решение привести немедля в действие. Он окинул взглядом своих товарищей по эшелону, рассыпавшихся по пади. К кому подойти? Кому предложить свою руку на крепкую братскую дружбу?
Неподалеку от него стоял в группе бойцов молодой щупленький паренек, с виду совсем еще мальчишка. Это был Викториан Соколков, призванный в армию с первого курса историко-филологического факультета.
Еще дорогой, находясь с ним вначале в одном вагоне, а после перегрузки на большом железнодорожном узле – в одной теплушке, Филипп проникся к Соколкову уважением.
Филипп не дошел до Соколкова. Дорогу ему преградил высокий круглолицый детина с трубкой во рту, украшенной острым профилем Мефистофеля. Филипп посмотрел на детину, на его широкую грудь, подумал: «Богатырское здоровье».
– Не взойти ли на вершину сопки? Мрак на душе, – скорчив кислую гримасу, проговорил детина. По голосу Филипп опознал обладателя того самого баска, который в сумраке ночи зловеще кричал: «Рассвет наступит – увидишь!»
Чувство неприязни к этому человеку почему-то поднялось в душе Филиппа, но, взглянув в доверчивые и зовущие, прозрачно-голубые глаза детины, он поспешил заглушить это чувство.
– Что ж, можно и на сопку взойти. На душе действительно мерзко, – сказал Филипп.
Детина протянул ему руку:
– Будем знакомы: Шлёнкин Терентий.
– Егоров, – тихо сказал Филипп.
3
Земля была крепкая, как железо. Тяжелый лом отскакивал и звенел. Филипп норовил ударить в щель, между камней, но это требовало удара точного, ловкого и удавалось не часто.
Рядом с Филиппом с кайлой в руках работали Соколков, Шлёнкин и с десяток других красноармейцев, с которыми Филипп был еще незнаком – они ехали в других теплушках.
Работа была тяжелой, требовала напряжения всех физических сил, но работающие оживленно разговаривали:
– Что я жил? Я жил – кум королю, племянник императору. Работал я в системе Всесоюзной конторы «Утильсырье» в должности разъездного ревизора. Семьсот целковых основное плюс командировочные плюс премиальные за перевыполнение плана, – рассказывал Шлёнкин. – Квартирка у меня была – лучше некуда, в центре города, с паровым отоплением, с водопроводом, с ванной. Подкопишь, бывало, деньжонок, позовешь хозяйку: «Анастасия Илларионовна, готовьте обед на восемь персон, будут друзья и начальство». Соберется тут весь цвет: управляющий конторой, его заместитель, главный бухгалтер, все с супругами. Стол накрыт по всем правилам…
– Ты подхалим, Шлёнкин! Будь я твоим начальником, я бы выгнал тебя с работы за эти подхалимские штучки, – с возмущением сказал Соколков, перебивая Шлёнкина.
Шлёнкин осекся на полуслове, бросил на Соколкова рассерженный взгляд, горячась, проговорил:
– Выгнал с работы! Что ты понимаешь? Ты еще балласт на государственной шее. Что ты полезного дал государству?
– А хотя бы то, что ни перед кем не подхалимничал!
Шлёнкин отвернулся от Соколкова, давая этим понять, что он не намерен считаться с его мальчишескими выпадами.
– Обед окончен, – продолжал Шлёнкин, – наготове полсотни пластинок. Поочередно провальсируешь с женами управляющего, его зама, главбуха. Попробуй одну из них пропустить! Потом упреков не оберешься. «Терентий Иванович, вы были вчера почему-то особенно внимательны к Клеопатре Арнольдовне (это жена заместителя управляющего). И чем только приворожила вас эта сухоребрая лошадь?» Ну а пока вальсируешь, близится вечер. Билеты в оперетку у тебя в кармане. Ты их преподносишь гостям в качестве сюрприза. Дамы, конечно, в восторге. Кому из них не хочется лишний раз прослушать: «Сильва, ты меня не любишь! Сильва, ты меня погубишь!..»
Шлёнкин пропел это своим бархатистым баском, посматривая на всех окружающих с видом превосходства.
– И вот, извольте, после всей этой жизни – пустыня. И самое обидное то, что была возможность достать броню, но военкомат до того был нетерпелив, что оформить ее не успели…
– Неужели вы остались бы? – спросил Филипп, слушавший Шлёнкина с нарастающим раздражением.
– Конечно! Там я больше бы принес пользы. Какой из меня толк в армии? Я необученный. А как ревизор, специалист своего дела, я незаменимый.
– Незаменимых людей не бывает, – вставил кто-то из красноармейцев, без устали работавших лопатами.
Шлёнкин сделал вид, что не слышал этих слов:
– Уж такова жизнь: люди опытные, умелые, полезнее для дела, чем необученные и незнающие.
Молчать дальше Филипп не мог.
– Вы не правы, Шлёнкин. Сейчас каждый человек, способный носить оружие, должен стремиться в армию. Родина в смертельной опасности. Нужно же, наконец, понять, что значат эти слова. Кто мы без Родины?
– Постой, постой, Егоров, ты мне здесь большую политику не подводи, – яро запротестовал Шлёнкин. – По-твоему выходит, что я не для Родины работал? А знаешь ли ты, что нашей системой сам Совнарком занимался?
– Ну и что же? Что же из этого следует? Вы, вы лично, молоды, здоровы, воспитаны советской властью, и ваш прямой долг встать на ее защиту. А нового ревизора – найдут. Уверяю вас.
– Найдут! – поддержал Филиппа веснушчатый, рыжеватый красноармеец Василий Петухов, работавший с кайлой в руках и до сих пор молчавший. – Я тоже был не на маленькой должности, – продолжал он. – Шесть лет ходил председателем колхоза «Красные зори». Колхоз – ничего себе, жить можно. В прошлом году одних зерновых выдали по семь кило на трудодень, да овощи были, да мясо, да мед, да деньгами по три рубля… Баланс тоже славный – миллион сто тысяч рублев. А вот нашли замену, из своих же, из бригадиров нашли. И мне можно было зацепиться за бронь, а только разве я утерпел бы? Тут враг на нашу землю лезет, а я сидел бы там! Да я бы и райком и военкомат разнес, а своего б добился.
– Ну вот ты и добился! Привезли тебя в забайкальские сопки, к черту на кулички, за десять тысяч километров от фронта. Воюй! – с ехидцей проговорил Шлёнкин.
– Придет срок – буду! – воскликнул Петухов и, ожесточаясь, заговорил так громко, будто выступал на митинге: – А обедами ты не хвались! Подумаешь, удивил – восемь персон! Я на сорок персон обеды давал, и костюмов у меня было шесть, и велосипеды у всех членов семьи были, и чего только у меня не было… Да у меня ли одного? У всех колхозников так было… Я так жене сказал: «Не жди меня. Раз немец хочет нашу жизнь распорушить, прятаться я от него не буду. Гордость мне этого не позволит».
– Э, да ты о фронте опять толкуешь! Будь я на фронте, и я бы по-другому пел, – поспешно проговорил Шлёнкин.
– А что бы вы там делали, необученный, не умеющий владеть даже винтовкой. Вы вон и лопатой-то не научились работать, а собираетесь воевать. Вас в первой же стычке отправят на тот свет, – послышался громкий, уверенный голос. Все оторвались от работы и увидели капитана Тихонова. Он подошел сюда никем не замеченный и долго стоял молча, слушая разговор молодых красноармейцев.
Капитан Тихонов был невысокого роста, с крупным продолговатым лицом, с мясистым носом и пухлыми обветренными губами. Глаза у него были какого-то неопределенного цвета, пристальные, с усмешкой. Капитан щурился и частенько подергивал носом. Казалось, он к чему-то присматривается и принюхивается. Эта привычка была не из приятных, и капитан на всех, с кем он встречался впервые, производил впечатление бесчувственного службиста.
– Ну, пропал Шлёнкин, он ему сейчас покажет фронт, – толкнув Соколкова в бок, с ноткой сожаления в голосе сказал Егоров.
– Дернул же его черт подойти. Мы бы и сами поставили Шлёнкину мозги на место, – не прекращая работы, отозвался Соколков.
А капитан Тихонов, ссутулив плечи, продолжал между тем стоять возле Шлёнкина и все тем же громким, уверенным голосом говорил:
– Нет, нет, Шлёнкин, фронт гораздо сложнее, чем вы предполагаете. Фронт требует выучки, тренировки, знаний. А вы вот лопатой в землю тычете, и я вижу: сноровки у вас пока нет никакой…
Все бойцы ожидали, что капитан Тихонов после этих резких слов накажет Шлёнкина. Но, помолчав, капитан совсем спокойно сказал:
– Дайте мне вашу лопату.
Шлёнкин все еще стоял по команде «смирно», с тем подчеркнуто неловким видом, который бывает у всех необученных бойцов. Он неумело, раскачиваясь всем туловищем, повернулся через правое плечо «кругом», поднял с земли лопату и подал ее капитану. Тихонов зачем-то подбросил лопату в воздух, схватил ее на лету, ощупал гладкий, будто отполированный, черенок.
– Смотрите, Шлёнкин, как нужно работать, – сказал капитан. – Лопату вы берете так, чтобы одна рука была ниже, а другая выше. Дальше, так как грунт здесь каменистый, вы лопату втыкаете не под прямым углом, как это бывает обычно, а как бы кладете ее. Ваша роль вспомогательная. Вы выбрасываете то, что наковыряли вам ломами и кайлами. Глубже вам не проникнуть, не тычьтесь зря и не тратьте свои силы попусту.
Тихонов нагнулся и быстрым движением рук показал Шлёнкину, как надо работать.
– А ну, попробуйте теперь вы, – сказал он, подавая Шлёнкину лопату.
Тот принялся за работу.
– Вот хорошо! Хорошо! – с какой-то по-детски искренней и бурной радостью воскликнул Тихонов. – Только двигайте руками еще быстрей! Быстрей! Поддел – и в сторону! Раз, два! – Тихонов замахал руками в такт движениям Шлёнкина.
– Ну, вот и освоились! Наука хоть и не хитрая, а сноровки требует, – заключил Тихонов, продолжая наблюдать за работой Шлёнкина.
Когда Шлёнкин разогнулся, чтоб передохнуть, Тихонов взглянул на него и весело засмеялся:
– Употели? Жаркая работка!
Шлёнкин молча вытер рукавом лицо, стоял, тяжело отдуваясь. Тихонов переждал минуту-другую, пока Шлёнкин придет в себя, спросил:
– Каково самочувствие-то?
– Какое там самочувствие, товарищ капитан, – вяло сказал Шлёнкин, полузакрыв глаза.
Тихонов всмотрелся в Шлёнкина, заговорил с той ноткой участия в голосе, которая сразу настраивает даже незнакомых людей на задушевный разговор:
– Тяжеловато, знаю. Я-то здесь привык – восьмой год служу. А когда приехал – небо казалось с овчинку. Я попал сюда прямо из Ленинграда, из училища. Всю жизнь до армии я провел в большом городе, среди людей. Туго мне тут вначале было. Не скрою – случались минуты тягостные. Но ничего, все пережил, все преодолел… Что ж, надо! Да и кому надо? Народу, государству! Бывало, как подумаешь об этом – и тоска долой! Наоборот, даже гордость почувствуешь. Как-никак, мол, Тихонов, ты ведь на краю земли советской стоишь, ты страж ее. Как раскинешь вот так мозгами, смотришь, на душе у тебя светло, празднично станет, и ничто уже тебя не страшит…
Вступив в разговор с Терентием Шлёнкиным, Тихонов преобразился даже внешне. Его загоревшее на ветру и солнце крупное лицо необыкновенно одухотворилось. Глаза заблестели, резкие, грубоватые черты приобрели сосредоточенность и строгость.
– Вам раньше приходилось служить в армии? – спросил Тихонов.
– Впервые я… – еще более вяло промолвил Шлёнкин, как-то страдальчески вытягивая шею.
– Прожить почти тридцать лет на свете и ни одного дня не служить в армии… Как вам это удалось? По состоянию здоровья?
– Нет. Система хлопотала… Отсрочку от призыва давали, потом в терчасти зачислили, а уж тут проще простого. Летом надо на сборы идти, а мне командировочное удостоверение в зубы – и на периферию.
– Система системой, а вы-то полноправный гражданин, вам надо было возмутиться такими порядками. Ну, не беда, не отчаивайтесь! Все это дело наживное, сегодня вы – боец молодой, неопытный, завтра у вас будут и знания и закалка.
Тихонов посмотрел на Шлёнкина с доброй, ободряющей улыбкой, которая как бы говорила: «Выше голову, дружище!», и хотел отойти.
– Товарищ капитан! – остановил его Шлёнкин.
Тихонов задержался.
– Вопрос задать разрешите?
– Пожалуйста, товарищ Шлёнкин, – сказал Тихонов, настораживаясь.
– Видите ли, это даже не вопрос, а, скорее, просьба, – понижая голос, сказал Шлёнкин. – Довелось от бойцов слышать, что вы ищете писаря в штаб батальона.
– Да, писарь мне нужен.
– Я хотел просить вас назначить на эту должность меня, – стараясь смотреть Тихонову в глаза, сказал Шлёнкин.
– Кого? – зачем-то переспросил Тихонов.
– Меня, товарищ капитан, – поспешил Шлёнкин. – У меня есть некоторый опыт: в системе мне приходилось работать и делопроизводителем, и секретарем, и управделами. Даю слово – быстро овладею техникой.
Тихонов отступил на полшага и пристально вгляделся в Шлёнкина, будто видел его впервые. В глазах капитана запрыгали чертики. Можно было ожидать, что он закричит на Шлёнкина. Некоторые бойцы прервали работу – это были те, которым удалось невольно слышать этот разговор, – и напряженно ждали ответа Тихонова.
– Нет, Шлёнкин, взять вас писарем не могу, – неожиданно спокойно сказал капитан.
Шлёнкин кинул на Тихонова вопросительный взгляд.
– Вы ищете место, где бы вам было легче. Я не могу в этом пойти вам навстречу. Это не вяжется с общими интересами и вредит лично вам. Вы меня поняли?
Шлёнкин опустил глаза, пробормотал:
– Ваше дело, а только в системе никто меня не попрекал…
– Ну, этим не хвалитесь, – жестко сказал Тихонов. – Я не уверен, что это пошло вам на пользу… Приступайте к работе.
Тихонов быстро повернулся и пошел по линии, прочерченной лопатами и обозначавшей порядок расположения будущих землянок.
4
Бойцы не успели еще приступить к работе, как послышался крик капитана Тихонова:
– Винтовку мне! Винтовку!
Из палатки, стоявшей на склоне сопки, выскочил младший лейтенант Власов. Увидев его, Тихонов замахал рукой, громко крича:
– Голубь в воздухе! Стреляйте!
Бойцы не поняли, чем так обеспокоен капитан, и с недоумением смотрели на него. Они не обратили внимания на птицу, летевшую со стороны границы. Когда же та приблизилась настолько, что они могли увидеть ее прямо над собой, все решили, что Тихоновым овладел охотничий азарт.
Младший лейтенант Власов был маленького роста, плотный, круглолицый, с короткими толстыми ногами, но поразительно ловкий и шустрый. Он был проворен на работе, горяч и неутомим в пляске, и уже в дороге бойцы прозвали его вьюном.
Власов в одну секунду понял, что требует от него капитан. Он выскочил из палатки с винтовкой в руках. Еще до возгласа Тихонова «стреляйте!» он сообразил, что нести винтовку капитану нельзя – птица в это время скроется в небесах. Опустившись на колено, он приложил винтовку к плечу, взял птицу в оптический прицел и выстрелил. Пуля, должно быть, просвистела где-то возле голубя. Он круто начал набирать высоту. Власов принялся палить раз за разом. После четвертого выстрела голубь перекувырнулся и, распуская крылья, стал падать.
– Глядите, чтоб не уполз в траву! – прокричал Тихонов, привлекая этим возгласом внимание всех бойцов, работавших по склону сопки.
Самые дальние из бойцов кинулись к месту падения птицы и подхватили ее еще в воздухе.
– Осторожно с ней! Осторожно! – не унимался Тихонов.
– Что, товарищ капитан, суп теперь из нее варить будем? – шутливо спросил кто-то из бойцов, продолжавших думать, что Тихонов затеял ловлю голубя ради забавы. Тихонов не успел ответить, так как в ту же минуту боец, подхвативший птицу, удивленно крикнул:
– Товарищ капитан, у голубя на ноге колечко!
Бойцы, не бросая лопат, сгрудились возле Тихонова.
Капитан осторожно взял голубя за края крыльев и, растянув их, долго рассматривал. Потом так же осторожно он снял с ножки голубя металлическую оправку, сделанную в виде широкого колечка с застежкой, и вытащил оттуда клочок белого нерусского шелка. Тихонов торопливо развернул полоску шелка. Вся она была испещрена двумя столбиками цифр, написанных черной тушью.
Некоторые бойцы потянулись посмотреть на шелковку, но бдительность стала второй натурой Тихонова. Он зажал шелковку в руке.
– Голубь этот, товарищи, не простой, – проговорил Тихонов. – Он летел из-за границы, и, по-видимому, не с пустой вестью. Что это за весть – трудно сказать, но одно ясно: в наших краях бродят чужие люди, и нам надо быть начеку.
Бойцы посмотрели друг на друга, потом на Тихонова, и один из них простодушно признался:
– А мы-то, простофили, думали, что капитан эту птичку себе на жаркое ловит.
Бойцы поговорили о голубе еще несколько минут, и Тихонов приказал возобновить прерванную работу.
Разошлись без особого желания, и разговор о взволновавшем всех происшествии продолжался.
– Вот видел, Шлёнкин, что делается? – долбя землю ломом, говорил Егоров. – Ты о фронте мечтал, о западе, а, гляди, и тут нам найдется дело.
– Самураи – пакостная порода. Раз они в прошлые годы задирались, теперь от них хорошего не жди, – сказал Петухов.
– Шибануть их шибче надо. Мы им в тридцать девятом году на Халхин-Голе показали такой «банзай», что они и ног не унесли, – заговорил смуглолицый и веселоглазый Прокофий Подкорытов.
– Смотри, ребята, капитан куда-то на коне поехал, – сказал Соколков, приставляя ладонь к глазам.
Бойцы оторвались от работы. Тихонов ехал по пади на низкорослой рыжей лошадке, а вслед за ним, неловко подпрыгивая в седле, торопился коновод. По его мешковатой посадке чувствовалось, что коновод был из молодых бойцов.
– Наверное, он начальству шелковку повез, – высказал свое предположение Егоров.
– Скажите-ка: в этих местах, кроме нас, стоит кто-нибудь? – неопределенно махнув рукой, спросил Шлёнкин.
– Говорили, будто неподалеку дивизия стояла, да ушла на днях на запад, – проговорил Соколков.
– Выходит, что, если японец пойдет войной на Советский Союз, мы первые его встретим, – сказал Егоров.
– Выходит, так, – подтвердил Василий Петухов и, взглянув на Подкорытова, спросил:
– А что, Прокофий, японец силен, нет ли?
– Ну как тебе сказать, – против обыкновения вполне серьезно, без всяких чудачеств проговорил Подкорытов, – с нами их не сравнишь, но и шапками японца не закидаешь, братуха. Солдат у них обучен, втянут и, сказать по правде, драться умеет.
– Ну вот, обученных красноармейцев всех отсюда на запад угнали, а мы что? Ни то ни се, – проговорил Шлёнкин.
– Далось тебе одно: не обучены да не обучены! – живо отозвался Подкорытов. – Мы в тридцать девятом году на Халхин-Гол приехали тоже не бог весть какие. А как начали воевать, быстрехонько обучились. Бывало, как пойдем врукопашную, самураи повертывают и так улепетывают, что аж пятки втыкаются.
Подкорытов употребил тут несколько непечатных слов, от которых даже сумрачный Шлёнкин залился веселым смехом.
– Гляди, ребята, гляди, верховые! – воскликнул Соколков.
В самом деле, на вершине одной из сопок показались двое верховых. Должно быть, увидев их, Тихонов повернул свою лошадь и помчался к ним навстречу.
– Да это пограничники! Видите, макушки у фуражек зеленые, – щуря свои острые, веселые глаза, сказал Подкорытов.
Вскоре пограничники и Тихонов съехались, спешились и, оставив лошадей под присмотр молодого коновода, отошли в сторону и остановились, разговаривая.
Бойцам было теперь не до работы. Неотрывно они наблюдали за тем, что происходило там, на вершине сопки. Они видели, что вначале пограничники долго и внимательно рассматривали голубя и шелковку, потом они что-то рассказывали Тихонову, и тот часто вскидывал руками, а затем, нагнувшись, черенком плетки долго вычерчивал на песке какой-то чертеж.
Наконец разговор закончился. Тихонов пожал руки пограничникам, и они вскочили на лошадей. Переждав, когда они скроются за сопкой, Тихонов сел в седло и помчался под гору, к своей палатке, с такой быстротой, что страшно было смотреть.
– Отчаянная головушка! – с мальчишеской завистью сказал Соколков. Егоров мысленно повторил его слова и подумал: «И скачет он так не из пустого азарта, как не зря он ловил этого злополучного голубя…»
5
Тихонов пробыл в палатке несколько минут. Он вышел оттуда вместе с младшим лейтенантом Власовым, голос которого разнесся по всей пади:
– Прекратить работу и построиться!
Работа у котлованов была начата недавно, и эта внезапная команда о построении всех озадачила.
Шлёнкин отбросил лопату и, встревоженно глядя на Филиппа, спросил:
– Что, Егоров, война?
– Черт ее знает, все может быть, – стараясь казаться спокойным, сказал тот.
Когда батальон выровнялся, Власов подал команду «смирно» и обратился к комбату с рапортом:
– Товарищ капитан, батальон построен для следования на выполнение боевой задачи.
Тихонов осмотрел батальон придирчивым, оценивающим взглядом опытного командира, негромко сказал:
– Вольно!
– Во-ольно-о! – протяжно и звонко прокричал Власов.
Однако бойцы продолжали стоять не шелохнувшись. Они слышали, как Власов, отдавая рапорт капитану, сказал: «Батальон построен для следования на выполнение боевой задачи», – и ждали, что скажет Тихонов.
– Японцы подтягивают на нашем участке свои силы, – сказал Тихонов, поглядывая в сторону границы. – Может случиться, что они полезут на нашу землю, и тогда нам придется драться. Через час мы выступаем занимать рубеж. Проверьте и подготовьте оружие. Лица, окончившие высшие учебные заведения, ко мне, остальные – рра-зойдись!
Бойцы кинулись к своим винтовкам, стоявшим в разных местах в козлах, а Филипп Егоров и еще двое бойцов подошли к Тихонову.
– Военные дисциплины в вузе проходили? – спросил он одного из подошедших к нему бойцов.
– По болезненному состоянию здоровья в то время от сдачи военных дисциплин был освобожден, – ответил боец.
– Идите, – слегка кивнул головой Тихонов, давая бойцу знать, что разговор с ним окончен, и обратился к другому бойцу:
– А вы?
– Я заканчивал институт заочно, без отрыва от производства, и военных дисциплин не сдавал.
– Так. Идите, – сказал Тихонов и, проводив бойца взглядом, спросил:
– Ну а вы, Егоров?
Филипп про себя отметил, что Тихонов обладает отличной памятью, так как помнит его по одному мимолетному разговору, состоявшемуся еще в дороге.
– Я сдавал все военные дисциплины, проходил трижды лагерные сборы, был аттестован на комвзвода после специальной стажировки, – проговорил Филипп.
– А почему вы призваны как рядовой? – спросил Тихонов.
– Не знаю, военкомат, – неопределенно пожав плечами, сказал Егоров.
– Ах, эти военкоматы! Не научились еще они четко работать! – вздохнул Тихонов. – А какова ваша гражданская специальность? – почему-то очень строго осведомился он.
– Я учитель географии и любитель-селекционер.
– Что же вы вырастили?
– Я пытался вывести устойчивые северные виды пшеницы, – торопливо сказал Егоров, понимая, что не это же главное в их разговоре.
– Вот как! Интересно! – с воодушевлением сказал Тихонов, и по его возгласу Филипп заключил, что, начнись этот разговор в каких-нибудь подходящих условиях, Тихонов с удовольствием пустился бы в обстоятельные расспросы.
– Ну вот что, географ и селекционер, – помолчав немного и в упор глядя на Егорова своими пристальными глазами, проговорил Тихонов, – вы приобретете сейчас еще одну специальность: я назначаю вас командиром третьей роты.
Егоров до того был этим изумлен, что в первые мгновения не нашелся что сказать. Он стоял молча, с полуоткрытым ртом, и краска заливала его узкое, худое лицо.
– Как, как… вы сказали? – заикаясь, с усилием произнес Егоров.
– Вы примете команду над третьей ротой, – повторил Тихонов.
– Но я… я и взводом-то только на стажировке командовал, – растерянно поглядывая на Тихонова, проговорил Егоров.
Тихонов как-то сразу нахохлился, отчего вид его стал крайне угрюмым и озабоченным.
– Иного выхода, Егоров, нет. Батальон сформирован, а командиров не хватает. Я сомневаюсь, чтоб нам прислали их даже в ближайшие недели.
– Но я же не имею ни опыта, ни знаний, – с предельной искренностью проговорил Егоров.
Тихонов расправил плечи, улыбнулся скупой, но по-детски чистой улыбкой. Глаза его засияли теплым, ласковым светом.
– Скажите, Егоров, ваше имя и отчество.
– Филипп Иванович.
– Вы знаете, Филипп Иванович, – тоном сердечного расположения произнес Тихонов, – я часто думаю о людях, которые совершали нашу революцию и начинали строить советское государство. Откуда они брали знания? Где они приобрели опыт? Ведь они были зачинатели, пионеры… Вспомните, в годы Гражданской войны вот сюда, в забайкальские сопки, партия прислала Сергея Лазо. В то время ему было двадцать четыре года от роду, в армии он был всего лишь прапорщиком, а партия поручила ему командовать целым фронтом. Нелегко, должно быть, приходилось ему…
– Ну что ж, я не отказываюсь, я готов, только б суметь, – сказал Егоров, когда Тихонов, умолкнув, взглянул на него.
Тихонов схватил Егорова за руку и крепко пожал ее.
– Да, кстати, вы партийный или нет? – спросил капитан.
– Член партии.
– Хорошо! Итак, товарищ Егоров, пойдемте, время у нас дорого, и я представлю вас роте.
6
Рубеж, который занимала рота Егорова, проходил через вершины двух сопок и с обеих сторон в глубине падей смыкался с участками других рот батальона. До узкой, трехсотметровой, нейтральной полосы, опаханной с советской стороны плугом, отсюда было едва ли больше двух километров.
Эти два километра представляли собой группу сопок, одна меньше другой, как бы ниспадающих к востоку. Линия границы проходила на этом участке по ровному и широкому плато. Особенно обширным плато было со стороны Маньчжурии. К северу оно простиралось до маленького маньчжурского городка Н., а к югу тянулось до трех больших сопок, стоявших полукругом и походивших на специально сооруженные форты.
Наблюдательный пункт Егорова был расположен на одной из самых высоких сопок. В глубоком окопе, похожем на гигантскую букву Т, слегка прикрытом изодранной маскировочной сеткой, возле стереотрубы стоял наблюдатель. В углах окопа с винтовками в руках расположились бойцы боевого охранения. В центре окопа с биноклями в руках стояли капитан Тихонов и командир артиллерийского подразделения, приданного батальону вышестоящим командованием.
Артиллерист был молодой, щеголеватый. Фуражка его с черным околышем и красным кантом была сдвинута набок, под козырьком русыми завитушками торчал непокорный чуб. Артиллерист был на голову выше Тихонова, и когда что-нибудь говорил капитану, то выгибал шею.
Егоров появлялся в окопе через каждые десять – пятнадцать минут. Он входил в окоп, осведомлялся у наблюдателя, нет ли чего нового, и когда тот, не отрываясь от стереотрубы, отвечал, что изменений в секторе обзора не произошло, Егоров уходил обратно.
Третья рота, над которой Егоров принял командование, работала на западных склонах сопок, сооружая свои позиции.
Близость границы и неизвестность предстоящего настроили всех тревожно. Работали молча. Не было слышно ни певучего баска Шлёнкина, ни звонкого смеха Соколкова, ни степенного, рассудительного голоса Василия Петухова. Молчал даже Прокофий Подкорытов, любивший потешать бойцов анекдотами и частушками с самыми неожиданными концовками.
Егоров ходил то в один взвод, то в другой. Ему все казалось, что бойцы работают вяло, хотя он видел, что они долбят каменистый грунт с большим упорством.
– Быстрее, товарищи, надо работать, – сказал он бойцам в одном месте, но тут же усовестился своих слов. Бойцы работали и без того не разгибая спины. Нетерпение обуревало его, и, желая как можно скорее видеть сооружение обороны роты законченным, он сам брался то за лопату, то за лом.
Когда после такого обхода взводов он вновь вошел на наблюдательный пункт, то, несмотря на то что все в окопе было по-прежнему, почувствовал, что в секторе обзора произошли перемены.
– Изменения есть, Симочкин? – спросил он наблюдателя.
– В шестнадцать пятьдесят две по дороге Городок – артполигон проскакал всадник, в шестнадцать пятьдесят семь туда же прошли две грузовые машины, – проговорил наблюдатель, не отрываясь от стереотрубы ни на одну секунду.
– Ну как, Орлов? – продолжая какой-то ранее начатый разговор, спросил Тихонов.
– Это люди, товарищ капитан.
– А ну, Егоров, посмотрите вы, – проговорил Тихонов и подал Филиппу свой бинокль.
Егоров приложил бинокль к глазам и долго вглядывался в сопки, раскинувшиеся от маньчжурского городка справа.
Вначале ему показалось, что Орлов ошибся. Вершины сопок были усеяны каменистыми валунами и их легко можно было принять за людей.
Филипп собрался уже сказать об этом Тихонову, но вдруг один из таких валунов приподнялся и быстро передвинулся в направлении границы. Задвигались и другие «валуны».
– Японцы там передвигаются, товарищ капитан, – сказал Егоров. Тихонову, видимо, не понравилось, что Егоров сказал все это нервным тоном, и он посмотрел на него укоряющим взглядом.
– Как, Орлов, могут они нас угостить артогнем? – обратился Тихонов к артиллеристу.
Орлов словно ждал этого вопроса. Он заговорил охотно, как говорят, впрочем, все специалисты своего дела, когда чувствуют, что их делом интересуются серьезные, основательные люди.
– На дороге Городок – артполигон показалась колонна войск, – прерывая негромкий говорок артиллериста, сказал наблюдатель.
Тихонов переглянулся с Орловым, кинул мимолетный, но значительный взгляд на Егорова и, подойдя к наблюдателю, прильнул к стереотрубе. Он смотрел в нее долго, несколько раз менял положение туловища и, зная, что Егоров и артиллерист с напряжением ждут его сообщений, вслух рассуждал о том, что видел:
– Так… Ясно… Движется второй эшелон… Склады, кухни, повозки с имуществом… Гм, вот вопрос: когда прошли основные силы?.. Ночью? Вчера? Сегодня? Симочкин, кто нес ночное дежурство? – спросил Тихонов, на секунду оторвавшись от своих наблюдений.
Услышав вопрос капитана, Симочкин вытянулся, прижимая руки к бедрам, доложил кратко, но по-военному исчерпывающе:
– Дежурил, товарищ капитан, я, боец Симочкин.
– Что было ночью?
– Ничего особенного. Раза три на дороге вспыхивали фары, но сразу же гасли. Время этих происшествий засечено и записано в журнале наблюдений.
– Хорошо, Симочкин, продолжайте наблюдать, – отходя от стереотрубы, проговорил капитан и подозвал к себе Егорова и артиллериста.
По узкому ходу сообщения они вышли из окопа и остановились неподалеку от него.
– Ну-с, обстановка ясная, – проговорил Тихонов, – утром могут начаться события…
7
Вечером на участке батальона Тихонова побывал генерал Разин. Он приехал на легковой автомашине вместе с комендантом укрепрайона полковником Дубовым. И генерал и полковник служили в этих местах пятнадцать лет и знали тут каждую сопку, каждый бугорок.
Случайно или намеренно, но произошло так, что вместо штаба батальона они попали прямо в роту Егорова.
Генерал и полковник осмотрели окопы роты, посетили наблюдательный пункт. Вскоре подоспел и капитан Тихонов, извещенный о появлении генерала по телефону. Тихонова генерал встретил дружелюбной улыбкой, говоря:
– Ты нас извини, капитан, что мы без тебя бродим по твоим ротам.
Тихонов в ответ на эти слова понимающе усмехнулся и, пожимая руку генералу, спросил:
– Как находите позиции этой роты, товарищ генерал?
– Позиции избраны правильно, и хорошо, что окопы полного профиля. У нас часто недооценивают это.
– Это молодой комроты постарался, – кивнув в сторону Егорова, проговорил Тихонов.
Генерал посмотрел на Егорова таким взглядом, в котором было сразу и что-то строгое и ласковое, и спросил его:
– Давно командуете ротой?
– Первый день, товарищ генерал.
Тихонов рассказал историю с назначением Егорова на должность командира роты. Генерал выслушал, посматривая то на Егорова, то на Тихонова. Потом все они направились к бойцам.
Работа по сооружению окопов была уже закончена, и бойцы отдыхали, наслаждаясь наступившей вечерней прохладой. Говорили все об одном и том же: нападут ли японцы на Советский Союз. Тринадцатого апреля в Москве Иосука Мацуока подписал от имени японского правительства пакт о нейтралитете Японии.
– Самураям верить ни на грош нельзя! – говорил Подкорытов, к голосу которого в роте прислушивались, потому что имел Прокофий за участие в боях на Халхин-Голе медаль с огненными словами «За отвагу».
Увидев приближающегося генерала, бойцы дружно поднялись и встали по стойке «смирно». Генерал спустился в один из окопов, сел на бруствер, сказал бойцам, чтоб и они сели.
– Ну, как, товарищи, жизнь, настроение? – обратился генерал ко всем сразу.
– А настроение такое, товарищ генерал, – полезет японец на нашу землю, мы всыплем ему, как когда-то всыпали на сопке Песчаная…
– На сопке Песчаная? Откуда вы ее знаете?
– А я служил, товарищ генерал, в той самой дивизии, которой вы на Халхин-Голе командовали.
– Вот оно как! Старый знакомый! Ну, жму руку! – проговорил генерал и долго тряс Подкорытову руку. Лицо генерала просияло, спокойные глаза повеселели, и чувствовалось, что ему эта встреча так приятна, что он готов обнять бойца. – Вот видел, полковник, какой народ идет к нам! С таким народом нам никакой микадо не страшен. С таким народом, полковник, ты знаешь, мы… – Генерал закашлялся, выпуская изо рта клубок дыма, и не договорил, что же можно сделать с таким народом, но этого и не требовалось: бойцы без слов поняли мысль генерала.
– Ну а ты еще не воевал? – спросил генерал с улыбкой, присматриваясь к Соколкову, юный вид которого не мог не поразить старого генерала. Соколков, обычно острый на язык и сообразительный, несколько растерялся:
– Не приходилось, товарищ генерал. По годам не выходило.
Генерал задымил трубкой, засмеялся, дружески или, скорее, по-отцовски потрепал Соколкова по плечу и принялся расспрашивать других бойцов – откуда, из каких мест они прибыли.
– Ты смотри, полковник, какой народ идет к нам! То инженер, то учитель, то студент, то председатель колхоза! Цвет народа, а?!
Генерал еще несколько минут поговорил с бойцами и поднялся.
– Тихонов, – обратился он к капитану, – ты вот что, на удобство своих позиций не надейся. Японцы мастера ночного боя. На Халхин-Голе они частенько этим нас допекали…
8
Тридцать лет прожил Филипп Егоров на белом свете, но такой ночи переживать ему не приходилось. Вскоре после того как уехал генерал, где-то за сопками, к западу от границы, послышался рокот моторов. Вначале у Филиппа шевельнулась мысль: уж не прорвались ли где-нибудь и не пошли ли в обход японские танки. Граница тут простиралась на многие сотни километров, и организовать ее оборону хорошо в одинаковой мере было немыслимо. Но скоро он успокоился: пришел Тихонов и сообщил, что это передвигаются на новые позиции наши танковые части. В дороге, продолжавшейся не один день, Егоров своими глазами видел сотни эшелонов, следовавших с востока на запад. Они шли с быстротой курьерских поездов и были загружены самолетами, пушками, танками и прочим военным имуществом. Если, несмотря на это, на востоке действительно что-то оставалось, то это означало, что правительство в свое время хорошо позаботилось о незыблемости советских восточных границ.
Близ полночи до расположения третьей роты донесся такой топот, что от него дрожала земля. Все бойцы всполошились. В кромешной темноте по неопытности можно было вообразить, что это, перемахнув границу, развернутым строем, с обнаженными шашками, скачет японская кавалерия.
Топот приближался и нарастал с каждой минутой. Когда из темноты прямо в район расположения роты вырвалось несколько всадников, Егоров переживал такое напряжение, что готов был отдать приказ об открытии огня. Он искренне обрадовался, услышав, как на окрик часовых, охранявших подступы к роте с тыла, послышалась русская речь. Он побежал к верховым узнать, что им нужно. Осветив кавалеристов ручным фонариком, Егоров увидел батальонного комиссара и с ним двух всадников в плащ-палатках. Батальонный комиссар спросил, как называется падь, за которой располагалась рота Егорова, и, ругаясь по поводу того, что кавалеристы уклонились в сторону, поскакал в темноту. Его молчаливые спутники со свистом замахали плетьми и помчались вдогонку. Вскоре топот замолк, и установилась тишина.
И если рокот моторов и топот лошадей рождал тревогу и заставлял усиленно работать воображение, то и тишина не принесла никакого успокоения.
Было уже, наверное, недалеко до рассвета, когда вдруг раздался глухой, но довольно мощный взрыв. Он произошел не близко, но до сопок, на которых сидел батальон Тихонова, докатился содрогающий землю гул.
«Ну вот и началось!» – подумал Егоров. В том, что это было начало войны, а не что другое, он теперь нисколько не сомневался. В эту минуту грозного события ему захотелось почему-то повидать Витю Соколкова. Невзирая на разницу лет, а теперь и на разницу в служебном положении, Егорова тянуло к этому пареньку. Он бросился во второй взвод.
– Витя… Соколков… – почти шепотом, но тоном, полным невыразимого и большого значения, проговорил Егоров.
Соколков с готовностью кинулся навстречу Егорову.
– Филипп Иваныч… Товарищ комроты… – Они обменялись в темноте крепким рукопожатием, и Егоров побежал на командный пункт.
– Комбат не звонил еще? – спросил Егоров телефониста, неотрывно сидевшего у телефона.
– Никак нет, товарищ комроты, – ответил телефонист и опять приложил трубку к уху.
Ответ телефониста изумил Егорова. Он был убежден, что за короткие минуты его отсутствия весь батальон пришел уже в движение и ему остается поднять свою роту. Но минуты текли, а все оставалось по-старому. Телефон попискивал, но звонка, того важного звонка от комбата, которого Егоров ждал не минутами, а секундами, все не было и не было.
После взрыва прошло не менее получаса, когда наконец полевой телефон запищал протяжно и взывающе. Егоров выхватил у телефониста трубку, притиснул к уху и замер как вкопанный: он узнал голос Тихонова.
Не слушая ничего, Егоров заторопился:
– Я «Ракета», я «Ракета»! – и приготовился выслушать то, что ему казалось уже неотвратимым. Но капитан звонил совсем по другому поводу.
– Ну, каков взрыв-то? Коза на наше минное поле забежала. Представляю, какой переполох сейчас у японцев… Почаще посты проверяйте, чтоб не задремал кто-нибудь…
Егоров отдал трубку телефонисту и засмеялся. Вот что значит неопытность! Недаром в армии любят повторять старую русскую пословицу: за битого двух небитых дают.
Только перед утром, когда сумрак стал понемногу редеть и Егоров почувствовал от непрерывных ожиданий усталость во всем теле, неожиданно телефон захрипел часто и требовательно.
– Вас, товарищ комроты, – проговорил телефонист, подавая Филиппу трубку.
Говорил Тихонов:
– Внимание, Егоров! Японцы начали продвигаться к нашей границе. Еще раз предупредите всех бойцов, что за стрельбу без команды – расстрел. И запрячьте всех до единого в окопы!
– Есть, товарищ капитан! – прокричал в трубку Егоров и бросился во взводы выполнять приказ капитана.
Прошло, пожалуй, не меньше часа, пока сумрак расползся по падям. Теперь не только в бинокль, а даже простым глазом Егорову хорошо было видно, как из распадков выползают колонны японских войск.
Когда основная часть людей, повозок и автомашин оказалась за пределами сопок, стало ясно, что это был пехотный полк со всеми приданными ему подразделениями. В конце одной из колонн двигались тупорылые пушки и несколько подвод с имуществом саперов и связистов. Глядя на стройные колонны солдат, на хорошо увязанные грузовики и повозки, на полевые кухни, дымившиеся синеватым кудрявым дымком, казалось, что японцы отправились в продолжительный поход и совершают его не у самой границы с Советским Союзом, а где-нибудь в глубине Маньчжурии, в полупустынной местности.
Но еще через полчаса, когда до границы осталось не больше километра, колонны начали дробиться, расползаться, и полк быстро развернулся в боевой порядок.
Отсюда, с советской стороны, наблюдали за всем, что происходило у японцев, с напряженным вниманием. Подкорытов лежал рядом с Соколковым, припав к ложу винтовки. Он лежал не шевелясь, упершись крепкими ногами в каменистый край окопа. Соколков слышал, как Подкорытов скрипел зубами и посылал длинные и витиеватые матюки в адрес японцев. Сам Витя, смотревший вначале на все, что происходило возле границы, лишь с мальчишеским любопытством, чувствовал, как с каждой минутой в его груди нарастает злоба и нетерпение. Василий Петухов, разместившийся от Соколкова справа, то и дело прикладывал свою винтовку к плечу и с каким-то сожалением опускал ее, вздыхая шумно и глубоко.
Егоров ощущал сейчас полное спокойствие. На душе была ясность, позволяющая думать трезво и о себе, и о людях, во главе которых он был поставлен.
Мысль о смерти шевельнулась в его сознании, но не показалась страшной. «Чем же ты лучше тех, которые сегодня, как и вчера, умирают там, на западе? Ты во всем – и в правах и в обязанностях – равен с ними».
А японцы все приближались к советской границе. Глядя, как они смешно покачиваются на своих коротких ногах, малорослые, согнувшиеся под тяжестью походной амуниции, словно нацеленные одной невидимой рукой, Егоров с гневом припоминал сообщения газет о пограничных конфликтах. «Что им надо? Что им надо? Сколько лет они не дают нам покоя? Открыть по ним огонь и… в трибунал», – подумал он. Но сознание его не перешло еще той грани, за которой оно уже не в состоянии бывает управлять поступками человека. Очень кстати протяжно запищал телефон.
– Еще и еще раз, Егоров, предупредите бойцов, – кричал Тихонов в трубку, – за самовольную стрельбу – вышка, да, да… и вам тоже вышка…
Голос Тихонова был совсем не обычный – спокойный и вразумляющий, а какой-то клокочущий, с визгливыми подголосками, словно кто-то сжимал ему горло. Егоров понимал, какие чувства теснились в душе капитана. Разве таким бы голосом прокричал он в трубку, доведись ему отдавать приказ об открытии смертоносного огня по этим копошащимся цепям японцев? Нет, у него нашлись бы и голос, и воодушевляющие слова. Но не от него ли, не от Тихонова ли, слышал Егоров фразу: «Мацуока? Вы бросьте в подпись Мацуоки верить. Верьте в себя. Мир на востоке больше теперь зависит от нас. Японец надеется, что мы тут ослабеем. Будет брать нас на испытку. Пусть обманется!»
«Пусть обманется! Да… Если это провокация – нас не спровоцируешь, ну а всерьез если, не жалей, Егоров, живота своего», – сказал сам себе Филипп. Он побежал по траншеям. Предупреждение Тихонова было своевременным. Вид у бойцов был настолько настороженным, взгляды их выражали такое беспокойство и в то же время решимость, что выстрел в японцев мог произойти в любое мгновение.
– Шлёнкин! Ты куда целишься?! – закричал Егоров, увидя, что боец приложился к винтовке и тщательно наводит ее на какую-то цель.
Шлёнкин нехотя оторвался от винтовки, виновато улыбаясь, сказал:
– Примеряю, товарищ комроты.
– Оставьте, если не хотите, чтоб я вас наказал, – сердито бросил Егоров и побежал в третий взвод.
А японцы продолжали продвигаться вперед. Вот до границы осталось двести, сто метров, пятьдесят, а они все шли и шли. Вот они вступили на узкую нейтральную полосу. Теперь до советской границы оставались считанные шаги.
Вдруг японцы остановились и замерли.
Не менее четверти часа они стояли без движения. Можно было подумать, что они совершают какой-то религиозный обряд, ради которого шли сюда. Но вот крайние зашевелились, задвигались, и тотчас вся равнина ожила: зафыркали лошади, загудели грузовики, засуетились на своих коротких ногах маленькие, смешные человечки.
Японцы двинулись, но двинулись не на русскую землю, а вдоль нее, по самой кромке границы. Они шли все так же медленно, шли до самых сопок, замыкавших равнину высокой стеной.
Когда сопки преградили им путь, они вновь построились в колонны, и эти колонны, похожие издали на извивающихся змей, поползли по распадкам к востоку.
9
После этого случая еще трое суток просидел батальон Тихонова на сопках вблизи границы. Японцы больше не появлялись, но разве можно было поручиться за то, что они не появятся и не вздумают углубиться на святую, политую потом и кровью многих поколений, прославленную и в трудах и в битвах, древнюю, но вечно юную русскую землю?!
Положение на советско-германском фронте с каждым днем осложнялось. Уже шли бои под Смоленском, враг блокировал Ленинград, на юге немцы осаждали Киев, Одессу, Севастополь. В ожидании сигнала большой войны против Советского Союза японская военщина дрессировала свои отборные банды на провокациях и пограничных стычках.
В те незабываемые дни августа – сентября сорок первого года на всем огромном протяжении советско-маньчжурской границы была отмечена особая активность японцев. Это никак не вязалось с выступлениями официальных государственных деятелей в Токио, которые продолжали ссылаться на верность пакту о нейтралитете с Советским Союзом. Советское командование, каждодневно видя действительную цену этим заявлениям, принуждено было увеличить в Забайкалье численность войск, ускорить их обучение, начать подготовку к зиме, что являлось делом настолько сложным и трудным, что оно одно, само по себе, требовало от советских воинов подвига.
Дни томительного сидения на границе всем надоели, и потому, когда батальон Тихонова вернулся в падь Ченчальтюй, бойцы с большой охотой принялись за земляные работы.
Хотя войны с японцами пока не случилось и бойцам не пришлось побывать в обстановке боя, пережитые дни как-то сразу сплотили всех, и батальон, созданный всего лишь несколько дней назад, производил уже впечатление сколоченного, повидавшего виды, поевшего немало солдатской каши и выпившего немало крепкого, прозванного чаелюбами «строевым», чая. Правда, бойцы батальона все еще не умели правильно поворачиваться кругом, нечетко докладывали командирам об исполнении приказа и на сборку оружия затрачивали времени в два раза больше, чем старослужащие красноармейцы. Но выход на границу в полной боевой выкладке был первым серьезным испытанием молодых воинов.
– Что ж, японцев мы теперь в глаза повидали, коли полезут на нас, нам с ними легче будет управиться, – говорили в батальоне.
Стояли знойные, необычайно длинные дни. Небо было таким высоким и прозрачно-голубым, что не верилось, будто когда-нибудь на нем могут появиться тучи, из которых забрызжет живительной влагой долгожданный дождь. В полдень над степью воцарилось такое спокойствие, такая тишина, что цепенели даже легкие, как пушинка, стебельки сизоватого ковыля. В пади Ченчальтюй, окруженной высокими сопками, температура в середине дня поднималась до шестидесяти градусов. Трава на склонах сопок выгорела, и земля зияла зигзагообразными трещинами. Временами в воздухе становилось так сухо, что люди хватались за грудь, не в силах дышать. Несколько бойцов-узбеков, попавших в батальон Тихонова по нарядам военкоматов Средней Азии, щурясь на солнце, вспоминали свою родину, смеясь над тем, что Сибирь, рисовавшаяся их воображению страной льдов, оказалась не менее щедрой на тепло, чем их благодатная Фергана.
Работать в такую жару было почти невыносимо, но не работать было нельзя. Вышестоящий штаб предписывал быстрее закончить сооружение землянок, клуба, гаража, складов и приступить к усиленной боевой учебе. Но сделать все это было невероятно трудно. Леса для строительства почти не было, его едва-едва могло хватить на поделку дверей, окон и настил крыш. Все остальное нужно было ухитриться сделать из земли и камней.
Целую неделю батальон Тихонова работал не щадя сил. Люди не то что не замечали жары, нет, не замечать ее было невозможно, так как солнце жгло немилосердно, – они уже втянулись в работу. Всех мучила жажда. В такой зной хотелось пить и пить бесконечно. Вода же выдавалась строго ограниченно – две фляги на день. Введение пайка на воду вызывалось не только соблюдением правильного питьевого режима, от чего во многом зависело состояние здоровья людей, – воды было вообще мало. Ее возили на лошадях из полевого колодца, расположенного от батальона в двух километрах. Вода сочилась из-под земли настолько медленно, что за ночь ее набиралось не больше четырех-пяти бочек. Больше половины забирала кухня, остальное делили между людьми и оставляли для лошадей и грузовика. А ведь кроме всего этого людям надо было умываться, стирать портянки, гимнастерки, носовые платки. О купании даже и не поминали – это было недосягаемой мечтой.
К концу недели вся черновая работа по отрытию котлованов была закончена. Тихонов обошел все котлованы, осмотрел их и остался доволен: бойцы потрудились на славу – котлованы были емкие, вместительные, возле них лежали груды земли, щебня, песка. Сюда же на машине и подводах подвозили глину, найденную в одном из распадков, неподалеку от расположения батальона.
Среди бойцов оказались бывшие строители – печники, каменщики, штукатуры, и они, посовещавшись с капитаном, принялись месить глину, подбирать камень, годный для кладки печей и стен, трамбовать полы.
Дня через два-три у некоторых землянок были выложены стены, и печники заложили основания для печей. По подсчетам Тихонова, требовалась еще неделя упорного труда, чтобы считать наконец всю работу законченной. Хотя этот срок и превышал тот, что был установлен вышестоящим штабом, все-таки окончание строительных работ было серьезной победой батальона.
Но все произошло не так, как думал Тихонов, не так, как планировал в своих бумагах штаб, и не так, как того хотели сами бойцы.
Прекрасной бывает забайкальская холмистая степь в час восхода солнца. Освеженная ночной прохладой, даже в знойную погоду она расстилается волнистым зеленым ковром, похожим при первых ломких солнечных лучах на море, неровные, пенящиеся волны которого катятся, догоняют одна другую и никак не могут догнать. В этот час скудная, наполовину выгоревшая растительность степи кажется богатой и обильной – ступи на нее ногой, и нога утонет в этой мягкой зеленой мураве.
Высокое и ярко-голубое, без единой тучки, просторное небо ласково – смотри на него час, другой и ни за что не насмотришься.
Как ни тихо бывает в это время по распадкам, по самой низине невесть откуда движется невидимый, ощутимый только кожей, поток свежести, которая приятно щекочет тело, врывается в легкие и вселяет в душу радость жизни.
Утренний подъем в батальоне Тихонова в этот день протекал дружно, организованно, уже без той неразберихи и суетни, которые непременно сопутствуют новым армейским подразделениям в первые дни их существования.
После пробега по подножию сопки и гимнастических упражнений бойцы принялись за умывание. Умывальники не были еще устроены, и бойцы поливали друг другу из стеклянных фляжек, запрятанных в парусиновые чехлы. Воды на умывание отпускалось очень немного, и потому ее расходовали бережно, стараясь использовать каждую каплю с большей пользой.
Наступал новый день… И как ни трудно было жить и работать в такой зной, при таких сжимающих острой болью сердце известиях с фронта, все-таки наступление нового дня встречалось шумной радостью. По всей пади Ченчальтюй слышался смех, плеск воды; человеческие голоса сливались с нарастающими с каждой минутой трелями жаворонков, которые пели так рьяно, с такой страстью, что казалось, звенит сам воздух.
Тихонов поднимался вместе с батальоном. Он вышел из своей палатки, где временно размещался и штаб, и, пройдя шагов пятнадцать – двадцать, остановился, чтоб сделать утреннюю зарядку. Сбросив с себя нижнюю рубашку, он взмахнул раз-другой руками и опустил их, испытывая какую-то неловкость внутри. Тихонов принюхался к воздуху, закинув голову, посмотрел на небо. В воздухе витали какие-то новые запахи, напоминающие запах припаленной шерсти. Небо было, как обычно, ясным и высоким, только на юго-западе, над самым горизонтом, мутным пятном висела лохматая, похожая на непричесанную женскую голову, туча.
Тихонов подпрыгнул, широко разбрасывая ноги, и замахал руками, стараясь освободить грудь от этой неловкости, мешавшей ему дышать глубоко и свободно.
Вскоре подошел Власов. Он был в одних трусах, и его полное, коричневое от загара тело, освещенное ранним солнцем, поблескивало, словно лощеное.
– Кажется, на дождь повернет, дышится тяжело, – сказал Тихонов, когда Власов встал с ним рядом и, отбиваясь от комаров, принялся размахивать руками и ногами и крутить головой. Но Власов был гораздо моложе Тихонова, и ему еще не было дано этой способности чувствовать приближение перемен в природе. Он промычал в ответ на слова капитана что-то неопределенное и, изогнувшись так, что тело его изобразило букву Г, начал проделывать руками легкие, пластичные движения. Потом Власов, вытянув вперед свои сильные руки, упрямой бычьей походкой пошел на Тихонова, и они, сцепившись, пытались то поднять друг друга, то столкнуть с места, то повалить на мелкий, будто просеянный сквозь сито, песок.
После завтрака батальон приступил к работе. Тихонов подписал кое-какие бумаги, заранее приготовленные Власовым, исполнявшим временно должность адъютанта старшего, и направился к котлованам. Ощущение неловкости в груди не проходило, и он впервые с тоской подумал: «Старею, что ли?»
А день уже разгорался, набирал силы. Час от часу воздух становился гуще, горячее, и по тому, будто окаменевшему спокойствию, которое царило над землей, чувствовалось, что день будет небывало знойным и тяжким.
Но часов в десять утра вдруг над одной из сопок поднятый вихрем взметнулся в небо столб рыжей степной пыли. Он с легкостью и стремительностью пронесся по горбатому хребту сопки, перескочил на другую сопку и, промчавшись по ней, рассыпался в воздухе на несколько бешено крутящихся мячей.
Еще через пятнадцать – двадцать минут эти мячи запрыгали по всей степи. Воздух сразу заполнился мельчайшей пылью, и вокруг стало серо и сумрачно. Желтое, лучащееся солнце поблекло и вскоре приобрело цвет жженого кирпича. Теперь становилось буквально нечем вздохнуть. Поднятая вихрем пыль лезла в глаза, забивала ноздри, хрустела на зубах.
Многое уже повидали бойцы батальона Тихонова за те недолгие дни, которые провели в Забайкалье, но то, что совершалось сегодня, было им еще в новинку. Они не знали, что этот сухой ветер, перемешанный с пылью, является страшным предвестником надвигающихся монгольских суховеев. Если внезапно не прорвется сюда дождь и не приостановит это горячее дыхание раскаленной степи, суховеи будут дуть неделю, две, месяц. Они испепелят землю, поднимут в воздух тонны песка и будут кружить его, бросать, наметая серые сугробы; они будут с остервенением хлестать людей по лицам, рассекая до крови кожу и забиваясь в глаза. А солнце будет жечь по-прежнему, и при температуре в шестьдесят градусов вся эта взбаламученная степь станет настоящим адом.
Тихонов подозвал Власова, и тот, подходя еще, заговорил о том же, о чем собирался сказать капитан:
– Суховеи начинаются, товарищ капитан. Беда, если надолго.
– Да-а, – протянул Тихонов, пожевав губами, и, помолчав, озабоченно спросил: – А как у нас, Власов, колодец плотно закрыт, не забьет его песком, не останемся мы в эту чертову погодку совсем без воды?
– Я уже послал туда, товарищ капитан, старшину третьей роты с двумя бойцами, приказал им закрыть колодец плотно досками, а на доски положить побольше камней, чтоб не унесло их ветром.
– Воды, Власов, надо с завтрашнего дня прибавить бойцам. Выдавайте три фляжки. Иначе можем погубить людей. Раз в сутки посылайте грузовик на разъезд. Пусть привозят оттуда.
– Горючего, товарищ капитан, нету. Осталось полтонны мобзапаса.
– Мобзапас не трогайте. Японцы полезут, а нам не на чем будет боеприпасы подвезти. Сократите расходование воды на кухне. Повара льют воду когда надо и не надо.
Тихонов собирался что-то сказать еще, но налетевший вихрь с таким ожесточением ударил его по лицу, что он весь сжался, не замечая даже, как новый порыв ветра сорвал с него фуражку и понес ее по распадку.
Власов, закрывая глаза ладонью, кинулся за фуражкой и, быстро нагнав ее, придавил ногой. Тихонов стер пыль с загоревшего, красно-медного лица, проморгался; отфыркиваясь и отдуваясь, поспешил за Власовым. Приняв от младшего лейтенанта фуражку, Тихонов нахлобучил ее до самых глаз. Они постояли еще минуту-две, весело и заразительно хохоча над происшедшим, и направились разными дорогами: Тихонов – на кухню снимать пробу с обеда, а Власов – в первую роту, заступающую в этот день в наряд.
А ветер не только не унимался, а все больше и больше нарастал. Когда бойцы пришли на обед, степь уже кипела от множества вихревых столбов и скачущих рыжих мячей.
Надо было обладать большой хитростью, чтоб суметь пообедать в такую погоду, не накормив себя вдоволь пылью и мелкой галькой, которая при каждом порыве ветра взлетала в воздух с легкостью птичьих перьев.
Шлёнкин и Соколков ели из одного котелка. Шлёнкин растянулся на земле, поворачивался и так и этак, стараясь своим крупным телом отгородить котелок от ветра. Но это ему не удавалось. Ветер вздымал пыль то позади него, то впереди, то где-то сбоку, и Шлёнкин, отчаявшись, перестал наконец крутиться и принялся за еду, ворчливо бубня:
– Сведут меня в этом распрекрасном месте в могилу… У меня ж язва желудка начиналась. Три раза от системы путевки на курорт получал. Вот, пожалте, камень какой занесло! Ты смотри, Соколков, в нем свободно двадцать граммов будет. Попадет такой в пищевод, и заказывай, Шлёнкин, поминки…
– И что ты так за свою жизнь дрожишь, Шлёнкин?! В такое время люди подороже тебя погибают, – сказал Соколков, зная, что Шлёнкин рассердится и понесет о своих заслугах перед «системой», которые здесь, в армии, и знать даже не хотят.
Что касается его, Соколкова, то он чувствовал себя прекрасно. Чем труднее становилось жить на границе, тем все сильнее и сильнее душа его рвалась навстречу трудностям. Тогда, в обороне, когда японцы вышли побряцать оружием, Соколкову хотелось, чтоб они пошли дальше, чтоб наши части зажали их в тиски и показали, как играть с огнем. Правда, в отличие от некоторых других бойцов, которым потом комроты дал по пять нарядов вне очереди, Соколков не высовывался из окопа посмотреть на японцев, он не примерял своей винтовки к живой цели, послушно сидел в окопе, ожидая команды, но в душе его не было никакой робости, и он рвался в бой всем своим существом.
Изнурительные земляные работы под знойным солнцем утомляли его не меньше других, но он не переставал тянуться к чему-то более трудному и по-прежнему был весел, деятелен и жаден до жизни. Начавшиеся суховеи не испугали его. Это было новое, а все неизведанное влекло его, захватывало, как интересный роман. Дома и в школе, в пионерском отряде и в комсомольской организации его приучили не бояться трудностей, интересы общества, государства, товарищей ставить выше своих личных интересов. И он следовал этому всюду и во всем, потому что иначе поступить не мог.
Отец Соколкова был старым партийным работником. То секретарем райкома, то парторгом ЦК на стройках он исколесил самые отдаленные уголки страны. Покончив с одним строительством, он ехал на другое. Назначая его на новый пост, ему рассказывали о трудных условиях работы где-нибудь в Норильске, или в Бодайбо, или в Комсомольске. Он внимательно выслушивал и с шутливой серьезностью спрашивал: «Ну а советская власть там есть? Советские люди там есть? Есть?! Так в чем же дело? Выписывайте путевку!»
После этого, возбужденный, громогласный, он являлся домой и с порога еще радостно кричал своим пятерым сыновьям-погодкам, старшим из которых был Викториан: «А ну, братва, собирайся в поход!» Жена только руками всплескивала: «И что тебе не сидится на месте? Едва-едва обжились тут». И Соколковы ехали, порой по месяцу, по два, ехали на всех видах транспорта, начиная от самолета и кончая вихреподобной упряжкой быстроногих оленей, прежде чем попадали к месту назначения.
И Витя своим детским чутким сердцем познавал ту великую правду, в которую отец его верил необоримо, всей силой своей страстной души: была бы советская власть, были бы советские люди, а жизнь, жизнь не может не быть увлекательной.
К тому же он был романтик, этот бывший студент и молодой воин, Викториан Соколков! Он жил, учился, работал, будучи чуточку то Павкой Корчагиным, то Левинсоном, то Фурмановым, то Чапаевым, смотря по обстоятельствам.
Сейчас, когда нещадно жгло солнце и в степи буянил суховей, он воображал себя немножко Пржевальским, пересекающим необозримые, безводные пространства Азии, или тем ученым из кинокартины с позабытым названием, который проник в Каракумы, исследовал их и создал в песках волшебные зеленые оазисы. Ученый сотворил это чудо пока на экране, это была еще его мечта. Ну что ж! Витя хотя и прожил немного, но не раз своими глазами видел, что в его время и в его стране мечта, самая смелая мечта, могла быстро стать живой реальностью.
И потому ему было смешно и забавно слышать брюзжание Шлёнкина. Вначале Соколкова это так злило, что он не мог спокойно разговаривать с товарищем, теперь же Шлёнкин со своей непомерной заботой о самом себе вызывал у него веселую усмешку и желание подтрунивать над ним.
– Ты вот, Шлёнкин, расскажи лучше, как в «системе» банкеты устраивал? Гляди, вспоминая, и покушаешь в свое удовольствие, – заливаясь звонким, веселым, мальчишеским смехом, говорил Соколков. Маленькое, в веснушках лицо его облупилось от солнца и было пестрым, как сорочье яйцо. Ясные глаза лучились, и в них было столько жизни, столько радостного, буйного веселья, что казалось, будто оно, это веселье, каскадами искр брызжет из его глаз.
Шлёнкин, конечно, понимал, что Соколков часто разговаривает с ним в ироническом тоне. Но черт с ней, с иронией, пусть бы только слушали его рассказы о том благословенном и невозвратном времени, когда он, Терентий Шлёнкин, тоже кое-что значил!
– Вот, Витя, когда я работал в «системе», приехал к нам однажды представитель из Москвы, из главка, – заговорил Шлёнкин. – Дела у нас шли неплохо, и после ревизии наш управляющий решил дать в честь столичного представителя банкет. Для этой цели я, как главный распорядитель вечера, откупил малый зал ресторана «Золотая тайга». Вот это был банкетик! Чего только не было на столах!
Тут красивый, грудной басок Шлёнкина перешел почти на шепот, и он с таким увлечением стал расписывать убранство столов, обилие блюд, разнообразие вин, что и в самом деле забыл о бесновавшейся песчаной пурге и зное, который становился уже совершенно непереносимым.
Повествование Шлёнкина было вдруг прервано резким возгласом капитана Тихонова:
– Кончай обедать, надвигается ураган!
Бойцы и командиры, сидевшие возле котелков, вскочили. Из-за горизонта к зениту, к помутневшему в месиве песчаной пыли солнцу, быстро поднималась туча. Она поднималась так быстро, что казалось, будто кто-то подталкивает ее снизу. Туча была черной и походила на обугленную степь после прогулявшегося по ней весеннего пала. Рваные края тучи напоминали гигантские лапы сказочного чудовища, которые то сжимались, то вытягивались, как бы в поисках добычи. Вокруг тучи кипели, как вода в котле, синие с белесоватым оттенком небольшие облачка. Ветер стал на короткие промежутки стихать, но после затишья срывался, как бешеный, и дул с такой силой, что в воздух взлетали даже камни. Теперь по степи носились не рыжие мячи, как было полчаса назад, а огромные, похожие на высокие каменные стены, шатры. Когда они, поднявшись с земли, в стремительном беге неслись по простору, мерк белый свет; солнце, не перестававшее гореть густо-оранжевым огнем, скрывалось за этими шатрами, и сумрак покрывал степь.
Тихонов собрал командиров рот и взводов. Правда, и командиров-то было раз-два и обчелся. Надо было, не теряя ни одной минуты, закрыть плащ-палатками оружие, боеприпасы и продовольствие, укрепить палатки, в которых находилась штабная переписка и кое-какое штабное имущество. Уж кто-кто, а он, Тихонов, знал, что коли приходится лихо от сухой пурги, то не приведи бог, если в этакий ветер хлынут с неба потоки воды.
Командиры тотчас же развели подразделения по указанным местам. Но было уже поздно. Разрывая черную тучу, вспыхнула ослепительно-ярким зелено-голубым светом молния и раздался такой удар грома, будто все небо, весь песок и камень, поднятый ветром, с невообразимой тяжестью рухнули на землю. Земля задрожала и заколыхалась, словно этот удар выбил ее из орбиты, и она полетела куда-то в преисподнюю. Люди, ослепленные молнией и оглушенные ударом, упали на землю, сжимаясь и стремясь быть поближе друг к другу.
Егоров шел во главе своей роты, но и он, подчиняясь тому же чувству самосохранения, которое испытывали все бойцы, кинулся на землю. Через несколько секунд он приподнялся, но раздался новый удар грома, еще более оглушающий, и Егоров вновь опустился на траву. Больше он уже подняться не мог: не хватало сил. Теперь вспышки молнии следовали одна за другой, а удары грома слились в протяжный грохот. Молнии блистали совсем близко, над головами, и у каждого было такое ощущение, что чуть приподнимись – и молния ударит прямо в тебя.
Через минуту-другую в грохот, который расстилался по всей степи, вторгнулся заунывный, все нарастающий шум – приближался ливень.
Заслышав этот шум, Филипп понял, что для дела, на которое их послал капитан Тихонов, остаются минуты. Он решил подняться, каких бы усилий ему это ни стоило. Вскочив на ноги, Егоров почувствовал от первой же вспышки молнии мерцание разноцветных радуг в глазах. Протирая глаза пальцами, чтоб скорее освободиться от цветового ослепления, он приказал роте подняться. Но бойцы и без этого приказа, заметив, что он встал, начали вскакивать с земли.
Преодолевая свирепые удары ветра, подавляя в себе страх перед непрекращающимися взблесками молнии и грохотом грома, бойцы бросились на косогор, намереваясь собрать все имущество в кучу. Но неожиданно подоспел капитан Тихонов.
– Отставить! Выгружайте все, что в котлованах, на косогор, иначе затопит водой. В первую очередь взрывчатку, боеприпасы, продукты.
Эти последние слова Тихонов выкрикнул откуда-то со стороны. Его самого уже не было видно. Плотная, как темная материя, непроницаемая, как осенняя ночь, песчаная завеса поглотила его, и он исчез в ней, словно распался на такие же скачущие и вертящиеся песчинки.
А шум ливня все приближался. Дождь бушевал уже за соседними сопками. Прошло еще несколько минут, и ливень передвинулся в падь Ченчальтюй. Вернее, он не передвинулся, а ворвался с необузданной, все сокрушающей силой. На падь Ченчальтюй хлынули с неба такие потоки воды, будто все реки неожиданно переместились с земли на небо и, не удержавшись там, ринулись на поиски своих прежних русл. Потоки воды падали с такой силой, что люди сгибались под их тяжестью. В несколько минут в пади образовалась быстрая, непокорная, похожая на горный водопад, речка. Котлованы также быстро стали наполняться водой, и в некоторых из них всплыли чемоданы, бумаги, тряпки.
Рота Егорова, как и весь батальон, не щадя своих сил, спасала прежде всего то, без чего не могла она существовать тут, возле границы, рядом с японцами, – свое оружие и боеприпасы. Часть ящиков была уже перенесена из котлованов, но там еще оставалось немало патронов, запалов для гранат и весь запас мин. Воды в котлованах было теперь уже столько, что нужно было погрузиться в нее с головой, чтоб вытащить ящик, или мешок, или тюк.
В первые же минуты бедствия нашлись смельчаки, бросившиеся в котлованы, наполненные водой. Это были Соколков, Подкорытов и расторопный, всегда молчаливый и застенчивый, а потому и менее заметный, чем другие бойцы, Леша Симочкин, в прошлом сельский маслодел из Омской области.
Вскоре с дождем начал падать крупный, размером с голубиное яйцо, град. Он так больно хлестал по лицу, что невольно хотелось укрыться в щель. Но укрыться было негде. То и дело скрываясь под водой, Симочкин выволакивал на поверхность то ящик, то узел, то тюк. Он делал это ловко, быстро, и можно было лишь подивиться тому, откуда у этого юноши берется столько силы. Бойцы, стоявшие на краю котлована, моментально подхватывали то, что Симочкин доставал из воды, и выносили на косогор. По соседству с котлованом, в котором трудился Симочкин, так же горячо работали Соколков и Подкорытов.
Даже Шлёнкин, неповоротливый, медлительный Терентий Шлёнкин, сопя, как буйвол, был захвачен водоворотом всей этой жаркой работы и выказывал такое проворство, что совершенно был не похож на себя.
Вода в котлованах прибывала с каждой минутой. Она падала теперь не только из тучи. Ручьи, катившиеся с сопок, местами проточили стенки, возведенные из земли и камня, и с шумом наполняли котлованы.
Котлован, в котором находился Симочкин, наполнялся особенно быстро. Чтобы не наглотаться воды, Симочкин вытягивался, запрокидывал голову.
– Симочкин, держите веревку и выбирайтесь наверх! – крикнул капитан Тихонов, успевавший в эти короткие минуты побывать во всех ротах. Симочкин погрузился в воду с головой, выволок со дна котлована еще один тюк. Бойцы подхватили тюк и вынесли на косогор.
В это время, размытая дождевыми струями, острыми, как буравчики, в котлован рухнула метровая стена, сложенная из тяжелого степного булыжника. Симочкин сделал усилие освободиться от тяжести и подняться. Но это было свыше человеческих сил.
Егоров схватился за веревку и, скользя по ней, прыгнул в котлован. За ним поспешили несколько бойцов. Захлебываясь и отфыркиваясь, они принялись высвобождать Симочкина из-под камней.
Когда наконец они подняли его из воды и бойцы, находившиеся вверху, вместе с Тихоновым бережно приняли Симочкина из котлована, он был уже недвижим.
Ливень быстро прекратился. Молния блеснула еще раза два-три, но уже прежней силы в ней не было. Раскаты грома тоже стали менее грозными и оглушительными. Туча поспешно уходила к востоку. Только по-прежнему буянила катившаяся по распадку мутная, с шапками желтой ноздреватой пены река дождевой воды.
Ничто – ни нашатырный спирт, ни искусственное дыхание, ни другие меры, к которым поочередно прибегал батальонный лекарь-санитар, заменявший отсутствовавшего до сих пор врача, помочь уже не могли. Симочкин лежал мертвый.
Весть о его гибели моментально донеслась до других рот. К котловану, возле которого лежал в мокрой, испачканной грязью одежде Симочкин, потянулись со всех сторон уставшие, взволнованные известием бойцы. Гроза уходила все дальше и дальше, и над степью вновь засияло солнце, щедро разбрасывая свои лучи. Возле тела Симочкина собрался весь батальон. Подвиг бойца пересказывался теперь на сотни ладов.
Только один человек не принимал участия в разговоре – комбат Тихонов. Он стоял возле тела Симочкина, стиснув челюсти, и, ни на секунду не отрывая глаз, наблюдал за тем, что делал санитар. Он еще верил, что Симочкина можно вернуть к жизни. Всякий раз, как только отчаявшийся санитар делал попытку подняться, считая все конченным, Тихонов так выразительно на него взглядывал, что тот в безмолвии вновь опускался к Симочкину.
– Кончился он, товарищ капитан. Кончился, должно быть, еще в котловане, – проговорил наконец санитар, решительно вставая.
Тихонов пристально посмотрел на санитара, медленно перевел взгляд на Симочкина, и в этом взгляде отразились все чувства, обуревавшие его душу: скорбь командира, отцовская нежность и волевая собранность пожившего и повидавшего виды человека. Тихонов не спеша, широким движением руки, в котором было что-то и торжественное и скорбное, снял с головы мокрую фуражку и словно застыл в неподвижности. Бойцы заметили это. Разговор сразу смолк, и они обнажили головы, сняв свои испачканные грязью и набухшие водой защитные матерчатые пилотки.
В тишине, наступившей так внезапно, вдруг кто-то негромко, по-видимому против своей воли, всхлипнул. К горлу Тихонова подступили спазмы, и он почувствовал, что должен что-то сказать.
– Алексей Симочкин, мы тебя никогда не забудем! – глухо проговорил он. – Ты погиб, как настоящий герой и воин. Ты пал первой нашей жертвой в борьбе с ненавистными японскими самураями. Это они, – возвысив голос, продолжал он, все так же сурово глядя в пустоту, – вынуждают нас жить в этой безлюдной степи, зарываться в землю, переносить неслыханные тяготы. Клянемся, что, когда пробьет час нашего возмездия, мы отомстим врагу за твою смерть сполна!
Тихонов опустил голову, и только желваки, игравшие на медных от загара щеках, выдавали его волнение. Бойцы тоже склонили головы, и опять стало так тихо, что было слышно, как дышат люди.
Вдруг послышался лошадиный топот. Все подняли головы, повернулись и увидели, что по косогору скачут два всадника в фуражках с зеленым верхом. Это были пограничники. Лошади, на которых они ехали, были взмылены и до самого брюха вымазаны грязью. Плащ-палатки, висевшие на всадниках, были мокрые, и это говорило о том, что они выехали сюда в самый разгар урагана. Какая нужда погнала их в неурочный час?
– Егоров, – приказал Тихонов, – перенесите Симочкина к штабной палатке и поставьте караул.
Сказав это, Тихонов сделал несколько шагов навстречу всадникам.
– Чем обязан вашему появлению, товарищи? – крикнул он, испытывая нетерпение.
– Помощь нужна, товарищ капитан, – ответил, подъезжая, один из пограничников. – В ураган перешла границу большая группа диверсантов. Часть мы перестреляли, но некоторым удалось скрыться в сопках. Надо выставить заслоны и прочесать местность.
Тихонов встрепенулся. Повертываясь к бойцам, которые все еще стояли около Симочкина, звонко крикнул:
– Тревога!
10
Пополнение командиров прибыло гораздо скорее, чем предполагал Тихонов. Для каждого думающего человека это был хороший признак: как, мол, ни тяжело на фронтах, а военная машина пущена на полный ход. Она все теперь по-хозяйски учтет, все силы сгруппирует, каждого возьмет на заметку, наставит на дело, которое сольется с общими усилиями народа.
Среди прибывших в батальон были: комиссар батальона Буткин, светло-русый, сероглазый, невысокого роста, с худощавым лицом, на котором расползались глубокие морщины и складки, говорившие, что легкое поджарое тело и быстрая походка комиссара обманчивы и лет, трудных, пестрых лет, прожито им значительно больше, чем можно дать на первый взгляд; старший лейтенант с поэтической фамилией Синеоков и с очами действительно синими и мечтательными; лейтенант Королев, высокий, стройный, с пушистыми завитками усов, и черный, будто накопченный в таежном дыму, с угрюмым взором черных глаз, политрук Батраков.
Синеоков и Королев были кадровыми командирами, и их направили в батальон командовать ротами, а политрука Батракова назначили уполномоченным особого отдела.
Вместе с Буткиным в батальон прибыли двое старшин, командовать взводами, и человек семь сержантов, посланных в распоряжение Тихонова. Кого по-прежнему недоставало, так это врача – начальника санитарной части батальона.
Когда прибывшие командиры, выстроившись по ранжиру, представились комбату, Тихонов изумленно проговорил:
– А где же врач? Почему врача нам не присылают?
Но из прибывших никто этого знать не мог. Назначением врачей ведало совсем другое управление штаба – санитарное. Командиры промолчали, а Тихонов, как бы спохватившись, сказал:
– Ну что ж, товарищи, будьте как дома. Рад, что прибыли. Если не возражаете, то охотно проведу вас по расположению батальона, покажу вам, чем мы богаты.
Все согласились. Тихонов помедлил секунду-другую, прикидывая, с чего начать обход батальона, и, вспомнив о младших командирах, ждавших в стороне, когда комбат займется ими, велел подозвать их.
Старшины и сержанты оказались как на подбор: рослые, подтянутые, собранные. Они так лихо козыряли Тихонову, так ловко это у них получалось, что старый служака невольно улыбнулся. За последнее время, когда в армию нахлынуло много людей необученных, не знающих даже элементарных правил армейского порядка, настоящая строевая выправка, которой отличались приехавшие старшины и сержанты, не могла не броситься ему в глаза.
– Да откуда вы такие взялись?! – не утерпев, воскликнул Тихонов.
– Мы только что окончили курсы подготовки младшего комсостава по сокращенной программе полковых школ, – проговорил один из сержантов, на котором все обычное солдатское обмундирование сидело как-то по-особенному ловко. Тихонов присмотрелся к сержанту: карие глаза его были быстрыми, цепкими, движения пластичными. «Спортсмен», – про себя отметил Тихонов и, попытавшись на глаз определить возраст сержанта, в недоумении опустил голову. Сержант был моложав, по-юношески поджар, но по каким-то незримым признакам, по манере смотреть в упор Тихонов понял, что сержант прожил уже не меньше тридцати лет.
– Вы знаете, товарищ капитан, – проговорил старший политрук Буткин, – сержант товарищ Соловей, – при этих словах он кивнул головой на сержанта, который, заслышав свою фамилию, произнесенную старшим начальником, вытянул руки по швам и стоял как по команде «смирно», – изумительный затейник. Он и певец, и танцор, и баянист, и чтец. Дорогой он нам показал свое искусство. Я полагаю, что товарищ Соловей наладит нам в батальоне художественную самодеятельность…
– Это хорошо! Живем мы тут, по правде сказать, не очень весело, – с грустной усмешкой сказал Тихонов.
– Ну, насчет веселья, товарищ капитан, не беспокойтесь, мы его из-под земли добудем, – довольно самоуверенно проговорил Соловей. Но судя по тому, что и средние и младшие командиры на эти слова сержанта отозвались сочувственно, Тихонов понял, что Соловей, видимо, насчет веселья в самом деле «собаку съел».
– Давайте, давайте, сержант, унывать нам не приходится, – шутливо сказал Тихонов и, помолчав, добавил: – Помните, как поется в песне: «Затоскуй, загорюй – курица обидит».
Потом все они, и средние командиры и младшие, направились вслед за Тихоновым по пади Ченчальтюй осматривать расположение батальона, в котором с сегодняшнего дня они становились равноправными жителями, участниками всех его дел, законными творцами его доброй славы.
Батальон существовал всего лишь несколько недель, но он имел уже кое-какую историю, о которой можно было рассказывать.
Тихонов показал приезжим землянки, теперь уже оборудованные по всем правилам строительной техники, ознакомил с расположением рот, рассказал о соседях – таких же батальонах, как и его, Тихонова, подразделениях, расположенных в семи-восьми километрах слева и справа. Потом он провел прибывших командиров к самому большому котловану, который один из всех оставался еще не покрытым никакой крышей. Здесь намечался клуб. Его не достроили из-за отсутствия теса. Сам начальник политуправления обещал прислать тес, и теперь его ждали с каждым поездом.
Котлован, предназначенный для клуба, был местом гибели Симочкина, и Тихонов, все еще переживавший гибель молодого бойца, не утерпел, чтобы не рассказать об этом памятном всему батальону событии.
Могила Симочкина находилась на гребне одной из сопок, окружавших падь Ченчальтюй. Отсюда, от землянок, хорошо был виден деревянный памятник, в виде конусообразной колонки, увенчанной ярко-красной звездой, поставленный по распоряжению Тихонова на самом солнцепеке, на пересечении ветровых потоков, которые на этом месте, вырвавшись из падей, сталкивались, как два взбесившихся коршуна.
И средние и младшие командиры, слушая Тихонова, то и дело поглядывали на памятник Симочкину, каждый по-своему представляя этого безвременно погибшего юношу. А Тихонов, заговорив о Симочкине, рассказывал уже о выходе батальона на границу, о ливне, который свел на нет многодневный труд батальона, о безрезультатных поисках в степи диверсантов, сумевших перейти границу под прикрытием дождя, о том напряженном положении, которое сложилось тут ввиду бесконечных японских провокаций и диверсий.
– Живем мы здесь вдалеке от фронта, а жизнь ведем почти фронтовую, – говорил Тихонов. – Спим с оружием, несем усиленный караул на своем участке, то и дело выбрасываемся на границу, чтобы в случае чего не прозевать, вовремя дать японцам отпор. А войны, видимо, не избежать. По последним разведданным, японцы только на нашем направлении подвели три дивизии, причем две из них императорские. А на днях в один из маньчжурских городков прибыли немецкие инструкторы, которые намерены внедрить в японскую армию свои новейшие достижения.
Рассказав о всей истории батальона, Тихонов не покинул приехавших, а вместе с ними направился на кухню, куда предварительно он передал приказание о срочном приготовлении обеда для вновь приехавших товарищей.
На кухне Тихонов вызвал к себе повара сержанта Сережкина и, выслушав его рапорт о том, что обед готов и уже второй раз подогревается в бачках, приказал тотчас же кормить людей. Дождавшись, когда обед был принесен на столы, сооруженные из простых толстых досок, прибитых к березовым стойкам, Тихонов пожелал приехавшим товарищам хорошего аппетита и удалился.
Едва Тихонов скрылся, командиры, и средние и младшие, дружно заговорили о комбате. Тихонов провел с ними часа полтора-два – максимум, но и этого времени было достаточно для понимания некоторых важных особенностей стиля его работы. По всему, что говорил и делал комбат, было видно, что он любил во все вникать, до всего доходить, не гнушаясь никакими мелочами. По-видимому, он был человек требовательный, волевой, но и чуткий, внимательный к нуждам людей, находившихся у него в подчинении.
После обеда командиры разошлись по ротам, согласно полученным назначениям, и стали устраиваться на ночевку. Близился вечер, с ветерком, с пыльцой, с той хмурью на осеннем тяжелом небе, которая навевает нерадостные раздумья, заставляя вспоминать то родных, то свою юность, то мирное время, когда можно было устраивать свою жизнь где хочешь и как хочешь.
А утром все приехавшие начали службу, окунулись сразу в водоворот больших и малых дел, которые цеплялись одно за другое и в целом создавали напряженный ритм жизни, пронизывающий весь батальон от командира до последнего бойца.
11
Старший политрук Буткин поселился в землянке, в которой жил комбат Тихонов и адъютант старший Власов. Ночью он спал плохо, ворочался с боку на бок, несколько раз выходил на улицу выкурить самокрутку из крупной махорки, перемешанной с листовухой. Как все или большинство пожилых людей, Буткин спал мало и ночами, коротая бессонные часы, размышлял о жизни, о людях, о судьбах Родины, которую любил преданно, самозабвенно, любил без всяких пышных слов. Кстати сказать, по отношению к Родине он и произносить-то их стеснялся, так как слова эти казались ему ненужными и порой даже оскорбительными.
И в эту первую ночь, проведенную в батальоне, Буткин, лежа на жестком топчане, застланном свежим сеном, пахнувшим далеким-далеким детством, среди прочих дум немало размышлял о своей новой роли – комиссара батальона, о Тихонове, который сейчас лежал от него в двух шагах, по-богатырски похрапывая, и с которым ему предстояло работать, может быть, год, а может быть, и два, о напряженности положения на восточных границах Советского Союза и о неясности его, Буткина, собственной судьбы, которая в условиях войны могла повернуться самым неожиданным образом и унести его в Берлин, или Порт-Артур, или еще куда-нибудь.
Перед рассветом Буткин забылся, а когда проснулся, в землянке было пусто: Тихонов и Власов уже ушли в подразделение. В маленькое оконце, устроенное почти под самым потолком, падал яркий свет – день, невзирая на ветреный закат, выдался ясный и солнечный.
Буткин вскочил, оглядел землянку и стал поспешно одеваться. «Эх ты, Аника-воин, – думал он о самом себе с неудовольствием, – лежишь, нежишься… Привык там, в райкоме-то, прохлаждаться…» Он в эти минуты до того был жесток к самому себе, что не замечал даже в мыслях своих вопиющей несправедливости. Да было ли так? Мог ли он там, в райкоме, хоть один день провести беззаботно, без напряжения? Кто же в районе не знает, сколько тревожных, бессонных ночей провел он в своем кабинете, помещавшемся в углу большого деревянного дома… Разве это не он в пору сева и уборки урожая носился на испытанном «газике», появляясь всегда кстати, всегда вовремя то в одном конце района, то в другом, по суткам, по двое не смыкая глаз? Но теперь обо всем этом он и не вспоминал. «Проспал… проспал… Батальон, наверное, давным-давно на ногах». Разгорячив себя этими мыслями, он представил, как комбат Тихонов, посмеиваясь и посматривая на землянку, думает: «Комиссар мой, видимо, предполагает, что он попал не на границу, а в дом отдыха».
Буткин наспех обмотал ноги портянками, натянул сапоги и взялся за ремень. В этот момент дверь землянки осторожно открылась, и Буткин увидел Тихонова. Капитан был, вероятно, убежден, что комиссар еще спит, и вышагивал почти на цыпочках.
– А! Вы уже встали! Лежите, лежите, вам после дороги надо как следует отдохнуть, – проговорил Тихонов.
Но Буткин стоял уже в одежде, в сапогах и ложиться в постель больше не намеревался. Понимая, что Буткин больше не ляжет, Тихонов предложил:
– Ну, коль не хотите ложиться, может быть, позавтракаем? Я велю принести нам сюда.
– Это другое дело! – с живостью отозвался Буткин. – Пока вы завтрак заказываете, я тем временем умоюсь, приведу себя в порядок.
Они вышли из землянки на простор. Тихонов – чтоб заказать завтрак, а Буткин – с полотенцем и мыльницей в руках.
Через десять минут они сидели за маленьким столиком и пили чай из голубого эмалированного чайника. Пользуясь тем, что они одни, Буткин завел разговор о своей службе в батальоне, о том, с чего ему начать, на кого опереться.
– Признаюсь вам, товарищ капитан, чистосердечно: армию, условия работы в ней знаю плохо. Подумайте только – не служил с двадцать второго года. Как кончил Гражданскую войну, демобилизовался и с тех пор о Красной Армии сужу по газетам. А ведь у вас тут много воды утекло, много всяких перемен произошло. Техника, уставы, дисциплина – все это новое. Далеко шагнули вы… – озабоченно морща и без того морщинистый лоб, говорил Буткин.
Он говорил все это не для того, чтобы под предлогом неопытности уменьшить ответственность, возложенную на него. Нет, Буткин был человек трезвого разума, он отчетливо сознавал трудности, которые встают перед ним на новом поприще, и не хотел уклониться от этих трудностей.
Искренность Буткина тронула Тихонова. Он понял: прислали в батальон комиссаром человека прямого, открытого, из той породы людей, которые не любят скрывать ни своих достоинств, ни своих недостатков и дело, работу свою, общие интересы выдвигают на первый план.
– Знаешь, Петр Петрович, что я хочу сказать тебе, – обращаясь к Буткину на «ты» и впервые называя его по имени и отчеству, проговорил Тихонов, внимательно глядя на комиссара. – Живое прочувствованное слово нужно сейчас нашим людям. События идут суровые, половина батальона из районов, которые уже оккупированы немцами. На душе у людей сейчас нелегко. Я заметил: как наши оставили Смоленск, так бойцы даже песен стали петь меньше. А ведь батальон на три четверти из молодежи!.. И потом восток, японцы, – продолжал Тихонов после короткой паузы. – С одной стороны, мы резерв для запада, а с другой – мы авангард на востоке. И вот надо, чтобы наши люди поняли это. Я лично убежден, что столкновения с японцами нам не избежать. Так или иначе, а весь узел дальневосточных противоречий не развязать без участия Советского Союза.
Буткин слушал Тихонова с большим вниманием и, будучи человеком партийным не по форме, а по всему складу души своей, размышлял не только о том, о чем говорил капитан. «Каких же замечательных людей вырастила наша партия!» – думал Буткин, глядя на взволнованное лицо Тихонова.
Когда Тихонов умолк, высказав все свои соображения о постановке политической работы в батальоне, заговорил Буткин. У него было немало дельных предложений. Прежде всего надо собрать коммунистов, их в батальоне набиралось свыше тридцати, затем подобрать знающих групповодов, начать регулярную политическую учебу, взяться за самодеятельность. Благо, этот сержант Соловей прибыл со своим собственным баяном…
Тихонов слушал Буткина и утвердительно кивал головой. Хотя комиссар, начиная беседу, предупредил, он-де армии не знает, но все, что он предлагал, было жизненно и целесообразно.
12План политической работы был записан на листок, когда дверь землянки с визгом открылась и в нее вбежал взволнованный, вспотевший адъютант старший Власов.
Тихонов хорошо изучил своих подчиненных и по первому взгляду, который он бросил на Власова, понял, что адъютант старший чем-то не просто взволнован, а потрясен.
– Что там, Власов, случилось? – вставая из-за стола, спросил Тихонов.
– Почта, товарищ капитан, пришла. В газетах сообщают, что наши войска оставили город Орел. Теперь немец попрет на Москву. А еще, кроме газет, писем много пришло. Один боец из егоровской роты, Ефим Демидков, получил письмо от сестры, которая пробилась через фронт из Смоленской области и приехала к своей старшей сестре в Читинскую область. Это же читать невозможно, товарищ капитан! – со стоном воскликнул Власов, и его лицо исказилось.
– Да что там за письмо такое? – поспешно спросил Тихонов, вопросительно взглянув на Буткина.
Власов молча подал Тихонову свернутый в трубочку конверт, согретый теплом его руки. Капитан вытащил письмо из конверта, приблизился к оконцу, в которое струился дневной свет, и принялся читать.
Он читал это письмо, не проронив ни одного слова. Буткин и Власов молча наблюдали за ним. Обветренное лицо Тихонова становилось с каждым мгновением строже и сосредоточеннее.
Наклонив голову так, чтоб скрыть глаза, Тихонов решительным движением руки передал письмо Буткину. Тот прочитал его и словно окаменел: стоял не шевелясь и, казалось, не дыша. Потом опустил руку, в которой держал исписанный клочок бумаги, сказал:
– Ну вот, Прохор Андреевич, жизнь вносит в наш план поправки. Надо не откладывая провести митинг.
Все трое помолчали еще минуту-другую, и Тихонов, прохаживаясь по землянке, насколько это было возможно делать при ее крохотном размере, проговорил:
– Передайте, Власов, командирам рот мое приказание: привести роты в строю к штабной землянке к тринадцати ноль-ноль на батальонный митинг. Как, товарищ старший политрук, успеете подготовиться? – обратился он к Буткину.
– Безусловно, – ответил Буткин.
И все они, один за другим, вышли из землянки, унося в своих сердцах, как кровоточащую, рану, неизгладимое впечатление от простого, бесхитростного письма.
Даже во второй половине осени, которая наступает в Забайкалье необычайно рано, выпадают дни, в которые кажется, что природа повернула свое движение вспять. Солнце светит и греет так щедро, небо такое прозрачно-голубое, что никак не верится, что приближается зима.
Пока ждали начала митинга, на лужайке возле штаба без умолку слышался говорок. Бойцы в непринужденных позах разместились вокруг стола, кто сидя, кто лежа. Сводка Информбюро, сообщавшая об Орле, была уже всем известна, но говорить о ней избегали. Так не вязалась жестокая, мучительная весть с радостным, совсем летним днем, с хорошими, влекущими к самому лучшему, к самому возвышенному чувствами, которые рождаются всегда, когда собирается в одном месте много людей, единых по делам, мыслям и стремлениям своим.
– Эх, денек-то какой! На полях теперь овощи торопятся прибрать.
– А по дорогам к станциям, к элеваторам – подводы, машины с хлебом…
– А охотники тоже уж двинулись. Пора!
Так говорили люди обрывками о том о сем, но, сказав, замолкали и мысленно уносились туда, где они когда-то жили.
Но вот взвизгнула от резкого толчка дверь землянки, в которой находился штаб батальона, и оттуда вышли комбат Тихонов, младший лейтенант Власов, командиры рот – Синеоков, Королев, Егоров и старший политрук Буткин. Бойцы поднялись с земли, а Власов забежал вперед, подал команду «смирно» и отдал капитану рапорт.
Тихонов открыл митинг и предоставил слово комиссару батальона. На Буткина устремились сотни пытливых, доверчивых глаз. Он обвел взглядом все эти загоревшие рабочие лица, ставшие ему сразу же родными и близкими, и вспомнил давно прошедшее…
…Шумит заунывно и тоскливо дремучая тайга. Возле костров сгрудились партизаны вот с такими же обветренными лицами. Партизанам предстоит тяжелый переход через тайгу и горы. Час пробил! Пора выходить из тайги в людные места. Он – комиссар партизанского отряда – произносит речь. Он говорит о контрреволюционной гидре, о международных акулах капитализма, о высоких задачах партизан перед лицом мирового пролетариата. Его слушают затаив дыхание, бурно рукоплещут, бросают шапки в воздух, выкрикивают слова одобрения. Неужели с тех пор минуло больше двадцати лет? Да не вчера ли все это было?
Захваченный воспоминаниями, Буткин стоял минуту-другую молча, потом поднял руку, крикнул:
– Товарищи бойцы! Товарищи командиры!
Но едва он произнес эти слова, как ему почудилось, что он начал свою речь на той высокой, митингово-торжественной ноте, на которой проходили все митинги тогда, в годы Гражданской войны. «Но теперь и люди стали другие, и время другое, и жизнь иная», – мелькнуло у него в мыслях.
– Товарищи бойцы! Товарищи командиры! – повторил он, но уже иным голосом, в тоне которого меньше было торжественности и пафоса и больше интимности и сердечности, которые проникают в самую душу человека, надолго западают в его ум и сердце. – Неслыханные злодеяния творят на нашей священной земле гитлеровские орды. Всюду, где они проходят, они оставляют за собой кровавый след массовых убийств, надругательств, грабежа, – говорил Буткин, внимательно присматриваясь к лицам своих слушателей, стараясь уловить, какое впечатление производят на них его слова.
К тысячам и тысячам кровавых преступлений, совершенных фашистскими людоедами, прибавилось еще одно новое злодеяние, совершенное ими над родными и близкими нашего бойца из третьей роты Ефима Демидкова. Послушайте, что пишет его сестра. «Дорогой мой братец Ефимушка! Пишет тебе письмо твоя сестра Лена. Не узнаешь ты теперь меня, стала я седая и старая. Такого я насмотрелась, что не знаю, как и в живых осталась.
Как пришли к нам в Звонарево немцы, то первым долгом согнали всех, и старых и малых, на площадь, к дому соцкультуры. Тут они привели тятеньку, всего уже избитого, не похожего на самого себя, привязали его за руки и за ноги толстыми веревками к танкам и на глазах у всех разорвали его на части. Тятенька, пока живой был, не поддавался им, кричал, что все равно мы победим. Потом немцы загнали всех учителей, бригадиров, партийных и комсомольцев в дом соцкультуры и подожгли его, а чтоб горел скорее, облили стены бензином. Был тут и наш младшенький братик Леня. Когда дом соцкультуры загорелся и стала рушиться крыша, я видела раза два Леню. Он, видно, норовил выпрыгнуть в окно, да выпрыгнуть было нельзя. Кругом стояли солдаты и палили из автоматов куда ни попадя: так и погиб наш Леня в огне. А когда дом соцкультуры стал догорать, немцы кинулись на народ, кололи, стреляли, кто попадался под руку. Я побежала с Феклушей к Ермохиным в огород, перескочила через изгородь, бегу, а Феклуша отстала, я оглянулась, а она висит на изгороди, с опущенными руками, мертвая. Я было бросилась назад к ней, а немцы стали стрелять в меня. Я упала между грядок и лежала до вечера, притворяясь, что убитая. В потемках переползла в погреб к Ермохиным и жила там три дня в холоде, без хлеба, без воды.Вылезла из погреба, смотрю: ни немцев, ни села. Ни одного дома не уцелело. Братец наш, Ефим Васильевич, отомсти ты им, немцам, за тятю и Леню, за Феклушу, за мои седые волосы, пусть они узнают, как нам было…»
Буткин дочитал письмо до конца с усилием. Голос его то прерывался, затихал, то звенел, взлетая до самых высоких нот. Он поднял глаза, чтобы взглянуть на бойцов. Они сидели в каком-то грозном оцепенении.
Гнев и горе, которые пронизывали каждое слово, каждую буковку этого письма, дошли до их сердец. Чувство негодования, скорби, жажда мести смешались в их душах и отлились в одно страстное желание, в один порыв – бороться.
Буткин понял, что люди охвачены высокими чувствами и нужно сказать им очень дорогие слова.
В ораторской манере Буткина была одна замечательная черта, обличавшая в нем человека не только убежденного в том, о чем он говорил, но и опытного в пропагандистском деле, знавшего многие сложные пружины этого высочайшего искусства. Начав речь, он как бы забывал о слушателях и беседу свою строил путем вопросов, обращенных к самому себе. Минутами можно было подумать, что он выступает не перед слушателями, а, забыв о них, разговаривает сам с собой, не стесняя ничем течение своей мысли, как это обычно случается, когда человек исповедуется перед собственной совестью. На самом же деле Буткин ни на одно мгновение не забывал, что его слушают другие, и внимательно следил за аудиторией, тонко улавливая ее настроение. Но благодаря этой своей манере размышлять вслух Буткин достигал редкостного воздействия на слушателей. После его речей у слушателей всегда появлялось желание высказаться о самом сокровенном и наболевшем.
И теперь произошло то же самое. Едва Буткин кончил говорить, как несколько красноармейцев подняли руки, прося слова. Среди желающих высказаться Тихонов увидел Ефима Демидкова и назвал его фамилию.
Демидков подошел к столу. И весь батальон увидел его постаревшее, с запавшими глазами лицо. Взгляд его был спокоен, жив, но по синим дугам, которые мазками тянулись от носа к вискам, чувствовалось, что Демидков успел уже где-то втихомолку смыть свое горе дорогими мужскими слезами.
– Братья! – с дрожью в голосе тихо сказал Демидков. И от того, что он сказал не обычное в таких случаях «товарищи», а «братья», все почувствовали еще острее, чем прежде, какая бездна горя вторглась в душу этого человека. – Тяжело мне не только говорить, жить тяжело от таких известий, – продолжал уже более твердым голосом Демидков. – От такого горя надломиться можно… – Он долго молчал, не то пересиливая прихлынувшие слезы, не то подыскивая более точные слова. – А только надломиться себе я не дам и жить буду! – энергично взмахнув руками и как-то весь выпрямляясь, сказал он. И все увидели, что сил в этом человеке не счесть и сломить его не сможет никакое горе.
Потом капитан Тихонов предоставил слово Егорову, и тот от лица бойцов и командиров третьей роты, в которой служил Демидков, произнес короткую, но яркую речь. Он называл Лену родной сестрой всей роты. Когда Егоров заявил, что голос Лены с седыми волосами, призывающий брата сделать так, чтоб немцы узнали, «как нам было», услышан и бойцы горят желанием скорее вступить в бой, весь батальон опять горячо зааплодировал, и вскоре сотни сильных, молодых голосов могуче прокричали своей Родине, на защиту которой они поднялись стеной, протяжное и громкое «ура».
Перед окончанием митинга, после того как выступили Прокофий Подкорытов и Василий Петухов, к столу строевой походкой, гордо неся на медной от загара шее круглую, стриженную под машинку голову, подошел сержант Соловей.
Он был в батальоне новым человеком, и потому первые мгновения его рассматривали с той придирчивостью, которая как-то сама собою появляется у людей, стоит им только стать военными. Но Соловей, по-видимому, был аккуратист до мозга костей. Большие кирзовые сапоги его были тщательно начищены, брюки и гимнастерка из дешевой защитной ткани производили впечатление недавно побывавших под горячим утюгом, крепкую мускулистую шею плотно облегала ослепительно белая каемочка умело пришитого подворотничка. Глядя на подтянутого, щеголеватого сержанта, можно было изумляться, как он мог, много дней находясь в дороге, а теперь живя в степи, в землянке, сохранять в таком порядке свою немудрящую солдатскую одежду. Все это, конечно, заметили, и каждый с долей некоторой профессиональной зависти подумал: «Вот это заправочка! Ой-ой-ой».
– Товарищи и друзья! Братья по оружию! Горе Ефима Демидкова понятно и близко мне. Я сам житель Смоленской области, и, как знать, может быть, и мои родные вот так же растерзаны кровавой рукой фашистов.
Сказав это, Соловей отыскал глазами сидевшего с опущенной головой Ефима Демидкова и, обращаясь к нему, звенящим голосом проговорил:
– Товарищ Демидков, в горе и гневе вы не одиноки, и пусть это утешит вас и придаст силы!
Потом Соловей встал на колени и, подняв руки, поклялся перед лицом товарищей не щадить в борьбе за Родину ни крови своей, ни самой жизни. Он пал ниц, и все увидели, что Соловей целует серую, песчано-каменистую землю.
Митинг закончился речью Тихонова. Ее прослушали затая дыхание, так как Тихонов говорил о самом насущном и близком – о задачах батальона.
Когда командиры развели роты по местам, Буткин направился к своей землянке. У него было такое ощущение, будто он живет в батальоне не один день, а очень давно.
За те короткие часы, которые занял митинг, Буткин мысленно внес в свой план ряд существенных поправок. Долголетняя работа с людьми научила его неустанно анализировать жизнь, тщательно всматриваться в ее живой поток. Худшее, что могло быть у руководящего работника, – это преклонение перед бумажкой. Сталкиваясь раньше в райкоме с десятками и сотнями людей, Буткин всегда жестоко высмеивал эту слепую веру в бумагу. «Вы раб бумаги, взгляните на жизнь по-большевистски», – говорил он иному руководителю, который, ссылаясь на циркуляр и на план, где, дескать, все предусмотрено, силился доказать, что на его участке работы царит полное благополучие. Сам же Буткин обладал тем драгоценным качеством живого, непосредственного восприятия жизни, которое делает руководителя стоящим в самой гуще событий и позволяет ему браться за вопросы, составляющие хребет того или иного дела.
Встреча с батальоном на митинге, взволнованные и искренние речи бойцов и командиров натолкнули Буткина на новые мысли. Он увидел, что в плане, составленном совместно с капитаном, опущены пункты первостепенного значения.
«Надо по ротам, а может быть, даже и по взводам провести товарищеские собеседования, поближе узнать людей. И начать это надо прежде всего, начать сегодня же», – размышлял Буткин.
Внешне Буткин всегда казался хладнокровным и спокойным, а порой и несколько равнодушным. Но это был результат большой внутренней дисциплины. На самом деле он обладал таким горячим отношением к жизни, таким нетерпением, когда дело касалось работы, что всякое равнодушие или медлительность вызывали в нем негодование.
Буткин дошел до землянки, но возле дверцы остановился. «А что мешает мне пойти в одну из рот теперь же?» – спросил он сам себя, испытывая от всех своих мыслей жгучее желание действовать, действовать и действовать. Он постоял минуту в раздумье, приоткрыл дверцу в землянку, бросил папку на свой топчан и быстрой походкой направился к самым дальним землянкам, в которых жила рота старшего лейтенанта Синеокова.
13
Наконец и Филипп Егоров получил письмо от родных. Это была первая весточка после разлуки. Писала Сашенька, жена Филиппа. Письмо было длинное, на шести страницах, вырванных из ученической тетради. Егоров бегло, какими-то летучими взглядами пробежал по строчкам и торопливо вытащил из конверта еще один листок. Развернув его, он увидел нарисованный цветными карандашами двухэтажный дом и скачущие крупные буквы: «Папа, свари себе моркофку и кушай слифки». Это было послание от шестилетней дочери. Егоров улыбнулся, глядя на букву «ф», начертанную, вероятно, без малейших колебаний в этом деловитом, кратком письме, и почувствовал, как сжалось сердце. «Милые мои, хорошие… Свари себе моркофку и кушай слифки», – прошептал Егоров.
Вечером, когда все, что нужно было сделать за день, было сделано, Егоров решил вновь перечитать письмо жены. Читая теперь не торопясь, он составил полное представление о том, что делалось в эти дни в его родном городе.
Милая Сашенька, она, как и тысячи других штатских людей, весьма смутно представлявших, что скрыто за понятием военной тайны, сообщая о прибытии в город с запада трех больших заводов, не удержалась от некоторых пояснений: на одном заводе будет производиться зеленый горошек, наивно хитрила она, второй вот-вот начнет выращивать в парниках тыквы, а третий огородился высокими заборами и дымит, дымит во все семь труб.
Вторая часть письма была посвящена переменам в жизни знакомых: директор школы Нестор Флегонтович назначен в ремесленное училище ввиду особой важности этого училища для подготовки кадров; Калерия Александровна, врач, лечившая их Ниночку от кашлей и поносов, надела военную форму со шпалой на петлицах гимнастерки и возглавила самый крупный госпиталь в городе; две дочки их соседа, Вера и Тася, студентки биологического факультета, временно ушли с учебы и поступили на один из вновь прибывших заводов, желая помогать фронту своим трудом на предприятии; Николай Петрович, отец Сашеньки, инвалид Первой мировой войны и пенсионер, вернулся к токарному станку и вот уже второй месяц выполняет норму на двести процентов.
В конце письма Сашенька сообщила, что все они, учителя, не очень-то доверяют заявлениям японских деятелей о верности пакту о нейтралитете и, чтобы не оказаться застигнутыми врасплох, посещают курсы инструкторов ПВХО. Город хотя и расположен за тысячи километров от маньчжурской границы, тем не менее полагаться в нынешний век на расстояние опасно…
Увлеченный письмом, Егоров не заметил, как в его землянку вошел Буткин. Он был уже совсем возле стола, когда Егоров увидел его и порывисто, с некоторым смущением за свое опоздание, поднялся.
– Сидите, Егоров, сидите, – пожимая ему руку, проговорил комиссар.
Но Егоров все-таки встал, пристукнув каблуком и распрямляя плечи. «Это у него от гражданки еще осталось. Вот Тихонов, тому вначале проделай, что полагается по уставу, а потом он с тобой разговаривать начнет, да так запросто, будто век тебя знает», – подумал Егоров о смущении Буткина.
– Чем занимаетесь, товарищ Егоров? – спросил комиссар и опять замахал нетерпеливо рукой: – Садитесь, садитесь, пожалуйста!
Егоров пододвинул Буткину табурет и сел на прежнее место.
– Письмо, товарищ старший политрук, от жены получил. Днем некогда было читать его внимательно, вот и пришлось заняться этим сейчас, – проговорил Егоров.
– Письмо? Ну, что там? Как там? – необыкновенно оживляясь, спросил Буткин.
И по тому, с какой горячностью был задан этот вопрос и как сразу вспыхнули в глазах Буткина живые огоньки, Филипп понял, что гражданка, тыл – это то самое, за что он, Буткин, и теперь, будучи уже в армии, чувствует перед лицом грозных событий моральную ответственность.
– Да вот послушайте, товарищ старший политрук, – с готовностью проговорил Егоров и, прибавив фитиль в лампе, взялся за письмо.
Буткин от нетерпения даже привстал. «Ну, ну, почитай, почитай, послушаем, что мы там наработали, как народ к испытаниям подготовили», – пронеслось у него в мыслях.
Егоров прочитал письмо жены и не утерпел, подал комиссару листок с рисунком дочери. Буткин кинул взгляд на рисунок, прочитал исполненное старательными каракулями письмо и вдруг залился таким звонким смехом, неожиданно звонким, что Егоров, тоже засмеявшийся вначале, изумленно посмотрел на Буткина, про себя думая: «Да он юноша! Неужели ему пятьдесят лет?»
А Буткин вытер лоб платком и крутил, крутил в руках рисунок девочки. На лице его, в особенности на губах и на морщинистых, уже чуть-чуть впалых щеках, долго еще держалась нежная улыбка.
– В глубокие толщи проникает война, – сказал Буткин, и улыбка каким-то уже далеким прикосновением тронула раз-другой его губы и исчезла.
– Да, большие пласты народа подымает война, – проговорил Егоров, чувствуя порожденную письмом жены потребность высказаться. – И вот заметьте, товарищ старший политрук, как бестрепетно, с каким высоким сознанием народ идет на жертвы. Ничего люди не жалеют, ничего не щадят. И то еще интересно: когда мы пятилетки выполняли, казалось нам порой – ну, такой разбег мы взяли, что надорваться можно. А как дело-то оборачивалось? Смотришь, план был на пять лет, а народ его за четыре года поднял, да еще с лихвой. И думается мне, вот и теперь много подспудных сил народа прорвется. Трудности у нас, по всему видно, будут немалые, а только изобретателен и ловок наш человек…
– Вы в партии давно, товарищ Егоров? – вдруг спросил Буткин.
– Какое там давно! С прошлого года, товарищ старший политрук, – сказал Егоров с усмешкой. Ему казалось, что к активной политической жизни он приобщился слишком поздно, были все условия сделать это гораздо раньше.
– Ага! – мотнул головой Буткин.
Они опять надолго замолчали, раздумывая каждый по-своему об одном и том же: о партии, о стране, о народе.
– А не думали вы, товарищ Егоров, что речь эта от третьего июля к нам адресована? – заговорил Буткин, скручивая из газеты цигарку, похожую своей формой на игрушечную воронку.
– Как не думал? Думал, товарищ старший политрук. Для армии это целая программа.
– Да нет. Я не об этом. Я о себе, о вас, о Тихонове говорю. А вы сразу армия! Привыкли мы все мировыми масштабами мерить, – бросив на Егорова лукавый взгляд, проговорил Буткин.
Егоров не обиделся на это замечание. Буткин был прав. Немало часов он провел над изучением речи Сталина. Отдельные ее места он знал наизусть. И размышлял он над этой речью немало, но, скрывать нечего, размышлял в общем и целом, размышлял применительно к масштабам всей страны, всего народа, всей армии.
– Сознаюсь, товарищ старший политрук, снизойти до собственной персоны не успел, – разводя руками, с беспощадной правдивостью проговорил Егоров.
– Ну вот! А в речи есть такие места, в которых только наших фамилий недостает. Да, да! – загорячился Буткин, словно кто-то пытался не согласиться с ним. Егоров молчал, вопросительно глядя на комиссара, несколько даже озадаченный его словами. «Какое же место в речи имеет он в виду?» – думал Егоров.
– Не освободились мы, товарищ Егоров, от мирных настроений до конца, хотя и живем на границе, и порохом тут изрядно припахивает, – сказал Буткин и встал. Чувствовалось, что то, о чем он начал говорить, волнует его и не дает ему покоя.
– Три недели я живу в батальоне. Пригляделся кое к чему и вижу: всех выводов из того факта, что на западе идет война, мы, коммунисты, не сделали. Живем по традиции мирного времени и утешаем себя мыслью: «Мы, мол, штатские костюмы сняли, нарядились в военные мундиры, и посему наш долг исполнен». А как мы живем? Какие требования мы к себе предъявляем? Как мы обучаем бойцов? – Буткин поднял руку, растопырив пальцы, и долго смотрел на Егорова глазами, в которых сверкала и буйствовала, как живые огоньки, его неугомонная душа. – Мы учим бойцов формально, мы правильно делаем, что опираемся в учебе на уставы и наставления, но мы забываем, что каждодневно идет война и она рождает много нового. А мы замечаем это новое? Да нет! Творчества у нас мало, горения мало, выдумка отсутствует! Тот старик, инвалид к пенсионер, о котором пишет ваша жена, вот он, он понял, что от него требует война. Он пошел на завод, и не просто затем, чтоб работать, а чтоб работать, выдавая две нормы…
Буткин хотел что-то сказать еще, но в дверь землянки забарабанили, и послышался голос:
– Разрешите?
– Войдите! – крикнул Егоров.
Вошел боец, одетый в шинель, с автоматом на груди и с противогазом на боку.
– Товарищ старший политрук, разрешите доложить… Генерал Разин требует вас к телефону.
– Иду, иду, – беря со стола свою фуражку, заторопился Буткин. Возле двери он обернулся, приветливо улыбнувшись Егорову, сказал: – Жаль, товарищ Егоров, что не удалось окончить беседу, но при случае подумайте кое о чем.
Оставшись один, Егоров откинулся к земляной стене и закрыл глаза. Только что происшедшая сцена повторилась в воображении как видение: Буткин стоит у стола, глаза его блестят, и он страстно бросает резкие, проникающие до самого сердца слова: «Творчества у нас мало, горения мало, выдумка отсутствует…»
Егоров открыл глаза, решительно поднялся, заговорил сам с собой вслух:
– А что, разве не верно? Все правильно!
Он стоял, покачиваясь от переизбытка каких-то внутренних сил, которые пробудил в нем своим разговором комиссар. Припомнилось ему, как он становился географом. География сделалась его страстью. Он в два-три года собрал солидную географическую библиотеку, в которой были богато представлены разного рода учебники, справочники, путевые дневники и мемуары почти всех известных путешественников и первооткрывателей. Он установил связь с большим числом букинистов в разных городах и с их помощью собрал интересную коллекцию географических карт.
Его работа в школе была полна вдохновения. Он не просто преподавал, а воспитывал в учениках дух исследователей. Каждое лето он отправлялся со своими воспитанниками в длительные экскурсии по таежным рекам. Зимой он организовывал в школе увлекательные географические игры. Географический кабинет, который он оборудовал, считался лучшим в городе. Некоторые из его коллег упрекали, что он «берет материал шире программы Наркомпроса», но он-то знал, что говорят это либо деляги, для которых в циркуляре свята каждая запятая, либо завистники, неспособные организовать дело, порученное им, с должным размахом. «Самое главное, чтоб не было уже программы Наркомпроса, а шире – это ничего», – утешал он себя в таких случаях.
В течение двух лет он сделал географию любимым предметом школьников. В тысяча девятьсот сороковом году школа, в которой он работал, выпустила пятьдесят восемь питомцев, из них почти половина поступила на географические факультеты.
Потом ему географии стало мало, и он увлекся селекционированием. Он принялся за это с не меньшей страстью. Побывал в Мичуринске, съездил на опытную станцию, объездил опытные участки многих колхозов. Половину огорода, примыкавшего к его домику, занял под свои опыты, а вокруг школы при помощи ребят разбил фруктовый сад. Он творил тогда, горел, без конца изобретал и выдумывал…
Припомнив все это, он мысленным взором охватил свою работу здесь, в армии, и сложное чувство неудовлетворения собой горячей волной прихлынуло к его сердцу. «Прав, прав Буткин… Ах, Буткин, Буткин, мудрый ты человек. И как ты это верно увидел и как тонко подметил… Что ж, обижаться не на что, творчества нет и выдумки нет. Скажет Тихонов – сделаешь. А чтоб самому догадаться, чтоб самому всмотреться в то, что творится на фронте, и скорее как-то приспособиться к опыту фронта – этого нет. А вот они, газеты, сколько в них живого биения фронтовой жизни, сколько неотложных вопросов, сколько прямых советов нам, людям, которые еще не воюют».
Егоров приблизился к столу, сел на табурет, на котором сидел Буткин, взял пачку газет «Красная звезда», начал их листать номер за номером.
14
Это было необычайное занятие в роте, и на него пришли Тихонов, Буткин и Власов. Занятия посвящались обучению бойцов борьбе с танками. Тема была злободневной. Немцы все еще продолжали теснить наши части почти на всем протяжении гигантского фронта. Особенно тяжелое положение было под Москвой. Бои шли в сорока – тридцати километрах от столицы. Немцы не считались ни с какими потерями и бросали в атаки десятки и сотни танков, используя все свое численное превосходство. С газетных полос звучал, как боевой набат, призыв: «Воины Красной Армии, умением и храбростью сокрушайте немецкие танки! Каждый подбитый и сожженный танк ослабляет врага и приближает нашу победу!»
После памятного разговора с Буткиным в землянке и его выступления на батальонном партийном собрании Егоров не мог уже равнодушно относиться к газетным статьям, передававшим боевой опыт фронта. Он прочитывал их, мысленно примеряя, что можно использовать для обучения бойцов, которые не сегодня, так завтра могли стать фронтовиками, если не на востоке, то на западе.
Егоров знал, что обучить бойцов борьбе с танками при помощи бутылок с горючей смесью можно довольно просто. Необходимо соорудить макет танка, подвесить его на блоках на железный трос, а сам трос с наклоном к одному концу укрепить на столбах. Стоит макет слегка толкнуть, и он понесется по тросу, создавая полную иллюзию мчащегося танка.
Но даже и такое простое сооружение осуществить Егорову не удалось. Во-первых, в батальоне не оказалось дерева, из которого можно было бы сделать макет, во-вторых, не оказалось троса. Ну, дерево еще туда-сюда. Его можно было выпросить у кого-нибудь из соседей или, наконец, призанять у железнодорожного начальства на ближайшей станции. С тросом дело обстояло гораздо сложнее. Ни призанять, ни выпросить, ни просто получить где-либо его было невозможно. Егоров совсем отчаялся, но остановиться теперь в своих поисках он не мог…
– …Товарищ капитан, разрешите приступить? – козырнув, проговорил Егоров, обращаясь к Тихонову.
– Приступайте, Егоров, – кивнул головой Тихонов, и улыбка, мелькнувшая в этот миг в его глазах, сказала больше слов: «В добрый час! Желаю успехов!»
– Наседкин, закатите танк на вершину сопки! – звонким голосом прокричал Егоров, отдавая приказание одному из старшин – командиров взводов.
Бойцы и командиры весело засмеялись. Танк! Танка-то никакого не было. Была бочка, правда, бочка не деревянная, а железная, длинная, очень вместительная, с четырьмя внушительными ободьями, намертво приваренными к ее упругому туловищу.
По измятым бокам и проржавленным ободьям чувствовалось, что бочка эта немало послужила на благо человечества. Вероятно, в начале своего пути она покоилась где-нибудь в купеческом лабазе, наполненная керосином, потом в ней варили какие-то краски, местами сросшиеся с железом навечно, потом неведомо каким образом она попала в одну из красноармейских частей и вот оказалась на самой границе. Тут в ней начали возить воду, но бочка дала течь. Когда ее попробовали починить, то увидели, что сделать это невозможно, и бросили за ненадобностью возле продсклада. Так бы она и кончила свой долгий путь, если бы вновь не потребовалась людям…
Пока Наседкин с помощью трех бойцов вкатывал бочку на вершину сопки и накладывал в нее степной булыжник, Егоров рассказывал бойцам о способах борьбы с танками, применяемых в настоящее время на фронте. Бойцы слушали с интересом. Да и не только бойцы. Теперь тут возле сопки собрались все командиры рот и взводов батальона, заинтересованные новшествами, вводимыми в третьей роте.
Тихонов и Буткин слушали Егорова, переглядывались. «Хороший командир из него получится, не зря он понравился мне с первого взгляда. Смотри, смотри, как дело знает! А ведь из запаса! И что там в штабе с присвоением звания ему тянут…» – думал Тихонов. А Буткин стоял, тоже размышляя: «А как важно людям вовремя подсказать, подтолкнуть… Этот Егоров со своей инициативой и выдумкой черта свернет… С полетом парень, с фантазией… Надо нам со всей нашей техникой почаще в поле, в сопки выбрасываться… Эх, дали бы нам японцы еще с месяц тренировки, мы бы их встретили в случае чего».
А Егоров между тем продолжал говорить, все больше и больше увлекая бойцов.
– При помощи этой бочки мы должны научиться бросать в движущийся танк бутылки с горючей смесью и связки гранат и поражать цель с первого удара. Мы также должны научиться не бояться танка на подходе к траншеям и уметь скрываться от него в окопе.
– Ну, от бочки чего скрываться! Бочка есть бочка! – глубокомысленно произнес Шлёнкин своим бархатистым баском, испытывая к затее командира роты недоверие с самого начала.
Егоров посмотрел на него, чуть усмехнувшись, сказал:
– Ладно, Шлёнкин, вы пойдете в окоп первым. – И крикнул: – Наседкин, готово?!
– Танк на исходной позиции! – крикнул в ответ на вопрос командира роты Наседкин, желая явно потрафить Егорову, который избегал называть эту железную бочку бочкой и всюду именовал ее «учебным танком».
Неподалеку от подножья сопки были сооружены ходы сообщения и отрыты индивидуальные окопы. Все это было сделано в точном соответствии с чертежиком, напечатанным в газете.
Когда второй взвод роты занял траншеи и командир взвода доложил, что бойцы готовы к отражению танковой атаки, Егоров крикнул:
– Наседкин, запускайте танк!
Наседкин и сопровождавшие его бойцы с большими усилиями столкнули бочку, наполненную булыжником, с места и докатили ее к спуску. Бочка была так тяжела, что даже здесь, внизу, у подножия сопки, было слышно, как скрипит под ней песок и галька.
В этот момент бойцы, сидевшие в окопах, замерли в ожидании дальнейших событий, а Шлёнкин обернулся к роте и посмотрел так победоносно, что все засмеялись.
Наседкин и бойцы, находившиеся с ним, еще раза два подтолкнули бочку и остановились. Дальше толкать ее не требовалось. Она покатилась под гору сама, набирая скорость с каждым новым витком.
Через три-четыре секунды бочка неслась уже со страшной быстротой. Чтобы создать иллюзию движения танка, Егоров взял у шофера цепи, которыми тот обматывал колеса грузовой машины в ненастную погоду, и приспособил их к бочке. Теперь эти цепи вместе с булыжником, перекатывавшимся во чреве бочки, производили такой грохот, что можно было подумать, что движется не один танк, а целая армада. К тому же цепи, которыми была обмотана бочка, вздымали с промерзшей земли густое облако пыли, и это еще больше усиливало впечатление, что движутся настоящие танки.
Когда бочка стала приближаться к ходам сообщения, она издавала уже не только звон и грохот, но и от быстрого движения – пронзительный, как бы рвущий воздух свист.
Бочка неслась прямо на Шлёнкина. Все видели, как Шлёнкин заметался в окопе, намереваясь выпрыгнуть из него. Но выпрыгивать было уже небезопасно, да и вокруг были товарищи, только что слышавшие его презрительно-иронические слова: «Бочка есть бочка». Шлёнкин поспешно, не глядя, метнул увесистую деревянную модель бутылки, метнул не в бочку, а куда-то в сторону и опустился в окоп, подгибая голову более, чем требовалось. А спустя несколько секунд он, сжавшись весь, слышал, как над его головой через окоп пронеслась бочка. Теперь он был обязан быстро вскочить и бросить еще одну бутылку, а может быть, и вторую и третью, но попасть в бочку, так как опыт фронта учил, что танки врага уязвимы не только спереди, а еще в большей степени – сзади. Но грохот и свист, с каким пронеслась над ним бочка, ошеломили его, и собраться вновь с чувствами он так быстро не смог.
Витя Соколков, находившийся со своим взводом в окопах, в пяти шагах от Шлёнкина, увидев, что Терентий не попал в бочку с первого удара, был убежден, что он воспользуется случаем и не упустит бочку теперь, когда она перекатилась через его окоп и находится рядом. Но текли дорогие мгновения, бочка удалялась, а Шлёнкин даже не показывался в окопе. И тогда Соколков, не зная, похвалят или заругают его командиры за это, метнул вслед бочке свою бутылку. Бутылка ударилась о бочку и отскочила в сторону. Соколков метнул вторую бутылку, и она, также ударившись о быстро мчавшуюся бочку, отскочила назад.
Для кого все это было только игрой – для Викториана Соколкова это был момент, полный смысла и напряженных переживаний. Он так был увлечен всем происходящим, что невольно забыл, где он находится. Он чувствовал себя так, будто был на настоящем фронте, и бочку, обмотанную цепями, он воспринимал как настоящий танк, в котором сидят настоящие, живые фашисты – враги его Родины. И потому он не мог допустить, чтоб эта бочка-танк на его глазах промчалась через наши траншеи непораженной.
Поступок Викториана Соколкова достойным образом мог оценить только Тихонов. Побывав на Халхин-Голе в самых неожиданных переплетах и теоретически представляя все сложные перипетии войны, он хорошо знал цену солдатской находчивости и смекалки. Да и теперь там, на фронте, она стоила очень дорого и была той силой, которая творила будущее счастье страны. И потому, как только Тихонов увидел меткие и точные удары Соколкова, он закричал во всю мочь своих голосовых связок:
– Молодец, Соколков! Молодец!
Удары Соколкова, его находчивость и ловкость вызвали у всех наблюдавших за ним чувство восторга, и потому теперь, когда послышался голос капитана, бойцы дружно захлопали в ладоши.
Шлёнкин, все еще пребывавший в окопе, заслышав голос капитана и хлопки, поднялся наконец и непонимающим взглядом смотрел на товарищей.
– Ну как, Шлёнкин, сильно перепугался? – спросил без улыбки Тихонов.
– Вот нечистая сила, думал, сомнет, – под смех бойцов проговорил Шлёнкин.
– А хвалился-то как! Бочка есть бочка! – подражая Шлёнкину, баском сказал Егоров.
– Ну вот что, Егоров, – вдруг неожиданно жестко сказал Тихонов. – Соколкову запишите от моего имени благодарность, а Шлёнкина не выпускайте из окопа до тех пор, пока не научится встречать танк грудью.
– Есть. Будет исполнено, – откозырнул Егоров.
Бочка-танк между тем уже остановилась, и несколько бойцов, все из того же взвода старшины Наседкина, принялись выкладывать из нее серый булыжник.
Тут надо попутно заметить, что мысль об использовании бочки в качестве средства для обучения бойцов борьбе с танками пришла Егорову не сразу. Вначале он предполагал использовать ее лишь в качестве транспорта. Для обучения своих бойцов умению штурмовать долговременные огневые точки врага ему необходимо было выстроить дот. Дерева не хватало и на более неотложные нужды, связанные с оборудованием даже жилья, и он решил прибегнуть все к тому же серому, тяжелому камню.
В распадках камень был уже повыбран, когда сооружались землянки и склады батальона, а на вершинах сопок он лежал сплошным слоем. Но за морем телушка – полушка, и Егоров, не зная, как добыть этот «подлый» камень с верхушек сопок, начал присматривать залежи булыжника на старых местах.
Тут-то он и наткнулся у продсклада на старую бочку, осмотрел ее и решил, что она может навозить ему булыжника на целый дворец. Когда бочка честно принялась исполнять роль тяжеловоза, у Егорова мысль забила ключом и понесла его, понесла…
Четыре часа продолжались занятия по обучению бойцов борьбе с танками. Когда горнист просигналил обеденный перерыв, все изумленно посмотрели друг на друга, взглядами спрашивая: «Неужели обед? Не ошибка ли? Скоро что-то». Бойцы, увлекшись занятиями, не заметили, как миновала первая половина дня.
Тихонов приказал роту вести на обед, а командирам ненадолго задержаться на летучее совещание.
– Ну, вот что, товарищи, – сказал Тихонов, когда ротные и взводные командиры окружили его. – Занятия по борьбе с танками вполне удались. Отмечаю заслугу Егорова. Хорошо придумано. Отныне эту сопку именуйте, Власов, в приказах и расписаниях Танковой. Бочку, Егоров, из собственности роты передайте в собственность батальона. Примите ее, Власов, как учебное имущество. Синеокову и Королеву в ближайшее время провести такие же занятия со своими ротами. Кроме того, – усмехнулся Тихонов, – надо заснять эту бочку на фотографию и поместить в альбом истории нашего батальона.
15
Открытие батальонного клуба совпало с двумя значительными событиями. Одно из них было масштабов потрясающих, мировых. После ожесточенных боев на подступах к Москве Красная Армия обратила немцев в бегство. Каждый день Совинформбюро сообщало о новых городах, отвоеванных нашими войсками. Второе событие было местного батальонного значения, но тоже важное, вызвавшее много толков и тронувшее сердца всех бойцов. По приказу вышестоящего штаба батальону капитана Тихонова предстояло выделить в формирующуюся маршевую роту взвод лучших, хорошо обученных бойцов.
Таких бойцов теперь в батальоне было уже немало, и, посоветовавшись, Тихонов и Буткин решили отбор произвести по принципу добровольности, на основании личных рапортов. Но, как и можно было ожидать, ехать на фронт изъявил желание весь батальон. У Власова скопились две пухлых папки рапортов. Буткин перечитал их и, подозвав Тихонова, сказал:
– Ты послушай, Прохор Андреевич, что бойцы пишут. Ефим Демидков заявляет: «Отпустите на фронт. Душа истомилась. По ночам снится мне тятя, разорванный немецкими танками. Вижу я его как живого. Приходит он будто ко мне и все попрекает: “Когда же ты, сын, отомстишь им за меня и Леню?”».
– Ну, это бесспорная кандидатура, и выучка у него отличная, – проговорил Тихонов, и комиссар отложил рапорт в особую папку.
– А вот рапорт Прокофия Подкорытова: «На Халхин-Голе всыпал японцам по первое число. Немец тоже не каменный. Прошу…»
– Подождем. Этот может пригодиться здесь, – сказал капитан.
– «Немцы разоряют колхозы… Я, как особо приверженный к колхозной жизни, увидевший через нее свет в своей батрацкой доле…» – читал Буткин.
– Это Петухов? – спросил Тихонов.
– Он.
– Подождет. Слабоват еще в стрельбе.
– «Считаю своим святым долгом комсомольца быть там, где решается судьба Родины. Обещаю, что в бою не запятнаю имя нашего батальона. Викториан Соколков», – прочитал Буткин и вопросительно взглянул на Тихонова.
Капитан в задумчивости почесал затылок, убежденно сказал:
– Этому верить можно, а только тоже подождем. Молод.
– «Исходя из желания сражаться за Родину на западе и на основании вашего предложения…» – читал Буткин.
– Что это за канцелярист? Исходя да на основании… – проговорил нетерпеливо Тихонов.
– Шлёнкин.
– А, вон кто! Шлёнкин! Ну, этот пусть еще у нас в котле поварится. Бутылки и гранаты в танк метать научился, а стрелять не умеет.
– И вот послушай-ка, Прохор Андреевич, что Соловей пишет: «Категорически настаиваю на отправлении меня на фронт. Желаю принять непосредственное участие в освобождении от фашистской заразы моей родной области – Смоленской. Если будете препятствовать – убегу на фронт самовольно».
– Я вот ему покажу самовольно! Я вот его посажу на губу суток на пять, пусть он там кое о чем подумает. Ишь выискался гусь какой! Самовольно! Оставить! И пусть дисциплине научится! – разгневанно проговорил Тихонов.
Так в течение полудня Буткин и Тихонов перебрали все рапорты, отобрав взвод достойнейших, дисциплинированных, отлично натренированных бойцов…
Теперь эти бойцы сидели в первых рядах, проводя свой последний вечер в батальоне, с которым они успели сродниться за эти незабываемые, трудные месяцы.
Клуб, если можно назвать клубом продолговатую, низкую землянку, тускло освещенную двумя лампами, был набит до отказа. Люди сидели и стояли, плотно притиснувшись друг к другу. Одни из них сгибались, другие вытягивались, но каждый помнил, что он не в настоящем театре, что позади стоит товарищ.
Да, впрочем, неудобства, которые испытывали зрители, были сущими пустяками, и большинство их просто не замечало. В клубе царила атмосфера искренней праздничности и веселья.
После выступления Буткина, произнесшего теплое напутственное слово уезжающим на фронт, на сцену – обычные доски, настланные на три еловых сутунка, – вышел Шлёнкин.
– Начинаем концерт красноармейской художественной самодеятельности. Позвольте, прежде всего, от нашего коллектива участников выступления передать вам нежнейший сердечный привет, – с серьезным видом, чувствуя себя чуть ли не на сцене московского театра, проговорил Шлёнкин.
Зал аплодировал. Шлёнкин все с тем же серьезным видом переждал, пока стихнут хлопки, и отвесил в зрительный зал глубокий поклон. Ничего не скажешь, в роли конферансье Шлёнкин был хорош по-настоящему! Знать, недаром там, в «системе», доверяли ему руководить банкетами. Искусность Шлёнкина на этом поприще тотчас же заметили и оценили:
– Ну, черт, дает дрозда! – восторженно воскликнул кто-то из бойцов.
Шлёнкин внимательно посмотрел в зал, как всякий знающий свое дело конферансье, присматриваясь к публике и оценивая, каковы шансы на успех, и вдруг, совершенно артистически взметнув бровями, проговорил:
– Выступает Викториан Соколков. Стихи Константина Симонова: «Майор привез мальчишку на лафете».
Произнеся эти слова, Шлёнкин с достоинством удалился в угол сцены, а его место занял Соколков.
Стихи тронули слушателей, и Соколкова наградили такими дружными аплодисментами, что даже сдержанный, в силу своих особых обязанностей, Терентий Шлёнкин – и тот расплылся в довольной улыбке.
Еще больший успех ожидал Витю после прочтения поэмы Симонова «Сын артиллериста». Ему так бурно хлопали, что пришлось, по настоянию Терентия, три раза выходить на сцену и кланяться. Когда же Соколков, подстрекаемый все тем же Шлёнкиным, вышел в четвертый раз, кто-то крикнул:
– Да ты брось кланяться, стихи еще читай!
И тут Соколков откровенно признался:
– А стихов больше читать не могу. Не разучил еще.
Соколков повернулся, чтобы покинуть сцену, и лицом к лицу встретился с Терентием. Прозрачно-голубые глаза Шлёнкина выражали негодование. Он зашипел на Соколкова:
– Деревня! Вести себя на сцене не умеешь: «Не разучил еще…»
Сконфуженный и расстроенный выговором Шлёнкина, Соколков с большим трудом пробрался в зал и пристроился рядом с Егоровым, на петлицах которого отливали блеском только что нацепленные кубики.
– Можно с вами, товарищ лейтенант? – обратился к нему Соколков.
Егоров закивал головой и, подвинувшись, уступил Соколкову конец скамейки.
Шлёнкин между тем объявил новый номер. Выступал Подкорытов. Все уже знали, что Подкорытов отличный плясун, и потому, не дожидаясь выхода его на сцену, захлопали и закричали:
– Ну, дай, Проня, дай ходу пароходу!
Подкорытов выскочил на сцену и под звуки баяна, на котором играл сержант Соловей, рассыпал ногами такую дробь, что можно было подумать, будто где-то неподалеку застрочил пулемет.
Потом он принялся проворно и стремительно, как бесенок, носиться по сцене, выделывая руками и ногами такие замысловатые и потешные коленца, что зал загрохотал от дружного смеха.
Подкорытова вызывали бесчисленное количество раз, требуя повторения всего номера с самого начала. Но склонить его на это не удалось.
Как опытный конферансье, Шлёнкин дал занавес. Он был дальновиден и расчетлив. Нельзя было давать новый номер, зрители еще не пережили до конца всех впечатлений от выступления Подкорытова.
Через две-три минуты по распоряжению Шлёнкина занавес, представлявший собой скрепленные плащ-палатки, раздвинулся, и Терентий объявил:
– Выступает Илларион Власов, пародии на западноевропейские танцы.
Власов вышел загримированный и одетый под денди, словно только что сошедший с обложки иллюстрированного заграничного журнала. На нем были лаковые черные туфли, узкие, обтягивающие его полные ноги брючки в полоску, такой же узкий пиджак, котелок из черного, блестевшего атласа. В руках Власов держал затейливо расписанную серебряной проволокой трость. В клубе никто и не подозревал, что все эти вещи Власов раздобыл под большой залог в Доме культуры узловой станции.
Власов поклонился в зал, кивнул слегка баянисту и подбросил трость. Потом он передернул плечами, вытянул шею и с остекленевшим взглядом, притопывая ногами, двинулся к самому краю сцены.
Власова вызывали не меньше, чем Подкорытова, и два или три танца он повторил по требованию зрителей.
Программа выступления самодеятельности была обширной, и после Власова, сменяя друг друга, на сцену выходили то старший лейтенант Синеоков с мандолиной, то Василий Петухов, рассказавший две народные сказки, то группа бойцов, исполнивших украинский танец. Участвовал в концерте и Терентий Шлёнкин. Он спел несколько отрывков из популярных оперетт. Пел Шлёнкин серьезно, без кривлянья, и окончательно убедил всех, что в чем в чем, а в пении он знаток немалый.
Последний номер исполнял сержант Соловей. Номер этот назывался «Утро на колхозном дворе».
Соловей вышел на сцену вместе со Шлёнкиным. Шлёнкин выступал в качестве ассистента Соловья, так как номер сопровождался литературным текстом.
– Тихая летняя ночь миновала. Белеет восток. Приближается день. В роще пробуждаются птички, – с торжественной приподнятостью прочитал по бумажке Шлёнкин.
Соловей тотчас же засвистал, защелкал, наполняя клуб разноголосым птичьим пением. Зрители замерли, затаили дыхание. За стеной была уже зима, бесновался холодный ветер, а тут, в клубе, разливали свои трели жаворонки, чечетки, синицы, кулички.
– Пробуждается и колхозный двор. Из кутухов вылезают сторожевые псы, в стойлах поднимаются коровы, все эти пеструшки, буренки, субботки, – прочитал Шлёнкин, а Соловей принялся взвизгивать, побрехивать, мычать, и опять все это проделал так умело, что слушатели заулыбались, переглядываясь и озираясь: уж и в самом деле, не оказались ли они каким-либо чудом на колхозном дворе?
– Вот зарозовел восток, ударил первый луч раннего солнца, и ожил, пришел в движение колхозный птичник, – прочитал Шлёнкин.
Соловей закукарекал, закудахтал, загоготал по-гусиному. Потом он при помощи ладоней передал звук хлопающих крыльев. Но это уже было верхом искусства, и зал разразился аплодисментами, смехом и криками одобрения.
Концерт закончился, когда было уже далеко за полночь. И участники выступления, и зрители разошлись по землянкам довольные, возбужденные, словно с обновленными душами.
16
В один из декабрьских дней, когда мела поземка из снега, перемешанного с песком, Тихонов сидел у себя в землянке и писал жене. Буткина и Власова не было, они рано утром ушли в роты, и Тихонов спешил до их возвращения закончить письмо. С ответами жене он всегда безбожно затягивал. В круговороте дел, обязательных, срочных, неотложных, нелегко было выбрать даже полчаса, чтобы сообщить жене и детишкам о своем житье-бытье.
Тихонов уже заканчивал письмо, когда вошел Трубка, боец, отоплявший землянку Тихонова и наблюдавший за чистотой в ней. Трубка был самый пожилой боец в батальоне, военное дело ему давалось с невероятным трудом, и Тихонов перевел его в хозяйственный взвод.
Трубка осторожно, без стука, сложил возле печки охапку дров, поднялся и проговорил, невыносимо растягивая слова:
– Товарищ капитан, там, за дверью, командёрша, почтарь привез…
– Какая командёрша? Какой почтарь? И говори, Трубка, пожалуйста, побыстрее, не тяни за душу, – не отрываясь от письма, сказал Тихонов.
Но переделать Трубку было немыслимо, и он, все так же растягивая слова, пояснил:
– Командёршу наш батальонный почтарь со станции привез, до вас просится.
– Ну, коли просится, так веди. Что ж ты людей держишь на морозе, – все еще толком не понимая, что произошло, сказал Тихонов.
Трубка не торопясь вышел, а несколько секунд спустя в землянку вошла девушка. Она была одета в солдатскую светло-серую шинель, в шапку-ушанку и порыжевшие сапоги. И шинель и шапка были явно не по росту и неловко висели на ней. В левой руке девушка держала маленький чемоданчик.
– Товарищ капитан, – приложив свободную руку к шапке, проговорила девушка, – военврач третьего ранга Екатерина Тарасенко прибыла в ваш батальон для продолжения службы.
– Военврач? – не в силах скрыть своего изумления, проговорил Тихонов, пораженный юным видом врача.
Девушка уловила это изумление и, вероятно, расценив его как-то по-своему, смутилась. Тихонов заметил ее смущение и, стараясь скорее сгладить свою нетактичность, горячо принялся приглашать девушку пройти:
– Да вы проходите, пожалуйста, проходите! Трубка! Эй, Трубка! Куда тебя унесло? Давай разжигай скорее печь, заморозил ты врача на улице, – возбужденно проговорил Тихонов, когда на его возгласы Трубка вошел в землянку несколько проворнее, чем обычно. – И раздевайтесь, товарищ военврач, раздевайтесь. Мы живо сейчас с Трубкой тепла подбавим, – проговорил более спокойно Тихонов и бросился помогать Трубке разжигать печь.
«Ну, не ждал я, не ждал, что врач наш окажется женщиной. Что я с ней буду делать? Свободных землянок нет, холодище везде, дрова на исходе… И какой это сукин сын придумал молоденькую девушку отправить в такую дыру…» – возясь у печки, раздумывал Тихонов.
Когда он поднялся, Екатерина Тарасенко сидела уже у стола, украдкой осматривая землянку. Теперь, без шинели и шапки, она показалась Тихонову совсем девочкой. У нее было худенькое личико, большие голубые глаза и густые волосы, похожие на расчесанный лен.
Тихонов, не отходя от печки, пристально посмотрел на нее, и отцовское чувство к этой девушке поднялось в его душе.
«Ах ты, моя миленькая, хорошенькая, жить бы да жить тебе дома, под крылышком мамы, бегать по подружкам да наряжаться. И куда я только тебя, такую славную, подеваю здесь…»
– Ну, как вы добрались до нас? – спросил Тихонов, желая нарушить неловкое молчание, которое установилось в землянке.
– Ой, не говорите, товарищ капитан, я так устала, так устала… Я еду уже больше трех недель, – проговорила Тарасенко слабым голосом.
И Тихонов только сейчас заметил, что она изнемогает от усталости. Под глазами у нее темнели землистые пятна, и она невероятными усилиями боролась со сном.
– А вы разве сейчас не из Читы? – спросил Тихонов.
– Сейчас да. Но в Чите я была всего лишь от поезда до поезда. Мне в отделе кадров вручили предписание и приказали выехать немедленно к вам, не разрешили даже выспаться…
«Чинуши там, в вашем отделе кадров», – с яростью подумал Тихонов и взглянул на девушку с нежностью.
– А вообще-то я еду из Казани. Вначале я направилась в Москву, в Главсанупр, а оттуда меня направили на восток. Я, конечно, хотела на запад, но приказ есть приказ, – сдержанно улыбнулась Тарасенко. – Тут даже не помогли папины связи. Он профессор казанского медицинского института, и в Москве у него много друзей и учеников, – пояснила она, поймав вопросительный взгляд капитана.
«Боже, дочка профессора! Наверняка привыкла жить в холе, в неге. Ну что я с ней буду делать? Куда я ее тут пристрою?» – подумал Тихонов и поспешно спросил:
– Вы вот что, товарищ военврач, есть хотите?
– Есть не хочу, товарищ капитан, а спать – смертельно, – смущаясь, проговорила Тарасенко.
– В таком случае решим так: я вам закажу завтрак, а пока его готовят, вы спите. Ложитесь на мою койку, ложитесь без всяких стеснений, – сказал Тихонов, думая, что девушку придется уговаривать лечь на его постель. Но та поспешно поднялась, взяла свою шинель и, не скрывая удовольствия, легла на койку.
– Правда, не очень-то мягко на моей соломенной перине, – проговорил шутливо Тихонов, когда Тарасенко укрылась шинелью.
– Ничего, по-солдатски, – опуская голову, улыбнулась Тарасенко, в тот же миг засыпая.
«По-солдатски! Да знаешь ли ты, что такое по-солдатски?» – подумал Тихонов и, на цыпочках подойдя к Трубке, вполголоса приказал тому отложить уборку до пробуждения врача. Трубка понимающе закивал головой, а Тихонов с большой осторожностью вышел из землянки на улицу.
Спустя несколько минут он встретил возвращавшихся из второй роты Буткина и Власова. Завернув в клуб, они устроили тут совещание. Тихонов кратко доложил, какова обстановка: врач – девушка, притом молоденькая и очень хорошенькая. А самое главное, что она дочка видного профессора и вряд ли имеет закалку, необходимую для жизни здесь. К тому же землянок свободных нет, дрова кончаются, надеяться на их подвоз нет никаких оснований. С сегодняшнего дня он сократил всем командирам дровяной паек наполовину.
– Что ж, выходит, надо назад ее отправлять? – недовольным тоном спросил Буткин, когда Тихонов высказал все тревоги до конца.
– Да если б она сама этого пожелала, я бы немедленно в штаб обратился, – сознался Тихонов. – Ты сам подумай, Петр Петрович, разве ей, такой молодой да красивой, место у нас? Ее надо куда-нибудь в госпиталь направить. Есть же госпитали в Чите, в Иркутске, там она хоть в тепле будет.
Буткин удивился:
– Я тебя не понимаю, Прохор Андреевич! И чего ты так обеспокоился? Ну, пусть молоденькая. Молодость делу не помеха. Ну, пусть красивая. Что ж в том? Красота тоже делу не мешает. А то, что дочь профессора, так разве это беда? Профессор-то наш, советский, и я не думаю, чтоб дочь у него была тепличным созданием. Разберись, так она еще комсомолка. Вот насчет отдельной землянки стоит подумать. Неудобно девушку помещать в общую. – Помолчав, Буткин закончил с легкой усмешкой: – Ты как хочешь, Прохор Андреевич, а я доволен, что наш врач – женщина: мату хоть поубавится. Такой мат развели, что проходу нет…
– Это все так, а только что мы с ней делать будем, если батальону придется зимой в траншеи выходить? Жить придется на ветерке, – проговорил Тихонов.
– А что тут страшного? Приспособится! – уверенным тоном сказал Буткин, а Власов энергично подтвердил:
– В два счета приспособится, товарищ капитан.
Тихонов задумался, что-то подсчитывая или вспоминая, и, посидев в таком положении минуту-две, сказал:
– Вот что, Власов, врача поместим в землянке, где размещена сейчас каптерка первой роты. А каптерку соединим с каптеркой второй роты. Землянка у них большая, и там вполне можно разместиться. Давайте пошлите кого-нибудь за Королевым и Синеоковым. Пусть придут сюда, чтобы договориться.
Власов вышел, а когда он минут через пять вернулся, Тихонов спросил его:
– Фанеры у тебя много, начальник штаба?
– Откуда ее будет много-то, товарищ капитан? Мишени ведь для всех взводов поделали. Вы же сами приказывали.
– А ты не скупись, Власов. Стыдно нам будет, если единственная в батальоне женщина окажется в плохих условиях. Придется отпустить Королеву несколько листов, чтоб потолок в землянке врача фанерой заделали, а то такие куски оттуда валятся, что напугать могут. Сегодня я испытал это. Лежу сплю, вдруг слышу: кто-то бац меня по лбу. Я очнулся с испугу, зажег спичку, вижу: на постели лежит кусок ссохшейся земли.
– Этак, Прохор Андреевич, и родимец мог бы приключиться, – засмеялся Буткин.
Власов между тем что-то подсчитал на листе своей записной книжки и, пряча карандаш в полевую сумку, сказал:
– Фанеры, товарищ капитан, у нас осталось двенадцать листов.
– Не богато, но на отделку землянки врача надо все-таки дать листов пять. Вот так, – проговорил Тихонов.
Вскоре пришли Синеоков и Королев, и разговор принял еще более обстоятельный характер. Речь пошла о том, как лучше фанерой обшить потолок, где раздобыть стол, кровать, лампу, стоит или не стоит белить печку, делать ли внутренний запор в землянке и так далее, и все в таком же духе.
А когда разговор в клубе с командирами рот закончился, весть о приезде девушки-врача уже облетела весь батальон. Почтарь Тряпкин не пощадил ног и обегал все роты, сообщая сногсшибательную весть. «Врача, братки, привез, у нас в батальоне служить будет, размолоденькая, расхорошенькая, ни в сказке сказать, ни пером описать. Такая разок посмотрит, будь при смерти, а и то подымешься…» – болтал на каждом перекрестке Тряпкин, прозванный бойцами за свою склонность к болтовне Трёпкиным.
Не прошло и часа после совещания в клубе, а каптерка первой роты переселилась в расположение второй роты, и в освободившейся землянке начались спешные работы по оборудованию жилища для военврача Тарасенко, которая все еще спала в эти часы крепким, безмятежным сном, не зная, не ведая, сколько хлопот принесла она своим появлением в батальоне капитана Тихонова.
17
Егоров поднялся в четыре часа. Сунул ноги в сапоги и, набросив шинель на плечи, вышел из землянки. Сделав два-три шага, остановился, поднял голову, сторожко прислушался. Небо было звездное. В пади тихо, безветренно. Маячили в сумраке часовые.
«Тишина. Хорошо. Можно поднимать людей», – подумал Егоров и заспешил обратно в землянку. Возле двери он опять остановился, закинув голову, посмотрел на мерцающие и перекатывающиеся звезды. Чем-то далеким и в то же время знакомым-знакомым повеяло на него от этой картины. Припомнилась юность: он живет в работниках у кулака Калинникова в большом трактовом селе. Хозяин содержит постоялые дворы, торгует скотом. Филипп на трех лошадях возит с лугов сено. За день он должен съездить на луга не меньше трех раз. Зимний день короток, и волей-неволей приходится прихватывать ночь. Уставшие лошади мерно шагают по неторному зимнику, освещенному серебряным месяцем. Филипп завернулся в доху, лежит на возу, на спине, смотрит в небо, звезды отрываются, перекатываются, вычерчивая брызжущие искорками дорожки…
…Рота поднялась бесшумно, команды отдавались вполголоса. Батальон еще спал по землянкам, и Егоров приказал не тревожить покой остальных бойцов. «Уйдем по-лисьи, без шороха и шума, хватятся, а нас уже нет», – думал он.
Но уйти незамеченными не удалось. Когда рота проходила мимо землянки, в которой жило командование батальона, Егорова окликнули:
– Лейтенант!
У землянки стоял Тихонов.
– Не поморозьте бойцов.
– Мороз-то детский, товарищ капитан!
Тихонов продолжал стоять у землянки, сквозь сумрак приглядываясь к роте.
Когда миновали падь Ченчальтюй и высокие сопки, стеной окружавшие ее, остались позади, резкий ветер ударил в лицо. Филипп недовольно крякнул. Тишина, царившая в пади, оказалась обманчивой. Но возвращать роту не захотел, рассудил так: тихой погоды в этом краю почти не бывает, а ветер сегодня не такой уж сильный, чтобы откладывать учение.
Василий Петухов шагал с ним рядом и еще больше укрепил его в этом мнении.
– Ветерок хоть и колючий, а на рассвете ослабнет, – с уверенностью сказал он. – У нас на Алтае так же: ночью разыграется буран – беда, дневной свет ударит – ветер сразу на покой.
Дней десять тому назад Василий Петухов стал политруком третьей роты. Произошло это неожиданно. По требованию политотдела Буткин заполнил анкеты и составил характеристики на пять коммунистов батальона с целью присвоения им званий заместителей политруков.
В политуправлении, куда были направлены все документы, к кандидатуре Петухова подошли с большим вниманием. Член партии с двадцать пятого года, бывший секретарь сельской партячейки, а потом многолетний бессменный председатель передового колхоза, он обладал достаточным практическим опытом, чтобы вести самостоятельно политическую работу в армии. Он не имел, правда, военной подготовки, но сколько было в те дни таких Петуховых, познававших военное дело на практике…
Петухова вызвали в Читу, в политуправление, а через неделю он вернулся оттуда с двумя кубиками на петлицах, в звании младшего политрука.
Рота отнеслась к этому назначению с единодушным одобрением. По знанию жизни, по разностороннему опыту Василий Петухов мог годиться любому из бойцов в отцы и наставники.
Егоров же этому назначению просто обрадовался. Политрук знал роту, знал каждого бойца не хуже самого себя. Ему не хватало теоретических знаний, но насчет теории Петухов мог кое-что призанять у Егорова…
– А ветерок-то того, схватывает за душу, надо немножко прогреть бойцов, – сказал Егоров, растирая рукавицей стынувшее лицо.
– Ро-та, бегом марш, – протяжно скомандовал он.
Ветер подхватил его команду и понес по степи. В ответ, словно эхо, откуда-то из глубины сопок донесся заунывно протяжный звук. Это голодный волк жаловался на свою одинокую судьбу.
Бойцы побежали, мелко перебирая ногами и прижимая локти к бокам. Они были одеты в ватные стеганые брюки, в короткие, сильно поносившиеся шинели, в большие тяжелые ботинки и в шапки-ушанки.
Одежда для этих мест, с ветрами и морозами, была малоподходящей. Тихонову обещали завезти полушубки и валенки, но дело это затягивалось, и по вполне понятной причине армия разрослась до размеров невиданных. Снабдить всех зимним обмундированием одновременно и в одинаковой степени было немыслимо.
После короткой пробежки Егоров приказал роте перейти на нормальный шаг. На бегу все разогрелись. Ветер словно потеплел. Небо с приближением рассвета темнело, опускалось ниже, и степь, широкая, необжитая и даже страшная при холодном освещении звезд, становилась в сумраке более собранной и уютной.
– Песню бы, товарищ лейтенант! – сказал Василий Петухов. – Идти с песней гораздо лучше.
– Как, товарищи, споем, что ли? – обратился Егоров к роте.
Несколько человек дружно выразили согласие. Запевал Подкорытов, высоким, звеневшим даже здесь, на таком неохватном просторе, голосом:
Мы – из-за Байкала,
От Амур-реки.
Все народ бывалый,
Меткие стрелки.
Полторы сотни голосов подхватили, и понеслось по степи:
Все народ каленый
Солнцем Ангары…
Штык наш вороненый —
Смерть для немчуры.
Песня подтянула всех. Шагавшие не в ногу подравнялись, расправили плечи. Кто-то начал отбивать шаг. Остальные поддержали. Рота шла стремительно, дружно, как один человек.
От песни, от этих звезд, сиявших в вышине, от плеч товарищей, которые шагали справа и слева, в юной душе Соколкова вспорхнула волшебная жар-птица – пылкая мечта. И сразу весь его мир окрасился в желанные краски живой фантазии.
Нет, не по безлюдной степи шагает он, Викториан Соколков. Он идет по улицам далекой и дорогой Москвы. Эти сопки, громоздящиеся в предутреннем сумраке, не сопки, а большие многоэтажные дома родной столицы.
Работайте и спите спокойно, люди, он, Викториан Соколков, там, в битве с врагами, постоит за ваше счастье…
Может быть, он падет на поле брани… Мама, ты прольешь немало горьких слез, и у папы появится новая прядь седых волос, но зато никто, ни один человек не упрекнет вас в том, что сын ваш был трусом…
Наташа! Помнишь ли, как на высоком берегу, под тихий, убаюкивающий плеск речной волны мы мечтали о будущем?! О, как прекрасны эти мгновения! Нет, нет, ради этих мгновений стоит жить. И он будет жить! Ведь где-то вдали есть тот день, когда кончится война… Какой же это будет день? Под каким числом он значится в календаре?
Соколков мысленно представил свое возвращение из армии. Он идет по длинному коридору университета. Его вначале не узнают, он повзрослел, на лице шрамы, припадает на одну ногу. Но вот из какой-то аудитории выскочила она, Наташа. Викториан! Ее возглас разнесся по всему зданию, и толпа друзей, бывших однокурсников, окружила его…
Жар-птица беспокойно металась в душе Соколкова, взмахивая крыльями, озаряя своим светом далекое, грядущее…
Как хорошо думается под песню! И ничто – ни ветер, ни снег, ни мороз – не мешает размышлять…
«Идем в степь… ночь, ветер, сокращаем и без того короткие часы сна и отдыха. Ради чего? Что нас движет? А там, на западе, в этот час, может быть, под огнем врага поднимаются в атаку наши побратимы. Родина… Она дает нам силы, и ей мы возвращаем их в виде подвигов. Подвиг? Но что такое подвиг? Вот наше существование здесь, все эти походы, стрельбы, караулы, – что все это? Подвиг? Ну, сказал! Приукрашиваешь, товарищ. Хочешь подороже оценить свой однообразный и рядовой труд. Честолюбив ты не в меру.
Нет, подожди, не будь тороплив. Подвиг сложнее, чем тебе кажется. Если твои ученики с настоящим воинским умением бьют на фронте врага, то разве в их подвигах нет частицы, содеянной твоими усилиями?
Подвиг многогранен, как сама жизнь. Иногда он требует секунд, иногда часов, но очень часто многих лет, а то и всей жизни. И в чем бы он ни проявился, какой бы характер он ни носил – истоки его одни: цельность души и высокая осознанность человеком своего места в жизни… А теперь взгляни на себя, взвесь все и подумай: есть ли у тебя основания для самоуничижения».
Так, споря сам с собой, то утверждая, то низвергая собственные мысли, раздумывал Филипп Егоров.
А Василий Петухов, всматриваясь в широкие степные просторы, мысленно примеряя, сколько здесь можно поставить сена, сколько можно запустить отар на пастьбу, думал о своем:
«Не легко придется в войну колхозам. Счастье тем из них, у которых найдутся расторопные, умные женщины. Вся надежда теперь на них. В мирное-то время надо б нам посмелее выдвигать их на разные должности…»
«…А снега здесь мелкие, лежат косяками. Трава же щетинистая, устойчивая. Места эти для тебенёвки пригодны. Скот тут можно вырастить особой северной породы. Нет, не пропащая в этих краях земля. Напрасно мы зовем ее бесплодной…»
18
Было уже около одиннадцати часов дня, когда взводы сосредоточились на рубежах атаки. Главная трудность учения состояла в том, что самого населенного пункта, наступательный бой за который разыгрывала рота, не было и в помине.
Вместо домов по пади были разбросаны огромные, громоздившиеся в хаотическом беспорядке каменные валуны. На дома они, конечно, не походили, но тянулись полосой, между ними лежали значительные промежутки, и условно все это можно было принять за улицу и переулки.
Населенных пунктов в пограничной полосе поблизости не было, и Егоров радовался и тому, что есть валуны. Все-таки разыгрывать бой за населенный пункт здесь было нагляднее, чем в голой степи, где не росло ни одного кустика и не за что было зацепиться. Из-за этих валунов стоило тащиться пятнадцать километров по открытой местности.
Игра протекала по этапам: марш, разведка и рекогносцировка, завязывание боя и, наконец, атака.
Наступление Красной Армии в Подмосковье было широко описано в печати, и Егоров использовал в игре все новейшие достижения фронта. Он создал штурмовые группы для удара по опорным пунктам противника, учел возросшую насыщенность армии техникой, придав взводам, условно конечно, отдельные орудия, минометы, станковые пулеметы, противотанковые ружья.
Тактическая сторона игры была продумана не менее тщательно. Егоров выдвинул один взвод в тыл противника, применил охват с фланга и общую атаку роты на последний опорный пункт врага провел при участии всех бойцов.
Когда Егоров увидел на вершине одного из самых больших валунов Соколкова, державшего в вытянутой руке винтовку и с упоением кричавшего «ура», он пожалел, что нет поблизости капитана Тихонова.
Атака была разыграна с таким порывом и единодушием, что капитан не мог не похвалить роту за ее стремительные действия. Егоров не был падким на похвалы, но одобрения капитана Тихонова всегда рождали в его душе чувство удовлетворения.
«Ах, Соколков, какой молодец! Опять впереди всех!» – подумал Егоров и, схватив болтавшийся на шнурке обыкновенный кавалерийский свисток, подал протяжный сигнал, означавший конец учения.
Скользя и падая, Егоров по щербатой боковине валуна взобрался на вершину. Вокруг валуна стояли бойцы с раскрасневшимися и потными лицами, в мокрых шинелях, в шапках, сдвинутых на затылки. От разгоряченных лиц клубился пар, будто бойцы только что вымылись в бане.
Егоров обвел взглядом бойцов и, заметив, как возбужденно блестят их глаза, с какой преданной внимательностью они смотрят на него, подумал: «Подчиненные! Ну и словечко! Да разве они мне только подчиненные? Друзья, братья… Теперь я с ними и в настоящий бой пошел бы со спокойным сердцем».
– Хорошо, товарищи, в атаке действовали, – сказал Егоров. – По-суворовски: быстро, инициативно, дружно. Особенно отличился взвод Наседкина. Объявляю этому взводу благодарность. Отдельно объявляю благодарность красноармейцам Соколкову и Шлёнкину. Почему Соколков оказался первым на вражеской высоте? Да потому, что Шлёнкин вовремя поддержал его маневр. Увидев, что Соколков подбежал к валуну и взбирается на него, Шлёнкин поспешил на помощь и подставил ему свою спину. Это и есть настоящая боевая поддержка товарища… За такое поведение в бою – ордена и медали дают…
Витя Соколков слушал все эти слова с серьезным видом, опустив глаза, а Шлёнкин, выставив грудь, не скрывая своего удовольствия, показывал всем свои крепкие, белые зубы.
Егоров намеревался тут же, на месте учения, провести подробный разбор игры, но в степи стало вдруг серо и тихо, как в сумерки. Посмотрев вдаль, за сопки, Егоров увидел надвигающийся степной снегопад.
«Надо спешить в гарнизон», – подумал он с острой тревогой.
– Разбор учения проведем, товарищи, на месте, – проговорил Егоров и спрыгнул с валуна. В те же секунды мелкая снежная пороша, словно густой туман, надвинулась на падь, и все поняли, почему командир роты торопится в гарнизон.
– Вот дьявольское местечко! – выругался Петухов. – Все тут не в меру. Солнце начнет светить – жара несносная, дождь пойдет – будто реки с неба хлынут, ветер подует – коня с ног валит, снежок вот затрусит – света белого не видно…
– А знаете, товарищ младший политрук, – поблескивая глазами, со смехом проговорил Соколков, – это все для нас сделано. Как по заказу. Все, дескать, испытайте, всего отведайте…
– Да, уж закалочку тут пройдем – будь здоров! – авторитетно вставил Шлёнкин, и по тону его голоса, и по сияющему лицу можно было догадаться, что он все еще возбужден благодарностью, объявленной ему командиром роты.
Слова эти были так необычны для Шлёнкина, что бойцы посмотрели на него и молча переглянулись. В роте знали, каким великим скептиком был Терентий Шлёнкин. Всего лишь вчера, когда стало известно, что будет разыгрываться бой за населенный пункт, обещавший быть очень поучительным, Шлёнкин перекосил пухлые губы и сквозь зубы изрек свое любимое словечко: «Шило!» Бойцы давно знали, что, раз Шлёнкин сказал «шило», значит, он полон неверия в пользу предпринимаемого дела.
«Э, да тебя, друг мой, надо почаще похваливать, на вид всем другим ставить. А я-то нотациями хотел тебя пронять», – подумал о Шлёнкине Егоров. Но сейчас было не до Шлёнкина, и Егоров тут же забыл о нем. Снежная пороша начала колыхаться от порывов ветра и с остервенением стегать бойцов по лицам.
– Ро-та, в походную колонну стано-вись! – крикнул Егоров.
19
Петухов первым понял, что они заблудились. Он хорошо запомнил ребристую сопку с обнаженными каменистыми жилами густо-ржавого цвета. Когда рота, проделав неведомый круг по степи, возвратилась опять к этой же сопке, Петухов сказал Егорову:
– Товарищ лейтенант, мы здесь уже были полчаса тому назад.
У Егорова пока и мысли не возникало, что они сбились с пути, и он удивленно посмотрел на политрука.
– А по-твоему, Василий Ефимыч, в каком направлении падь Ченчальтюй? – помолчав, спросил Егоров.
Петухов махнул рукой влево от сопки, возле которой они сейчас стояли.
– Ну, брат, ты загибаешь. Падь Ченчальтюй, по-моему, там. – Егоров вытянул руку почти в противоположном направлении.
Они стали припоминать, какие им сопки встречались на пути, но уже через минуту выяснилось, что, по мнению Егорова, все эти сопки находятся влево от них, а по мнению Петухова – вправо.
Егоров раскрыл полевую сумку, полез за компасом и картой. Бойцы, собравшись повзводно, стояли, курили, не подозревая о разговоре, происходившем у комроты с политруком. Но ветер с каждой минутой усиливался и прохватывал теперь до костей. Без движения можно было скоро окоченеть.
– Да в чем дело-то? Почему остановились? – обеспокоенно заговорили бойцы.
Но тут все увидели, что комроты и политрук рассматривают карту, и догадались, что они ищут кратчайший путь. Сам собою возник разговор: где же, в какой стороне лежит желанная падь Ченчальтюй. И вдруг обнаружилось, что все думают об этом по-разному. Поднялся спор, галдеж.
– Позамерзаем, братки, как собаки! А, спрашивается, зачем вели? По степи побегать?!
«Чей это такой загробный голос? – подумал Егоров, подходя к бойцам. – Соловей! Что он – с ума сошел? Да не ослышался ли я? Нет, он…» Егоров так привык считать сержанта образцовым воином, что никак не хотел верить, что все эти слова произносит он.
– Кто там раскаркался? А ну-ка, замолчи! – свирепо закричал Егоров.
Соловей, однако, не замолчал. Он возвысил голос и загнусил еще отвратительнее:
– Позамерзаем, братки, ой, позамерзаем!
– Да ты что, Соловей, блажишь или всерьез? – прикрикнул Егоров.
Соловей захохотал раскатисто, громко, сказал:
– Разыгрываю, товарищ лейтенант, тех, у кого уже поджилки дрожат. Есть ведь и такие! Помалкивают только.
– А-а, – протянул Егоров, не сомневаясь в искренности сержанта и даже испытывая внутреннее неудобство от своего резкого крика.
– Подкорытов, – обратился Егоров к Прокофию, – ты охотник, человек бывалый, как по-твоему, в каком направлении падь Ченчальтюй?
Подкорытов ответил Егорову не сразу. Он прищурил глаза, пошептал какие-то слова, припоминая весь путь движения роты, и только тогда взмахнул рукой.
– А память у тебя, Подкорытов, неплохая, карта и компас показывают то же самое направление, – проговорил Егоров и подал команду двигаться за ним.
Идти стало еще труднее. Колючая, сухая, как песок, крупа хлестала по глазам, порывы ветра рвали полы шинелей, закручивали их вокруг ног. Шагать удавалось коротенькими мелкими шажками. Видимость все сокращалась и сокращалась. Сопки растворились в снежном месиве. Снегу в воздухе теперь было так много, что стоило вытянуть руку, и она скрывалась из виду, будто погруженная в воду.
Егоров остановил роту, приказал бойцам взять друг друга за пояса. Сам Егоров шагал рядом с Петуховым, а позади, держась за полы их шинелей, двигались командиры первого и второго взводов.
Вдруг Петухов споткнулся, упал, увлекая за собой и Егорова. Со смехом и шутками они поднялись, но через несколько шагов начался крутой подъем, который они не увидели, а определили на ощупь ногами.
– Взять вправо! – скомандовал сам себе Егоров.
Они прошли шагов двадцать и вновь наткнулись на сопку. Приняли еще вправо. Но вскоре уперлись в такой крутой обрыв, что его можно было ощупывать, как стену.
Попробовали взять влево, однако и тут потерпели неудачу. Сопка словно преследовала их, преграждая дорогу.
– Надо выбираться назад, мы наверняка оказались в каком-то ущелье, – проговорил Петухов. Егоров согласился с ним и повернул, как ему казалось, в обратном направлении. Минут пять они шли по ровному месту, потом под ногами стали попадаться камни, а вскоре они почувствовали, что поднимаются в гору.
– Ничего, пойдем в гору и перевалим эту сопку. Иначе закружимся, собьемся с направления и заблудимся надолго, – сказал Егоров в ответ на предложение Петухова отвернуть от сопки.
Егоров, конечно, был прав, и Петухов, упрямый в других случаях, возражать не стал.
Чем больше они поднимались, тем пронзительнее становился ветер. Когда они оказались, должно быть, на самом перевале, ветер набросился на них с таким остервенением, что они не падали с ног лишь потому, что держались друг за друга. Холод тут был адский. Егоров подергивался, ежился, и ему казалось, что на нем нет ни шинели, ни стеганых брюк и шагает он в одном нижнем белье.
Бойцы крякали все громче, ругались злее, прижимались один к другому крепче. Но помогало это мало.
Рота еще не спустилась с сопки, когда началось то, чего особенно боялся Егоров. У бойцов стали мерзнуть ноги. Первый заявил об этом Соколков. Он долго молчал, кусал от боли губы, но в конце концов не выдержал и громко простонал.
– Ты что, Витя? – спросил его командир взвода Наседкин.
– Ноги до того озябли, что в сердце покалывает. Терпежу нет, – стараясь говорить со смешком, но не в силах скрыть слез, произнес Соколков.
– И у меня, товарищ старшина, тоже ноги не двигаются!
– И у меня!
– И у меня! – послышались отовсюду голоса бойцов.
Наседкин доложил Егорову. Филипп и сам давно уже чувствовал, как у него коченеют пальцы. Двигайся рота быстрее, ускоренным маршем, возможно, этого не произошло бы, ноги отогревались бы на ходу. Но идти быстрее из-за ветра не было мочи.
Егоров вспомнил строгий наказ капитана Тихонова и обратился за советом к политруку.
– Я бывал на Алтае в таких же переделках и знаю, как тут быть, – проговорил Петухов.
Он энергичными движениями плеч раздвинул бойцов, вошел в середину роты и громко, чтоб слышали все, сказал:
– У кого замерзли ноги, садись на землю, сбрасывай обутку и натирай ноги снегом докрасна.
Петухов быстро опустился, сбросил с одной ноги кирзовый сапог, поддел горсть снега и с яростью принялся растирать ногу. Потом он проворно обернул покрасневшую ногу портянкой и натянул сапог. Когда он принялся проделывать то же с другой ногой, возле него уже сидели Соколков, старшина Наседкин и Прокофий Подкорытов. Остальные бойцы, плотным кольцом окружив товарищей, защищали их от порывов холодного ветра…
20
Екатерина Тарасенко проспала до полудня. Очнувшись и еще не открыв глаз, она услышала голос капитана:
– Самое опасное, если они собьются с направления и двинутся в сторону границы. А там разве разберешься, чьи сопки: свои ли, японские ли… Единственно на кого надежда – на секреты пограничников. Опять же, видимость ни к черту…
Тихонов говорил шепотом, но тревога, какой он был охвачен, прорывалась в его голосе, и Тарасенко лежала, раздумывая: «Что же произошло? А что-то произошло определенно».
– У них же, Прохор Андреевич, компас и карта, – послышался другой голос, незнакомый Тарасенко. – Я вот чем озабочен: мороз, ветер, а одежонка плохая, померзнут… Что-то надо предпринять, и немедля, пока не надвинулся вечер.
– Хе! Компас! Карта, – опять заговорил тревожным шепотом Тихонов. – В такую погоду только по веревке можно безошибочно двигаться… Ну, вот что… Власов! – несколько возвысил голос капитан.
Послышались торопливые, осторожные шаги, и в разговор вступил третий голос:
– Слушаю вас, товарищ капитан.
– Отправляйтесь немедленно на склад, возьмите несколько взрывпакетов и взорвите их в разных местах с небольшими промежутками. Возможно, Егоров услышит это и использует как ориентир.
Власов чуть прищелкнул каблуками и вышел. Потом заскрипели сапоги, и Тихонов удалился из землянки вместе с тем человеком, с которым он разговаривал.
Тарасенко полежала еще с минуту, сладко позевывая и потягиваясь, и вдруг поспешно приподнялась на локте, подумав: «Что же я-то лежу. Кто-то, видно, в степи затерялся, наверняка поморозится, и без меня им не обойтись». Она подобрала ноги, села и, оглянувшись, чтоб узнать, топится ли печка, увидела Трубку. Он сидел в углу на дровах, скрестив руки, и не то дремал с открытыми глазами, не то о чем-то сосредоточенно думал.
– Скажите, товарищ, что произошло в батальоне? – спросила Тарасенко, обвертывая ноги портянками и натягивая сапоги.
Трубка медленно качнулся в одну сторону, затем в другую и, глядя куда-то мимо врача, затянул:
– Но-очью еще третья рота на ученье в поле ушла и по сих пор где-то ходит… А погодушка-то – зги не видно…
– Вот как! Целая рота!
«Ах, какая я дуреха, лежу, слушаю, будто не мое дело людей спасать», – подумала Екатерина, испытывая укоры совести.
Надела шинель, опоясалась широким ремнем, натянула шапку и выбежала из землянки.
Снежная крупа хлестнула ее по лицу так больно, что она опустила голову и присела. Осмотрелась, не зная, куда идти. «Надо кого-нибудь спросить, где у них штаб размещается», – подумала девушка. Но спросить было не у кого, и, постояв еще с минуту на одном месте, она тихонечко побрела, надеясь найти штаб без посторонней помощи.
Пройдя метров сто от землянки, она решила вернуться, опасаясь, как бы не уйти от расположения гарнизона в чистое поле. Когда она, по ее расчетам, приблизилась к землянке капитана на расстояние десяти – пятнадцати шагов, мимо нее в снежном месиве промелькнуло черное пятно.
– Товарищ, подождите! – крикнула Тарасенко.
Но черное пятно уже скрылось, возглас ее слился со свистом ветра. Тогда, разбросив широко руки, она кинулась вслед за черным пятном.
– Вы откуда взялись?! – изумленно воскликнул Тихонов, когда девушка на бегу поймала его за рукав шинели.
– Товарищ капитан, я слышала ваш разговор в землянке. Это же… это мое кровное дело, и я должна немедленно отправиться на поиски, – сбивчиво проговорила Екатерина, задыхаясь от волнения сильных порывов ветра.
– Нет, подождите, не торопитесь. В поле я вас не отпущу, а здесь ваша помощь может потребоваться, – категорическим тоном проговорил Тихонов. – Войдемте в штаб, я вас познакомлю с комиссаром и начальником штаба.
Они вошли в просторную землянку, заставленную скамейками топорной работы и столами, расписанными чернильными пятнами.
– Знакомьтесь, товарищ военврач: это комиссар нашего батальона, старший политрук Буткин, а это начальник штаба Власов.
Тарасенко почему-то смутилась и, откозырнув, пожала руку Буткину, а потом Власову, который при виде девушки сам залился алой краской.
– Ну, как вы себя чувствуете на новом месте, товарищ военврач? – проговорил Буткин, с улыбкой поглядывая на Тарасенко и думая: «А ведь Тихонов не зря обеспокоился… девочка… и когда она успела институт кончить…»
– Требует, товарищ старший политрук, в поле ее отправить, на поиски Егорова с ротой, – скрывая под прищуром пристальных глаз дрожащую улыбку, сказал Тихонов.
– Это опасно, товарищ Тарасенко, да и не имеет смысла. Роте все-таки проще уберечь себя от несчастья, чем одному человеку, – мягко, но вполне серьезно сказал Буткин.
– Да, конечно, один человек в поле не воин, – усмехнулась Тарасенко, – но я бы пошла с командой бойцов. Это уже другое дело.
Тихонов и Буткин переглянулись. Это было то, что решили проделать они сами, если не помогут сигналы и рота к вечеру не вернется в расположение гарнизона. Королев и Синеоков готовили уже четыре специальные спасательные команды.
– Решим так, товарищ Тарасенко: с командами в поле мы направим санитаров, а вы останетесь здесь и будете ждать. Кстати, что у нас есть из медикаментов в случае, если возникнет необходимость срочной помощи? – сказал Буткин, обращаясь ко всем сразу.
– Да, да. Я должна немедленно это знать. И потом такой вопрос, товарищ капитан: если потребуется хирургическое вмешательство, где можно развернуть операционную? – проговорила Тарасенко и поднялась, нетерпеливо потирая руки.
Тихонов и Буткин посмотрели на нее. Полминуты назад она сидела робкая и застенчивая, краснея при каждом их взгляде. Теперь она преобразилась: говорила свободно, уверенно.
– Ведомости на наличные медикаменты у меня, товарищ военврач. Вот посмотрите, – порывшись в бумагах, проговорил Власов.
Тарасенко приняла из его рук несколько листков, скрепленных спичкой с обожженной головкой, быстро просмотрела их и, довольная, возвратила листки начальнику штаба.
– Да, вас нельзя назвать бедными. Для батальона такой запас медикаментов – редкость, – сказала Тарасенко, глядя на Власова.
– А главное, товарищ военврач, что все цело. Я так сказал бойцам: ну, товарищи, врача нам не посылают, лечить вас некому, и потому не хворать. И знаете, без вас у нас не было ни одного больного, – рассмеялся Тихонов.
И Тарасенко тоже рассмеялась.
– Операционную можно развернуть, по-моему, у санитаров в околотке. Надо, Власов, распорядиться, чтобы там, во-первых, протопили, а во-вторых, приготовили лампы и чистое белье, – проговорил Тихонов.
Буткин утвердительно закивал головой, а Власов вскочил и прищелкнул каблуком в знак того, что приказ комбата ясен и будет исполнец.
– Я все-таки хотела бы осмотреть околоток сама, – настойчиво сказала Тарасенко.
– Что ж, это можно, – поднялся Тихонов и вдруг по-женски всплеснул руками: – Боже мой, да ведь вас покормить надо!
– Потом, товарищ капитан, потом. Пойдемте, пожалуйста.
Раздался взрыв. С потолка на столы посыпалась земля.
– Королев сигналить начал, – сказал Власов.
21
Способ отогревания ног, предложенный Петуховым, оправдал себя целиком. Для большего эффекта Егоров подал команду: «Бегом на месте!»
Через несколько минут Соколков доложил о своих ощущениях:
– Тепло от ног, товарищ лейтенант, начинает разливаться по всему телу.
– Точно! – подхватили другие.
– Еще бы! Это до нас с вами задолго люди испробовали, – проговорил Петухов.
Двигались по-прежнему по прямой, то и дело взбираясь на сопки и спускаясь с них. Это еще больше замедляло движение, но зато и давало гарантию правильности и краткости пути.
К вечеру ветер немного ослаб, но стало холоднее. Снегопад поредел. Видимость увеличилась. Сквозь крутящиеся снежинки проглядывали очертания сопок. Однако продолжалось это недолго. Сумерки словно подстерегали где-то неподалеку и вскоре смешались со снегом, плотно облегли всю степь. Бойцы устали, шли в суровом молчании.
По расчетам Егорова, еще час назад они должны были войти в падь Ченчальтюй, но пока на это не обнаруживалось никаких намеков.
– Послушай, Подкорытов, мы не сбились опять с направления? – спросил Егоров проводника, шедшего теперь рядом с командиром роты.
– Нет, товарищ лейтенант. Направление мы выдерживаем как по струне, но пройти могли. Где же в такой темноте наши землянки рассмотришь. Они бы там догадались да костерок разложили, – проговорил Подкорытов.
– Костерок! Было бы из чего его сложить… Сегодня комбат сократил топливный паек как раз вдвое, – сказал Егоров.
Вскоре рота с большим трудом поднялась на высокий хребет. «Да, опять сбились, этого каменистого хребта я никогда поблизости не видел», – невесело раздумывал Егоров.
Вдруг порыв ветра донес до них откуда-то со стороны отзвуки взрыва. Его услышали все, и рота остановилась без всякой на то команды. Ждали несколько минут, не повторится ли взрыв, но ожидания были напрасны. Двинулись дальше. Не успели еще спуститься с хребта, раздались новые взрывы. К счастью, в эти мгновения ветер чуть-чуть призатих, и легко можно было определить, откуда идет звук.
– Я говорил, что мы уже прошли падь Ченчальтюй. Так оно и есть, – сказал Подкорытов.
– Надо взять круто правее, и тогда мы как раз выйдем к гарнизону, – отозвался Егоров.
– А может быть, это не наши рвут, а японцы, – усомнился кто-то вслух. Но эта мысль показалась всем неосновательной, и ее единодушно отвергли.
– Что, вы не знаете комбата и комиссара? Они уже теперь наверняка сами по степи рыщут в поисках нас, – проговорил Егоров, про себя подумав: «Ну, кажется, влепят мне комиссар с командиром за это путешествие… Пусть… Только бы никто не поморозился».
Через полчаса взрывы послышались опять. Они были уже ближе, и это всех сильно приободрило. Когда поднялись на одну из сопок, то увидели взлетающие в небо красные ракеты.
Егоров знал, что ракет в батальоне очень немного, хранились они для оперативных целей, и то, что Тихонов разрешил их расходовать, говорило о том, как велика в гарнизоне тревога за третью роту.
– Наседкин, ну-ка дай полувзводом залп. Пусть внают, что мы от них уже недалеко, – приказал Егоров.
Рота остановилась. Наседкин вывел в сторонку два отделения, скомандовал, бойцы вскинули винтовки, выпалили боевыми в небо.
В пади Ченчальтюй, должно быть, расценили этот залп как вопль отчаяния. Послышались один за другим четыре взрыва, и ракеты, разрывая темноту и снеговую наволочь, снова взлетели высоко в небо.
– Ну, как самочувствие, товарищи? Никто еще не поморозился? – обратился Егоров к бойцам, повторяя эту фразу за время движения по меньшей мере в сотый раз. По теперь приободрились и те, кто вначале приуныл не на шутку.
– Берегите, товарищи, лица, а то темно и можно без носа и щек остаться, – предупредил Егоров.
Бойцы принялись дыханием согревать руки и растирать лица.
Падь Ченчальтюй оказалась гораздо ближе, чем можно было предположить по звуку.
Роту встретили метров за двести от землянок. В сумраке Егоров рассмотрел группу людей, стоявших в кучке. Кто-то один отделился от нее, шагнув навстречу Егорову.
– Тяжелые случаи обмораживания есть? – прозвучал женский голос жестко и требовательно.
«Это еще что за начальство?» – промелькнуло в уме Егорова и, прежде чем ответить, он осведомился:
– А с кем имею честь разговаривать?
– Батальонный врач, военврач третьего ранга Тарасенко.
Егоров собрался было ответить на вопрос врача, но тут приблизился Тихонов и задал тот же вопрос, что и Тарасенко.
– Ноги, товарищ капитан, уберегли по способу младшего политрука Петухова, за лица не ручаюсь. Темно…
– Оружие в сохранности?
– В порядке. Учение прошло хорошо. Если бы не снегопад…
Но Тихонов не дал договорить Егорову:
– Поставьте оружие в пирамиды и немедленно в столовую.
– Есть! Слушаюсь!
В столовой, пока бойцы проходили за столы, Тарасенко дала кое-кому мазь для лица и рук. Она ходила по столовой с большой десятилинейной лампой, присматривалась к бойцам. Пища в котлах вновь была подогрета, и миски со щами дымились сейчас густым паром. После щей бойцам подали горячую гречневую кашу, а потом налили по кружке кипятку.
Бойцы ели, обжигались, поглядывали на Тарасенко, переговаривались. Когда обед кончился, она подошла к Егорову, сидевшему вместе с Петуховым за столиком для командиров, сказала:
– Теперь, товарищ лейтенант, я отправлюсь с вами в землянки и уложу бойцов спать.
Егоров промолчал, но про себя подумал: «Начинаются дамские штучки». Деловитость Тарасенко казалась ему немного нарочитой, и где-то в глубине сознания мелькнула мысль: «Что она, выслуживается или от всей души хлопочет?»
Оказавшись в землянке, в которой размещался взвод старшины Наседкина, Тарасенко взяла власть в свои руки.
– Сядьте все на нары, разуйтесь и покажите мне ноги, – сказала она бойцам.
Показывать голые, натруженные ходьбой ногн такой хорошенькой девушке ни у кого не было охоты. Тарасенко заметила, что бойцы не торопятся, и повторила свое приказание более настойчивым тоном.
Шлёнкин оказался крайним. Тарасенко подошла к нему, остановилась, ожидая: Терентий скорчил лицо, посмотрел сокрушенно на врача и нехотя начал снимать ботинки.
В это время в землянку вошли Буткин и Тихонов. Они встали в уголок, под полочкой, на которой жарко горела керосиновая лампа, и молча наблюдали за девушкой.
Закончив осмотр ног, она распорядилась:
– Теперь, товарищи бойцы, вы снимете верхнюю одежду и ляжете спать. Укрываться будете одеялами и шинелями. Лучше, если ляжете теснее, так скорее согреетесь.
Бойцы опять в нерешительности медлили. Непривычно было раздеваться в присутствии женщины. Но Тарасенко словно не замечала их смущения. Она прошлась по землянке, поторапливая бойцов, показала им, как нужно укрываться шинелью, чтобы было теплее, и, дав некоторые наказы санитару, остающемуся во взводе на ночь, обратилась к Тихонову:
– Можно идти, товарищ капитан, в соседнюю землянку.
Когда они трое вышли из землянки, Тихонов с усмешкой проговорил:
– А вы, товарищ военврач, умело обращаетесь с бойцами. По-командирски!
Тарасенко засмеялась, сказала:
– Ну, еще бы не уметь. Я ведь старый солдат, на финской войне врачом лыжного батальона была.
Буткин дернул Тихонова за руку, что означало: «Ну вот, а ты сомневался».
22
Январь тысяча девятьсот сорок второго года начался в Забайкалье свирепыми морозами. Сопки, окружавшие падь Ченчальтюй, потонули в белом, как молоко, тумане. Туман до того был густой, такой плотной, непроницаемой пеленой закрывал и землю и небо, что люди двигались ощупью, и если не натыкались друг на друга, то только потому, что по скрипу снега под ногами угадывали, где, в каком направлении идет встречный.
Земля тут была жесткая, каменистая, исчерченная извилистыми, как жилы, хребтами; рек и озер поблизости не было, но, несмотря на это, ночами, перед рассветом, когда мороз достигал особенной ярости, земля трескалась и гул, похожий на выстрел тяжелого орудия, разносился по обширным безлюдным просторам.
«Все тут, в этом Забайкалье, не в меру. В других краях мороз как мороз, туман как туман, а тут сплошное наваждение», – повторяли в батальоне фразу, пущенную в обиход политруком третьей роты Василием Петуховым.
Но как ни свирепы были морозы, как ни неподвижны были туманы, все равно батальон капитана Тихонова жил кипучей жизнью.
По вечерам, скрытые первым сумраком, уходили к границе дозоры и наблюдатели. По сопкам вокруг пади Ченчальтюй сменялись часовые. В холодном нетопленном клубе комиссар батальона Петр Петрович Буткин, сопровождаемый ни на минуту не прекращающимся кашлем бойцов, читал лекции по истории партии.
Переспав ночь в землянках, с потолков которых свисали, как люстры, причудливые сосульки, бойцы поднимались, проделывали утреннюю физзарядку, умывались, завтракали и усаживались заниматься. Пока на дворе властвовал пятидесятиградусный мороз, бойцы изучали воинские уставы, тренировались в разборке и сборке винтовок, автоматов, гранат, минометов.
Запас топлива катастрофически сокращался. Тихонов приказал не топить склады, клуб, уменьшил на три четверти выдачу дров командирам, но и этих мер оказалось недостаточно. Скрепя сердце комбат отдал новый приказ: землянки бойцов топить один раз в неделю, командирам дровяной паек еще раз сократить наполовину. Но никакие сокращения не могли снять нарастающей угрозы. В один из дней из-за отсутствия топлива могла загаснуть кухня, и тогда жизнь батальона стала бы невыносимой.
Тихонов и Буткин ежедневно строчили тревожные донесения в вышестоящий штаб, ездили в политотдел, посетили генерала Разина. Всюду их выслушивали с вниманием и сочувствием, но, обещая помочь, тут же, как бы мимоходом, напоминали: вы, дескать, не одни у народа, потерпите, не думайте, что вы в отчаянном положении.
Тихонов и Буткин возвращались в батальон, собирали бойцов, убежденно говорили:
– Трудности мы переживаем немалые, но подумайте, каково нашим братьям на фронте? Мы и десятой доли не знаем того, что приходится переносить фронтовикам.
И эти слова глубоко западали в душу бойцов. Чем тяжелее становилась жизнь, тем больше закалялось терпение людей, тем больше вырастала их приспособляемость к обстоятельствам и условиям службы.
– Нас легко не возьмешь! Хныкать мы не будем! – вслед за комиссаром Буткиным везде и всюду повторяли бойцы-агитаторы.
И как ни сурова была жизнь, именно в эти дни военврач Екатерина Тарасенко пережила немало трогательных минут, запомнившихся ей на всю жизнь.
Как-то раз сидела она в своей землянке. В маленькое оконце, разместившееся почти под самым потолком, как и у большинства землянок, вползали зимние сумерки. Тарасенко сидела в шинели, в шапке – в землянке было холодно. Едва смерилось, она зажгла лампу, задернула оконце светомаскировочной шторкой. От лампы потянуло теплом. Запахло керосиновой гарью. Девушка вытянула руки, согревая прихваченные морозом пальцы, наслаждаясь ручейками тепла, растекавшимся по телу. «Как бы хорошо сейчас оказаться в теплой комнате, с электрическим освещением, чистой постелью… А ведь все это было… И почему только человек не ценит по-настоящему, когда он имеет все это…» Тарасенко перебирала в памяти своих друзей, вспоминала отца, подсчитывала, сколько ей писем нужно написать в самое ближайшее время.
У землянки послышался хруст снега. Кто-то подошел к двери, но открывать ее не решался. Девушка насторожилась, подняла голову, выжидала. Хруст снега послышался вновь, потом негромко пальцем постучали в дверь.
– Войдите, пожалуйста!
Вошел Синеоков, командир второй роты. Он вошел как-то боком, смущенный, и несколько секунд стоял, не находя слов. При виде его у Екатерины сжалось сердце. «Начинается, – подумала она. – Пришел, по-видимому, сказать о тоске своего сердца. Надо опередить его и рассеять всякие надежды…»
– Извините, товарищ военврач, что я вторгся к вам в неположенное время, – заикаясь, проговорил Синеоков, продолжая стоять боком и что-то скрывая под полой шинели.
– Ничего, ничего, проходите, – не очень любезно, с подчеркнутым равнодушием проговорила Тарасенко.
– Видите ли… Я, собственно, мимоходом. Дело в том, что у вас в землянке довольно прохладно, – туманно и витиевато продолжал изъясняться Синеоков.
«Скажу-ка я ему сразу и без всяких обиняков: любезный товарищ, не терзайте свое сердце попусту, я влюблена в другого, он остался работать в Казани, в факультетских клиниках, а я уехала на восток. Но ничто – ни расстояние, ни время – не разлучит нас. Поймите это и успокойтесь».
– Хм, прохладно, – кашлянув, повторил Синеоков, – а нам как раз сегодня на роту топливо отпустили, ну, вот я и принес вам немного из своего пайка, – с большим трудом закончил Синеоков, вытянув из-под полы гладкое березовое полено.
– Что вы, товарищ лейтенант! Я ведь и сама получаю паек! – воскликнула Екатерина и про себя подумала: «Что он, по-товарищески это делает или решил таким способом покорить мое сердце?» – Напрасно вы беспокоитесь, товарищ лейтенант. Мы же с вами живем на глазах целого батальона. Люди могут расценить это превратно, – желая проверить свои опасения, с хитрецой проговорила Тарасенко.
– Ну что вы говорите?! Бойцы моей роты сегодня несколько раз ко мне обращались: «Товарищ лейтенант, отдайте наши дрова военврачу. Нас ведь все-таки много, а она одна», – сразу осмелев, неестественно громко заговорил Синеоков.
Выложить все свои доказательства он не успел. С улицы донесся скрип снега, а потом раздался легкий стук в дверь. Тарасенко крикнула:
– Войдите, пожалуйста!
Когда дверь открылась и ворвавшиеся в землянку густые клубы белого пара покатились по земляному полу к столику, Тарасенко и Синеоков увидели политрука Батракова, уполномоченного особого отдела. Он вошел, как и Синеоков, боком и что-то придерживал под полой шинели. Должно быть, оттого, что он не ожидал встретить здесь Синеокова, угрюмые, черные, как агат, глаза его сверкнули с изумлением и погасли под длинными ресницами. Однако, заметив в руке Синеокова березовое полено, Батраков быстро поборол смущение и, усмехнувшись, проговорил:
– Не отказывайтесь, товарищ военврач. Вы у нас одна, и мы это от всего сердца… – Батраков вытащил из-под полы шинели сосновый чурачок и положил его возле печки.
– Нет, право же, товарищи, так нельзя. Я такой же командир, как и вы, и мне неудобно быть в привилегированном положении. Я прошу забрать ваши дрова и больше этого не повторять, – проговорила Тарасенко сердито.
Синеоков и Батраков сконфузились, переглянулись и, желая во что бы то ни стало убедить девушку, заговорили в один голос. В это время в дверь постучали, и в землянку вошли посланцы третьей роты: Шлёнкин, Соколков и Подкорытов. Соколков держал кучку щепок. В руках Шлёнкина было два полена, а Подкорытов придерживал локтем свиток бересты.
– Товарищ военврач, разрешите обратиться, – прикладывая руку к шапке, проговорил Подкорытов.
Но Тарасенко словно не слышала этих официальных слов. Взглянув на вошедших, она поняла то, в чем еще минуту назад сомневалась. Ее приняли в батальоне, как родную, ее полюбили здесь той бескорыстной и по-братски чистой любовью, которая скрашивает все трудности и невзгоды жизни и делает людей преданными друг другу. И она не посмела больше отказываться.
– Товарищи, милые, но почему вы о себе-то не беспокоитесь? Вам же холодно не меньше, чем мне, – растроганно проговорила Тарасенко, опуская повлажневшие глаза.
– Вы уж примите, товарищ военврач. Бойцы обидятся. Вы вон как о нас в ту ночь хлопотали, – сказал Шлёнкин и бережно положил дрова возле печки.
Соколков и Подкорытов выложили свои приношения, потом откозыряли и вышли вслед за Шлёнкиным. Синеоков и Батраков тоже попрощались с Тарасенко и поспешили за бойцами.
Через пятидневку топливо в батальоне кончилось. На кухне дров осталось так мало, что Тихонов приказал снабжать батальон горячей пищей вместо трех – один раз в сутки.
А морозы не прекращались. Степь лежала в тумане. Трескалась земля. Внутренние стены землянок покрылись серебрящимся покрывалом снега. Люди согревались только по ночам. Они спали, прижавшись друг к другу, укрываясь шинелями, плащ-палатками, матрасовками, набитыми сеном.
Но тяжелое положение батальона не могло продолжаться бесконечно. В один из самых морозных дней, пробивая туман ярким светом фар, в пади Ченчальтюй появилась легковушка Разина. Генерала не могли удержать ни морозы, ни метели, и он колесил по пограничным гарнизонам в любое время.
– Ну, как, Тихонов? Живы? – спросил генерал, войдя в штабную землянку и здороваясь за руку с капитаном и Буткиным. – Нате-ка, покурите с горя сладкого, – присаживаясь на табурет и вытаскивая из кармана овчинной борчатки кисет с душистым табаком, сказал Разин.
– Вот, товарищ генерал, подсчитываем последние ресурсы. На кухне осталось двадцать два полена и три ведра угля. Больше трех дней никак не протянуть. Пытались сегодня по степи собирать бурьян, но результаты более чем неутешительные. Силами двух рот собрано три мешка травы, – доложил Тихонов.
– И за это молодцы! Молодцы, что не опускаете рук, ищете, беспокоитесь. А только кончились ваши мытарства. Сегодня на разъезд ночью придут два вагона березового долготья.
– Замечательно! – вырвалось у Буткина, и он весело посмотрел в просветлевшее лицо капитана.
– Надо эти дрова немедленно выгрузить, чтоб не задерживать вагоны. Это во-первых. Во-вторых, не исключена возможность выхода батальона в траншеи. Вот, почитай-ка! – Генерал вытащил из своей полевой сумки листик тонкой папиросной бумаги, испещренный синей машинописью, и подал его Буткину, сидевшему к нему ближе. Это была последняя разведсводка с границы.
23
Ночью третья рота в полном составе работала на разъезде. Березовое долготьё было отличное: ровное, чистое, словно отборное. Люди до того стосковались по огню, что, вытащив из вагона несколько сутунков, распилили их на чурбаны и запалили костер. Тихонов, привыкший за последние дни подсчитывать каждое полешко и каждый уголек, хотел было прикрикнуть на бойцов, затеявших это дело, но, увидев веселое пляшущее пламя, подошел к костру и, вытянув руки, долго грел их.
Работали дружно, споро. Первый вагон разгрузили почти играючи. Прокофий Подкорытов мечтал вслух:
– Первым делом, ребята, как попадем в гарнизон, чаю горячего повару закажем, чтоб покрепче заварил, потом щей горячих наедимся, да так, чтоб пот прохватил…
На рассвете Тихонов приказал Егорову нагрузить две подводы и отправить их в падь Ченчальтюй. Там ждали топливо с часу на час. Когда возы были увязаны, Тихонов осмотрел сани – не перегружено ли – и велел ездовым в гарнизоне не задерживаться. Но дорог в падь Ченчальтюй ни зимой, ни летом не было, и ездовые, понадеявшиеся на намять лошадей, пришедших на разъезд под управлением самого Тихонова, заблудились в степи в непроглядном тумане.
Часов в одиннадцать дня была закончена разгрузка второго вагона. Подводы же все еще не возвращались. Бойцы окружили костер, курили, слушали разговор командиров. Егоров предлагал капитану не ждать подвод, а вывести весь батальон в степь, построить его цепочкой и все березовое долготьё перебросить от разъезда в падь Ченчальтюй эстафетой – от бойца к бойцу. Пока остальные роты находились в гарнизоне, зачин должна была сделать третья рота.
Тихонов слушал Егорова молча, поглядывая на большой ярус березовых сутунков, про себя раздумывал: «А пожалуй, дельное Егоров говорит: если возить дрова на двух лошадях, в неделю с этим не управишься при таком тумане. Да, кроме того, кони нужны на другое дело. Продовольствие и фураж надо обязательно с базы вывезти. Только бы туман чуть-чуть отпустил…»
Егоров видел, что капитан о чем-то раздумывает, не решается высказать свое мнение. Но он был убежден в деле, которое предлагал, и потому заговорил опять о своем:
– Если каждая рота выставит по сто человек, то уже первой очередью эстафеты мы захватим огромное расстояние. Каждый боец при этом будет нести сутунок всего лишь пятьдесят метров. Это не истощит его силы и позволит перекликаться с соседями, чтоб не сбиваться в тумане с направления. А теперь прикинем, сколько потребуется времени для перевозки на лошадях… – И Егоров пустился в пространные арифметические подсчеты.
Тихонов выслушал его до конца, посмотрел пристально на Егорова и, усмехнувшись, сказал:
– А дотошный ты, Филипп Иваныч, мужик. Не будь ты хорошим строевым командиром, тебя надо было бы послать куда-нибудь интендантом, гляди, ты разогнал бы кое-кому дрему…
Бойцы, сидевшие вместе с командирами и слышавшие все доказательства Егорова, принялись обсуждать его предложение. Всем им хотелось скорее отведать горячей пищи, выспаться в теплых землянках, посидеть в клубе без шинелей, вымыться в бане. Они принялись горячо защищать предложение Егорова. Тихонов наблюдал за ними, но пока молчал, поглядывая в степь и прислушиваясь, не скрипит ли где под полозьями снег.
Но подводы не вернулись и к полудню. Стало ясно, что они кружат где-то по степи. Грузовая машина стояла без горючего, и брать ее в расчет не приходилось. Единственный способ, который оставался для переброски топлива в гарнизон, – это способ, предложенный Егоровым.
– Ну вот что, Егоров, – сказал Тихонов. – Выстраивай роту цепью да выдели мне Подкорытова, пусть несет мое приказание Власову, чтоб остальные роты проложили встречную нам эстафету.
Подкорытов был уже наготове, тотчас подлетел к капитану, козырнул, замер по стойке «смирно». Он знал, почему капитан избрал своим посыльным его, Подкорытова. Он славился в роте как лучший ходок, не знающий устали. В таком тумане только он один мог пройти в гарнизон самым кратчайшим путем, не плутая между сопок.
Подкорытов слушал наказы капитана. Егоров тем временем объяснил роте новое задание. Командиры взводов тотчас принялись расставлять бойцов по степи.
– Да, Наседкин, – обратился Егоров к одному из командиров взводов, – учти, что темп работы зависит от вашего взвода. Вы будете в голове эстафеты. На первый этап поставьте самого проворного бойца.
– Соколкова, товарищ лейтенант, придется, – сказал Наседкин.
– Соколкова? Лучше давай кого-нибудь покрепче по комплекции. А если Шлёнкина? – прищурив глаза, проговорил Егоров.
– «Систему»? Этот силен, да уж очень неповоротлив, будет копаться с каждым бревёшком по полчаса, – засмеялся Наседкин.
– А ты его позови сюда, я с ним сам потолкую.
– Шлёнкин, ко мне! – крикнул командир взвода.
Его возглас покатился в морозном тумане от бойца к бойцу:
– Шлёнкина к командиру взвода!
Вскоре к ярусу березового долготья, возле которого стояли Егоров и Наседкин, подбежал запыхавшийся Шлёнкин. Он вынырнул из молочно-белесого тумана, как из воды.
– Товарищ лейтенант, разрешите обратиться к старшине, – приложив руку к шапке, проговорил Шлёнкин.
– Я как раз хочу поговорить с вами. Садитесь, – сказал Егоров и передвинулся с одного места на другое. – Дело вот какое, Шлёнкин. Решили мы с комвзводом поставить вас во главе эстафеты, на первом участке. Но уж поработать придется тут на совесть. От того, как быстро вы будете подавать бревна своему соседу, зависит быстрота движения всей эстафеты, а значит, и честь роты. Ясно?
– Все ясно, товарищ лейтенант, – вскочив, откозырял Шлёнкин.
– Ну, в добрый час! Надеемся…
– Да уж постараюсь, пусть только там в степи управляются, – расплывшись в широкой улыбке, проговорил Шлёнкин.
– Рота, приготовиться к работе! – прокричал Егоров.
Шлёнкин передал приказ комроты соседу, а тот, в свою очередь, переслал его дальше.
Минут через десять от бойца, замыкающего цепь в степи, пришло сообщение, что к работе все готовы. Шлёнкин взвалил на плечи березовый сутунок и понес его сквозь туман очередному бойцу.
Егоров дождался возвращения Шлёнкина и направился к костру доложить капитану Тихонову, что эстафета двинулась в путь.
Когда через полчаса Егоров и Тихонов подошли к ярусу посмотреть, как идет работа, они увидели Шлёнкина в облаке пара. Он проворно, не обращая ни малейшего внимания на подошедших, схватил сутунок, встряхнул его на плече и тут же скрылся в тумане.
– Кто это тут мечется? – спросил Тихонов, не узнав Шлёнкина.
Егоров объяснил. Тихонов посмотрел в туман, как бы стараясь увидеть в нем Шлёнкина, и с теплотой в голосе сказал:
– Вот тебе и «система»! А ведь поначалу в писаря просился.
– Помню этот день, товарищ капитан, помню! – проговорил Егоров, припоминая не только Шлёнкина, но и самого себя.
24
Морозы кончились вскоре после переброски топлива, но в тепле батальон прожил недолго. Однажды утром сидевшие в штабной землянке Тихонов и Буткин услышали позывной писк полевого телефона. Тихонов приложил трубку к уху, назвал свой опознавательный номер. Докладывали с наблюдательного пункта:
– Над нами самолет. Идет из Маньчжурии в глубь нашей территории.
Тихонов крикнул дежурного по штабу, приказал ему объявить боевую тревогу. Дежурный бросился из землянки к висевшему на столбе куску рельса, ударил по нему железным курком от телеги.
Буткин и Тихонов выбежали вслед за ним, не удаляясь от землянки, остановились, прислушиваясь к протяжному гулу мотора. Самолет шел на такой высоте, что его трудно было сразу увидеть. Буткин и Тихонов стояли, закинув головы, осматривали небо. Увидеть опознавательные знаки им не удалось, но то, что самолет принадлежал японцам, было ясно и без того. Самолет покружился над сопками минут десять – пятнадцать, по-прежнему не рискуя снижаться, и лег на обратный курс.
– Это разведчик. Завтра он появится и опять пройдет несколько ниже. Знаю я ухватки японцев еще по Халхин-Голу, – сказал Тихонов.
Но в этот день произошло другое серьезное событие. Полевой караул, как обычно высланный из батальона накануне, вернулся с важным сообщением. Патрулируя, бойцы увидели на японской стороне фанерный лист, исписанный русскими буквами. Буквы были написаны так крупно, что их можно было прочитать без бинокля. «Сегодня наши доблестные императорские войска вошли в Сингапур». Слово «Сингапур» было написано по старой орфографии, с твердым знаком на конце.
После того как бойцы доложили об этом факте и ушли из штаба, Тихонов сказал Буткину, писавшему очередное донесение в политотдел:
– Кружится у японцев голова от легких успехов. Сингапур они, может быть, еще и не взяли, но возьмут. Чего же его не взять при таком сопротивлении. Теперь японцы вообразят, что и мы такие же вояки, как англичане и американцы, и, чего доброго, кинутся на нас.
– Это факт! По-моему, мы никогда еще не были так близки на востоке к войне, как теперь, – отозвался Буткин и, помолчав немного, сказал, откладывая ручку в сторону: – Вчера начальник политотдела показал мне несколько записей радиоперехвата из Токио. Там совершенно откровенно призывают не терять времени и напасть на СССР.
Они не успели закончить свой разговор, как в землянку вошел нарочный из вышестоящего штаба с пакетом под черными сургучными печатями.
Тихонов приказал увести нарочного в столовую и, когда тот в сопровождении дежурного вышел, вскрыл пакет. Штаб предписывал: к исходу следующих суток батальону выдвинуться к границе, в район его обороны, и привести в готовность все боевые средства. Далее указывались способы связи с соседями и местонахождение оперативной группы штаба.
– Всё они расписали, как по маслу, а вот то, что у меня бойцы сидят без полушубков и валенок, до этого им дела нет, – сердито проговорил Тихонов.
Он молча походил по землянке. Остановившись возле Буткина, сказал:
– Поезжай, Петр Петрович, к генералу Разину, натрави его на интендантов, а я займусь подготовкой к выходу в траншеи.
Но Тихонов горячился напрасно и интендантов поносил совершенно зря. Буткин не успел еще выехать, как в падь Ченчальтюй прибыло четыре грузовика с полушубками и валенками. Все это было новенькое, не обдутое еще ветрами, и остро пахло фабричными кислотами.
В течение суток батальон одевался, обувался, приводил в порядок оружие. Теперь, когда все бойцы и командиры были обмундированы по-фронтовому, оружие вновь осмотрено и вычищено, ни у кого и мысли не было, что война не начнется и на этот раз. Все чувствовали себя приподнято и были преисполнены решимости смело встретить новые испытания.
Переход к границе совершили под покровом темноты.
Траншеи были засыпаны снегом, и их пришлось прочищать лопатами. Одновременно принялись сооружать обогревательные пункты. Это были обыкновенные брезентовые палатки, натянутые в складках сопок. Сверху на палатки бойцы набросали колючей степной травы, а снизу соорудили завалинки из плитняка, кучами лежавшего по сопкам, и пластов спрессовавшегося на ветру снега.
Внутри палаток были поставлены железные печки. Отдыхали бойцы небольшими группами, по очереди, прямо на земле, застланной сеном.
Иногда в палатках становилось так тепло, что бойцы сбрасывали с себя полушубки и отогревались по-домашнему.
Рота Егорова занимала свой прежний участок. По равнине, расстилавшейся к югу от маньчжурского городка, даже в самую тихую погоду то и дело проносились поднятые вихрем столбы снега. Маньчжурский городок чернел и дымился, но оттого, что ни на улицах городка, ни возле него не видно было никакого движения, он казался покинутым.
Обжились на новом месте быстро. В траншеях из камней соорудили сиденья. На второй день по взводам начались регулярные занятия: читали сводки Информбюро, уставы, проверяли знание оружия.
Егоров прошелся по всем взводам и остался доволен. Вспомнился летний выход батальона на границу. Тогда люди были не подготовлены, взводы и роты не сколочены, не хватало командиров. Вспомнил Егоров кое-что и о себе. «Суетился я тогда больше всех, хватался то за лом, то за лопату, с командного пункта во взвод убежал… Что у нас тогда было? Готовность бороться и умереть и оружие, которое мы все плохо знали… И все-таки мы были силой. Наткнись тогда японцы на нас, мы могли одержать над ними верх. Мы окрылены были желанием защищать честь Родины. Разве не это же чувство придает силы нашим воинам там, на западе? Партизаны или народное ополчение тоже ведь не проходили военных академий, а сколько они дали жестоких боев немцам?! Да, другие стали мы, и я совсем другой стал, а когда этот перелом случился, где он и на чем наметился, – трудно теперь установить…»
С этими мыслями Егоров подошел к обогревательному пункту, остановился, докуривая глубокими затяжками папиросу, хотел пролезть в палатку, но услышал басок Шлёнкина и решил послушать, о чем он говорит.
– Я помню, когда нас капитан привел в падь Ченчальтюй, посмотрел я на сопки и подумал: «Нет, больше месяца мне не прожить тут, с ума сойду». А теперь иногда раздумаюсь, представлю, как мы когда-нибудь уезжать будем, и чую – защемит сердце. Суровая сторонка, а привыкли, вроде лучше нашей пади и мест на земле нет. Еще тосковать потом будешь, – засмеялся Шлёнкин.
– Ты к этим местам через труд приобщился, вот в чем загвоздка, – послышался голос Викториана Соколкова. – Если б ты не перерыл здесь столько земли, не пролил столько пота, не встретил тут новых товарищей, не знал, ради чего ты живешь тут, ты давно бы сбежал отсюда. Что бы тебя тут держало?
– Это верно. Здесь тем и держишься, что другие держатся, – согласился Шлёнкин.
– Одним словом, земля родная, – громко зевая, проговорил Соловей.
«И они о том же, о чем и я», – подумал Егоров и пролез в узкую щель в палатку.
Увидев лейтенанта, бойцы хотели подняться, но Егоров махнул рукой:
– Не нужно. Отдыхайте.
Он лег на сено рядом с Соколковым, закинул руки. Ночь он не спал, сидел на наблюдательном пункте, проверял внешние посты на подступах к роте, потом был у Тихонова на совещании командиров.
Егоров почти уже уснул, когда раздался голос сержанта Соловья:
– Товарищ лейтенант, разрешите обратиться?
Егоров открыл глаза, поднял голову, ждал.
– Я вас, кажется, разбудил, извините, товарищ лейтенант, – сказал Соловей. – Но, видите ли, дело такое. Сердечное, так сказать. Я еще в гарнизоне хотел поговорить с вами, да вы все заняты были. – Сержант волновался и, против обыкновения, говорил заикаясь и путаясь. – В партию я надумал вступить. Хочется в бой с японцами пойти коммунистом. Вы мне рекомендацию дадите?
Егоров поддержал намерение сержанта, но объяснил, что выполнить его просьбу не может. Во-первых, у него не хватает еще партстажа, а во-вторых, он знает его меньше одного года, что не отвечает требованиям устава партии.
Соловей огорчился, а Егоров, заметив это, проговорил:
– А вы не унывайте, Соловей. У нас в батальоне немало коммунистов с большим стажем: наш политрук Петухов, комбат Тихонов, комиссар Буткин, старшина Наседкин, так что рекомендующих найти можно. Что касается срока пребывания в батальоне, то время тоже работает на вас. Год пролетит незаметно. Будете так же хорошо служить, дам вам служебный отзыв, достойный вступающего в партию…
Соловей посмотрел на Соколкова, на Шлёнкина, потом перевел взгляд на командира роты.
– Благодарю вас, товарищ лейтенант. Извините, что побеспокоил.
Егоров опустил голову, но опять приподнялся, спросил:
– Ну а вы, Соколков, не собираетесь вступать в партию?
– Нет пока, товарищ лейтенант, подзакалиться еще надо.
Шлёнкин приподнялся на локте, выжидал, спросит лейтенант о том же у него или не спросит. Лейтенант не спросил, но, взглянув на него, сказал:
– В партию никогда не поздно вступить. Важно, чтоб человек душой созрел, чтоб сами дела его привели в партию.
Шлёнкин понял, что лейтенант сказал это для него. «Значит, он считает, что я еще не созрел», – подумал Шлёнкин, и ему стало от этой мысли горько. Он повернулся на другой бок, лежал, размышляя: «Ну хоть бы спросил лейтенант, и то мне легче было бы».
Шлёнкин так и уснул с этими мыслями. Когда он проснулся, стояла уже ночь. Ни Егорова, ни сержанта, ни Соколкова в палатке не было. На их местах спали другие бойцы. Ветер свистел над палаткой, поскрипывал снег под ногами часового, охранявшего обогревательный пункт.
Шлёнкин хотел подняться, но посмотрел на часы со светящимся циферблатом и решил полежать еще. Спать уже не хотелось, и сами собой на ум пришли прежние мысли.
«Ну хоть бы спросил лейтенант. Я бы ведь напрашиваться не стал. Уж коли Соколков не созрел, а я и подавно. А все-таки зачем же так?» Потом он вспомнил себя довоенным. В памяти отчетливо представилась комната, обставленная старой, уже изрядно затасканной мебелью, вечеринки с участием начальства, мир и покой, царившие тогда у них в конторе, размещавшейся на тихой улочке, в уютном деревянном доме, построенном, должно быть, каким-то чиновником среднего достатка. Давно ли от этих воспоминаний мучительно тоскливо становилось на душе? Теперь они не трогали сердце. Нет, не так он жил, и хорошо, что та жизнь кончилась. И почему раньше он не встретил этого Витю Соколкова, ненасытного и жадного до жизни? Разъездной ревизор… Ему это казалось вершиной. Он упивался своей должностью, и ничто, кроме благополучия, не занимало его. Соколков… Немало он над ним, над Терентием Шлёнкиным, потешался, немало резких и горьких слов он высказал и… спасибо ему, спасибо. Шлёнкин представил себя после войны. Как знать, может быть, он и переживет эту войну, уцелеет, пройдя через все испытания, которые жизнь готовит ему. И жить тогда он будет по-другому, он еще не знает в точности – как, но совсем иначе. Возможно, он пойдет учиться, он ведь совсем еще молод, а скорее всего, он будет работать там же, в «системе», он же любит свою работу, но только к жизни он подойдет с новой меркой…
Убаюканный своими размышлениями, он лежал и час и другой…
– Красноармеец Шлёнкин, на выход! – раздался за палаткой приглушенный голос дневального.
– Есть, Шлёнкин на выход! – негромко, чтобы не разбудить товарищей, ответил Терентий и поспешно вскочил.
«Быстро, черт возьми, время пролетело! Давно ли смотрел на часы, было около двух, а сейчас к четырем приближается… Соколков теперь уже ждет меня», – думал Шлёнкин, затягиваясь сверх полушубка ремнем. Через пять минут Шлёнкин в сопровождении разводящего шагал по восточному склону сопки к ее подножию. Здесь, под прикрытием огромного валуна, стояли круглосуточно часовые.
Соколков резким возгласом остановил разводящего, которым был в эту ночь сержант Соловей, и Шлёнкина. Узнав по голосу сержанта, он разрешил им приблизиться к посту. Смена караула произошла четко и быстро.
– Подними воротник, Терёша. Ветерок ледяной, – проговорил Соколков, подергивая плечами.
Он не уходил, ждал, когда Соловей направится вместе с ним. Соловей почувствовал его нетерпение.
– Иди, Соколков, иди, я тебя догоню, – приказал он и, видя нерешительность Соколкова, пояснил: – Шлёнкин у нас на этом посту первый раз стоит, надо показать ему все приметы местности.
Соколков постоял еще несколько минут, переминаясь с ноги на ногу, и не спеша побрел вдоль степи.
– Итак, Шлёнкин, примечай, – донесся до Соколкова голос сержанта.
Вскоре Соколков подошел к глубокой складке, походившей на противотанковый ров, и, войдя в нее у самого основания сопки, начал по тропинке, протоптанной уже часовыми и разводящими, подниматься в гору. Он шел все так же медленно, несколько раз останавливался, прислушивался, не догоняет ли его Соловей. Ночь стояла сумрачная. Небо было низкое, без звезд и без месяца. Ветер дул короткими порывами, проносясь по сопке с диким, заунывным посвистом. В такую ночь хорошо бы сидеть в теплой светлой квартире, читать какой-нибудь приключенческий роман и пить горячий, крепкий чай. Но в мире шла кровопролитная война, и миллионы людей поступали не так, как им хотелось…
Соколков вошел уже на вершину сопки, а сержанта все не было. «И где он там застрял? Жди его тут на ветру. А один придешь, карнач будет ругаться, скажет, почему не вместе ходите. А я, что ль, начальник? Не пойти ли назад?..»
– А, черт! – выругался Соколков и принялся подпрыгивать, размахивая руками и постукивая ими одной о другую.
Соколков проплясал так с полминуты. Когда стих сильный порыв ветра, обдавший его снегом, возле него выросла фигура человека.
– Соколков? Почему один? Где разводящий? – послышался голос политрука Батракова. Он стоял, как бы приготовившись для прыжка, и Соколков в сумраке увидел, что большие, всегда угрюмые глаза Батракова блестят необыкновенным блеском.
– Идет он где-то, товарищ политрук, – с виноватой ноткой в голосе сказал Соколков. – Шлёнкина инструктировал.
Батраков прыгнул, и Соколкову показалось, что он не побежал, а стремглав покатился с вершины сопки. Настороженно и поспешно оглядевшись, Соколков подумал: «Что он? Что это значит?» Еще ничего не решив, Соколков понял, что Батраков проделал все это не зря и ему надо не стоять тут в раздумье, а скорее бежать вслед за политруком.
Он снял с плеча винтовку, встряхнул ее на руках и побежал, с большим трудом удерживаясь, чтоб не упасть и не разбиться о камни.
А там, на посту возле валуна, в эти короткие минуты произошло следующее.
– Итак, Шлёнкин, примечай, – проговорил Соловей и начал рукой указывать на кустики степного чертополоха, черневшие в трех-четырех метрах на поляне, убегавшей к самой черте границы. – Все заметил? Ясно? – спросил Соловей.
– Все ясно, товарищ сержант, – ответил Шлёнкин, наполняясь каким-то особенно торжественным чувством готовности нести свой ответственный пост.
В это время Соколков скрылся из глаз, войдя в глубокую складку сопки. Соловей отдалился от Шлёнкина на один шаг, строго спросил:
– А что ты будешь делать, Шлёнкин, если кто-нибудь из бойцов батальона вздумает уйти за границу?
– Таких у нас не найдется, – воскликнул Шлёнкин и, помедлив, твердо добавил: – А если найдется все же, я такому негодяю пулю в башку всажу…
Шлёнкин стоял с винтовкой наперевес. Сказав эти слова, он крепче прижал ложе, находившееся под мышкой. Две-три секунды было тихо. Один порыв ветра со свистом унесся в степь, а другой только еще приближался. Но вот ветер рванулся, снег облаком взлетел ввысь.
Соловей с ножом кинулся на Шлёнкина сзади. Шлёнкин втянул шею в плечи. Удар пришелся по подбородку. Распарывая полушубок, нож скользнул по кости и вонзился в бок.
Шлёнкин почувствовал острую боль. Он хотел закричать, но сил не было. Напрягая все свои мускулы, он сжимал руку врага с ножом, обращенным к его горлу. Отбросив винтовку в снег, Шлёнкин второй рукой ударил Соловья в переносицу, потом встряхнул его, перебрасывая через голову. Соловей ударился о землю, крякнул, захрипел от злости и напряжения. Падая, он увлек за собой Шлёнкина. Теперь они катались по снегу. Несколько раз нож врага настолько приближался к горлу Шлёнкина, что смерть от него была на расстоянии одной-двух секунд. Но всякий раз Шлёнкин отводил руку с ножом.
Кровь, должно быть, хлестала из раны ручьем. Бок вымок в крови, и боль становилась с каждым мгновением острее и острее. Шлёнкин понял, что спасение ему могут принести только товарищи. Отсюда, от валуна, в траншеи тянулся сигнальный провод. Нужно было как-то извернуться и хотя бы ногой задеть за этот провод. Шлёнкин вытягивал ноги, стараясь поближе подкатиться к месту, где лежал провод. Но Соловей понял замысел Шлёнкина. Изо всех сил тянул он Шлёнкина подальше от валуна. Один раз Шлёнкину удалось все-таки задеть провод носком валенка, но рывок был слабый, и там, в траншее, могли не понять, что он взывает о помощи…
«Надо ударить его камнем по голове», – промелькнуло в мыслях Шлёнкина, и он начал одной рукой шарить возле себя в надежде наткнуться на камень. Соловей тотчас почувствовал, что сопротивление ослабло, и подмял Шлёнкина под себя. В следующее мгновение Соловей вырвал у Шлёнкина свою руку с ножом. Это был серьезный выигрыш. Но и Шлёнкин теперь был вооружен. Он держал в руке тяжелый, с острыми краями камень. Один удар таким камнем в голову мог решить исход борьбы.
Однако ни Соловей, ни Шлёнкин не успели вступить в решающую схватку. Подбежал Батраков. Рукояткой нагана он ударил Соловья по руке с ножом, схватил его за воротник полушубка, направил в лицо дуло револьвера.
– Поручик Квятковский, встаньте, ваш номер не прошел! – с торжеством в голосе, отчеканивая каждое слово, проговорил Батраков.
Шлёнкин все еще держал в руке тяжелый камень. Рядом с политруком стоял Соколков. С сопки бежали бойцы и командиры. Шлёнкин услышал встревоженный голос Тарасенко:
– Вы ранены?
Егоров схватил Шлёнкина за руку, крепко сжал ее, шепча какие-то неясные, но хорошие, идущие из глубины души слова…
…Два месяца прожил батальон Тихонова в траншеях на границе, а когда вернулся в падь Ченчальтюй, началось все сызнова: учения, походы, караулы и тревоги… тревоги…
Часть вторая Орлы над Хинганом1
В те июньские дни тысяча девятьсот сорок пятого года небо над степью было закрыто мутно-желтым шатром пыли. День и ночь гудела и содрогалась земля от грохота танковых колонн, от рокота самолетных моторов, от рева автомобилей, от топота лошадей.
С наступлением сумерек над степью поднималось яркое зарево, как от гигантского пожара. Это сливались в единое море света огни фар, костры биваков, лучи прожекторных установок противовоздушной обороны.
Живой, бушующий поток людей, машин, лошадей поглощали десятки и сотни эшелонов, прибывавших на неведомые степные разъезды чуть ли не из всех столиц Европы. Воины, прошедшие с боями от Москвы и Сталинграда до Берлина и Вены, с горячим любопытством осматривали однообразное степное раздолье.
Вокруг лежали изрытые сопки. Извилистые противотанковые рвы тянулись на десятки и сотни километров. Траншеи и окопы встречались на каждой сотне шагов. Землянок было едва ли не больше, чем тарбаганьих нор. Миллионы кубометров земли передвинули человеческие руки за эти четыре года.
Сколько же потребовалось на это сил, упорства, мужества?
Ветераны войны знали настоящую цену воинского подвига.
– Хотя о вас не писали в сводках Информбюро, но работали вы знаменито, – говорили они солдатам и офицерам забайкальских полков и дивизий.
Забайкальцы вливались в общую массу войск как равные, со своей особой славой – славой людей, выдержавших великое и тяжкое стояние на восточных рубежах Родины…
Двадцатого июля дежурный по штабу батальона принял срочную телефонограмму, адресованную комбату Тихонову. Точным и энергичным языком в ней предписывалось немедленно прибыть в штаб генерала Разина.
Тихонов и Буткин, пообедав, пришли в свою землянку, намереваясь поиграть часок в шахматы. Они расставили фигуры на самодельной, расчерченной цветными карандашами доске, но начать игру не успели: вошел дежурный. Прочтя телефонограмму, Тихонов молча передал ее Буткину и приказал дежурному готовить лошадь.
Генерал Разин встретил Тихонова радостным возгласом:
– А, майор Тихонов, здравствуй!
– Капитан, – поправил генерала Тихонов.
– Нет, отныне – майор Тихонов. Вот приказ. И так сверх срока почти год в капитанах ходил. Ну, поздравляю, поздравляю от всего сердца. – Генерал протянул через широкий письменный стол сухую жилистую руку и крепко сжал руку Тихонова. – Присаживайся, майор, прошу.
По его сияющим из-под густых, нависших бровей глазам Тихонов понял, что генералу было приятно сообщить ему новость о повышении в звании.
– Как идет время, майор! – воскликнул Разин, приветливо и молодо поглядывая на Тихонова. – Я ведь помню тебя лейтенантом, командиром взвода…
– Мои однокашники по училищу, товарищ генерал, уже полками на фронте командовали, – сказал Тихонов.
– Да, да. Вот и мои товарищи во главе фронтов и армий стоят. Ты знаешь, майор, генерал-полковник, – Разин назвал фамилию известного в стране генерала, войска которого довольно часто отмечались в приказах Верховного Главнокомандующего, – он же полком у меня в дивизии на Халхин-Голе командовал, а генерал армии, – Разин назвал фамилию другого знаменитого советского полководца, – этот в Гражданскую войну начальником штаба у меня был…
– Да, сильно выросли люди, – вставил Тихонов и со вздохом признался: – И, откровенно говоря, товарищ генерал, жалко, что не удалось повоевать на Западе. На днях встретил одного друга – у него на груди вся Европа: Бухарест, Будапешт, Берлин, Прага. Прямо завидно стало. И когда только успел человек!
– Ну что ж, майор, нам обижаться не на кого, а для угрызения совести тоже нет оснований. И мы Родине служили, и по всему видно, неплохо служили.
Генерал поднялся из-за стола, прошел к массивному стальному сейфу и длинным плоским ключом открыл его.
Вытащив желтую папку, он на руке раскрыл ее, отыскивая, по-видимому, какой-то необходимый ему документ.
Тихонов неотрывным взглядом следил за ним. В первые минуты их беседы он решил, что генерал пригласил его к себе, чтоб сообщить о присвоении нового звания. Правда, это можно было сделать по телефону, но генерал мог пожелать увидеть Тихонова лично.
Теперь Тихонов был твердо уверен, что генерал позвал его к себе с другой целью. Во всей фигуре генерала – высокой, сухой и чуть сгорбленной – проглядывала озабоченность, и набухшие кровью жилы на изогнутой шее выражали крайнее напряжение.
«Ну-ну, чем же ты меня порадуешь, старина?» – прислушиваясь к шелесту бумаг, думал Тихонов, не спуская глаз с генерала.
А Разин на несколько секунд задержал взгляд на какой-то бумажке, сунул папку в сейф, закрыл его и поспешно опустился в кресло с высокой резной спинкой.
– Майор, двадцать второго июля вверенному вам батальону надлежит сняться из пади Ченчальтюй и, совершив марш, поступить в распоряжение командующего армией генерала…
Разин произнес это официальным тоном со строгим выражением на моложавом румяном лице, потом откинулся на спинку кресла, заглянул в глаза Тихонову и совсем просто, словно на его месте появился другой человек, сказал:
– Жалко мне, Прохор Андреевич, отдавать тебя другому командующему. Столько лет вместе! Был ты у меня на хорошем счету, и знал я – в решающий час можно тебе доверить самое трудное дело. Ну, ничего, жизнь у нас солдатская. Может быть, еще не раз встретимся.
Тихонов этого не ждал. «Прощай, падь Ченчальтюй», – пронеслось у него в мыслях, а сердце защемило – будто не стенной распадок, а родной дом, в котором он родился и встал на нога, предстояло ему покинуть.
– Разрешите спросить: а замена будет? – взволнованно проговорил он.
Генерал весело засмеялся, понимая, о чем беспокоится комбат.
– Дворцы боишься без призора оставить?
– Хозяйство все-таки, товарищ генерал. Сколько поту пролили. Симочкина похоронили… Помню, как вы мне за его гибель выговор вкатили.
– Замена придет. На ваше место встанет гвардейский минометный полк. Он уже на подходе…
– Достойная смена. Этим не жалко наши дворцы передать, – без улыбки сказал Тихонов, про себя подумав: «На нашем участке, стало быть, артиллерийский кулак готовят. Верно задумано». – Еще разрешите один вопрос, товарищ генерал: батальон вольется в какой-нибудь полк или будет на правах отдельного?
– Это уж как новый командующий решит, однако полагаю, что вашим батальоном усилят один из маршрутов.
Через несколько минут Тихонов распрощался с генералом и, получив у начальника штаба подробные указания о порядке передислоцирования батальона, поехал обратно в падь Ченчальтюй.
…Тихонов любил ездить по степному раздолью. В эти поездки он брал с собой только ординарца Трубку. Было у Трубки одно незаменимое качество – молчаливость. Даже лошадь и ту Трубка ухитрялся погонять молча, легким похлестыванием вожжей по крупу.
Боец не мешал думать. Тихонов дорого ценил эти короткие часы, когда, озирая степь, можно было взвесить жизнь, унестись в прошлое, в будущее, подумать наедине о делах и людях батальона, вообразить встречу с женой, детишками, мысленно вволю наговориться с ними, налюбоваться на милые доверчивые мордашки ребят, незабываемые и в разлуке, какой бы длительной она ни была. Приближался вечер. Зной ослабел, солнце ярко-кирпичного цвета опустилось на вершину одной из сопок и лежало на ней круглое, полное, как переспевшее яблоко. Небо было чистое и высокое, но, невесть откуда взявшись, по степи метался сухой, горячий ветер. Зной и ветер – в других местах это было несовместимым. Забайкалье, как всегда, как во всем, оставалось все таким же своенравным и необычным.
Ветер проносился над головой Тихонова с каким-то ожесточенным шепотом, лихо и стремительно. Когда пришлось проезжать мимо тополевой рощицы, у линии железной дороги, Тихонов слушал, как тревожно трепещет на низкорослых деревцах листва, как по-живому шумят гибкие ветви, словно огромная стая птиц, взлетающая в небо.
Беспокойно и радостно было на душе у Тихонова. Мысли его теснились в мятежном беспорядке. Против обыкновения, ему хотелось сейчас выговориться – выговориться и о прошлом, и о предстоящем, и о себе, и о своих товарищах, но выговориться было не перед кем. Трубка сидел с лицом непроницаемо спокойным и казался бесконечно далеким от всего, что так волновало его, Тихонова.
– Трубка! – возбужденно воскликнул Тихонов.
– Ась? – встрепенулся боец.
– Опять ась! Четвертый год не могу отучить. Эх, Трубка, Трубка! А закурить хочешь?
Трубка скупо улыбнулся и, прежде чем взять папиросу из раскрытого портсигара, прищелкнул пальцем. Этот жест так выразительно передал удовольствие бойца, что Тихонов изумленно подумал: «Вот ведь как без слов привык обходиться!»
– Скажи, Трубка, где ты научился молчать? – не зная, как излить свое возбуждение, спросил Тихонов.
– С малолетства я глазурью посуду расписывал. Работаешь, и все один, один, вот и попривык, товарищ капитан, – пояснил Трубка.
– Я, брат, теперь не капитан, а майор…
– Поздравляю, товарищ майор, – почтительно протянул Трубка.
– Спасибо. А насчет себя ты рассказывал. Помню, помню, ты в колхозе гончаром был.
Трубка прикусил папироску и до конца пути не произнес больше ни одного слова.
Тихонов курил беспрерывно папиросу за папиросой. «И что так лениво Гнедко переваливается! Буткин теперь ждет, все глаза просмотрел. Наверное, не догадывается, какие вести везу я», – раздумывал Тихонов. Он раза два громко прикрикнул на жеребчика, бежавшего и без того спорой рысью. Но Трубка не одобрил его вмешательства. Он посмотрел на него выразительно, словно сказал: «Скотина – она бессловесная, по такой жаре ее и запалить недолго».
Тихонов усовестился, безвольно опустил руки, ссутулился, как бы покорился судьбе: двадцать километров, хочешь не хочешь – сиди, их не перепрыгнешь.
Но через минуту он уже не замечал ни Трубки, ни ветра, ни Гнедка, который постепенно сбавлял резвость.
Он сидел, увлеченно раздумывая.
И многое пронеслось в его мыслях из того, что было пережито, и еще больше из того, что предстояло пережить.
Каков будет новый командующий? Какое дело поручат батальону? Когда начнутся события? Теперь они не могут не начаться.
И что собою представляет вероятный театр военных действий на полтысячи километров южнее того направления, на котором батальон значился теперь? Каковы там будут условия для ведения войны?
Да, теперь ему очевидно, что противника он изучал слишком узко. Все, что лежало от пади Ченчальтюй к востоку на добрых двести километров, он знал наизусть, знал так, словно сам хаживал по этим местам. А юг Маньчжурии? Много ли он о нем знает?
Мысли его неслись и неслись. Перед ним кто-то ставил уже боевые задачи: захват населенного пункта, преследование врага, прорыв укрепленной полосы… И мелькали в воображении офицеры и бойцы батальона, приведенные в движение его волей. Вот и проверится, кто на что способен: бой даст точнейший отпечаток свойств каждого…
Двуколка подпрыгивала, Тихонов подскакивал, как мяч, на железных пружинах. Мысли его время от времени менялись, рождались новые кадры, будто начиналась другая часть того же кинофильма.
«Симочкин… Наказать, чтоб берегли могилу. Завтра же прикажу покрасить оградку…»
«…Ну, вот и кончилось, Тихонов, твое многолетнее сидение в сопках. Сколько же ты горьких дней пережил здесь, сколько крепких слов отпустил насчет этой местности, будь она не лихом помянута… А только и то правда: лучшего места для выучки солдат трудно найти».
Ему вспомнился обрывок разговора Петухова с Егоровым. Петухов по обязанности парторга батальона заполнял какие-то списки. Спрашивает Егорова: «Образование?» Тот говорит: «Гражданское – Иркутский государственный университет. Военное – забайкальская солдатская академия». И, посмотрев друг на друга, они залились веселым смехом.
«Забайкальская солдатская академия»… Ну хоть и не академия, но школой можно назвать, и школой хорошей. Недаром фронтовые офицеры сибирякам и дальневосточникам дают высшую аттестацию.
Каков будет его батальон в бою? На фронт с границы мало брали, и батальон почти не обновлялся. Верно, за эти годы уехали на учебу в академию командиры рот Синеоков и Королев, выбыл еще кое-кто. Он знает каждого, но и его тоже знает каждый… Не слишком ли засиделся народ? Нет. Да и когда было засидеться? То жили в траншеях, то строили укрепления, то ловили диверсантов… И так все эти пять лет!.. А шпионы-то! Первый был… как его… Соловей – будь он проклят, второй Дубинчик, явился в качестве военфельдшера, третьего в бригаде актеров накрыли, четвертый с подложным документом от Генерального штаба приехал, проверять боеготовность оружия, пятый был «шалый». Шел с намерением перейти границу, напоролся на секретный пост, хотел скрыться бегством, но Соколков одним выстрелом продырявил обе ноги… А нарушения границы, пограничного режима? Пусть, кому интересно, посмотрят боевой дневник батальона.
Нет, не могли засидеться в такой обстановке люди, и столько ненависти и ожесточения накопили они, что загорится эта ненависть в бою ярким пламенем… А все остальное от тебя, Прохор Андреевич, будет зависеть. Не зря говорится: каков офицер, таковы и солдаты…
– Тырр! – закричал Трубка так громко и так неожиданно, что Тихонов вздрогнул и, вглядываясь в мягкий сумрак июльского вечера, с удивлением увидел родные землянки Ченчальтюя.
– Быстро, Трубка, домчал ты меня, – не то с радостью, не то с сожалением произнес Тихонов и выпрыгнул из двуколки.
Его тотчас же окружили офицеры. Они собрались сюда, хотя никто их не созывал. По рукопожатиям, по взглядам Тихонов понял их нетерпение и, чтоб не мучить, сказал:
– Через полчаса, товарищи, прошу в штаб на совещание. А пока ты мне нужен, Петр Петрович. – Он слегка обнял Буткина, увлекая его в сторону, за землянки.
2Восьмое августа на исходе…
Изнурительно медленно тянутся последние минуты. Ночь непроглядно темна. В степи так тихо, что слышно, как тренькают и звенят в воздухе комариные стаи. Где-то далеко-далеко вспыхнет неярким, бордово-желтым светом зарница и, дрожа, загаснет. Степная пичуга, прикорнувшая на ночь в густой траве, по-человечьи вскрикнет спросонья и сразу же замолкнет в страшном испуге.
Степь сомкнулась с небом, а где, в каком месте – не отыскать. Темнота липнет, обволакивает, застилает землю, как дым лесного пожара. Не видно ни танков, ни повозок, ни автомашин, а их вдоль границы – тысячи! Людей еще больше: по степному раздолью залегли батальоны, полки, дивизии.
Последние минуты мира… Третья рота вся в сборе. Нет только командира. Старший лейтенант Егоров – у комбата, где-то тут же неподалеку.
Разговор не вяжется. Все, что думалось об этой войне, – все сказано на митингах: справедливость. Святая справедливость. О ней говорили горячие речи, ее прославляли русским многоголосым «ура», и от переполнивших душу чувств взлетали в небо пилотки и фуражки…
А теперь минуты сокровенного раздумья. Граница рядом. Другой мир рядом. Война рядом. И новая, совсем иная жизнь лежит за недолгими, не утекшими еще в вечность минутами…
Соколков растянулся на траве. Август еще в начале, но по монгольским просторам тянет прохладой. Он подергивает плечом, плотнее прижимается к спине Шлёнкина.
«Буду вместе с ребятами… Буду стоять за них, а они за меня…» – размышляет Соколков, и на душе становится спокойнее, и вспышки чистой, большой радости озаряют его душу.
Не один Соколков разговаривает в эти минуты сам с собой. Темнота скрывает задумчивые лица бойцов.
В кармане гимнастерки Соколкова лежит последнее письмо от Наташи. Ему хочется достать его и еще раз перечитать от начала до конца, но темь такая, что хоть глаз коли. Соколков вспоминает отдельные фразы:
«В университет уже многие вернулись. Приехал без ноги из Берлина доцент Куприянов – командовал полком.
А помнишь Толю Новикова? С химического? Он тоже вернулся. И представь себе – Герой Советского Союза».
Еще бы не знать Тольку Новикова! С первого класса учились вместе. Счастливчик! Герой… И может каждый день видеть Наташу…
«Когда же ты вернешься, Витя? – продолжает вспоминать Соколков фразы из письма. – Посаженный нами с тобой в знак дружбы тополь уже вырос чуть не до крыши, а тебя все нет. Впрочем, не пойми это как отчаяние. Буду ждать тебя еще хоть десять лет…»
Соколков мысленно повторяет эти фразы, потом шепчет их.
– Ты что, молитву бормочешь? – спрашивает Шлёнкин.
– Стихи вспоминаю, – отговаривается Соколков.
– Нашел для стихов время, – с укоризной говорит Шлёнкин.
– А почему нет? Ты что, боишься? – шепчет Соколков.
– Как тебе сказать? Боязни нет, а волнуюсь… Черт ее знает, может быть, нам жить с тобой осталось минуты…
Соколкову хочется сказать: «Ну к чему такие мрачные мысли? Смотри на все бодрее», – но произнести эти слова он не в силах. Нервная дрожь пронизывает и его.
– Все может быть, Терёша, – судорожно позевывая, соглашается Соколков.
Они замолкают, но Соколков перебарывает себя, и вскоре опять слышится его голос:
– А умирать, Терёша, подождем. Наступил и наш черед воевать.
– Да умирать я и не собираюсь. Что ты?!
Итак, договорено обо всем, но Соколков вспоминает, что он забыл сказать Шлёнкину свою наиважнейшую просьбу. Лучше бы о ней умолчать после только что сказанных Шлёнкиным слов о смерти, но удастся ли ее высказать потом? Соколков тянется к уху Шлёнкина, доверительно шепчет:
– Терёша, если меня того… Ты пошли Наташе письмо… в комсомольском билете… Сколько на твоих фосфорических?
Шлёнкин поднимает руку, смотрит на поблескивающие стрелки и цифры:
– Через десять минут…
И снова молчание.
Вдруг слышатся чьи-то торопливые шаги. Они все ближе, ближе. Кажется, что идущий наткнется на бойцов третьей роты. Но вот шаги мгновенно затихают, словно человек провалился сквозь землю, с полминуты слышно лишь, как бренчат на своих однообразных бандурах липкие степные комары.
– Третья, поднимайсь, – коротко приказывает Егоров.
Значит, это он шел, шаркая сапогами о траву.
Все вскакивают, надевают скатки, вещевые мешки, винтовки, ощупывают привычными движениями рук затворы. Рота строится. В темноте не так просто найти свое место в строю, но солдат плечом чует товарища. Рота стоит в ожидании новой команды.
Расчерчивая черное небо узкими полосками, то ало-красными, то фиолетовыми, то зелеными, взлетают ракеты. Вслед за этим, где-то далеко-далеко, словно соперничая с зарницей, вспыхивает короткое заревцо. Оно вспыхивает два-три раза, затем начинает мигать ежесекундно.
– Артиллерия приступила к делу.
– Далеко, даже звука не слышно, – замечают в строю.
Рота стоит без движения еще несколько минут. Ах, как мучительны эти минуты – скорее бы в бой! И тишина! Она угнетает. Ведь где-то уже воюют! В чем дело? Почему нет команды двигаться?
Со свистом взлетает еще одна ракета – красная, с искрящимся продолговатым хвостом. Ракета не успевает еще лопнуть и рассыпаться, как степь оглашается ревом моторов.
Рев танков доносится откуда-то слева. До них, должно быть, тоже не близко, но сколько же их, если под ними дрожит земля и беспокойно колышется воздух! Рев все нарастает, и Егорову приходится кричать во все горло:
– Рота, за мной, шагом марш!
Команду слышат немногие, но опять выручает солдатское чувство плеча: товарищ тронулся, не отставай от него.
Позвякивают котелки, скрипит под ногами песок, кованые каблуки высекают искры из острых степных камней. Рота идет… идет. Бойцы вслушиваются в каждый звук, всматриваются в темень до боли в глазах. Винтовки наперевес оттягивают руки. Где же граница, где японцы? Танки прогрохотали в стороне и смолкли, не затихает только артиллерия. Зарево дрожит, разливается по горизонту, и, чем дальше идет рота, тем оно становится шире, крупнее, ближе.
– Бог войны по японскому укрепрайону жарит.
– Дождались своего и самураи, – негромко переговариваются бойцы.
Но ухо настороже, глаз напряжен.
Каждый думает только об одном: «Ну, где они, где они, эти бахвалившиеся, драчливые вояки? Скорее бы, скорее столкнуться с ними и испытать свои силенки».
Вдруг строчит автомат. Он строчит короткими очередями, и совсем близко. Бойцы рассыпаются, вздымают винтовки к плечу, но команды нет, а эхо от выстрелов прокатилось по степи и затихло.
В темноте кто-то маячит на лошади.
– Егоров! Что остановились? Продолжайте марш!
По голосу бойцы узнают комбата Тихонова. «Он с нами!» На душе у каждого становится спокойнее. Тихонов не даст врагу напасть врасплох. Он умеет видеть даже ночью. Рота идет дальше. Выстрелов больше не раздается, но все их ждут, ждут…
Справа и слева движутся другие роты батальона. Порой они так сближаются, что слышно, как тяжело дышат люди. А ночь уже постепенно светлеет. Поднимается месяц откуда-то с земли, словно он лежал тут, прикорнув до поры до времени на траве. Степь, ранее сокрытая темнотой, предстает перед взором голубоватой и такой широкой, будто нет у нее ни конца ни края. Месяц светит недолго. Сумрак редеет, и в небо вонзаются пламенеющие лучи далекого солнца.
Через час начинает пригревать. Взору открывается такой неохватный простор, что робеет глаз. Над степью висят желтые тучи пыли, они виднеются впереди, позади, слева, справа. Под ними движутся колонны автомашин и танков, идут походным строем роты, батальоны, полки.
Все осматривают степь и понимают, какие несметные силы двинула Родина на Дальний Восток…
3Близ полудня батальон Тихонова останавливается на привал. По данным карты, здесь должно быть озерко. Тихонов вместе с Буткиным отправляется искать его. Они бродят по кочкам, высокая и упругая, как щетина, трава полирует голенища их сапог. Тучи комаров с противным писком кружат над головами, липнут к потным лицам и рукам.
Озерка нет. Пока картографы чертили и печатали карты, вода испарилась. На месте озерка поблескивает солончаковая лысина.
– Напились, Петр Петрович, водички! – хмурясь, бурчит Тихонов.
Буткин вытаскивает из чехла новую саперную лопату с крашеным черенком, копает. Безнадежно. На воду нет и намека. Сухой песок лежит толстым слоем. Под ним глина – спрессованная, плотная, как кирпич.
– Попробуй тут вот, верь карте, – все так же хмуро говорит Тихонов. Он подзывает Егорова: – Рассредоточьте роту, пошарьте по степи. Возможно, в карте ошибка и озерко показано неточно.
Егоров выстраивает роту веером. Бойцы ходят по степи, приглядываются, ковыряют лопатами землю. Проходит полчаса, час – воды нет.
Батальон обедает. Дымит походная кухня. Белый колпак повара кажется на фоне зеленых просторов степи особенно ослепительным.
Поход походом, а сержант Серёжкин верен себе: опрятность – первая заповедь повара.
Обед сварен на совесть! Щи покрыты желтой восковой пленкой жира. Гречневая каша рассыпается по крупинкам. После такого обеда невыносимо хочется пить. Но воды во флягах – чуть донышко закрыто, а знойный день почти весь впереди.
Бойцы скупо переговариваются. В горле сухо, язык липнет к нёбу. Некоторые с отчаянием машут руками, выпивают воду до последней капли. Более терпеливые делают осторожные глотки и прячут фляги в чехлы.
В течение часа батальон отдыхает. Солнце уже печет нещадно. Воздух горяч, как в жарко натопленной бане. В степи тихо – не колышется ни одна былинка. Бойцы прячутся от зноя под плащ-палатки, засыпают коротким, тяжелым сном.
Наряды боевого охранения зорко оберегают сон товарищей, всматриваются в степное, подернувшееся розоватым маревом раздолье.
То там, то здесь дымятся кухни. А дальше стоят неподвижные столбы пыли, поднятой людьми, лошадьми, машинами.
Прежде чем двинуться дальше, Буткин произносит речь. Морщинистое лицо замполита побронзовело, глаза воспалены от пыли и бессонницы. На гимнастерке проступили пятна. Пот и пыль насквозь пропитали материю защитного цвета.
– Товарищи! Вода будет через сорок пять километров. Надо их сегодня пройти во что бы то ни стало. Японцы отступают по всему фронту. На нашем участке они бегут в предгорья Хингана. Мы должны настигнуть японцев раньше. Хинганский хребет удобен для обороны. Засядут там – вышибать будет нелегко. А потому – вперед! Вперед! И еще раз вперед!
Первым в третьей роте начинает сдавать Шлёнкин. Он дышит все тяжелее и тяжелее. Пот застилает глаза. Плечи ноют. От ремня винтовки немеет рука. Ноги передвигаются тяжело, будто на них гири. Но покидать строй Шлёнкин не хочет и шагает… Шагает…
Рота постепенно растягивается. Кое-кто из бойцов опускается на землю, сбрасывает обувь. Портянки – хоть выжимай. Перекинув ботинки через плечо, солдаты спешат догнать товарищей. Но рота не стоит на месте. Чтоб нагнать ее, надо идти быстрее, чем она, а силы и так на пределе. Отставшие тянутся стайкой на некотором расстоянии от роты.
Соколков чувствует, что Шлёнкин вот-вот выйдет из строя. Терентий дышит уже с какой-то хрипотцой. Нет, Соколков не может допустить этого, он же комсорг, а комбат сказал, что для коммунистов и комсомольцев батальона нет сейчас более важной задачи, чем организованность на марше.
«И отчего его так развезло? Грузный, жиру много. То ли дело вот Прокофий Подкорытов. Идет себе, и даже пота на лбу нет», – сам с собой разговаривает Соколков и посматривает на Подкорытова. И правда, тот шагает свободно, чуть покачиваясь на своих длинных ногах, и кажется, что он идет не с тяжелой поклажей, а налегке.
Шлёнкин спотыкается. От жары у него кружится голова.
– Ты что, Терёшка? – зачем-то спрашивает Соколков.
– Воды бы глоток, – говорит Шлёнкин сдавленным голосом, словно кто-то сжимает ему горло. Пустая фляга его болтается в чехле, пристегнутом к пояспому ремню.
– На-ка вот, приложи к губам тряпочку, – говорит Соколков и, осторожно приложив белый лоскуток к своей фляге, подает его Шлёнкину.
– Хорошо, язык еще чуть смочу, – отзывается Шлёнкин и берет тряпочку в рот.
Через несколько минут его дыхание становится опять шумным, и он, поскрипывая зубами, ожесточенно машет правой рукой.
Соколков и сам-то идет с крайним напряжением сил, но ему становится ясно, что, если сейчас Шлёнкину не помочь, он свернет в сторону, сядет на землю, и тогда его не поднять никакими силами. И Соколков решается на крайнюю меру:
– Терёша, дай мне свою винтовку, передохни малость.
Шлёнкин колеблется, медлит, но отказаться не может.
Соколков повторяет свое предложение более настойчиво. Шлёнкин, не останавливаясь, снимает винтовку. Соколков с готовностью подставляет левое плечо – на правом висит собственная винтовка.
Почувствовав значительное облегчение, Шлёнкин чуть не падает. Стоило облегчить плечо, и ритм ходьбы требует перемены.
Шлёнкин делает несколько неуверенных шагов, но быстро уравновешивает тело. Какое блаженство! Плечо начинает жить. Немота, сковавшая руку, постепенно исчезает, затекшие пальцы восстанавливают прежнюю чувствительность.
Солнце льет на землю огненные струи. Земля накалена. Ноги жжет – кажется, что идешь по раскаленному железу.
Первые сто шагов Соколков делает довольно уверенно, но дальше винтовка Шлёнкина словно прибавляется в весе с каждой секундой. Соколков еще больше горбится, сильно раскачивается из стороны в сторону. Шлёнкин не дает товарищу выбиться из сил окончательно. Он уже чувствует себя способным не только нести свою винтовку, но и помочь Соколкову.
– Давай, дружище, мою «подругу»! – со смешком говорит Шлёнкин. – Спасибо тебе. И вот что, дай-ка на минутку твою. А ты переведи дух.
Соколков возвращает Шлёнкину его винтовку, а минутой спустя отдает ему и свою.
Пятьдесят, от силы семьдесят шагов Шлёнкин несет две винтовки, но как дороги эти секунды! Силы словно возвращаются к Соколкову, и он испытывает в душе глубокую благодарность к Шлёнкину.
Солдаты уже заметили взаимную выручку двух товарищей. Ничто не мешает им воспользоваться их примером – теперь уже никто больше не отстает.
Часам к пяти дня становится так душно, что даже степные птахи, щебетавшие в поднебесье, замолкают, попрятавшись в тени густых трав.
Рота заметно сбавляет шаг. У Соколкова от перегрева течет из носу кровь. Санитар дает ему вату, смоченную в каком-то растворе. Помогает. Пока Соколков лечит на ходу свой нос, его винтовку попеременно несут Шлёнкин и Подкорытов.
Временами сухощавый, жилистый Подкорытов несет три винтовки: свою, Соколкова и Шлёнкина. Он не горбится от тяжести, как остальные, дышит свободно и лишь слегка покрякивает.
В роте появляется старший лейтенант Петухов с лицом густо-пунцового цвета, в пилотке, сбитой на макушку рыжей головы. Петухов – парторг батальона.
Как ни утомлены солдаты – старшего лейтенанта приветствуют громкими голосами. Петухов – желанный гость в роте. Все убеждены, что парторг непременно расскажет что-нибудь интересное. В батальоне знают, что Петухов неравнодушен к колхозной теме, некоторые подшучивают над этой слабостью, но подшучивают дружески, беззлобно.
Петухов входит в середину колонны, и вскоре слышится его голос:
– Товарищи, а кто-нибудь есть у вас из Риги?
Рижан оказывается двое. Это молодые бойцы, присланные в роту незадолго до советско-японской войны из батальона выздоравливающих.
– Радостные вести, товарищи, идут из вашего города, – говорит Петухов. – Только что получен сегодняшний номер армейской газеты…
И Петухов рассказывает, что в Риге уже восстановлено много фабрик и заводов. На двенадцати трамвайных линиях, общей протяженностью более ста километров, нормально работает трамвай. Двадцать семь бань обслуживают население города. Двери двадцати трех кинотеатров открыты для трудящихся Риги.
Солдаты-рижане вносят дополнения по письмам от родных.
– А про Казахстан, товарищ старший лейтенант, слышно что-нибудь? – спрашивает Назир Кукенбаев – пожилой боец с черными усиками «в стрелку».
– О, брат Назир, хорошая слава идет по стране о Казахстане. В ближайшие дни у вас заканчивается строительство завода. Весь завод-гигант оснащен автоматикой. Даже горение в топках и подача воды в котлы регулируются автоматически. Многие насосы и компрессоры включаются без участия человека…
– Хорошо!
Кукенбаев от удовольствия щурит глаза, и они мечут в узкие прорези искорки большой радости. Назир гордо посматривает на бойцов, шагающих рядом, перемешивая русские слова с казахскими, торопливо рассказывает о родных риддерских рудниках, на которых он работал до войны забойщиком.
Постепенно завязывается беседа о родных краях, о письмах, полученных из дому, о той восстановительной горячке, которая царит по всем городам и селам страны. С беседой идти куда легче!
Соколков толкает локтем в бок Шлёнкина, шепчет:
– Терёша, неужели старший лейтенант ничего о колхозах не расскажет?
Обветренные губы Соколкова дрожат от лукавой улыбки, улыбается и Шлёнкин.
– На колхозном фронте, товарищи, нынче большой разворот, – слышится голос Петухова.
Он рассказывает о ходе уборки на Украине, потом вспоминает свой родимый Алтай, называет имена знатных комбайнеров, подсчитывает «средний вес» трудодня в лучших колхозах. Солдаты помогают ему высчитывать то урожайность на гектар, то нормы выработки передовиков, то общие доходы колхозов-миллионеров.Беседа так увлекает всех, что на время люди забывают о жаре и усталости.
Петухов замечает, что рота подтянулась, даже отстававшие солдаты и те бойко шагают вместе со всеми.
– Ну, бывайте здоровеньки, товарищи. Оружие берегите, сами будьте начеку. Разведка доносит, что японцы спешно создают из своих полков и батальонов летучие отряды.
Петухов уходит в другую роту. Его провожают взглядами, полными глубокого уважения. Кто-то кричит вдогонку:
– Почаще приходите, товарищ старший лейтенант!
Петухов оборачивается, кивает головой.
В роте смолкает разговор. Петухов ушел, но все, что он говорил, запало в душу каждого. Великие дела совершаются там, на Родине! Еще не отгремели бои, а в стране кипит созидательная работа. Скорее, скорее довершить разгром ненавистных японских самураев, уничтожить опасность нашествия врага на Родину с Востока – и за дело, на леса новой пятилетки!
Уже вечером, в сумерках, батальон подходит к озеру, возле которого намечена ночевка. Увидев поблескивание воды, освещенной месяцем, солдаты ускоряют шаг. Жажда невыносима. Она держит в страшном оцепенении не только все тело, но и мозг. Хочешь этого или не хочешь, а мысли твои об одном и том же – о воде.
Солдаты, предвкушая удовольствие, которое сулит озеро, громко разговаривают об этом.
– Полведра без отдыха выпью!
– С ведром управлюсь!
– Залезу в озеро и буду всю ночь лежать!
Когда до озера остаются считанные метры, кое-кто пытается бежать. По путь к воде им преграждает сам комбат. Он сердито кричит:
– Кругом, шагом марш!
В сумраке солдаты успевают рассмотреть, что батальонный врач Тарасенко и начальник штаба Власов вошли по колено в озеро и, пробуя воду, почему-то отплевываются.
Вскоре все проясняется. Приходит Тихонов. Он говорит:
– Озеро, товарищи, соленое, пить воду нельзя.
Кое-кто из более догадливых солдат бросается к обозу.
Там есть бочка с водой – НЗ (неприкосновенный запас). Теперь ее, вероятно, разрешат открыть. Люди не пили целый день. Но, еще не доходя до бочки, солдаты слышат грозный окрик часового:
– Вертай назад!
Солдаты догадываются, что бочка взята уже под особую охрану.
Солдаты возвращаются к кострам, на которых вместо дров дымится степной бурьян.
Буткин беседует с батальоном:
– Придется терпеть, товарищи. Израсходовать последнюю бочку воды нельзя. Мы должны чем-то напоить лошадей. Без пойла они не пойдут, а это значит, что мы растеряем обоз и окажемся небоеспособными.
Солдаты слушают Буткина молча, насупившись. Да, замполит думает мудро, говорит убедительно, но пить, пить все-таки хочется смертельно.
Пока Буткин беседует с солдатами, Тихонов диктует радисту донесение в штаб армии:
– Приказ генерала выполнен. Батальон за истекшие сутки прошел пятьдесят километров. Озеро оказалось соленым. Сидим без пресной воды. Продолжение марша завтра будет протекать в сложнейших условиях – до ближайшего колодца сорок километров…
Поспевает ужин. Повар Серёжкин зазывает солдат к котлам. Но никто не идет. Кому же придет охота есть свиную тушенку с сушеным картофелем, когда хочется выпить хотя бы глоток воды? Серёжкин гасит костер, закрывает котлы до утра.
Ночью почти никто не спит, все бредят водой. Солдаты бродят по берегу озера, отчаявшись, пытаются пить соленую воду, но жажда от этого становится еще более изнуряющей. Кое-кто приспосабливается и слизывает скупую росу с лепестков степной травы.
На рассвете Тихонов поднимает батальон. В степи прохладно, воздух отдает сырцой – время для марша самое лучшее. Днем разгар зноя придется пережидать под раскинутыми плащ-палатками.
Тихонов смотрит на роты со стороны. Шаг у солдат тяжелый, лица сумрачные, под глазами синева. Денек, видно, будет сегодня памятный!
Комбат догоняет санитарные повозки, спрашивает Тарасенко:
– А лекарства, капитан, у вас не слишком далеко лежат?
Военврач понимает, что беспокоит комбата, отвечает:
– Будем наготове, товарищ майор.
Вскоре появляется солнце. Не проходит и часа, а оно начинает уже припекать. Тихонов думает с сожалением: «Не выпал же на наше счастье пасмурный день», – и тревожно осматривает растянувшуюся колонну.
Вдруг из глубин безоблачного неба доносится далекий рокот самолета. Протяжный звук нарастает с каждой секундой. Это, по-видимому, идет на бомбежку советских войск уцелевший после сокрушительных ударов нашей авиации японский самолет.
– Воздух! – подает команду Тихонов.
Батальон рассыпается на мелкие группы. Солдаты ложатся на землю, вздымают винтовки: во время войны с немцами немало сгибло фашистских пиратов от меткого огня советских пехотинцев.
Тихонов подзывает радиста, приказывает, чтоб, в случае если самолет окажется японским, он передал сообщение об этом в штаб армии и соседним частям.
Справа и слева от батальона движутся мощные колонны войск всех родов. Тихонову приказано прокладывать линию наступления между ними и при необходимости вступать с этими колоннами во взаимодействие.
Самолет приближается, увеличиваются его очертания. Вот он над батальоном. Все видят на его огромных крыльях красные звезды.
– Наш! «Воздух» отбой! – слышатся голоса офицеров.
Солдаты поднимаются с земли, обоз стягивается в одно место. Самолет делает круг над батальоном и снижается.
– Уж не думает ли он садиться? – недоуменно переглядываясь, говорят солдаты.
И в самом деле, самолет все опускается и опускается, словно присматривается: хороша ли площадка для приземления.
Через минуту-другую он скользит колесами по земле, катится, вздымая за собой облако пыли. Тихонов, Буткин, Власов бегут к самолету. Солдаты спешат за ними, одни в строю, другие свободно.
Из самолета выпрыгивают пилот, штурман, бортрадист. Командир корабля, офицер с лейтенантскими погонами, спрашивает приближающихся:
– Товарищи, чье это хозяйство? Нам нужен майор Тихонов.
– Вы не ошиблись. Я майор Тихонов, – говорит комбат.
– Я же говорил тебе, Виктор, что прямо в середину батальона тебя привезу, – смеется штурман, кудрявый юноша, поглядывая на лейтенанта.
– Воду вам привезли, товарищ майор. Сам командующий послал. Кроме того, два тюка сегодняшних газет, – говорит командир корабля.
Тихонов бросается к летчику, обнимает его.
– Ну, выручили вы нас! Спасибо! И командующему спасибо. Какие генералы у нас, а? Я ведь ничего не просил, ни на что не жаловался…
Солдаты уже окружили самолет. Весть о том, что самолет доставил воду, передают из уст в уста, загоревшие липа словно расцветают от широких, простых улыбок.
Пока воду переливают из жестяных бочонков в деревянные бочки, стоящие на телегах, солдаты читают газеты, пахнущие еще свежей типографской краской.
На первой полосе напечатано сообщение Советского информбюро о положении на фронте. Буткин прочитывает его вслух, комментирует краткими замечаниями, потом спрашивает летчиков:
– А где вы побывали, товарищи, что повидали?
Летчики смеются, и штурман, встряхивая кудрявой головой, говорит:
– А вы спросите нас, товарищ капитан, где мы за эти дни не бывали? Харбин бомбили, Маньчжуро-Чжалайнурский укрепленный район бомбили, десанты сбрасывали, горючее передовым танковым отрядам возили, водичкой вашего брата пехотинца снабжали, медикам лекарства возили… Да где мы только не побывали?!
Штурмана слушает не только Буткин. Солдаты оторвались от газет, затихли, смотрят на летчиков с изумлением и завистью. «Счастливцы эти крылатые люди!»
– А как там наша пехота воюет? – спрашивает Тихонов.
– Дают самураям дрозда! – восклицает командир корабля.
Он рассказывает о героях, прорывавших маньчжуро-чжалайнурские укрепления. Долговременные сооружения здесь имели мощные прикрытия. Толщина их достигала двух метров. Много было подземных казематов и много амбразурных дотов. Ничто не устояло перед натиском советских воинов.
Дослушав до конца рассказ летчика, солдаты говорят:
– Вот это воюют люди! А у нас воды на один день не хватило – и уже скисли!
Но ни пехотинцам, ни летчикам нет времени затягивать разговор. Опять ревут моторы. Самолет несется по степи, отрывается от земли, делает над батальоном прощальный круг и ложится на свой курс.
Проводив его взглядами, солдаты наполняют фляги водой. Батальон выстраивается в походную колонну. Тихонов подает команду, присматриваясь к солдатам, говорит Буткину:
– Сегодня, Петр Петрович, километров на шестьдесят рванемся вперед. Ты смотри, какое у людей боевое настроение!
Замполит согласно кивает головой.
4
Егоров не устает размышлять. Хотя забот у комроты прибавилось, времени на это хватает. Увлекшись мыслями, легче идти.
Степь, ее однообразная безграничность рождает ожесточение. Временами заболеваешь от пространства – глаза ищут опоры, появляется неутолимая жажда лесных запахов и лесной прохлады. Простор степи, воспетый тысячи раз поэтами, изнуряет, как пытка.
Когда можно, Егоров идет с закрытыми глазами. Шагнет три-четыре шага, посмотрит, гладко ли впереди, и опять закроет глаза.
Никогда ранее не испытывавший склонности к литературному творчеству, он пользуется сейчас, на привалах, свободной минутой, чтоб занести в толстую записную книжку свои мысли и впечатления.
«Внутренняя Монголия. Стоянка в степи возле безвестного озера Табун-Нур.
Сегодня тридцать пять лет. Отправляясь в тридцать шестое путешествие вокруг солнца, хочется прожить сто лет! Берусь подсчитывать: в 1950 году мне будет сорок лет, в шестидесятом году – пятьдесят лет, в семидесятом году – шестьдесят лет, в восьмидесятом году – семьдесят! Но это еще не предел. Сколько же я могу сделать нужного людям, если доживу до тысяча девятьсот восьмидесятого года! Много! Мир широк, и его широта захватывает… Иду в свой тридцать шестой год полный дум, поисков и надежд».
«Новый привал в степи. Углубляемся на вражескую территорию. Японцы бегут, и столкновения с ними еще не было.
Сознание того, что ты участник этих событий, наполняет гордостью. Это переживают все солдаты. Теперь кажется оправданным наше четырехлетнее сидение на границе и все пережитое и перечувствованное в те годы…»
«Думал много о Сашеньке и дочурке. Припомнились слова Тургенева: “Разлуку переносить и трудно и легко. Была бы цела и неприкосновенна вера в того, кого любишь”, – тоску разлуки победит душа».
«Еще один привал в безлюдной степи.
Час назад наткнулись на монастырь, спрятанный среди неожиданно появившейся в степи гряды сопок. Это пока первое человеческое строение, встреченное на нашем пути. Монастырь захламленный, аляповатый, люди ушли неизвестно куда.
Разведчики говорят, что населенные пункты пойдут только после перевала через Хинганский хребет, но до хребта еще шагать да шагать!
Сводки Совинформбюро радостные. Наши войска на других направлениях берут город за городом. Даже завидно становится!
Со ссылкой на иностранное агентство передано сообщение о капитуляции Японии.
Был начальник политотдела армии. Собирал офицеров у комбата, требовал бдительности и высокой боеготовности, заявил, что самое трудное еще впереди.
Быть ко всему готовым – вот мой девиз».
5
Перед закатом солнца батальон Тихонова, миновав зыбкие песчаники, поросшие мелким ивняком, выходит на ровную поляну, окруженную барханами.
До Хингана еще десятки километров, а местность начинает меняться. Изредка перепадают кустарники, пересохшие ручейки, одинокие сопки, похожие на древние могильники.
К барханам жмется двор из глинобитных стен. Посередине двора высокий бревенчатый дом, а вокруг него не менее десяти мрачных, с двумя-тремя маленькими окнами, мазаных домиков.
Напротив двора, через дорогу, огромный монастырь. Крыша отделана желтой медью, сияет от лучей солнца. С какой стороны ни взгляни – первое, что видишь, – отблески меди. Стены монастыря, крыльцо, узкие окна отделаны резным деревом. На них многорукие, хвостатые, многоголовые чудовища.
За монастырем расстилается равнина, как бы вырвавшаяся из-под власти песчаных барханов. Тысячи овец и сотни волов пасутся на этой равнине.
Всем этим владеют тринадцатилетний князек и его мать.
Высланная Тихоновым разведка доносит, что японцы покинули княжество три дня назад. Советских войск здесь не было. Передовые отряды, по-видимому, прошли где-то в стороне.
Тихонов знает коварство японцев, и роты входят в княжество не сразу, а одна за другой, и все с разных направлений.
У ворот Тихонова встречает необыкновенно толстая, с заплывшим лицом княгиня в ярко-цветистом, расшитом золотом халате. Она держит за руку мальчика в дорогой шелковой одежде. Тот ошалело смотрит на Тихонова и бойцов, жмется к пухлому туловищу матери.
Княгиня кланяется. Крепкими подзатыльниками заставляет кланяться сына, но дикие глаза князька полны страха, и он стоит, втянув голову в плечи.
Тихонов рассматривает далембу невиданно хитрой раскраски, приближается к княгине с сыном. Еще за десять шагов до них ударяет в нос крутой запах бараньего сала. От запаха поднимается тошнота. Тихонов останавливается. Только теперь он замечает, что дорогая одежда княгини и сына в жирных пятнах.
Переводчик, прикомандированный к батальону штабом армии, маленький белобрысый офицер, по виду совсем еще подросток, переводит княгине слова Тихонова:
– Он, командир подразделения Красной Армии, должен осмотреть все строения. Чем это вызвано, он не намерен объяснять. У войны есть свои законы. Хозяйка может не беспокоиться – ее имущество будет в полной сохранности, ее права ни в чем не будут поколеблены или нарушены. Он просит об одной любезности: выделить провожатого.
Княгиня кланяется пуще прежнего. Она что-то долго лопочет, посматривая то на Тихонова, то на переводчика, то на взвод автоматчиков, стоящий за офицерами.
Переводчик, терпеливо выслушав ее, переводит.
– О, зачем провожатый?! Она сама проведет господина офицера. Она бесконечно рада приходу Красной Армии. Столько лиха пережила она при японцах. Тысячи, многие тысячи голов скота поставляло ее княжество японской армии. Японцы были жестоки, не давали никакой пощады бедным баргутам. Она так рада приходу Красной Армии, что дарит господину офицеру из своих стад двадцать волов и сто баранов.
Тихонов смущенно благодарит, отказывается принять подарок. Переводчик уже начинает переводить, но его останавливает Буткин.
– Не надо отказываться, Прохор Андреевич, – говорит он. – Княжество, насколько я разбираюсь в делах, от этого подарка не обеднеет. Кроме того, учти местные обычаи: не принять подарка – это значит грубо обидеть хозяина. Бери. Обоз батальона пополнится новой тягловой силой. Многие тяжести с плеч бойцов можно будет переложить на спины волов. Бараны тоже пригодятся. Бойцам осточертели всякие концентраты. Свежее мясо прибавит нам сил в походе.
Тихонов слушает Буткина с изумлением. Умеет же человек видеть всегда главное!
Тихонов просит переводчика сказать княгине, что он благодарит ее за подарок и выделяет для его приема своего помощника. Княгиня подзывает к себе морщинистого старика с выцветшими глазами и велит сейчас же скакать к стадам.
Потом Тихонов осматривает княжеский дом и монастырь. Всюду стоит запах бараньего сала. Воздух насыщен им до головокружения. Тихонов все переносит стойко, считая неудобным на глазах хозяйки зажимать нос платком.
Посетив жилище княгини и монастырь, Тихонов направляется в маленькие серые домики. В них сыро и темно.
По углам сидят на кошме ламы – молодые, крепкие парни угрюмого зверковатого вида. При входе княгини и Тихонова они не спеша встают, закидывая руки за спины.
Тихонов присматривается к ним, улучив удобный момент, шепчет начальнику штаба:
– Власов, пригляди за этими святошами.
Тот немедленно передает приказание выставить у княжеского двора секреты.
…Батальон располагается на ночевку в километре от княжеского двора, у подножия бархана, поросшего редким и мелким кустарником.
К ночи небо хмуреет. Начинает сверкать молния – надвигается гроза. Тихонов приказывает развернуть палатки. Дождь не должен мешать отдыху, – завтра предстоит пройти около шестидесяти километров.
Батальон ужинает. Серёжкин приготовил рагу из свежей баранины.
– Молодец! Быстро развернулся! – хвалят бойцы повара.
Через полчаса бивак затихает. Люди засыпают в одно мгновение. Не спит только третья рота: она сегодня несет караул.
Обойдя часовых, расположение которых обеспечивает батальону круговую оборону, Егоров забирается в палатку. Власов уже спит. Егоров лежит с открытыми глазами, прислушивается. Где-то за барханами заунывно шумит ветер. Доносятся протяжные раскаты грома. Гроза идет стороной. Егоров нажимает кнопку карманного фонарика, смотрит на часы: половина второго.
Невыносимо хочется спать. Голова становится тяжелой. Егоров ставит локоть на землю, кладет голову на ладонь и будто проваливается в небытие.
Просыпается от свиста и грохота. Дождь с остервенением бьет по брезенту. От ударов грома звенит в ушах. Первое, о чем думает Егоров, – о солдатах. «Вымокнут насквозь, а сушить одежду негде». Потом он смотрит на часы: долго ли спал? Без пяти два. Ничего себе отхватил – двадцать пять минут!
Голова уже не кажется свинцовой. Мысли ясные, ощущения отчетливые. Спать больше не хочется. «Через десять минут схожу на поверку постов, – решает Егоров, но тут же передумывает. – Пусть пройдет гроза. Противник тоже ищет лучших условий для боя, вряд ли он полезет в бурю…»
6
Вдруг в раскаты грома врывается резкий выстрел. Егоров вскакивает и вылетает из палатки. Холодные, упругие струи дождя секут его лицо. Ветер сбивает с ног. Яркие вспышки молнии ослепляют, но, пользуясь этим зеленовато-багровым светом, разливающимся по степи, он старается понять обстановку. Раздается еще один выстрел. Вслед за ним строчат автоматы, строчат надсадно, словно хотят перекрыть басовитое рычание грома.
Егоров в неведении не больше десяти секунд. В его ощущении – это вечность. Наконец он замечает, что по склону холма ползут люди. Ему хочется получше рассмотреть, куда они ползут и много ли их, но свет внезапно гаснет. При следующей вспышке удается заметить, что люди прячутся за кустарники и песчаные бугорки, нанесенные тут ветром в великом множестве.
«Ночное нападение смертников. Вот тебе и не полезет противник в бурю», – проносится у него в мыслях. В тот же миг созревает решение: немедленно привести все огневые средства обороны в действие. Японцы могли окружить батальон.
Егоров поднимает автомат и выпускает две короткие очереди трассирующих пуль. Это условный сигнал: огонь!
Теперь земля и небо содрогаются не только от грома и молнии, от ветра и дождя, – трескотня автоматов, пулеметов, винтовок, взрывы гранат сливаются в сплошной гул.
Дождь не затихает, но молния, как назло, вспыхивает реже. Рядом с Егоровым Тихонов, Буткин, Власов. Они ждут каждой вспышки молнии. Как ни прижимаются японцы к земле, молния их демаскирует, а Тихонову помогает направлять огонь с большей точностью.
Батальон в темноте роет дополнительные окопы, углубляет подготовленные с вечера. Японцы пока не отвечают на огонь, но ясно, что они ответят. Надо дорожить минутами.
Гроза затихает мгновенно. Тихонова так и подмывает выдвинуть одну роту в степь преследовать японцев, но кругом темно, силы врага неизвестны, и он решает ждать рассвета.
О сне больше никто не помышляет. Тихонов приказывает через небольшие промежутки времени освещать местность ракетами. Сотни глаз всматриваются в даль. Тихо, безлюдно по склонам барханов. Японцы ушли. Но куда они ушли? С какой целью? Не готовят ли они сосредоточенный огневой налет на советский батальон?
Тихонов не теряет дорогих часов, вносит новые поправки в расположение батальона. По голой равнине японцы нападать не рискнут, следовательно, больше оружия надо сосредоточить в направлении гряды барханов. Пока происходит перестановка сил, начинает брезжить рассвет.
Егоров с ротой направляется за барханы. Возвращается, сверх ожидания, очень быстро. Гряда барханов, а также редкие кустарники, примыкающие к ней, пройдены насквозь – японцев нет, нет и трупов. Неужели стрельба была настолько неумелой? При таком огне у японцев не могло не быть потерь.
– Трупы унесли. Надо осмотреть степь дальше, – говорит сумрачно Тихонов.
Несколько взводов выдвигаются в степь. Вскоре прибывает первое донесение. В километре от стоянки, в балке, запрятано семь трупов японцев. Через пять минут второе донесение от того же взвода: найдено еще четыре убитых японца.
– Вот это другое дело! – говорит Тихонов.
Спустя некоторое время прибывает третье донесение – на этот раз от другого взвода. Тихонов прочитывает его и вдруг свирепо рубит кулаком воздух.
– За княжеской усадьбой в кустарнике, в песке, обнаружены трупы. Раздеты до белья, ножевые удары в сердце и живот, выколоты глаза, на щеках вырезаны звезды. В трупах опознали наших бойцов Афонькина и Толстова.
Все это читает вслух Буткин. Тихонов стоит тут же как гранитное изваяние. Бойцы были выставлены с вечера в секрет. Он хорошо знал этих бойцов, и ему тяжело примириться с мыслью, что их уже нет. Комбат припоминает биографии бойцов. Афонькин из Томска, совсем еще юноша. Техник-строитель. Техникум кончал без отрыва от производства, работая каменщиком. Упорный был паренек. Любил свой город страстно и преданно. «У нас в Томске каждый пятый житель студент», – с гордостью говорил Афонькин. А какая у него семья?.. Мать! Бедная женщина, горькое известие ждет тебя…
Толстов… Черемховский шахтер. Воевал на Халхин-Голе… Трое детей… Член партии…
– Петр Петрович, – обращается Тихонов к Буткину, – насчет Толстова напиши в райком, пусть сирот не забудут.
Буткин стоит с раскрытым блокнотом, еще и еще раз перечитывает донесение о зверствах японцев. Душа его переполнена скорбью и ненавистью. Сейчас на митинге он не скажет ни одного лишнего и пустого слова. Любой звук его речи, прежде чем родиться, пройдет через самые сокровенные тайники сердца, и незримое пламя его души обожжет каждого.
– Стройте, Власов, батальон, – приказывает Тихонов. Пока он думал о погибших бойцах и разговаривал с Буткиным, в уме шла усиленная работа и зрело решение.
Надо окружить усадьбу княжества. Короткая цепочка барханов слишком ненадежное укрытие. Наверняка враг использовал усадьбу. А гибель бойцов, оставленных в секрете? Все нити тянутся прямо в княжеский дом.
Тихонов сообщает о своем замысле Буткину, Власову и командирам рот. Комбат еще не приказывает, а советуется. Его намерение встречает единодушное одобрение. Через несколько минут батальон движется на выполнение новой боевой задачи.
7
И снова Тихонова у ворот встречает заплывшая жиром княгиня с сыном. Она почтительна и угодлива не меньше, чем вчера. Но Тихонов замечает, что в глазах ее под полуопущенными веками не угасает тревога.
Господину офицеру что-нибудь потребовалось? О, она будет рада услужить!
Тихонов не слушает ее. Он спешит в серые, приземистые домики. Теперь его сопровождают взвод автоматчиков и взвод ручных пулеметчиков. Солдаты увешаны связками гранат.
Тихонов входит в крайний домик. Ламы поднимаются. Встревоженно смотрят на вошедших. Прищурившись, комбат одним взглядом окидывает их. Его догадка справедлива! Лам по сравнению со вчерашним наполовину меньше. Тихонов спешит во второй домик, третий… Та же картина!
Комбат говорит переводчику:
– Спросите, младший лейтенант, у княгини, куда девались японские солдаты и офицеры, сидевшие вчера тут под видом монахов.
Княгиня разыгрывает крайнее изумление. Тонкие брови ее изламываются и дрожат, как крылья стрекоз. Глаза закатываются под лоб.
Тихонов передает свое решение княгине относительно полного обыска в усадьбе. Княгиня порывисто выступает вперед, встает на колени и начинает что-то говорить торопливо и долго. Переводчик переводит всю ее тираду одной фразой:
– Она клянется, что в ее доме нет ничего военного.
А обыск уже идет. Им руководит Власов. Вскоре он прибегает сам и докладывает Тихонову, что под княжеским домом обнаружен склад японского оружия: винтовки, гранаты, кинжалы.
Рядом со складом размещена камера японской разведки: найдены фотоаппараты, большое количество негативов, запас литературы, серебряные китайские деньги, несколько ящиков божков и священных шелковых свитков, склянки с ядом и другое имущество, необходимое для диверсий и провокаций.
Переводчик по приказанию Тихонова сообщает о найденном княгине. Он передает ей также предложение комбата добровольно указать, где еще скрыто имущество японской армии.
Княгиня в обмороке падает на землю. Сын валится рядом. Тихонов замечает, что один глаз княгини приоткрывается и напряженно следит за ним.
Не проходит и четверти часа, как Власов вновь прибегает. В подземелье найден склад одежды: первая половина склада – форма японской армии, вторая – халаты лам.
Связь со штабом армии батальон поддерживает при помощи радио. Власов передает короткое донесение о происходящих событиях, просит немедленно выслать команду трофейного отдела для приема имущества и оружия.
Тихонов совместно с Буткиным и Власовым обсуждает вопрос о поимке японских бандитов. Власов предлагает возобновить поиски отряда в степи.
– Дело это заманчивое и может сильно задержать нас. А мы ведь имеем направление и маршрут, расписанный генералом по числам, – высказывает свои опасения Тихонов.
– Что ж, товарищ майор, выходит, эти шакалы останутся невредимы? Наших колонн тут еще немало пройдет, – горячится Власов.
Тихонов молчит. Слышится голос Буткина:
– Убежден, что поиски в степи не принесут успеха. Японцы прячутся где-то недалеко. Единственно, кто может нам помочь, – это пастухи.
Тихонов смотрит на Буткина.
– А правильно, Петр Петрович!
– К ним надо послать сержанта Серёжкина, – предлагает Власов. – Он вчера принимал там скот в подарок и такую дружбу с пастухами завел, что водой не разольешь! Они его бараниной угощали, он их – папиросами. Значок подарил им. Они же не привыкли к такому обращению. Самый последний японский солдат держался с ними как повелитель.
Вызывают Серёжкина. Он выслушивает, какую задачу ставит перед ним комбат, и весь преображается. Наконец и на его долю, долю батальонного повара, выпадает настоящее дело.
Серёжкин отправляется к пастухам вместе с переводчиком. Пастухи узнают его, но, странно, почему они так сдержанны. Не размахивают руками, не кричат, не улыбаются, как это было вчера, когда он уходил от них.
Серёжкин и переводчик подходят ближе и видят, что пастухи чем-то не на шутку встревожены. Они взволнованно переговариваются, посматривают то на Серёжкина, то на усадьбу княгини, то куда-то в степь.
Один пастух, молодой, высокий, гибкий, как ивовый прут, выходит навстречу Серёжкину. Сержант замечает на его груди свой подарок – значок. Огненные глаза пастуха расширены, ноздри раздуваются. Он отчаянно машет рукой. По жестам Серёжкин догадывается, что пастух просит его дальше не идти.
– Что ты, дружище? В чем дело? – говорит Серёжкин и пытается обнять пастуха за плечи.
Но тот отскакивает, лицо его становится еще более встревоженным.
– Чик-чик! Пух-пух! – тыча себя длинным пальцем в шею, шепчет пастух и дико косит глазами; он что-то говорит, изображая всем своим видом испуг и тревогу.
– Что он бормочет, товарищ младший лейтенант? – спрашивает сержант у переводчика. Но переводчик словно не слышит. Он смотрит на пастуха не сводя глаз.
– Можно идти, Серёжкин, назад. Пастух предупредил нас об опасности и рассказал, где скрываются японцы.
Серёжкин жмет руку пастуху, а переводчика просит поговорить с ним на его родном языке. Переводчик говорит. Пастух поражен, он смотрит вначале на переводчика с испугом, но постепенно выражение его лица меняется – глаза веселеют, и в улыбке обнажаются белые, крепкие зубы.
Часом позже, проделав стремительный марш в сторону от своих дорог, батальон приближается к месту, где прячутся японцы. Степь здесь необычна. Русло переставшей существовать реки образовало глубокие балки. Густой кустарник искусно скрывает все щели, но площадь, покрытая ивняком, незначительна.
Тихонов берет кустарник в полуохват. Власов советует не рисковать людьми, залечь, а кустарник накрыть минометным огнем. Тихонов соглашается.
Минометы секут ветки. То в одном месте, то в другом появляются в кустарнике зияющие дыры. С каждой минутой их становится все больше и больше. Но японцы не подают никаких признаков своего присутствия. «Тут ли они? Не ушли ли? Не обманули ли нас пастухи?» – обеспокоенно думает комбат. Он прекращает огонь минометов и приказывает второй роте войти в кустарник. Едва та делает первые шаги, как раздаются винтовочные залпы. Рота залегает. Благо вокруг рытвины, бугры. Пули свистят над головой, ковыряют землю.
У Тихонова созревает новый план: произвести на кустарник сосредоточенный огневой налет, а затем броситься в атаку.
Через несколько минут батальон приводит в действие все свои огневые средства. В этом хоре слышатся голоса винтовок, автоматов, пулеметов, минометов. Батальон оснащен различным оружием по всем правилам, сложившимся на опыте борьбы с гитлеровской армией.
Японцы вначале рьяно огрызаются. Кроме винтовок, они вводят автоматы. Но огонь их производит много шума, а цели не достигает. Сказывается несовершенство и техническая отсталость японского оружия. Пули автоматов падают, не долетая до цепей советских солдат. Правда, без потерь не обходится. Винтовочным огнем японцы убивают во второй роте двух солдат и трех ранят. Тихонов усиливает темп огня. Под его прикрытием вторая рота по-пластунски достигает опушки кустарника.
Однако осуществить второй этап своего замысла комбат не успевает. Над кустарником вздымается палка с белым лоскутом. Тихонов приказывает прекратить огонь.
Весь батальон с напряжением следит за движением палки с тряпкой. Людей в кустарнике еще не видно, но белый лоскут все ближе и ближе к опушке ивняка. Бойцы и офицеры ждут появления японцев затаив дыхание.
– Ну, посмотрим, Петр Петрович, с кем мы имеем дело, – говорит Тихонов Буткину. Капитан стоит, нацелив фотоаппарат. Такой кадр представит большую ценность для истории батальона.
Пробираясь сквозь ветви, выходит низкий, щуплый, в роговых очках, офицер. Он несет в одной руке древко с белой тряпицей, в другой – маузер. За ним выходят еще два офицера, а дальше тянутся гуськом унтера и солдаты.
Тихонов жестом показывает, где складывать оружие. Японцы один за другим подходят, кладут в кучу винтовки, автоматы, револьверы, гранаты, ножи и мечи, кланяются Тихонову и отходят в сторону.
Вид у японцев испуганный, обмундирование изодрано, обувь разбита. Солдаты жмутся друг к другу, с опаской и любопытством рассматривают советских воинов.
Тихонов допрашивает японского поручика. Переводит Власов: пока стояли на границе в Забайкалье, он изучил японский язык.
– Не остались ли в кустарнике раненые японские солдаты? Не требуется ли им оказать медицинскую помощь? – спрашивает Тихонов.
Поручик кланяется, старается даже улыбнуться, но страх еще не покинул его, и вместо улыбки на желтом скуластом лице появляется отвратительная гримаса.
– Не беспокойтесь, господин майор. Раненые японские солдаты не живут. Если ваше высокоблагородие позволит, то разрешите захоронить убитых.
– Сколько их?
– Свыше тридцати.
– Точнее.
– Тридцать девять.
Тихонов, Буткин и Власов понимающе переглядываются. Наивная хитрость японца вызывает усмешку, но они прячут ее.
Тихонов строго спрашивает:
– Что представляет собой подразделение, сдавшееся нам в плен?
– Остатки стрелкового полка императорской дивизии, разбитой советскими войсками в первом же бою.
– Имеются ли у вас склады оружия?
– Никак нет.
– Что известно вам о складах оружия под домом княгини?
– Оружие принадлежит разведывательной служба штаба Квантунской армии.
– Налет во время грозы и зверское убийство двух наших солдат совершены вами?
Поручик опускает голову и молчит.
В полдень прибывают машины трофейного отдела и комендантский взвод для сопровождения пленных в тыл. Тихонов сдает захваченное имущество и оружие, а также пленных.
После обеда батальон продолжает марш на восток.
8
Чем ближе к Хингану, тем богаче и краше убор степи. Изредка выпадают места чисто русские: извилистые, все в крутых петлях, речки с глубокими прозрачными омутами, в которые, как в зеркала, смотрятся с высоты небес августовские кудрявые облака. В зарослях по берегам щебечут взахлеб пичуги, густыми низкими голосами поют шмели, попискивают у своих гнездовищ полевые мыши. В заболоченных лощинах буйно вздымается не покорная никаким ветрам осока.
Взглянешь на такое место, и почудится тебе, что идешь ты по полям Подмосковья или приволжья или по просторам Урала и Сибири. И от одного воспоминания о Родине станет на душе так радостно, что впору песни запевать. И песни поют.
В третьей роте чаще других слышится звонкий тенорок Прокофия Подкорытова:
Много верст в походах пройдено
По земле и по воде,
Но Советской нашей Родины
Не забыли мы нигде.
Подкорытов поет по-своему: не торопится, не выкрикивает отдельных слов, наиболее приглянувшиеся места повторяет по два, по три раза. Мелодии известных песен он варьирует на свой лад, и они всегда звучат свежо и ново.
Песен Подкорытов знает – не переслушать! Когда он поет, все молчат, думают; словно не песню, а самую затаенную, самую сокровенную мечту своей души выговаривает он в эти минуты дорогим, близким людям.
Подкорытов поет, прищурив глаза, с задумчивым видом, и кажется, что вместе с песней он уносится в такую высь, с которой видны все дороги жизни.
– Ах, как поешь ты, Прокофий! – говорит Соколков, когда Подкорытов берется за кисет. – Вот ведь и Шлёнкин петь мастер, а только его пение не берет так сильно за сердце, как твое.
– Шлёнкин для забавы поет, Прокофий – для раздумья, – выражает свое мнение кто-то из солдат.
Подкорытов молчит, словно разговор не о нем.
– Без песни, Витя, жить мне никак невозможно, – наконец произносит Подкорытов. – Сам посуди. Уйдешь, бывало, в тайгу на месяц, на два, живешь где-нибудь в лесной трущобе. Один в лесном океане! Там без песни онеметь можно. Скука, братище, без людей свирепая! А песню запоешь, будто и с женой наговоришься, и товарищей повидаешь…
Подкорытов молчит с полминуты, потом, сверкнув веселыми глазами, в приливе простодушной искренности, говорит:
– Ты хочешь знать, Витя, почему я сейчас пел? С женой, с Настенькой, в думах я разговаривал. Женился я на ней совсем молоденьким. Мне минул двадцатый, а ей еще девятнадцати не было. «Ну, у этих житья не будет. Придут в разум – и окажется, что характерами не сошлись», – говорили люди. Да не вышло по-ихнему! Десять лет вот прожили, и ни разу еще по-настоящему не поссорились.
– Так из десяти-то лет пять надо на войну вычесть, – замечает кто-то из бойцов.
– Это почему же? – возражает Подкорытов. – Живем поврозь, а друг другу еще больше обязаны. В разлуке жить куда труднее.
– Ну а такой мысли нет, Проня: пока ты тут землю ногами меряешь, она, твоя Настенька, там с каким-нибудь тыловичком того-сего разводит? – спрашивает сержант Коноплев.
– Нет, товарищ сержант, такой мысли! Характер у нее не тот. Знаю, как себя.
Подкорытов произносит это убежденно, горячо, и у сержанта Коноплева пропадает охота высказывать сомнения дальше.
– Да, братки, великое это счастье – хорошая жена, – говорит он задумчиво.
– При хорошей бабе, товарищ сержант, жизнь наполовину краше, – вступает в разговор пожилой боец Остап Тарасюк.
Тарасюк рассказывает о своей жене Полине. Его рассказ состоит почти из одних восклицаний: «А какую, братки, она в колхозе свеклу выращивает! А какой она борщ умеет варить! А уж какая она мать заботливая – вовремя накормит, выстирает, сошьет!»
Тарасюк не успевает еще закончить свое повествование о Полине, – слышится голос Емельяна Куделькина:
– А моя-то, Аграфена Петровна, как ушли мужики на войну, взяла в колхозе вожжи в свои руки и, смотри ты, четвертый год в районе впереди всех колхоз наш ведет… – Голос Куделькина звучит то нежно, то гордо.
Атмосфера предельной откровенности, с какой ведется разговор, подчиняет себе одного, другого, третьего. Соколков долго борется сам с собой. Ему тоже хочется сказать что-нибудь о Наташе, но она ведь не жена ему, они пока просто друзья. Преодолевая стыдливость, он говорит, нарочито покашливая:
– Кхе! Моя знакомая девушка, кхе, Наташа, сразу за два курса в университете сдавала…
Солдаты выражают свое удивление вслух. После Вити холостяки смелеют – говорят и говорят без умолку. Они называют имена своих любимых с той доверчивостью, которая бывает только среди людей, близких друг другу.
9
В разговоре не принимает участия только Шлёнкин. Больше того, он хмурится от этого разговора. Он бы и сам сказал о своей любимой теплые слова, но это такая тайна, которую он доверил лишь Вите Соколкову.
Шлёнкин любит врача батальона, капитана медицинской службы Екатерину Тарасенко. Любит давно, с момента ранения на границе, которое нанес ему шпион Соловей.
Больше месяца пролежал тогда Шлёнкин в батальонном околотке. Рана оказалась неопасной, отправлять его в армейский госпиталь за сорок километров не было никакой надобности. Тарасенко уговорила Тихонова оставить раненого в батальоне и всецело положиться на ее знания и опыт.
Каждый день по нескольку раз появлялась она в околотке – всегда веселая, бодрая. Вместе с ней в землянку врывался запах хороших духов. Она внимательно осматривала рану Шлёнкина, расспрашивала о самочувствии, выписывала лекарства, давала различные наставления.
Шлёнкин видел, что после той вьюжной ночи он вырос в глазах окружающих. Не скрывала своего уважения к нему и Тарасенко. Она не раз вспоминала финскую войну, и всегда это звучало так: вот какие люди воевали с белофиннами, они тоже, как и ты, не думали о себе – Родина и воинская честь были для них превыше всего.
Шлёнкину почему-то было и стыдно и приятно от рассказов врача. «Что уж такого особого сделал я? – размышлял он. – Соловей полез с ножом, я его по башке раз-другой трахнул, потом за сигнальную проволоку ногой дернул, тревогу поднял. Доведись до любого, то же самое сделал бы».
Но Тарасенко словно говорила ему: «Что сделал бы на твоем месте другой – неизвестно. А ты вот шпиона задержал, кровь свою пролил. Значит, можешь ты постоять за святое дело. Можешь!»
И это будто оковы снимало с его души. «Можешь ты, можешь!» – трепетала в нем каждая жилка, и он чувствовал, как всем своим существом тянется к новым, трудным делам и подвигам.
Когда лечение приближалось к концу, Шлёнки и почувствовал, что ему невыносимо стыдно обнажать свое тело перед врачом. Это пришло неожиданно и очень встревожило его.
Шлёнкин прятал свое чувство, старался по-прежнему быть с врачом немногословным, сдержанным, как положено по уставу.
После разгрома немцев на Курско-Орловской дуге японцы стали вести себя менее назойливо. Правда, японские авиационные разведчики по-прежнему довольно часто пересекали советскую границу. Ловили наши пограничники и диверсантов, но выводить свои части на границу и бряцать оружием на глазах советских воинов японцы опасались.
Батальон Тихонова большую часть времени жил тогда в пади Ченчальтюй. Солдаты и офицеры напряженно учились. С заводов поступало новое оружие. Фронтовой опыт день ото дня становился богаче. Чтобы не отстать от требований войны, надо было работать, не щадя сил и времени.
Днем на стрельбищах и плацах царило большое оживление. Вечером люди стремились в клуб. Драматический кружок репетировал то одну пьесу, то другую.
Шлёнкин виделся с Тарасенко ежедневно, но о своих чувствах молчал, хотя молчать становилось все тяжелее и тяжелее.
Зимой сорок третьего года драмкружок выехал в Читу на смотр красноармейской художественной самодеятельности. В Чите прожили пять дней. После долгого пребывания в сопках Чита поразила Шлёнкина многолюдней и яркостью электрического света, заливавшего просторные валы окружного Дома Красной Армии.
Шлёнкин будто окунулся в какой-то волшебный мир, о котором раньше приходилось только читать в книгах: сцена, любимая, народ, аплодисменты. Нет, дальше молчать он был не в силах…
Тарасенко выслушала его сбивчивое признание совершенно спокойно. Можно было подумать, что такие признания ей доводилось слушать каждый день.
– Ну к чему все это, Терентий Иванович?! Полюбить меня там, в сопках, ей-богу, не трудно. Я одна у вас, и не мудрено, что кажусь совершенством. Неподходящее место и неподходящее время выбрали вы для любви… – В тоне ее была добродушная усмешка друга и суровая назидательность старшего.
– Вы единственная… – начал было Шлёнкин.
Тарасенко замахала руками:
– Нет, нет, таких слов не слушаю! И вообще, давайте перенесем наш разговор на более поздний срок. Пусть он состоится через год после войны. Мир многое изменит…
– Через год после войны? Пусть будет по-вашему! – прошептал Шлёнкин, уничтоженный и одновременно окрыленный.
Больше о любви они не говорили. Тарасенко оставалась по-прежнему приветливой, внимательной, словно и не было между ними этого необычного разговора.
…Беседа солдат о женах и любимых прерывается внезапной командой:
– Привал на саносмотр!
Шлёнкина передергивает от этой команды. «Батюшки, только бы не она», – проносится у него в мыслях. Но Тарасенко уже приближается к роте. Вместе с ней идут фельдшер и два санитара. «Хоть бы фельдшеру осмотр поручила», – думает Шлёнкин.
Тарасенко идет быстрой, стремительной походкой. На плече у нее матерчатая зеленая сумка с красным крестом. Русые волнистые волосы выбились из-под фуражки, рассыпались на плечи. Лицо, руки, шея загорели, и потому серые с синим отливом глаза кажутся ярче и больше обычного. Стремительность походки придает ее маленькой стройной фигуре черты постоянного порыва вперед.
Начиная с двадцать второго июля, когда батальон снялся с пади Ченчальтюй и начал свой небывалый марш по степям Монголии и Китая, Тарасенко живет в неусыпных хлопотах. Первая ее забота – сберечь ноги бойцов. Ноги для солдата пехоты – это все равно что крылья для птицы. Вторая забота – уберечь людей от тепловых ударов, не допустить желудочных болезней.
Через день-два врач, пользуясь привалами на отдых, осматривает ноги у солдат, расспрашивает их о здоровье.
Желание Шлёнкина не сбывается. Не фельдшер, а сама Тарасенко входит в круг бойцов третьей роты. Шлёнкин смотрит на нее застенчивым, влюбленным взглядом. Девушка здоровается с ротой, обводит солдат глазами, словно ищет кого-то. Увидев Шлёнкина, она кивает ему и чуть улыбается.
– Прошу, товарищи, снять обувь и рубашки.
Тарасенко никогда не приказывает, но бойцы знают, что просьбы врача равнозначны приказу.
– Вчера ведь только, товарищ капитан, осматривали, – говорит один солдат, распутывая сбившиеся обмотки.
– Смотрите у меня: если будете пить воду из каждого ручейка – на каждом привале буду осмотры производить, – говорит Тарасенко и смеется.
– Тогда батальон, товарищ капитан, в месяц до Хингана не дойдет, – отшучиваются бойцы.
– Опять вы неправильно портянку навернули. Видите, какая на пятке краснота образовалась.
Тарасенко подзывает санитара, поручает ему показать солдату, как нужно навертывать на ногу портянку. Через минуту ее голос слышится в другом месте.
– Ремень у винтовки вам надо подтянуть. Иначе на плече потертость появится.
Шлёнкин снял ботинки, гимнастерку и рубашку, сидит в тоскливом ожидании. Ремни от винтовки и вещевого мешка отпечатались на его мясистых плечах. На ногах, натруженных ходьбой, вздулись жилы. Ступня и пятки задубели, пыль пробилась сквозь ботинки и обмотки и въелась в кожу.
– А, черт, хоть бы помыть эти коряги, – озлобленно шепчет Шлёнкин, косясь на свои оголенные ноги.
– Да ничего, Терёша, ты же не Аполлон Бельведерский в музее, а солдат пехоты на войне, – успокаивает Соколков друга.
– Неудобно, если б не она… – морщится Шлёнкин.
Соколкову так и хочется подшутить над Шлёнкиным, но он замечает, что тому не до шуток. Шлёнкин корчится, подтягивает ноги под себя, концом портянки поспешно протирает грязные пальцы. Тарасенко приближается, ее голос слышится совсем рядом. Она осматривает Соколкова. Тот о чем-то разговаривает с ней весело и громко. Они оба смеются. Шлёнкин почти не улавливает их разговор. Поведение Соколкова кажется ему, по крайней мере, странным. Как можно в таком виде о чем-нибудь разговаривать с врачом, да еще так весело?
Шлёнкин не успевает ответить сам себе на этот вопрос. Он вздрагивает от прикосновения к плечу прохладных пальцев врача.
– Ну-ка, Шлёнкин, покажите лямки своего вещевого мешка, – говорит Тарасенко, Шлёнкин покорно подает вещевой мешок, Тарасенко ощупывает лямки пальцами.
– Да разве можно так, товарищ Шлёнкин? Вы смотрите: широкие, удобные лямки у вас свернулись в жгуты, вы же натрете ими плечи! Сейчас же расправьте лямки…
Тарасенко произносит все это строго, требовательно. Но вдруг голос ее становится глуше, в нем слышатся другие, теплые ноты:
– Ну, как самочувствие, Терентий Иванович?
– Самочувствие? Отличное самочувствие. Безлюдие осточертело. Скорее бы перемахнуть Хинган.
– Теперь уже недалеко… А желудок не беспокоит? Воды из речек много пьете?
– Все в порядке, товарищ капитан, – поспешно отвечает Шлёнкин. Он облегченно вздыхает, полагая, что осмотр закончен. Но Тарасенко опускается на колени.
– Дайте посмотреть ноги.
Шлёнкин немеет. Он молча вытягивает ноги и стыдливо опускает глаза. Девушка умелыми, быстрыми движениями рук ощупывает икры. Ему кажется, что она осматривает его ноги не секунды, а долгие часы – осмотр изнуряет его. Врач встает.
«Как хорошо, что они прошли там, в Забайкалье, суровую школу. Без подготовки не выдержать бы им этого перехода», – думает Тарасенко, но говорит совсем о другом:
– Вы знаете, Терентий Иванович, сегодня утром, даже сама не знаю почему, мне вспомнилась оперетта «Корневильские колокола». Я шла и беспрерывно напевала себе под нос. Одно место никак не могла припомнить. Вы наверняка его хорошо знаете…
Упоминание об оперетте словно вырывает Шлёнкина из-под власти кошмарного сна. Трепетное ощущение любви поднимается в его душе. От прежнего смущения, заставляющего цепенеть все члены, не остается и следа. Шлёнкин преображается на глазах всей роты.
– Как же не помнить «Корневильских колоколов»! – говорит он, слегка играя своим бархатистым баском. – Это же, товарищ капитан, не оперетта, а прелесть. Выше ее я ставлю только «Сильву». А место, о котором вы говорите, я помню великолепно…
– Ну, спойте мне, пожалуйста, – просит Тарасенко. Шлёнкин с готовностью откашливается, вполголоса поет. Девушка, улыбаясь, смотрит на него, шевелит губами, стараясь запомнить мелодию.
Они вспоминают известных певцов страны, говорят о лучших спектаклях. Шлёнкин попыхивает своей неизменной трубкой с профилем Мефистофеля. Но Тарасенко принуждена прервать разговор – ее ждут в других ротах.
Она уходит. Шлёнкин провожает ее долгим, неотрывным взглядом. Глаза его сияют, ему хочется совершить что-нибудь такое хорошее, такое геройское, чтобы поняла она, какая сила пробудилась в его душе. «Бои, что ли, скорее начинались бы!»
– А любит она тебя, Терёша, – шепчет Соколков, выждав, когда Тарасенко отошла подальше.
– Ты думаешь? – горячо спрашивает Шлёнкин, и в глазах его вспыхивает беспокойный огонек.
– Убежден. Если бы не любила, другие бы речи вела с тобой.
Шлёнкин долго молчит. Молчит и Соколков.
– Эх, Витя, – говорит Шлёнкин, – ничего ты, брат, не знаешь…
Он охвачен таким порывом, что готов гору свернуть.
– Да уж с твое-то, наверное, знаю, – чуть обиженно говорит Соколков. – А только счастлив ты. Завидно даже. До Наташи-то посчитай – сколько километров.
– Ну, брат, неизвестно еще, до кого дальше, – задумчиво глядя куда-то в степь, говорит Шлёнкин, вспоминая Читу и свои объяснения с Тарасенко.
10
Большой Хинганский хребет – это скопище голых скал, громоздящихся в чудовищном беспорядке.
У подножия этих скал обрываются звериные тропы. Цепкая степная трава, расстелившаяся на тысячах километров сухой земли, отступает перед неподатливостью каменных глыб. Только дождь да ветер оставили на них свои отметины: ветер отполировал бока, дождь продолбил узкие канавки для стока. Даже страшно подумать, сколько времени потребовалось дождю и ветру на эту работу, – миллионы лет!
Большой Хинганский хребет окутан туманом. Туман ползет из ущелий непрерывным потоком, как дым из кратера непотухшего вулкана.
Местами хребет так высок, что вершины его скрываются в тучах, которые лежат неподвижными распластанными телами, словно прикованы навечно тяжелой цепью.
Выше этих туч поднимаются только орлы. Остальная птичья братия, силой и характером послабее, гуртуется по впадинам и ущельям.
Большой Хинганский хребет – это особое царство на земле – царство камней, ветров и дождей.
На подступах к Хингану батальон Тихонова сворачивает километров на двадцать к северу, вливается в поток войск, группирующихся для прыжка через Хинган.
Впереди движутся саперы. Японцы минировали проходы через перевалы, завалили расщелины, по которым можно проложить дорогу, ворохами битого камня.
Саперы шаг за шагом прокладывают путь. Воздух содрогается от взрывов: там, где бессильны лопата и лом, помогает взрывчатка. Она разносит на мелкие частицы могучие скалы, заваливает землей и щебнем глубокие ямы, пробивает новые проходы через неподступные перевалы.
По приказу командующего армией батальон Тихонова движется в одной колонне с артиллерийским полком из резерва Главного Командования. У артиллеристов тягачи, грузовики, легковушки самых различных марок. Но командующий знает: на Хингане не один раз придется перетаскивать и оружие и машины на руках. Без помощи пехоты не обойдешься…
Предвидения командующего вскоре сбываются. Чем глубже войска вползают в скопища Хинганских гор, тем круче становятся перевалы.
Во второй половине дня начинаются первые серьезные испытания. Проложенная только что саперами дорога скачет на одну скалу, потом на другую, на третью. Моторы ревут, как стадо взбесившихся быков. Автомашины едва доползают до середины первой скалы, сдают назад.
Тихонов шутит над артиллеристами. Его лошади и волы, на которых передвигается имущество, продовольствие и боеприпасы батальона, тяжело поводя боками, стоят уже на вершине скалы.
Пока артиллеристы обходятся без помощи пехотинцев и своими силами втаскивают автомобили, пушки и тягачи на крутой подъем. Солдаты еще не утомлены, форсирование гор им в новинку. Они тащат машины на веревках, весело ухая, задорно покрикивая, пересыпая говорок крепким словцом.
Восхождение на вторую скалу несравненно труднее. Теперь не шутит и Тихонов. Лошади скользят по камню, встают на колени, волы дико хрипят, ложатся на бок. Постромки у повозок рвутся, не выдерживая тяжести.
Комбат приказывает распрячь лошадей и волов. Их втаскивают на вершину скалы на веревках. Затем люди впрягаются в повозки и на себе завозят их.
К вечеру объединенная колонна пехотинцев и артиллеристов поднимается на четыре ступени, но хребет еще не заканчивается, впереди виднеются новые скалы.
Солдаты и офицеры утомлены, искоса посматривают на ребристые горы, окутанные туманом…
Тихонов, Буткин и Власов подводят итоги дня: пройдено семь километров! По данным карт, скоро должна начаться долина, но немало еще потребуется трудов, чтобы дойти до нее.
Завтра батальон будет действовать увереннее и осмотрительнее. Сегодня люди работали горячо, но не соблюдалось правильное чередование рот на подъеме больших тяжестей.
В разгар беседы появляется Петухов. Он только что побывал в ротах. Радостные известия: семь лучших солдат подали заявление о вступлении в партию, среди них Прокофий Подкорытов, Викториан Соколков…
Петухов предлагает созвать закрытое партийное собрание. Минут через десять коммунисты небольшими группами тянутся к дальнему обрыву скалы, где их уже поджидает Петухов.
Начинает смеркаться. Сумрак ползет из ущелий, поднимается к вершинам скал, окутывает их. Высокое голубое небо темнеет, робким, неярким светом загораются первые звезды.
У солдат и офицеров уставшие лица и медленные движения. Дорого им стоили семь километров, пройденные сегодня. Они тяжело опускаются на землю, садятся, стараясь опереться на камни. Петухов низко склонился над листом бумаги, торопливо пишет. Буткин сидит неподалеку от него, молча смотрит на коммунистов, думает.
Осенью тысяча девятьсот сорок первого года он прибыл в падь Ченчальтюй. Во всем батальоне было тридцать три коммуниста. Теперь на партийное собрание явилось сто два человека. Каждого из них Буткин знает так, словно рос вместе. Многим он давал рекомендации. А скольким он помог разобраться в простых и сложных вопросах!
Мелькают лица: сержант Коноплев, ефрейтор Остап Тарасюк, солдат Назир Кукенбаев, солдат Куделькин, ординарец комбата Трубка… Все они уже не те, что были два-три года назад.
Партия! Где только не видел твоих сынов Буткин! В глухой сибирской тайге, на лесах стройки Кузнецкого завода, в самом водовороте деревенской жизни лицом к лицу с озверелым кулачьем, во главе колхозов, перекроивших весь уклад сельского быта, в траншеях на самой границе и вот – на Хингане! На Хингане!
Волнующие чувства бесконечного преклонения перед партией захватывают Буткина. У него першит в горле. Он спохватывается, думает о себе как о постороннем: «Ну вот и растрогался ты, Петр Петрович! Стареешь, брат… А почему бы и не растрогаться тебе? Что в этом плохого?
Вспомни-ка девятнадцатый год. На три тысячи партизан было пять коммунистов. А теперь? Как же выросли и поднялись наши люди!»
Его размышления прерывает Петухов. Он открывает собрание. Петухов любит говорить. И сейчас он не упускает этой возможности. Он напоминает коммунистам, в какие дни живут они, потом говорит о большом значении партийного собрания, созванного в скалах Хинганского хребта.
Петухова обуревают те же чувства, что и Петра Петровича Буткина. Он увлекается своей речью, его мысли созвучны мыслям Буткина, но замполит недоволен парторгом. Люди устали, многие из них дремлют. До речей ли тут? Наконец Петухов заканчивает. Собрание избирает президиум. Буткин, пользуясь правами председателя, старается придать собранию деловой тон.
Первый вопрос на повестке: прием в партию. Один за другим поднимаются солдаты и сержанты, рассказывают свои биографии, отвечают на вопросы товарищей.
Становится совсем темно. Секретарь ведет протокол при свете карманного фонарика. Буткин вглядывается в лица, но рассмотреть их не может. Только по тому, как оживленно люди отзываются на его реплики, он чувствует, что они живут интересами собрания.
Выступающие говорят кратко и без лишних слов.
– Знаю Подкорытова с первого дня службы. Хороший, передовой солдат, учился военному делу в Забайкалье не щадя сил. В походе проявил себя стойким и дисциплинированным воином, помогал товарищам, вполне может быть коммунистом.
– Соколков боевой солдат. Отлично нес службу в Забайкалье. В походе не знает устали. Всегда бодрый, уверенный. Достоин быть в рядах партии.
Затем собрание слушает доклад Петухова о плане партийно-политической работы на время перехода через Хинган. Тут предусмотрено все. Предусмотрены не только собрания и инструктивные совещания агитаторов, намечены даже две лекции.
– А что же, для лекций специальные остановки будут, товарищ парторг? – спрашивает кто-то, не скрывая иронии в тоне голоса: нашли, дескать, время для лекции.
Отвечает Буткин:
– Никаких специальных остановок для лекций не потребуется, товарищи. Лекции мы будем слушать на ходу, как только выйдем в долины. В самом деле, слушаем же мы всякие побасенки во время движения, почему бы нам не использовать эту возможность для более полезного дела?
Это так просто и так убедительно, что возражать немыслимо.
– Хорошо придумано, надо было раньше сделать это. Сколько бы лекций прослушали, – говорит кто-то с упреком.
– Ну а японец позволит нам лекциями заниматься? – слышится чей-то голос.
Внезапно начинается стрельба. Секретарь собрания – старшина Петрунин, ойкнув, падает замертво. В неживой, крепко стиснутой руке поблескивает лучик непогасшего карманного фонарика.
Пули свистят возле Буткина. Укрыться ему от пуль проще, чем кому-либо другому. Стоит опуститься на колени, и он скрыт за громадным клыкастым камнем. Но первая мысль Буткина не о себе. «Надо загасить фонарик, свет демаскирует нас». До Петрунина от него не меньше пяти метров. Буткин вскакивает и бросается к погибшему. Кто-то сильно ударяет его по руке выше локтя. В первую секунду он не замечает, что ранен. Схватив фонарик, он разбивает его о камень и только теперь чувствует страшную боль в руке.
– Коммунисты, по местам! – сквозь трескотню выстрелов слышится голос комбата.
11
Через минуту Тихонов отдает приказ командирам рот. Егорову выпадает чуть ли не самая трудная задача: разбить роту на мелкие группы и броситься в горы. Японцы наверняка действуют рассредоточенно. Нужно отыскивать их, преследовать, уничтожать, дать им почувствовать, что нападения исподтишка им не обойдутся даром.
Подкорытов, Шлёнкин и Соколков оказываются в одной группе. Старшим командир взвода назначил Подкорытова.
Солдаты ползут на четвереньках, цепляются за выступы скал. Стрельба не затихает совсем, но паузы между очередями становятся более продолжительными.
Впереди ползет Подкорытов, за ним. – Шлёнкин, последним – Соколков. В одном месте Подкорытов срывается с выступа. Котелок его ударяется о камни и гремит. Японцы мгновенно прекращают стрельбу. «Услышали», – отмечают про себя солдаты и припадают к земле. Но, по-видимому, это совпадение. Японские пулеметы и автоматы строчат один за другим, эхо разносится по ущельям и грохочет и воет там, как штормовое море.
Подкорытов поднимает голову, машет рукой: вперед! Но ни Шлёнкин, ни Соколков его руки не видят – тьма непроглядная. Подкорытов прищелкивает языком раз, другой. И хотя между ними не было уговора насчет того, что значит этот сигнал, Шлёнкин и Соколков догадываются, что от них требует Подкорытов. Они ползут дальше, натыкаются на острые ребра скал, цепляются за них, лезут вверх.
Вдруг Соколков срывается, с шумом летит со скалы к подножию. Благо, что эхо покрывает все звуки, вызываемые его падением.
Закусив губы, он сдерживает стон, рвущийся из груди. Подкорытов и Шлёнкин спускаются вниз к Соколкову на помощь. Тот лежит, поскрипывая зубами от досады и боли.
– Колено расшиб, – сообщает он, когда товарищи склоняются над ним.
– Оставайся тут. Мы пойдем вдвоем, – говорит Подкорытов.
Соколков стонет теперь не столько от боли: невыносимо тяжко отставать от товарищей.
– Ты полежи тут, а я потом за тобой приду, – понимая друга, говорит Шлёнкин.
– Ну, ползите, ползите. Я, гляди, отлежусь, – стонущим голосом произносит Соколков и, поймав в темноте большую, шершавую руку Подкорытова, жмет ее, насколько хватает сил. – Желаю удачи!
Он долго лежит, прислушиваясь. Когда стрельба затихает, он отчетливо слышит, как погромыхивают котелки на спинах товарищей, как поскрипывают ремни их снаряжения, как стучат о камни каблуки их ботинок с крепкими подковами на четырех шурупах. Чувство острого беспокойства за товарищей охватывает его. «Тише же надо! Но почему они так?» Ему хочется крикнуть товарищам, чтоб передвигались они осторожно, японцы могут обнаружить их по звукам, но стрельба разгорается с новой силой, и Соколков опускает голову на камень.
Страх, ощущение обреченности поднимаются в душе Соколкова. «Задушат меня тут японцы, и знать о моей смерти никто не будет», – горько думает он.
Соколков встает, намереваясь броситься за Подкорытовым и Шлёнкиным, но сильная боль опрокидывает его наземь. Поняв, что его желание догнать товарищей пока неисполнимо, он смиряется со своей долей.
Горькие мысли постепенно покидают его. «Ну, впрочем, задушить меня не так-то просто. У меня винтовка, гранаты. Живой я им все равно не дамся». Эти размышления ободряют его, он нащупывает затвор винтовки, срывает с ремня две гранаты.
Соколков долго лежит не двигаясь. На небе начинают проглядывать звезды. Месяц утонул в облаках, нет-нет выглянет из-за них и скроется вновь. Кажется, что он барахтается в облаках, как серебристый язь, запутавшийся в сетях.
Стрельба, сосредоточившаяся вначале в одном месте, слышится теперь то там, то здесь. Вскоре начинают стрелять неподалеку от Соколкова. «Прокофий с Терёшей вступили в дело», – догадывается Соколков, и ему становится обидно за свою неудачу. Он вспоминает все, что говорилось о нем час назад на партийном собрании. Егоров, Петухов, Буткин, командир отделения сержант Коноплев – все они отмечали его положительные качества. Собрание единогласно приняло его в ряды партии. Какое это доверие и какое счастье быть коммунистом!
Он словно на крыльях бросился в бой, в горы, и вот… лежи, жди, когда утихнет боль в ноге. «И как это я сорвался? Надо же было этому случиться ни раньше, ни позже, а именно сегодня. Что скажет Егоров? Может еще подумать, что я струсил…» – все больше и больше терзается Соколков.
Провожая их в горы, Егоров сказал ему и Подкорытову:
– Ну, молодые коммунисты, надеюсь на вас.
Соколков теряет ощущение времени. Сколько он тут: час? два? А может быть, уже полночь или близится рассвет? Стрельба в горах то вовсе затихает, то разражается короткими, стремительными вспышками.
Камни, на которых лежит Соколков, становятся холодными и скользкими. Туман, должно быть, опустился на скалы, покрыл их сыростью. Гимнастерка и брюки Соколкова становятся влажными, и дрожь пронизывает его насквозь.
Он поднимается, чтоб снять с плеча скатку и развернуть шинель. Боль в ноге затихает, но встать на нее он еще не может.
Вдруг неподалеку от него падает камень. Соколков снимает руку со скатки и быстро ложится на прежнее место. Над ним в темноте испуганно мечется какая-то птица. Кто же вспугнул ее? Подкорытов и Шлёнкин? Японцы? Ночной хищник?
Соколков прислушивается. От тишины звенит в ушах. «Должно быть, зверек вспугнул птицу», – думает он. Но опять где-то обрывается камень и катится со скалы, постукивая на выступах.
Вскоре Соколков настороженным ухом улавливает новые звуки: хруст, шарканье. Кто-то идет. Это, вероятно, Шлёнкин. Он ведь обещал прийти помочь выбраться к батальону. Но все стихает, и Соколков лежит, обеспокоенно думая: «Неужели прошел мимо?» Он решает крикнуть, но вовремя спохватывается – на голос могут прийти не только свои, но и японцы.
Месяц наконец пробивается сквозь облака и выплывает на чистое небо. В горах становится светлее. Соколков осматривает очертания скал. Они похожи на замки большого нерусского города.
«Удлиненная форма строений характерна для готического стиля», – вспоминает он фразу, вычитанную где-то в книге или услышанную когда-то давным-давно на лекции.
Рассматривая очертания гор, он успевает подумать о многом: университет, Наташа, мама с братишками и папа… Он умчался куда-то на запад страны восстанавливать разрушенные гитлеровскими извергами наши заводы.
Соколков видит, как на скале неподалеку от него вырастает силуэт человека. «Терёша, пришел все-таки!» Он уже взмахивает рукой, собираясь крикнуть, но видит, что на скале сразу появляются еще три силуэта. «Кто это? Наши или японцы?» – напрягая глаза, думает он, а сердце бьется все громче и громче.
Люди начинают говорить. Они говорят тихими гортанными голосами. Японцы! Соколков чувствует, как тело его охватывает озноб, а потом жар. Во рту становится сухо. Он прижимается к выступу скалы, прислушивается. Но ни единого слова невозможно понять в этом тарабарском языке! «И отчего я их языку в пади Ченчальтюй вместе с Власовым не попробовал учиться», – упрекает себя Соколков.
«Что же мне делать с вами? Трахну гранатой», – решает он. На душе его наступает спокойствие и ясность, руки перестают дрожать. Он забывает о боли в ноге и ползет, ползет ближе к японцам. Потом берет гранату, нащупывает на ней предохранитель. «Их же много, они окружат тебя, и тогда пропал… Ты лежи себе, пусть они пройдут восвояси», – словно кто-то нашептывает ему.
«Трус ты! Трус!» – кричит он сам себе и чувствует, как эти слова рождают в нем боевую страсть. Он умелым, натренированным движением руки спускает предохранитель и бросает гранату в японцев.
Раздается взрыв. Сотни крупных и мелких осколков от камней взлетают вверх и тяжелым градом обрушиваются на Соколкова. Один японец кричит истошным голосом, остальные молчат. Соколков бросает еще одну гранату. Теперь смолкает крик. Град камней обрушивается с новой силой на Соколкова. Он в изнеможении опускает голову, открывает рот и лижет горячим языком влажный, обточенный ветром голый валун.
Над Хинганом занимается заря…
12
Подкорытов и Шлёнкин поднимаются на скалу и, присмотревшись, устанавливают, что совсем неподалеку от них строчит японский пулемет.
– Надо обойти самураев и уничтожить, – говорит Подкорытов.
Начинается трудный, опасный для жизни спуск с крутой скалы. Шлёнкин несколько раз срывается, но, к счастью, падает удачно на гладкие, как асфальтовые ступеньки, выступы.
Подкорытов движется почти бесшумно. Он опытен, ловок, и горы для него – дело испытанное. Он все время подсказывает Шлёнкину, оберегает его: «Не скатись, Терентий! Держись вправо! Давай руку! Назад – тут пропасть!»
– Ну и глаза у тебя, Прокофий! Кошачьи! – восхищается Шлёнкин и думает: «С настоящим товарищем попал. Какой человек!»
Местами они идут по ровным площадкам, будто выстланным специально. В эти минуты Шлёнкин размышляет о себе.
Ему и страшно и в то же время он чувствует себя приподнято, чуть ли не торжественно.
До странности удивительно, что это он, Терентий Шлёнкин, тот самый Шлёнкин, который разъезжал с ревизиями по заготовительным конторам и лавкам и боялся выпить стакан сырой воды, ныне идет навстречу опасности, может быть, даже смерти. И идет не просто по приказу, а влекомый собственным сердцем.
«Душу другую, что ли, вставили мне… Падь Ченчальтюй… Она научила… Егоров… Тихонов… Витя Соколков… Друг… Большой друг…»
В его сознании мелькают лица товарищей и сослуживцев. Их бесконечная вереница, почти весь батальон.
– Ну как, Прокофий, приняли тебя в партию, нет? – спрашивает шепотом Шлёнкин, когда Подкорытов оказывается с ним плечом к плечу.
– А как же. Сам комбат высказался. – В голосе Подкорытова нескрываемая гордость.
– А ты не замышляешь, Терентий, насчет вступления в партию? – осведомился Подкорытов.
– Замышляю, да вот не знаю, смогу ли быть коммунистом, – говорит Шлёнкин.
Подкорытов молчит. Ему понятны сомнения Шлёнкина. И он не сразу пришел к решению о вступлении в партию. В долгие часы раздумий он с пристрастием спрашивал себя: а по силам ли тебе это ответственное звание? А сможешь ли ты быть всюду впереди и не щадить сил, а когда надо – и жизнь в борьбе за дело коммунизма?
Они подходят, точнее подползают, к огромной скале, с вершины которой японцы ведут огонь.
– Сворачиваем налево, – распоряжается Подкорытов вполголоса.
– А справа не лучше? – нерешительно выражает свое мнение Шлёнкин, видя, что до скалы здесь гораздо ближе.
– Запомни, голова: северные ветры и дожди острее и с северной стороны всегда бывает больше выступов, – говорит Подкорытов.
Откуда же знать Шлёнкину эти премудрости? Чтоб знать такое, надо провести жизнь в горах.
– Веди, – произносит он и ползет за Подкорытовым, часто натыкаясь в темноте на каблуки его ботинок.
Действительно, выступов у скалы на этой стороне оказывается много. Подкорытов и Шлёнкин местами поднимаются вверх, как по лестнице. Японский пулемет бьет короткими очередями. Как губителен для наших его огонь! Подкорытов знает, что пулемет посылает поток пуль в расположение бивака. Возможно, что там есть уже убитые и раненые. Надо во что бы то ни стало подавить японскую огневую точку. И потому быстрее – вперед!
Шлёнкину приходится напрягать все силы, чтобы не отстать от Подкорытова. Он расцарапал до крови руки, рассек, наскочив на острие камня, нижнюю губу, брюки его изодраны в клочья, глаза застилает пот, но Шлёнкин не сдается.
Японский пулемет выпускает длинную очередь – не меньше половины ленты – и замолкает.
Подкорытов делает прыжок куда-то в темноту. Шлёнкин на минуту теряет его из виду. Он торопится, старается нагнать Подкорытова – без него он как слепой без поводыря.
Подкорытов шарит по земле, ругается с вывертами и присказками, как только он один умеет в батальоне.
– Ушли! Куда они ушли? Ты смотри, вся земля гильзами усыпана! Сколько, поди, наших полегло! – И Подкорытов опять сыплет непечатными словами.
Вдруг слышится «ччи-ирк!» – звук, который появляется от скольжения железа по камню.
– Стой здесь, я пойду наперехват, – говорит Подкорытов.
Шлёнкин не совсем понимает, что произошло, и замысел Подкорытова ему неясен.
– А ты сам-то куда идти думаешь? – спрашивает он.
– Куда, куда! Слышишь, японцы удирают! – сердится Подкорытов на недогадливого Шлёнкина.
– Ну, валяй, я буду тут, – виновато говорит он, так и не поняв плана, возникшего у Подкорытова.
Тот исчезает мгновенно, словно проваливается в пропасть. Шлёнкин садится, вытирает рукавом пот с лица, настороженно прислушивается.
Появляется месяц, небо светлеет, становится виднее в горах. Воздух содрогается от разрывов гранат, от стрельбы, от эха, которое долго перекатывается по ущельям. Отзвуки боя доносятся то с одного места, то с другого.
Жжвик! Жжвик! – слышит Шлёнкин над головой. Кто-то стреляет рядом с ним. Возможно, Подкорытов. А может быть, это японцы заметили его, Шлёнкина, и стреляют в него? Шлёнкин быстро ползет, прячется в выступе скалы, плотно прижимается к ее прохладному боку.
Он сидит не двигаясь, руки и ноги его затекают, спину ломит. Пули уже не свистят над его головой, но страх обуял Шлёнкина – ему мерещатся японцы и впереди и позади.
Слышится хруст, – вероятно, идет Подкорытов. Шлёнкин приободряется, но выходить из своего гнездовища не спешит. Когда Подкорытов подойдет поближе – он подаст голос. Шаги все отчетливее. Слышно даже, как Подкорытов дышит с шумом и хрипом.
«Что он так? Поймают его японцы на мушку», – тревожно думает Шлёнкин. Наконец в сумраке появляется фигура. Шлёнкин присматривается, и что-то чужое, не подкорытовское, угадывается в этом качающемся из стороны в сторону человеке. Шлёнкин сильнее втискивается в щель, раздвоившую скалу, и смотрит, смотрит изо всех сил на приближающегося к нему человека. Нет, это не Подкорытов! Прокофий строен и высок, а этот идет согнувшись. Он дышит так тяжело, словно где-то поблизости раздувают кузнечные мехи. Подкорытов, как бы он ни устал, какую бы тяжесть ни нес, умеет управлять своим дыханием.
Проходит еще минута, две… Человек начинает поспешно карабкаться на скалу. Шлёнкин сидит метра на два выше человека и хорошо видит его. При свете месяца он различает, что это японец. «Прокофий его спугнул. От него, видимо, он удирает», – мелькает у Шлёнкина в уме. Японец приближается. Шлёнкина трясет. Это уже не страх, у страха есть свои сроки. Шлёнкин волнуется, он не знает, на что решиться, у него много возможностей – надо выбрать одну из них, а это не просто.
Шлёнкин может выстрелить в японца, он может бросить в него гранату, но не лучше ли немного выждать еще и заколоть японца штыком. Так будет бесшумнее. Выстрел и взрыв могут привлечь других японцев, а воевать одному с несколькими – дело сложное.
Пока Шлёнкин размышляет, на чем остановить ему свой выбор, японец оказывается в трех шагах от него. Как запаленная лошадь, он падает на выступ, который несколько ниже выступа, занятого Шлёнкиным. Привалившись спиной к скале, японец отдыхает.
«Надо захватить его живьем», – думает Шлёнкин. Бесшумно, с великой осторожностью, он чуть подтаскивает свои ноги к обрыву. Сердце стучит, на лбу выступает пот. Пора бы уже прыгнуть, японец может подняться, уйти дальше, но в душу Шлёнкина закрадывается неприятный холодок. «Ну, прыгай на него, прыгай», – говорит он сам себе, но секунды текут, а он сидит на прежнем месте.
«Да разве так я тогда Соловья ловил?.. Товарищ капитан… Катя… Она за такое не похвалила бы». – Он как бы видит на миг ее лицо с большими глазами и слышит ее голос: «Пора!»
Сдернув с головы пилотку, он падает на японца всей тяжестью своего грузного тела. Тот делает тщетную попытку сбросить его с себя, но руки Шлёнкина обретают удивительную подвижность и силу. Миг – и пилотка втолкнута в рот врага. Еще миг – и руки японца связаны ремнем. Он бьется и стонет, в горле у него что-то булькает, в животе страшно урчит…
Над Хинганом занимается заря…
13
Над Хинганом разгорается заря…
Егоров принимает решение: на командном пункте оставить за себя комвзвода Наседкина, а самому с группой солдат двинуться в горы.
Японцы, по-видимому, отступили, а частью уничтожены, стрельба стала реже. Она доносится теперь всего лишь из двух-трех мест.
Егоров мог бы и не ходить, но ему не терпится, он должен сам увидеть результаты этой горячей схватки с врагом.
С неизъяснимой нежностью думает он о своих солдатах, и тревога за них бьется в его сердце, не утихая ни на одну минуту.
Какое-то внутреннее чутье подсказывает ему, что пора остановиться.
– Куделькин, просигнальте отбой, – приказывает Егоров.
Куделькин выпускает ракету. Вспыхнув зелено-голубым светом, она очерчивает полукруг и рвется, освещая бледно-аквамариновым светом гигантские ребра каменного чудовища.
Зеленая ракета – сигнал, означающий, что бой кончен, что если ты жив, то найди в себе силы, невзирая ни на какую усталость или ранение, вернуться к своему командиру. Тут ждет тебя одно из двух: либо отдых, заслуженный тобой тяжким трудом, либо новое боевое дело, которое потребует от тебя еще большего напряжения сил, а может быть, и жизни твоей, вступившей в неповторимую пору самого расцвета…
Егоров стоит, прислушивается, смотрит в темноту, желая во что бы то ни стало пронзить ее своим взором.
– Куделькин, повторите сигнал, – приказывает он, сам не замечая, как против своей воли подчиняется нетерпению.
Куделькин понимает, чем обеспокоен офицер. Хребты и скалы здесь высоки, а ущелья подобны колодцу – даже блеск звезд не всегда виден из них, потому что они закрыты туманом.
Куделькин выпускает вторую ракету. Она взлетает круто и разрывается высоко, под самыми звездами. Теперь сигнал заметит даже тот, кто оказался в этот час на дне самых глубоких щелей.
– Хорошо, Куделькин, молодец, – говорит Егоров и вытягивает шею, настораживаясь.
Где-то в стороне от него, далеко-далеко, звучат один за другим два выстрела. Это последние выстрелы боя. Наступает тишина, такая же величественная, как сам Хинганский хребет. Кажется, немыслимо ничем поколебать эту тишину, как немыслимо сдвинуть с места могучие скалы хребта.
«Далеко кто-то забрался. Интересно – кто это? Может быть, Викториан Соколков, а вернее Подкорытов… Легконогий Подкорытов», – думает Егоров, дослушав до конца перекаты последних выстрелов.
Светает. Сквозь рассеивающийся сумрак все отчетливее выступают беспорядочно нагроможденные камни. Егоров рассматривает их. Они застыли в самых необыкновенных, причудливых формах. Вот скала, похожая на слона: хобот, широкая спина, клыки, загнутые кверху, только размер этого каменного слона превосходит живого во много десятков раз.
Вот другая скала. В ней много общего… с петухом. Пушистый хвост, распадающийся на несколько перьев, круто изогнутая длинная шея и хищно раскрытый клюв.
А вот тянутся скалы, похожие на трехэтажные дома с крышами самого фантастического рисунка.
Егоров внимательно рассматривает то одну скалу, то другую. При взгляде вниз, в ущелья, замирает сердце. Это при дневном свете. Каково же было здесь солдатам ночью?!
«Как много интересного и увлекательного расскажу я ребятам, когда вернусь в школу», – думает Егоров, и мысль о школе, о том, что после войны он опять встретится с ребятами, рождает улыбку и томительно сладостное чувство.
– Товарищ старший лейтенант, слышали? – спрашивает Куделькин.
Нет, Егоров ничего не слышал: на минуту его увлекли мысли о школе, о своей гражданской профессии.
– А что ты слышал, Куделькин? – спрашивает Егоров, и в голове у него проносится: «Рано я по гражданке затосковал».
– Мне почудилось, товарищ старший лейтенант, что будто где-то в горах звякнуло железо, – отвечает Куделькин.
Другие бойцы, стоящие за Егоровым, подтверждают, что и им это почудилось.
Все замирают на своих местах. Через минуту звяканье повторяется. Егоров посылает двух бойцов пройти по гребню скалы до самого дальнего обрыва и посмотреть, не карабкается ли кто-нибудь на перевал.
Солдаты уходят. Винтовки у них взяты наизготовку – на случай, если там окажутся японцы. Становится совсем светло. Правда, туман застилает горизонт, но где-то уже восходит солнце, и его лучи покрывают небо нежнейшей позолотой.
Егоров видит, что солдаты остановились и кому-то энергично машут руками. Потом они на некоторое время исчезают под обрывом и появляются вновь.
Их теперь трое. Третьего Егоров узнает по высокому росту. Подкорытов! А где же Соколков и Шлёнкин? Он помнит, что вечером они отправились в горы вместе…
У Егорова больно щемит сердце. Шлёнкин и Соколков, видимо, погибли. Он прибыл в армию вместе с ними, вместе с ними переживал все трудное стояние на границе и любил их. Хорошие солдаты и хорошие товарищи!
«Ничего, ничего, собери нервы в кулак. Может быть, многих ты сегодня недосчитаешь, многих дорогих людей…» – мысленно говорит себе Егоров.
Он так рад возвращению Подкорытова, что бежит навстречу ему. Только теперь Егоров замечает, что Подкорытов тащит за собой на ремне японский станковый пулемет.
На плече у него две винтовки – своя и японская. На поясе болтаются гранаты. На спине коробка с пулеметными лентами.
Лицо Подкорытова от волос до подбородка – в синяках и ссадинах. Руки кровоточат. Он мокрый от пота, и одежда его на прохладном ветерке курится испариной.
Подкорытов останавливается, выпрямляется, хочет отдать рапорт офицеру. Но Егоров хватает его руку и крепко жмет.
– Где Соколков и Шлёнкин? – все еще не выпуская руку Подкорытова, спрашивает он. Нижнее веко его правого глаза подергивается, и Подкорытов видит, сколько живых, трепетных чувств скрыто за этим вопросом.
– Соколков, товарищ старший лейтенант, отстал от нас в самом начале. Он сорвался с выступа и сильно зашиб колено. Шлёнкин был со мной, потом я бросился наперерез японским пулеметчикам, а его оставил на скале. Одного японца убил, а второй скрылся. Я забрал документы, винтовку, пулемет и вернулся на прежнее место. Шлёнкин уже куда-то ушел.
Словно тяжесть сваливается с плеч Егорова.
– Значит, они оба живы!
– Да, были живы.
«Были… Но живы ли они теперь…» – думает Егоров. Он вспоминает, что до сих пор не поблагодарил Подкорытова за успехи в бою, и выражает благодарность солдату громким, немного торжественным голосом – так требуют обстоятельства службы.
Подкорытов от усталости чуть не валится с ног, но благодарность офицера приободряет его, он лихо щелкает каблуками, прикладывает руку к пилотке и говорит бодрым голосом:
– Служу Советскому Союзу!
14
Егоров возвращается вместе с Подкорытовым. Солдатам, которые пришли с ним, он приказал разделиться по двое, подняться на господствующие над местностью вершины и указывать дорогу.
Подходя к биваку батальона, Егоров и Подкорытов видят необычную картину: комбат Тихонов обнял Викториана Соколкова и крепко целует его в губы. Возле них стоят парторг Петухов, офицеры и солдаты.
– Спасибо, Егоров! Каких солдат ты мне вырастил! – кричит Тихонов, увидя Егорова.
Соколков застенчиво улыбается, у него кривятся губы: утихшая боль в ноге опять дает о себе знать.
Егоров и Подкорытов смотрят на Тихонова. Майор всегда строг и сдержан. Что же могло так взбудоражить его?
– Соколков истребил четырех самураев, среди них был майор с важными оперативными документами, – сообщает Петухов, заметив вопросительные взгляды Егорова.
Возле ног Тихонова Егоров видит четыре японские каски, оружие, а начальник штаба лейтенант Власов держит в руках полевую сумку, набитую картами и бумагами.
Прибегает начальник радиостанции. Он докладывает, что дежурный радист начал принимать важный приказ штаба армии. Тихонов и Власов поспешно уходят и скрываются в брезентовой палатке.
Со всех сторон тянутся солдаты. Егоров стоит на каменистой глыбе, смотрит то сюда, то туда. Не только глазами, а всем своим существом отмечает он приход каждого солдата: «Кукенбаев цел!.. Миронов живой!.. Тимохин невредим!..»
Многие солдаты приносят японское оружие, каски, документы. Вещи как бы обретают язык – они рассказывают о воинской доблести и отваге советских людей.
Появляется сержант Коноплев. Он весь исцарапан. Брюки и гимнастерка на нем изодраны и висят клочьями, голова обнажена – пилотка, вероятно, потеряна.
Егоров словно замирает весь. Он чувствует, что Коноплев несет безрадостные вести. Так и есть!
– Товарищ старший лейтенант, Остап Тарасюк сорвался в ущелье и разбился насмерть.
Егоров слушает Коноплева, стиснув челюсти. Он не успевает пережить до конца сообщение сержанта, как поступает новое известие.
Приходит Куделькин. Он докладывает, что, выполняя приказ командира роты, они взошли на одну из вершин и наткнулись на трупы Степана Дьякова и Августа Лациса.
Егоров хмурится, сжимает кулаки. Неужели подобные вести будут поступать и дальше? Вполне возможно. До сих пор не вернулись Терентий Шлёнкин и четверо других солдат. Где же они, почему нет Шлёнкина? Он был вместе с Подкорытовым, и, по его предположениям, ему давно пора быть в батальоне.
Егоров то и дело смотрит на часы. Время движется неимоверно медленно. Приходят еще два солдата, потом еще два. Теперь нет только Шлёнкина. Но, может быть, и он пал той же смертью, что и его товарищи?
Егорову пора идти к майору с докладом, однако он выжидает. Да, нелегкое дело ночной бой. Без потерь не обошлось, но дорого заплатили японцы за гибель наших товарищей. Двадцать семь японских винтовок лежат у ног командира третьей роты.
15
Внимание Егорова привлекает крик. Бойцы сгрудились возле дороги, пробитой вчера саперами и проторенной тягачами и автомашинами артиллеристов. Егоров слышит, что все наперебой произносят имя Шлёнкина. Что там случилось? Он покидает валун и почти бежит к месту, где столпились солдаты.
Радостный возглас вырывается из его груди. На перевал поднимается Шлёнкин, да не один – впереди него идет японский унтер-офицер.
Шлёнкина и пленного окружают солдаты. Терентий дышит тяжело, облизывает запекшиеся губы. Японец дрожит, смотрит исподлобья на солдат и Егорова.
– Ну где же ты запропастился? Едва дождались, – говорит Егоров первые слова, пришедшие ему на ум.
– Заплутался малость, товарищ старший лейтенант. А потом, разве побежишь с этим чертом, – Шлёнкин слегка кивает головой на пленного.
– Ах ты, «система»! – ласково восклицает Егоров и дружески смеется.
Шлёнкин тоже улыбается, он кого-то ищет глазами в толпе. Один Соколков догадывается, о ком думает в эту минуту Шлёнкин. Но, увы, капитана медицинской службы Тарасенко здесь нет. Она в санитарной палатке перевязывает руку замполиту.
Буткин наотрез отказался покинуть батальон. Пуля не затронула кости, но рана есть рана, и Тарасенко колдует над ней через каждые два часа. «Ну ничего! Все равно же она будет знать об этом», – думает Шлёнкин с радостью.
Егоров ведет Шлёнкина и пленного японца к командиру батальона, но войти в палатку они не успевают. Тихонов выходит из нее им навстречу. Власов, как всегда, следует за ним.
Вид у Тихонова озабоченный, и Егоров догадывается, что штаб армии преподнес батальону какую-то новую и, видно, нелегкую задачу.
Тихонов останавливается, пораженный неожиданной картиной: Шлёнкин японца конвоирует.
На загоревшем, озабоченном лице комбата появляется усмешка, глаза молодо загораются, и некрасивое, широкое лицо становится неузнаваемо симпатичным.
– Что, он сам пришел или ты его привел, товарищ Шлёнкин? – спрашивает комбат.
– С выступа на него прыгнул, товарищ майор.
– С выступа? Да ведь мог бы в пропасть вместе с ним сорваться, – говорит майор.
Шлёнкин молчит. Что он может сказать? Сорваться с выступа он, конечно, вполне мог, но разве это достаточное основание, чтобы упустить врага?
– Молодец! Быть тебе орденоносцем! – говорит Тихонов и приказывает Власову вернуться в палатку и допросить пленного.
Через полчаса допрос заканчивается. Пленного передают под особую охрану. Тихонов приказывает Власову построить батальон.
Никто из солдат и офицеров этого не ожидает. Все убеждены, что после ночи, проведенной в тревоге, в бою, батальон получит заслуженный отдых. Зачем же потребовалось комбату построение? Может быть, он собирается сообщить что-нибудь важное о допросе японца? Нет, комбат говорит о другом.
– Только орлы, могучие вольные птицы, обитали на Хингане. Советские воины поднялись выше орлов. Честь и хвала вам, славные солдаты Страны Советов!
Тихонов сообщает, что японский император безоговорочно капитулировал перед союзниками, но военщина саботирует капитуляцию, продолжает сопротивление. В Маньчжурии повсеместно идут бои. Есть одно верное средство быстро окончить войну – утроить нажим на врага, ускорить продвижение вперед.
Все понимают, что это значит: на сон и отдых сегодня нет никакой надежды.
– Родина ждет от нас подвигов, и мы способны эти подвиги совершить. Не правда ли, товарищи? – спрашивает Тихонов.
И все кричат в один голос: «Правда!» Кричат и те, кто полчаса назад изнемогал от усталости.
Колонна начинает движение. На первом же километре ее встречают клыкастые, подернувшиеся мхом скалы.
Солдаты расстегивают гимнастерки, засучивают рукава.
16
В конце августа сорок пятого с карты Азии исчезло Маньчжоу-Го – марионеточное государство с игрушечным императором, японским ставленником Пу И во главе. Сам император, худощавый человек в очках, похожий своим обликом на засидевшегося на одном курсе студента-неудачника, был пойман на аэродроме при попытке к бегству.
Весь мир затаил дыхание перед свершившимся чудом. Творцом чуда была Советская Армия.
В считанные дни советские войска преодолели безводные степи Монголии, форсировали неприступный Хинганский хребет и вышли на побережье Желтого моря.
Танковые корпуса могучим тараном раскроили Маньчжурию надвое. Армады тяжелых воздушных кораблей ринулись на важнейшие пункты страны. В Мукдене, Порт-Артуре и других городах высадились десанты советских воинов.
Война Японии с Америкой и Англией, продолжавшаяся уже около четырех лет, закончилась полным разгромом Японии. Миллионы людей, ввергнутые японскими империалистами в страшные страдания, благодаря вмешательству Советского Союза обрели мир.
К исходу августа батальон Тихонова преодолел хинганские крепости, миновал песчаные просторы Чахарской провинции и вступил в районы, густо населенные китайцами…
…Утро. Солнечное, лучистое. С земли поднимается белая, как молоко, испарина. Воздух насыщен запахом сырой земли. Зелень всюду свежая, ласковая, словно только взошла – чувствуется, что тепла и влаги здесь преизбыток.
Впервые за весь многодневный поход батальон идет по старой, наезженной дороге. Дорога ведет в китайский город.
Встречи с китайцами все ждут с большим нетерпением. Разговоры о тяжкой судьбе этого самого многочисленного народа на земном шаре не сходят с уст.
Офицеры то и дело смотрят на карты, подсчитывают, сколько километров осталось пройти до города.
По данным, сообщенным по радио из штаба армии, в город сброшен парашютный десант. Японский полк, стоявший в этом пункте, бежал в неизвестном направлении. Местопребывание его до сих пор не обнаружено. Командованию полка либо ничего не известно о приказе императора о полной капитуляции, либо полк решил, невзирая ни на что, сопротивляться.
Осторожность никогда не мешает, в таком случае – тем более. Батальон сопровождают усиленные дозоры, впереди него – разведка.
Дорога бежит с холмика на холмик, а когда на ее пути встречаются сопки, она огибает их и стелется по распадкам.
Первая встреча с китайцами происходит совершенно неожиданно. В одном из распадков бойцы видят толпу полуголых людей. Люди бегут к дороге, что-то кричат, машут руками. Среди них старики и старухи с изъеденными трахомой веками, мужчины и женщины среднего возраста, страшные от худобы, и дети, начиная от грудных и кончая подростками, – все с распухшими животами.
На многих из человеческой одежды только самодельные шляпы из соломы чумизы. Большинство мужчин и женщин обнажены, их бедра прикрыты тряпицами и козьими шкурами.
Весь облик людей таков, что не требуется никаких объяснений, чтоб представить степень их нищенства.
Китайцы выбегают на дорогу, становятся на колени и, воздев руки кверху, кричат тоскливыми, плачущими голосами. Одни из них тычут себя в голые, припухшие животы, другие схватились за тряпицы и показывают, как истлело это подобие одежды. Не нужно знать китайского языка – можно и так понять, что просят эти люди одежду и пищу.
– Кушо! Путо! Кушо! Путо! – слышатся пронзительные голоса.
Слова эти не китайские, не русские – они изобретены голодными, раздетыми китайцами по каким-то одним им известным ассоциациям.
У Тихонова влажнеют глаза, и он с ожесточением говорит:
– До чего же довели самураи людей! Это же первобытные!
Батальон останавливается. Идти дальше невозможно – дорогу преграждает живая стена.
Петухов входит в середину толпы. Его сердце не выдерживает: он вытаскивает из вещевого мешка гимнастерку, пару белья, портянки, сухари, банки с консервами и отдает все это в руки, протянутые к нему.
Солдаты спешат воспользоваться примером парторга. Десятки китайцев и китаянок на глазах у всего батальона обряжаются в гимнастерки и рубашки красноармейцев, жадно грызут сухари, острием камней раскрывают жестяные банки.
Благодарности китайцев нет предела. Они радуются подаркам, как дети, кричат еще громче.
Два старых китайца взяли Петухова за руки и, скаля желтые зубы, говорят ему что-то, заглядывая в глаза. Петухов понимает, что они благодарят солдат за отзывчивость. Ему тоже хочется сказать китайцам что-нибудь важное и значительное.
– Это разве жизнь, друзья? Это же прозябание! И нужда, видать, крепко держит вас. В одиночку вам ее не побороть. Коллективным трудом надо нужду выживать. Земли у вас неплохие, солнца и влаги полный достаток.
Китайцы, окружившие его, слушают с серьезным видом, догадываются, что он желает им добра.
Слушают Петухова и солдаты. И никто даже не улыбнется, что парторг проповедует колхозный труд китайским крестьянам.
Его мысли совпадают с мыслями каждого из солдат. Ну конечно же, раз нужда одолевает, значит, бери ее за глотку коллективным трудом, перестраивай жизнь на началах социализма!
– Японца мы прогнали, землю вашу от врага освободили – берите теперь свою судьбу в собственные руки, – говорит Петухов.
Он дружески треплет одного китайца, другого. Те улыбаются, поднимают руки, оттопыривают большой палец и кричат слова восторга. К их крику присоединяются женщины, детишки. Провожаемый этими криками, батальон идет дальше.
17
Китайские города имеют свои особенности. Их опоясывают глинобитные стены толщиной в полметра и больше. Трудно объяснить практическое значение этого устройства при настоящем укладе жизни китайцев, но стены эти берегут и поддерживают – такова традиция. Войти в город можно только в ворота – они построены в строгом соответствии со сторонами света.
Батальон Тихонова входит в западные ворота. Толпы народа встречают советских воинов восторженными криками. Тут публика более разношерстная, чем там, на полях. Наряду с беднотой в толпе мелькают синие шелковые халаты городской знати – арендаторов, торговцев, купцов.
Среди соломенных широкополых шляп, защищающих от солнца не только головы, но и голые плечи батраков, немало фетровых шляп серого, черного, коричневого цвета: встречать советские войска вышла и интеллигенция города. В руках у встречающих красные и синие флажки, сделанные из цветной бумаги, портреты Сталина, нарисованные местными художниками.
Солдаты осматривают узкие, извилистые улицы. Всех изумляет теснота, в какой размещены жилища, и необычайное расположение их. Окна у домов обращены во дворы, на улицу выходят ровные, гладкие стены. Это придает улицам и строениям нежилой вид и кажется таким же противоестественным, каким бы казалось человеческое лицо, будь оно без глаз.
Батальон занимает пустующий военный городок, недавно лишь отстроенный японцами. Как хорошо после долгой жизни под небом почувствовать над собой крышу жилища!
Комендант города, молодой капитан с пятью медалями на груди, сброшенный сюда с небольшой группой парашютистов, рассказывает Тихонову и Буткину обстановку.
Китайское население ожесточено против японцев и при каждом удобном случае расправляется с ними. Однако и японцы не остаются в долгу. Полк, стоявший здесь, обитает где-то в горах, в окрестностях. Каждую ночь в городе возникают то пожары, то взрывы. На днях серьезно повреждена электростанция. Надо бы истребить японцев, но что может сделать горсточка бойцов против полка?
Капитан не успевает рассказать всего. Вбегает лейтенант и с ним китаец. Оба сильно взволнованы. Лейтенант оказывается переводчиком. Он указывает на китайца, сообщает майору причину его прихода сюда.
За городом, в ближайшей деревеньке, разместилась японская рота, вышедшая только что из гор. Китаец берется довести наших бойцов самым коротким путем и скрытно – по густым высоким зарослям гаоляна.
Тихонов с сожалением вспоминает об артиллеристах. Вот когда они могли бы серьезно помочь. Перевалив через Хинган, артиллеристы вынуждены были остановиться: кончилось горючее. Теперь они горючее, видимо, давно получили – передвижные базы с бензином были на подходе. Однако батальон не нагнали, и это значит, что они получили новый маршрут.
Тихонов вызывает к себе командиров рот, советуется с ними. После непродолжительной беседы принимают план Егорова. Ему же поручено и осуществить его.
Кроме своей роты, Егоров получает серьезные дополнительные силы: взвод минометчиков и взвод автоматчиков.
Гаолян действительно вымахал такой, что человек может в нем потеряться. Китаец и Егоров идут впереди, позади них японский унтер, захваченный на Хингане Шлёнкиным.
У японца глаза завязаны платком. Он не должен знать ни местности, ни сил, которыми располагает Егоров. Японца ведут под руки.
Китаец ничего не прикрасил. Деревенька стоит в лощине, и подходы к ней хороши – невозможно придумать лучше. Посевы гаоляна примыкают к самым дворам. Кроме того, деревенька прикрыта с двух сторон тополевой рощицей.
При подходе к деревеньке удается самое главное – скрытность. В армии ее называют первым условием боевого успеха.
Свыше километра ползли солдаты на четвереньках, и не зря. Они видят теперь врага своими глазами. В одном из дворов японцы из котелков едят палочками рис.
Егоров поднимает пленного унтера с земли, снимает повязку и слегка толкает его в спину:
– Иди!
Пленный идет. Вот он входит во двор, говорит что-то солдатам, один из них бежит в глубь двора и возвращается с офицером. Простым глазом невозможно рассмотреть его знаки различия, но в бинокль Егоров видит, что это капитан.
Унтер подает ему бумажку – ультиматум: сложить оружие и организованно сдаться в плен, в противном случае японцам грозит уничтожение. Советские бойцы возле, и их оружие наготове.
Офицер что-то говорит унтеру, потом широко размахивается и бьет его по лицу. Унтер катится кубарем. Офицер размахивает рукой, солдаты мечутся.
Егоров понимает, что офицер из числа тех фанатиков – самураев, которых убеждает только оружие. Он приказывает дать залп из минометов. Одна мина разрывается над двором. Офицер и несколько солдат падают, а десятки других поднимают руки, бросают оружие, многие отчаянно машут белыми платками.
Во двор врывается штурмовая группа. Егоров видит в бинокль возбужденные лица своих боевых друзей: Подкорытова, Шлёнкина, Соколкова, Куделькина…
Вечером Тихонов направляет категорический ультиматум командиру полка. Японцы, только что сдавшиеся Егорову в плен, доставляют ультиматум в горы. А рано утром прибывает ответ. Скрывая истинные причины поражения своей армии, полковник Ямаучи витиеватым слогом сообщает, что он не в силах противоборствовать воле императора и готов выполнить все предписания господина советского майора.
18
Егоров сидит в комнате, которая некогда была кабинетом японского полковника, и пишет письмо жене.
«Сашенька! Бесценная моя!
Великая победа! Мир во всем мире! Нет, это еще трудно вообразить и в это невозможно сразу поверить.
Я представляю, что творится сегодня у вас на нашей Родине! А у нас-то! Солдаты выучили наизусть правительственное обращение к народу и бесконечно повторяют его, пересказывают друг другу.
Все разговоры об одном: о возвращении домой, о новой жизни, которую несет нам мир, завоеванный тягчайшим трудом миллионов советских людей…»
Стучат в дверь. Егоров, не отрываясь от письма, говорит:
– Войдите.
Входит Шлёнкин. На нем новое обмундирование. Он тщательно выбрит, подтянут, весь какой-то праздничный, сияющий. На груди у него блестит орден Красного Знамени, врученный сегодня командующим, прилетавшим сюда на самолете.
– Кажется, оторвал вас от работы, товарищ старший лейтенант?
– Пустяки. Присаживайтесь, Терентий Иванович.
Но Шлёнкин не садится и взволнованно топчется.
– В партию я надумал вступать, товарищ старший лейтенант. Вы мне рекомендацию не дадите? Сегодня такой исторический день…
Егоров одобряет намерение Шлёнкина и берет чистый лист бумаги, чтобы писать рекомендацию.
19
Весть о возвращении на Родину привозит Петр Петрович Буткин. Вызванный в штаб армии по случаю присвоения звания майора, он появляется в новых погонах с двумя просветами и большой звездой. Он так сильно обрадован приказом о выезде в Советский Союз, что поздравления с новым званием принимает как-то слишком обыденно и на ходу.
Весть, привезенная Буткиным, вызывает ликование. Возникает митинг.
Когда митинг заканчивается, батальон выстраивается и начальник штаба сообщает порядок погрузки в вагоны.
Всю ночь солдаты и офицеры работают не покладая рук. Об отдыхе никто не поминает. Воодушевление так велико, что даже самые заядлые курильщики, вроде Терентия Шлёнкина, в другое время не выпускающие изо рта трубки или цигарки, забывают о табаке.
Рано утром Тихонов с Буткиным обходят вагоны и тщательно проверяют готовность эшелона к отправке. Все сделано добросовестно, аккуратно и гораздо быстрее, чем предполагалось.
Тихонов направляется к военному коменданту и просит ускорить подачу паровоза.
Солдаты сидят по вагонам, с нетерпением ждут отправки.
Несмотря на то что ночь прошла в напряженной работе, без сна, ложиться спать ни у кого нет охоты.
И долгожданный, выношенный в мечтах, взлелеянный в задушевных товарищеских беседах час отъезда на Родину наконец наступает!
Горнист играет сбор, но в пронзительных звуках горна слышатся сегодня торжественные и радостные ноты: «По вагонам! По вагонам! И домой! И домой!»
Паровоз дает свисток, вагоны вздрагивают, гремят части сцепления…
С каждой минутой увеличивается число километров, отделяющих батальон от Советской страны. Поезд мчится на юг, к берегам моря, в противоположную сторону от Советского Союза. Китай – страна большая, но железных дорог здесь мало. Чтобы попасть в СССР, приходится делать огромный крюк: ехать сотни километров до Цзиньчжоу, а оттуда поворачивать на север, к Мукдену.
Стоят теплые, солнечные дни, хотя октябрь уже на исходе. На полях много зелени. Лист на деревьях по-летнему свежий и поблескивает на солнце клейким глянцем.
Поезд то и дело ныряет в глубокие ущелья, мчится через закопченные тоннели, грохочет на мостах, пересекающих песчаные русла испарившихся речек. Иногда дорога на десятки километров тянется по мостам – так много тут речек.
В ливни русла наполняются водой и становятся бурными, как горные потоки. Если ливни переходят в затяжные, речки выходят из берегов, топят деревни, смывают или забрасывают илом посевы чумизы, гаоляна, овощей, и тогда тысячи людей умирают голодной смертью – о них некому позаботиться: правительство глухо и немо к нуждам народа.
Из открытых теплушек солдаты осматривают китайские просторы. Ласкова и благодатна китайская природа. Но ничего не скроет ужасной доли китайского крестьянина. Солдаты разглядывают маленькие деревеньки с глиняными конурками вместо домов. Не от хорошей жизни люди теснятся в них. На засеянных полосках копошатся согбенные фигуры китайцев. Машин совершенно не видно, даже ослов и тех единицы. Люди переносят собранный урожай на себе в корзинах, на длинном, гибком шесте.
Как же, должно быть, сильно тоскуют плечи китайских тружеников по отдыху! В теплушках говорят об этом, и в разговорах все чаще и чаще упоминается Родина. Там даже в самых далеких уголках работают тракторы и комбайны, автомобили снуют по дорогам.
От Цзиньчжоу эшелон поворачивает на север. Солдаты проезжают через большие и маленькие города. И тут они опять видят горькую долю китайского труженика. На станциях обитают толпы голодных, оборванных людей. Из беглых разговоров с ними, при помощи жестов, удается узнать о таких вещах, в которые советскому человеку трудно поверить: многие китайцы не могут найти работы в течение десяти – пятнадцати лет!
Города поражают солдат своими контрастами. Лучшие здания собраны в одном месте. Рестораны и гостиницы, магазины и конторы сияют золочеными вывесками, зазывают и манят к себе разноцветными огнями. Сюда стекаются коммерсанты, крупные чиновники, помещики, иностранные агенты – кто на чем: на автомобилях, привезенных из Европы, на лошадях английской породы, на рикшах – людях, запряженных в тележки.
Но вот эшелон отходит от больших вокзальных помещений, и открывается другое лицо города: серые стены, а за ними глиняные каморки, стиснутые в умопомрачительной неразберихе.
Здесь живут многие тысячи людей, составляющих основную массу населения городов.
Больше недели длится переезд по тряским, давно не ремонтированным дорогам Маньчжурии. За эту неделю солдаты узнают много нового. Своими глазами они видят звериное лицо капитализма. И еще нагляднее становится им все содеянное в Советской стране. Китайцы провожают эшелон дружескими приветствиями. На всех станциях, и больших и маленьких, солдатам дарят то овощи, то яйца, то длинные китайские трубки. Велика любовь китайских тружеников к стране, показавшей путь к счастью миллионам людей.
На севере Маньчжурии поливают дожди и дуют холодные ветры. По ночам солдаты топят печки, и эшелон движется, расстилая потоки пляшущих искр. Но ненастье не уменьшает праздничного настроения: Родина все ближе и ближе.
Во время одной стоянки в офицерский вагон входит Власов. Он сообщает, что до первой советской станции остается тридцать километров. Егоров и Тарасенко садятся к столу, раскрывают блокноты и готовят телеграммы. Послать их – это первое, что необходимо проделать на советской земле.
Егоров пишет жене: «Безумно счастлив оказаться на родной земле. Крепко целую тебя и Ниночку. Обнимаю всех друзей и близких».
Тарасенко старательно выводит: «Казань, медицинский институт, профессору Тарасенко. Папа, родной мой, шлю тысячи нежных поцелуев и верю в скорую встречу. Твой Котенок».
Тарасенко вырывает листок из блокнота и, подумав, начинает писать еще одну телеграмму: «Казань, факультетская клиника, ассистенту Колокольцеву. С первых километров родной советской земли шлю тебе горячий привет и самые лучшие пожелания. Живу мечтами о скорой встрече. По-прежнему твоя Катя».
В соседних вагонах солдаты заканчивают последние приготовления к встрече с Родиной. Шлёнкин торопливо добривает щеки. Соколков и Подкорытов бережно протирают платками ордена Красного Знамени. Трубка и Куделькин пришивают к гимнастеркам свежие подворотнички.
На последней стоянке, перед переездом границы, в вагон запрыгивают Тихонов, Буткин, Петухов и Егоров. Солдаты поднимаются, приветствуют офицеров. Тихонов говорит дневальному:
– Раскройте вагон шире. Сейчас мы увидим сопки, окружающие падь Ченчальтюй.
Солдаты прерывают свое занятие.
Шлёнкин полотенцем вытирает со щеки мыльную пену и торопится к товарищам, которые сгрудились возле комбата.
Поезд катится между гор, подступающих к самому полотну железной дороги. Потом он вырывается на обширную поляну, и все видят в стороне, вправо от поезда, знакомые макушки сопок.
– Смотрите, памятник Симочкину цел! – говорит Тихонов, опуская бинокль.
Воцаряется молчание, полное глубокого значения. Тихонов полуоборачивается и смотрит на построжевшие лица солдат.
Падь Ченчальтюй! Сколько воспоминаний связано с ней у каждого из них! Сколько и радостных и горьких минут было пережито здесь, среди суровых, скучных сопок! И не зря. Долг перед Родиной исполнен до конца. Враг разгромлен.
Эшелон не остановился на разъезде. Путь эшелона лежит дальше.
Поезд изгибается, и все видят впереди пограничную арку и советских пограничников в зеленых фуражках. Подкорытов первым прерывает молчание. Звонким тенорком он начинает солдатскую песню. Ее подхватывают все, подхватывают дружно, как бы одним дыханием:Забайкалье, Забайкалье,
Забайкалье – край родной.
Породнились с Забайкальем
Офицер и рядовой.
...Забайкальский фронт – Иркутск – Москва
1945–1947 гг.
ОглавлениеОтец и сын РоманКнига перваяКнига втораяОрлы над Хинганом ПовестьОт автораЧасть первая В сопках ЗабайкальяЧасть вторая Орлы над Хинганом

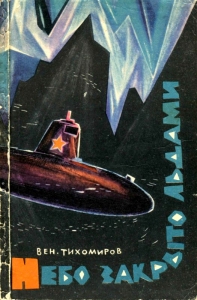
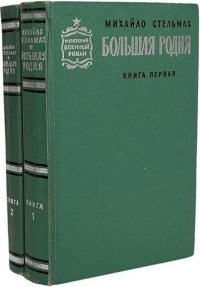


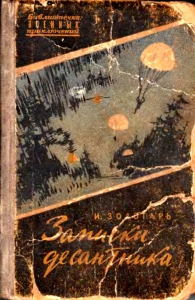



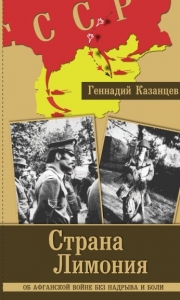


Комментарии к книге «Отец и сын (сборник)», Георгий Мокеевич Марков
Всего 0 комментариев