Виктор Платонович Некрасов Три встречи
(Рассказы, письма)
Виктор Некрасов (1911–1987)
Виктор Платонович Некрасов родился 14 июня 1911 года в Киеве, как говорил писатель, — «в самом центре древнего Киевского княжества, и, если не на месте самого терема Владимира Красное Солнышко, то, во всяком случае, совсем рядом», на современной Владимирской улице. Первые годы жизни связаны с Францией — Вика Некрасов, которого тогда окружающие звали Бубликом, находился в среде эмигрантов из России: Плеханов, Ленин, Луначарский, Надежда Константиновна, Мария Ильинична — эти имена встречаются в воспоминаниях Некрасова.
Молодость, увлечения, архитектура, театр… Хотелось быть то Корбюзье, то Станиславским, на худой конец — Михаилом Чеховым. Немного и писал. «Смесь Гамсуна с Хемингуэем», — вспомнит потом о своих ранних опусах Некрасов.
В тридцать седьмом уцелели — загадка, — ведь родители из «бывших», дворяне, бесстрашная тётка Софья Николаевна Мотовилова писала письма Крупской, Ногину, Бонч-Бруевичу по поводу несправедливых арестов… Может, уберегли чекисты, жившие в одной из комнат уплотнённой квартиры Некрасовых, детей которых лечила мать Виктора Платоновича.
Институт. Театральная студия. Некрасов работал в театре. Бродячем, левом, полулегальном. Исколесил Киевскую, Житомирскую, Винницкую области. Потом Владивосток, Киров — театры там настоящие, но роли третьеразрядные. Подхалтуривал декорациями. По вечерам что-то писал. Возвращали. Из театра Красной Армии в Ростове-на-Дону взяли в армию.
Виктор Некрасов по его собственному признанию в одном из писем «в самых адских котлах перебывал», после Сталинграда — госпиталь, снова фронт… Последнее из приведённых здесь писем заканчивается обещанием написать подробное письмо. Его не было — в Люблине второе ранение, так закончилась война для Некрасова.
Свои первые литературные упражнения, закончившиеся рукописью романа «Сталинград» (первое название повести «В окопах Сталинграда»), Виктор Платонович связывал с требованиями врачей разрабатывать парализованные пальцы правой руки. Однако во фронтовых письмах Некрасова мы обнаруживаем строки, где он тогда уже сообщает родным, что начал работу над романом о войне.
Роман «Сталинград» появился в 8-10 номерах «Знамени» за 1946 год и тут же попал под обстрел критики, да и литературная общественность растерялась: книга написана не профессионалом, а простым офицером, не искушённым в тонкостях соцреализма, ни слова о партии, три строчки о Сталине… Однако через год Некрасов обнаружил свою фамилию в списке лауреатов Сталинской премии. «Только сам мог вспомнить, никто другой», — загадочно шептал автору, предварительно закрыв двери кабинета, Вс. Вишневский.
С тех пор книга стала образцом, примером, её издавали и переиздавали. Появлялись сборники фронтовых рассказов Некрасова, повести «В родном городе», «Кира Георгиевна», создавались фильмы по произведениям Некрасова. Казалось, судьба вела писателя к литературному Олимпу.
Однако в обидном, несправедливом анонимном фельетоне, напечатанном в шестидесятые «Известиями», появилось зубоскальное определение писателя: «Турист с тросточкой». Поводом к обвинению Некрасова послужили его замечательные путевые зарисовки в очерках «Первое знакомство» (I960), «По обе стороны океана» (1962), «Месяц во Франции» (1965), в которых писатель не «вывел образ врага».
Началась травля. 12 сентября 1974 года самолёт, следующий рейсом Киев — Цюрих, навсегда увёз Некрасова из нашей страны. За рубежом были написаны автобиографические произведения: «Маленькая печальная повесть», «Записки зеваки», «По ту сторону стены», «Саперлипопет» — их начинает наконец открывать для себя советский читатель.
Недавно Институт книги провёл интересное исследование, посвящённое анализу популярности недавно запрещённых писателей. Выяснилось, что произведения Некрасова стоят на четвёртом месте в длинном ряду отнятых у народа сочинений, которые хотели бы прочитать или перечитать наши соотечественники. Сейчас такая надежда появилась…
Владимир ПотресовРядовой Лютиков
Как-то ночью я возвращался с передовой. Устал невероятно. Мечтал о сне — больше ни о чём. Приду, думаю, даже ужинать не буду, сразу завалюсь… Но вышло не совсем так.
Спускаясь в овраг на берегу Волги, я ещё издали заметил, что возле моей землянки что-то происходит. Человек десять-пятнадцать бойцов толпились около входа в блиндаж.
— Что тут у вас?
— Да заболел вроде один, — ответил кто-то из темноты.
— В санчасть отправить, значит, надо. Чего стоите? Пополнение, что ли?
— Пополнение.
Получали мы его тогда — дело происходило в Сталинграде в конце января сорок третьего года — не часто и не густо. Человек по пятнадцать-двадцать в неделю, моментально расхватываемых батальонами. Тут же, в овраге, как раз против моей землянки, пополнению выдавали тулупы, валенки, тёплые заячьи рукавицы, оружие и отправляли на передовую.
Кто-то тронул меня за локоть. Я обернулся. Терентьев, мой связной.
— Симулянт… — Терентьев всегда был всем недоволен, на всё ворчал и всех осуждал. — Нажрался чего-то и в «ригу» поехал. Напачкал только.
— Ладно. Позови Приймака. А бойцов давайте-ка к штабу… А то подорвётесь здесь на капсюлях. Живо…
Бойцы, ворча, поплелись к штабному блиндажу. У входа в землянку остался только больной. Он сидел на корточках, обхватив колени руками, и молчал, уставившись в землю.
— Что с тобой?
Он медленно поднял голову и ничего не сказал. Его опять стошнило.
— Заведи его в землянку, — сказал я. — А я в штаб и сейчас же назад. Приймаку скажи, чтобы градусник захватил.
Когда я вернулся из штаба, Приймак, фельдшер, сидел уже в землянке и Терентьев поил его чаем.
— Ну, что у него?
— А бог его знает, — отхлёбывая горячий чай, сказал Приймак. — Отравился, должно быть. Дай-ка градусник, орёл.
Боец полез за пазуху и с трудом вытащил из-под всех своих гимнастёрок и телогреек хрупкую стекляшку. Вид у него был плохой — лицо серое, небритое, губы сухие, спутанные чёрные волосы лезли из-под ушанки на глаза. На вид ему было лет двадцать пять, не больше.
Приймак глянул на градусник и встал.
— Тридцать восемь и пять. Пусть полежит пока… После посмотрим.
Боец тоже встал, придерживаясь рукой за койку.
— Давно заболел? — спросил я.
— С утра…
— А чем кормили?
— Горох… Консервы…
— А раньше болел?
— Да как сказать… Не очень.
Отвечал он односложно, тихим, глухим голосом, не глядя на нас.
— Что же на том берегу не сказал, что болен? — спросил Приймак.
Боец поднял глаза — чёрные, усталые, лишённые весёлого блеска глаза ничем не интересовавшегося человека, — но ничего не сказал.
— Симулянт, одно слово, — пробурчал Терентьев, сгребая остатки сахару со стола в консервную банку. — Набил градусник, и всё…
Приймак цыкнул на Терентьева:
— Много понимаешь ты в медицине, — и повернулся ко мне: — Консервы. Факт, что консервы… Пускай полежит денёк…
Но Лютиков — так звали этого бойца — пролежал не денёк, а целую неделю. Первые два дня лежал у меня — в блиндаж моих сапёров угодила мина, и пришлось его чинить, — лежал молча, подложив мешок под голову и укрывшись до подбородка шинелью. Смотрел не мигая в потолок чёрными усталыми глазами. Почти не говорил, ничего не просил, не жаловался. Раза три, обычно после еды, его тошнило, и Терентьев, убирая за ним, безумолку ворчал и швырялся предметами. Потом Лютиков перешёл во взводный блиндаж, и за иными делами я совсем забыл о его существовании. Напомнил мне о нём Черемных, наиболее грамотный из моих бойцов, исполнявший обязанности замполита.
— Отправили бы вы, товарищ старший лейтенант, куда-нибудь этого самого Лютикова. Работать не работает, и пользы от него никакой…
Помкомвзвода написал направление в госпиталь, но тут как раз подвернулась какая-то срочная работа, и Лютикова оставили сторожить блиндаж.
Прошло ещё несколько дней. Во взводе у меня выбыло сразу три человека и осталось четыре, вместе с помкомвзводом. Командир взвода две недели уже как лежал в медсанбате. А работы как раз подвалило. Немцы разбили НП, и в одну ночь надо было его восстановить. Помкомвзвода, усатый, деловитый и сверхъестественно спокойный Казаковцев, пришёл ко мне и говорит:
— Разрешите Лютикова на ночь взять. Майор велел в три наката НП делать и рельсами покрыть. Боюсь, не управимся.
— А он что, выздоровел?
— А бог его знает. Молчит всё. Курить, правда, сегодня попросил. А раньше не курил. И обедать вставал.
— Что же, попробуйте.
Под утро я пошёл посмотреть, как идут дела. Бойцы кончили укладку наката и засыпали его снегом. Казаковцев потирал руки:
— Управились-таки, товарищ инженер. В самый раз, в обрез. Через час уже светать будет.
Я спросил, как Лютиков. Казаковцев поморщился:
— Никак. Возьмёт бревно, полсотни метров протащит и как паровоз дышит.
— Завтра же в санчасть отправьте.
На обратном пути мы зашли на КП третьего батальона — начался утренний обстрел. Решили пересидеть.
Комбат три Никитин — здоровенный, краснолицый, в кубанке набекрень — распекал своего начальника штаба:
— Третий раз уже приказ приходит. Третий раз, понимаете? А ты хоть бы хны… Начальник штаба называется. Адъютант старший… Бумажки всё пишешь, донесения… А думать кто будет? Я? Замполит? У нас и так работы хватает.
Начальник штаба — сутулый, длиннолицый, с красными от бессонницы глазами — молча сидел и рисовал какие-то крестики на полях газеты.
— Ты понимаешь, инженер, третий раз приказ приходит — пушку эту чёртову подорвать. Под мостом. А он и в ус не дует… Бумажки всё пишет. Я целый день на передовой. Крутиков тоже. А он сидит себе в тепле да по телефону только: «Обстановочку, обстановочку». Вот тебе и обстановочка… Дохнуть не даёт пушка окаянная…
Пушка, о которой говорил Никитин, давно уже не давала ему покоя. Немцы втащили её в бетонную трубу под железнодорожной насыпью и днём и ночью секли никитинский батальон с фланга. Подавить её никак не удавалось — боеприпасов в полку было в обрез, а десяток выпущенных по ней снарядов не причинил ей никакого вреда. Сейчас Никитин вернулся от командира полка после основательной головомойки и не знал, на ком сорвать злость.
Никитин набросился на меня:
— Тоже инженер называется… В газетах про вас, сапёров, всякие чудеса пишут — и то взорвали, и то подорвали, а на деле что? Землянки начальству копаете.
Он встал, выругался и зашагал по блиндажу.
— Набрал себе здоровых хлопцев и трясётся над ними… Снимут три-четыре мины — и сейчас же домой.
Он остановился, сдвинул кубанку с одного уха на другое.
— Ну, ей-богу же, инженер… Помоги чем-нибудь. Вот тут вот сидит у меня эта пушка. — Он хлопнул себя по шее. — Долбает, долбает — спасу нет. Снарядов не хватает, подавить нечем… Взорви её, сволочь проклятую. Ты же сапёр. Дохнуть ведь не даёт. Честное слово…
В голосе его прозвучали жалобные нотки.
— У меня всего три человека — сам видишь. Пропадут — что я делать буду? Ты же мне не пополнишь…
— Ну одного, одного только человека дай. А помощников я уж своих выделю. Общее же дело, не моё, не личное.
— Где я тебе этого одного достану? Трёх вчера потерял. Куница в медсанбате, сам знаешь.
— А эти? — Он подбородком кивнул в сторону угла, где сидели и курили сапёры.
— Эти мне самому нужны. Один — минёр, другой — плотник, третий — печник… Вот и всё…
— А четвёртый? Связной, что ли?
— Не связной, а так… Консервами отравился.
— Знаем мы эти консервы… — и, повернувшись к сапёрам, громко спросил: — Кто объелся, сознавайся?
Лютиков встал.
— Подойди, не бойся.
Лютиков подошёл. Нескладный, неестественно толстый от надетой поверх фуфайки шинели, он стоял перед Никитиным, расставив тонкие, до самых колен обмотанные ноги, и ковырял лопатой землю между ног.
— Что же у тебя болит? А?
Лютиков недоверчиво посмотрел на комбата, точно не понимая, чего от него хотят, и тихо сказал:
— Нутро.
— Так и знал, что нутро. Всегда у вас нутро, когда воевать не хотите.
Лютиков, подняв голову, внимательно, не мигая, посмотрел на Никитина, пожевал губами, но ничего не сказал.
— Ну, а пушку подорвать можешь?
— Какую пушку? — не понял Лютиков.
— Немецкую, конечно. Не нашу же…
— А где она?
— Ты мне скажи, можешь или нет. Чего я зря объяснять буду.
— Ладно, — перебил я Никитина. — Хватит жилы тянуть из человека. Поправится, тогда… Да он к тому же и не сапёр. А если тебе действительно сапёры нужны, я могу через дивинженера взвод дивизионных сапёр вызвать.
— Ты мне ещё из Москвы сапёр выпиши… Ну тебя…
Я встал.
— Казаковцев, поднимай людей.
Сапёры зашевелились.
Лютиков стоял и ковырял землю лопатой.
— Давай, Лютиков, — крикнул Казаковцев, — без нас тут справятся…
Лютиков взял свой мешок и, согнувшись, вылез из землянки. На дворе светало. Надо было торопиться.
Я совсем уже было заснул, закрывшись с головой шинелью, когда услышал, что в дверь кто-то стучится.
— Кто там? — буркнул из своего угла Терентьев.
— Старший лейтенант спят уже? — раздалось из-за двери.
— Спят.
— Кто это? — высунул я голову из-под шинели.
— Да всё этот… Лютиков.
— Чего ему надо, спроси.
Но Терентьев не расслышал меня или сделал вид, что не расслышал.
— Спят старший лейтенант… Понятно? Утром придёшь. Не горит.
Я смертельно хотел спать, поэтому, разделив мнение Терентьева, повернулся на другой бок и заснул.
Утром, за завтраком, Терентьев сообщил мне, что Лютиков раза три уже приходил, спрашивал, не проснулся ли я.
— Позови-ка его.
Терентьев вышел. Через минуту вернулся с Лютиковым.
— В чём дело, рассказывай.
Лютиков замялся, неловко козырнул.
— Я насчёт этой… — с трудом выдавил он из себя, — пушки той…
— Какой пушки?
— Что комбат давеча говорил…
— Ну?
— Подорвать, говорил комбат, её надо.
— Надо. Дальше?
— Ну, вот я и того… решил, значит…
— Подорвать, что ли? Так я тебя понял?
— Так… — еле слышно ответил Лютиков, не подымая головы.
— Но ты и тола-то ещё не видел, зажигательной трубки. А ещё туда же, взрывать!
— Это ничего, товарищ старший лейтенант, что не видал, — в голосе его послышался упрёк. — Обидел он меня сильно.
— Кто обидел?
— Комбат Никитин. Все вы, говорит, на нутро жалуетесь, когда воевать не хотите.
Я рассмеялся:
— Чепуха, Лютиков. Это он так брякнул, для смеху. Все мы знаем, что ты действительно нездоров. Сегодня в санроту пойдёшь. Скажи Казаковцеву, у него направление есть. Ступай полечись.
Лютиков ничего не сказал, только посмотрел на меня исподлобья, неловко повернулся, споткнувшись о валявшиеся на полу дрова, и вышел.
Целый день я пробыл в сапёрном батальоне на инструктивных занятиях. Вернулся поздно. В дверях штабной землянки столкнулся с Казаковцевым.
— Чего ты здесь?
— Трубы майору чинил. Печка дымит.
— Исправил?
— А как же.
— Меня майор не спрашивал?
— Спрашивать не спрашивал, но там как раз комбат Никитин. Вас ругает, что пушку не хотите подорвать.
— Пусть говорит. Лютикова отправили?
Казаковцев только рукой махнул:
— Его отправишь! Выздоровел, говорит, я уже. Совсем выздоровел.
— Вот ещё несчастье на нашу голову!
— Я его и так и этак — ни в какую.
— Бойцы в расположении или на задании?
— Во втором батальоне, колья заготовляют.
— Вернутся — пошлёшь двоих с ним в санчасть. Пусть там решают, выздоровел он или нет. Ясно? Надоела мне эта канитель.
Разговор на этом кончился. Я постучался и вошёл к майору. Он сидел на кровати в нижней рубашке и разговаривал с Никитиным.
— Вот, жалуется на тебя комбат, — сказал он, показав мне кивком на табуретку — садись, мол. — Пушку подорвать, говорит, не хочешь.
— Не не хочу, а не могу, товарищ майор.
— Почему?
— Людей нет.
— Сколько их у тебя?
— Трое и помкомвзвод.
Майор почесал голую грудь и вздохнул:
— Маловато, конечно.
— Не три у него, а четыре, — резко сказал Никитин, не глядя на меня.
— Четвёртый не сапёр, товарищ майор.
Майор искоса посмотрел на меня.
— А тут твой помкомвзвод усатый говорил, что этот самый «не сапёр» сам предлагал пушку подорвать. Так или не так?
— Так, товарищ майор.
— Почему не докладываешь? А? — и вдруг разозлился. — Надо подорвать пушку, и всё! Понял? А ну, зови его сюда. Скажи часовому.
Минут через пять явился Лютиков. Майор оглядел его с ног до головы и сразу как-то скис. У него была слабость к лихим солдатам — поэтому он и Никитина любил, всегда перетянутого бесконечным количеством ремешков, горластого задиру, — а тут перед ним стоял неуклюжий, вялый Лютиков со съехавшим на бок ремнём и развязавшейся внизу обмоткой.
Майор встал, пристегнул подтяжки и подошёл к Лютикову:
— Вид почему такой? Обмотки болтаются, ремень на боку, щетина на щеках.
Лютиков густо покраснел. Наклонился, чтобы поправить обмотку.
— Дома поправишь, — сказал майор. — А ну-ка, посмотри на меня.
Лютиков выпрямился и посмотрел на майора.
— Я слыхал, что пушку берёшься подорвать? Правда?
— Правда, — совершенно спокойно ответил Лютиков, не отрывая своих глаз от глаз майора.
— А вот старший лейтенант, инженер, говорит, что ты сапёрного дела не знаешь.
Лютиков чуть-чуть, уголками губ, улыбнулся. Это была первая улыбка, которую я видел на его лице.
— Плохо, конечно. Но пушку подорву.
Даже Никитин засмеялся:
— Силён мужик…
— Ну, а ползать умеешь? По-пластунски? — спросил майор.
Лютиков опять кивнул головой.
Вечером мы вместе с Лютиковым вязали заряды. Три заряда по десять четырёхсотграммовых толовых шашек в каждом. От пушки ничего не должно было остаться. Показал ему, как делается зажигательная трубка, как всовывается капсюль в заряд, как зажигается бикфордов шнур. Лютиков внимательно следил за всеми моими движениями. В овраге мы подорвали одну шашку, и я видел, как у него дрожали пальцы, когда он зажигал шнур.
Он даже осунулся за эти несколько часов.
В два часа ночи Терентьев разбудил меня и сказал, что луна уже зашла и Лютиков, мол, собирается, заряды в мешок укладывает.
Я всунул ноги в валенки, надел фуфайку и вышел во двор. Лютиков ждал у входа с мешком за плечами.
— Готов?
— Готов.
Мы пошли. Ночь была тёмная, снег растаял, и за три шага ничего не было видно. Лютиков шёл молча, взвалив мешок на спину. При каждой пролетавшей мине нагибался. Иногда садился на корточки, если очень уж близко разрывалась.
Никитин ждал нас на своём КП.
— Водки дать? — с места в карьер спросил он Лютикова, протягивая руку за фляжкой.
— Не надо, — ответил Лютиков и спросил, кто покажет ему, где пушка.
— И нетерпелив же ты, дружок, — засмеялся Никитин. — Народ перед заданием обычно штук десять папирос выкурит, а ты вот какой… непоседа…
Лютиков, как всегда, ничего не ответил, наклонился над своим мешком, потом попросил верёвку, чтобы обмотать его.
— Ты дырку в мешке сделай, — сказал я, — и щепочку вставь. А на месте уже трубку вставишь.
Лютиков отколупнул от полена щепочку, обтесал её, вставил сквозь мешковину в отверстие шашки. Потом снял шинель, сложил её аккуратно и положил около печки. Надел маскхалат. Зажигательную трубку свернул в кружок и положил в левый карман. Запасную — в правый. Проверил, хорошо ли зажигаются спички, сунул в карман брюк. Делал он всё медленно и молча. Лицо его было бледно.
В блиндаже было тихо. Даже связисты умолкли. Никитин сидел и сосредоточенно, затяжка за затяжкой, докуривал цигарку. За обшивкой звенел сверчок — мирно и уютно, как будто и войны не было.
— Ну что, пошли? — спросил Лютиков.
— Пошли.
Мы вышли — я, Никитин и Лютиков. Шёл мелкий снежок. Где-то очень испуганно фыркнул пулемёт и умолк.
Мы прошли седьмую, восьмую роты, пересекли насыпь. Миновали железнодорожную будку. Лютиков шёл сзади с мешком и всё время отставал. Ему было тяжело. Я предложил помочь. Он отказался.
Дошли до самого левого фланга девятой роты и остановились.
— Здесь, — сказал Никитин.
Лютиков скинул мешок.
Впереди ровной белой грядкой тянулась насыпь. В одном месте что-то темнело. Это и была пушка. До неё было метров пятьдесят — семьдесят.
— Смотри внимательно, — сказал я Лютикову, — сейчас она выстрелит.
Но пушка не стреляла.
— Вот сволочи, — выругался Никитин, и в этот самый момент из тёмного места под насыпью вырвалось пламя. Трассирующий снаряд описал молниеносную плавную дугу и разорвался где-то между седьмой и восьмой ротами.
— Видал, где?
Лютиков пощупал рукой бруствер, надел рукавицы, взвалил мешок на плечи и молча вылез из окопа.
— Ни пуха, ни пера, — сказал Никитин.
Я ничего не сказал. В такие минуты трудно найти подходящие слова.
Некоторое время ползущая фигура Лютикова ещё была видна, потом слилась с общей белёсой мутью.
— Хорошо, что ракет здесь не бросают, — сказал Никитин.
Пушка выстрелила ещё раз. Потом ещё два раза, почти подряд. Где-то неподалеку треснула одиночная мина.
Я посмотрел на часы. Прошло шесть минут. А казалось, что уже полчаса. Потом ещё три, ещё две…
Ослепительная вспышка озарила вдруг всю местность. Мы с Никитиным инстинктивно нагнулись. Сверху сыпались комья мерзлой земли.
— Молодчина! — сказал Никитин.
Я ничего не ответил. Меня распирало что-то изнутри.
Немцы открыли лихорадочный, беспорядочный огонь. Минут пятнадцать — двадцать длился он. Потом стих. Часы показывали половину четвёртого.
Мы выглянули из-за бруствера. Ничего не видно. Бело и мутно. Опять сели на корточки.
— Погиб, вероятно, — вздохнул Никитин. Он встал и облокотился о бруствер. — А пушка-то молчит. Ничего не видно…
Я тоже встал — от сидения замёрзли ноги.
— А ну-ка, посмотри, инженер, — толкнул меня в бок Никитин. — Не он ли?
Я посмотрел. На снегу между нами и немцами действительно что-то виднелось. Раньше его не было. Никитин оглянулся по сторонам и решительно полез через бруствер.
Лютиков лежал метрах в двадцати от нашего окопа, уткнувшись лицом в снег. Одна рука протянута была вперёд, другая прижата к груди… Шапки на нём не было. Рукавиц тоже. Запасная зажигательная трубка выпала из кармана и валялась рядом.
Мы втащили его в окоп.
Лютиков умер. Три малюсеньких осколка, крохотные, как сахарные песчинки (я видел их потом в медсанбате), попали ему в брюшину. Ему сделали операцию, но осколки вызвали перитонит, и на третий день он умер.
За день до его смерти я был у него. Он лежал бледный и худой, укрытый одеялом и шинелью до самого подбородка. Глаза его были закрыты. Но он не спал. Когда я подошёл к его койке, он открыл глаза и слегка испуганно посмотрел на меня:
— Ну?..
В голосе его чувствовалась тревога, и в чёрных глазах мелькнуло что-то, чего я раньше не замечал, какая-то острая, сверлящая мысль.
— Всё в порядке! — нарочито бодро и всеми силами стараясь скрыть фальшь этой бодрости, сказал я. — Подлечишься мало-мало — и обратно к нам.
— Нет, я не об этом…
— А о чём же?
— Пушка… Пушка как?
В этих трёх словах было столько волнения, столько тревоги, столько боязни, что я отвечу не то, о чём он все эти дни думал, что, если б он даже и не подорвал пушку, я б ему сказал, что подорвал. Но он подорвал-таки её, и не только её, а и часть железобетонной трубы, так что немцы ничего уже не могли установить там.
И я ему сказал об этом.
Он прерывисто вздохнул и улыбнулся. Это была вторая и последняя улыбка, которую я видел на его лице. Первая — тогда, у майора в землянке, вторая — сейчас. И хотя они обе почти совсем не отличались одна от другой — чуть-чуть только приподнимались уголки губ, — в этой улыбке было столько счастья, столько… Я не выдержал и отвернулся.
Через несколько дней немцы оставили Мамаев курган. Их загнали за овраг Долгий.
Мы похоронили Лютикова около той самой железобетонной трубы, где он был смертельно ранен. Вместо памятника поставили взорванную им немецкую пушку, вернее остатки искорёженного лафета, и приклеили маленькую фотографическую карточку, найденную у Лютикова в бумажнике…
В день ранения я составил на Лютикова наградной материал. Награда пришла месяца два спустя, когда нас перебросили уже на Украину.
У Лютикова не было семьи, он был совершенно одинок. Орден его, боевой орден Красного Знамени, до сих пор хранится в полку.
Переправа
Дивизия наша подошла к селу Кашперовка уже под вечер. Разведка донесла, что немцы сидят на том берегу Южного Буга, но почему-то молчат и что ни мостов, ни каких-либо других переправочных средств в этом районе не обнаружено.
Майор, командир сапёрного батальона, — я был тогда заместителем по строевой — вызвал меня к себе и, как всегда перед заданием, ворчливо-недовольным тоном сказал:
— Фриц не знает, что мы вышли к реке, поэтому, очевидно, и молчит. Надо, значит, воспользоваться этим делом и за ночь организовать переправу. Нет — не за ночь, за полночи. Понимаешь, почему? Чтоб пехота до рассвета успела переправиться (это была его манера — задавать вопросы и самому на них отвечать). Комдив так и сказал Сергееву — чтоб полк его до шести утра был уже на той стороне, с пушками и со всем прочим. А сапёров у Сергеева, сам знаешь, — три калеки. Вот и придётся нам отдуваться. Займись-ка этим делом.
Я пошёл во вторую роту. Народу в ней было человек двадцать — в основном плотники, — за командира же орудовал временно Савчук, расторопный и страшно хитрый старший сержант — одессит. Командира роты ранило на Ингуле, и он трясся где-то позади на медсанбатовских подводах.
— Бери роту и двигай на берег, — сказал я Савчуку. — Я поужинаю и через полчасика приду к вам. Разведай пока берег, заготовь телеграфные столбы для плота — там их на шоссе видал сколько… В общем, подготовь всё, а я приду, и тогда начнём. К трём кончишь?
— Зачем к трём? К двум кончим. Трос у нас есть, инструмент наточен. Под пушки, что ли, плот делать?
— Под пушки. Полковые.
— Ясно.
Савчук щёлкнул каблуками — парень он был фасонистый, из кадровичков, и делал это всегда с истинным кадровым блеском — и побежал к роте.
С ужином я задержался, потом плутал в темноте по незнакомым улицам, угодил в какое-то болото — короче, на переправу попал часам к девяти. Особенно я не беспокоился — Савчук парень толковый, энергичный, наверное, всё уже заготовил и сидит где-нибудь в халупе, дожидается меня…
Но получилось не так. Не дошёл я каких-нибудь пятисот метров до условленного места, как понял, что на берегу творится что-то неладное. Крики, ругань, безалаберщина… Что за чёрт! У Савчука обычно всё тихо, чин чином. Я нарочно даже велел Крысаку, командиру взвода, — Савчук с ним часто сцеплялся — остаться в расположении и в минном хозяйстве разобраться. А тут… Ничего не пойму. Тьма непроглядная. За два шага ничего не видать. Кричат, ругаются…
— Савчук! Где ты?
— Это вы, товарищ капитан? — слышу его голос, совсем уже охрипший. — Скобы наши попёрли все…
— Кто попёр?
— А чёрт его знает. Принесло сюда ещё каких-то. Армейские, что ли? Говорят, что это их место. Тоже плот делают. Я уже трос стал натягивать, а там какой-то — майор, что ли, — ругается, пистолетом размахивает… Вы б с ним…
— А где он?
— Да вон там — разоряется. Слышите? Два столба у нас стащили. А теперь вот скобы…
— Кто тут старший? — спрашиваю кого-то большого, громоздкого, в шуршащей плащ-палатке.
— Я. А вы кто такой?
— Комендант переправы, — вру я.
— Чепуха! Комендант — я.
— Ладно… Забирайте своих бойцов и не мешайте работать.
— Кому? Вам? Мне это нравится! Кто вы такой? Командующий армией, что ли?
— Кто бы я ни был. Это вас не касается. Освободите берег и верните скобы, которые у нас взяли.
— Я? У вас? Скобы? Спятили, ей-богу… Это ваши бойцы три топора у нас свистнули…
— Нужны нам ваши топоры… — вмешивается Савчук. — Своих будто не имеем… Вы лучше скобы отдайте. Я их сразу узнаю.
— Ори, ори побольше, — вступился ещё кто-то, из того уже лагеря. — Фриц услышит, даст дрозда, тогда не только скобы побросаете.
— Вам не оставим, не беспокойся…
Поругались мы так ещё минут пять или десять и ни к чему, конечно, не пришли. Единственная польза, что Савчук, воспользовавшись ссорой начальства, захватил берег в самом узком месте реки и стал забивать колья для троса.
Стало тише. Майоровы бойцы подвинулись немного вправо. В темноте трудно было разобрать, где наши, где его, и только редкие уже вспышки ругани показывали, где проходит между нами линия «фронта».
Я сел на бревно и закурил. Река в этом месте была неширокая, но извилистая, с множеством рукавов. Немцы сидели на высоком правом берегу, километрах в полутора от нас, и время от времени бросали ракеты. Но нам они не мешали. Стрельбы ни с нашей, ни с немецкой стороны не было никакой.
Минут двадцать всё шло спокойно. Вдруг слышу опять голос майора:
— Где этот… начальник ихний?
— Чего вам ещё надо? — спрашиваю.
Майор подходит. Задыхается от бешенства:
— Если вы сейчас же не уберётесь отсюда, я вынужден буду…
— Что?
— Выкину вас отсюда. Силой.
— Попробуйте.
— Отдайте лодку! Сейчас же отдайте лодку! Или я… — Он заковыристо выругался и, мне показалось, полез в кобуру.
— Какую лодку?
— Что вы дурачком прикидываетесь? Лодку, которой… Мы трос на ней тянули, а ваши… Она стояла здесь, на берегу. В общем… Я — майор, командир батальона, и приказываю…
— Я тоже майор, и тоже командир батальона.
— Короче, отдадите лодку или нет?
— Никакой лодки я не знаю.
— Значит, не отдадите?
— Оглохли, что ли?
— Хорошо. — Голос его принял угрожающе-ледяной тон. — В три часа здесь будет генерал Мякишев, я думаю, вы его знаете…
— Знаю, — ответил я. Мякишев был начальником инженерных войск армии.
— Вот тогда посмотрите. Доложу ему.
— Ладно, не пугайте. Пуганые…
К двум часам ночи плот был готов — добротный, большой, с перилами и даже настилом. А те всё ещё возились. Савчук натянул трос, великодушно отдал лодку соседям, и теперь было слышно, как ругаются на том берегу майоровы бойцы, забивая колья.
— Ну что — домой двинем? — подошёл и сел рядом со мной Савчук. — Слово сдержал, как видите. К двум кончил — впритирочку.
— Всё?
— Всё.
— И пристань кончил?
— А как же. — Он вздохнул. — Не представляю только, как это две дивизии сразу грузиться будут. Мостик от мостика — метров десять, не больше. Переругаются, вот увидите. Как мы с этим майором.
— Придётся тебе посидеть здесь с бойцами, — сказал я, — пока пехота придёт. А то растаскают. А я пойду в штаб, доложу.
Проходя мимо майора, я не удержался и съязвил:
— Привет генералу. И не засиживайтесь особенно — светать скоро будет.
Майор только буркнул в ответ, что где-то в каком-то месте ещё поговорит со мной, но мне было наплевать — работа сделана, а впереди ещё полночи, можно и заснуть, чего ещё надо. Ноги у меня замёрзли, аппетит разыгрался, и я не пошёл, а побежал к штабу.
Только стал подыматься по крутой уличке, ведущей к нашему расположению, как налетел на меня отряд всадников.
— Кто идёт? — осветил меня кто-то фонариком. — Сапёр, что ли?
— Сапёр, товарищ генерал. — Я узнал голос Мякишева.
— Переправу сделал?
— Сделал, товарищ генерал.
— А ну пойдём, покажешь.
Генерал грузно слез с лошади и кинул поводья ординарцу:
— Здесь подождёшь.
На переправе генерал зажёг фонарик, прикрыв его рукой, и попробовал ногой настил.
— Выдержит?
— Выдержит.
— Ну смотри же, не искупай мне пушки.
— Товарищ генерал! Это не наш… — подскочил вдруг майор. — Наш вот, правее…
Белый луч фонаря осветил круглое и потное лицо майора со съехавшей на затылок пилоткой и… — ах ты, сукин сын! — погоны старшего лейтенанта.
— Вот сюда, товарищ генерал. Только настил осталось. А там уже…
— Ничего не понимаю. — Генерал осветил фонариком соседний плот. — Что значит «наш»? А это чей?
— Мой, — ответил я.
— А ты кто такой?
Я отрекомендовался.
— А ты?
Старший лейтенант стоял и растерянно смотрел то на генерала, то на меня.
— Оглох, что ли?
Старший лейтенант вытянулся:
— Командир роты армейского сапёрного батальона старший лейтенант Костриков.
— Чего ж глазами хлопаешь?
— А… Тут, товарищ генерал, недоразумение какое-то, сам не пойму.
— Какое недоразумение?
— А мне, видите ли, товарищ генерал, приказано было переправу сделать… Для ихней, теперь оказывается, дивизии… Ну, и мы сделали, и они сделали…
— Две, значит, переправы сделали?
— Выходит, что две.
— И ты что ж, огорчён?
— Не то что огорчён, но, видите ли, товарищ генерал… Мы с ним, — он указал на меня, — поругались даже по этому поводу. А теперь…
— Что теперь?
— Теперь ему ж и сдавать надо.
Генерал хлопнул его слегка по плечу нагайкой:
— Эх вы, сапёрщики. Горе мне с вами. Нажимай-ка там со своим настилом. А то полки подойдут — не завидую тогда тебе.
Со стороны Кашперовки доносилось уже бряцание котелков, лопаток, сдержанно ржали артиллерийские и обозные лошади.
Месяца через четыре, летом уже, мы попали с этим самым Костриковым в один и тот же госпиталь — недалеко от Люблина, в Лущуве.
Оба мы были ранены в руку, лежали в одной палате и даже койки свои поставили рядом.
— Ну сознайся, — спросил он меня как-то, — дело уже прошлое, лодку мою вы спёрли тогда?
— Мы, — сознался я, — а вы скобы…
Он расхохотался.
— А ты знаешь, что стащили-то мы их только после того, как твой сержант, или кто это у тебя там был, начал скандалить. Мы и не подозревали, что они у вас есть. А он выдал. Я разозлился и велел весь берег обыскать, но скобы у тебя стащить…
Между прочим, я до сих пор не знаю, почему получилось так, что оба наши батальона послали на одну и ту же работу. Но так или иначе, а полк тогда переправился вместо четырёх за два с половиной часа.
Посвящается Хемингуэю
В Сталинграде, в первом батальоне нашего полка, был знаменитый связист. Фамилии его я уже не помню, или, вернее, просто не знал, звали же Лёшкой — это помню твёрдо. Маленький, худенький, с тоненькой детской шейкой, вылезающей из непомерно широкого воротника шинели, он казался совсем ребёнком, хотя было ему лет восемнадцать-девятнадцать, не меньше. Особую детскость ему придавали нежно-розовый, девичий цвет лица, совершенно непонятно как сохранившийся после многонедельного сидения под землёй, и глаза — живые, выразительные, совсем не взрослые. Знаменит же он был тем, что много читал. Когда бы вы ни пришли на КП батальона, всегда могли застать его в своём углу, у аппарата, с трубкой и с глазами, устремлёнными в книжку. Наверху гудело, стреляло, рвалось (КП батальона находился в подвале мясокомбината), а он, поджав под себя ногу, листал книгу, время от времени отрываясь от неё, чтоб крикнуть: «Товарищ шестнадцатый, четвёртый вызывает».
Знакомство наше произошло не сразу — во время третьего или четвёртого моего посещения мясокомбината. В ту ночь он, как всегда, маленький, ссутулившийся, сидел в своём углу и кричал кому-то, что если через час не прибудет положенное количество «семечек» и «огурцов», то четырнадцатый сам пойдёт ко второму и тогда шестому не сдобровать, а заодно и одиннадцатому. Когда он прекратил свои угрозы, я попросил его соединить меня с одной из рот. Он соединил, передал мне трубку, а сам уткнулся в книгу.
Я кончил разговаривать. Он попросил закурить. Долго скручивал цигарку, глядя сощуренными глазами на коптящее пламя гильзы, потом сказал:
— Пацан ведь, совсем пацан… А туда же со взрослыми…
Я не понял:
— Ты это о ком?
— Да о Петьке…
— Каком Петьке?
— Да о Ростове, — и скосил глаза в сторону книги, — не читали разве? «Война и мир» Эл Толстого… (Он так и сказал — Эл Толстого.)
Так началось наше знакомство.
Боец, читающий на передовой книгу, — сами понимаете, явление, не слишком часто встречающееся. И уже одно это должно было привлечь к нему внимание.
Сначала я думал, что он читает просто так, в минуты затишья, чтобы скоротать время. Оказалось, нет. Он обладал каким-то поразительным умением окунаться в книгу с головой, умением моментально переключаться со своих «огурцов» и «семечек» на смерть Пети Ростова или ещё что-нибудь, никак не более близкое ему сейчас. Всё прочитанное вызывало у него массу различных мыслей, рассуждений, вопросов, иногда просто ставивших меня в тупик.
Я, например, довольно долго пытался убедить его (после того, как он прочёл «Изумруд» Куприна), что писатель вправе писать не только о людях, но и лошадях, и даже от их имени. Он не соглашался:
— Писатель пишет, а ты читаешь и должен верить ему. И веришь. А тут знаешь, что он всё придумал, и тоже веришь. Разве можно так, товарищ лейтенант?
Я пытался доказывать, что можно и даже нужно, но он только пожимал плечами и, чтоб поставить точку в нашем споре (он вообще не любил споров, считая, очевидно, что чем-то обижает меня, не соглашаясь со мной), стал вызывать кого-то в трубку.
Мне очень нравились в Лёшке его независимость, его желание иметь и отстаивать свой собственный взгляд на вещи, его сомнения, которые не всегда могли развеять даже такие авторитеты, как Куприн или Толстой, — о себе я уже не говорю. И всегда ему нужно было точно знать, для чего написан тот или иной рассказ, — он был чуть-чуть моралистом. И в то же время он чисто по-детски, эмоционально и непосредственно, переживал всё, преподносимое ему книгами. Когда он прочитал «Попрыгунью», он долго не мог прийти в себя. По-моему, он даже всплакнул немного. Это, правда, не помешало ему тут же посетовать на Чехова, почему он так много места уделил «попрыгунье» и так мало такому хорошему, такому умному, такому замечательному Дымову. Ну хоть бы сказал, над чем он работал…
И всё это происходило в каком-нибудь полукилометре от немцев, в подвале мясокомбината, всегда набитом людьми, усталыми, злыми, невыспавшимися, где лежали и стонали раненые, где умирали.
Сейчас, семнадцать лет спустя, я с какой-то особой завистью вспоминаю о Лёшке, умевшем с такой лёгкостью абстрагироваться от всего окружающего. «Прочли ли вы то-то или то-то?» — спрашивают тебя. «Какое там… Времени нету… Давно собираюсь, да всё как-то…» А он сидел себе, поджавши ногу, и читал.
Где-нибудь в сети обнаружится порыв — загнёт страницу, побежит, починит, вернётся и опять глаза в книгу. И в тяжёлой нашей, скучной, однообразной фронтовой жизни Лёшка стал для меня каким-то просветом, огоньком, на который я всегда с радостью забегал.
Не помню точно когда, кажется, в декабре, нас передислоцировали, передвинули правее, на северные скаты Мамаева кургана. Все мы ворчали — пришлось расставаться с привычными, знакомыми участками, обжитыми землянками. А Лёшке к тому же пришлось расстаться и со своей «библиотекой». У него действительно была такая — в прошлом, очевидно, клубная, а сейчас никому не нужная, разбомбленная, заваленная кирпичом. Вот туда он и бегал, благо это было совсем рядом и с необстреливаемой стороны. Особой системой его чтение не отличалось. Читал всё, что попадалось под руку. Толстой, Чехов (к сожалению, он нашёл только один том), Александр Беляев, «Первый удар» Шпанова, какие-то старые журналы с оборванными обложками, а однажды я его застал за чтением Метерлинка, которого он хотя и прочёл, но не очень одобрил — впрочем, он вообще не любил пьес. Делал ли он различие в том, что читал? Да, делал. Больше всего он любил трогательное и жалостливое, «чтоб за сердце щипало». Любил про детей, про животных (пожалуй, больше всего из прочитанного его потрясла «Муму»), не любил про любовь, про войну. К моему величайшему изумлению, более чем холодно отнёсся к Жюлю Верну, которым мы в своё время все так увлекались. Кстати, до войны, вернее до Сталинграда, он почти, чтоб не сказать — совсем — не читал. Родился и жил в деревне, недалеко от Саратова, кончил шесть классов…
Итак, нас передислоцировали. КП первого батальона перебазировался в бетонную трубу под железнодорожной насыпью, у самого подножия Мамаева кургана. Вот тут-то Лёшка и затосковал.
— Неужто у вас ничего нет почитать, товарищ лейтенант? — спросил он меня на второй или третий день после новоселья, сидя у своего аппарата и с тоской перелистывая наставление по стрелковому делу.
В те дни, когда у Лёшки была ещё собственная «библиотека», у меня на старом месте было тоже что-то вроде этого — десятка два книг, притащенных бойцами из разных развалин. При передислокации большинство из них я оставил в наследство нашим «сменщикам», с собой же взял только четыре книги: «Фортификацию» Ушакова, «Укрепление местности» Гербановского, «Медного всадника» с иллюстрациями Александра Бенуа и томик Хемингуэя в тёмно-красной обложке — «Пятая колонна и первые тридцать восемь рассказов». К слову сказать, эту последнюю книгу я украл.
Существует мнение, что кража книг не является кражей. Я эту точку зрения не разделяю. На мой взгляд, кража остаётся кражей, что бы ни украл — серебряные ложки, бриллианты или книгу. Во всех случаях это — преступление. И всё-таки Хемингуэя я украл. Украл в штабе армии. Был там один ПНШ — очень начитанный, очкастый, длинноносый майор, в прошлом декан какого-то института, великий книжник. Когда я приходил в штаб по своим сапёрно-инженерным делам, он обязательно заводил со мной какую-нибудь «интеллигентную» беседу о литературе, шахматах или Художественном театре. В однообразие обычных, осточертевших уже разговоров о минных полях, лопатах, киркомотыгах или новом НП, который надо за одну ночь построить, беседы эти вносили какую-то свежую струю. Но горе было в том, что майор в своих суждениях был так банален, так любил повторять чужие слова, что под конец он мне просто надоел со своим вечным: «А! Друг мой, зодчий бога Марса» и нудными рассуждениями о музах, молчащих, когда грохочут пушки. Возможно, именно поэтому я и украл у него Хемингуэя. Майор куда-то вышел на минутку, я посмотрел на книгу, которой он только что хвастался («Всю войну с собой вожу, люблю в свободную от исполнения воинского долга минуту перечесть тот или другой рассказик. Большой, очень большой и своеобразный мастер»), сунул её за пазуху и ушёл. И бог его знает почему, но ни тогда, ни сейчас никаких угрызений совести не испытывал и не испытываю.
Когда я нёс Лёшке книгу, я невольно спрашивал себя, а поймёт ли он этого писателя? Хемингуэй нелёгок, не для всех, к тому же, когда я вручал книгу Лёшке, выяснилось, что он не имеет ни малейшего представления о бое быков, без чего чтение доброй половины вещей Хемингуэя просто бессмысленно.
Очевидно, это была очень забавная сцена: сидят двое в крохотной землянке батальонного НП, в двух шагах от немцев (в эту ночь Лёшка дежурил не на командном, как обычно, а на наблюдательном пункте), курят махорку и разговаривают о матадорах, бандерильеро, верониках и реболерах, о которых один ничего не знал, а другой хотя тоже немногим больше знал, но кое-что читал и видал в детстве картину «Кровь и песок» с участием Рудольфа Валентино.
Часа в два ночи я ушёл. Была на редкость тихая, морозная, очень звёздная ночь. Немец почти не стрелял, освещал только передний край ракетами, и домой, на берег, я возвращался спокойным шагом, ни разу не присев. И, шагая по истерзанной снарядами и бомбами сталинградской земле, прислушиваясь к монотонному гулу ночных бомбардировщиков — наш или не наш? — и потом, засыпая в своей жарко натопленной землянке, я думал о том, что завтра, к семи ноль-ноль, нужно сдать схему инженерных сооружений обороны полка, которую, заболтавшись, не успел закончить, о том, как тесно на войне переплелось страшное и забавное, трагичное и весёлое, думал о Лёшке, возможно как раз в эту минуту читающем про мадридского шофёра Иполито, не проснувшегося даже тогда, когда рядом с ним разорвался снаряд, о том, что, не будь Лёшки, этот хемингуэевский очерк остался бы для меня только прекрасно написанным очерком, а сейчас стал чем-то значительно большим и нужным.
В шесть часов меня разбудил Титков, мой связной, — надо было заканчивать схему.
— А парнишку-то вашего ранило, — подавая мне котелок с кашей, сказал он с тем обычным спокойствием, с каким говорил о смерти ближнего и о полученных на складе двух плитках шоколада.
— Какого парнишку?
— Да того, с первого батальона, что книжки читал… С полчаса как в медсанбат потащили…
В медсанбате (он был в десяти минутах ходу от нас) я застал Лёшку приготовленным для эвакуации на левый берег. Ранен он был нетяжело, в руку и ногу осколками, но потерял очень много крови, пока дополз до КП батальона (он уже шёл домой после дежурства), и требовалось переливание крови, возможное только в госпитальных условиях.
Он лежал на земле, на подстеленной плащ-палатке, очень бледный, потерявший свой девичий румянец, но с обычным для него живым блеском в глазах.
— Где же тебя кокнуло? — спросил я.
— Да там, около насыпи, где мостик, знаете? Ерунда, — он с натугой улыбнулся, — скоро вернусь. А книжка ваша… — Он скосил глаза, показывая, что она у него под головой. — Испортил немного, не сердитесь.
Оказалось, что она слегка испачкана кровью, десятка три страниц, по самому краешку.
— Ничего, это её только украсит, — сказал я. — А прочесть успел что-нибудь?
— Очень мало. Мешали все. Капитан Коробков дежурил, а он каждую минуту: «Алло! Алло! Положение?» Три штуки только успел. Про шофёров мадридских, про старика, у которого два козла и кошка остались, и третий — про Пако, помните, как два парнишки в бой быков стали играть и Пако напоролся на нож?
— «Рог быка»?
— Ага, «Рог быка»… — Он мучительно наморщил брови. — Вот глупо получилось, а? Просто ужас… На два дюйма только… Сколько это дюйм?
— Два с половиной сантиметра.
— Значит, на пять сантиметров в сторону, и не попал бы ему в живот… Бывает же такое… — И, помолчав, добавил, глядя куда-то в сторону: — Жаль Пако, хороший парень был.
Больше нам не дали говорить. Подошёл врач, и двое санитаров стали перекладывать его на носилки. Прощаясь, я протянул ему книжку:
— Чтоб не скучно в госпитале было.
Он, насколько мог, весело улыбнулся:
— Через неделю вернусь, вот увидите. И книгу верну, ей-богу, вы ж знаете меня…
Но больше я Лёшку не видел. Обычная история — из госпиталя отправили в другую часть, и всё. Война…
Жив ли Лёшка? Хочется верить, что да. И что по-прежнему много читает. И тот томик прочёл — тогда, в госпитале, или позже, после войны. Не думаю, чтоб Хемингуэй стал его любимым писателем, слишком у того много подспудного, недоговоренного, а Лёшка любил ясность. Но, как это ни странно, в этих двух столь несхожих людях, старом прославленном писателе совсем из другого мира и мальчишке-солдате из-под Саратова, мне видится что-то общее. В Лёшкином «жаль Пако, хороший был парень…», в этой фразе, сказанной через полчаса после того, как немецкий осколок, не отклонившись ни на дюйм, влип ему в руку, для меня звучит что-то по-настоящему мужественное, то самое, что заставило Хемингуэя полюбить своего мадридского шофёра Иполито. Он сказал о нём: «Пусть кто хочет ставит на Франко, или Муссолини, или Гитлера. Я ставлю на Иполито».
И на Лёшку, хочется добавить мне.
Три встречи
Герой в книге и в жизни… Как много об этом уже написано — умного, интересного, поучительного. И всё-таки, сколько бы ты ни прочёл книг и статей на эту тему, разобраться по-настоящему в этом сложнейшем клубке взаимоотношений не удастся, пока не обратишься к тому, что испытал на собственном горбу, на собственных рёбрах.
Прошло ровно пятнадцать лет с того дня, как я расстался с человеком, с которым дружил очень недолго — менее полугода, но память о котором сохранил на всю жизнь. Мы расстались — я хорошо помню этот день — 25 июля 1944 года в Люблине. Он пришёл на следующий день после моего ранения в санчасть, где я лежал, и принёс мне ложку, бритвенный прибор, зубную щётку, мыло и планшетку с документами. Звали его Валега.
Познакомились мы в марте того же года, незадолго до того, как наши войска форсировали Южный Буг. По счастливой случайности я попал после госпиталя в сапёрный батальон той самой дивизии, в которой воевал ещё в Сталинграде. Получил назначение замкомбатом по строевой, а Валегу мне дали в связные. Не могу сказать, чтоб он обрадовался этой новой должности. Присланный начальником штаба, он стоял передо мной, маленький, головастый, недоброжелательный, с глазами, устремлёнными в землю. Я вспомнил Котеленца, комбатовского ординарца — озорного, хитроглазого, легконогого пройдоху — и невольно подумал: бирюк…
— Ну, так как, — сказал я, — пойдёшь ко мне в связные?
— Как прикажете, — сумрачно ответил он.
— А хочешь?
— Нет.
— Не хочешь? — Я удивился. Обычно об этой должности «не бей лежачего» только мечтали.
— Нет, — повторил он и впервые поднял глаза, маленькие и очень серьёзные.
— А почему?
— Так…
— Что значит — так?
Он пожал плечами и опять, только тише, повторил своё «так».
Я всё понял. Ему, оборонявшему Сталинград солдату-сапёру, казалось зазорным идти в услужение. Это решило вопрос. В тот же вечер он перетащил ко мне свой «сидор» и, узнав, что поручений никаких нет, сел у лампы и молча стал чистить автомат.
Мы провоевали с ним недолго, всего четыре месяца — апрель, май, июнь и неполный июль. Вместе прошли от Буга до Одессы, потом попали на Днестр, оттуда — в Польшу. Спали, ели, ходили на задания всегда вместе. Мы мало с ним разговаривали: он был молчалив и, даже выпивши, не становился болтливее. Иногда только чуть-чуть приоткроется — в душную ночь, когда не спится, или в лесу у полузатухшего костра, — заговорит вдруг об Алтае, об охоте на медведя, о чём-то очень далёком от войны, и слушать его неторопливую, основательную, чуть стариковскую речь было бесконечно интересно. Особенно мне, насквозь городскому человеку. И сразу становилось как-то спокойно и уютно. Вообще в нём было что-то, что невероятно притягивало к нему, — то ли невозмутимое спокойствие в любой обстановке, то ли умение всегда найти себе какое-то занятие, то ли желание всегда помочь, причём желание, исходившее не от его положения, а от его характера. Стремления услужить, чтоб угодить, в нём не было, просто он не мог спокойно видеть, как кто-нибудь в его присутствии делает что-нибудь плохо и неумело. Сам же он делал всё хорошо, быстро и всегда с любовью.
Один только раз он оказался не на высоте — в течение часа варил в котелке трофейный кофе в зёрнах, а потом пришёл и руками развёл: «Ничего не понимаю, товарищ капитан… Варю, варю, а оно не разваривается…» Других неудач я не помню.
И ещё одна черта. Подвернётся минута свободная — от поручений, заданий, штопки, варки, земляночного благоустройства, — не ляжет спать, как положено заправскому солдату, а подойдёт и спросит: «Разрешите к ребятам пойти?» И идёт, и копает вместе с ними, строит какой-нибудь НП или КП. Моего общества ему, конечно же, было мало.
В день моего ранения он оставался в расположении батальона и только на следующее утро разыскал меня в санчасти. Явился насупленный и недовольный. По всему видно было, что он осуждает меня. Несмотря на разницу между нами в пятнадцать лет (ему было восемнадцать, мне тридцать три), он считал себя в чём-то старше и опытнее и сейчас ни минуты не сомневался, что, будь мы вместе, со мной ничего не случилось бы. И под осуждающим его взглядом я почувствовал себя виноватым.
Прощаясь, я очень хотел расцеловаться с ним, но он сантиментов не любил, пожал мне левую, здоровую руку и, сказав «Поправляйтесь!», ушёл.
Больше я его не видал. Дивизия двинулась дальше, на Варшаву, а я, проболтавшись дней десять в Люблине, был эвакуирован в тыл, и воевать мне больше не пришлось.
Года через два я встретил одного из наших командиров и от него узнал, что Валега после моего ранения вернулся в роту, потом некоторое время работал поваром на кухне, а через месяц или полтора на Сандомирском плацдарме был легко ранен и отправлен в медсанбат. Дальнейшая его судьба мне неизвестна. Все попытки разыскать его ни к чему не привели. Верю, надеюсь, что он жив, но так ли это и где он, не знаю. Даже фотокарточки его у меня нет…
Счастье писателя — а я не сомневаюсь, что это настоящее большое счастье, — в том, что он может продолжить прервавшуюся по каким-либо причинам дружбу. Свою дружбу с Валегой я продолжил «В окопах Сталинграда».
На театральном языке есть термин «предлагаемые обстоятельства». Это значит, что тебе, актёру, предлагается представить себе и изобразить перед зрителем состояние и поведение своего героя в тех или иных обстоятельствах — в гостях, на толкучке, в кабинете знаменитого профессора или при встрече с грабителями.
Вся моя «вторая» дружба с Валегой в какой-то своей части была построена именно на подобных «предлагаемых обстоятельствах». Я не боюсь этого сухого слова «построена» — в этом «строительстве» Валега не утерял ни одной своей черты, не приобрёл никакой новой, но присущие ему черты, попав на другую почву, как бы расцвели, окрепли. Мне же это «строительство» дало возможность возобновить свои встречи с Валегой, и были они всегда радостными, интересными и разнообразными.
О пределе власти писателя над своим героем писалось уже много. Она не безгранична. Она — до поры до времени. И пользоваться ею надо очень осторожно. Герой не из воска, чего угодно из него не вылепишь, он по-своему живой, с мускулами, кровью, сердцем. И очень раним. Он не переносит насилия. И если уж он не полюбит писателя, то читатель и подавно. Кажется, чего уж проще — взял и перебросил своего героя, как я, например, позволил себе сделать, из одного времени в другое, из Одессы в Сталинград: сиди на новом месте и делай, что тебе приказывают… Оказывается, нет. На фронте мне куда легче было приказать Валеге, чем в книге. В книге он мне мстил за всякое своеволие и мстил правильно, умно. И спасибо ему за это.
В книге есть такой эпизод. Лейтенант Керженцев с двумя ротами оказывается окружённым на небольшой сопке. И вдруг совершенно неожиданно там появляется Валега, которого Керженцев с собой не взял. Явился с шинелью, банкой тушёнки, без чьего-либо приказания, просто потому, что считал, что так надо. Нечто подобное, правда, в несколько менее сложной обстановке, произошло на самом деле, только не в Сталинграде, а полгода спустя на Днестре — наша дивизия держала там «пятачок» на правом берегу реки. Я перенёс этот случай в книгу. И всё было бы чин чином, по всем правилам, Валега охотно пошёл на уступки, перебрался с Днестра на Волгу; но дальше позволил себе поступать так, как он считал нужным.
На окружённой сопке пришла к концу вода. А она нужна всем — бойцам, раненым, пулемётам. В блиндаже идёт разговор, где и как её достать: кругом немцы, до Волги не добраться, ручьёв никаких нет. И вот тут-то «книжный» Валега делает то, чего не мог не сделать настоящий Валега, окажись он в положении «книжного», — тихонько, никому не сказав ни слова, идёт на поиски воды. Это — самое главное. Он не мог поступить иначе. А дальше я ему помог — подкинул немецкий термос с вином. Мы оказались квиты.
Начинающий (да и не только начинающий) писатель часто пытается доказать правильность какой-нибудь сцены в своём произведении, ссылаясь на то, что «так было». «Ей-богу, уверяю вас, сам видел». Я читал в рукописи одну повесть, в которой бойцу во время атаки попала в живот мина. И не разорвалась. Он вырвал её из живота и, добежав до немецких окопов, стал лупить ею немцев по головам. Автор с обезоруживающей искренностью пытался убедить меня, что он сам был свидетелем этого факта. Что можно было на это ответить?..
Нет, в искусстве, в литературе одним «так было» не обойдёшься. Оно необходимо, оно основа любого реалистического произведения. Но чтоб произведение стало, кроме того, и художественным, нужно ещё и другое — «этого не было, но если б было, то было бы именно так», или ещё категоричнее — «не могло быть не так». В этом и заключается различие между романом, повестью, рассказом и записками, дневниками или документальной прозой. Жанры эти вовсе не исключают друг друга, более того — внешне они могут быть очень схожи. Но внутренняя их сущность, принципы воздействия на читателя различны. Кстати, не могу здесь не сказать, что самой большой похвалой для меня было, когда мою повесть называли записками офицера. Значит, мне удалось «обмануть» читателя, приблизить вымысел к достоверности. Это не страшный «обман», за него не краснеют, без него не может существовать никакое искусство.
И вот тут-то «предлагаемые обстоятельства» играют первостепеннейшую роль. Они должны быть точны и предельно правдивы, иначе герой не сможет ими воспользоваться или начнёт дубасить неразорвавшейся миной противника по голове. И эти же «предлагаемые обстоятельства», если они только взяты из жизни, помогут тебе, писателю, правильно понять, увидеть своего героя и повести его туда, куда он и сам охотно пойдёт. Не надо только заставлять его ходить на голове и говорить чужие слова: у него есть свои, непридуманные и ничуть не хуже твоих — умей их только услышать и понять.
В окопах Сталинграда нашей дружбе с Валегой никто не мешал. Пиши сколько хочешь, подкидывай своему герою любые «предлагаемые обстоятельства» — он всегда с ними справится. И расстались мы с ним вторично в 1946 году в Москве, на улице Станиславского, 24, в журнале «Знамя», вполне удовлетворённые друг другом.
Прошло десять лет. Мы опять встретились. На этот раз в Ленинграде, на студии «Ленфильм». И опять подружились. И длилась эта дружба два года, но, не в пример первым двум, оказалась куда сложнее.
До самого того момента, как я получил телеграмму из студии с предложением написать сценарий, я был убеждён и убеждал других — по-моему, достаточно доказательно, — что экранизацией, да ещё собственного произведения, заниматься нельзя. Помилуйте, кроме «Чапаева», ни одного случая в мировой кинематографии, чтобы фильм оказался лучше романа. И вообще роман есть роман, повесть есть повесть, а кино есть кино. Для кино надо писать оригинальные сценарии. Точка! Кроме того, у меня было ещё не менее десятка убедительнейших аргументов. И всё это полетело прахом, как только передо мной замаячила перспектива новой встречи со Сталинградом.
Вряд ли нужно рассказывать о том, что испытывает человек, когда попадает в те места, где когда-то воевал. А если к тому же не просто один — повспоминать, поклониться могилам, — а с целой группой людей, приехавших сюда специально, чтобы восстановить прошлое. Я ходил по Мамаеву кургану, узнавал или не узнавал обвалившиеся окопы, заросшие травой ямы, которые были когда-то землянками, и не очень уверенно говорил: «А вот здесь был артиллерийский НП, а здесь батарея „сорокапяток“ прямой наводки, а там вот стоял подорвавшийся танк, за который почти три месяца шла ожесточённая борьба». Я говорил и говорил, и порой мне казалось, что я уже наскучил своим спутникам, что они слушают меня только из вежливости. Но это было не так. Уже потом, во время съёмок, я понял, как дороги и святы были эти места и события, на них развернувшиеся, людям, пришедшим сюда с кинокамерами и «юпитерами». Лучше всего эти чувства выразил молодой артист Лёша Быков, которого нам очень хотелось переманить к себе в картину из Харьковского театра русской драмы. «Мы были тогда ещё пацанами, — говорил он директору театра, — и не могли защищать Сталинград. Разрешите хоть теперь, на экране, принять участие в его защите». Лёша Быков так и не попал к нам в картину, но слова его стали у нас чем-то вроде девиза.
Когда-нибудь я напишу о «Солдатах», о коллективе, который их снимал, о самих съёмках, о препятствиях, стоявших на нашем пути, и о том, как мы их преодолевали, — история картины, сложная и поучительная, стоит этого. Но об этом в другой раз. Сейчас же хочется сказать только одно: та достоверность, которой удалось достигнуть постановщику фильма Александру Иванову в «Солдатах», все эти незаметные на первый взгляд детали, фронтовые чёрточки, окопные мелочи, солдатские повадки и словечки — одним словом, всё то, что и создаёт в картине жизнь, — во многом зависели от настоящей, неподдельной заинтересованности в успехе нашего дела, которая чувствовалась во всём коллективе и в каждом человеке в отдельности, включая даже солдат, снимавшихся в массовках. Спасибо им всем.
Но вернёмся к сценарию и Валеге. На первый взгляд Валеге в сценарии совсем не повезло. Так ли это?
Начнём со сценария.
После какого-то там варианта стало ясно, что, слепо следуя книге, ты губишь и книгу, и будущий фильм. Кино не может всего переварить. У него свои законы, и законы очень суровые: сеанс полтора часа, картина 2700 метров, сценарий не больше восьмидесяти страниц на машинке. А в повести 250 страниц — 13 печатных листов. Что же делать? Выход один. На кинематографическом языке это называется делать «по мотивам». То есть та же мысль, те же основные события, те же основные герои, но не обязательно те же «предлагаемые обстоятельства». Короче говоря, ты делаешь некую «выжимку» из произведения, берёшь из него самое существенное и лепишь нечто новое, рассчитанное уже не на читателя (режиссёр и актёры не в счёт), а на зрителя, у которого к тебе, писателю, совсем другие требования, чем у читателя. Не могу сказать, чтобы операция превращения книги в сценарий проходила легко. Автор всегда несколько переоценивает свой талант, поэтому расставание с отдельными сценами и героями воспринимает трагически. Только потом, когда картина уже закончена, он поймёт, что в трёх этих сакраментальных цифрах — 1.5, 2700 и 80 — заключена большая правда. Именно они — эти три цифры — приучают его к лаконизму, динамике, к композиционной чёткости, ясности «кусков», заставляют заменять бесконечные диалоги двумя-тремя фразами, а ещё лучше — взглядами (о, немое кино!) и тем самым, скажем прямо, дают возможность актёру не только говорить, но и играть, а режиссёру — ставить. Кстати, должен сказать, что все эти качества — лаконизм, динамика, чёткость и тому подобное — совсем неплохи и в прозе, поэтому работа писателя в кино — трудный, но очень полезный тренаж.
Но всё это я понял, как и всякий начинающий автор, только после того, как увидел картину на экране. Когда же писал сценарий, мне казалось, что я преступно обкрадываю Валегу, но ничего поделать не мог — душил метраж. Более того, один из трёх настоящих «Валегиных» эпизодов (остальные все «проходные») был честно взят из книги, другой начисто выдуман и только третий, единственный на всю картину, взят от «живого» Валеги. Я чувствовал себя перед ним бесконечно виноватым. Мне было стыдно.
И тут-то появилось третье лицо, которое, правда, не сразу, но постепенно, исподволь, восстановило наши былые добрые отношения. Этим лицом был Юра Соловьёв, выпускник ВГИКа, которому поручена была роль Валеги.
Сейчас, когда всё уже позади, могу прямо сказать — лучшего Валеги не сыскать. Но когда мы с Ивановым подбирали актёров, волнений было более чем достаточно. Перебрали около десятка человек и остановились наконец на Соловьёве. Он, правда, долго артачился: соглашался, отказывался, писал режиссёру длиннющие объяснительные письма, говорил, что роль не его плана, что он нас подведёт, но в конце концов мы его всё-таки скрепя сердце взяли, другого выхода не было, подпирала зимняя натура.
Как и все актёры, он, конечно же, считал, что роль ему бессовестно обкорнали, оставили одни рожки да ножки, и вообще в картине играть ему нечего. Я не очень убедительно пытался доказать ему, что дело не в размерах, не в количестве слов, но сам — чего греха таить! — в душе с ним соглашался.
Роль действительно маленькая. На десять частей в ней всего лишь семнадцать эпизодов. Из них в пяти Валега попросту молчит, в десяти говорит по два-три слова и только в двух, всего лишь в двух эпизодах имеет какой-то словесный материал. И вот — всем на удивление — оказалось, что этого вполне достаточно.
Есть актёры, которые играют легко и весело. В перерывах шутят, балагурят и только перед объективом кинокамеры собираются, входят в роль. Юра Соловьёв не таков. Он без конца читал и перечитывал сценарий, книгу, ходил сумрачный, насупленный (как я потом узнал, это и было «вхождение в роль»), мучил костюмерш, подбирая гимнастёрки и ботинки, обязательно большие, с загнутыми носами, как в книге, во время перерывов одолевал меня бесконечными вопросами и возникшими сомнениями. У него была специальная записная книжка, где он записывал «всё о Валеге». Я видел её. Мне было очень интересно её читать. Он продолжил мою игру в «предлагаемые обстоятельства» и, должен признаться, удивительно метко попал в точку.
Вообще Соловьёв — сейчас мне это уже абсолютно ясно — всей своей ролью попал в самое яблочко. Он поймал суть «живого» Валеги, никогда его не видав. Он нашёл и понял обаяние человека, который никогда не улыбается. А как это трудно! «Живой» Валега никогда не улыбался. Он не был сумрачен, он был серьёзен, он всегда был занят, у него не было времени на улыбки. Соловьёв на протяжении всего фильма ни разу не улыбается и всё время занят каким-нибудь делом. Только в двух кадрах у него нет прямого занятия: в штабе, где они с Седых ждут решения своей участи, и в землянке, перед атакой, когда он слушает песенку Карнаухова. А так, если нет задания поважнее, стирает бельё, что-то зашивает, мастерит. И всё это молча. Но всё слышит, всё понимает, всё знает наперёд.
Он слушает в землянке песенку Карнаухова о фонарях. Через полчаса атака. Он слушает песенку, только глотнул один раз (что-то подступило к горлу, первое проявление чувства) и говорит — впервые фактически в фильме, — говорит о том, что, когда кончится война, он построит себе дом в лесу, он любит лес, и товарищ лейтенант приедет к нему туда на три недели… «Почему на три?» — «Вы больше не сможете, вы будете работать…»
Когда я смотрю этот кусок, у меня у самого подступает ком к горлу. Я вижу живого Валегу. Я до сих пор не могу понять, как на экране могли прозвучать эти не мечты о будущем, не приглашение в гости, а почти приказание — приказание живого Валеги, которое он мне отдал как-то ночью, в лесу под Ковелем: «И вы приедете ко мне на три недели…»
В другом эпизоде Валега отправляется на поиски воды. Взял пустой термос, вылез из окопа, обнаружил в овраге группу немцев, распивающих вино, неслышно заменил их термос с вином своим пустым (а как аккуратно, по-валеговски это сделано!), вернулся назад и как ни в чём не бывало принялся за прерванное занятие — штопку брюк. «Ты где болтался?» — спрашивает Керженцев. «Как где? Вы же сами сказали, что воды нет…» И потом, попробовав вина из кружки: «Дрянь! Как раз для пулемётов…» Две фразы на весь кусок. И в них весь Валега. Как и во всём куске. И это настолько убедительно, настолько точно, что минутами, глядя на экран, я думал: а может, и на самом деле это было?
И наконец, последний эпизод — в госпитале. Валега привёз раненому Керженцеву письма и подарки с передовой — две бутылки коньяку. И опять я вижу живого Валегу, его насупленный, неодобрительный взгляд, когда Керженцев размахивает бутылкой и кричит на всю палату «Живём, хлопцы!», слышу его голос, его интонации в рассказе о немцах, сидящих в колечке: «Им с самолётов продукты сбрасывают, а мы… подбираем». Живой, живой… И в то же время свой собственный, «соловьёвский».
На всю роль, по сути, три эпизода — каких-нибудь восемь-десять минут, — а перед тобой живой человек. Не иллюстрация к книге, а достоверный, осязаемый, хотя и на экране, и главное — думающий.
А как это важно в кино, да и вообще в искусстве — не только говорить, но и думать. И жить своей жизнью. Зрителю в конце концов совершенно безразлично, похож ли экранный Валега на живого или нет, он увидел этого, экранного, и, поверив, полюбил — невзрачного, трогательного, порою забавного и никогда ничего не боящегося…
Много времени спустя Соловьёв мне рассказывал, что его как-то пригласили на студию, чтобы сняться в роли Валеги для какого-то иллюстрированного журнала. «И вы знаете, — говорил он, — я даже заволновался. Разыскал ту самую гимнастёрку, пилотку, телогрейку, штаны с собственной штопкой и, поверьте, надевал — и мне всё казалось, будто я на самом деле в них воевал…»
Да, Юра и Валега по-настоящему сдружились. И их дружба ещё больше укрепила мою.
Что же это за дружба такая, о которой я всё время говорю? Не придумал ли я её? А может, это вовсе и не дружба и слово это я использовал только для того, чтобы оправдать своё вольное обращение с человеком, которого считал и до сих пор считаю своим другом? И, возможно, прочитав книгу, посмотрев картину, а затем прочитав эти строки, он просто обидится на меня и скажет: «Вот они, писатели, что хочешь из тебя сделают, а ты терпи, молчи… И ещё дружбой называют…»
Нет, не скажет он так.
Я пытаюсь сейчас восстановить в памяти эволюцию Валеги от живого, через книжного к кинематографическому и с тревогой обнаруживаю, что действительность и вымысел — иными словами, то, что было в самом деле, и то, что написано в книге и показано в кино, — как-то напластовавшись одно на другое, совместились и что мне необходимо определённое напряжение, чтобы установить чёткую грань между ними. Получается нечто вроде того случая, когда человек много раз подряд рассказывает одну и ту же историю. Рассказ постепенно расцвечивается деталями, иногда для красного словца даже придуманными, в результате же, особенно если рассказу слушатели поверили, рассказчик сам начинает в них верить. Одним словом, нечто «хлестаковское».
Хорошо это или плохо?
Для свидетеля на суде, конечно, плохо. Для произведения искусства не плохо и не хорошо, это — естественно. Это не должно вызывать тревогу. В этом и заключается художественная правда. Та самая, которая, отталкиваясь от действительности, возвращается к ней же.
И вот тут-то я не могу не привести отрывок из письма Соловьёва ко мне, отрывок, который, на мой взгляд, даёт очень убедительный и точный ответ на все возникшие у меня вопросы.
В начале письма Соловьёв пишет, как он мучился на первых порах, пытаясь «втиснуть себя» в написанного в книге и сценарии Валегу. Ничего не получалось.
«И вот тогда, — пишет Соловьёв, — я стал искать другие ходы и приспособления к роли и в конце концов решил не „подражать“ книжному Валеге, как пытался было делать вначале, а попробовать строить на основе вашего материала то, что у меня может получиться. Я стал чувствовать себя свободнее.
Теперь мне пригодилась и тяжеловатая, вразвалку, походка моего бати (у вас же — „мягкая, беззвучная походка охотника“), и чувствительные к вещам руки, оценивающий глаз, неторопливые, точные движения, стариковская хозяйственность и аккуратность во всём — моего деда (на это натолкнуло сходство Валеги со старичком — у вас же). Манерой разговора кино-Валега напоминает моего бывшего сокурсника Рыбакова, позднее ушедшего из института „изучать жизнь“. А вечно обиженное, насупленное выражение лица почему-то взято и вовсе с незнакомого человека — шофёра пострадавшей „Победы“ в момент его объяснения с милицией.
Кое-что перепало Валеге и от меня лично. Мне, например, казалось, что ему должно быть свойственно чувство ревности, а этого, как вы знаете, у меня — хоть отбавляй! Пришлось вспомнить и то, как я ещё во время войны, пацаном, нянчился со своими младшими сёстрами (вы где-то упоминаете, что Валега следил за Керженцевым, как „хорошая нянька“). Много пришлось фантазировать, а ко многому просто привыкать — ведь фронта я даже не нюхал! Выручило и моё давнишнее увлечение рисованием — это помогло найти индивидуальность в костюме».
Так вот, оказывается, что получилось с Валегой. Он разросся, расширился, окреп. Работая «над ним» в книге, в сценарии, я шёл от живого человека. Соловьёв, работая над ролью, отталкивался от книжного образа и лепил свой собственный, живой, беря детали из жизни — от деда, отца, друга, шофёра, самого себя. Кстати, мне очень нравится слово «отталкивался». В данном случае оно очень точно. Именно отталкиваться от образа, идти от него вовне, в мир, а не насильственно втискиваться в него, замыкаться. Вот это-то «отталкивание» и рождает художественную правду. Круг замкнулся — действительность вернулась к действительности.
Кого же из этих трёх Валег я больше люблю? Живого ли, но чуть-чуть уже потерявшего чёткость очертаний (а как хотелось бы их восстановить, встретившись с ним сейчас), или книжного, с которым нас сблизила совместная выдумка, или самого молодого, «соловьёвского», где многое зависело уже не от меня? Кого же?
На этот вопрос нелегко ответить. Думаю, гадаю, а ответ всё один — Валегу…
1959
Р. S.
Прошло двадцать два года с тех пор, как мы расстались с Валегой в медсанбате на окраине Люблина. За это время успело уже новое поколение вырасти, о войне знающее только по рассказам, книгам и фильмам, далеко не всегда достоверным. А старые фронтовые друзья? «Иных уж нет, а те далече». Те, с кем всё же свела послевоенная судьба, как и я, постарели, поседели, а кто и полысел или валидольчик посасывает. А Валега?..
Валега смотрит на меня «соловьёвскими» глазами с финальной групповой фотографии из фильма «Солдаты» — серьёзный, собранный, аккуратный — рядом с Фарбером, Чумаком, Седых, санинструкторшей Люсей, и слышу я голос Керженцева — последние слова фильма: «Где вы сейчас? Живы ли вы, друзья? Я вглядываюсь в ваши лица и стараюсь представить, как выглядите вы сейчас. Подумать только — Валега, Седых, — ведь вам уже за тридцать, женились, детишки растут. И ходят они уже, вероятно, в школу и пишут каракулями на косых линейках — МИРУ — МИР! Счастливые, они не видели, не знают войны. Пусть же они её никогда не узнают…»
И вот настал декабрь 1966 года. Я в Москве. Делаю сценарий для документального фильма о далёкой Аргентине, в которой никогда не был.
Как-то возвращаюсь со студии, и мне сообщают: «Тебе звонили из Киева. Говорят, разыскивает тебя какой-то твой связной. Через милицию…»
Вот это да… У меня было два связных — Титков в Сталинграде, потом Валега. Кто же из них? Звоню в Киев… Да, звонили из 1-го отделения милиции. Какой-то Волегов Михаил разыскивает. Хочет узнать адрес. Но милиция без моего разрешения не даёт. Как быть?
Прошу через милицию узнать его адрес и дать мой. Через час я уже записываю адрес: станция Бурла, Алтайского края, ул. Пушкина, № 59-а, Волегову Михаилу Ивановичу…
Бегу на телеграф… Посылаю телеграмму, затем письмо. Вскоре — о чудо, почта почувствовала, постаралась, поторопилась — получаю ответ. Не могу не привести его полностью:
«Дорогому и любящему другу Некрасову Виктору Платоновичу, бывшему капитану по строевой части 88-го отдельного сапёрного батальона 79-й гвардейской стрелковой дивизии с самым наилучшим чистосердечным приветом к Вам Волегов Михаил Иванович, ваш бывший связной 1944 года. Виктор Платонович, прошло столько времени после того, как мы с вами расстались в 1944 г. под Люблином. Я сейчас не найду слов с чего начать. Во-первых, я вас, Виктор Платонович, благодарю, что вы так скоро отозвались. Это всё произошло так просто, что мне даже самому не верится. Когда я вас проводил в медсанбат, то после вас я тоже недолго воевал. Взяли Люблин, форсировали Вислу, и был я под Варшавой ранен. Был артналёт, и меня ранило в левую ногу, в колено. Это было 9 августа 1944 г. Был я в трёх госпиталях, домой пришёл 4 января 1945 г. Жил в Барнауле до 1950 г., а потом выехал в Бурлу, где и в настоящее время живу. Работаю в Коммунальном отделе столяром. Семья у меня богатая. Жена Елена, старший сын Анатолий женат, работает шофёром в совхозе, жена его Раиса — учительница и учится в педучилище. У них два сына — Саша, ходит в 1-й класс и Валера, ему всего один год. Дочка наша Галочка с 1947 г. и зять Виктор с 1944 г. — агроном, сейчас в армии. У них дочка Танюша — 1 год и 2 мес. Живут они у его родителей в Карасях — 100 км от нас по жел. дороге. С нами дочка Нина 1950 г., ученица 10 класса, и сын Борис 1952 г., ученик 8 класса. Вот это моя семья. Три внука, три раза дед, но бороды ещё нет. Вот, Виктор Платонович, они, дети, и заставили вас разыскать. Всё говорят — папа, расскажи да расскажи, а я и говорю: „Был у нас командир, жив или нет сейчас, говорю, не знаю, только знаю, что вы с Киева“. У нас был разговор за вас, за фронт, и я знал только, что вы с Киева, а отчество забыл. Это вас дочка Нина нашла, и так быстро всё получилось, что я и сам не пойму. Она хотела в архив, в Москву, а послала в Киев. Теперь узнали всё подробно.
Коротенько о себе. Живём мы на станции Бурла, теперь он уже район Бурлинский, граничит с Казахстаном и Новосибирской областью. Живу в своём дому и живём, как сказать, на половину — вперёд не бежим и сзади не отстаём. Вы, Виктор Платонович, тоже сообщите, как вы живёте, и вышлите своё фото. Я вас представляю, но ведь это было давно и не мирное время. Каково у вас здоровье и как рука у вас сейчас? В какую вы были ранены? И как зовут вашу мамашу, сколько им лет, живёте в казённом или в своём доме? Высылаю своё фото — снимался в 65-м году. Было мне 41 год. Теперь уже 42, пошёл 43-й. Но ещё бегаю хорошо. Ну вот пока и всё, заканчиваю писать. Извините, что я вас побеспокоил, но что меня заинтересовало, то эта ваша давняя простота. 22 года прошло, 22 раза обнимаю, 22 раза целую. Я жму вашу правую руку. Ваш бывший связной Волегов Михаил Иванович. До свидания. 5 декабря 1966 года».
К письму приложена была фотография… Да, не восемнадцать лет, пошёл уже сорок третий… Но чубчик, зачёсанный назад, тот же, и глаза те же, охотничьи. Брови сдвинуты, две морщинки от них вверх, по лбу, так и кажется, скажет сейчас: «Ну вот, товарищ капитан, опять не кушали. Донесение напишете потом, подождёт ваш дивинженер, не умрёт…»
Я тоже послал фотографию. На грех, нашлась только одна, снятая на… Бродвее, — остальные были все в галстуке, для удостоверений. Сразу же ответил: «Очень и очень благодарим за фото. Жена спрашивает, похож ли? Я только глянул и сказал — да. Усики те же самые. Но время прошло очень много, конечно, немного и постарели. Но всё же я вас представлял…»
Не без трепета я послал ему и книгу. А вдруг обидится? Ведь в Сталинграде он был вовсе не связным, а рядовым бойцом в сапёрном батальоне. А я данной писателю властью, да ещё не сменив фамилии, превратил его в сталинградского ординарца. А вдруг друзья на смех подымут: «Говоришь, воевал, мины ставил, а командир вот твой пишет, что вовсе в услужении был…» Нехорошо как-то…
Но нет, не обиделся.
«— Мы всей душой вас благодарим за вашу скромную посылочку с книгой о том, как мы с вами вместе были на фронте. Можно почитать и кое о чём вспомнить, особенно о Митясове и Люсе. А мой сынишка, Боря, отбивает книгу у всех и сидит читает, а за вопросами ходит да мне и спрашивает: „Папа, а вот кукурузник какой самолёт?..“ А я ему говорю — не спал всю ночь, как и мы, бомбил, а мы минировали, ходили за „языком“». И дальше — «Вот вы, Виктор Платонович, пишете за мои пельмени и картошку в мундирах, так все смеются надо мной, а ведь это была сущая правда. Всё было так, только нужно подумать и представить».
И кончает письмо: «Я бы хотел, чтобы вы приехали к нам на Алтай. Отведать нашего хлеба и соли. Хотя бы на минутку. Хоть на картошку, хоть на пельмени, хоть на окрошку, а всё равно мы соберёмся вместе. Посидим, поговорим, по маленькой выпьем…»
А в одном из последующих писем (посмотрев уже «Солдаты») приглашает вместе со мной и Юру Соловьёва. Увы, пока это ещё не осуществилось. Дела, болезни, расстояния…
Но встреча будет, я верю, я знаю. И обязательно вместе с Юрой.
«Книжный» и «киношный» Валега говорит Керженцеву:
«— Когда кончится война, я поеду домой и построю себе дом в лесу. Бревенчатый. Я люблю лес. И вы приедете ко мне и проживёте три недели. Мы будем ходить с вами на охоту и рыбу ловить.
Керженцев улыбается:
— Почему именно на три недели?
— А сколько же? Вы больше не сможете. Вы будете работать. А на три недели приедете… У нас хорошие места на Алтае. Не такие, как здесь. Сами увидите. И пельменями вас угощу. Я умею делать пельмени. По-особому, по-нашему…»
То же самое мне говорил «живой» Валега. И я жду теперь этих пельменей. Дом у Валеги, правда, не в лесу, а в голой степи, и вряд ли мы будем ходить на охоту, да и охотник я, откровенно говоря, неважный и рыболов тоже, но не за этим же я поеду…
…Керженцев лежит во дворе сталинградского домика под пыльными акациями и долго не может заснуть. Войны в Сталинграде ещё нет. Рядом с ним в двух шагах лежит Валега, свернувшись комочком, прикрыв лицо рукой.
И Керженцев думает:
«Маленький, круглоголовый мой Валега! Сколько исходили мы с тобой, сколько каши съели из одного котелка, сколько ночей провели, завернувшись в одну плащ-палатку… Привык я к тебе, лопоухому, чертовски привык… Нет, не привык. Это не привычка, это что-то другое, гораздо большее. Я никогда не думал об этом. Просто не было времени. А ведь на войне узнаёшь людей по-настоящему… (Дальше всякие мысли о войне, о людях на войне.) Ну, спи, спи, лопоухий. Скоро опять окопы, опять бессонные ночи. Валега — туда! Валега — сюда! Дрыхни пока. А кончится война, останемся живы, придумаем что-нибудь…»
Вот и кончилась она, и, о чудо, мы остались живы. И придумываем что-то. А пока скажу, как Валега: 25 лет уже прошло, 25 раз обнимаю, 25 раз целую тебя. До скорой встречи, четвёртой, самой счастливой…
1967
Письма
(Письма В. Некрасова полностью публикуются впервые)
Харьков. 22.12.43
Наконец-то вчера вечером, на 6-е сутки мы добрались до Харькова. Думали, 2–3 дня, а вышло шесть. Ехали в основном благополучно, хотя не без обязательных автомобильных происшествий. До Полтавы, можно сказать, ехали всё время хорошо без всяких инцидентов. В Полтаве же кончился бензин, и спас нас редактор полтавской газеты — Лёнин знакомый, — давший нам 30 литров, которые и дотянули нас до Харькова. После Полтавы стала понемножку портиться машина, и в 30 км от Харькова настолько в ней всё поломалось, что мы уже было пешком двинулись дальше. Но всё-таки в конце концов починить удалось, и мы с грехом пополам, вздрагивая от страха перед каждой попутной ямкой, добрались до Харькова. Ночевали мы в сёлах, в хатах, население приветливое и охотно нас кормило, т. что хлеб и колбаса почти нетронутые приехали с нами сюда. Мёрзли в дороге порядочно — машина открытая — но в основном только ноги, т. к. мы с головой накрывались брезентом, спасавшим нас от ветра. Кроме того, согреваться можно было и в кабине шофёра. В Харькове нас ждало маленькое разочарование — Лида — Лёнина жена улетела в Москву на 3 дня и вот уже скоро 2 недели как отсутствует. Зато в Лёнькиной комнате мы застали его приятеля — журналиста с женой, временно «приюченных» Лидой в их комнате. Славная пара. Он — моряк, объездивший весь земной шар, она — как будто узбечка, хотя и зовут Шурой. Накормили нас жареной картошкой с салом и горячим кофе, не считая четвертушки водки. С дороги всё это было очень приятно, тем более что в квартире холоднее, чем у нас в Киеве. Дров тоже нет. Освещение тоже коптилочное. Приятель к тому же заболел ещё плевритом, одним словом, жизнь тоже не ахти какая сладкая. Сейчас Лёнька пошёл в редакцию, а я в валенках и «кудайке» рассматриваю журналы по искусству, спасённые Лёнькой из соседней печки. Завтра намечаю поход в баню, а послезавтра, вероятно, двину дальше. Ну вот пока и всё. Крепко вас целую. Надеюсь, что это письмо до февраля до вас всё-таки дойдёт.
Вика.3.1.44.
Сегодня мороз. Впервые за всё время появилось солнце. И ветер. Первый зимний день. В хате тепло, хотя единственный вид топлива здесь — солома. Хозяин жарит нам картошку — вчера мы получили масло. Я здесь уже четвёртый день. Работой или, вернее, занятиями нас особенно не утомляют. Вчера и позавчера вообще занятий не было. Сижу в хате и читаю. Кончил Дюма. Вчера прочёл «Диктатора Петра» и «В тупике». Хотя это и 23-й год, но я поражён, как тогда разрешали печатать такие вещи. — А с книгами здесь туговато, надо было больше из Киева взять. Достал у какого-то парнишки «Девяносто третий год» на украинском языке — постараюсь дней на 5 растянуть. Газет с Днепропетровска не читал. Питаемся только доходящими слухами. У вас вокруг Киева дела как будто совсем хороши. И у нас здесь кажется неплохо. Канонада с каждым днём всё тише и дальше. Но без газет трудно и скучно. И в полку, и в госпитале, и в Сталинграде, даже в самые трудные минуты, мы аккуратнейшим образом получали даже московские газеты. Интересно, сколько меня здесь продержат. Начфина ещё не видал. Он в другом селе и сейчас без денег. За декабрь уже платил здесь, т. что я, вероятно, получу сразу за 2 м-ца. А письма от вас, если только задержусь здесь, начну получать не раньше февраля. Ну, целую.
Вика.10.1.44.
Дорогие Мама и Соня! Вот уже 10 дней, как я здесь. Скука отчаянная. Встаём часов в 8–9, я и мой сожитель — мл. лейтенант — довольно славный, простой и спокойный сызранец. Бежим через три хаты за хлебом, возвращаемся и завтракаем тем, чем хозяйка угостит. На свой завтрак, так же как и на ужин, не ходим — километра за полтора надо ходить от нас, а нам лень — ограничиваемся только хождением на обед. После завтрака часа 2 какие-нибудь занятия. В 2 обед. Вот и все обязанности. Остальное время делай что хочешь. Есть книги — читай, нету — скучай. Я занимаюсь пока первым. «93-й год», к сожалению, кончил, жду очереди на «Войну и мир». Надо было всё-таки от вас что-нибудь ещё из книг взять, а то без чтения здесь совсем сдохнуть можно. В госпитале хоть радио было, и газеты ежедневно, и кино, и возможность в город сходить — и то скучали, а здесь — дыра… Прошло рождество. Хозяйка сделала куру, сварила узвару. Нам выдали сала, консервов, печенье. Чуть-чуть кутнули, но в общем скучно. Понемножку и обмундировывают нас. Получил валенки, меховой жилет, рукавицы. На дворе морозец, т. что кстати, хотя, по правде сказать, на воздухе бываем мы редко. Встретил я здесь двоих друзей из нашей дивизии. Один был одно время в Сталинграде, полк. инженером в соседнем полку — я его, правда, мало знал. Другой — Чичев — к-ром взвода в сапёрном батальоне. И в Сталинграде, и позже он очень часто работал в моём полку со своим взводом. Очень славный малый. Мы с ним в один день, в октябре 42-го года пришли в дивизию. В августе он был ранен и вот уже 2 месяца находится здесь. Он сейчас со мной в одном взводе. (Мы здесь все разбиты на взводы и роты) — живёт неподалёку. По вечерам, от нечего делать, собираемся и, как старые ветераны, вспоминаем прошлые дни. Вот так и тянется наша жизнь… Видал начфина. Обещал 12-го платить. Сразу же вышлю. Аттестат, к сожалению, выписывать можно только из части. Целую.
Вика.13.1.44.
Дорогие Мама и Соня!
Позавчера перебрался на новую квартиру, к Чичеву и Шевченко, моим старым друзьям по дивизии. Прожил с ними два дня, а сегодня чуть свет отправили их в командировку, вероятно, недели на две, а вместо них нового поселили. Так всегда на войне — только привыкнешь друг к другу, сдружишься, и бац — в разные концы. Сегодня, о чудо, получил письмо. Я даже не поверил, оказывается, от лейтенантши, моей попутчицы из Баку до Харькова. Работает в штабе нашей Армии и каким-то образом узнала мой адрес и написала. А от вас — нескоро и ждать. Если здесь не дождусь — с нового места опять месяц-полтора ждать.
Жизнь по-старому. Читаю «Войну и мир» — перечитывал в 39 году, на даче в Буге, а сейчас читаю с неменьшим, если не с большим интересом. Любопытно, что раньше мне интересны были военные куски, а сейчас — наоборот. Вообще — какой-то удивительно успокаивающий роман. Сегодня обещает быть начфин, т. что смогу выслать деньги. Боюсь, правда, что дадут только за декабрь. Ну, крепко целую.
Вика.19.1.44.
Дорогие Мама и Соня!
Я уже на третьей квартире — перевели нас в другой край села. Хата тёплая и относительно чистая. Живём вдвоём — я и мл. л-т (другой уже) из-под Москвы. Совсем простой, но очень милый и услужливый паренёк. Кроме нас, в хате ещё шестеро — хозяйка и пятеро ребятишек. Но живём в общем дружно. Когда лень ходить в столовую, хозяйка нас борщом кормит, а когда получаем сало — жарит нам картошку. А вообще жизнь без изменений. Третьего дня сходил наконец в баню — вернее, помылся горячей водой, а вчера ещё добавочно помыл голову. Всё свободное время (а его достаточно) с упоением начитываюсь «Войной и миром» или же занимаюсь собственным литературным творчеством. Хорошо, что захватил тетради из дому, т. что в общем не скучаю и отсутствие интересного общества меня не тревожит. Несколько дней тому назад выслал вам 900 рублей. Следующая получка будет не раньше февраля. С января начну получать полную ставку 1450 р., т. что смогу кроме вас понемножку расплачиваться и с Лёнькой, и с Баку. — Получил сегодня письмо из полка от некоего Иванова, подчинённого Ваньки Фищенко, с которым мы лежали в госпитале. Кое-кто ещё остался жив. Сижу вот и пишу всем письма. Ну, всего хорошего. Крепко целую.
Вика.5.2.44
Вот уже полтора месяца как я от вас уехал и до сих пор ничего не знаю об вас. Когда же наконец я начну получать. В резерве последние дни я со дня на день ждал и ежедневно бегал в штаб узнавать. Но так и не дождался. Обещали пересылать, но всё горе в том, что мы теперь не стоим на месте (война идёт успешно!), а всё время движемся вперёд, а это всегда расстраивает регулярность почты. Дороги ужасные, машины грузнут, и мы даже газет сейчас не получаем. Отсюда послал вам уже одну открытку дня 2 тому назад. Работаю я сейчас в большом Чуйковском хозяйстве (Лёнька объяснит вам, что это такое — я думаю, он уже в Киеве). Превратился в заправскую штабную крысу. Сижу за столом, передо мной различные карты, схемы, папки с делами, одним словом, всё то, от чего я уже давно отвык. Опять появились в моей жизни карандаши, угольники, резинки и прочие канцелярско-чертёжные принадлежности. Работать приходится много — часов с 10 утра до 1 часу — двух ночи. Приходится иногда ходить и по различным заданиям, что особого удовольствия сейчас не доставляет — т. к. грязь невылазная. Вообще не зима, а какое-то недоразумение. Снега давно уже нет — только грязь, противная, вязкая. Сапоги и портянки хронически не высыхают.
Живём мы вместе со Страмцовым, вернее ночуем, т. к. только спать приходится у себя дома. Кормят не плохо. Дополнительно получаем сливочное масло, консервы, печенье. Табак и спички не переводятся. Одним словом, жаловаться пока не на что. С непривычки только после своего 6-тимесячного ничегонеделанья немного устаю целый день работать. Но ничего — привыкну.
Народ, окружающий меня (всего 7 человек, считая чертёжниц и машинисток), — симпатичный.
Со Страмцовым я знаком ещё со Сталинграда. Он был тогда ком-ром сапёрной роты, которая всегда вела работы в моём полку. Часто бывал у меня и я у него. Симпатичный, культурный инженер-горняк, днепропетровец. Это он, собственно говоря, и сосватал меня, увидев в списках «безработных» мою фамилию. Майор Климович — до какой-то степени моё начальство — тоже очень культурный, остроумный и весёлый москвич, инженер-архитектор.
Начальник мой тоже неглупый, серьёзный, спокойный и выдержанный человек.
Как видите — первое впечатление у меня не плохое. Какое я на них впечатление произвёл, не знаю, но думаю, что тоже не очень плохое.
Роман мой, по совершенно понятным причинам, остановился и, боюсь, нескоро возобновится. Четвёртый том «Войны и мира» тоже не окончен. Вожу с собой в мешке. На чтение времени не хватает.
Ну вот и всё пока. На письма от меня особенно не рассчитывайте, придётся ограничиваться открытками. Мой адрес п.п. 07226.
Ну, всего хорошего.
Крепко вас целую и всё-таки жду писем. Что слышно о Сергее Доманском и о других, возможно, обнаружившихся друзьях? Привет Жене и Лидии Васильевне.
Ещё раз целую.
Вика.15.2.44
Пишу Вам сейчас из своего бывшего полка. Попал сюда совершенно случайно. Поехал в командировку на несколько дней и попал как раз в то село, где стоит сейчас мой бывший полк. Представляете, как я обрадовался! Встретил сначала старшину разведки, единственного оставшегося в живых со всей разведки. Он повёл меня к сапёрам. Из моих бывших осталось только двое — мой бывший связной (нечто вроде денщика) — Титков и ещё один боец — Кузьмин. Других всех или ранило или убило. В живых остался и комсомольский наш вождь — Вася Черников, с которым мы дружили ещё в Сталинграде. Весь вечер вчера с ним провели. Титков где-то достал немного водки, нажарил уйму картошки, и мы не очень пышно, но всё-таки отпраздновали нашу встречу — я, Титков Вася и новый ком-р взвода. Почти все мои вещи, оставшиеся в полку <…>, пропали, литературу трофейную сожгли, остались только часы, которые уже покоятся в моём боковом карманчике.
Мой адрес п.п. 07226.
А всё-таки приятно встречать старых друзей. Да и не только друзей. Я обрадовался даже лошадям, которые до сих пор ещё живы, даже старым поржавевшим немецким минам, сохранившимся до сих пор как наглядные пособия. Из друзей своих не видал ещё только начфина, жившего раньше всегда у меня. Уехал куда-то на пару дней. Думаю сегодня ещё пробыть здесь, а завтра уже двину назад, если к тому времени моё начальство не переедет снова. — Опять выпал снег, и подсохшая было немного грязь опять вся размазалась. Ох, как она надоела! Скорей бы настоящая весна! Ну, крепко целую. Когда же наконец начну получать письма.
Вика.1 марта 1944 г.
Урра! Сегодня вернулся после 5-тидневной командировки и нашёл на окне сразу 6 писем — из них 3 от тебя, дорогая мамочка. Ты не можешь себе представить, как я им обрадовался! Измятые, старинные конверты «от присяжного поверенного Н. М. Александрова» и на них мой адрес, написанный твоим почерком, почерком, который я уже 2 года не видал и к которому так привык до войны. И вот он опять появился в моей жизни — размашистый, неразборчивый, но такой близкий и дорогой. Но почему их так мало — этих писем. Неужели отправили из резерва обратно. Пришли письма № 1, № 5 и одно (по-видимому, второе) от Жени Парсадановой с твоей маленькой приписочкой. Последнее от 29.1. Из Баку, оказывается, письма скорей приходят, чем из Киева. Последнее письмо от Жени датировано 4.2.44.
И нужно же, в довершение ко всем вашим мытарствам тебе ещё руку сломать. По себе знаю, как это противно чувствовать себя одноруким. Какая-то идиотская беспомощность. И всё время цепляешься ей за всё, и спать мешает, и вообще раздражает. Я, правда, под конец привык к своему гипсу и даже перестал замечать его, но сейчас, когда он уже давно снят, я всё-таки чувствую большую разницу между правой и левой рукой. Мышцы атрофировались, и рука стала значительно слабей. Удивляюсь, как у тебя так быстро всё-таки срослась кость. Я снял гипс через 50 дней после наложения и через 65 дней после ранения. А ты меньше чем через полтора месяца после перелома уже воду таскаешь и дрова рубишь. Твои кости оказались моложе моих. Замечательно! Только ради Бога, больше не падай…
Чортова война, как она всем надоела! Не может быть, конечно, никакого сомнения, что раньше или позже я к вам приеду (я почему-то глубоко уверен, что все мы доживём до конца войны и даже дальше), но как бы хотелось, чтоб это поскорей произошло и чтоб я приехал к вам не на 6 дней, а навсегда, чтоб мы могли по-человечески устроиться и жить все вместе, без долгов, рубки дров и хождений за водой и на базары. Это будет, я знаю, но, боюсь, не 1 мая, а немного позже. Черчилль сукин сын, даже на этот год не обнадёживает.
И всё-таки я счастливый человек! Всё-таки мне удалось побывать дома и повидать вас. А не рань меня — этого б никогда не случилось. И всё-таки я верю в свою счастливую звезду (как пишет мне Женька) — всё-таки два с половиной года я провоевал и в самых адских котлах перебывал (позапрошлогоднее Харьковское наступление, затем отступление, Сталинград, Донец в этом году) — и всё-таки жив остался и вас повидал. Ну разве это не везение? Вот грустно только, что бабушку в живых не застал. Для неё, может быть, это даже и лучше, чем мучиться в её возрасте так, как вы мучаетесь, но всё-таки такая чудная бабушка у меня была, как ни у кого другого. Я вспоминаю наши уютные вечерние прогулки в Буге, на опушку, в сопровождении коров и собак, красивые закаты, чаепитие на веранде, хождения навстречу к поезду к овсам. Как это было всё-таки хорошо и уютно, несмотря на целый ряд жизненных, бытовых трудностей, которые кажутся теперь такими незначительными, ничтожными. — Теперь вообще живёшь только мечтами о будущем или воспоминаниями о прошлом. О настоящем думаешь только в одном плане — скорей бы оно прошло. Какое будет будущее, трудно сказать, но прошлое всё-таки было хорошее. Во всяком случае, теперь таким оно кажется. Были друзья, был свой дом, интересная учёба (о работе я, правда, этого сказать не могу) — а эти три элемента, пожалуй, самые важные в жизни. Я часто, засыпая, вспоминаю и представляю нашу киевскую квартиру. Какой чудный вид, сколько воздуху, света, какие милые и привычные все предметы — шкафы, книги, ободранные кресла, полочка с бирюльками, большое кресло, в котором бабушка любила сидеть (потом она, правда, полюбила небольшие ампирные кресла)… Даже потолок с привычными трещинами, даже люстру с разбитым одним абажуром и закопчённой куколкой, даже оборванные выцветшие обои и те вспоминаю с любовью…
Жаль, конечно, что всего этого нет теперь — ни книг, ни <…>, ни фотокарточек моих — но всё это в конце концов ничто по сравнению с тем, что вы пережили, эти ужасные два с половиной года и что мы встретились, и встретимся ещё раз, уже навсегда.
Очень рад, что обнаружился Витька и что он и Женя Гриднева и Лёня так внимательно к вам относятся, ты ничего не пишешь о Беллочке и её детях. Где они? О З.К-не и Тусе ты, по-видимому, писала в одном из недошедших писем. Подробностей не знаю. Где Тусин муж? Где её ребёнок. Пишет ли Женя что-нибудь Серёже? Впрочем, на все эти вопросы ты, вероятно, уже 20 тысяч раз отвечала, но они до меня не дошли.
Я очень беспокоюсь — получили ли вы мои деньги, которые я выслал вам из резерва в середине января — 900 рублей. С тех пор я ещё ничего не получал (хотя мне и полагается за 2 месяца около 3000) — мучаюсь, что ничем не могу вам помочь. Скорей бы уже определился бы на какое-нибудь постоянное место, а то это существование между небом и землей, между штабом и батальоном мне уже, признаться, порядочно надоело. Единственное, что меня ещё утешает, это, что вокруг меня сейчас симпатичные и даже интересные люди, с которыми можно и поговорить, и поспорить, и пошутить, но к сожалению, вскоре придётся с ними расстаться и запрячься опять в ярмо. А насколько всё-таки интереснее и легче жить, когда возле тебя есть люди, которые тебе не противны и с которыми есть что-то общее. Ну, да ладно. Что-то заныл я. — Скорей бы весна. А то надоела эта грязь и распутица, особенно противная здесь на Днепропетровщине. Ну, всего хорошего. Крепко вас обнимаю и целую. Привет всем друзьям. Одновременно пишу и Жене. Ещё раз целую.
Ваш Вика.5.03.44 № 2
Начинаю нумерацию писем, считал за № 1 посланное дня 2 тому назад, ответное на первые письма пришедшие от вас.
Итак, получил уже назначение в сапёрный батальон своей родной дивизии на должность заместителя командира батальона. Посмотрим, что из всего этого получится. Батальон находится в другом селе, и итти туда надо километров 35. Перспектива — малособлазнительная — грязь непролазная. Как она надоела, если б вы только знали. Живя в городе, в мирное время, грязь как-то не замечаешь. Снег, потом ручьи, потом сухо. Вот и всё. А тут в деревнях только и знаешь, что ругаешь её. Подошвы у сапог отрывает. И так весь февраль было и, по-видимому, весь март будет. Скорей бы весна!
Решили сегодня не выходить — двинуть уже завтра с утра. Пишу «решили» в множ. числе, т. к. нас сейчас трое — я, Обрадович и Скородумов. Обрадович в прошлом был командиром взвода того батальона, в который я еду. Часто выполнял работы у меня в полку. Сейчас он работает у корпусного инженера. Пресимпатичнейший молодой человек. Ленинградец, архитектор. На этой почве мы сблизились с ним ещё в Сталинграде. Теперь же, во время моих командировок (а они почти всегда были в этот самый корпус), я всегда к нему заезжал. Последний раз я у него 5 дней провёл. Сейчас же он оказался вместе со мной, т. к. приехал сюда зуб рвать и живёт пока у меня. Кроме всех своих положительных качеств — культурности, мягкости, интеллигентности, он обладает ещё одним замечательным качеством — у него чудный слух, и он знает наизусть чуть ли не все оперы. Евг. Онегина, Пиковую даму, Риголетто, Царскую невесту может чуть ли не с начала до конца пропеть. Этим мы и занимаемся, бездельничая сейчас, лёжа на своих набитых соломой тюфяках. Я ему заказываю оперы и арии, а он исполняет. Я так за время войны соскучился по музыке, что даже его далеко не Шаляпинское исполнение доставляет удовольствие.
Со Скородумовым я познакомился в резерве, а последнее время он был прикомандирован к нашему отделу и тоже разъезжал в командировки с различными поручениями. Он москвич, по образованию геолог. Не глуп, хотя по интеллигентности и уступает Обрадовичу. Мы с ним подружились на почве Толстого, которым увлекались в резерве и культ которого до сих пор у нас свят. Я из резерва притащил с собой сюда 4-й том «Войны и мира», который мы буквально «прорабатываем» в перерывах между операми. Он обожает Толстого и неплохо его знает — весьма редкое теперь явление. Я тоже влюбился теперь в Толстого, и некоторые сцены мы по многу раз перечитываем и вспоминаем. Некоторые места, честное слово, до того замечательны, что дальше некуда. «Объяснение в любви» между Эллен и Пьером, отъезд Ростовых из Москвы, смерть Пети Ростова, первая атака Николая Ростова, да, господи, всех и не перечтёшь.
Как видите, мы довольно культурно проводим время. Поём, спорим о Толстом, об архитектуре, искусстве, международном положении (больше всего, конечно, теперь о Финляндии) ну, и конечно, бьём вшей. Сейчас, правда, эта проблема у меня почти разрешена — сегодня я, например, не обнаружил на себе ни одной вши. (помните, как дети в «Петре-диктаторе» ловили вшей на московской тётке), но это после основательной бани, которую мы недавно себе тут устроили, стирки белья и полной дезинфекции. До этого же, откровенно говоря, эти животные довольно прочно на мне обосновались, главным образом поселившись в шинели и брюках. Теперь всё уничтожено, и я блаженствую.
Ну вот и всё пока. Был ещё один друг, собст. говоря, «друг» — это слишком много сказано, Кролль, о котором я вам уже писал — тоже участник всех наших споров, но сейчас он тоже в командировке и, по-видимому, я его уже не увижу. Страмцов тоже на время уехал, т. что остались мы трое.
Следующее письмо ждите уже из части. Адрес её, по которому вам надлежит теперь писать — полевая почта 16414.
Целую крепко.
Вика.3.05.44. № 15
Опять шагаем. Пятый или шестой день, или вернее ночь, шагаем. Уходим как смеркается, приходим с рассветом. Днём — спим как убитые, завтракаем, обедаем и опять засыпаем. Поэтому и перерыв в письмах. Сегодня, хотя был и довольно большой переход, но я успел уже и поспать, и газеты прочитать, и наконец за письма взяться. Погода чудесная, на небе ни одного облачка, солнце вовсю. Сижу во дворе, на соломе и пишу на коленях. Кругом спят бойцы. Рядом Люся строчит какие-то сведения дивинженеру. Легко позавтракали варёным мясом и молоком. Теперь ждём обеда.
1-е мая, к сожалению, нам не удалось встретить по-настоящему. Всю ночь шли… Но как шли. Такого ужаса в природе я, пожалуй, ещё никогда не видал. Ночь, тьма, сумасшедший ветер, сбивающий с ног и резкий, ни на минуту не прекращающийся, хлещущий прямо в лицо дождь. Промокли до ниточки, продрогли… Всю ночь брели по скользкой, вязкой грязи, ничего не видя вокруг себя. К месту назначения прибыли часов в 9. С трудом нашли себе квартиры. Растыкались по 2–3 человека в комнатах и почти целый день занимались тем, что сушили вещи — сидели в одних мокрых, грязных кальсонах. Хозяйка постирала нам портянки, носки, сварила супу, а потом, когда пришли наши обозы — по случаю праздника немножко выпили первомайской водки, а потом наслаждались настоящим кофе-мокко. Это было самое приятное в этот день. Целую громадную кастрюлю наварили, и я пил и вспоминал наш утренний, киевский кофе, к которому я тогда почему-то так хладнокровно относился. — Вечером опять пошли. Перед самым отъездом из Овидиополя получил очередную пачку писем от Страмцова, правда, очень давнишних. Впрочем, я их читаю с неменьшим удовольствием. В одном из писем ты пишешь, что у тебя такое впечатление, как будто мы ни о чём с тобой не успели поговорить. Ты знаешь — у меня такое же впечатление. А я ведь целую неделю пробыл…
В связи с нашими передвижениями опять перебои в почте. Пока только одно письмо от вас на этот адрес получил.
Ну — готов обед. Кончаю письмо. Да — не встретила ли ты Михаила Григорьевича Болотова, Нанкиного поклонника? Загляни как-нибудь в Рентгенинститут — он, вероятно, там работает.
Интересно, как вы встречали 1 мая. Были ли у вас хоть к этому дню деньги? Как поживают Женя с Лидией Вас-ной. Как её здоровье?
Привет всем. Крепко целую.
Вика.8.06.44. 26 или 27
Дня три вам не писал, и уже чего-то не хватает. Ну — поздравляю со вторым фронтом! Наконец-то! Дождались! Надеюсь, что к моменту прихода этого письма к вам бои будут уже у самого Парижа. Конечно, и у вас так же, как и у нас, это сейчас основная тема всех разговоров и спрос на карты Франции очень велик. Я оказался всё-таки тоже предусмотрительным. Ещё на Буге, кажется, я нашёл в грязи небольшую карту Франции и в ожидании открытия 2-го фронта подобрал её. Вот и пригодилась. Есть ещё и Норвегия. Авось, и там высадят.
Наша жизнь в сказочном лесу, в котором так хорошо пахло акацией и в кот. мы так уютно устроились — палатки, дорожки, самодельные столики и скамейки — окончилась. Мы отъехали от своего расположения на 20 км. и превратились в… косарей! Устроились тоже в лесочке, но пониже и помельче и на косогоре. В общем, конечно, тоже не плохо, но кино нам теперь уже не видать, а главное почта далеко — на старом месте. Впрочем, по-видимому, долго мы здесь не просидим и уедем.
Погода чудесная, солнечная. Жаль только, купаться негде. Третьего дня ходили, правда, за 3 км. на ставок — помылись и немножко загорали, но это было ещё на прежнем месте, а здесь, поблизости ничего мокрого нет. В прошлом году в это самое время мы жили под Купянском, на самом берегу озера и целыми днями купались.
Посылаю вам любопытное письмо, кот. получил из Москвы. В период безделья в Апостолово мы с Обрадовичем, как-то прочитавши в «Правде» статью акад. Щусева о восстановлении Сталинграда и о предполагаемом устройстве парка культ. и отдыха на Мамаевом кургане (место, на кот. мы провоевали 5 месяцев в Сталинграде), написали статью в «Правду». Ответ вам и пересылаю. И газетную статью тоже пересылаю. По-видимому, наше письмо возымело всё-таки какое-то действие. Посылаю вам и свою фотокарточку, снятую для удостоверения. Письма получаю более или менее регулярно. За всё время получил уже около 70 штук. Недавно получил письмо ещё от одного своего госпитального друга — замечательного милого мальчика Саши Кондрашева. Он тоже где-то тут, совсем рядом. Может, и встретимся. В ручке кончаются чернила. Пора и мне кончать.
Жду писем.
Если поедем, будет большой перерыв — у меня конечно, а не у вас. Я вам буду со всех станций посылать.
Крепко целую.
Вика.29.06.44 Сбился! будем считать 35
Вчера вечером, на 16-й день перерыва, пришли первые письма — два от тебя от 30.5 и 5.6 (48 и 50) и одно от Лёньки. Надеюсь, что это начало целого потока писем, накопившихся за этот промежуток времени. И газеты московские стали получать, даже на второй день после их выпуска. Сразу стало как-то веселей. Зато метеорологически стало куда скучней. Второй день льёт дождь. Вчера была гроза, а сегодня зарядил серенький, нудный с перерывами хронический дождик. Сидим вчетвером в палатке, курим, пишем письма, читаем. От живописной речки нашей ушли поближе к начальству. Живём в лесу. Нету уже горизонта, синеющих вдали лесов, камышей и заходящего так красиво солнца. Правда, почта, радио и кино под боком, но всё-таки там было лучше. Живём мы по-прежнему вчетвером — я, Люся, Митясов (новый после Кучмы нач. штаба) и наш ординарец Валега. Живём дружно, душа в душу и я даже сказал бы весело, хотя особых развлечений и нет. Боюсь только, что на место моего славного, всегда весёлого, неунывающего Митясова пришлют нового офицера, т. к. он временно занимает эту должность. Он, т. сказать, выдвиженец — в бат-н пришёл в Сталинграде солдатом и вот дорос до нач-ка штаба. Несколько дней тому назад мы все снимались общей офицерской группой и потом поодиночке или попарно, по желанию. Дня через 2–3 будут готовы карточки, и я вам вышлю.
Ты всё боишься, что я вернусь домой в трусах. Могу тебя успокоить — всё выданное обмундирование остаётся за нами и в крайнем случае первый послевоенный год я похожу как-нибудь и в военном. Кроме того, не всё же время нам сидеть в лесу, настанет опять и наш черёд гнать фрицев, а у них уже твёрдо укоренившийся обычай бросать всё своё барахло, чтобы было легче бежать. Я уже за время войны стал не таким уж щепетильным, и меня нисколько не коробит немецкий плащ на моих плечах или авторучка в кармане.
Ты не пишешь (или — возможно, не дошло ещё письмо) — получили ли вы мой аттестат. И как вы сейчас живёте? Сейчас, правда, лето — легче. Не надо дров, и коптилки не так донимают. Застеклили ли вы окна? Как дела с уборной? Неужели до сих пор на 3-й двор бегаете? Как взаимоотношения с соседями? Утихла ли уплотнительная кампания? Ты спрашиваешь о Иончике. Да я толком и сам о нём ничего не знаю. Письма от него приходят редко и всё рассуждительно-философского порядка. О жизни своей почти не пишет. Лёнька писал мне, что он стал заслуженным, но сам он об этом ничего не пишет.
Ну, всё. Целую.
Вика.23.07.44.
Представляю, как вы волнуетесь, не получая от меня писем. Но, ей-Богу, я с первого дня наступления всё собираюсь и буквально нет свободной минутки.
Немец бежит так, что мы его и не видим. Мы делаем по 30–35 км в день и никак догнать не можем. Сейчас, если не тронемся дальше, напишу подробное письмо. А это на всякий случай.
Крепко целую.
Вика.





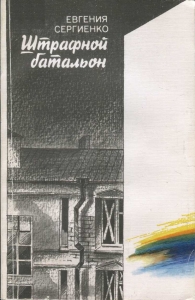

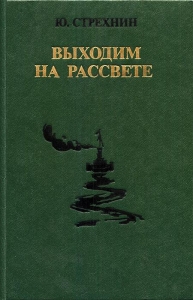

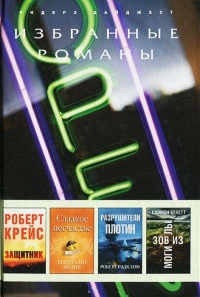


Комментарии к книге «Три встречи», Виктор Платонович Некрасов
Всего 0 комментариев