Эмманюэль Пиротт Сегодня мы живы
Emmanuelle Pirotte
TODAY WE LIVE
TODAY WE LIVE by Emmanuelle PIROTTE
© LE CHERCHE MIDI
Фото автора © Emmanuelle Pirotte
© Клокова Е., перевод на русский язык, 2017
© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательство «Э», 2017
1
Время остановилось. Отец не донес до рта бутерброд. Никто не потянулся за чашкой дымящегося кофе. Потом на улице раздался истерический женский вопль. Кто-то плакал, кричал, ржала лошадь. Отец открыл окно, мгновенно выстудив крохотную кухню, окликнул стоявшего внизу мужчину, что-то спросил и захлопнул створку. Мать и мальчики, Марсель и Анри, молча смотрели на Рене, а она два раза торопливо откусила от ломтика хлеба с маслом – что тут такого, есть ведь все равно хочется…
Отец выглядел постаревшим на десять лет.
– Они возвращаются. – В его голосе прозвучала обреченность.
Мать перекрестилась.
– Нужно что-то делать с Рене, – продолжил он.
– Нет! – Из груди женщины вырвалось рыдание.
Она не смела посмотреть на девочку. Анри тоже отвернулся, зато Марсель не сводил с Рене глаз.
– Ты ведь знаешь, за что расстреляли Батиста? Он хранил в погребе английские флаги. А уж за еврейку в доме…
Она зна́ком велела ему замолчать. Еврейка. Разве можно произносить вслух это слово? Мать никогда толком не понимала, что такое быть евреем, знала одно – это опасно. Рене попала к ним в дом пять месяцев назад. Нелюдимая гордая девочка лет шести-семи с черными цыганскими глазами. Эти глаза не отпускали вас, следили за каждым вашим движением и казались не по-детски умными. Рене всегда держалась настороженно, всем интересовалась, все понимала… Девочка немного их пугала – всех, кроме Марселя, они с Рене стали неразлучны. В сентябре отпраздновали Освобождение, но за ней никто не приехал. И вот кошмар возвращается, да еще среди зимы! И за что только Небеса прогневались на нас… Отец нервно переминался с ноги на ногу.
– Боши будут здесь самое позднее через полчаса. Пирсоны в курсе насчет Рене и как пить дать донесут.
Женщина знала, что муж прав. В церкви, на мессе, она не раз ловила на себе ненавидящие взгляды Катрин Пирсон.
– Пора… Идем, Рене, – выдохнул отец.
Малышка послушалась, и у матери чуть сердце не разорвалось. Одному Богу ведомо, почему ее так потрясла неизбежность расставания с чужим ребенком, которого она и полюбить-то толком не успела. Девочка надела пальто и начала деловито застегивать пухленькими пальчиками пуговицы. Отец резким движением натянул ей на голову шапку с помпоном. Она была спокойна, ужасающе спокойна, но одновременно натянута, как струна, и готова беспрекословно выполнять все, что потребуется. Именно эта странность Рене и раздражала мать… всегда, но не сегодня. Она всхлипнула, выскочила в коридор и побежала верх по лестнице, перепрыгивая через ступеньки.
– Прощайтесь, ребята, – велел отец.
Анри, старший, едва коснулся Рене, а одиннадцатилетний Марсель долго не размыкал объятий, так что она в конце концов мягко отодвинула его. Марсель плакал. Девочка посмотрела ему в глаза, чмокнула в щеку и протянула ладошку отцу. В кухню вернулась мать, в одной руке у нее был чемоданчик, в другой – старая тряпичная кукла. Она отдала игрушку Рене и поцеловала ее в лоб. Мужчина схватил чемодан, открыл дверь и увлек девочку за собой в холод, крики, панику и опасность. Замок сухо щелкнул, а мать несколько долгих мгновений стояла, устремив взгляд в пустоту, держа руки ладонями вверх, как делают нищие, потом обернулась к сыновьям и прошептала:
– Она не надела рукавицы…
Отец несся вперед, словно пытался убежать от адских псов, мертвой хваткой сжимая пальцы Рене, так что она едва касалась ногами земли. Ледяной ветер хлестал ее по щекам. Вокруг них царил хаос. В телеге на матрасе сидела заплаканная старуха с орущим грудничком на руках. Мужчина и женщина вырывали друг у друга стеганое покрывало, страшно при этом ругаясь. Мать звала ребенка, истерически рыдая и озираясь по сторонам; остальное семейство уже устроилось в повозке, готовое покинуть деревню. Рене удивило, что они механически болтали ногами, поразительно спокойные посреди всеобщей суеты. Большинство жителей уходили пешком: скарб, детей и стариков они уносили на спинах или везли в колясках.
Отец и Рене оказались на площади, где стоял дом священника. Мужчина позвонил в колокольчик. Дверь открылась почти сразу, и на пороге возникла высокая фигура кюре. Он провел их в гостиную, где в камине горел жаркий огонь, отбрасывая тени на обшитые деревянными панелями стены. В комнате вкусно пахло воском. Отец объяснил, зачем пришел.
– Здесь она тоже не будет в безопасности. – Священник удрученно покачал головой.
– Конечно, будет, – пробормотал отец.
Где угодно, только не в его доме! Пять месяцев назад, соглашаясь приютить Рене, он понимал, какому риску подвергает себя и всю свою семью. Но тогда казалось, что война подходит к концу, немцев в округе не видели уже много месяцев. Но чертовы боши вернулись, и одному Богу известно, чего теперь от них ждать. Поражение озлобило варваров в серо-зеленых мундирах, и они возродились, как вырвавшиеся из преисподней призраки. Отец вспомнил сына аптекаря, которого убили за церковью, представил окровавленные лица сыновей, их тела, простреленные автоматной очередью, его рот мучительно дернулся. Он топтался на месте, все крепче сжимая пальчики Рене в своей огромной ладони.
– Ладно, Жак, – наконец произнес кюре.
Благодарность затопила сердце отца, ему хотелось упасть на колени перед своим спасителем, но он ограничился кривой полубезумной улыбкой. Священник почувствовал жалость к этому доброму по натуре человеку, не сумевшему побороть трусость, и с дружеским участием похлопал его по плечу. Тот осипшим голосом пробормотал «спасибо», выпустил из рук чемоданчик и ладошку Рене, наклонился, взял девочку за плечи, посмотрел ей в глаза и… почувствовал себя ничтожеством. Во взгляде малышки не было упрека, гнева, печали, страха и смирения – только нечто куда более могущественное, с трудом поддающееся объяснению. Потрясенный, сгорающий со стыда, отец коснулся ее лба и сбежал, как вор.
– Любишь гренки? – спросил кюре.
– Ужасно люблю! – ответила Рене.
Слово «ужасно» развеселило священника. Малышка сияла, предвкушая удовольствие от вымоченного в подслащенном молоке и взбитых яйцах хлеба, поджаренного на сливочном масле. Он повел ее на кухню и занялся делом. Она попросила разрешения разбить яйца, была спокойна, собранна, как будто в хороший мирный денек пришла в гости к знакомому. Кюре опустил венчик в миску и вдруг насторожился. С улицы донесся звук мотора. Он подошел к окну и увидел, как на площадь на полной скорости вылетел «Кюбельваген»[1]. Солдаты с автоматами на изготовку заняли позиции. Из вездехода вышел офицер. Священник заметил, как блеснули две золоченые молнии на петлицах. Про́клятый знак[2]. Немцы выгнали из дома его обитателей и выстроили перед фасадом, приказав поднять руки за голову. Эсэсовец медленно шел вдоль строя насмерть перепуганных людей. Кюре обернулся: Рене стояла у него за спиной и во все глаза смотрела на происходящее. Он схватил стоявший посреди комнаты чемоданчик и сжал ее руку. Пропали гренки…
Тяжелые башмаки мужчины оставляли глубокие следы между засыпанными снегом грядками. Они прошли через сад и оказались в открытом поле. Кюре бежал что было сил, и Рене едва за ним поспевала – ее маленькие ножки проваливались в снег по колено. Она упала, он рывком поднял ее, и они продолжили отчаянную гонку. Дорогу и окрестные поля занесло, все вокруг было белым-бело. Низкое пухлое небо сливалось с пейзажем. Рене совсем задохнулась, и кюре подхватил ее на руки. Вдалеке, на дороге, что-то двигалось. Машина. Священник прыгнул в кювет, крепко прижав к себе девочку. Шум мотора приблизился. Кюре выглянул, перекрестился и улыбнулся Рене. Американский джип, значит, ребенок спасен. Он выскочил на обочину и принялся отчаянно махать руками. Водитель резко затормозил, едва не задев его крылом.
– You take girl![3] – крикнул кюре.
Солдаты переглянулись.
– Are you crazy?![4] – ответил сидевший за рулем.
– She[5] еврейка! В деревне СС! She kaput![6]
Священник поднял Рене и посадил ее на заднее сиденье. Второй солдат обернулся и встретился с ней взглядом. Джип сорвался с места и исчез в белой мгле, а детский чемоданчик остался лежать на дороге.
Рене сильно трясло. Она достала из кармана своего тряпичного человечка и тут услышала, как шофер обратился к товарищу:
– Und jetzt, was machen wir?[7]
Девочка сразу узнала язык тех, с кем никогда и ни за что не должна была встречаться. Она всего дважды слышала, как он звучит, но с другим точно бы не спутала. Он жалил, как крапива, текстурой напоминал ледяную глыбу, и все же… И все же за словами скрывались ясность, свет, нечто теплое и знакомое слуху, что-то смутное, необъяснимое.
Она вдруг ужасно замерзла. Схватилась покрепче за спинку переднего сиденья и застыла, стуча зубами. «Фальшивые американцы» обменялись еще несколькими фразами. Джип въехал на лесную дорогу. Рене нервничала. Слава богу, солдаты на нее не смотрят. Пусть все это прекратится! Сейчас же! Шины захрустели по насту, машина затормозила, вильнула и остановилась. Водитель вышел, без малейших церемоний вытащил Рене и поставил ее на землю, потом достал пистолет и рукояткой подтолкнул девочку в спину. Второй солдат шел следом.
Вокруг было совсем тихо, звук шагов по обледеневшему снегу гулко разносился в морозном воздухе. Верхушки высоченных сосен раскачивались под ветром, ласкаясь к небу. Рене думала о том, что ужасно хочет пить, и чувствовала, что высокий немец целится в нее. Неужели она на самом деле умрет в этом лесу, после того как столько раз избегала худшего? Что это значит – умереть? Девочка знала приметы смерти, понимала ее необратимость и была наделена даром: чувствовала, как подкрадывается Безносая, и умела уворачиваться… Но на сей раз что-то пошло не так. Рене говорила себе, что потерпела поражение в игре, которая началась очень давно, возможно, когда она была совсем маленькой.
Девочку вконец измучила жажда, она резко остановилась и присела на корточки. Солдат передернул затвор, но Рене не испугалась, зачерпнула полную пригоршню снега, поднесла ладонь к губам, жадно лизнула вкусную зернистую мякоть и… зашагала дальше.
Немца, замыкавшего шествие, ошеломил этот жест. Он давным-давно перестал замечать лица осужденных на смерть людей – взрослых, детей, стариков, они оставались для него безликими силуэтами, которым предназначено было исчезнуть без следа. Но эту малышку он увидел. Она должна была умереть, знала это и все-таки ела снег, чтобы утолить жажду. Он не мог не оценить уверенности, даже беззаботности движения – плавного, по-звериному гибкого. Что-то в нем всколыхнулось, дрогнуло, словно некая внутренняя сила мягко, но настойчиво напомнила о себе. Он знал эту силу в другой своей жизни в великих северных лесах.
Солдат, державший Рене на мушке, проорал «стой!» и так напугал спавшую на дереве ворону, что та разразилась хриплым карканьем.
Рене замерла на месте и выронила куклу. Сердце у нее билось очень часто, грозя разорваться. Зачем этот человек так кричит? Рене выдохнула, и ее дыхание облачком застыло на ледяном ветру. Ей было до слез жалко куклу. Бедняжка Плок вот-вот осиротеет и останется один в стылом зимнем лесу.
Немец никак не мог нажать на спусковой крючок. Он сошел с дороги и теперь целился девочке в висок с расстояния трех-четырех метров. Второй солдат видел, как дрожит его рука, и раздраженно бросил:
– Давай я.
Он вытащил пистолет, направил его на малышку – силуэт без лица, которому суждено исчезнуть.
Рене попыталась представить, как выглядит тот, кто ее убьет, тот, что держался сзади, тот, чей взгляд она мельком поймала в джипе. Как выглядит этот мужчина с низким голосом? Она хотела на него посмотреть. Хотела, чтобы он увидел ее, начала медленно оборачиваться, и они снова встретились взглядом. Глаза у солдата оказались прозрачно-холодными. Они вдруг вспыхнули странным светом, зрачки расширились. Немец выстрелил. Рене вздрогнула, на мгновение зажмурилась, а когда подняла веки, другой солдат уже лежал на снегу, и выражение лица у него было изумленное. В первый момент Рене не поняла, что осталась невредимой. Стрелявший стоял, вытянув вперед руку с пистолетом, и смотрел на девочку, с головы до пят забрызганную кровью.
Эхо выстрела еще звучало в морозном воздухе, а убийца все никак не мог отвести взгляд от спасенной им жертвы, потом опомнился, убрал оружие в кобуру и зашагал по тропинке обратно. Рене подобрала Плока и кинулась вдогонку. Солдат прыгнул в машину, включил зажигание, и она едва успела влезть на соседнее сиденье. Джип сорвался с места, взъярив шинами снег.
Что теперь делать? Куда ехать? Куда ему деваться с этой девчонкой, которая обернулась? Кто оборачивается и смотрит на своего палача? Такую сцену только в кино и увидишь, в жизни никто подобного не делает. Тем более еврейка.
А эта еще и снега решила поесть! Мужчина покосился на свою незваную спутницу. Она смотрела прямо перед собой, щуря глаза на морозе. Брызги крови у нее на лице высохли, черные локоны развевались на ветру. Она напоминала юную Медузу горгону. Чертовка! А его кретин-напарник – Франц? Нет, Ганс, – веривший в победу тысячелетнего рейха, новый золотой век и прочий вздор, лежит сейчас в снегу и смотрит мертвыми глазами в небо. Вместо девчонки он убил товарища и теперь сам не понимал, зачем.
Они покинули базовый лагерь два дня назад, утром 16 декабря. Для начала взорвали мост с несколькими америкашками. Это в программу не входило, но, раз уж те оказались не в том месте и не в то время… Оставшихся в живых и раненых Матиас прикончил ножом, из экономии патронов, а Ганс только смотрел, и в его глазах плескался ужас. Потом они развернули дорожные указатели, чтобы сбить союзников с толку, отправить в одну жалкую деревушку вместо другой. С янки разговаривал он: у Ганса был чудовищный баварский акцент, и он понятия не имел, кто такой Лестер Янг[8]. Американцы проявляли осторожность и задавали много вопросов – их проинструктировали насчет выброски диверсантов. «Гриф»[9] – такое помпезное название получила задуманная Гитлером операция, реализацию которой он поручил Отто Скорцени[10]. Фюрер рассчитывал занять мосты через Маас и дойти до Антверпена, чтобы захватить самый крупный арсенал союзников. План, само собой, был самоубийственный, и в возможность его осуществления верили только тупицы вроде Ганса.
Он вдруг почувствовал себя опустошенным, свернул на какую-то дорожку и углубился в лес, решив, что будет двигаться, пока есть бензин. Сейчас ему хотелось одного – выспаться, думать он будет потом. Дорога закончилась у ручья, мужчина с девочкой бросили джип и пошли вдоль замерзшей воды. Малышка молча семенила следом за своим спасителем, ловко уклоняясь от обледенелых сугробов. Время от времени немец ловил на себе ее взгляд и дико раздражался. За толстым буком показалась хижина, выглядела она пустой. Он приблизился к дому, двигаясь плавно, как большая дикая кошка, достал оружие и секунду слушал у двери. Рене стояла рядом, почти не дыша. Наконец он решился, резко толкнул ногой створку и шагнул через порог. Никого. Он кивком позвал Рене за собой.
Внутри оказалась всего одна комната с большим очагом в каменной стене. Скудная кухонная утварь и матрас на полу свидетельствовали о том, что здесь кто-то бывает. Немец насобирал веток и разжег огонь. Рене старательно помогала, хотя пальцы у нее совсем окоченели. Закончив, он рухнул на матрас и мгновенно заснул с пистолетом в руке.
Рене сидела на полу у стены и смотрела, как он спит. Она не уйдет. Не шелохнется. Будет его сторожить и разбудит, если почувствует опасность. Где-то далеко стреляли. Немец громко задышал, расслабился, подтянул колени к груди. Лицо его разгладилось, как бывает только в глубоком сне. Рене по-прежнему очень хотела пить, но решила дождаться, когда он проснется и добудет им воды.
Там, в лесу, она сразу поняла, что он ее не убьет. А потом второй немец, тот, что ужасно трусил, рухнул на снег. Умереть должен был он. Так и вышло. Девочка обвела взглядом комнату, бревенчатые стены в паутине, маленькие грязные окошки, языки огня в очаге.
Мужчина шевельнулся, чуть отвел назад правое плечо, и Рене заметила бьющуюся на шее жилку. Он лежал на спине, положив руку на мерно вздымавшуюся грудь, готовый вскочить при малейшем шорохе, чтобы защитить ее, а если понадобится – снова убить. Окропить снег кровью.
2
Он достал из кармана куртки алюминиевую флягу, отвинтил пробку, сделал несколько больших глотков, потом протянул ее девочке, и она жадно допила все до последней капли. Он вытащил пачку армейских сухарей, вытряхнул один на ладонь и отдал остальное Рене, которая тут же взяла по сухарю в каждую руку.
– Не жадничай… – велел он.
Голос у него был особенный – низкий, как далекий раскат грома, опасно-вкрадчивый.
– Ты и по-французски говоришь? – спросила она.
Немец не ответил, только взглянул с легкой насмешкой. Он проспал несколько часов – за окном стемнело, стрельба стихла – и в глубине души надеялся, что девчонка сбежит, но, когда очнулся, она смотрела не него чернильно-черными глазами, прижимая к груди старую грязную куклу с рожицей деревенского дурачка. Малышка могла воспользоваться моментом и покалечить его, ударить по голове поленом или – того хуже – кочергой, характера ей было не занимать. Это упростило бы жизнь им обоим, но она поступила иначе. Просидела много часов, поджав под себя ноги и пристроив рядом игрушку. Он с самого начала войны не спал так крепко, но голова не прояснилась. Что ему делать с ребенком? Да и с собой… Он протянул девочке еще один сухарь.
– Как тебя зовут? – спросила она.
Вот ведь любопытная пигалица! Он совсем не хотел, чтобы девчонка называла его по имени: Матиас. «Я хочу есть, Матиас», «Я замерзла, Матиас», «Мне надо пописать, Матиас» и прочее детское нытье. Внезапно он сообразил, что пока не слышал от нее ни одной просьбы. Она ни разу не пожаловалась с того самого момента, как он… пристрелил Ганса. За убийство товарища и за то, что пощадил еврейку, ему полагается смертная казнь, и еще неизвестно, которое из преступлений тяжелее.
Когда началось наступление в Арденнах, травля евреев перестала быть приоритетной задачей и уж точно не являлась частью его задания в рамках операции «Гриф», хотя фюрер был все так же одержим уничтожением этого народа. Эшелоны на восток больше не шли, и просто отправить евреев в Освенцим не представлялось возможным, так что приходилось делать грязную работу собственноручно – как в самом начале, до появления газовой камеры[11]. Матиасу это никогда не нравилось. Да, он любил убивать – но не безоружных, слабых и отчаявшихся.
Матиас никогда не был прямо задействован в «окончательном решении еврейского вопроса», как называли уничтожение по национальному признаку в высших кругах рейха. В 1939 году он завербовался в только что созданный легендарный 800-й полк особого назначения «Бранденбург», элитное разведывательно-диверсионное подразделение абвера, а в 1943-м Скорцени переманил его к себе. Отто Скорцени, прозванный Меченым из-за шрама на щеке, который он получил во время дуэли на шпагах. Матиас стал членом диверсионной группы «Фриденталь», куда вошли сливки нацистских супергероев. Свирепые шпионы-полиглоты, мечта злого двенадцатилетнего мальчишки, начитавшегося американских комиксов. Матиас здорово «повеселился», участвуя в «планерном»[12] освобождении Муссолини и похищении «принца» Венгрии[13].
Он играл в шпиона, внедрялся под прикрытием и не думал о том, что происходило в концлагерях, но не мог не догадываться, что каждая акция прославленных диверсантов влечет за собой гибель евреев, цыган или гомосексуалистов. Война Матиаса была ничуть не чище войны солдата, заталкивающего старую венгерскую еврейку и ее оборванного внука в газовую камеру. Он был винтиком машины разрушения, дубиной голодного людоеда, что не мешало ему спокойно спать. Матиас согласился на лучшее, что могла предложить система, точно зная, в какое дерьмо вляпывается. Никто не звал его на бал, он сам решил потанцевать.
Уже несколько месяцев мрачный карнавал стремительно летел к своему апофеозу. Война была проиграна, но этого как будто никто не замечал. Операция «Гриф» – чистой воды посмешище, да и разве может быть иначе, если в ней участвует горстка юнцов, чей английский ничуть не лучше, чем у фермерши из Швабии! Роль сыновей дяди Сэма они играют так же убедительно, как Геббельс бьет степ, маскируются весьма приблизительно, а их форма напоминает «кобеднешные»[14] одежки приютских сирот. И все-таки Матиас и еще несколько человек из банды Меченого согласились поучаствовать: лучше уж изображать заблудившихся в лесу янки, чем взрывать трамвай в Копенгагене[15]. Именно этим был сейчас занят Отто Швердт, верный пес Скорцени, ветеран-фанатик, не разделявший взглядов Матиаса на героизм. Ну или на то, что от него осталось. Стоило рисковать шкурой, чтобы оказаться в лесной хижине наедине с малолетней еврейкой! Приехав в 1939-м в Германию, он был готов ко множеству вещей, но уж точно не к такому. Девочка тихонько ворковала со своим тряпичным грязнулей и кормила его сухарными крошками.
– Хочешь еще? Не наелся? Больше нету…
Ну и хитрюга! Не хочет прямо сказать, что голодна, и использует свою дурацкую куклу. Матиасу внезапно наскучила эта игра, он поднялся и вышел. Девочка напряглась – ей больше всего на свете хотелось побежать следом, не отпускать Матиаса ни на шаг, но она сдержалась. Человеку нужно побыть одному. Она подошла к окну, протерла запотевшее стекло и увидела, как огонек зажигалки на мгновение осветил его лицо. Высокий силуэт четко вырисовывался в лунном свете. Казалось, что этот наделенный хищной грацией мужчина – свой в лесу, который стал свидетелем их негласного договора. Он здесь у себя дома.
На следующее уро Матиас повел Рене ставить силки́. Его злило, что приходится тащить девчонку за собой, но оставить ее одну в хижине он не мог. Они шли по лесу и искали звериные следы. На хорошую добычу Матиас не рассчитывал – если кто и попадется, то разве что старый полуглухой-полуслепой заяц. Он не охотился много лет и слегка утратил навык, но чувствовал себя на удивление хорошо – несмотря на присутствие малышки. Вообще-то она была очень осторожна, ступала бесшумно, молчала и внимательно за ним наблюдала, пытаясь запомнить каждую деталь. Матиас поставил ловушку, которую смастерил из шнурка и палочки. Они спрятались в папоротниках и долго ждали. Вокруг шелестел, шуршал, поскрипывал мир дикой природы. Канонада, как по волшебству, стихла. Малышка ужасно замерзла, но проявляла неслыханное терпение. Наконец появился заяц, покрутился вокруг силка и, конечно же, попался. Девочка и глазом не моргнула, глядя, как он бьется, отчаянно борясь за жизнь.
Матиас достал нож странной формы и прикончил зверька, потом одним ловким движением освежевал его. Рене смотрела на глянцевую розовую тушку и думала, что немец не людей всю жизнь убивал, а зверюшек потрошил. Да нет, она ошибается, он наверняка не раз делал и то, и другое. Матиас протянул девочке шкурку, и она сунула замерзшие ладошки в еще теплое окровавленное нутро.
Он почему-то вспомнил, как Ганс целился ей в голову, а она как ни в чем не бывало ела снег. Теперь девочка пытается согреть руки мехом только что погибшего зверька и наслаждается теплом. Она тенью следует за Матиасом по лесу, пожирает своего спасителя взглядом бездонных глаз, караулит его сон и дает ему нечто такое, чего он никогда не знал и не мог постичь. Нечто очень смутное заполняло его душу и тело тихим счастьем. Рене подняла глаза, уловив смятение своего спутника, и Матиас отвернулся и зашагал по тропинке к хижине.
Они сидели у очага и молча жевали. Рене проглотила последний кусочек и вытерла губы рукавом. Это был второй их вечер в лесном домике. Накануне она рассказала Матиасу историю. Он ее об этом не просил, но пришлось слушать сказку об огромном волшебном коне, путешествовавшем по империи Карла Великого с четырьмя братьями на спине. У этих всадников был зуб на Карла – Матиас не очень понял за что, равно как и сама рассказчица. Итак, братья, четыре сына Эмона, затеяли войну с императором. Им помогал странный парень – волшебник в медвежьих шкурах и венке из листьев на голове. Он жил в лесах и умел становиться невидимым. Можис – так его звали. А огромного-преогромного коня звали Баярд, и ему ничего не стоило перепрыгнуть Маас. Волшебный был конь. Рассказывая, девочка произносила слова как заклинание – священное, древнее и варварское. Матиас получал удовольствие, слушая сказку[16].
Баярд все время спасал братьев от стражей Карла, он над ними открыто насмехался, и император поклялся отомстить. «Я убью проклятого коня! Он умрет лютой смертью!» Баярд попал в западню и…
На этом месте Рене остановилась, сказав, что устала и закончит завтра. Она его провела! Матиасу не терпелось узнать, что случилось с треклятой клячей: пока малышка говорила, он чувствовал себя удивительно легким и умиротворенным. Он забыл о войне и вернулся в типи[17] старой индианки. Тогда были другие времена, и он тоже был совсем другим.
– Хочешь узнать, чем кончилось? – спросила Рене.
Он что-то пробурчал, девочка приняла это за «да» и уселась поудобнее, держа спину прямо, как маленькая балерина. Ее глаза блестели, в зрачках отражалось пламя очага. Карл приказал повесить жернов на шею коню и столкнуть его в Маас. Баярд прыгнул, и император возрадовался: он наконец уничтожил непокорное животное, магию и тех, кто противился его власти. Но как же он изумился и разгневался, когда над водой появилась голова волшебного коня! Тот ударил копытом по жернову, разбил его и выскочил на берег. Вот так! Рене изобразила рукой сноп брызг. Баярд ускакал в лес, и никто больше его не видел. Никогда[18].
Понятно. Никогда…
Загадочный тон девочки звучал почти комически, и Матиас улыбнулся. Она нахмурила брови.
– А знаешь, Баярд жив. Его дом – густой лес, и он может скакать, куда захочет, далеко-далеко…
Она сделала паузу и добавила:
– Даже к тебе домой.
Матиас вздрогнул, и Рене это заметила.
– В Германию…
Он промолчал. Малышка знала, что у него была другая жизнь – раньше, до солдатской. Матиас прекрасно говорил по-французски. Лес был его вселенной. Рене завораживала эта тайна, смутная неизвестность пугала и притягивала. Во всех историях, сказках и легендах ей больше всего нравились таинственные, никому не доверяющие герои. В своей нынешней, опасной жизни гонимого существа она встречала разных людей и знала, что самые милые на вид, те, кто улыбается с прищуром, очень часто не заслуживают и капли доверия.
Когда Рене было три или четыре года, ее приютили супруги-фермеры. Их соседка Мари-Жанна, высокая костистая тетка, все время угощала ее сластями, гладила по волосам, называла красавицей. А потом Рене разбудили среди ночи и сказали, что она должна бежать – сейчас же, не одеваясь, что немцы вот-вот придут за ней. Пьер, муж мамаши Клод, вывел машину из сарая, и они долго ехали. Рене притворялась спящей и слушала разговор супругов о Мари-Жанне. Оказалось, они ей платили за молчание, потом Пьеру это надоело, он отказался давать деньги, и гадина тут же донесла немцам. Благодарение Иисусу-Марии-Иосифу, один очень храбрый деревенский мальчишка случайно обо всем узнал и не побоялся предупредить фермеров. Если бы не он – благослови его Господь! – они бы уже лежали в сырой земле. Фермерша плакала и все повторяла: «Благодарю тебя, кроткий Иисус, за то, что сжалился над нами, Пресвятая Дева Мария, прости нам грехи наши! Если бы они пришли раньше, нас бы уже не было на белом свете!»
Матиас уснул. Рене легла на старый матрас. Себе он устроил отдельную подстилку из соснового лапника. Она закрыла глаза и мгновенно соскользнула в дрему. Ей снилось, что Мари-Жанна стоит на коленях перед Карлом Великим и просит пощады. На шее у нее веревка, к концу привязан жернов, огромный-преогромный. Император глух к мольбам Мари-Жанны, он велит солдатам бросить женщину в Маас, она читает Ave Maria[19] и тонет, пуская пузыри.
Матиас разбудил Рене, подергав ее за руку, и приложил палец к губам. Кто-то или что-то скреблось в дверь. Он достал свой большой нож и зажал его в зубах, затем стремительно подтянулся на руках и замер над притолокой. Стук стал громче.
– Откроешь на счет «три», – шепнул Матиас.
Он начал отгибать пальцы, на третьем Рене распахнула створку и спряталась за ней. Они услышали звук шагов, да нет, скорее шарканье, сопровождавшееся громким сопением. Матиас перехватил нож рукой и спустился с «насеста». Его лицо застыло от изумления, он кивнул Рене, она вылезла из укрытия и увидела большого оленя с ветвистыми рогами. Взгляд у нежданного гостя был кроткий и одновременно надменно-гордый, гладкую матовую шкуру припорошил снег. Рене видела оленей только на картинках, а этот, живой, оказался огромным. Может, она все еще спит? Только бы не спугнуть его… Матиас медленно и плавно протянул к оленю руку, и в этом движении была какая-то давняя, интимная близость. Зверь шагнул вперед и долгое мгновение смотрел человеку в глаза, потом опустил свою прекрасную тяжелую голову и ткнулся губами ему в ладонь. Рене осенило: у немца есть Дар! Он – повелитель леса и диких животных. Теперь она знает его секрет. Он почти не говорит с ней, даже имени своего не назвал (а она в отместку не сказала своего), но это совершенно не важно. Олень отступил назад, попрощался с ними взглядом, повернулся и исчез в темноте.
Следующий день Рене навсегда запомнит как «день подарка». Она видела, как немец что-то шил из заячьей шкурки, используя вместо ниток жилы. Девочка и не подумала спросить: «Что ты делаешь?» – знала, что ответа все равно не получит, и ждала, когда он позовет ее.
– Эй, иди сюда!
Рене подошла, и он надел на ее маленькие обмороженные руки рукавицы мехом внутрь. Настоящие рукавички, которые он сшил специально для нее.
Она редко получала подарки. Самым любимым, бесценным был Плок, ведь его подарила мама. Во всяком случае, так ей сказали. Плок был ужасно симпатичный и смешной, с внимательными глазами и ежиком шерстяных волос на заостренной макушке. Маму он наверняка рассмешил, потому она его и выбрала. А еще у Рене был подарок от Марселя – книга «Четыре сына Эмона», но она осталась в чемоданчике, брошенном на дороге. Другую куклу – память о Катрин – однажды утром забыли в замке. Она умоляла вернуться за игрушкой, но ей объяснили, что это невозможно. Вообще-то Рене не так уж любила кукол, но эта была напоминанием о подруге. Немцы забрали ее и, конечно же, убили, закопали в сырую землю, «на корм одуванчикам», как говаривала фермерша Клод. Рене нравилось это выражение, она никогда не верила в сладкие истории о небесах, ангелах и добром Боженьке. Земля, поросшая одуванчиками, куда надежней. Кто-то из взрослых объяснил Рене, что Катрин забрали в особенное место, где много других деток и где она, наверное, снова встретится с родителями. Если все так чудесно, почему у сестры Марты из Сакре-Кёр было такое печально-озабоченное лицо? Воссоединение с семьей – это здорово, спору нет, но что немцы станут делать с кучей людей, которых они ненавидят?
Рене подняла руки и восхищенно покрутила ими, как «маленькими марионетками», потом подбежала к немцу и прижалась к нему щекой. Он замер, как окаменел. Девочка не удивилась, точно зная, что чувствует этот мужчина. Она и сама не слишком любила прикасаться к себе подобным – не важно, детям или взрослым. Предпочитала людям животных. Но с ним все иначе.
Рене вышла из хижины. Снег лежал толстым пушистым ковром, деревья клонились под тяжестью белого одеяния. Вокруг царила тишина. Девочка слепила снежок и покатила его по земле. Теперь руки у нее не замерзнут, и она сделает снежную бабу. Матиас стоял на пороге и наблюдал за малышкой, поглощенной своим занятием и совершенно отрешившейся от мира. А ведь она так внимательна, так осторожна, наделена даром упреждения, даже предчувствия – совсем как индейцы. Сейчас Рене ничем не отличалась от детей, поглощенных игрой. Он впервые задумался о том, какой была жизнь девочки до встречи с ним. На нее охотились, преследовали, ей все время грозила опасность. Когда его внедряли в ряды французского Сопротивления, он часто видел маленьких еврейских детей, которых прятали гражданские. Они, эти карапузы, казались ему какими-то… потухшими. Не смотрели в глаза, жались к стенам, робко протягивали дрожащую руку. Страх взял над ними верх. Рене совсем другая.
Она почти закончила лепить снеговика, вставила палочку вместо носа и отступила на несколько шагов, чтобы полюбоваться. Матиас отправился в дом за сигаретами, а когда снова вышел, с крыши прямо ему на голову упал ком снега. Он долго смотрел на Рене, потом встряхнулся, как лохматый пес, и… Она что, правда хихикнула? Матиас напустил на себя безразличный вид, что вызвало у Рене новый приступ веселья. Она смотрела на него поджав губы и прищурившись, чтобы удержаться от смеха. Он разозлился – девчонка не смеет над ним издеваться! – и шагнул к ней, сделав «страшное» лицо, чем только усугубил нелепость ситуации. Девочка зашлась звонким дерзким смехом. Матиас схватил ее за руку, она ловко вывернулась и побежала, он ринулся следом, поймал за полу пальто, они упали и покатились по снегу. Рене вскочила первой, наградила его торжествующим взглядом и пошла к хижине. Матиас тяжело уронил голову на землю – сейчас он вряд ли сумел бы описать свои чувства словами.
3
Среди ночи Матиас внезапно проснулся. Рене лежала, уткнувшись лбом ему в спину и закинув руку на бедро. Он чувствовал на коже тепло ее дыхания, ощущал невесомость детской ладошки, прожигавшей его насквозь. На короткий миг ему захотелось обнять ребенка, но он сразу опомнился. Нужно ее отодвинуть! Что она себе возомнила?! Думает, несколько дней, проведенных в хижине, и совместное поедание зайца сделали их лучшими друзьями? А кстати, сколько дней – три, четыре? Матиас точно не знал, но понимал, что слишком много. Пора заканчивать эту историю. Ей нужен настоящий дом, кровать, тепло, игрушки, свежие овощи… Он отведет ее к хорошим людям – на ферму или в какой-нибудь стоящий на отшибе дом. Матиас осторожно убрал руку Рене и откатился в сторону, бесшумно поднялся и сел у огня.
– Вставай! – громко приказал он.
Рене зашевелилась, приподнялась и начала тереть глаза.
– Нужно уходить. Ты не можешь оставаться со мной.
– Почему? – удивилась девочка.
– Потому. Вставай. Мы уходим.
Рене отвернулась и снова легла.
– Нет. Ты оставишь меня у… людей. Я больше так не хочу.
Матиас подошел, взял девочку за плечо, она вырвалась, тогда он схватил ее за руки и стал трясти. Рене издала жуткий вопль, и он зажал ей рот ладонью. Она продолжала сдавленно кричать и отбиваться, лицо и глаза налились кровью. Матиас растерялся, не понимая, что делать с впавшим в истерику ребенком. Нужно немедленно заставить ее замолчать! Можно решить проблему очень просто, перерезав девчонке горло. Чик – и готово! А что, не самый плохой выход… Или стукнуть по затылку и вырубить, лишь бы заткнулась! Он неловким, даже робким движением обнял Рене, прижал к себе. Она вздрагивала, судорожно всхлипывала, икала и никак не могла успокоиться. Матиас не шевелился, и она мало-помалу затихла, обмякла в кольце мужских рук. Убедившись, что припадок прошел, Матиас вытер ей слезы, пригладил волосы. Рене свернулась калачиком на матрасе и лежала до самого выхода из дома.
Джип стоял там, где они его бросили, что само по себе было чудом: здешние леса превратились в поле битвы, изрытое «лисьими норами»[20] и усеянное трупами. Еще удивительней, что никто не потревожил их в хижине. Матиас сел за руль, повернул ключ в замке зажигания, и они покатили по тропинке, но не к дороге, а в глубь леса. Когда машина увязла в речке, он подложил камни под колеса и начал толкать ее что было сил, ругаясь и пиная ногой бампер. Рене надоело смотреть, как ее спутник злится на автомобиль, словно на упрямого осла, она спрыгнула в ледяную воду, выбралась на берег и решительно пошла вперед, даже не оглянувшись на Матиаса.
Несносная девчонка! Он ради нее возится с чертовым джипом, а она… Пусть убирается к черту! Матиас подложил еще один большой камень под заднее левое колесо и нажал на педаль газа. Ничего не вышло. Он видел, как малышка, с трудом переставляя ноги, бредет по прилегающему к опушке полю, кинулся вдогонку, быстро перегнал спотыкающуюся, дрожащую от холода Рене, подхватил ее и закинул себе на плечо.
Жанне до смерти надоел этот подвал, населенный заплаканными старухами, бормочущими молитвы, и кричащими от голода детишками, которых утешали глупой приговоркой: «Голоден? Так съешь свою руку, а другую прибереги на завтра». Она больше не могла слушать бесконечные споры о вероятности победы союзников, об опасном упорстве немцев. Сельский полицейский свято верил, что «боши еще не сказали последнего слова», а дядя Артур не умолкая говорил о храбрости американцев, крепких парней, олицетворяющих свободу. Тихая беседа почти всегда перерастала в ссору, и Жюлю Паке, хозяину дома и отцу Жанны, приходилось грубо затыкать присутствующих. Женщины возвращались к хныканью и чтению Pater[21] и Ave[22].
Жанна сочла за лучшее укрыться на кухне – она часто так поступала, несмотря на всеобщее неодобрение, – села на табуреточку для дойки, стоявшую у печки, где давно не разводили огонь. В помещении царил полный хаос: мебель перевернута, на полу осколки битой посуды. Грузный буфет, продержавшийся двести лет, опасно накренился, как корабль на штормовой волне, тарелки из китайского фарфора соскользнули на одну сторону. Во двор фермы несколько раз падали бомбы. Дом еще стоял, хотя половина крыши обрушилась, а вот рига и часть хлева пропали.
Было только четыре часа дня, но на улице уже стемнело. Немецкое наступление началось 16 сентября, а 18-го семейство Паке переселилось в подвал. Прошло четыре дня, а Жанне казалось, что она тысячу лет не видела солнечного света. Ее, как и всех, мучил голод, но ломтик хлеба с ветчиной можно будет съесть только через два часа. Ветчину она получила у Дюссаров за горшочек топленого свиного сала. Ферму семьи Паке сначала заняли немцы, потом ее отбили американцы, так что почти все запасы были разграблены.
Жанна обхватила голову руками, вздохнула, закрыла глаза и вдруг насторожилась: ей показалось, что с улицы донесся какой-то звук. Девушка встала, собираясь вернуться в подвал, но поняла, что не успеет, и застыла у буфета.
– Any body home?[23] – позвал чей-то голос.
Американец. Жанна не знала, стоит ли этому радоваться. Немцы были высокомерными скотами и невежами, американцы же все время дергались, нервничали, так что из двух зол… Шаги по коридору приближались. Дверь открылась в тот самый момент, когда Жанна опрокинула фарфоровую статуэтку Богоматери, стоявшую на камине. Секундой позже она увидела, что ее держит на мушке солдат в форме американской армии. Короткое мгновение они смотрели друг другу в глаза, потом он обернулся, вытащил из-за спины девочку и поставил ее перед собой. Жанна растерялась. Она никогда не забудет, как на ее кухне, залитой холодным вечерним светом, возникла эта странная парочка – солдат и ребенок. Их глаза – его светлые, ее очень темные – напоминали глаза диких животных.
– У вас есть солдаты на постое? – наконец спросил он.
По-французски он говорил очень неплохо для американца, хотя акцент был странноватый.
– Никаких солдат, – пробормотала Жанна. – Кроме вас…
Губы незнакомца растянулись в улыбке, больше похожей на оскал хищника.
– Можете подержать ее у себя? – Он кивнул на девочку.
Вопрос прозвучал как приказ, пусть и вежливый, и строптивый нрав девушки мгновенно дал о себе знать:
– Подержать? Сколько? Кто она?
– Еврейка. Мне ее передал кюре в Стомоне.
– В Стумоне[24]. Нужно произносить Сту-мон.
Еще одна скандалистка! Отлично. Они с девчонкой быстро договорятся. Или вцепятся друг другу в волосы. Ей что, трудно просто сказать «да»? «Нужно произносить «Сту-мон»! А взгляд до чего дерзкий… Стоит лицом к лицу с врагом, но хладнокровия не теряет. Только тут Матиас вспомнил, что на нем американская форма, и похолодел: еще чуть-чуть, и он рявкнул бы на нее по-немецки, приказав заткнуться. Заметив, что так и не опустил оружие, он убрал пистолет. Рене стояла, замерев, как соляной столбик. После вчерашнего срыва она замкнулась в тяжелом молчании. Матиас скучал по ее болтовне, взглядам из-под ресниц, улыбкам, волшебной лошади из сказки, даже по тому, как сурово иногда каменело ее лицо.
Жанна перевела взгляд на малышку, протянула руки, улыбнулась, но та не отреагировала. Матиас слегка подтолкнул ее в спину, и она сделала несколько шагов, как маленький робот. Жанна подхватила девочку и удивилась: такая худенькая, а оказалась довольно тяжелой. Сплошные мускулы и кости.
– Как тебя зовут?
Малышка не отвечала, и вид у нее был неприступно-недовольный. Жанна и солдат переглянулись. Наконец Рене обернулась к Матиасу и произнесла – четко и ясно:
– Меня зовут Рене.
Все три участника странной сцены застыли в молчании. Рассеянный голубоватый лунный свет заливал разгромленную кухню, делая ее похожей на подводное царство.
– Мне пора, – сквозь зубы пробормотал Матиас и вышел. Рене резко дернулась, Жанна выпустила ее, и она подбежала к окну. В воротах Матиас последний раз обернулся и исчез. Девочка смотрела на занесенный снегом двор с обугленным деревом в центре и скелетом мертвой лошади.
Рене не захотела спускаться в подвал на руках у Жанны, пошла сама. В слабом, мерцающем свете керосиновой лампы на нее устремились взгляды множества глаз. Внизу укрывались человек двадцать самых разных возрастов. Сначала Рене заметила детей – двух девочек старше ее по возрасту и одного подростка. Люди зашептались, какая-то женщина воскликнула «Maria Dei!» – и никто не понял, упрекает она Пречистую Деву или благодарит.
– Американский солдат попросил приютить ее, – пояснила Жанна.
– Солдат?! Почему ты мне не сказала? Где он? – зычным голосом спросил Жюль Паке, и Рене сразу поняла, что он здесь хозяин. Высокий, кряжистый, как дуб, с зоркими черными глазами и огромными ручищами, мужчина мог напугать кого угодно, но, как только он встретился взглядом с девочкой, гневное выражение лица сменилось веселой улыбкой.
– Солдат ушел, – продолжила Жанна. – У нее никого нет, и ее зовут Рене.
В установившейся тишине обитатели подвала смотрели на незваную гостью со смесью сочувствия и любопытства. Мать Жанны Берта, крепкая женщина с квадратным волевым лицом, погладила ребенка по волосам. Молчание нарушила Марсель, бабушка Берты:
– Что эти американцы делают в деревне? – раздраженно спросила она.
Ребятишки захихикали, и мамаша Паке наградила их грозным взглядом.
– Они нас освобождают, Бабуля. Пришли спасти нас от бошей, понимаешь?
– Может, и так, – проворчал Жюль.
Берта подошла к Рене, присела перед ней на корточки.
– Не грусти, маленькая фея, все образуется…
Вообще-то Рене в этом не сомневалась. Золовка Берты, тетя Сидони, проблеяла дрожащим голосом:
– Бедная маленькая козочка!
Богоматерь поминала именно она. Рене дернула плечом, метнув в нее недобрый взгляд: никакая она не козочка! До чего же ей надоели такие вот смущенные лица, показная жалость, ускользающие взгляды! Последний мазок на картину положила Жанна, шепнув на ухо матери:
– Она еврейка. Солдату ее поручил кюре из Стумона. У него были эсэсовцы на хвосте.
Берта перекрестилась, остальные глухо ахнули.
– Если боши найдут ее здесь… – В голосе Берты явственно слышался страх.
Вперед вышла женщина с малышом на руках.
– А то мы не знаем! Упаси нас Господь от этой напасти! – истерически выкрикнула она. – Из-за этой… всех нас перестреляют!
«Понятно, она тут самая трусливая», – подумала Рене. Впрочем, не стоит вот так сразу всех осуждать, иногда люди проявляют потрясающую храбрость. Нужно быть настороже, наблюдать. «Детектор» Рене, который бездействовал все то время, что она провела с немцем, вновь заработал. С ним она чувствовала себя в полной безопасности. Рене до конца не осознавала, как сильно она устала быть вечно начеку, а с немцем ослабила бдительность. Теперь он ушел. Вернулся к своим? Она тряхнула головой, гоня мысли прочь. Колесо повернулось. Ситуация изменилась. Нужно приспосабливаться. И жить дальше.
4
Женщина, боявшаяся сильнее всех, нервно укачивала сына, не спуская глаз с Рене. Мальчик – на вид лет двух, не больше – был бледным, очень худеньким и выглядел больным. Из носа у него текли зеленоватые сопли, и он все время подкашливал. Жюль обнял девочку за плечи, заслонив от злобного взгляда Франсуазы.
– Не бойся, феечка, они не злые. Просто напуганы. От страха люди глупеют. Но ты у меня в гостях, а мне совсем не страшно.
Он увел ее в глубину сводчатого подвала, где на матрасе сидела бабушка Марсель. Куча одежек и шерстяная шаль делали ее похожей на матрешку, только морщинистую и поблекшую. Рядом с Марсель расположилась другая старушка – не такая древняя и меньше закутанная. У нее были очень странные глаза – бледно-голубые, почти белесые, черные как смоль волосы в пучке растрепались, она улыбалась – то ли Рене, то ли кому-то невидимому, притаившемуся в темном углу.
– Где же эта маленькая феечка-евреечка? – глядя куда-то вбок, каркнула Марсель.
«Она что, совсем слепая?» – подумала Рене.
– Да вот же она, Бабуля, иди и познакомься, – сердито ответила Берта.
– Ну уж нет, спасибочки, она не из наших… – Матрона покачала головой.
Под каменными сводами раздался звучный смех Жюля, и все вздрогнули, теснее прижавшись друг к другу. Малейший шум мог навлечь на них беду, но хозяин фермы, судя по всему, плевать на это хотел, особенно если шум производил он сам.
– Думаешь, у нее на голове рожки, а на ногах копытца? – спросил он.
– Думала, она черная, – добродушно усмехнулась Марсель и сокрушенно вздохнула.
Дети снова покатились со смеху. Развеселился и Жюль.
– Как в Конго? – продолжил он шутливый диалог.
– Нет. Но черная… все-таки…
Рене толком не понимала, в чем заключается ее «еврейство», но точно знала, что люди, с которыми в последние годы сталкивала ее неласковая судьба, разбираются в этом еще хуже. Она бы с радостью ответила им на все вопросы – если бы могла. Еврейство как-то связано с религией, это точно. В замке монахини говорили, что евреи вовсе не любили Иисуса и виноваты в его смерти, но Рене ничего против него не имела, совсем наоборот! Она всегда жалела Иисуса, когда видела распятие, и не понимала, за что другие евреи ополчились на человека, которому и так жилось несладко. К несчастью, никто не пожелал ничего ей объяснить, все только многозначительно качали головами.
Еще Рене знала, что существует еврейский язык, хотя евреи живут в разных странах по всему миру. Ее подружка Катрин знала этот язык, потому что говорила на нем с родителями – до того как попала в замок. В еврейских детях, с которыми довелось столкнуться Рене, она не замечала ничего особенного, разве что волосы и глаза у них были очень темные, как у нее самой. Ни одного чернокожего еврея девочка не видела, но такие наверняка есть – раз уж евреи живут повсюду.
Слово «еврей» было настоящей загадкой, которую Рене поклялась рано или поздно разгадать, чего бы ей это ни стоило. Она должна узнать, почему это слово делает людей то трусливыми, как отца Марселя и Анри, то злыми, как Франсуазу или Мари-Жанну, а иногда храбрыми и добрыми, как приютивших ее фермеров, сестру Марту из Сакре-Кёр, кюре или Жюля Паке. Самой большой тайной для Рене были чувства, которые это слово вызывало у окружающих, и его способность раскрывать их истинную натуру. Немцу, судя по всему, было все равно, еврейка она или нет. Он солдат и должен был убить ее, им всем полагается уничтожать евреев или отсылать их в лагеря, но он поступил иначе. А после спасения это стало не важно. С ним Рене была собой. Впервые в жизни девочка забыла, что она еврейка. И случилось это в обществе немецкого солдата.
А здесь, в подвале, пришлось вспомнить. Она снова стала объектом всеобщего любопытства, хотя люди они вроде неплохие, особенно Жюль. Он надежный и забавный.
– Иди-ка сюда, котеночек, – позвала Марсель, протянув руку к Рене.
Девочка опасливо взяла ее за пальцы. Она встречала мало стариков, и Марсель, морщинистая, с каркающим голосом, немного ее пугала.
– Надо же, какая хорошенькая маленькая козочка! – Старуха улыбнулась беззубым ртом.
Она произнесла еще несколько слов на валлонском, но Рене их не расслышала, потому что остальные зашумели, обернувшись к лестнице. На верхней ступеньке стоял американский солдат, что-то свирепо выкрикивал и целился в них. Ну вот, снова начинается… Рене спряталась за Берту и замерла. Что, если он тоже ненастоящий американец? Да нет, этот, судя по размашистым жестам, все-таки янки. Вообще-то Рене не видела ни одного американца, но мужчина с автоматом – точно не немец, она руку готова дать на отсечение, он – не бош!
Американцев было трое, все очень нервничали и махали оружием, как мальчишки, играющие в гангстеров. На привычный вопрос «Немцы в доме есть?» Жюль Паке ответил: нет никаких немцев, just family[25], just family! И please don’t shoot![26] Янки – суровые парни, Жюлю было известно, что в Труа-Пон они несколько раз бросали гранату в подвал, набитый гражданскими, – «на всякий случай»… «Освободители» не церемонятся, это уж точно. Что там лопочет Тарзан с пистолетом, черт бы его побрал?! Все так и стояли с поднятыми руками, пока офицер не скомандовал общий сбор во дворе. Ну, и чем союзники лучше бошей?
Все гуськом поднялись по ступеням, держа ладони на затылке, и оказались на ночном холоде. Янки-Тарзана звали Дэн. Лейтенант приказал ему сторожить «этих гражданских», взял остальных солдат и отправился обыскивать ферму. Дэн смотрел недо́бро, а они втягивали головы в плечи и переминались с ноги на ногу на ледяных камнях. Малыш Жан дрожал на руках у матери, бабушка Марсель могла в любой момент лишиться чувств, всем было холодно и очень страшно. Рене не в первый раз попадала в переплет и стояла смирно, прижав к груди Плока, а потом вдруг вспомнила лес, двух солдат у себя за спиной, собиравшихся убить ее, услышала, как взводят курок. Тот, кто целился ей в голову, очень боялся, и другой теплым хрипловатым голосом сказал, что все сделает сам. Она знала, что это конец, но захотела увидеть своего убийцу, обернулась и встретилась с ним взглядом поверх пистолета. Взгляд немца. Стальной, безразличный. Нет, перед выстрелом что-то вспыхнуло в глубине голубых глаз, он недоуменно нахмурился. Голос американского солдата вывел Рене из задумчивости. Она снова во дворе, среди незнакомых людей. Немец ее покинул, и тут уж ничего не поделаешь.
Маленький Жан раскашлялся, старухи стонали, Берта и Жюль поддерживали Бабулю под руки. Сидони спросила американца, кто занял деревню – немцы или союзники, тот не понял ни слова, и тогда сельский полицейский Юбер повторил вопрос на ломаном английском.
– Немцы…
Все пришли в ужас. Марсель была на грани обморока. Берта с мольбой смотрела на Тарзана, а Жюль едва сдерживался, чтобы не врезать ему что было сил. И янки смилостивился – разрешил старухам и Франсуазе с ребенком уйти в дом. Тем временем вернулись остальные американцы: они ничего не нашли, во всяком случае, немцев. Все вернулись в убежище.
Шестеро американцев устроились на соломе в меньшем по размеру кирпичном подвале, примыкавшем к большому, сводчатому, где сгрудились хозяева фермы с родными и соседями. Самый молодой из солдат был ранен в голову, повязка намокла от крови. Возглавлял группу лейтенант Пайк, нервный коротышка в очках. Рене он понравился куда больше Дэна: тот все время улыбался, и это выглядело странно, потому что его улыбка была вовсе не улыбка, а гримаса, как у Щелкунчика. Лейтенант попросил женщин развести огонь и приготовить солдатам поесть.
– Ишь чего захотел, – проворчала Берта, – у нас и для детей-то еды не осталось!
Выхода не было, пришлось подчиниться. Берта, Жанна и Сидони ушли на кухню, и Рене увязалась за ними, что почему-то не понравилось Дэну. Девочка не обратила на него внимания: она хочет быть с женщинами и останется с ними. Берта начала замешивать тесто на воде из муки, замусоренной зернышками, а Жанна, едва не плача от досады, резала бесценную ветчину. Высокий темнокожий солдат, гора мускулов по имени Макс, наблюдал, стоя в дверях.
– What’s that?[27] – Он с сомнением ткнул пальцем в миску.
– Мука для скота, – гордо, как метрдотель, предлагающий гостям фаршированную индейку, пояснила Берта. – Ничего другого у нас нет, сынок.
Макса ее слова не убедили, и тогда Берта сделала блаженную мину и погладила себя по животу.
– Ням-ням, вкуснятина…
Макс ответил мальчишеской улыбкой. Настоящей улыбкой. Берте и Сидони стало его жалко. Рене подошла к Жанне – та резала скатерть на бинты. Поняв, что девочка хочет быть полезной, она поручила ей скручивать полосы. «Будь осторожна, чтобы они не загрязнились, иначе рана может нагноиться», – предупредила она. Дэн ходил кругами вокруг девушки, и это не ускользнуло от внимания Рене – она еще во дворе заметила, как он смотрел. Американец искал повод завести разговор, но Жанна его игнорировала, он бесился и решил погладить по голове ребенка, чтобы привлечь внимание красавицы. Рене отшатнулась, наградив его гневным взглядом. Щелкунчик не имеет права прикасаться к ней! Дэн что-то лопотал по-английски, и Жанна догадалась, что это имеет отношение к Рене и бинтам: мол, хорошо, что ребенок помогает. Он показал большой палец и глупо ухмыльнулся. Жанна ответила высокомерно-раздраженным взглядом.
Закончив, женщины оставили Дэна, но он и не подумал сдаваться. Выхватил Плока из кармана Рене и начал прыгать, вертя тряпичного человечка на руке.
– Look! Look who’s there?![28]
Кривляния взрослого ошеломили Рене. Чего он добивается? Хочет, чтобы она отнимала у него игрушку? Размечтался! Другие дети радовались, маленький Жан заливался смехом, всем было весело – впервые с тех пор, как Рене попала в этот дом. Дэн взмахнул своим трофеем и попал по балке. Бедненький Плок! Ну все, хватит! Рене властным жестом протянула руку к своему любимцу, американец мгновенно успокоился и вернул игрушку хозяйке. Жанна не упустила ни одной детали этой сцены, Дэн пожал плечами и улыбнулся, пытаясь скрыть досаду.
В «солдатском» подвале Жанна и Рене передали бинты Жинетте, той самой старухе со странными «выбеленными» глазами. Она сняла повязку с головы раненого, обнажив большую и очень нехорошую рану. Жанна решила заслонить его от Рене, но той вовсе не требовалась защита. Солдату было больно, и она его, конечно, жалела, но как-то отстраненно. Появилась недовольная Берта.
– Ни разу не видела, чтобы рану мазали медом, – буркнула она. – Простуду, насморк – да, но не раны…
Жинетта не обратила внимания на ее слова, зачерпнула золотистую массу и наложила густой слой прямо на искалеченную плоть. Потом взглянула на Рене и пояснила:
– Через день или два начнет затягиваться, сама увидишь.
Она говорила так, как будто они с Рене знали друг друга целую вечность. Берта вздохнула и отошла. Солдаты принялись за ячменную похлебку. Они медленно пережевывали клейкую массу, никак не комментируя ее вкус. Всем раздали их порции, и в подвале установилась тишина, нарушаемая стуком ложек и причмокивающим хлюпаньем. Рене с тоской вспоминала кусочки зайчатины с дикими ягодами и вкусный «чай» из сосновых иголок, сваренный на воде из ручейка. У нее перехватило горло: впервые за все годы тяжких испытаний она не могла справиться с едой. Старшая из девочек подошла к ней – худенькая, с темными волосами и умными глазами, – она давно приглядывалась к Рене, но заговорить не решалась.
– Я Луиза, – сказала она. – Младшая сестра Жанны. Мне девять лет. А тебе?
– Семь! – гордо ответила Рене.
На самом деле, она ни в чем не была уверена, а ее бумаги потерялись во время одного из многочисленных перемещений из убежища в убежище. Рене ходила в класс мадам Серве и учила те же уроки, что второклассники-семилетки, вот и решила, пусть ей тоже будет семь.
Отчетливо Рене помнила себя с четырех лет – с тех пор, как жила у фермеров из «другой деревни»: она так говорила, чтобы отличать пейзажи юга страны от более лесистых, с пересеченным рельефом. Что было раньше, Рене не знала. У нее сохранились очень смутные воспоминания о той далекой эпохе, скорее картинки, звуки и запахи. Был, например, золотой медальон для фотографии, раскачивавшийся перед глазами и помогавший ей уснуть. Это видение всегда сопровождал аромат ландыша. Кому принадлежало украшение – чужой женщине или ее матери? Бог весть… Рене понимала, что тешить себя иллюзиями – пустое дело, она все равно никогда не узнает правды. Большинство детей на ее месте придумали бы себе воспоминания, отталкиваясь от крошечных обрывков прежней жизни. Они идеализировали бы их, чтобы создать завесу красоты и нежности и защититься от ада реальности. Рене была из другого теста. Проницательность девочки часто пугала тех немногих, с кем сводила ее судьба. К себе она была очень сурова. Не торговалась и с жизнью. Никогда. Зато страстно любила легенды, сказки и старинные истории, интуитивно воспринимая их не только как единственное лекарство от уродства окружающего мира, но и как чудесное отражение его головокружительной красоты.
Луиза предложила Рене порисовать. В углу подвала лежали большие рулоны обоев, оставшиеся после ремонта в комнате Жанны. Девочки устроились прямо на полу, и к ним сразу присоединились другие ребятишки: Бланш, восьмилетняя сестра малыша Жана, и Альбер – брат Луизы и Жанны – четырнадцатилетний подросток, довольно холодно державшийся с Рене с самого ее появления на ферме. Она решила нарисовать большой портрет Можиса вместе с волшебным конем. Особенно ей удались глаза – миндалевидные, светло-голубые с металлическим блеском и взглядом, одновременно жестким и отрешенным. Произведение практически в натуральную величину заняло бо́льшую часть рулона. Дети начали задавать вопросы, но Рене была слишком сосредоточена и не отвечала: она все объяснит потом. Они завороженно следили, как она работает, и почтительно молчали. Закончив, Рене уселась по-турецки и начала рассказывать историю.
5
Матиас шел весь день. Оставив Рене на ферме, он решил не возвращаться в хижину, где они провели двое суток, всю ночь искал убежище, промерз до костей и вымотался. Наткнувшись на мертвеца, удивленно глядевшего в небо и так и не выпустившего из рук автомат, он закрыл ему глаза, выселил из «лисьей норы» и устроился на ночлег в его могиле, а на рассвете отправился дальше, не зная, что делать. Впервые в жизни он чувствовал себя совершенно потерянным и дезориентированным. Его идеальный организм заклинило. Он чувствовал, что изменился сразу после встречи с девочкой. С Рене. Имя-предназначение[29]. В этом было нечто почти комическое. Он вспомнил лицо старой индианки. Уж она-то не стала бы смеяться, увидев в имени знак, «путь». Куда? К какой внезапно открывшейся тайне судьбы? Он никогда не верил словам старой Чичучимаш[30] и по-доброму посмеивался над ней и ее предсказаниями, а она считала его простаком, даже дурачком. В глубине души индианка его жалела и прозвала Убивай-Много. Очень меткое прозвище, ведь он и правда много убивал.
В середине 1930-х Матиас, траппер[31], промышлявший в северных лесах в заливе Джеймс, жил один, торговал с индейцами, но близко ни с кем не сходился. А потом наступил день, когда его каноэ перевернулось на Овсяных порогах реки Руперт. Чичучимаш нашла его умирающим на отмели – пес Матиаса привел ее к хозяину. Неделю он метался в лихорадке, потом жар спал, рана на голове затянулась.
Матиас двигался вперед без всякой цели и вспоминал Канаду. Он пребывал в подвешенном состоянии, но одно знал совершенно точно: ему как воздуха не хватало леса. Настоящего леса. Впервые за пять лет он провел среди деревьев несколько часов кряду. Тренируясь с бойцами «Бранденбурга», он совершал марш-броски по лесистой местности, внедрившись в отряд маки́ в Веркоре, жил на природе, но только теперь понял, как мало было этих моментов. Скучал он и по одиночеству, хотя вряд ли осознавал это в полной мере, пока не оказался в хижине с чужой девчонкой.
Ближе к вечеру Матиас вышел на грунтовую дорогу, петлявшую через поля. Было очень холодно, свинцовое небо тяжело нависало над землей, но снег наконец перестал. Вскоре он добрался до маленькой деревушки. На центральной улице женщины выбрасывали из окон одеяла и одежду, мужчины с ребятишками подхватывали их и складывали в тележки и коляски. Прошел слух, что немцы наступают, люди впали в истерику и готовились к бегству. Завидев Матиаса, они кинулись к нему, как рой обезумевших мух. Чья-то высохшая старческая рука ухватилась за полу куртки пришельца, краснорожий толстяк обнял его за плечи. Отовсюду доносились возбужденные голоса. «Слава богу, вы вовремя!», «Боши будут здесь через пару минут!», «Спасите нас, защитите!». Они лили слезы и стенали, подносили к Матиасу детей, словно хотели, чтобы он благословил младенцев, как папа римский или сам Спаситель. Увы, он ничем не мог им помочь.
Довольно долго Матиас получал удовольствие, вводя в заблуждение добрых доверчивых граждан, принимавших его как освободителя и даже героя. Он наслаждался всеобщим ликованием, которое всегда предшествует ужасу от осознания обмана. Зло, прикинувшееся Добром, приобретает новый, не имеющий себе равных, вселенский масштаб.
Сегодня, на деревенской площади, в окружении обезумевших от страха людей, ему было несмешно. Он мог бы направить на них оружие, выкрикнуть несколько слов на родном немецком языке и ощутить мгновенное упоение, глядя, как они поднимают руки и втягивают головы в плечи, а на их лицах появляется изумленное выражение. Мог бы, но не сделал этого, потому что слишком устал.
– Вы один? – спросил мужской голос, прорвавшись сквозь всеобщий гвалт.
Матиас кивнул, и люди отпрянули от него, как от зачумленного. Он один. Он не может защитить их от врага. Он бесполезен. Мужчины разошлись, чтобы продолжить сборы, но несколько женщин остались рядом, их лица выражали сочувствие и сожаление. Красивая девушка запечатлела на его щеке долгий поцелуй, и он, как гладиатор перед боем, долго ощущал на коже прикосновение ее пухлых, теплых и влажных губ.
Он покинул деревню и пошел навстречу немецкой колонне. Нужно вернуться в свой лагерь, получить указания, продолжить миссию, найти Меченого и следовать за ним, куда понесет война. Матиас не сомневался, что у изобретательного Скорцени осталось в запасе немало трюков, он сумеет закончить эту войну забавнейшим из способов и даже спастись от гибели, когда станет совсем жарко.
Вскоре он услышал шум танкового мотора и заметил за пригорком каски. Те самые, вечно съезжавшие на лоб и казавшиеся ему такими смешными из-за несуразной баски-назатыльника. Любой человек в таком «головном уборе» казался злобным придурком. Даже Ганди выглядел бы зловредным дебилом, нацепи он такой на лысый череп[32]. Матиас остановился посреди дороги, готовясь снять американскую каску, как только завидит своих. Это был условный знак между людьми Скорцени и солдатами рейха из других частей: «Я свой, не стреляйте!» Пехотинцы были совсем близко, один из них поднял голову. Его глаза скрывал металлический козырек, виден был только большой, глупый, широко раззявленный рот. И Матиас вдруг прыгнул в кювет и пополз к росшим на опушке елям. К немцам он не пойдет. Останется один, и пусть все убираются к черту! Сидя в укрытии, он наблюдал, как мимо проходит серо-зеленое войско. Солдаты маршировали по унылой сельской местности, держа спину почти так же прямо, как на параде у Бранденбургских ворот перед фюрером.
На закате дня ноги сами принесли Матиаса в хижину. Он толкнул дверь и, внимательно оглядев помещение, заметил, что некоторые вещи стоят на других местах. Здесь явно кто-то побывал. Матиас разжег огонь, сварил себе чашку настоя из сосновых иголок, достал сухари и принялся за скудный ужин. Его внимание привлекло яркое пятно в углу комнаты. Детский шарф. В красно-зеленую полоску. Он велел Рене снять его – слишком уж бросался в глаза. Матиас поднес шарф к лицу и почувствовал запах девочки, пропитавший мокрую шерсть. Явственный, очень естественный, очень «телесный», сладковато-пу́дровый, как у детской присыпки. Он представил себе изменчивое лицо Рене, то обезоруживающе простодушное, то по-взрослому серьезное. В этом лице было нечто могущественное и непостижимое, нечто такое, чего Матиас не встречал ни у кого другого.
Рене. Он почувствовал непреодолимое желание увидеть ее, услышать, почувствовать рядом с собой. Вдруг на ферму ворвались люди Пайпера? Внедренные бойцы из отряда Матиаса должны были обеспечить беспрепятственное продвижение «официальных» частей, в том числе печально знаменитой дивизии СС «Адольф Гитлер»[33]. В числе офицеров был Иоахим Пайпер, многолетний адъютант Гиммлера, элегантная лицемерная скотина. Дивизия наверняка где-то рядом, и Пайпер, ответственный за массовое уничтожение гражданского населения и евреев в Восточной Европе, получил приказ «не церемониться». Затевая безумное наступление, Гитлер потребовал от соратника быть жестоким, неуступчивым и мстительным, как древние боги, в которых нацисты играли с ребяческой серьезностью. Матиас надел куртку, загасил огонь и вышел.
6
Рене совершенно прониклась атмосферой дома Паке. Она мгновенно поняла, как «работает машина», кто есть кто и кто чем занят. Девочка хорошо поладила с детьми – они оценили ее талант рассказчицы, фантазию, умение придумать новую игру, забавно изобразить разных персонажей. Она развеяла царившую в подвале скуку, потому что давным-давно научилась жить в замкнутом пространстве, не шуметь, не высовывать нос на улицу и все равно развлекать себя.
Старая Жинетта была особенно расположена к Рене, любила сажать ее к себе на колени, пела песенки или рассказывала сказки. С Жинеттой девочка чувствовала себя в безопасности. Франсуазу Рене жалела, но она ей не нравилась. Жан ужасно кашлял, мешая всем спать, у него был жар, и он много плакал, а если мальчик хотел поиграть с другими детьми, мать прижимала его к себе и не отпускала.
Американцы вели себя вполне прилично, к гражданским относились уважительно, были услужливы. Дэн увивался вокруг Жанны и все время хищно улыбался. Жюлю Паке это не слишком нравилось. Девушка ничем не поощряла ухаживаний, смотрела на янки свысока и вела себя как оскорбленная весталка.
Рене старалась не думать о немецком солдате. Ее солдате – так она его про себя называла. Война приучила девочку, что в жизни все зыбко и переменчиво, но она почему-то поверила, что они никогда не разлучатся. Незадолго до того как Рене поселилась в семье Анри и Марселя, она жила в замке сестры Марты. Туда же привезли десятилетнюю девочку Марго, и та все время твердила, что бывшая учительница очень ее любит, а потому приедет и заберет к себе. Марго рассказывала всем и каждому, что мадемуазель Элиза (Рене до сих пор помнила имя!) станет ее мамой, пока не вернется настоящая. Учительница ни разу и носу не показала в замке, но Марго все надеялась и мечтала – вслух! – и это стало очень раздражать Рене. Она не понимала, почему взрослые не говорят девочке, что все это чепуха и глупости. Нужно было помочь ей, чтобы она наконец узнала правду. И Рене сделала то, на что не решались монахини: при всех детях объяснила Марго, что мадемуазель Элиза не приедет. Бедняжка разрыдалась. Рене обняла ее, желая утешить, но все-таки добавила, что родители, конечно, тоже не появятся, что они где-то далеко, а может, вообще умерли. Марго посмотрела на Рене с таким ужасом, как будто у той выросли рога, а потом пустила в ход кулаки, и одной из сестер пришлось разнимать их.
Рене долго и нудно отчитывали, а потом на месяц лишили воскресных прогулок. Она не могла взять в толк подобную несправедливость. Нельзя наказывать человека за правду, какой бы жестокой она ни была. Никто не приехал за Марго. Никто никогда не забирал ни одного ребенка.
Жюль Паке рубил дрова в пекарне, когда в проеме двери возникла чья-то фигура, заслонив свет. Он едва не поранил колено, выругался, обернулся и увидел высокого крепкого мужчину. Незнакомец подобрался совершенно бесшумно. Еще один треклятый америкашка! Жюль покрепче сжал топорище, и солдат поспешил объясниться:
– Это я привел малышку…
Ладно, привел, но это не дает тебе права протыриваться на ферму Паке как змея! Жюль не сразу понял, что мужчина обратился к нему на отличном французском, хоть и с акцентом.
– Ну, и?.. – спросил он, поигрывая топором.
– Она все еще здесь?
– А где же ей быть?
Что за дурацкий вопрос?! Нет, ее здесь нет, я отдал девчонку соседу, который не боится, что его шлепнут, если найдут в доме еврейку! Ну и ловкач ты, парень!
– На ферму пришли ваши… товарищи.
– Знаю, видел солдата на дороге.
Надо же – он его заметил! Заметил Макса, а ведь негр малый не промах и кажется опытным воякой. Жюль смерил Матиаса взглядом. С этим янки шутить явно не стоит. Солдат улыбнулся, и ироничный взгляд его светлых глаз понравился фермеру.
– Пошли, познакомлю вас, – сказал он.
Матиас заколебался, приметив выставленного часового. Он понял, что ферму заняли союзники, и задумался о том, что станет делать, оказавшись внутри. Накануне эта мысль ему в голову не приходила, он знал только, что хочет быть рядом с Рене. Теперь все осложнилось. Рене придется «прикрыть» его, ни словом, ни взглядом не выдать, кто он на самом деле. Матиас не сомневался, что осознанно девочка этого не сделает, но эффект неожиданности и волнение могут привести к печальным последствиям, ведь она еще ребенок. Час спустя, так ничего и не решив, Матиас незаметно проник во двор: отвлечь внимание было для него плевым делом.
Отец семейства понравился Матиасу: этот крестьянин умен, за словом в карман не лезет и явно не трус. В напряженных, опасных ситуациях Матиас мгновенно угадывал в людях их истинную натуру. Они молча поднялись по ступенькам, миновали коридор и вошли в кухню.
Четверо американцев взяли Матиаса на мушку. Смотрели они на него неласково – были в курсе операции «Гриф». Недавно он отвечал на вопросы на одном из постов и отлично справился – слава богу, что Гансу не пришлось ничего блеять на дрянном «баварском» английском.
Матиаса усадили на табурет. Пайк подошел и долго рассматривал его через очки, потом начал задавать вопросы. Он отвечал с акцентом уроженца Новой Англии[34], соответствующим его внешности и манерам мальчика из хорошей семьи. Имя? Мэтью Руни. Часть? 30-я пехотная дивизия. Родился в Бостоне, штат Массачусетс. Матиас объяснил, что его мать родом из Квебека, поэтому он свободно говорит по-французски. Пайк слегка расслабился, остальные опустили оружие. Паке воспользовался моментом и ушел в подвал, а Жанна с Бертой вздохнули с облегчением. Он рассказал, что вернулся солдат, который привел Рене, и теперь американцы его допрашивают. Жанна зябко поежилась. Рене играла с Луизой в бабки[35], но все слышала, и ее словно ударной волной накрыло, дух перехватило, сердце пропустило такт. Вернулся. Он вернулся. А на ферме полно американцев. Зачем он вернулся? Ради кого? Конечно, ради нее, а как же иначе?
– Почему его допрашивают? – удивилась Берта.
– Боятся, что он засланный.
– Что это значит? – спросила Жанна.
Нервность дочери не ускользнула от Жюля.
– Засланный – значит бош в американской форме. Говорят, их тут полно.
Все удрученно замолчали. Это свинство – не доверять своим! Жанна видела солдата и ни на секунду не усомнилась, что он настоящий, а эти мерзавцы… Рене воспользовалась тем, что взрослые увлеклись разговором, выбралась на лестницу и бесшумно пошла по коридору. Дверь в кухню была приоткрыта, и девочка могла видеть Матиаса. Он был очень спокоен, говорил по-английски, выглядел на редкость расслабленным и по-особому улыбался. «Как кот», – подумала Рене. Держался он свободно, но не развязно, вот только голос звучал чуть глуше. И все-таки это был ЕЕ солдат.
Пайк попросил Матиаса перечислить все канадские провинции, он подчинился и был на Саскачеване[36], когда заметил Рене. Он скорее почувствовал, чем увидел пристальный взгляд черных глаз, на мгновение замолчал, потянулся к ней, и солдаты обернулись посмотреть, что привлекло внимание «этого подозрительного типа». Дверь распахнулась, Рене вошла в комнату, направилась к Матиасу и остановилась метрах в двух от него, не обращая ни малейшего внимания на остальных. У Матиаса перехватило горло. Что за чертовщина? В присутствии этой малышки он впадает в какое-то странное состояние и делает нелепые вещи, вот как сейчас, например: взял и добровольно кинулся в пасть льву. Впрочем, все это не важно. Он все равно в сто раз хитрее всех янки, за исключением разве что их командира. Пайк уж точно не дурак. Матиас продолжил, глядя в глаза Рене:
– Новая Шотландия, Онтарио.
Его голос звучал совсем тихо, он как будто пытался успокоить ее: «Теперь все хорошо, я рядом». Монитоба, Квебек, Альберта. Странная мелодичность экзотических названий, произнесенных глубоким, низким голосом, действительно принесла Рене радостное умиротворение. Американцев впечатлила магнетическая энергия, исходившая от ребенка и солдата. Пайк решился нарушить очарование момента:
– Все в порядке, Мэт. Извини, что пришлось надавить, но ты сам понимаешь…
– Я не в обиде, – ответил Матиас и улыбнулся кошачьей улыбкой.
Они гуськом спустились в подвал, и Матиас сразу увидел красавицу, которой два дня назад доверил Рене. Она смотрела с дерзким вызовом, но от него не укрылось ее смятение. Сколько девушке лет – семнадцать, восемнадцать? Лицо волевое, угловатое, темные волосы небрежно сколоты на затылке, тело упругое, сильное. Богатое тело…
Солдаты расположились в своем подвале. Матиас сел на солому рядом с раненым, тихонько стонавшим во сне. Дэн тут же пристроился рядом и добрых полчаса морочил Матиасу голову разговорами, во всех подробностях описывая высадку в Нормандии. Голос у него был гнусавый, и Матиас задремал, а навязчивый янки все бубнил и бубнил.
Ему приснился северный лес. Он шел вперед, преодолевая сопротивление хозяина ветров и животных Чуетеншу – того, кто дарует охотникам добычу. Матиас преследовал американского лося, его снегоступы глубоко проваливались в снег. Добравшись до вершины холма, он увидел животное. Лось стоял… спиной к нему. Стрелять в дичь в такой ситуации ни один уважающий себя охотник не станет. Человек и зверь должны обменяться взглядом. Но Матиас зарядил карабин и прицелился. Лось медленно повернул голову. Матиас услышал, как громко хрустнула ветка, и отвлекся, а когда снова прицелился, на линии огня оказалась Рене. Она смотрела прямо на него. Вапамиск, великий охотник племени кри, когда-то объяснил Матиасу, что иногда человек упускает добычу, потому что она оказывается сильнее и не хочет умирать. В этом случае приходится склониться перед жизнью и вернуться домой. Слова индейца остались для Матиаса пустым звуком, он только теперь понял, насколько они верны. Он все-таки выстрелил, хотя мог поклясться, что не нажимал на спусковой крючок, и на груди Рене расплылось кровавое пятно. Девочка ужасно удивилась, потом на ее лице появилось выражение безмерной печали.
Он проснулся – в ужасе и липком поту. Тонкий детский голосок распевал считалку: «Мы в лесочек не пойдем…» Матиас повернул голову и увидел ее. Она сидела совсем близко и укачивала куклу. Он почувствовал огромное облегчение, ему хотелось схватить ее, прижать к себе, но он не смог. Рене улыбнулась.
– Тебе приснился кошмар, – сообщила она. – Ты разговаривал.
Она сделала большие глаза.
Неужели он что-то бормотал по-немецки? Не исключено. Матиас незаметно взглянул на лежавшего рядом раненого, и ему показалось, что тот по-прежнему в забытьи. Этот ему не опасен.
– Мы останемся здесь?
– Да.
– Сколько ночей?
– Не знаю.
Вопросы раздражали его. В хижине девочка вела себя иначе. Они вместе, и это уже хорошо, разве нет? Не может же он сунуть ее в вещмешок и унести с фермы! Идти им некуда, но и ждать, когда его обман раскроют, тоже нельзя. К тому же здесь могут появиться другие американцы… Ситуация тупиковая. У Рене куда больше шансов выжить на этой войне без его участия. Одна в доме Жюля Паке она в большей безопасности, чем в любом другом месте с Матиасом. Возвращаясь к ней, он руководствовался инстинктом и поступил как законченный эгоист. Рене не спускала с Матиаса глаз – чувствовала, что его одолевают сомнения. Она положила ладошку ему на грудь, желая передать частичку своего тепла, выразить доверие. Он не поддался на ласку, бросил:
– Иди играй.
Она встала, повернулась к нему спиной, и Матиас сразу пожалел о своей грубости:
– Пст, Рене! Попробуй раздобыть мне кофе…
Лицо девочки просияло, и она резво засеменила к Жанне, которая перетряхивала лежанку старой Марсель. Возникший из ниоткуда Дэн занял место Рене – он как будто караулил за углом. Матиас заметил, как дернулась щека американца, когда он встретился взглядом с Жанной. Девушка нравилась янки, а ее тянуло к Матиасу. Подобный сценарий часто плохо заканчивается, а ситуация и без того непростая. Сейчас не до чувств.
– Где ты взял эту малышку? – широко ухмыляясь, поинтересовался американец.
– Получил от кюре, в Стумоне.
Дэн скривился – мол, брось заливать! – взглядом потребовав разъяснений, но Матиас промолчал. Связь между ним и Рене вызывала всеобщее любопытство, будоражила воображение, а ореол тайны делал их секрет опасным. Дэн сменил тему:
– Значит, ты высаживался в Нормандии с Тридцатой?
– Под Мортеном, высота триста четырнадцать и все такое прочее…
– Ну и дела… И как это было?
– Долго. Особенно в конце.
Скупой ответ рассмешил американца. Мортен стал мифом, а те, кто вернулся оттуда живым, – героями. Даже фрицы уважали врагов, которые пять дней удерживали высоту[37], отражая атаки дивизии «Рейх». Их прозвали «эсэсовцами Рузвельта». Все в этом подвале считали Матиаса почти святым, ведь он спас еврейскую девочку, а участие в обороне Мортена вознесло его на небывалую высоту. Примитивный ум Дэна никак не мог определиться – ненавидеть ему этого человека или равняться на него. Жанна не спускала с Матиаса глаз, Рене обожала его, как живого бога. Американец взглянул на соперника: тот курил, пребывая мыслями в недоступном для окружающих месте. Дэн решил, что будет его ненавидеть.
Раненый раскашлялся, ему стало трудно дышать, на побагровевшем лице выступила испарина. Матиас сделал знак Дэну, чтобы тот приподнял беднягу. Они устроили его поудобнее и продолжили беседу.
– У меня кузены в Оттаве. А сам я из Огайо. У родителей там ферма, – простодушно улыбаясь, сказал Дэн.
Матиас ответил непроницаемым взглядом. Вот ведь досада, парень решил поведать ему о своем жалком детстве среди кукурузных полей и тощих кур! Очередной вариант «Гроздьев гнева»[38]. Дэн являл собой воплощение самодовольной, преуспевающей Америки. Такие, как он, ни за что не сядут рядом с «черномазым» в автобусе. Они одобряют истребление индейцев – ну а как же, мы ведь получили по клочку земли! – и почитают себя вооруженной рукой справедливости и свободы, воплощением добра. Отвратительный тип! Дэн между тем завершил сагу о своих юных годах с грубым отцом-алкоголиком, «лупившим мать сковородкой», и начал жаловаться на обитателей фермы Паке. «Неблагодарная деревенщина! Нас отправили в эту дыру спасать их задницы от фрицев, а они нос задирают!» Матиас молча кивал – ну да, ну да… – и Дэн вроде бы собрался оставить его наконец в покое, но передумал: – Вы молодцы, увезли Грааль в Монреаль!
Грааль… О чем говорит этот тупица? Матиаса кинуло в жар, ладони стали влажными. Мозг заработал на повышенных оборотах. Грааль, Монреаль. Ну же, соображай! Внешне он сохранял полную невозмутимость – его этому учили, – но внутри у него все дрожало. Грааль, кубок… спорт. Вот оно! Придурок говорит о кубке Стэнли, который монреальцы выиграли в апреле! Поздно, Дэн ответил сам:
– Кубок Стэнли, только не говори, что ты не…
– Ну конечно, хоккей, – небрежно бросил Матиас, как будто это была самая скучная тема на свете.
– Ришар[39] теперь герой. Какой гол! Заслужил памятник на бульваре Святого Лаврентия.
Взгляд янки снова стал подозрительным. Появились Жанна и Рене.
– А вот и кофе! – преувеличенно радостно воскликнул Матиас.
– Размечтался… – хмыкнула Жанна. – Всего лишь цикорий.
– Пивали мы и похуже!
Жанна расхохоталась, и Дэн побагровел от обиды и зависти: сопернику удалось рассмешить задаваку, а ему она ни разу не улыбнулась! Рене гордо подала чашку Матиасу, а Жанна так резко протянула свою Дэну, что едва не облила его обжигающим напитком.
Жанна ушла, а Рене осталась с мужчинами, и Дэн вдруг решил приласкать девочку, взъерошил ей волосы. Она резко отстранилась и села, втиснувшись между Матиасом и раненым.
– Вот что мне интересно, Мэт, – вкрадчивым тоном начал Дэн.
Матиас глотнул из чашки и повернул голову. До чего же мерзкий тип! Разговаривает таким тоном, словно они вместе пасли свиней на захудалой ферме в Огайо! Он что, никогда не отстанет?
– Ты из-за кого вернулся? На старшую глаз положил или дело в малышке?
Матиас презрительно улыбнулся, Дэн в ответ похотливо оскалился. Так ведут себя мужики, когда разговор заходит о… женских прелестях. Матиасу стало противно и совсем не смешно. При других обстоятельствах он схватил бы похабника за шкирку и размазал его рожу об стену, как головку сыра. Увы, пришлось пожать плечами и отвернуться.
– Последний гол забил «То» Блэйк[40], – небрежно бросил он, достал из пачки сигарету, прикурил, глубоко затянулся и выдохнул дым. Дэн пялился на него с идиотским выражением лица.
– Памятник на Святом Лаврентии нужно ставить Блэйку, – громко, только что не по слогам, пояснил Матиас, как будто обращался к глухому.
– Ну и кретин же я! Ты прав, конечно это был Блэйк.
Рене почувствовала, что Матиас попал в трудное положение из-за какого-то кубка, и очень испугалась, но он утер нос противному Щелкунчику! Раненый проснулся, что-то сказал, потянулся и погладил ее по голове. Девочка стерпела ласку: она не любила, когда к ней прикасались, но молодому солдату это было необходимо. Матиас подошел к лейтенанту Пайку. «Вот и правильно, – подумала Рене. – Нужно понравиться главному, а не этому Дэну!» Пайк и Матиас мирно беседовали, сидя на мешках с картошкой, Берта и Сидони играли в карты, Марсель время от времени хихикала, разевая беззубый рот. Рене нравилась жизнь в подвале, но она знала, что надолго у Паке не останется. Солдат, которого американцы зовут Мэтом, вернулся на ферму, чтобы забрать ее.
Жанна присоединилась к беседе Пайка и Матиаса. Она говорила, жестикулировала, Матиас переводил, лейтенант улыбался и кивал. Интересно, что она им рассказывает? Рене не спускала глаз со своего немца и заметила, что он подносит сигарету к губам чуть более нервно, чем обычно, и слишком часто приглаживает свободной рукой волосы на затылке. Никто другой не обратил бы внимания на такие мелочи. Матиас годами учился обманывать, а ее провести не сумел. Это плохо и очень опасно. Им нельзя здесь задерживаться.
Наступила ночь. Обитатели подвала устраивались на ночлег, стараясь лечь потеснее, чтобы не замерзнуть. Наконец свечи, газовые и керосиновые лампы погасли, кашель и перешептывания стихли, сменившись храпом. Рене лежала на соломе с другими детьми. Момент укладывания всегда был для нее особым. Она ценила одиночество, любила грезить наяву, но многие ребятишки иногда долго плакали, им снились кошмары. Минуты, предшествующие погружению в сон, нагоняют страх, угнетают, не дают дышать – Рене пережила все это после облавы в замке. На сей раз она заснула со спокойной душой. Ее солдат здесь, рядом, в нескольких метрах от нее.
Среди ночи она проснулась от холода, бесшумно встала и начала перешагивать через тела на полу, напоминавшие забытый на перроне багаж. Добравшись до «солдатского» подвала, девочка легла рядом с Матиасом. Он спал на спине, прикрыв рукой лоб, но сразу почувствовал, что она дрожит от холода, и не оттолкнул, повернулся на бок, обнял. Дыхание Рене успокоилось. Она спала, изредка причмокивая губами, как котенок. Матиас подоткнул ей одеяло.
7
Несколько дней Матиас провел в типи Чичучимаш на грани жизни и смерти. Время от времени, выныривая из забытья, он видел, как входит и выходит какая-то женщина, другая обрабатывала его рану. Она так близко наклонялась к нему, что он чувствовал ее дыхание на пылающем от жара лбу. Иногда рядом сидела Чичучимаш и вышивала рубаху, напевая одну из раздражающе-протяжных мелодий. Когда они с Краком проходили мимо становища индейцев, пес начинал завывать по-волчьи – странная музыка погружала его в меланхолию. А вот собаки индейцев не воют. Матиас воспринимал это пение как нескончаемую жалобу. Возможно, так оно и было… Краснокожим есть за что корить Великого Маниту: они все еще живут как в доисторические времена. Матиас ничего не знал об этих людях и их верованиях. И не хотел знать. Его интересовали разве что некоторые охотничьи хитрости, о которых ходили разговоры между трапперами. Уж что-что, а охотиться аборигены умели, надо отдать им должное.
Лежа под медвежьей шкурой, без сил и почти без сознания, Матиас слушал убаюкивающий голос старой индианки. Эти длинные монотонные фразы с выделенным чередованием согласных тонкой нитью связывали его с жизнью. Крак, ни днем ни ночью не покидавший хозяина, сдерживался из последних собачьих сил, чтобы не подвывать голосу старой женщины. Пес отправился прогуляться, только почувствовав, что жизнь человека вне опасности. Придя в себя, Матиас первым делом спросил, где его собака. Индианка погладила живот и зловещим тоном сообщила, что его съели. Матиас поверил и уже готов был разорвать ее на куски, но тут в типи ворвался живой и невредимый Крак. Так Матиас познакомился с Чичучимаши и ее народом. Индейцы хоть и застряли в прошлом, чувство юмора у них точно имелось.
Матиас провел в племени кри целый год и впервые ощущал себя относительно безмятежным, хотя даже в самые светлые моменты жизни его психологический настрой вряд ли можно было назвать таковым. Вернее было бы сказать, что он наконец освободился от тягостных впечатлений последних лет, проведенных в Германии, до отъезда в Квебек, на родину матери. Унылый взвинченный коротышка, приводивший в неистовство целую нацию, повергал Матиаса в тоску. Он был разочарованным циником, и идеи нового пророка не изменили ни его характера, ни «антиобщественного» поведения. Выходки Матиаса вызывали гнев и неприятие отца и стоили ему нескольких часов за решеткой в полицейском участке на Александерплац[41].
До прихода нацистов к власти он жил в Берлине и предавался разгульным удовольствиям: бегал за юбками, пил, ввязывался в драки, играл, короче, был средоточием тех самых пороков, от которых партия Гитлера собиралась избавить несчастную Германию, чтобы она возродилась как феникс из пепла. В этом новом раю не было места молодым людям вроде Матиаса. Все вокруг повторяли ему это ad nauseam[42], так что он в конце концов поверил и сбежал на Крайний Север, разбив матери сердце.
Прошло время, и ему стало неуютно среди кри. Матиас никогда не ощущал своей принадлежности к чему-то или кому-то, разве что к субарктическому лесу, который оказал ему суровый, но честный прием и был невероятно красив. Он присоединился к маленькой группе трапперов, легко освоил ремесло, но остаться с ними не захотел и жил один, в компании своего пса, сдавал шкуры два раза в год и довольствовался совсем малым. Ледяной пейзаж, незыблемый с начала времен, умиротворял его своим равнодушием к человеку.
Матиас ошибался. Приютившие его индейцы прекрасно знали, что эта земля может быть очень гостеприимной, что она слышит людей, во всяком случае, тех, кто уважает ее и стремится к познанию. Матиас был таким, как все белые люди, он охотился, убивая без разбора, и не сочувствовал ни индейцам, ни лесным зверям. Его не занимала судьба растений, скал, рек и ветров. Любил он только свою собаку. Обитатели деревни не надеялись, что Матиас однажды изменит отношение к миру в целом и охоте в частности. Он был для них кем-то вроде Атуаша, одного из лесных чудовищ, пожирающих людей и разрушающих все вокруг. Не сдавалась только Чичучимаш, и ее усилия не остались тщетными. Единственный сын старой индианки утонул во время рыбалки, шаман предсказал, что однажды река вернет ей долг, поэтому она спасла глупого и злого белого человека и приняла в свое сердце, не зная, выживет ли он.
Матиас приобщился к языку кри, научился ставить капканы, воспринял ви́дение мира и систему верований индейцев, что позволило ему жить в относительной гармонии с себе подобными. Сам он не до конца это осознавал и посмеивался, когда Чичучимаш говорила: «Ты вылезаешь из шкуры Атуаша…» Монстр всегда жил в нем, и прогнать его не сумеют даже все индейцы мира. Матиас ушел от кри в свою трапперскую хижину, а в 1939-м вернулся в Германию и попал на пир к другому людоеду.
Рене лежала, уткнувшись в подмышку Матиаса, и тихонько бормотала во сне. Занимался рассвет, издалека доносились взрывы и стрельба. Малыш Жан ужасно раскашлялся. Во дворе часовой о чем-то разговаривал с двумя военными. Через несколько секунд они спустились в подвал. Люди просыпались, что-то недовольно бурчали. Рене подняла к Матиасу помятую мордашку: девочка была сильной и не по возрасту выносливой, но несколько лишних часов сна ей бы очень не помешали. Вновь прибывшие отдали честь Пайку и представились: один из них – двухметровый здоровяк, едва не задевавший макушкой потолок, – оказался капралом Робертом Тритсом из 28-й пехотной дивизии. Второго звали Джорджио Макбет. Лейтенант не задал им ни одного каверзного вопроса, чем очень опечалил Дэна.
– Ты все хорошо расслышал? – поинтересовался у него Пайк. – Уж наверное фрицы подобрали бы себе не такие дебильные фамилии…
– Если бы имели чувство юмора, – подал реплику Матиас.
Рассмеялись все – даже вышеупомянутые Тритс и Макбет. Эти бравые парни в последний момент вырвались из окружения и двигались вперед, пока не заметили ферму. Ходили слухи, что немцы пленных не берут.
Жюлю Паке не понравилось появление еще двух янки. Он стоял рядом с Матиасом и пытался понять, что происходит в «солдатском подвале». Сельский полицейский Юбер часто кивал и бурно жестикулировал.
– Они что, совсем близко?! – Матиас кивнул. – Если боши найдут здесь америкашек, убьют нас всех. Пусть убираются! Сейчас я им скажу…
Сознательно или нет, но Жюль исключил Матиаса из числа тех, кого хотел бы изгнать с фермы. Возможно, он питал некое смутное подозрение на его счет или чуял инаковость Матиаса, не понимая ее природы? Вполне вероятно. Матиас исподтишка наблюдал за Паке. Фермер был в ярости, он орал, а подхалим Юбер подвякивал проникновенным тоном, повторяя каждое слово.
Жюль хотел, чтобы «все немедленно убрались».
– Это мой подвал! – разорялся он.
Американцы занервничали. Матиас отвел Жюля в сторонку и объяснил, что лейтенант Пайк не из тех, кого можно вышвырнуть за дверь, поэтому нужно успокоиться, иначе солдаты надают пинков ему и устроят гражданским кислую жизнь. Пайк подошел и спросил недовольным тоном:
– Что говорит этот лягушатник?
– Он не чувствует себя в безопасности, предлагает организовать патрулирование и несколько засад.
– Ты уверен, что правильно перевел?
– Если хотите знать мое мнение, фермер прав…
Жюль сумел взять себя в руки, лейтенант кивнул и вернулся к Максу и Дэну. Матиас заметил, что Рене стоит рядом, она взяла его за руку и взглянула на фермера. В этой малышке есть нечто особенное, этакое не-пойми-что, оно успокаивает и пугает. Она похожа на Жинетту в молодости.
Та была «особого сорта», как говорили в их местах. Красивая девушка со странными глазами, дикарка, одиночка. Дочь цыганского племени. Отца Жинетты никто не знал, мать воспитывала ее одна и унесла свою тайну в могилу. Соседи говорили, что она крутила любовь с цыганом. Это объясняло, откуда у ее дочери дар целительницы и ясновидящей. Жинетта была немножечко колдуньей, но действовала только во благо ближним и ходила в церковь.
Все шло хорошо до того дня, когда ее позвали к чахоточному ребенку. Она согласилась ухаживать за ним за стол и кров, как все странствующие знахарки. К несчастью, маленький пациент на следующий день умер, и родители обвинили в этом Жинетту, хотя прекрасно знали, что мальчик обречен. По округе разошелся слух, что цыганка его сглазила, и она стала «неприкасаемой». Жинетта жила в хижине на опушке леса, ставила силки на мелкую дичь, разводила огород, у нее было несколько кур, иногда ей платили редкие пациенты.
Жюль Паке следил, чтобы она ни в чем не нуждалась, но Жинетта была слишком горда и брала деньги только за лечение домашней скотины. Когда началось наступление в Арденнах, он почти силой заставил ее переселиться на ферму. Упрямая старуха не была уверена, что сидение в подвалах, набитых американцами, продлит ее жизнь на несколько лет. Ей было бы куда спокойнее дома в компании двух престарелых куриц. Она перестала ворчать, когда появилась эта странная парочка: малышка и «канадский» солдат очень ее интриговали. Жинетта чувствовала необъяснимую симпатию к Рене, да и к ее защитнику тоже, но по совсем другой причине.
Жюль не без труда отвел взгляд от девочки – и тут же встретился глазами с Жинеттой: должно быть, она давно за ним наблюдала. Чертова ведьма! Они понимали друг друга без слов: если Жюль останется рядом с солдатами, дело может плохо кончиться. Когда он «выступил» в последний раз, случилась драка с двумя бошами, и ферму едва не сожгли… Жюль обнял Юбера за плечи и увлек за собой в соседний подвал. Рано или поздно янки отправятся домой. Надерут задницу немцам, освободят Европу и уплывут. Они, конечно, неотесанные мужланы, и у Жюля чешутся руки «подправить» челюсть Тарзану, но придется смириться.
Солдаты что-то горячо обсуждали, собравшись вокруг вновь прибывших. Тритс достал из кармана «Лондон таймс» за 20 декабря и начал читать вслух первую страницу:
– «Немецкое наступление в Арденнах…»
– В Арденнах? – переспросил молоденький солдатик, который должен был бы ходить в школу, а не воевать в забытой богом бельгийской дыре. Если ему повезет выжить, он эту страну и на карте не найдет!
Тритс продолжил читать:
– «У Сен-Вита сошлись в жестоких сражениях печально известная дивизия СС «Адольф Гитлер» и американский танковый корпус. Пленных солдат, в том числе раненых, эсэсовцы расстреляли из пулемета»[43].
Наступила тишина. Американцы старались не смотреть друг другу в глаза. Некоторые закурили. Матиас наблюдал за беднягами, внезапно поддавшимися страху. Сильному страху. Нацисты – непревзойденные мастера ужаса, им точно нет равных в истории, хоть Матиас и не силен в этой науке. Один Пайпер чего стоит! Он представлял, как в эти мрачные, тяжелые дни Иоахим заклинает судьбу, принося человеческие жертвы, воображая себя героем «Гибели богов»[44].
– Вы уже встречали засланных диверсантов? – спросил Макбет.
Нет, никто не встречал. Матиас почувствовал пьянящее ликование. Риск был его работой, всю войну адреналин, как горючее, помогал ему не останавливаться.
– А вы? – поинтересовался Пайк.
– Нет. – Тритс покачал головой. – Но я знаю, что трое попались по глупости. Один из них не знал, кто такой Джо Ди Маджо[45]. Их расстреляли.
Последовали злорадные комментарии. Поделом этим грязным крысам! Понадеялись на авось, недоноски! Fucking Fritz![46] Исчерпав запас ругательств и выпустив пар, все снова замолчали.
– Знаете, что они ответили на вопрос о последнем желании?
Матиас мог бы заработать очко – он знал. Тритс вскинул руку в нацистском приветствии и пролаял:
– Долгой жизни нашему фюреру Адольфу Гитлеру!
Никто не засмеялся, а Матиас мысленно усмехнулся, в подобной ситуации он и сам, возможно, не придумал бы ничего лучшего. Старый рефлекс. За неимением другого. Или чтобы посмеяться в последний раз.
Он вспомнил день, когда дал клятву верности СС, вступая в спецподразделение «Фриденталь». Скорцени много месяцев пытался «соблазнить» его, и Матиас сдался. Он обманывал себя – «я чище вас, потому что не ношу «сдвоенные молнии». Рене бросила на него короткий взгляд, призывая к порядку: он не услышал вопроса, который задал Пайк.
– Что думаешь, канадец?
– Немцы есть немцы…
– Но это противоречит законам ведения войны! – возмутился американец.
Знал бы ты, наивный лейтенант Пайк, как мы далеки от уважения этих самых законов! Порог приемлемого давно перейден. Погодите, вы еще Освенцим и Собибора[47] не видели…
Матиас объяснил, что о правилах поведения на войне думает в последнюю очередь, что нацистам важны только результаты, что для них все средства хороши. Пайк задумался. Матиас мог быть доволен – он в кои-то веки не солгал. Тритс вернулся к чтению «Таймс». Глаза у него округлились, челюсть отвисла.
– Черт, парни, Гленн Миллер[48] умер!
– Да ладно тебе, это не смешно! – бросил в ответ Макбет.
– Я не шучу. Его самолет упал где-то между Лондоном и Парижем.
Солдаты переглядывались, не в силах поверить в услышанное, некоторые крестились, а Дэн даже прослезился. Гленн Миллер был неплох, подумал Матиас. Импульсивный, непосредственный, честный. За океаном его почитали за бога свинга. Он порадовался, что концы отдали не Каунт Бэйси[49] или Билли Холидей[50]. Эти двое не полетят через Ла-Манш, чтобы поднять боевой дух войск.
Джейк, тот самый солдатик, что мало смыслил в географии, затянул «In the Mood»[51], остальные присоединились, прищелкивая пальцами:
– Эй, кто это здесь у нас такой богатенький красавчик?! Я бы тебя примерила, как туфли, а вдруг ты мне подойдешь! Я подойду к нему и спрошу: «Беби, а не станцевать ли нам свинг?!»
Напевал даже Матиас – и это нравилось ему гораздо больше, чем в последний раз, когда пришлось демонстрировать вокальные способности, исполняя «Песню партизан»[52]. Счастье, что он помнит слова «In the mood», здесь их знает каждый. Стоит запнуться, и никто не вспомнит, что он… канадец. Дэн надсаживался, улыбаясь Матиасу. Он скалился, но, как говорила Чичучимаш, «его глаза говорили совсем не то, что губы». В настроении, вот что он мне сказал. В настроении.
8
Жюль играл в карты с тремя солдатами. Фермер не умел говорить тихо, и жена зна́ком успокоила его. Сидони беседовала с Макбетом, тот показывал ей семейные фотографии, и она восхищенно вскрикивала: «Ах ты, моя прелесть!», «Ну что за красавец ваш котеночек!». Старуха Марсель раскачивалась вперед-назад и что-то бормотала себе под нос. Берта нежно положила руку ей на плечо.
– Все хорошо, Бабуля? – спросила она.
– Ничего хорошего, чего уж тут хорошего, когда живот пустой!
– Вечером поешь супа с ячменной лепешкой, – сурово промолвила Берта.
– Je n’a m’seau del sope à rin et del pain po les biesses![53] – раздраженно огрызнулась старуха. – Я так проголодалась, что j’magnruonoî ome!
Последняя фраза Марсель привлекла всеобщее внимание. Рене, игравшая с Луизой в ладушки под считалку о Гийоме, на мгновение замерла, а потом звонко рассмеялась. Луиза и Жюль последовали ее примеру. Фермер хохотал, бил себя по ляжкам, американцы были озадачены – как и Матиас. Он начинал понемногу понимать валлонский, но бабулька выпалила свою тираду на такой скорости, что ему не удалось ухватить смысл. Его поразила бурная радость Рене, эта сторона детской натуры проявилась впервые, подтвердив, как много в ней жизненной силы.
– Ну ты даешь, старушенция! – воскликнул Жюль и, не удержавшись, хлопнул сидевшего рядом солдата по колену.
Рене перевела Матиасу слова Марсель: «Я бы и старика съела». Образ был изысканно абсурдным и нелепым – совсем как здешние обитатели, подумал Матиас.
Нацисты никогда не станут властелинами мира из-за полного отсутствия чувства юмора и неспособности посмеяться над собой. Евреи, конечно, вместилище всех возможных и невозможных пороков, но, что бы там себе ни воображал фюрер, они чувствуют неоспоримое превосходство над германской расой и в самой гуще адских мук не расстаются с черным юмором. Матиас слышал, как они шутят и рассказывают анекдоты в гетто и лагерях Восточной Европы, шутят даже над газовыми камерами, и от этой иронии холодеет спина.
Матиас не питал особой любви к евреям, но и против них ничего не имел. Судьба этого народа его не волновала. Гитлер не успеет стереть их следы с лица земли, и через пятьдесят лет они все так же будут смешить мир. Усатый, правда, вполне преуспел в Германии, так что там мало кому удастся повеселиться.
Рене и Луиза вернулись к игре в ладушки под считалочку о Гийоме, который мог быть только прусским императором Вильгельмом:
А это злобный Гийом, Который убил уже трижды мильон! А вот и его жена, гадина Беатриса, Омерзительная королева тухлых сосисок. Она ест апельсины целиком И репу в соусе белом, По воскресеньям ходит в голубом, А по субботам – в сером!В другой песенке Гийом курил трубку, сидя верхом на свинье. Именно такой юмор не смогли бы оценить нацисты!
Под сводами подвала раздался хриплый голос Марсель: ей понадобилось «выйти». По смешкам окружающих Матиас догадался, что она хочет в туалет. Берта и Жюль помогли старушке подняться по лестнице, а Жанна присоединилась к Матиасу. Девушка выглядела усталой и раздраженной. Ладно скроенная, энергичная, она нуждалась в открытом пространстве, свежем воздухе и физической активности, жизнь «под землей» ее убивала. Жанна попыталась пригладить волосы, но не совладала с непокорными прядями, падавшими на лицо и шею.
– Трудно со стариками… – тихо промолвила она. – Ваши дед и бабушка живы?
– Бабка по материнской линии. Она живет в Квебеке.
– Вы с ней видитесь?
Матиас поежился – взгляд девушки выражал откровенное желание. Юбка задралась, обнажив соблазнительные круглые коленки и упругие бедра. От Жанны вкусно пахло сеном, свежим маслом, стойлом, по́том и сексом.
Нет, он больше не виделся с бабушкой. И с другими членами семьи не встречался – ни с отцом-придурком, ни с матерью, ни с сестрой Гердой, которая была замужем за офицером 3-й танковой дивизии СС «Мертвая голова», воспитывала троих детей и жила в доме рядом с одним из лагерей (с каким именно, Матиас не помнил).
– Чем вы занимаетесь в жизни? – продолжила расспросы Жанна.
– В жизни?
– Ну да, кем работаете?
Ему вдруг ужасно захотелось сказать правду. В жизни я убиваю людей, лгу, маскируюсь. В жизни я – немец. Он холодно посмотрел на собеседницу. Обычно под его взглядом все начинали нервничать, но не такова была эта девушка. Она улыбнулась, и в ее улыбке были вызов и приглашение, зубы влажно блестели. Она понимает, что делает? Куда это может их завести?
– В жизни я был… траппером.
Жанна сделала милую гримаску, показывая, что не понимает значения этого слова, и Матиас пустился в объяснения. Жизнь охотника-одиночки, лес, шкуры… Девушка слушала, затаив дыхание. Она подперла подбородок ладонью, ее колени по-детски раскачивались влево-вправо, лицо выражало восторг и подлинный интерес. Матиаса это очень смущало.
Брат Жанны Альбер подошел послушать и спросил, не переставая играть в бильбоке[54]:
– У тебя там есть индейцы?
– Есть.
– Злые?
– Нет. Хочешь знать правду?
На лице мальчика появилось недоверчивое выражение, но он все-таки кивнул и снова подкинул шарик, косясь на Матиаса.
– На самом деле главные злюки – ковбои.
Ковбои! Ну и сказанул! Этот канадец совсем глупый. И не похож на других, настоящих американцев. Что только сестра в нем нашла? Ну, высокий, ну, крепкий, но похож на… лунатика. Альбер слышал, как этот тип разговаривает во сне. Не по-французски и не по-американски. Он рассказал об этом отцу, а тот наградил его затрещиной, так что про ковбоев ему знать необязательно – все равно не поверит. Альбер решил придержать информацию. Может, сообщит позже одному из ковбоев. Тому, кого отец называет Тарзаном. Ему, кстати, канадец тоже не слишком нравится.
Луиза и Рене ушли в другой угол. Луиза уселась на колени к Марсель, и Рене на мгновение растерялась, но тут Жинетта сделала приглашающий жест:
– На моих старых коленях тоже очень удобно.
Рене прижалась к цыганке, та обняла ее и стала напевать.
Девочка напряженно размышляла, переваривая подслушанный разговор. Значит, ее солдат – лесной человек, он охотился и жил один, с собакой. Она так и думала, обидно только, что рассказал он не ей, а Жанне. Рене впервые в жизни почувствовала укол ревности, хотя по натуре не была собственницей. Дистанция между ней самой, миром и опасной жизнью, которую приходилось вести, не сопрягалась с желанием полной исключительности. Оно, это желание, часто сопровождается глубинным неверием в чувства окружающих и недостатком самоуважения, а Рене эти черты характера были совершенно несвойственны. Проявления ревности, которые она замечала в других, приводили ее в недоумение. Рене пользовалась тем хорошим, что готовы были дать ей люди. Она успела убедиться, что их щедрость зависит от обстоятельств и настроения. Все могло измениться в любой момент, сегодня она жила здесь, завтра там и успешно защищалась от произвола бытия и людского непостоянства. Она проживала каждый момент настоящего как последний. В этом способе существования не оставалось места такому бесплодному и паразитическому чувству, как ревность. А теперь оно проникло в ее душу, заставив страдать. Рене не сомневалась в чувствах Матиаса на свой счет, но не хотела ни с кем их делить, тем более с молодой женщиной, которая ему тоже нравилась, хоть и по-другому. А вдруг Жанна переманит ее немца?
Сынишка Франсуазы кашлял так сильно, что между приступами плакал, жалобно подвывая. Все обитатели подвала смотрели на мальчика. Сидевшая рядом с Франсуазой Берта что-то сказала ей на ухо и кивнула на Жинетту.
– Ни за что! – воскликнула Франсуаза. – Я на ведьминские штучки не соглашусь.
Берта сокрушенно улыбнулась Жинетте, которая, конечно же, все слышала. Жюль подошел к Франсуазе и спросил раздраженным тоном:
– Ты что, собралась уморить мальца?
– Я хочу, чтобы его осмотрел доктор!
– Не глупи, женщина, сама знаешь, овес нынче дорог! Тебе повезло, что Жинетта здесь, дай ей попробовать, хуже точно не будет!
– Голову янки она вылечила, – поддержал дядя Артур.
– Без всяких там лекарств, просто медом… – добавила Сидони.
Уговоры не подействовали. Франсуаза впала в остервенение и принялась рывками укачивать мальчика, он уже не плакал, а тихонько поскуливал, из груди рвались влажные хрипы – скопившаяся в бронхах слизь не давала ему ни вздохнуть, ни выдохнуть. Рене подняла голову: Жинетта смотрела на Франсуазу – нет, сквозь нее – и, казалось, видела нечто, недоступное остальным. Девочка теснее прижалась к старухе.
– Малыш Жан умрет? – спросила она.
– Не сегодня, – ответила целительница.
Заметив, что Матиас остался один, Рене подошла и молча села рядом. Она устала и все время клевала носом. Матиас обнял ее за плечи, притянул к себе, она пристроила голову у него на коленях и уснула. Он робко коснулся ладонью мягких, густых, блестящих волос девочки. От них исходил тонкий, нежный аромат. Матиас рассеянно играл шелковистыми локонами и вдруг отдернул руку, как будто обжегся, резко встал и пошел сменить часового. Тот обрадовался и не спросил «чего это ты такой добрый?». Матиас и сам не понял, почему так бурно отреагировал на прикосновение к волосам Рене. У него чудовищно разболелась голова, глаза лезли из орбит, жилы на висках готовы были взорваться. Из глубин памяти на поверхность сознания пробивалось воспоминание. Картинка. Одна из многих. Волосы. Волосы женщины, совсем молодой, возможно, ребенка. Копна черных, волнистых, блестящих волос, лежащая поверх других, тоже женских.
И тут он вспомнил, как вместе со Скорцени посещал Заксенхаузен[55]: время от времени они испытывали там оружие и боеприпасы. Лагерь находился всего в нескольких километрах от замка Фриденталь, что было очень удобно. В тот раз предстояло проверить модели глушителей. В специально оборудованную комнату заводили узника – вроде как для измерения роста, он становился спиной к планке и через дырку в стене получал пулю в затылок. Бах – и готово!
Скорцени предпочитал экспериментировать на живых мишенях, так было надежней. Первая серия оказалась неудачной: нарушив указания Меченого, кретины из лагерной охраны по привычке включили граммофон. Четыре человека простились с жизнью под бурные аккорды «Героической симфонии» Бетховена. Скорцени завопил: Уберите музыку, болваны! – охранники спохватились, и дело пошло лучше. В результате они пришли к выводу, что идеальный образец – английский пистолет калибра 7,65, единодушно признанный самым бесшумным.
Комендант пригласил их выпить по стаканчику – за победу немецкого духа! – они согласились и, проходя по территории, увидели, как грузовик вывалил посреди двора гигантскую кучу волос. В Заксенхаузен свозили «товары», конфискованные у депортированных в других лагерях рейха, но Матиас удивился, увидев эти волосы. На что они могут сгодиться? Порыв ветра сорвал с места охапку темных локонов, и они полетели по воздуху, как ловкая белка. Казалось, что в них еще трепещет, бьется жизнь. Несколько секунд Матиас не мог отвести от них взгляд. Пошел сильный дождь, и волосы превратились в клубок скользких водорослей. Он покинул лагерь и ни разу не вспоминал о них. До сегодняшнего вечера.
Волосы Рене могли оказаться в такой же куче. Не какие-нибудь волосы, не какой-то там девочки. Ее волосы среди других, принадлежавших другим Рене… Это плохо укладывалось в голове, но, когда укладывалось, истина становилась невыносимой. Матиас подозревал, что именно это и сводило с ума некоторых солдат, членов Einsatzgruppen[56], стрелявшихся после массовых казней женщин и детей. Или летчиков-истребителей, которые переставали спать, чтобы не видеть во сне окровавленные тела своих жертв, остававшихся лежать на земле после каждого смертоносного пике. Таких людей было немного, и каждого из них в какой-то момент потрясло виде́ние, не менее яркое, чем у Матиаса. Идеологические воззрения, расовая ненависть, умение подчиняться, вбитое в мозг ударами офицерских стеков и фельдфебельских сапог, безумная страсть к фюреру и вера в победу – все это мгновенно улетучивалось при виде маленькой безобидной детали. Она незаметно внедряется в темное пространство памяти, а потом вдруг взрывается, как бомба.
Матиас не был готов сойти с ума. Удар силен, но он справится. Ему не вдалбливали в голову слепую преданность национал-социализму, и все-таки он молчаливо принял абсурдные правила игры, чтобы стать солдатом. Скорцени говорил, что Матиас «одной ногой в деле, а другой где-то еще». Он был относительно свободен, на многое смотрел под другим углом, но мало с кем мог об этом поговорить, разве что с несколькими «бранденбуржцами». С 1939 по 1943 год Матиас служил в англо-франкофонной роте, но большинство элитных солдат были славянами или фольксдойче[57], внедряли их на Востоке, и им требовалось говорить на языке врага, знать его нравы и обычаи. Перед этими «героями» благоговели армейские офицеры, Гиммлер завидовал Скорцени, ревновал его к фюреру, но они оставались представителями «неполноценной» расы, хотя работали на рейх и боролись за расширение Lebensraum[58], что лично им не сулило ничего хорошего. Таков был один из парадоксов государственной идеологии, вернее, бессвязного, псевдонаучного, суеверного набора фраз, составляющего суть нацизма.
Матиас участвовал в нескольких миссиях на Востоке. Языков и культурных традиций местного населения он не знал, но его физические и интеллектуальные способности могли пригодиться. Однажды вечером, во время операции Rösselsprung[59], югослав из Фриденталя сказал Матиасу:
– Ты только подумай, что мы, славяне, делаем: отвоевываем для немцев жизненное пространство, а Гитлер только о том и мечтает, чтобы уничтожить нас, как всех неарийцев… Чем же мы лучше евреев, которые копают себе могилы перед расстрелом? На такое способны только полные придурки, согласен?
– Нет, – ответил Матиас. – Только прожженные циники.
Он считал безумную тягу к убийству одним из первозданных и самых стойких позывов человеческой натуры. Разделив Югославию, немцы создали Независимое государство Хорватия, которым управлял жестокий безумец[60], способный дать сто очков вперед «усачу в коричневой рубашке». Здесь массово уничтожали не только евреев и цыган, новыми жертвами стали сербы. Способ действий отличался от тевтонского – о чистоте и скрытности заботились меньше, чем об экономии: тысячам жертв просто перерезали горло ножом. Матиас не понимал подобной непрактичности, пока не увидел оружие палачей: изогнутое лезвие, прикрепленное к кожаной перчатке[61]. Очень изобретательно и помогает избежать тендинита[62]. После казни трупы сотнями сбрасывали в реку и рвы, и они плыли по течению или разлагались на открытом воздухе. Немцы сочли, что это дурной тон, кроме того, был риск заразить воду, и решили проблему, построив концлагеря и доверив управление «аборигенам».
Теперь югославы радостно убивали друг друга, делая за немцев грязную работу. Со временем часть балканского отродья будет «ликвидирована» либо станет работать на экономику рейха. Следом за славянами наступит черед средиземноморцев и чернокожих.
Интересно, сколько продлится гонка за чистотой крови и чем она закончится? Когда останутся только так называемые чистые арийцы, у них тоже начнут выискивать блох: слишком длинный нос, слишком короткие ноги, варикозные вены, акнэ, волосатая задница…
Дождливым вечером 1931 года приятель уговорил Матиаса пойти на заседание Берлинского теософского общества и послушать лекцию монаха-расстриги по фамилии Либенфельс. Перед этим они прилично выпили, но, оказавшись в зале, Матиас стремительно протрезвел. Стоявший на сцене коротышка на полном серьезе вещал о происхождении арийской расы от божественных сущностей, порождаемых электричеством. Все шло отлично и очень чисто… электрично, пока некоторых несравненных арийцев не соблазнили… обезьяны. «Обезьяны-содомиты! – Оратор повысил голос и назидательным жестом воздел указательный палец. – Они возникли из ниоткуда – просто появились, чтобы искусить сверхлюдей!» – «Не слишком правдоподобно, – прошептал Матиас. – Ницше бы понравилось». Сосед, с упоением внимавший каждому слову докладчика, наградил его недовольным взглядом. Оратор между тем не унимался: «От совокуплений сверхлюдей с мартышками-содомитами на свет появились более или менее чистые человеческие расы, утратившие первородную власть. Евреи, само собой разумеется, стояли во главе племен-перерожденцев». Матиас поднял руку и напомнил, что продолжение рода через содомию невозможно. Ему велели заткнуться, парень продолжил нести чушь, а Матиас крепко заснул.
После уничтожения «недорас», думал сегодня Матиас, достаточно будет вернуться к подобным мистико-расистским бредням, чтобы посмотреть новыми глазами на чистопородных арийцев и провести последнюю селекцию. Для этого придется выяснить, чьи прапрапрародители были мартышками-содомитами. И однажды не останется никого. Людоед сожрет себя. Такова суть национал-социалистического идеала: никакого человечества вообще! Настоящая философия, поразительно простая и мудрая.
Матиас стоял на посту в нескольких метрах от ворот фермы Паке и курил пятую по счету сигарету. Он замерз, начал ходить туда-сюда, чтобы согреться, и тут заметил на дороге трех человек. Нет, четырех. Двое взрослых и двое детей. Не солдаты. Он дал им подойти. Невысокий паренек подпрыгивал и махал рукой, малыши цеплялись за ладони усталого мужчины. Матиас проводил их в подвал.
– Gn’acodesdjins?[63] – ни к кому не обращаясь спросила Марсель.
– Да, Бабуля, – ответила Берта. – Это учитель Вернер с Филибером, а еще Шарль Ланден, сын бакалейщика, и Мишлин Бирон.
Всех напоили горячим «кофе» и укрыли одеялами. Вернер рассказал, как немцы выгнали их из деревни и много часов под дулами автоматов вели мужчин и женщин, стариков и детей по полям, а потом – по непонятной причине – просто взяли и ушли. Вернер и дети продолжили двигаться вперед без всякой цели. Восьмилетняя Мишлин часто прерывала рассказ учителя рыданиями. Она согрелась и поела, женщины прижимали ее к груди, гладили по голове, но утешить не могли.
– Она потеряла всю семью во время бомбардировки… – объяснил Вернер.
– Нельзя говорить такое при малышке! – возмутилась Сидони.
– Мишлин все знает… – Учитель покачал головой. – Она была у соседей, это ее спасло. Слава богу, что мы встретили Филибера. Он ведет нас от Ла Глеза.
Все начали хвалить Филибера, а он сидел красный – то ли от холода, то ли от смущения. Этому невысокому, худому, подвижному парню было на вид лет двадцать. На ферме Филибера очень любили, дети окружили его и что-то щебетали, как веселые воробышки.
– Ты и впрямь король лесов, парень! – гаркнул Жюль и обнял его за плечи.
Раздались крики «браво» и аплодисменты, сияющий Филибер тоже хлопал.
– Они шли вдоль реки, все время прямо, – объяснил он. – Могли до Льежа дойти, но я их развернул!
Жюль отвел Филибера в сторонку.
– Ты давно не заглядывал…
– Ну да… Было одно дело, – с важным видом ответил тот.
– А где твой арбалет? Потерял?
Филибер сделал невинное лицо, как будто не понял, о чем речь.
– Подстрелишь косулю, приноси – о цене договоримся, – шепнул Жюль ему на ухо.
Филибер кивнул, повертел головой, начал переминаться с ноги на ногу, ломая пальцы, потом посмотрел фермеру в глаза и наконец решился:
– Скажи, Жюль…
– В чем дело?
– Твоя хижина… я провел там несколько дней.
– Ну и хорошо, малыш, провел и провел, – отеческим тоном ответил Паке.
Матиас не упустил ни единого слова из их разговора.
Речь могла идти о хижине, где укрывались они с Рене. Вряд ли в округе много подобных домиков. Может, Филибер видел их там…
Жюль заметил Матиаса:
– Представляю тебе Мэта, Бебер. Он ковбой, но из Канады. А еще он одиночка.
– Привет, Мэт-ковбой-одиночка-из-Канады.
Филибер произнес эту фразу скороговоркой и очень громко. Матиас был обескуражен. Жюль послал ему многозначительный взгляд. Появилась Берта с термосом и увела парня.
– Филибер сирота, – объяснил Жюль. – У него в голове малость не хватает шариков.
Матиас хмыкнул. Выражение незнакомое, но забавное. Значит, парень – простак. И очень смелый, добавил Жюль, что Матиас перевел для себя как «храбрый». Да, и это тоже, но местные вкладывают в это слово иной смысл: «милый», «услужливый». Матиас слушал Жюля и наблюдал за Филибером. Тот разговаривал с Бертой, часто кивал и то и дело улыбался. Похоже, мальчишка знает местность как свои пять пальцев, бродит по окрестностям, оставаясь незамеченным, у него есть охотничий арбалет на крупную дичь, и он «услужливый». Незаменимый союзник на случай поспешного бегства. Матиас принял решение. Они пойдут на север, через лес. До Намюра или выше – все будет зависеть от продвижения немцев. Там он составит другой план, если его маленьким тевтонским друзьям случайно удастся достичь цели и перейти Маас.
Голос Мишлин вывел его из задумчивости:
– А когда маленький Иисус заберет меня?
Разговоры мгновенно стихли.
– Бедняжка повторяет это со вчерашнего дня, – пояснил Вернер. – Ей сказали: «Твои сестры теперь с маленьким Иисусом…» – и она хочет к ним присоединиться.
Учитель наклонился и поцеловал девочку, что вызвало новый поток слез. Рене потрясло столь бурное проявление чувств, и она протянула бедняжке руку, потому что, как никто другой, понимала, что значит остаться одной, без семьи и поддержки. Ей было жаль Мишлин, но истерика девочки выглядела неуместной, неправильной. В опасной ситуации нужно держаться как можно незаметней, только это и гарантирует выживание. Рыдающие дети и слишком нервные взрослые привлекают внимание. Зачем она все время повторяет «маленький Иисус»? По мнению Рене, «маленьким» Иисус бывает только в Рождество, а в остальное время он очень даже большой, иначе вряд ли мог бы сделать что-нибудь важное, тем более убить человека. Ведь Мишлин именно об этом и просит! Она хочет, чтобы «маленький Иисус» послал ей смерть – ради воссоединения с семьей. Бессмыслица какая-то.
– Не плачь, – сказала она Мишлин. – Не поможет. Они умерли.
Рене почувствовала на себе суровые взгляды, даже Жюль смотрел неласково. Франсуаза что-то шептала на ухо Сидони, голоса звучали осуждающе. И только Мишлин никак не отреагировала, она пребывала в прострации, в «отсутствии», и как будто ничего не чувствовала. Рене не впервые поняли неправильно и осудили за откровенность, поэтому она не переживала. А Матиасу было не по себе. Вот ведь бесенок! Крепкий орешек, куда крепче, чем он полагал. Матиас почти гордился девочкой. Ну и постные же рожи у окружающих. Они смотрят на него с осуждением, а он, между прочим, не отец Рене. Она была такой до их знакомства.
– Девочка права, – веско произнес Филибер и спросил: – Ты кто?
– Рене, а ты?
– Я Филибер, но можешь звать меня Бебер.
– Хочешь поиграть?
Рене снова ожила! Она переключилась и на лету хватает то, что здесь и сейчас дает ей жизнь. Гражданским было страшно, они чувствовали недоверие, враждебность. А она словно бы находилась в другом месте, с простаком, который все понял и тоже на все плевал. Они решили «играть в игру». Рене – самая сильная девочка на свете, она сильнее всех этих славных бельгийцев, вместе взятых, сильнее Матиаса, сильнее эсэсовских орд, терроризирующих мир. Сильнее смерти.
9
Матиас отправился на кухню, чтобы наточить забравший множество жизней нож, подарок индейцев кри. Оружие должно быть готово снова убивать, ведь он решил уйти и увести Рене туда, где будет безопасно. В дверях возник Дэн, американец наблюдал, полагая, что остался незамеченным.
– Входи, Рейнольдс, – не оборачиваясь, позвал Матиас.
Американец отпрянул, раздосадованный, что его обнаружили, но сразу взял себя в руки и подошел. На столе перед Матиасом стояла миска с водой, лежали помазок и бритва. Нет, вы только посмотрите! Немцы совсем близко, он прячется в подвале и не придумал ничего лучше бритья! Дэн попробовал разобрать слово, выгравированное на костяной рукоятке, но не преуспел. Буквы были не английские. Странные какие-то, гласных мало, согласные идут друг за другом. Невыговариваемый язык. Язык дикаря. Сын фермера пытался ему что-то сказать аккурат перед приходом четверых гражданских, вроде бы насчет канадца, и выглядел как заговорщик. Французский язык – чертова тарабарщина! Дэн был из тех, кого оскорбляло, что не весь мир говорит по-английски.
– Собираешься в дорогу? – спросил он фальшиво небрежным тоном. Матиас не ответил, намылил щеки и подбородок, глядя в маленькое треснувшее зеркало, взял нож и начал бриться.
– Таким и медведя можно убить!
Ответа не последовало – Матиас внимательно разглядывал свое изменившееся лицо: без многодневной щетины оно стало жестче, заострилось, светлые глаза отражали свет бесстрастно, как сталь лезвия. Стоявший у него за спиной Дэн инстинктивно отступил на шаг – от греха подальше! Да, у этого парня точно есть секрет, и он отсюда не уйдет, пока не расколется.
– Между прочим, Тритс рассказал кое-что интересное. Оказывается, эсэсовские свиньи делают себе татуировки…
Дэн сразу заподозрил, что Матиас не тот, за кого себя выдает: ревность подогревала неприязнь, а инстинкт подсказывал, что «канадец» запросто может оказаться одним из засланных диверсантов. Одно непонятно – при чем тут девчонка? Путаница только подогревала сомнения Дэна. От мыслей у него даже голова гудела.
– А ты не знал? – Матиас наконец соизволил открыть рот. – Накалывают группу крови под левой рукой.
Конечно, он был в курсе всех деталей. Его естественный тон заставил Дэна усомниться в своей теории. Парень похож на флюгер, но так ломать комедию? Нет, исключено! Откуда Дэну было знать, насколько Матиас изощрен в искусстве обмана. Это помогало ему выпутываться из куда более опасных ситуаций.
Дэн слегка расслабился, облокотился на стеллаж и без всякой задней мысли произнес, глядя в затылок Матиасу:
– Стоило бы распространить эту информацию, тогда не придется выяснять у каждого встречного-поперечного, на ком женат Микки-Маус!
– Ну, стриптиз на блокпостах при десяти градусах мороза тоже вряд ли поможет выиграть время.
«А ведь канадец прав. И шутки у него точно не как у фрицев», – подумал Дэн, не слишком сведущий в юморе германцев. Он вообще знал о немцах немного: они жестоки, носят каски другой формы и не говорят, а лают.
Матиас взял кухонное полотенце, вытер лицо, смочил волосы и зачесал их назад, потом надел куртку, взял нож и сунул его в чехол у пояса. Двигался он плавно и ритмично – не по-немецки, а как индеец-ирокез, что не делало его милее сердцу Дэна.
Рене в подвале не было. Она сказала, что пойдет играть во дворе с Филибером, и никто из взрослых не подумал возразить. Девочка вышла наружу, несмотря на запрет, и Матиас разозлился. Она впервые ослушалась его и была точно не во дворе, иначе он услышал бы голоса, когда брился на кухне. Матиас обошел ферму, заглянул в стойла, пекарню, амбар, но детей нигде не оказалось. Он вернулся в хлев, пробрался вглубь, заметил маленькую дверцу, нажал плечом и услышал ржание. Рене и Филибер стояли рядом с тягловой лошадью и радостно улыбались. Матиас почувствовал облегчение, но рявкнул на девочку:
– Тебе было сказано «не высовывай носа»!
Он перевел взгляд на Филибера – тот совсем не испугался и продолжал улыбаться так открыто и мирно, что Матиас остыл.
– Знаю, – ответила Рене, – но ты только посмотри!
Она махнула ладошкой, и Матиас наконец взглянул на коня: тот был огромен, красив и полон чувства собственного достоинства.
– Это Соломон, – пояснил Филибер. – Жюль его прячет. Как сокровище. Потому что он и есть сокровище. Верно, Дядюшка? Соломон грустит, потому что его друг умер.
– Та лошадь, во дворе, – уточнила Рене.
Филибер кивнул и погладил коня по голове. Рене хотела повторить его жест, но не достала, и тогда Матиас подхватил ее на руки. Девочка коснулась пальцами бархатной кожи у дымящихся ноздрей, поцеловала Соломона и что-то ласково прошептала ему на ухо. Ею овладел экстатический восторг, на ресницах дрожали слезы. Мужчины молча наблюдали за ней.
– Он объезжен? – спросил Матиас.
– Жюль часто его седлает, и Жанна тоже. А мне боязно.
– А мне нет! – похвасталась Рене.
Матиас взглянул на Филибера:
– Давай, все будет хорошо, он смирный.
Матиас усадил девочку на спину громадного жеребца, и она, млея от счастья, наклонилась к его холке. Возможно, им повезло – верхом на Соломоне они быстро окажутся на Севере. Если Жюль согласится отдать коня, помощь Филибера не понадобится. Идея воодушевила Матиаса. Он был прекрасным наездником – все люди Скорцени умели ездить верхом, прыгали с парашютом и пилотировали самолет. Он кивком дал понять, что пора возвращаться в подвал, и девочка нехотя подчинилась.
Дело было за малым – уговорить фермера расстаться с «сокровищем». Трудная задачка.
Матиас застал супругов Паке за напряженной беседой, но все-таки подошел и попросил Жюля уделить ему несколько минут. Не слишком довольная Берта оставила мужчин одних. Выслушав план Матиаса, он несколько секунд молча смотрел на него.
– Сын наболтал мне кое-что странное на ваш счет…
– Неужели? И чем он вас так удивил?
– Вы вроде как бормотали во сне… по-немецки.
– Я знаю много языков, но на этом не говорю, – мгновенно и очень спокойно отреагировал Матиас.
Ответный взгляд Жюля был непроницаем.
– Мальчишка совсем ошалел от разговоров о войне, шпионах и диверсантах, вот и придумывает невесть что, – наконец сказал он и придвинулся ближе к Матиасу. – А насчет коня – считайте, что договорились. Так и правда будет быстрее.
– Спасибо.
Жюль кивнул и встал, показывая, что разговор окончен, но спохватился и продолжил, перейдя на шепот:
– Вот еще что…
– Да?
– Соломон вообще-то не откликается на это имя. Все зовут его Дядюшкой.
– Учту. Можете за него не беспокоиться.
Матиас вернулся в подвал, где Пайк и Макс пытались оживить рацию. Некоторые солдаты считали, что с фермы пора уходить, но лейтенант не соглашался. Сначала нужно связаться с союзниками и прояснить ситуацию. У Макса и радиста Дуайера – явно не семи пядей во лбу! – получалось плохо. Немец легко мог все починить, это тоже умел каждый диверсант, но не был уверен, стоит ли помогать американцам. Если рация заработает, янки снимутся с места, а ему придется оставить Рене на ферме и идти с ними. Кроме того, здесь могут появиться другие солдаты, а это дополнительный риск быть раскрытым. Матиас не стал предлагать свои услуги Пайку, сочувственно пожал плечами и ушел к гражданским, оставив американцев колдовать над сломанным аппаратом. В подвале он столкнулся с раскрасневшейся, растрепанной Жанной. Молодая женщина взяла его под руку, обдав волной терпкого аромата.
– Поможете мне с молоком? В хлеву ждут три бидона.
Она доила коров, вот почему от нее так пахло. Теплое молоко и женский пот. Жанна убрала с лица волосы, вытерла нос тыльной стороной ладони, и Матиас заметил влажное пятно под мышкой. Погода стояла морозная, а она вспотела, как в июле, хотя была в тонком шерстяном платье. Матиас пошел за ней, как бычок на веревочке, не обращая внимания на окружающих.
Рене перехватила злобный взгляд Дэна. Ее солдату не стоило бы ходить с Жанной, но как этому помешать? Интересно, что он будет с ней делать? Целовать в губы, как пить дать. Девочка видела фотографию в журнале, когда жила в доме Марселя. Его мать любила читать книги с фотографиями киноактеров и красивых актрис. На некоторых снимках они стояли обнявшись и смотрели друг на друга так, словно прощались навек. А на одной фотографии мужчина целовал женщину с закрытыми глазами. Оба очень красивые, с блестящими волосами, роскошно одетые, у актрисы большой, изящно очерченный рот, белая кожа и длинные темные ресницы. Рене не могла не признать, что Жанна очень хороша, даже без грима и роскошного платья. И рот у нее правильно очерчен, потому Матиас и хочет прижаться к нему губами. Они не могут принадлежать Рене. Пока. Когда она вырастет, выйдет за него замуж. Они будут как кинозвезды, и их идеальные губы сольются в идеальном поцелуе.
Луиза предложила Рене поиграть в доктора. Роли распределились как обычно: Рене – врач, Луиза – медсестра. Больной назначили Мишлин – надо же использовать ее прострацию и слабость. На всякий случай девочки поинтересовались мнением «пациентки», но она не ответила, и Рене приступила к «осмотру» – для начала выслушала Мишлин консервной банкой, изображавшей стетоскоп.
– Дышите очень глубоко, мадам! – строго велела она.
Мишлин даже не моргнула – смотрела в пустоту и не сопротивлялась. Вернер подошел к детям. Рене завораживала его уверенностью в себе и умением общаться. В том, как она существовала рядом с вялой, раздавленной обстоятельствами Мишлин, было нечто пугающее. А ведь за свою короткую жизнь Рене пережила множество ужасных событий.
– Простите, доктор, – сказал он, – не уделите мне минутку? Я не очень хорошо себя чувствую.
Секунду девочка смотрела на Вернера свысока, как будто прикидывала, стоит ли он ее внимания, потом вдруг улыбнулась. Почему бы не поиграть с этим дядькой, кажется, он умеет притворяться.
– Сестра, займитесь мадам. У меня следующий пациент.
Она села рядом с учителем, велела ему открыть рот и сказать «а-а-а…». Он послушался, маленькая докторша внимательно осмотрела его горло и вынесла вердикт:
– Очень красное!
Рене начала с профессиональной серьезностью выстукивать грудь «больного».
– Ты раньше жила в Стумоне?
– Да, у Марселя и Анри, Жака и Мари.
– А до Стумона?
Рене смотрела сквозь собеседника. Он хочет играть или нет? Если решил полюбопытничать, не стоило притворяться больным гриппом. Очень жалко, этот учитель – хороший артист. О чем он спросил? Ах да, что было до Стумона…
– Я жила в большом замке сестры Марты, там было много детей.
Учитель обратился в слух, он жаждал услышать рассказ о тех ужасных, невообразимых вещах, что случились с Рене. Евреям все время приходилось прятаться и спасаться бегством. Это напоминало игру, но происходило взаправду. Рене «играла» со всем умом и живостью характера, которыми наделила ее природа. И пока что выигрывала. Вернер хотел понять как. Рене положила «стетоскоп» на пол и посмотрела ему в глаза:
– Там было опасно, потому что немцы могли появиться в любой момент. И они пришли. Ночью. Я не спала – захотела писать и пошла в туалет на лестничной клетке. Я слышала, как они поднимаются по лестнице в дортуар. Они кричали, сестры кричали, потом все стали кричать. Я на цыпочках спустилась вниз, в подвал…
Рене замолчала, переводя дух. Мужчина смотрел на нее, раскрыв от изумления рот и вытаращив глаза. Он наслаждался рассказом девочки, как девятилетний ребенок, которому читают сказку о Синей Бороде. Вернер воображал, как босые ножки Рене скользят на стершихся ступенях. На малышке белая ночнушка, через распахнутую дверь с улицы проникает мощный свет автомобильных фар. Она бежит по длинному коридору, пол выложен черно-белой плиткой, открывает дверь, ведущую прямо в темный колодец. Со второго этажа доносятся вопли, детский плач и мольбы сестер, но она сохраняет хладнокровие.
– А они… Они все-таки пришли в подвал, – тихо произнесла Рене.
Конечно, пришли! Вернер не сомневался, что тем и кончилось, и не решался представить, как все происходило в реальности. Они всегда приходят. Синяя Борода обязательно попросит у непослушной жены маленький золотой ключик. Злой волк непременно нанесет визит бабушке. Итак, немцы спускаются. Светят фонарями. Тишину в замке нарушают только жалобные голоса детей.
– Но меня не нашли, – с гордостью в голосе продолжила Рене. – Знаешь, где я спряталась?
Вернер изумленно покачал головой.
– В угольной куче!
Рене наслаждалась произведенным эффектом. Ее историю слушал не только Вернер, но и Жюль, Сидони, Юбер… Она вспомнила, какой черной была, когда выбралась! Отмываться пришлось в трех водах. Внезапно ей стало не смешно, горло перехватила судорога. Той ночью немцы забрали троих детей: малыша Люсьена – ему было два года, Мартена и ее подругу Катрин. Рене не хотелось об этом говорить. Слушатели ждали, но история окончена. Она хорошо старалась и выиграла игру. Больше рассказывать нечего. Катрин редко вставала по ночам. Ей не приходилось бегать по ледяному коридору в туалет, как Рене.
Катрин всегда спала как убитая. Она была гораздо спокойнее Рене. Верила, что снова увидит родителей. Рене не разубеждала ее. Катрин была веселая и милая, много всего знала, умела играть на пианино, помнила названия драгоценных камней и тексты песенок. Катрин проиграла, и это было несправедливо.
Луиза ждала, что они вернутся к игре, но Рене не то что играть – слова произнести не могла. Она впервые озвучила свои воспоминания. Воспроизвела их со всей силой, ясностью и юмором, на какие была способна. Попыталась отстраниться, но не сумела, и это ее травмировало. Нужно было хранить под спудом ужасное воспоминание о событиях, которые могли положить конец ее короткой жизни. Она так и делала целых два года, но не забыла, как сидела, задыхаясь от пыли, не смея дышать, луч фонаря шарил по куче, а потом стал удаляться и в тысячный раз мелькнул на уровне глаз. Во сне солдат всегда ее находил, вернее, она сама вылезала и спрашивала себя: «Может, я поторопилась, может, он меня не заметил?» Рене каждый вечер молилась, чтобы больше не видеть этот сон, и теперь, поделившись воспоминанием с другими людьми, поняла: кошмару пришел конец.
10
Бидоны стояли на земле. Матиас не удержался от искушения и отхлебнул теплого парного молока, потом вытер рот рукой, оставив на верхней губе белые усики. Жанна бросила на него вызывающий взгляд и шагнула вперед, оказавшись на расстоянии поцелуя, и Матиас почувствовал, как напряглись соски девушки. Она коснулась губами влажно-жарких мужских губ, но Матиас оттолкнул ее. Девчонка неуправляема, связываться с ней слишком опасно. Уже два дня он ежесекундно рискует своей шкурой, не стоит усугублять… Матиас всегда умел использовать женщин, которые неизменно поддавались его мужскому обаянию. Любовницы (как, впрочем, и «претендентки») очень помогали ему при внедрении, но здесь, в этом замкнутом пространстве, девушка могла только помешать. Им с Рене нужно уходить, и как можно скорее.
Жанна раскраснелась от досады, в глазах стояли непролившиеся слезы. Одна из коров шумно переступила ногами, другая подала голос, как будто хотела подбодрить хозяйку: «Не отступайся, действуй!» И Жанна послушалась. Взяла лицо Матиаса в ладони, притянула к себе и поцеловала. Он сдался. Ладно, от него не убудет, ничего страшного не случится! Девушка была невозможно хороша, а запах ее кожи вызывал ностальгические чувства, напоминая о первой и единственной его любви. Клара. Белокурая, бледная, высокая, болезненно хрупкая. Она вышла замуж за промышленника из Рура, ревностного нациста, и была до чертиков несчастна. В 1942-м они увиделись в Берлине. Она была пьяна и плакала у него на груди, жалуясь на судьбу богатой праздной женушки. Клара горевала об утраченной молодости и любви, сетовала на жуликоватых слуг, невозможность найти хорошего скорняка после «исчезновения» евреев, на свое бесплодие, низводившее ее до уровня парии в глазах приятельниц-нацисток. Муж выражал свое разочарование, время от времени поколачивая Клару. Матиасу бывшая любовница показалась такой неприятной, что он тоже дал ей затрещину, пожалев о встрече, испортившей воспоминание о том, как они двадцать лет назад занимались любовью в заброшенной часовне на берегу озера Юнгфернзее[64].
Жанна смотрела Матиасу в глаза – и не видела его. Ее взгляд был обращен в себя в ожидании вершины наслаждения. Девушка отдавалась ему беззастенчиво, безудержно. Она была счастлива, и это – вот ведь странность! – делало счастливым Матиаса. Взросление Жанны пришлось на годы войны и сопровождалось страхом, лишениями, неуверенностью в завтрашнем дне. Ее тело в объятиях Матиаса выражало бунт и пугающую жажду жизни. Он вдруг замер – ему послышался какой-то шум – и зажал Жанне рот ладонью. Берта окликнула дочь, погладила корову, произнесла несколько ласковых слов. Девушка прыснула со смеху, Матиас поцеловал ее, еще крепче прижал к себе, и, когда фермерша ушла, оба наконец разрядились.
Пора было возвращаться в подвал. Они взяли бидоны и пошли через двор к дому. Внезапно из ближайшего леска, со стороны ручья, где Матиас и Рене бросили джип, послышалась стрельба. Снаряд упал совсем рядом с фермой, до смерти напугав Жанну, и она пролила половину молока.
Люди в подвале были парализованы ужасом, так что разгоряченный вид Жанны все отнесли на счет испуга. Жюль ворчал – он хотел, чтобы американцы немедленно убрались, но Пайк не соглашался. Рация так и не заработала, ходить оба раненых пока не могли, да и оружия было маловато.
Жанна разлила молоко по кружкам, что слегка подняло людям настроение. Сделав первый глоток, Сидони почему-то вспомнила, как в детстве сидела на коленях у бабушки, пила теплый гоголь-моголь и смотрела на елку. «Боже, да ведь сегодня двадцать четвертое декабря!» – подумала она и предложила:
– Может, оставим лакомство на вечер, отпразднуем сочельник?
Все замерли, ошеломленные напоминанием о Рождестве. В такой момент это выглядело почти абсурдно: повсюду идет война, люди умирают – замерзают в снегу или дрожат от страха, голода и холода в подвалах, дома разрушены, во дворах и на дорогах валяются коровы и лошади с выпущенными кишками, леса горят. Старая Марсель спросила, громко всхлипывая:
– А где же… елка, и «хлеб Иисуса»[65], и полуночная месса, и… песнопения?! Ну разве это не ужасно?!
– Ничего, Марсель, – ответила Жинетта. – Мы ни за что не пропустим Рождество, ведь это праздник Младенца Иисуса! I n’fât nin l’roûvi, ou bin c’est lu qui nos roûvirè.
Выслушав торжественное предупреждение, все перекрестились. Берта перевела: «Не стоит Его забывать, иначе Он забудет о нас». Матиас невольно улыбнулся. Все уже пропало, Бог давно покинул человечество – давно и безвозвратно. Гражданские решили отпраздновать рождение Христа как можно достойнее – несмотря на отсутствие елки, загадочного хлеба и полуночной мессы. Идеальный момент, чтобы уйти по-английски: напряжение, копившееся все предыдущие дни, спадет – и не только на ферме Паке, а повсюду в округе. Рождество – оно для всех Рождество, даже для немцев. Им пока не удалось заменить поклонение божественному семитскому младенцу культом Тора будущих времен.
Планам Матиаса помешала Луиза: девочка захотела настоящие – живые! – ясли. Рене мгновенно загорелась, подошла и посмотрела с мольбой во взгляде. Она чувствовала, что Матиас что-то задумал и идея праздника ему не по душе. Она смотрела и молчала, и он спросил как дурак:
– Хочешь участвовать?
– Очень! А ты нет?
– Пожалуй, воздержусь…
Девочка вздохнула. Она была разочарована, и Матиас расстроился. Да что с ним такое?! Совсем размягчился после встречи с Рене… Она тоже изменилась. Три дня назад, в хижине, девочка напоминала дикого зверька, а потом бросила его одного в джипе и пошла пешком. На ферме малышка оттаяла, что совершенно естественно. Матиас понимал, что не должен тащить Рене за собой в опасное, да что там – фатальное путешествие.
– Не волнуйся… – Она прочла его мысли. – Мы уйдем. Так даже лучше.
– Ну ладно, проведем эту ночь здесь.
«Отпразднуем Рождество в тепле, Рене поучаствует в вертепе, а утром мы исчезнем», – решил Матиас. Будет здорово оказаться вдвоем на природе. Она и он, одни в целом мире. Охота, ночевки в случайных убежищах. Он научит ее строить шалаш и ездить верхом, будет смотреть, как она ест жаренное на костре мясо, как сосредоточенно следит за каждым его движением. Может, малышка расскажет ему еще одну волшебную историю, глядя на огонь бархатными лилово-черными глазами.
Подошла Жанна и села рядом с ними. Лучше бы она этого не делала… Девушка молча смотрела на солдата, на малышку и чувствовала себя третьей лишней. У них были какие-то особые, необычные отношения. Так-то оно так, но сегодня днем, в хлеву, мужчина принадлежал только ей, Жанне, и никому другому! Улыбка девочки – милая, сочувственная – словно бы говорила: «Я знаю, что ты влюблена, но он мой, и тут уж ничего не поделаешь». Жанна резко поднялась и сказала:
– Пора заняться костюмами, иначе никакого представления не будет.
Луиза, Бланш, Альбер и Шарль Ланден ждали у лестницы вместе с Мишлин, которую, видимо, «разбудила» мысль о свидании с маленьким Иисусом. Напрасная надежда, но все лучше, чем ничего. Дети гуськом бежали по коридору: Луиза следовала за Рене и Бланш, последней плелась Мишлин. Альбер нес Шарля на плечах, издавая воинственные крики, как индеец сиу. Они слишком долго сдерживали бурлившую внутри энергию. «Ничего, пусть кричат, – подумала Жанна, – пусть смеются и веселятся, как до войны!»
Дети вошли в спальню Жюля и Берты, где у стены стоял огромный зеркальный шкаф с резьбой и лепным орнаментом в виде львиных голов, на комоде было много фотографий в рамках, рядом лежал веночек из засушенного флердоранжа. Внимание Рене привлек свадебный снимок. Новобрачные очень молоды и невозможно серьезны. Берте столько же лет, сколько сейчас Жанне, но дочь гораздо красивей матери. У самой Рене не было ни одной семейной фотографии. Некоторым ее подружкам повезло больше. Им все время грозила опасность, ведь немцы могли обыскать замок в любой момент. Катрин прятала два фото за подкладкой чемодана. На одном были сняты отец, мать и два брата, на другом – бабушка, старая дама в длинном черном кружевном платье и вуалетке.
Катрин иногда брала их в постель и спала, прижимая к груди. Рассматривать фотографии в темноте она не могла, зато разговаривала, перечисляла имена наподобие молитвы: папа, мама, Аким, Сережа, баба Маша, папа, мама, Аким, Сережа, баба Маша. Иногда Рене ложилась рядом, они прижимались друг к другу и на два голоса называли имена. Рене особенно нравилось произносить «баба Маша». Катрин объяснила, что русское слово баба – это «бабушка», а Маша – имя. В сочетании двух слов было что-то нежное, сладкое, аппетитное, как сдобная булочка, хотя старая «баба Маша» не имела ничего общего с кулинарными вкусностями. На фотографии она выглядела сухой и тощей, с поджатыми губами и строгим взглядом.
На одном из снимков Рене увидела даму в старомодном платье и поняла, что это не Марсель, а ее мама. Вот она выглядела как настоящая «баба Маша», пухленькая и веселая. Ее улыбка как будто обещала: «Все будет хорошо!»
Луиза вытащила из гардероба шарфы, шляпы и разную одежду. Альбер и Шарль, весело переговариваясь, занялись примеркой. Луиза подошла к стоявшей у комода Рене, надела ей на голову веночек новобрачной, подвела девочку к зеркалу и сказала:
– Ты могла бы сыграть Пречистую Деву.
Она что, с ума сошла? Рене – еврейка, какая уж тут Дева Мария! Альбер поинтересовался, что значит это слово, но Рене не слишком разбиралась в теме, а то, что знала, рассказывать не хотела, и уж точно не Альберу. Во-первых, не его это дело, а во-вторых, он задал вопрос с единственной целью – смутить ее. Вот Луизе Рене, пожалуй, что-нибудь объяснит – если успеет. Альбер, гнусно хихикая, продолжил допрос:
– Так почему еврейка не может играть Богоматерь?
– Потому что евреи убили Христа, – с вызовом ответила Рене.
Луиза и Мишлин испуганно вскрикнули. Альбер побледнел:
– А разве это не римляне сделали?
– Нет! – Рене посмотрела ему в глаза. – Никакие не римляне! Его убили мы.
Старая монахиня сестра Рита, горбатая злая ведьма, однажды объяснила ей, что евреи распяли Христа. Девочка тогда подумала, что немцы и другие люди ненавидят евреев из-за давнего убийства. Ну что же, ничего удивительного. В церкви, глядя на распятие и изображения страстей Христовых, Рене всегда чувствовала стыд, но сегодня, в противостоянии с Альбером Паке, все было иначе. Он испугался? Отлично! Да, евреи убили Иисуса, приколотили к кресту его руки и ноги, и он долго мучился на жаре от боли, жажды и печали. Евреи бросались в него гнилыми овощами и смеялись. «И вообще, мне не нравится Дева Мария, хочу быть архангелом Гавриилом!» Мишлин разрыдалась, Луиза онемела от ужаса, Шарль выругался, а Альбер побагровел от ярости. Он хотел унизить нахальную дрянь, а девчонка рассмеялась ему в лицо и надерзила! Мишлин между тем завела прежнюю «шарманку»:
– А когда маленький Иисус придет за мной?
– Он больше не придет, он умер, я его убила, ты что, не слушала?!
Гробовая тишина… Глаза у Рене покраснели и наполнились слезами. Она резко повернулась, выскочила из комнаты и побрела по коридору, ослепнув от рыданий, толкнула какую-то дверь и увидела мебель, покрытую белыми простынями. Девочка села на кровать. Она ужасно замерзла и дрожала. Прежде чем возвращаться в подвал, нужно было успокоиться. Как же плохо, что она послушалась Берту и оставила своего любимого Плока внизу, он бы ее утешил. Появилась Луиза, села рядом с Рене и нежно обняла ее.
– Ты будешь архангелом Гавриилом. Все случилось давным-давно и уже не важно. Мой брат сам виноват, нечего было задираться. Альбер, ты обещал помириться с Рене!
Подросток нехотя подошел, но руку все-таки протянул, и девочка ее пожала. Остальные пристыженно улыбались – не стоило огорчать Рене, ей и так несладко.
Жанна много дней не поднималась в свою комнату и успела забыть, какой разгром устроили там немцы: вспороли матрас, вывалили на пол содержимое ящиков комода, содрали обои. Она хотела выбрать красивое платье для праздничного вечера, чтобы подчеркнуть все свои достоинства. Девушка все еще надеялась разбудить в Матиасе желание – то, что случилось в хлеву, не должно было остаться без продолжения. Жанна влюбилась и была готова уйти с этим мужчиной, если он позовет – да что там, даже если не позовет! Она пойдет за ним на фронт, как жены галльских солдат, которые перед сражением пели воинственные гимны и выкрикивали оскорбления, чтобы раздразнить врага.
Жанна открыла дверцы гардероба, начала перебирать вешалки, задержалась ладонью на кремовом шелковом платье. Она надевала его на свадьбу тети Аннетт, сестры отца из Льежа. Приложив наряд к себе, девушка посмотрелась в зеркало. Не по сезону? Плевать! Конца боевых действий она рискует прождать до восьмидесяти лет. Война, проклятое мужское занятие, игра злых мальчишек, меряющихся рисковостью. Но «канадский» солдат не таков. Кажется, что он смотрит на происходящее издалека и улыбается – если не губами, то глазами. Ах, какой у него рот! Верхняя губа – «лук Амура», нижняя – пухлая, но упрямая. Жанна сняла серое шерстяное платье и лифчик, почувствовала его запах, понюхала ткань, свои руки, надеясь уловить аромат мужского тела. Шелк выходного туалета ласкал обнаженную грудь. Она закрыла глаза, представила, как Матиас ласкает ее.
Он не был у Жанны первым. Она крутила роман с сыном богатого фермера Жерменом Жомоттом, родители одобряли их отношения – наверное, мечтали, чтобы они нарожали сыновей и дочек богатых фермеров, а те продолжили бы род богатых фермеров, и так до самого Страшного суда. Заниматься любовью с застенчивым и неловким Жерменом было непротивно, хотя восторга не вызывало, но все это теперь не имело значения. Жанне хотелось, чтобы он, этот солдат, снова коснулся ее тела. Желание было непреодолимым, он ее «пометил», и эту страсть не избыть за самую долгую жизнь.
Месяц назад, 1 ноября, в День Всех Святых, Жанне исполнилось восемнадцать. Странноватый у нее праздник – люди в этот день берут щетки, ведра, вонючие хризантемы и идут на кладбище убирать могилы близких. Женщины, стоя на коленках, трут гранит или мрамор, иногда под проливным дождем, и то и дело бросают скорбные взгляды на фотографию «дорогого усопшего» в золотом ободке. Сделав дело, все отправляются по домам, чтобы съесть традиционный песочный торт с черносливом, предаются одним и тем же воспоминаниям, по привычке проливают слезу… Восемнадцатилетие Жанны прошло почти незамеченным, «обрамленное» смертью бедного дядюшки Жана от рака яичка и кончиной старой Розы, отошедшей в мир иной в возрасте ста семи лет прямо на мессе. Не говоря уж о пяти годах войны, которая испоганила все, что можно и нельзя.
Жанна открыла глаза и увидела в зеркале лицо Дэна. Он стоял у нее за спиной. Девушка моргнула, как будто надеялась избавиться от наваждения, но солдат не исчез – подошел еще ближе и что-то пролопотал по-английски.
– I saw you through the window…[66]
– Я ни слова не поняла, но вам в любом случае нечего здесь делать! Убирайтесь!
Она шагнула к двери, но Дэн схватил ее за руку, повернул к себе, поцеловал в шею, потом в губы. Девушка попыталась вырваться, дала ему пощечину, но американец только осклабился. Он грубо толкнул ее на кровать, навалился всем телом, одной рукой зажимая рот, а другой шаря под платьем. Жанне было больно и обидно до слез. Дэн потел, пыхтел и даже дрожал. Жанна отбивалась, но была бессильна, мужчина расстегнул платье, сорвал трусы и уже готов был… Жанна сделала последнюю отчаянную попытку отпихнуть насильника, и он вдруг отлетел назад. Ее спас отец. Жюль Паке ударил негодяя об стену и нанес ему два увесистых тумака.
– Мне бы следовало убить тебя… – процедил он сквозь зубы. – Увижу еще раз рядом с дочерью – ты покойник! Understand? You dead![67]
Фермер выкинул американца за дверь, сел рядом с Жанной и крепко ее обнял.
– Слава богу, Филибер следил за этой сволочью и предупредил меня. Завтра я выпровожу из дома всю их банду.
11
В подвале соорудили стойло для рождественских яслей (устланный соломой пол прекрасно для этого подходил), к дальней стене прикрепили темно-синюю бархатную тряпку с нашитыми на нее звездами – их вырезали из простыни. На соломе мирно «спала» Пречистая Дева – Луиза в длинной белой ночнушке матери и ее свадебном венке на голове. Все масляные лампы и свечи погасили, так что в помещении было темно, публика затихла в ожидании представления. На лицах американцев читались детски-глуповатое предвкушение чуда и печаль: конечно, хорошо быть здесь, а не под пулями, но как же хочется увидеть близких! Гражданские были озабочены качеством представления: непросто почтить Христа, нужно, чтобы дети не забыли текст, не хихикали, как иногда случается во время процессий. Жюль Паке выглядел мрачным, жена шепотом поинтересовалась, в чем дело, но он только раздраженно передернул плечами. А вот Жанна сияла от счастья. Никто ни за что не догадается, что с ней сегодня случилось. Девушка собрала волосы в пучок, накрасила губы, надела шелковое платье и выглядела неотразимо. Матиас с нетерпением ждал выхода Рене, но не мог не коситься на Жанну, и она чувствовала его интерес.
Дэн устроился в самом темном углу. Его одолевали мрачные мысли: «Если этот фермер раззявит рот, будет стычка, и несколько пуль могут «случайно» попасть не туда…» Американца никто не видел, а он все подмечал, и его бесила игра в «гляделки» между Жанной и так называемым канадцем. Дэн был уверен, что у них все случилось, вот и потерял голову и поперся к ней в комнату. Никогда прежде техасец не испытывал такой жгучей ревности. По его собственному разумению, он не сделал ничего из ряда вон выходящего. Захотел женщину, попробовал взять ее силой, не получилось… Ну что же, бывает. Выпадет случай, он снова попытается. А Жанна… Пусть скажет спасибо отцу. Если бы Дэн осуществил свое намерение, потом он бы ее поколотил, это точно. Выбил бы несколько зубов наглой сучке. Грязная шлюха! Но хороша, и пахнет от нее умопомрачительно… Дэн сразу понял, что задавака только что с кем-то перепихнулась. Вот тварь!
В дальнем конце подвала появился свет – к зрителям приближалась Рене. Гребаный еврейский архангел Гавриил! Она была закутана в тюлевую занавеску, за спиной выросли два крыла… из металлической сетки-рабицы, обтянутой тканью. Походка у Рене была величественная, она словно плыла по воздуху, неся свечу, как священный огонь, а оказавшись рядом с заснувшей Богоматерью, произнесла проникновенным тоном:
– Проснись, Мария.
Луиза медленно подняла голову, испуганно вскрикнула.
– Не бойся. Я принес благую весть. Внимай!
В «зале» раздались смешки, но Рене это не смутило. Она поставила свечу и развела руки ладонями вверх, как при встрече со священником в церкви.
– Ты обрела благодать у Бога; и вот, зачнешь во чреве, и родишь Сына, и наречешь Ему имя: Иисус. Он будет велик и наречется Сыном Всевышнего, и даст Ему Господь Бог престол Давида, отца Его; и будет царствовать над домом Иакова во веки, и Царству Его не будет конца[68].
Ясный голос Рене уверенно звучал под сводами, она выговаривала каждое слово Благовещения так четко, как будто и впрямь понимала его тайный, глубинный смысл. Девочка полностью вжилась в роль, она «стала» архангелом Гавриилом. Рене захотела произнести весь «текст» и ни разу не сбилась, хоть Жанна и опасалась, что она не сумеет выучить слова.
Зрителей монолог впечатлил до глубины души: некоторые крестились, а Луиза дрожала – то ли вошла в образ, то ли действительно напугалась, но ответной реплики не подавала. Из кулис раздалась подсказка: «Но как это возможно…» – Альбер попытался помочь сестре.
– Но как это возможно, ведь я не познала мужа? – подхватила Луиза.
– Вот что случится…
Рене слегка исказила текст Евангелия и сделала паузу, что произвело комический эффект, она метнула в публику строгий взгляд и продолжила:
– Рождаемый младенец будет чудесно зачат по действию Духа Святого. И будет у тебя сын, и это будет мессия и Сын Божий.
Луиза встала на колени перед ангелом и произнесла смиренным тоном:
– Да будет мне по слову твоему…
– Благословенна будь средь всех жен, Мария. Мне жаль, что тебе придется много страдать, потому что у твоего сына будут неприятности, а потом его убьют. Мужайся!
Луиза тихо ахнула от удивления. Лица зрителей окаменели, по рядам пробежал ропот. Солдаты ничего не поняли, Матиас любовался Рене – какова актриса! – но с трудом удерживался от смеха, восхищаясь ее дерзостью. Больше всего его забавляла изумительная абсурдность ситуации, он один был в состоянии оценить иронию момента: Рене в роли архангела возвещает грядущее восшествие Иисуса на престол Давида и со свойственной ей честностью хочет убедиться, что Пречистая не питает иллюзий насчет дарованной ей благодати. Осторожно, старушка, жизнь – жестокая штука, дает и тут же отбирает. Матиас испытывал совершенно новое для себя чувство: он впервые был на своем месте, именно там, где следовало. Стоило дожить до сегодняшнего дня, чтобы в этом убедиться. Если в его существовании на Земле и был какой-то смысл, он заключался в том, чтобы стать свидетелем этого невероятного Благовещения.
Все ждали, что ангел удалится, но Рене опустилась на колени напротив Луизы, взяла ее лицо в ладони и нежно поцеловала в щеку. Та сначала растерялась и попыталась уклониться – мизансцена не предусматривала подобного жеста, хотя он был вполне уместным, точным и трогательным. Сидони расплакалась, Берта всхлипнула, у солдат защипало глаза. Рене выпрямилась, взяла свечу и отступила за колонну под гром аплодисментов.
В следующей картине Шарль, Бланш и Мишлин изображали пастухов, которые заметили в небе звезду и решили следовать за ней, чтобы воздать почести Младенцу Иисусу. Потом появилась Луиза с куклой на руках. Альбер в коричневом плаще, с бородой, нарисованной углем, играл Иосифа. Рене в образе все того же архангела присоединилась к Святому семейству и запела: «Между волом и серым осликом спи, спи, спи, малыш…» Зрители подхватили, а в конце дети вышли на поклон, взявшись за руки. Им устроили овацию с криками «браво!». Жюль незаметно выскользнул из подвала и вернулся, неся в руках несколько бутылок.
– Брюно! – торжественно объявил он. – Лучший сливовый бренди в округе! Берег для особого случая – и дождался…
Жанна и Берта принесли посуду и разлили спиртное. Солдаты шумно благодарили, все чокались, целовались, хвалили актеров, успевших снять костюмы и разгримироваться. Спев несколько рождественских гимнов, женщины отправились готовить скудную трапезу: неизменную ячменную кашу, сдобренную каштанами, которые Берта берегла для индейки. Мечты, мечты… На десерт подали парное молоко.
Маленький Жан совсем обессилел, лицо у него посерело, он даже кашлять не мог. Заплаканная Франсуаза устроилась в темном углу и попыталась убаюкать сына. Она встретилась глазами с Сидони, и та кивнула на Жинетту, подпевавшую детям. Знахарка заметила их взгляды и подумала: «Когда же эта несчастная тупица забудет свою гордость и перестанет упрямиться?» Жинетта знала, что времени почти не осталось: инфекция высосала из мальчика все соки.
Франсуаза встала и пошла к Жинетте, прижимая сына к груди. Жинетта протянула руки, взяла Жана и принялась нежно гладить его по щечкам и груди. От цыганки исходил жар животворной энергии, и измученная мать расслабилась. Рене устроилась рядом. Ей очень хотелось, чтобы Жан поправился, и она мечтала посмотреть, как старая женщина борется со злом. Всякий раз, когда она меняла повязки раненому, девочка внимательно наблюдала за каждым ее жестом. Цыганка была наделена особой, магической силой, которая дается только избранным, и люди в подвале немного ее побаивались. Жинетта расстелила на полу шаль, положила мальчика и принялась энергично массировать ему грудь. Он кашлянул раз, другой, третий и вдруг выплюнул огромную, мерзкую пробку зеленой слизи. Франсуаза вскрикнула и потянулась к сыну.
– Не бойся, – успокоила ее Жинетта. – Это болезнь выходит. Потом ему полегчает.
Она продолжала массаж и похлопывания, сопровождая их странной приговоркой:
– Злой кашель, изгоняю тебя из этого ребенка, как Иисус изгнал сатану из Рая.
Лечение возымело действие – мальчик то и дело отхаркивался и жадно вдыхал воздух, его лицо порозовело. Вокруг Жинетты собрались в кружок несколько человек, подошел и лейтенант Пайк, раздираемый восхищением и страхом. Жинетта закончила и отдала Жана матери со словами:
– Сегодня ночью он будет спать лучше, и жар наверняка спадет. Продолжим завтра.
Франсуаза порывисто схватила ее за руки, но Жинетта не далась и недовольно пробурчала:
– Не разнюнивайся, твой малец еще не выкарабкался. Не раскатывай губы на яйцо, пока курица его не снесла…
Матиас наблюдал за происходящим без всякого удивления. Он привык к подобным практикам. Чичучимаш была целительницей, и он испытал ее искусство на себе, а потом видел, как она спасала других. Власть старухи кри распространялась еще и на души, в этом она была особенно сильна. Матиас встретился с ней за несколько дней до отъезда в Европу. Она прошла десять километров по узким тропам от зимнего становища до его хижины в свирепый мороз. Матиас сварил кофе, разлил его по жестяным кружкам, и они сели за стоявший в центре единственной комнаты стол. На лице индианки лежали тени от масляной лампы, освещавшей охотничьи трофеи и висящие на стенах лыжные палки.
– Убивай-Много не идет к Чичучимаш, вот и приходится ей давать работу старым ногам, – посетовала она.
Матиас в ответ только плечами пожал. Решив покинуть страну и завербоваться в немецкую армию, он действительно стал реже навещать свою спасительницу. Несколько месяцев назад шкуры начали хуже продаваться, служащие фактории и другие белые трапперы смотрели на него косо, как на всех немцев после начала войны.
До Матиаса доходили слухи о лагерях для интернированных из числа «подданных вражеской страны». Граждане Канады немецкого происхождения гнили там с осени. Он не слишком удивлялся, зная, как канадцы относятся к иммигрантам. Японская община Ванкувера давно подвергалась нападкам националистов: в ход пошли запрет на профессию, вандализм, экспроприации, устрашение. Так чем они лучше Гитлера, истребившего своих евреев? Матиас мог бы спокойно отсидеться в лесах, но он закипал от одной только мысли, что кто-то считает его «нежелательным элементом», пусть даже эти люди ему глубоко безразличны. Не хотел он и жить с индейцами.
– Ты собрался на войну… – Голос Чичучимаш прозвучал торжественно-печально.
Откуда старая сова узнала? Матиас нервно закурил. Она тоже взяла сигарету, глубоко затянулась и спросила:
– Зачем?
Зачем? Зачем? У него не было ни одной веской причины для возвращения в Германию, просто не сиделось на месте. Он был любопытен и достаточно безумен, чтобы добровольно кинуться в водоворот войны. Нечто, сидевшее глубоко в подсознании, не давало ему передышки, вечно куда-то гнало, даже на ледяных одиноких просторах, среди индейцев кри. Чичучимаш думала, что сумеет его излечить, и он часами потел в специальных палатках, сходя с ума от невыносимого жара под мерные завывания индейцев. Ничего не случилось – ни во время, ни после. Никаких видений и предчувствий, ни малейших изменений и ни грана успокоения.
Да, он собрался на войну. Матиас вспомнил французскую песенку, которую мать пела ему в детстве:
Мальбрук в поход собрался. Миротон, миротон, миротэн. Не знал, когда вернется, — Авось на Троицын день…Чичучимаш медленно пускала колечки голубоватого дыма, они таяли в воздухе, а она искала в них знак – как везде и во всем. Возможно, настал час сниматься с якоря. Матиас нарушил тягостное молчание:
– Возьмешь сигареты и муку? И мясо – если хочешь.
– Пора расставаться, сын мой.
– Но я отправляюсь только через две недели!
Матиас был разочарован. Он питал тайную надежду, что индианка откроет ему хоть часть будущего, даст смутное представление о том, что его ждет, скажет слово, произнесет загадочную фразу. Один белый траппер – они вместе охотились – как-то рассказал, что шаман из племени Черноногих наделил его даром предвидения. Трактовать картинки он не умел, но были они очень яркие и совершенно реалистичные. Чичучимаш не сделает ему подобного подарка, потому что он не готов его принять.
– Мне нечего тебе сказать… – Она угадала его мысли.
– А мне ничего от тебя и не нужно, – высокомерно бросил он в ответ.
– Еще как нужно! Но я не вижу. Все скрыто. А когда я грежу о тебе, никогда не вижу лица. Так-то вот…
Она встала, надела шерстяную шапку, накинула поверх дубленой куртки клетчатое одеяло. Они молча дошли до деревни, светя под ноги масляной лампой. Крак радовался ночной прогулке, не предчувствуя своего будущего, ведь, покидая хижину, его хозяин и сам не знал, как поступит. Крак остался в деревне, и Матиас до сих пор не забыл укоризненный взгляд собачьих глаз и был обречен жалеть об этом до конца жизни. В тот день он последний раз видел тех, кем дорожил больше всего на свете. Пока не встретил Рене.
12
Жюль Паке затянул «О Святая ночь»[69]. Голос у него был сильный и довольно красивый, ему внимали с благоговением, как хору в церкви. Подпевать никто не решался – разве что шептали едва слышно, – и только Филибер воодушевился и вдруг вступил на словах: «Надежда счастьем сердце наполняет! Вдали горит грядущих дней заря». Голос у парня был высокий, он отчаянно фальшивил, сбивался на трудных нотах: «Он знает жизнь, Он испытал мученья. Пади пред Ним, признай Его Царем!», – но не сдавался. «Христос – Господь! Хвала Ему навеки! Ему вся власть и честь принадлежит!» – взвыл он, и детишки покатились со смеху, а взрослые – все, кроме Жюля, – сконфуженно потупили глаза. Филибер ничего не замечал, он вкладывал в пение всю свою чистую простую душу, но именно его невыносимый голос был всего милее ушам Господа, ибо «блаженны нищие духом […][70]».
Торжественная часть вечера сменилась развлекательной. Берта принесла проигрыватель и несколько пластинок. По просьбе американцев начали с Мориса Шевалье[71], потом поставили Мистенгет[72], следом за ней – несколько танго, а потом и яву[73]. Жюль пригласил жену, Пайк – Сидони, Жанна пошла с Максом, Филибер тоже нашел партнершу. Юбер выбирал мелодии и следил, чтобы игла не съезжала с пластинки. Когда отзвучала зажигательная ява, он перешел к серьезной музыке и завел Штрауса. При первых аккордах вальса «На прекрасном голубом Дунае» импровизированный танцпол мгновенно заполнился парами. Жанна направилась к Матиасу, протянула руку. Голова приятно кружилась от выпитого, она чувствовала, что сегодня ей все позволено, и не приняла бы отказа. Матиас обнял девушку левой рукой, элегантно поднял правую, приняв ладонь партнерши, и они закружились. Он едва касался Жанны, но вел уверенно и так красиво, что остальные танцоры почти сразу превратились в зрителей. Жанна, легкая и гибкая, словно бы плыла по воздуху и излучала счастье.
Дэн наблюдал, до крови кусая губы. Рене заметила, что американец то и дело бросает на соперника косые завистливые взгляды, и почувствовала беспокойство. Жанна и Матиас кружились в танце, она улыбалась, он был сдержан, элегантен и держал спину очень прямо. «И где же это охотник за бобровыми хвостами насобачился вальсировать, как Кларк Гейбл?[74]» – злился Дэн.
Ритм музыки ускорился – близилась кода. Жанна безудержно смеялась, Матиас тоже поддался волшебству танца. Рене не спускала глаз с лица Дэна, завороженно следившего за парой. Венский вальс закончился на самой выразительной ноте, запыхавшиеся танцоры застыли на месте лицом друг к другу… И тут Матиас сделал нечто немыслимое, чудовищное – поклонился, прижав ладони к бокам, и щелкнул каблуками.
– Этот тип – немец! – заорал встрепенувшийся Дэн. – Он – грязный шпион!
Никто не шелохнулся, не произнес ни слова. Матиас не пошутил в ответ, не попытался срезать американца насмешливой репликой. Он так удивился, что несколько секунд стоял молча, а потом молниеносным движением схватил лежавший на лавке автомат, прицелился и скомандовал:
– Жанна, два одеяла. Берта, мою куртку!
Девушка смотрела на него пустыми глазами, не в силах двинуться с места. Берта подчинилась.
– Отдайте Рене.
Девочка высвободилась из рук Жинетты и пошла к фермерше. Ее лицо выражало свирепую радость. Она протянула руки, чтобы взять вещи, но Берта отступила на шаг, и Матиас повторил приказ:
– Отдайте!
И Берта отдала. Рене прижала сверток к себе и посмотрела на Матиаса: «Что дальше?» Люди выглядели совершенно растерянными и все еще не могли осознать, чему стали свидетелями. Все произошло слишком быстро. Матиас перестал быть симпатягой, который только что выпивал и смеялся вместе со всеми. Он направил на них оружие, стал бездушной машиной для убийства. Как будто решив снять последние сомнения, Матиас процедил сквозь зубы:
– Я пристрелю любого, кто шевельнется. Все поняли?
Ответом на его слова стала гримаса ненависти на лицах Альбера, Франсуазы и Юбера – они с самого начала не доверяли чужаку. Однако сейчас он внушал им не только ужас, но и тайный восторг и какое-то нездоровое, патологическое влечение. Бедное старое человечество! Матиас старался не смотреть на солдат – боялся, что не совладает с искушением изрешетить их на месте. Жанна все еще пребывала в прострации, а на Матиаса снизошло странное чувство безмятежности, как будто все наконец встало на свои места. Он играл роль, а теперь может показать этим крестьянам истинное лицо.
В мозгу у него что-то щелкнуло, в присутствии потенциальных жертв сработал условный рефлекс по Павлову: если понадобится, он убьет всех – старуху Марсель, малыша Жана и даже Жанну. Их мозги брызнут на стены подвала, а окровавленные тела будут вповалку валяться на полу. Да, именно так! Матиас не мог разрядить обойму в Берту – она удерживала Рене за плечи, не давая ей вырваться, – и выстрелил в воздух. Раздались крики, и Жюль заслонил собой жену.
– Малышке здесь будет лучше, – спокойно сказал он.
Матиас не испытывал никакого желания лишать фермера жизни, но этому дураку пора перестать геройствовать.
– Иди ко мне, Рене!
Берта ослабила хватку, девочка обошла Жюля, сделала шаг, другой… и тут ее перехватил Дэн. Матиас направил на него оружие.
– Отпусти ее, Дэн! – приказал Пайк.
– Черта с два! У меня его цыпочка. Он не уйдет без…
Фразу Дэн не закончил – получил пулю в лоб и рухнул на пол под вопли окружающих. Рене рванулась к Матиасу. Воспользовавшись сумятицей, Макс подкрался к немцу со спины, тот вовремя его заметил и ткнул прикладом в пах. Американец согнулся пополам, но успел ударить противника в подколенок. Матиас упал, солдаты навалились сверху, Тритс вырубил его поленом, остальные принялись бить ногами. Рене с диким воплем кинулась в гущу мужчин, Пайк подхватил ее и передал Берте. Рене отчаянно отбивалась, пыталась кусаться, царапалась, так что Жюлю пришлось помочь жене.
Лейтенант попробовал навести порядок в рядах подчиненных, что оказалось непросто. Солдаты разъярились, они наносили удары в живот и голову, выкрикивая грязные ругательства. Пайк достал из кобуры пистолет, выстрелил в потолок, и избиение наконец прекратилось. Увидев окровавленное лицо Матиаса, Жанна отвернулась, ее вырвало. Пайк обыскал пленного, обнаружил чехол, вынул нож, несколько минут молча его рассматривал, потом убрал назад.
– Макс, Тритс, несите его в винный погреб, – скомандовал он. – Мы уйдем на рассвете, а этого возьмем с собой.
Никто и не подумал исполнять приказ. Солдаты застыли во враждебном молчании рядом с трупом Дэна, который взирал на мир широко раскрытыми от удивления глазами.
– Мне что, повторить? Шевелитесь! – гаркнул Пайк.
– Этот кусок дерьма убил одного из нас, – глухо произнес Макс. Солдаты, Юбер и учитель встретили его слова одобрительными возгласами. Жюль, незаметно наблюдавший за происходящим, вдруг подумал, что никогда прежде не замечал, какое уродливое у полицейского лицо. Сорок лет не замечал, а тут заметил… Что греха таить, у него были смутные подозрения насчет Матиаса, но он никак не ожидал, что его дурак сын ударится в шпионство и донесет на гостя. Когда Матиас возник в дверях дровяного сарая, Жюль чисто интуитивно понял. Понял, но виду не показал. Незнакомец вызвал у него симпатию – и не только потому, что привел девочку. Это было беспричинное чувство. Жюль надеялся, что он уйдет как пришел. Все вышло иначе, чертов Дэн приревновал и попытался силой взять Жанну.
Вид у мертвого американца был еще более идиотский, чем при жизни. Янки задали немцу знатную трепку, били его всем скопом, и это было мерзко. Да, он враг, обманщик и, возможно, заслуживает смерти. Но не группового избиения. А Рене пришлось смотреть… Жюль поискал взглядом – девочка сидела у стены, одна, отдельно от всех.
Фермер понимал, что немца наверняка прикончили бы, не вмешайся Пайк. Вернер, немного знавший английский, перевел слова лейтенанта: «Нужно допросить диверсанта, полученные от него сведения могут спасти много жизней, немца будут судить и казнят по закону, американцы – не варвары». В последнем Жюль не был так уж уверен. Матиаса оттащили в винный погреб, Пайк закрылся там с великаном Максом, двое солдат остались сторожить рядом с гражданскими, остальные пошли отдыхать. Через несколько минут люди начали перешептываться, и очень скоро под сводами подвала стоял глухой гул, похожий на жужжание рассерженного пчелиного роя.
– Еврейка защищает боша… Такого мы еще не видели, – качал головой Юбер.
– А ведь совсем пигалица! – Франсуаза бросила на Рене ненавидящий взгляд.
– Мне эта девчонка с самого начала показалась странной, – согласился Юбер.
– Думаете, она знала? – спросила Сидони.
– Конечно! – хором ответили Юбер и Франсуаза.
– У малышки больше никого не было… – вздохнула Берта.
– Почему он ее не убил? – поинтересовалась Франсуаза.
Этот вопрос задавал себе каждый, но никто из присутствующих даже вообразить не мог, что произошло между немцем и девочкой.
– Не все же они звери. Он пожалел Рене. Она такая красоточка, – подала реплику Берта.
Сидевший в сторонке Жюль не вмешивался в разговор. Он знал, что Берта не права. Не совсем права. Во-первых, немцу вряд ли свойственно милосердие, а во-вторых, Рене, как бы мала она ни была, внушает все что угодно, только не жалость. У странной парочки другая история.
– Думаете, они его убьют? – спросила Сидони.
– Очень на это надеюсь, – буркнул Юбер. – Если ковбои не расстреляют, то фрицы уж точно обезглавят.
– Обезглавят?! – хором воскликнули слушатели.
– Так немцы наказывают предателей. – Юбер сопроводил объяснение характерным жестом ладони по горлу.
Рене все слышала. Взрослые и не думали щадить ее. Она понимала значение слова «обезглавить» и вообразила Матиаса стоящим с собственной головой в левой руке (именно так был изображен брат Рено де Монтобана, один из четырех сыновей Эмона, которому отрубили голову). Идея была абсурдная, ведь мертвецы не могут стоять и уж тем более держать голову под мышкой. Рене не желала представлять Матиаса мертвым. Это неприемлемо. Она обвела взглядом присутствующих. Те, кто только что обсуждал варианты казни Матиаса, предпочли не смотреть ей в глаза, улыбнулась только Жинетта, но девочка не подошла к цыганке. Ей нужно было подумать.
13
Матиас очнулся, когда Пайк и Макс вылили на него ведро ледяной воды. Он был связан по рукам и ногам, все тело ужасно болело. Пайк сидел на полу напротив него, но видел его Матиас одним глазом – второй заплыл от удара. Макс стоял у двери.
Ну вот, представление начинается. Он скажет америкашкам все, что они хотят знать, – утаивание информации не принесет ничего, кроме новых побоев и уж точно не поможет вывернуться, – если вдруг представится возможность. Давай свои вопросы, Пайк, не стесняйся, узнаешь много интересного, дорого не возьму! Это твой день, старина, за меня можно и повышение получить. Будешь сидеть сиднем в теплом подвале, пока другие умирают за свободу, никогда полковником не станешь! Получив сокрушительный удар в челюсть, Матиас понял, что думал вслух и разозлил Пайка. Не хотите начинать первым? Ладно, мы не гордые.
– Я задействован в операции «Гриф». Разработал ее оберштурмбаннфюрер СС Отто Скорцени…
– Черт, только не он!
В голосе Макса прозвучали восхищение и ужас.
Невероятно, до чего популярен добрый старый Отто! Даже среди союзников. Настоящая легенда! Стоит подождать, пока великан Макс опомнится и продолжит. Пайк выглядел растерянным – ему имя Скорцени ничего не сказало.
– Этот ненормальный освободил Муссолини, прилетел за ним на планере, а улетел на самолете! Ты работал на него? – почти весело спросил темнокожий янки.
– Рядовой Дельгадо! – рявкнул Пайк.
Да, работал, но вышеупомянутый Дельгадо ничего об этом не узнает. А Пайку плевать. Они спасли дуче и стали для народа и фюрера полубогами. По чести говоря, отличились в той операции парашютисты майора Морса, а не люди Меченого.
– Парни Скорцени чокнутые, лейтенант. Все – на сто процентов – эсэсовцы, псы войны. Они внедряются к союзникам, возникают из ниоткуда, говорят на всех языках. Для них убить – все равно что вам помочиться. Они…
Макс не успел продолжить свой панегирик – Пайк увел его из подвала, – но довольно точно описал образ жизни Матиаса с весны 1943 года. Примерно такими же словами Скорцени убедил его в тот вечер в отеле «Адлон». Несколькими днями раньше высокопоставленный эсэсовец снова пришел посмотреть тренировку. Матиас вышел из душа, начал бриться, и тут из тени выступил и отразился в зеркале высокий силуэт Скорцени. Ему нравилось возникать «из ниоткуда», разыгрывая всемогущего мага.
– А вы упрямый, – холодно бросил Матиас.
– Не устаю вами любоваться. Завораживающее зрелище.
В холодном неоновом свете шрам на левой щеке Скорцени казался еще заметнее. Он, не скрываясь, изучал фигуру Матиаса:
– Худощавый, стройный, проворный, как борзая, прочный, как кожа, и крепкий, как сталь Круппа…
Фраза напоминала стих Гете. Только Усатый облекал свои фантазмы в одежды столь наивных сравнений, от них так и веяло подавленной гомосексуальностью, а Скорцени не очень подходил на роль интерпретатора подспудной сексуальности фюрера. Впрочем, еврейство Фрейда избавило немецкий народ от бессознательного [75] – отвратительного порока низших рас. Странно, что нацистский режим, так приверженный неологизмам, не додумался провозгласить Германию «Unbewusstfrei» – свободной от бессознательного. Матиас спокойно закончил бриться. Человек со шрамом подошел ближе:
– Определение идеального арийца, сформулированное нашим фюрером. Но вы лучше, Матиас.
Он кинул цепкий взгляд на собеседника. Матиас смыл с лица пену.
– Вы свободны сегодня вечером? Приходите в «Адлон», там будут танцульки в честь Эмиля Яннингса[76]. Жду вас к двадцати ноль-ноль. Договорились?
– Не люблю светские мероприятия…
– Вы так в этом уверены? – осклабился Скорцени.
Матиас явился в роскошный отель чисто выбритым, с набриолиненными волосами и Рыцарским крестом с дубовыми листьями[77]. Он с грацией леопарда прошел сквозь толпу гостей, произведя сильное впечатление не только на женщин, но и на мужчин. Несколько пар танцевали под скучное «нацифицированное» танго, и взгляды партнерш скользили по Матиасу со сладкой истомой – вполне в пандан музыке. Зрелище было гнетущее, но в тот вечер ему почти нравилась холодная и вялая атмосфера, типичная для вечеринок нового рейха. Марионетки в масках кривлялись, изображая веселость, желание, достоинство или скуку. Больше всего они напоминали роботов, лишенных даже намека на жизненную силу. Мрачное и декадентское зрелище торжества разврата. Скорцени сидел один за столиком в дальнем углу, окутанный голубоватым дымом от выкуренных без счета сигарет. Матиас устроился напротив него, появился официант и разлил по бокалам пенистое золотистое шампанское.
– За нас! – Скорцени поднял свой бокал.
Матиас молча последовал его примеру.
– Подул ветер перемен, – произнес оберштурмбаннфюрер. – Абвер лишился ореола святости. Гестапо ведет расследование. Через несколько недель или месяцев со знаменитыми брандербуржцами будет покончено.
Во главе абвера – органа военной разведки и контрразведки в составе Верховного командования вермахта, которой непосредственно подчинялись брандербуржцы, – стоял адмирал Вильгельм Канарис. Старый лис не любил, когда в его дела совали нос посторонние. Гестапо[78] и СД[79], секретные службы СС, пытались развалить абвер. Ходили упорные слухи, что очень скоро будет дана отмашка на ликвидацию Канариса. Элитные отряды диверсантов распустят, они вольются в СС. Для Матиаса подобная перспектива была категорически неприемлема. Скорцени, весело скалясь, напомнил, что он рискует провести остаток войны в роли снайпера на русском фронте – если повезет, или в четырех стенах, за рацией – в том случае, если удача отвернется от него.
Ничего нового Матиас не услышал. Неужели у главного диверсанта рейха нет доводов поубедительнее? Он допил шампанское, бросил рассеянный взгляд на дорожку. Его внимание привлекла жгучая брюнетка с бледным лицом, танцевавшая с виновником торжества Эмилем Яннингсом. Они расслабленно вальсировали, толстяк что-то шептал ей на ухо, причмокивая губами, как слюнявый моллюск. Лицо дамы выражало смертельную усталость. Она поймала взгляд Матиаса и послала ему искусительную улыбку. Скорцени в третий раз наполнил бокалы, предложил Матиасу сигарету, щелкнул роскошной золотой зажигалкой с бриллиантовой инкрустацией в виде черепа и закурил сам.
– Паула фон Флошенбург, – прокомментировал он, заметив обмен взглядами. – Одна из богатейших вдовушек рейха. У меня на нее целое досье. Дамочка может быть нам полезна.
– Не только в постели? – поинтересовался Матиас.
Скорцени улыбнулся, бросил оценивающий взгляд на молодую женщину и пустился в объяснения:
– Я хочу создать новую расу воинов. Новый вид боевых авантюристов. Совершенных существ, идейных и умных, организованных интуитивистов. Людей, способных появляться из воды и с неба, умеющих затеряться, раствориться в толпе во вражеском городе… Стать своими среди чужих.
Ничего нового в этой идее для Матиаса не было. Вынырнуть из воды, выброситься с парашютом, стать другим человеком – он вел такую жизнь уже три года, глотая пыль военных дорог. Впечатление произвели не слова Меченого, а его тон. Музыка смолкла, красавица вдова направилась к своему столу и, проходя мимо Матиаса, коснулась спинки его стула легким ласкающим движением. Завораживающий голос Скорцени сопроводил этот жест:
– Для этого нового человека сама война станет анахронизмом, он будет над ней.
Нацисты жили фантазиями, они были одержимыми и почти всегда казались… бесноватыми, но иногда превращались в искусителей. Скорцени переживал один из таких моментов. Его улыбка напоминала волчий оскал, глаза с расширенными зрачками словно бы вглядывались в иную, вагнеровскую реальность, хотя на самом деле следили за Матиасом. Он был сейчас тем самым новым, совершенным, вдохновенным, идеальным воителем, пребывающим «над схваткой». Это казалось нелепым, но и… заразительным. И Матиас сдался. Ладно, он уступит нелепому детскому желанию Меченого, грезящего о совершенном человеке. Теперь он слушал Скорцени с почти физическим удовольствием:
– Ты и понятия не имеешь о том, что я предлагаю. Это будет невиданное приключение! Воплощение мечты, равной тебе.
Матиас допил пятый по счету бокал. Оркестр покончил с вальсами и заиграл проникновенное танго. Он протянул руку Меченому – в знак согласия, встал и направился приглашать вдову на танец. В постели она оказалась менее «зажигательной», чем на танцевальной дорожке, и на рассвете Матиас сбежал. Эта женщина была такой же унылой, как нацистское танго.
Неделю спустя он вступил в ряды СС, и под левой рукой у него появилась татуировка – матрикулярный номер. «Пометили, как евреев в лагерях», – подумал он тогда. С элитой нужно обращаться как с отбросами общества, – такова неумолимая логика Третьего рейха. В идеальной (читай: уравновешенной) игре «хорошие» и «плохие» существуют как зеркальные отражения друг друга, следовательно, необходимо, чтобы и те, и другие существовали. Нацисты мечтали уничтожить евреев, однако их исчезновение неизбежно повлекло бы исчезновение нацистов, ибо смыслом существования последних было истребление ненавистного народа. Чистый, так сказать «беспримесный», нацист может быть определен только своим антиподом – евреем. Без него нацист падает в небытие. Безумие? Конечно! Но оно объясняет, почему в качестве знака принадлежности к сливкам общества и к подонкам человечества была избрана столь безобразная, болезненная, бесчестящая человеческое достоинство вещь, как татуировка.
Пайк вернулся в винный погреб, немного помолчал, потом спросил:
– Кто эта девочка? Какого черта вы делаете вместе?
– Может, лучше поговорим об операции «Гриф»?
– Отвечай на вопрос!
Пайк заставил себя успокоиться и присел на деревянный ящик.
– Вам доверили этого ребенка, так?
– Да, когда я был… американцем.
– Вы должны были убить ее – как любого другого еврея?
– Да.
– Но не сделали этого. Почему?
Матиас хотел бы ответить искренне, сказать правду – показать себя в выгодном свете – и не мог.
– Не знаю…
Он ждал взрыва негодования, но американец смотрел на него… да-да, с сочувственным интересом. Этот Пайк не создан для того, чтобы быть солдатом, пусть бы жил себе спокойно в Миннесоте, преподавал в колледже, или чем там он занимался на гражданке…
– Ладно, переходи к операции «Гриф», – вздохнул лейтенант.
Матиас выпрямился и начал излагать: количество засланных диверсантов, приказ занять мост через Маас, чтобы облегчить продвижение регулярных частей, которые должны оказаться в Антверпене и захватить топливные склады. Он показал на карте три дороги.
– Сколько шансов на успех у этой операции?
– Ни одного. – Матиас усмехнулся. – Жест отчаяния, не более того.
Пайк зябко поежился и закурил, сделав несколько затяжек.
– Спасение малышки тебе не поможет.
– Да неужели? А я рассчитывал на медаль.
Американец хмыкнул:
– Большинство ваших запираются на допросах, информацию из них приходится выбивать. Чего ты хочешь?
Матиас напрягся. Чего он хочет? На него навалилась невыносимая усталость. Он сыт войной по горло, она перестала забавлять его. Во время последнего внедрения в ряды французского Сопротивления ему пришлось убить восемнадцатилетнюю девушку и двух совсем молодых парней на глазах у их матери. Эта невероятно храбрая женщина прятала его и кормила много недель. В тот день он подумал, что ему все равно, жить или умирать. Беда в том, что машину для убийства, каковой он себя считал, непросто уничтожить. Все изменила встреча с Рене. Ему снова захотелось жить – ради нее и ради себя. Ради того, чтобы не расставаться. Он сказал об этом Пайку. Лейтенант в ответ сокрушенно улыбнулся – увы.
14
Жанна не сразу пришла в себя от потрясения. Сначала девушка впала в ступор, потом ее долго рвало. Голова гудела, как пустой котел, она лежала на сваленных в кучу пальто, служивших ей матрасом, и вспоминала. Случившееся вечером накладывалось на события нескольких последних дней, сливаясь в какой-то тошнотворный гипнотический балет. Матиас целится в гражданских. Матиас и Рене входят в кухню. Матиас занимается с ней любовью в стойле. Матиас ест, говорит, улыбается, идет, проводит рукой по волосам, бездельничает, дует на горячий кофе, направляет на нее оружие, его запах, кожа, вена на шее… его холодный взгляд, он выстрелит, выстрелит, его рот, у стены, у стены…
К горлу снова подкатила тошнота, Жанна встала, дотащилась до ведра, которое поставила в углу Берта, и извергла из себя струю едкой горько-кислой желчи. Ей полегчало, но ненадолго, нахлынуло воспоминание: американские солдаты избивают Матиаса ногами, молотят кулаками по животу и спине. В тот момент у Жанны началась неукротимая рвота, она даже не была уверена, что он жив. Этот человек – немец, диверсант, все желают ему смерти. Война вот-вот закончится, так зачем церемониться с врагом? Он их обманул. А что ему оставалось? Он не мог уйти. Не из-за Жанны – как бы ей этого ни хотелось! – из-за Рене. Девчонка его приворожила. И довела до погибели. Американцы расстреляют Матиаса. Жанна испытала мгновенный укол ненависти к Рене и кровожадную радость при мысли о смерти Матиаса, которая тут же уступила место глухому отчаянию. Она посмотрела на Марсель: старушка мирно спала, защищенная глухотой от происходящего вокруг. Во всяком случае, Жанна на это надеялась. Она прижалась к младшей сестре, но, перед тем как уснуть, успела заметить тень, скользнувшую на лестницу.
Боль в избитом теле понемногу отступала, только глаз сильно дергался, и по животу расплывалась огромная гематома. В подвальное окошко был виден отсвет луны на узкой полоске снега, ухал филин, но стрельба стихла, как будто рождественская ночь подтолкнула воюющие стороны к перемирию. Скоро он выйдет и сможет наконец размять ноги. Американцы скорее всего возьмут пленного с собой и, если выйдут к своим, там его и шлепнут.
Как же глупо он провалился! Щелкнул каблуками, как Эрих фон Штрогейм[80] во французском фильме (он успел посмотреть эту картину в парижском кинотеатре до того, как Гитлер ее запретил). Только монокля не хватало! Матиас расхохотался, вспомнив, как вальсировал с Жанной: чувствуешь себя неуязвимым, понимаешь, что нравишься, ловишь на себе восхищенные взгляды, на секунду расслабляешься, и тело вспоминает старые рефлексы, вроде бы запертые на прочный засов. И тебя ловят, как крысу. Никому не дано полностью вытравить из себя происхождение. Хорошее образование, клуб, фехтовальный турнир, балы… все это сочится из пор и до могилы липнет к подметкам сапог. Он несколько лет играл в Дэви Крокетта[81], изображал шпиона, но это мало что изменило. «Великая иллюзия», так назывался тот французский фильм.
Матиасу следовало с самого начала опасаться Дэна. Он недооценил интуицию янки и его ревность. А может, просто постарел и утратил хватку? Ему исполнилось тридцать пять, но Чичучимаш часто говорила, что он родился со старой душой.
Матиас был не первым человеком, чья жизнь могла оборваться, едва обретя смысл. Ситуация до смешного банальная. Интересно, жива ли Чичучимаш? Крак точно упокоился: псу было девять лет, когда он оставил его в индейской деревне. О родителях Матиас уже год не слышал – письма от сестры, сообщавшей новости, перестали приходить. Последний раз они с матерью виделись весной 1943-го, сразу после вступления Матиаса в СС. Услышав новость, она ответила по-французски: «Plus ça change, plus c’est la même chose»[82] – и вернулась к работе. Мать Матиаса вязала свитера для благотворительного общества, опекавшего военных сирот. Она увяла, стала желчной и только в последний момент, когда сын расцеловал ее в морщинистые щеки, взяла его за плечи, и он увидел в ее глазах любовь. Через мгновение они снова стали почти бесцветными и льдисто-холодными.
Матиас поднял голову к окошку. Ему послышался глухой звук, как будто где-то скреблась мышка. Маленькая пухлая ручка сдвинула решетку, и в отверстии появилось лицо Рене. Матиас с трудом поднялся и дохромал до противоположной стены.
– Что ты здесь делаешь?
– Хочу спуститься.
– И речи быть не может! Возвращайся в подвал, немедленно!
Малышка не послушалась – ее старания почти увенчались успехом.
– Делай, что говорю, Рене! – прикрикнул на девочку Матиас, но она уже спустила ноги и могла упасть. Он был в бешенстве, Рене не оставила ему выбора. Матиас прислонился к стене, она поставила ноги ему на плечи, присела и ловко, как обезьянка, соскользнула на пол. Матиас больше не злился. Этот ребенок наполнял его силой, давал надежду на новую, другую жизнь, в которой не будет горячки боя, опасностей, риска и страха смерти – всего того, что он считал движущими силами своего существования.
Несколько долгих секунд Рене смотрела на окровавленное, распухшее лицо своего немца, совсем как святая Вероника[83] на Христа по пути на Голгофу. Потом начала расстегивать пальтишко, сунула руку под свитер и достала чехол с ножом Матиаса, медленно вытащила длинное лезвие и горделиво взмахнула. Если завтра Матиасу придется умереть, он унесет это видение с собой. Его жизнь пуста и бессмысленна, но Рене выбрала его, хоть он и не заслуживает этой благодати. Внезапно он почувствовал себя уязвимым, ничтожным, уродливым и отвел взгляд. Рене наклонилась, чтобы перерезать веревки на запястьях Матиаса.
– Нет! Оставь как есть и убери нож в чехол.
Рене подчинилась, хотя и расстроилась из-за того, что не смогла освободить своего солдата. Глупый лейтенант Пайк оставил нож валяться в подвале, она подобрала его и раз сто воображала, как сделает это. Матиас отобрал у нее оружие, наклонился и сунул чехол за голенище ботинка.
– Тебе пора.
Девочка кивнула.
– Сотрешь свои следы на снегу, как мы делали, когда охотились на зайца.
Она подняла голову:
– Я помню.
Матиас подошел к стене, чтобы подсадить ее в окно.
– Как тебя зовут – по-настоящему? – спросила Рене.
Он заколебался. Его имя. Его настоящее имя. Матиас не мог произнести ни слова, ведь он столько раз менял имя за годы войны. Когда-то у него было индейское имя, оно что-то означало, и немало. Единственное имя, которое ему нравилось. Его собственное, настоящее больше ничего не значит.
– Матиас. Матиас Штраус, – не слишком уверенно ответил он.
Она тихо повторила имя – раз, другой, третий, произнесла фамилию, потом имя и фамилию вместе: Матиас Штраус – и посмотрела ему в глаза.
– Знаешь, Рене – это ненастоящее имя. Но другое я забыла.
Как же он об этом не подумал после встречи с ней? Его зовут Матиас Штраус, и это очень важно, потому что имя дали ему родители, так называли его друзья и родные. И вся его выдуманная жизнь ничего не меняет. Он – Матиас Штраус, и никто другой. Он отдал бы все на свете, чтобы узнать подлинное имя девочки. Ему нравилось мысленно проговаривать слова, состоящие из взрывных согласных, очень женственные, но сильные, принадлежавшие великим библейским героиням. Эсфирь, Дебора, Сарра, Юдифь[84]… Интересно, существует ли еврейское имя, совпадающее по значению с французским Рене: «рожденная заново»? На индейских языках таких нашлись бы десятки. Возможно, ее звали Люсьенна или Жанин, но тогда зачем было его менять?
Матиас скрестил руки, чтобы помочь девочке подняться. Когда их лица оказались на одном уровне, Рене на мгновение замерла, он вдохнул волнующий сладкий запах с привкусом детской присыпки и подтолкнул ее вверх. Выбравшись из подвала, она бросила на своего немца прощальный взгляд и исчезла.
Скоро рассветет. Теперь у него есть нож, и не абы какой. У этого ножа индейское имя, и он много раз убивал им. Матиас решил поспать – перед уходом необходимо набраться сил. Он дремал около часа и открыл глаза, услышав возню за дверью. В замке лязгнул ключ, вошли Пайк, Тритс и Макс.
– Встать! – приказал Тритс.
Он проверил, крепко ли связан Матиас, и обыскал его. Плохо обыскал. Не заметил ножа в ботинке. Его вывели из винного погреба. Все гражданские уже проснулись и смотрели на пленника с укоризной, ненавистью, непониманием. И только в глазах Жюля читалась робкая симпатия, они словно бы говорили: «Ты мерзавец, но нравишься мне, и ничего тут не поделаешь». Жанна выглядела ужасно усталой и какой-то… отсутствующей. Матиас не мог даже предположить, что сейчас чувствует девушка.
Пайк поблагодарил хозяев за гостеприимство. Молодые янки, игравшие в героев, воспринимали такой прием как должное, лейтенант же в отличие от них был хорошо воспитан. Оба раненых присоединились к маленькому отряду. Они были не в том состоянии, чтобы в десятиградусный мороз бродить по лесу, но Пайк не захотел оставлять своих людей на ферме. Если немцы найдут их, гражданских никто не защитит. Пайк все больше походил на Эшли Уилкса из «Унесенных ветром», героя, который всегда выполнял свой солдатский долг, но был слишком благороден и честен, чтобы не терзаться необходимостью убивать. Вернувшись с фронта домой, такие типы часто превращаются в безвольных слабаков. Если Пайк выживет, жене и троим его детям придется несладко.
Матиас не видел Рене. Тритс грубо толкнул его в спину, немец обернулся и «расстрелял» его взглядом. Девочка, державшаяся рядом с Жинеттой, вышла вперед, и они посмотрели друг на друга. Никто не осмеливался слова сказать, да что там слова – в их присутствии все и дышать забывали. Жанна вспомнила, как впервые увидела эту пару. Матиас и Рене напомнили ей диких животных. Пайк решился нарушить молчание и приказал подчиненным покинуть подвал.
15
Солдаты ушли, и в подвале как по команде возник гул голосов. Все хотели выразить негодование. Люди повторяли сказанное, задавались теми же вопросами, ахали, охали, чертыхались. Это приносило облегчение, помогало забыть о голоде и холоде – и ничего не стоило. Юбер радовался, что «бош убрался», Вернер называл его «странным». Франсуаза сокрушалась, что ничего не заподозрила, хотя ей «сразу не понравилось его лицо». Люди забыли, что всего несколько часов назад находили Матиаса самым «очаровательным», самым «элегантным», самым «услужливым»… Вы только посмотрите, как хорошо он танцует, и Жанне нравится, а с малышкой до чего добр! Ах, если бы все неотесанные америкашки были на него похожи! Жюлю хотелось освежить им память, но он решил не встревать. Юбер наклонился вперед, прикрыл рот ладонью и произнес, кивнув на Рене:
– Будь она на несколько лет старше, испробовала бы на себе машинку для бритья…[85]
Жюль налетел на него со сжатыми кулаками.
– Ну-ка повтори, я плохо расслышал…
– Да я что, я ничего…
– Значит, мне показалось…
Вот ведь сволочь! Он бы и Жанне обрил голову за то, что танцевала с немцем. Танцевала… Жюль не вчера родился, хорошо знал свою дочь и не сомневался, что она оценила и другие «таланты» Матиаса. Когда треклятая война наконец закончится, придется позаботиться о том, чтобы Юбер не разевал свою грязную пасть. Жюль отсел подальше и тут заметил, что не все остались в подвале.
– Кто-нибудь видел Филибера?
Люди оглядывались, окликали паренька, он не отзывался. Ничего необычного не произошло, Филибер всегда гулял где вздумается. Должно быть, ускользнул во время заварушки с немцем и вернется, когда захочет. Или когда понадобится.
Рене снова устроилась рядом с Жинеттой, только она ее не судила. Цыганка видела, как девочка проскользнула в подвал к солдатам, под носом у Пайка подобрала оружие и, спрятав нож под пальто, бесстрашно отправилась к пленному. Минут через десять малышка вернулась, прижалась к ней и сказала:
– А знаешь, Матиас за мной вернется.
Лейтенант Пайк шел первым, за ним шагал Матиас под конвоем Макса и Тритса. Макбет и четверо солдат прикрывали авангард, а раненые, с трудом переставляя ноги, тащились следом. Холод был собачий, северный ветер забирался под одежду и промораживал до костей. Матиас был в рубашке и куртке, но его беспокоил не мороз, а онемевшие руки и ноги. Перед уходом с фермы Тритс еще крепче затянул веревки. Привал устроили через два часа. Выпили по глотку, закурили и расслабились. Матиас присел перевязать шнурки и незаметно сунул нож в рукав. Внезапно поблизости раздался шум мотора. Пайк махнул рукой, и небольшой отряд рассыпался в разные стороны. Макс и Тритс потащили Матиаса в папоротник. По узкой, идущей вдоль леса дороге проехали два немецких вездехода. Когда они скрылись из виду, американцы пошли дальше, но теперь пленный и его охранники оказались в арьергарде.
Матиас споткнулся, налетел на Макса, тот подхватил его, и Тритс спросил, все ли в порядке – товарищ выглядел странно. Матиас чуть отстранился, правой рукой придержал солдата за плечо, а левой выдернул нож у него из живота. Тритс даже крикнуть не успел, когда оружие пробило ему гортань. Матиас взял нож в зубы и стремительно полез вверх по стволу ближайшего дерева.
Пайк скомандовал: «Стой!», обернулся, позвал Макса и, не дождавшись ответа, кинулся назад. В двух шагах от тропинки, за папоротниками, они увидели окровавленные тела. Тритс был еще жив и пытался что-то сказать. Пайк наклонился, подложил ладонь ему под затылок, но глаза Тритса погасли – он был мертв. Следы Матиаса обрывались так резко, словно он улетел, испарился.
Пайк смотрел на верхушки деревьев и вспоминал рассказ бедняги Макса о людях Скорцени. Его тогда возмутило, что американский солдат только что не восхищался «подвигами» негодяев-диверсантов. Поверь он Максу, никто бы не погиб. Пайк чувствовал на себе недобрый взгляд Макбета: тот наверняка считает, что боша нужно было сразу пристрелить, а не вести на прогулку. Как, черт его дери, он достал нож? Кто способен вскарабкаться по сосне, где ветки растут бесконечно далеко от земли? Если все дружки немца такие же Бэтмены, жди беды. На допросе он сказал, что операция «Гриф» – обман, пустышка, и Пайк купился.
Матиас наблюдал за американцами, сидя на верхушке дерева. Пайк, как обычно, колеблется. Если он не уберется, придется убить всех, ничего особо сложного тут нет. Ну же, лейтенант, вали отсюда, не заставляй меня терять драгоценное время! Американец вздохнул и скомандовал: «Вперед!»
Жюлю снова пришлось наводить порядок среди обитателей подвала. Франсуаза впала в истерику от мысли, что немцы придут на ферму, увидят Рене и тогда… Юбер и учитель были с ней согласны. Когда Берта попыталась успокоить страсти – мол, на лбу у девочки не написано «еврейка», – Вернер возразил, что у бошей собачий нюх на «этих», а Рене совсем не похожа на местных. Жюль ударил Юбера в зубы, пригрозил, что выкинет приятелей вон из своего дома, и они наконец заткнулись. Детей отпустили поиграть во дворе под присмотром Жюля, устроившегося на крыльце.
Рене пошла на конюшню к Соломону. Конь поприветствовал ее тихим ржанием, и она прижалась щекой к теплому боку животного. Девочка наслаждалась минутами уединения, воображала, как Матиас идет по лесу с американцами, а в ботинке у него нож. Лес – его королевство. Рене закрыла глаза и словно наяву увидела непроницаемое лицо своего немца, по которому безошибочно определяла его настроение. Она крепко зажмурилась и мысленно послала ему всю свою силу, решимость и веру. Поглощенная безмолвной молитвой, малышка не услышала ни криков Жюля и детей, ни шума моторов вездехода и бронетранспортера, въехавших во двор, ни грохота сапог. Она медленно открыла дверь конюшни и увидела, что гражданские стоят перед крыльцом с руками на затылке в окружении пятнадцати солдат. Рене замерла. Немцы. Спрятаться она не успеет – ее уже заметили. Главное сейчас – не показать, что боишься, не побежать. На мгновение девочка встретилась взглядом с немцем, непохожим на остальных, он был не в каске, а в кепи, наверное, офицер, командир. Рене уверенно пересекла двор и встала рядом с остальными.
– Твои дружки явились… – прошептал Альбер и тут же получил удар ногой по голени. Эсэсовец с крыльца холодно смотрел на перепуганных людей. У старухи Марсель подкосились ноги, и она рухнула на землю. Берта кинулась было помочь, но один из солдат что-то рявкнул, и она вернулась в строй. Офицер заговорил по-французски:
– Даю вам пять минут, чтобы покинуть ферму. Оставшиеся будут расстреляны.
Люди оцепенели от ужаса. Эсэсовец посмотрел на часы. Вернер поднял руку, шагнул вперед.
– Здесь дети и старики, – по-немецки сказал учитель, – а в подвалах места хватит всем. Разрешите нам остаться.
Грамотный немецкий сделал свое дело. Надо же, даже в этом глухом бельгийском углу есть несколько германофилов… Эсэсовец ощупывал взглядом лица. Красивая молодая гордячка, крепкий мужик, видимо, ее отец – сходство определенно есть; темноволосая девочка с бархатисто-черными глазами. Это она вышла из конюшни… Решение, нужно принять решение. Расстрелять всех, как на том хуторе с непроизносимым названием. Прафонди… Пардрон… Парфонди… Или оставить в живых, как перепуганных тараканов? Что лепетал тот жалкий человечек? Подвалы большие, места всем хватит. Его люди много часов не отдыхали, а холод стоит такой, что околеть недолго, во всяком случае, ноги он вот-вот отморозит. Офицеру было скучно – он столько раз видел трясущихся от страха людишек, – но и убивать гражданских не хотелось. После стольких лет на войне лишь ощущение всевластия могло взбодрить его. Убить. Сохранить жизнь. Все равно что щелкнуть переключателем: вправо – свет, влево – темнота. Ну что же, пусть тараканы еще поживут.
– Ладно, – высокомерно бросил он, – вы остаетесь. При одном условии: будете готовить еду и не попадаться мне на глаза.
Дальше все пошло как с американцами. А до них – с другими немцами. Пока боши обыскивали ферму, мужчины мерзли на улице, а женщины на кухне готовили из «ничего». Большой подвал заняли эсэсовцы, забрав почти все одеяла и матрасы, остальным пришлось довольствоваться той частью, где недавно обретались люди Пайка.
Рене третий раз так близко видела врагов, считая день в Стумоне. Она воспринимала безликие силуэты в касках и сапогах как щупальца чудовища с одной – невидимой – головой, выкрикивающей отрывистые команды. На сей раз «голова» проявилась: офицер отдавал приказы, глядя на окружающих со смесью скуки и презрения. Большинство солдат выглядели измотанными, все были на взводе, говорили слишком громко, но смеялись как-то невесело. Рене внимательно прислушивалась: этот язык вызывал в душе отклик, даже успокаивал. Так же было, когда Матиас в лесу говорил по-немецки.
В подвале появилась встревоженная Жанна.
– Офицер… Он требует, чтобы дети поднялись.
Франсуаза пронзительно вскрикнула. Ребятишки прижались к женщинам.
– Зачем? – спросила Сидони.
– Он хочет их накормить, – ответила Жанна.
Глаза у детей округлились. Есть хотелось всем, и неважно, что ничего вкусного им в тарелки не положат. Взгляды взрослых обратились на Рене. Ничего не поделаешь. Пусть идут.
16
Офицер сидел за кухонным столом перед пустой тарелкой. Желудок у него был капризный, так что есть клейкое варево он не намеревался. Дети вошли в комнату в сопровождении красивой и насмерть перепуганной девушки. Они выстроились перед эсэсовцем, но глаз не поднимали, и он дал знак стоявшему рядом с ним солдату принести тарелки с неизменной ячменной кашей. Ребятишки не могли начать из-за отсутствия ложек и пребывали в растерянности. Первым не выдержал малыш Жан, зачерпнул пальчиками из тарелки и сунул в рот. Офицер улыбнулся и сделал приглашающий жест – ну же, давайте! Его взгляд остановился на Рене, Жанна это заметила и ужаснулась. Ей показалось, что немец услышал, как бешено стучит ее сердце.
Рене продолжала спокойно есть. Она подняла глаза и на мгновение встретилась взглядом с офицером. Инстинкт подсказывал, что нужно держаться естественно, и она сумела улыбнуться. Горло перехватил спазм, не давая сглотнуть, а эсэсовец не спускал с нее глаз, как будто фонарем слепил. Он найдет, что ищет…
Рене слышала разговор взрослых о безошибочном нюхе немцев насчет евреев. Она спрашивала себя, какие приметы могут ее выдать, и думала, как их скрыть. Раз страх способен навести на след, значит, нужно его замаскировать, она это умеет. Рене очень старалась, с аппетитом жевала, весело переглядывалась с Луизой, и страшный человек наконец отцепился.
– Как тебя зовут? – спросил он Луизу.
– Луиза Паке, – уверенным голосом ответила она. – Ферма принадлежит моему отцу. – В голосе девочки прозвучал вызов.
Жанна сделала шаг вперед, положила руку на плечо сестры. Офицер улыбнулся и задал тот же вопрос Шарлю, Жану и Мишлин. Девочка словно бы не услышала, и за нее ответила Луиза. Эсэсовец посмотрел на Рене и спросил, как ее имя. Его голос изменился, стал вкрадчивым, почти любезным. Рене сделала над собой усилие, посмотрела ему в глаза и ответила:
– Меня зовут Рене.
Какие глаза! Темные. Лукавые. А черты лица… высокие скулы, пухлый рот, крупный нос. Без горбинки, но с широкими ноздрями. Интересно, что она делала в хлеву? Да, девчонка может быть одной из них, чудом выжившей еврейкой в забытой богом деревне. Рене знала, что за ней наблюдают, но держалась с олимпийским спокойствием и хладнокровно выдерживала взгляд врага. Отлично сыграно, но его не обмануть. Лоб эсэсовца покрылся испариной. Сколько образчиков этой породы вырвались из расставленных сетей и прячутся, как крысы, по таким вот подвалам? Они будут расти и размножаться, пока немецкие дети гибнут под бомбами! Эсэсовец вскочил, повелительно махнул рукой.
– Raus, все вон!
Жанна поторопилась увести детей из комнаты. На лестнице Рене вдруг почувствовала ужасную слабость. Как бы ей хотелось сбежать, покинуть ферму, спрятаться в хижине. Она устала вести игру. Девочка села рядом с Жинеттой, но так и не успокоилась. Остальные сторонились ее, как зачумленной. Одни делали это непроизвольно: Берта не смотрела в глаза, даже Жюль не улыбался, не подмигивал. Рене все понимала: останется она или уйдет, их все равно ждет смерть. Немцы наказывают тех, кто помогает евреям. Она думала об этом с тихой смутной печалью. Душа Рене исчерпала запас сочувствия, она опустела, когда увели ее солдата. Девочка впервые всерьез задумалась о смерти Матиаса. И о своей тоже. Продолжать жить без него не имеет смысла.
Когда стемнело, немцы спустились в подвал. Два солдата принесли из гостиной большое кресло для командира, офицер выбрал пластинку, поставил на граммофон, и голос Эдит Пиаф заполнил все пространство. Музыка не разрядила атмосферу, а только создала болезненную напряженность. Жюлю в голову пришла нелепая мысль: «Как бы не возненавидеть Пиаф навсегда из-за сегодняшнего вечера!» Эсэсовец сел, и солдат принес ему стакан вина. Фермеру пришлось выдать незваным гостям несколько лучших бутылок из тех, что были припрятаны за стенкой погреба. Он испытывал почти физическое страдание, глядя, как немцы хлебают его старое бургундское. Солдаты пытались отключить мозг, забыться, вообразить, что никакой войны нет. Они быстро опьянели, затянули песни, некоторые даже пробовали танцевать. На офицера спиртное действовало не лучшим образом. После каждого глотка его лицо еще больше темнело, он то заходился злым смехом, то погружался в наводящее ужас молчание. Гражданские не могли заснуть. Мишлин снова заплакала, ее пытались успокоить, уговорить, но стало только хуже. Эсэсовец ввалился в подвал и наставил на людей пистолет.
– Тихо! – рявкнул он.
Все смолкли и замерли, а Мишлин запаниковала еще сильнее. У нее началась настоящая истерика.
– Пусть она немедленно замолчит! – Немец окончательно вышел из себя.
Мишлин издавала пронзительные крики, отбивалась от Сидони, которая пыталась зажать ей рот ладонью, и тогда он прицелился ей в голову. Жанна решила вмешаться. Она заслонила собой Сидони, забрала у нее Мишлин, медленно повернулась и посмотрела в лицо офицеру. Он заколебался, потом опустил свой «Люгер». Девушка быстрыми шагами пересекла подвал и побежала по лестнице. За ней последовал один из солдат. Эсэсовец презрительно посмотрел на перепуганных людей и остановил взгляд на Рене, которая сидела рядом с Бертой.
– Твоя дочь?
– Нет. Рене потеряла семью в Труа-Пон. Ее привел учитель.
Немец пожал плечами, повалился в кресло и сделал несколько жадных глотков прямо из горлышка. Учитель! Эти люди ему надоели… Сейчас он слишком пьян и устал, но на рассвете прикажет их расстрелять. Щелк! Темнота. Нужно поспать. Он несколько дней не смыкал глаз. Солдаты горланили глупые похабные песни. Совсем недавно их бы за это наказали. Да заткнитесь же, идиоты! Солдаты умолкли. Жалкие вояки промерзли до костей и оголодали, двоим едва исполнилось пятнадцать, но в глазах у них не только страх, но и мужество и рвение. Они – немецкие герои, которых принесли в жертву во имя великой победы. Эсэсовец знал, что победы не будет, конец близок, а люди, что сейчас поют и смеются, подобны гоплитам[86] спартанского царя Леонида, которые пали в бою с армией Ксеркса и навсегда увенчали себя славой. Если рейх не способен выжить, пусть достойно погибнет – примерно так сказал Геринг в одной из последних речей. А дирижировать падением, апокалипсисом, какого не знала мировая история, будет СС. Величественное и ужасное исчезновение навсегда останется в памяти человечества. Из-под века офицера медленно выкатилась слеза, он начал тихонько напевать: Wo wir sind da geht’s immer vorwärts, und der Teufel der lacht nur dazu, ha, ha, ha, ha, ha! Wir kämpfen für Deutschland, wir kämpfen für Hitler…[87] Солдаты подтянули, и очень скоро «Чертова песня» сменилась другими, более фривольными песенками. Офицер не возражал. Одного из солдат вырвало на соседа, отвратительно запахло блевотиной. Эсэсовец прикрыл лицо воротником шинели, подумав: «Это еще не Фермопилы…»[88]
Жанна была в хлеву, сидела у стены – там, где они с Матиасом занимались любовью. Она вспомнила его дыхание на затылке, вздрогнула и устроилась поудобнее, прижав к себе Мишлин. Девочка тихонько поскуливала. Солдат стоял у противоположной стены, курил и думал о чем-то невеселом. Жанна заметила, что он не так уж и молод, лицо осунулось, спина сгорблена. Девушка запела старинную колыбельную, он повернул голову и сел рядом. «На ступенях дворца, на ступенях дворца…» Жанне показалось, что ее пение успокаивает не только малышку, но и немца. Он улыбался – наверное, вспоминал детство. Ему тоже нужны были поддержка и любящие объятия. Наверное, солдат думал об оставшихся в Германии детях. Он стал эсэсовцем, сеял страх и желание закопаться в землю, чтобы выжить.
Время от времени через окошки доносились пьяные вопли, звон разбитых бутылок, и немец сокрушенно качал головой. Жанна продолжала петь: колыбельная умиротворяла, и она чувствовала себя почти хорошо в теплом хлеву, где пахло коровами, с Мишлин на руках, рядом с вражеским солдатом, от которого исходило братское участие. «Возможно, завтра все мы умрем…» – спокойно, почти равнодушно подумала Жанна. Немец склонился над уснувшей девочкой, жестом показал Жанне «ну наконец-то!», и тут из-за открытой двери донесся какой-то глухой шум. Он встал, приложил палец к губам, знаком велел Жанне оставаться на месте и бесшумно выскользнул во двор. Она растерялась, но снова запела. Ей хотелось, чтобы этот человек остался с ней до скончания времен, чтобы не пришлось возвращаться в подвал, слушать крики, кожей чувствовать чужой страх, видеть трусость Юбера и Франсуазы, смотреть, как офицер унижает отца, и главное – главное – бояться за жизнь близких. «Если захочешь, красотка, если только захочешь, ляжем вместе с тобой, ля-ля-ля…»
Солдат вернулся, проскользнул между коровами и сел рядом с Жанной. Девушке показалось, что в нем что-то изменилось. Походка? Выправка? Скорее всего он проникся волшебством момента и решил вести себя прилично. Она ждала хотя бы взгляда, улыбки – мол, все в порядке, можно продолжить с того места, на котором они остановились, он – в своих мыслях, она – в своих. Но солдат смотрел в пол, а когда поднял голову, она увидела… светлые глаза, хотела крикнуть, но Матиас зажал ей рот ладонью.
– Продолжай петь, – шепотом приказал он.
Жанна была так ошеломлена, что подчинилась и срывающимся голосом запела «На ступенях дворца». Матиас снял каску, пригладил волосы. Он не спал уже тридцать шесть часов, а голос Жанны навевал непреодолимое желание закрыть глаза. Внезапно его осенила удивительная мысль: девушка не должна находиться среди всего этого дерьма. Матиас искренне надеялся, что она встретит хорошего парня и тот привнесет в ее жизнь немного радости. Жанне нужен мужчина, который будет ценить ее красоту, не заставит все время рожать, пока упругий живот и груди не превратятся в отвислые бурдюки, и они мирно состарятся вместе. «И мы будем спать там, спать там до скончания времен, ля-ля-ля, до скончания времен». Мишлин заворочалась во сне, и Жанна осторожно положила ее на солому.
– Где она? – спросил Матиас.
Его интересует Рене… Жанна не понимала, что чувствует. Гнев и горечь боролись с радостью видеть Матиаса живым.
– Я надеялась, что они тебя убьют, – прошипела она.
– Знаю… – Он улыбнулся.
Девушка влепила ему пощечину и была готова получить сдачи, но Матиас лишь потер щеку.
– Их пятнадцать, верно? – спросил он.
– Вроде да, я не считала!
– Все в большом подвале?
– Да.
– А гражданские?
– Там, где жили янки.
– Рене?
– Офицер позвал детей в комнату – решил накормить. Он странно смотрел на малышку. Думаю, негодяй знает.
Матиас заметил танк с дерева, куда залез, чтобы оглядеть окрестности. Следом шли эсэсовцы, отдельная часть дивизии «Рейх», которая в июне уничтожила целую деревню близ Лиможа и отличилась еще несколькими «патриотическими» деяниями того же рода. Матиас последовал за ними по лесу, понял, что они идут к Паке, и принял решение. Присоединяться к своим он не станет, даст им войти на ферму и понаблюдает. С крыши хлева двор был как на ладони, Матиас слышал угрозы офицера и пришел в бешенство, когда Вернер попросил, чтобы гражданских не выгоняли с фермы. Рене в большой опасности. Он не знал этого эсэсовца, но сразу понял, какой тот породы.
– Я провожу тебя вниз, – сказал он Жанне.
– Нет!
Она попробовала подняться, но Матиас удержал ее за запястья.
– Я закричу! – сквозь зубы процедила она, пытаясь вырваться.
Матиас обнял девушку за плечи, притянул к себе, поцеловал – она не разомкнула губ. При других обстоятельствах его бы это позабавило, но не сегодня. Он повторил попытку, стал целовать ее в шею и почувствовал, как она напряглась. Сопротивление Жанны привело его в холодную ярость, ему захотелось ударить ее ножом, подчинить себе. Машина для убийства снова заработала после смерти Дэна, Макса, Тритса и пожилого немца. Жанна выворачивалась, била его кулаками в грудь. Дура несчастная! Одной рукой он держал ее за затылок, другой потянулся за ножом. Девушка начала уставать, ее глаза наполнились слезами, она испугалась. Матиас почувствовал, как вспотела кожа под волосами Жанны, отпустил ее, и она разрыдалась. Он вздохнул и отвернулся, а она вдруг обняла его, прижалась, рыдая, как ребенок. Ну вот, всего и делов, нужно было проявить немного терпения. Жанна подняла лицо, нашла губы Матиаса и поцеловала со всем пылом отчаяния.
Они направились к подвалу. Мишлин спала на руках у Жанны, Матиас шел следом, надвинув каску низко на глаза. Некоторые солдаты спали, другие что-то бормотали в пьяном забытьи. Офицер дремал в своем кресле. В тот момент, когда Жанна вошла в подвал к гражданским, один из солдат дернул Матиаса за штанину.
– Ну что, сладкая цыпочка? – заплетающимся языком спросил он.
– Слаще торта «Захер», – ответил Матиас.
Тот глупо улыбнулся и решил присоединиться к парочке. Матиас обернулся, мгновенно свернул ему шею и бесшумно уложил тело на пол, а когда выпрямился, увидел Рене. Девочку не напугал вид мертвого человека. Матиас посмотрел на Жанну. Завтра офицер заметит исчезновение Рене, узнает, что убиты два солдата, и наверняка прикажет расстрелять всех гражданских. Или не всех – это уж какое настроение будет. Жанна думала о том же и представляла, как лежит на снегу, мертвая, в том самом месте, где несколько минут назад целовала Матиаса, и знала, что сделает все, что он захочет.
Рене и Матиас были у лестницы, когда тишину прорезал отчаянный вопль. Мишлин приснился очередной кошмар. Офицер проснулся, и Матиас мгновенно принял решение, толкнув Рене в подвал к гражданским. Разъяренный эсэсовец ринулся на крик, выстрелил в Мишлин, промахнулся, Жюль попробовал вмешаться и получил пулю в плечо. Бригаденфюрер приказал солдатам вывести всех во двор, они пинками погнали людей к лестнице, и Матиас незаметно присоединился к остальным. В суматохе никто не заметил убитого им солдата. Занимался рассвет, впервые за долгое время небо было прозрачно-ясным. Эсэсовец обвел ненавидящим взглядом заложников и спросил:
– Где еврейка?
Рене спряталась за Берту. Офицер повторил свой вопрос, Вернер поднял руку и начал объяснять:
– С ней пришел один из ваших… Он был в американской форме.
– Довольно! – Немец побледнел, губы у него затряслись. – Вас расстреляют. Всех.
Франсуаза сделала два шага вперед и указала на Рене.
– Еврейка здесь…
Эсэсовец в сопровождении солдата подошел к девочке, долго на нее смотрел и отдал команду, не глядя на подчиненного:
– Убей ее.
Солдат встал перед Рене спиной к командиру и направил на нее оружие. Она подняла голову, ловя его взгляд (в последний раз это помогло), и ее лицо просветлело.
– Чего ты ждешь? – рявкнул эсэсовец в спину Матиасу.
Тот резко обернулся, выстрелил ему в лоб, и он с изумленным видом рухнул на землю. Стоявший у него за плечом солдат даже прицелиться не успел и тоже оказался на земле с ножевой раной в животе. Другой эсэсовец застрочил из автомата, Матиас перерезал ему горло и тут же ударил под ложечку другого. Все случилось мгновенно и выглядело, как сотни раз отрепетированное представление. Рене побежала во двор, раненый солдат взял ее на мушку, но выстрелить не успел – получил стрелу в грудь. Другая вонзилась в спину тому, что боролся с Матиасом. Гражданские разбежались в разные стороны, Матиас в несколько скачков преодолел двор, подхватил Рене, укрывшуюся за дохлой лошадью. Невесть откуда летевшие стрелы убивали одного немца за другим.
Затаившийся на голубятне Филибер ловко перезаряжал арбалет и стрелял, весело напевая. Уйдя с фермы сразу после разоблачения «Мэта-одинокого-ковбоя-из-Канады», он решил, что принесет больше пользы на воле, а не среди сумасшедших американцев. Филибер следил за подступами к ферме, слушал, что говорят о положении на фронте, видел, как пришли немцы, перепугался и не знал, что делать. Он отправился на разведку и встретил американцев. Их было много, все вооруженные до зубов. Они шли к ферме и сказали Филиберу, что самолеты скоро начнут бомбить, а значит, войне конец.
Матиас бежал к хлеву с девочкой под мышкой, за ним гнался солдат. Пока Филибер перезаряжал оружие, он успел выстрелить. Матиас упал, увлекая за собой Рене, но она тут же вскочила на ноги, обернулась, увидела, что бош рухнул со стрелой в спине, добежала до хлева и исчезла из поля зрения Филибера.
Юбер и Вернер укрылись в пекарне, остальные вернулись в дом, и только убитая Мишлин осталась лежать в луже крови. Жюль подошел к окну, услышав гудение моторов. На двор упали первые бомбы. В воротах появились американские солдаты, и двое оставшихся в живых эсэсовцев сдались.
Матиас на несколько секунд потерял сознание, но почти сразу пришел в себя от боли, узнал характерный шум истребителей – легендарных английских «Спитфайров» – и подумал, что пехота недалеко. Он с огромным трудом столкнул с себя тяжелое тело умирающего, встал на колени, увидел Рене и последним усилием дотащился до двери. Внутри Матиас привалился к стене, чтобы перевести дух. Рене залилась слезами, увидев его окровавленный бок.
Филибер покинул свой пост на голубятне и незаметно проскользнул в хлев. Немец был очень плох. Он истекал кровью, лицо стало смертельно-бледным, глаза помутнели, как вода в пруду Утопленников, но он велел Филиберу оседлать Соломона. «Неужели этот парень надеется удержаться в седле? Малышка плачет, гладит его по руке, трогает рану, потом вытирает глаза. Просто беда! Все личико перемазала, а он улыбается, хотя ему жутко больно. Вон, весь мокрый от пота, наверняка уже жар начался…»
Филибер взял валявшееся в углу ведро, налил воды из колонки, Матиас сделал несколько жадных глотков и слегка взбодрился. Филибер снял рубашку, разорвал на полосы, туго перебинтовал Матиасу живот, чтобы остановить кровотечение, помог ему встать и подсадил на лошадь, потом пристроил Рене в седле перед ним. Матиаса качало, повязка промокла от крови, но он собрался, и они наконец тронулись в путь.
Когда лошадь перешла на галоп, ветер подул Рене в лицо, но она крепко держалась за гриву Соломона и не боялась, ведь ее спину защищал Матиас. Над ними пролетел самолет, сделал круг и снизился, как будто пилот решил посмотреть на всадника поближе. Рене знала, что Матиас умирает, лошадиная шкура промокла от крови. Она слышала, как тяжело он дышит. Матиас на мгновение отпустил уздечку и обнял девочку, чтобы успокоить ее. Они свернули к лесу, и Соломон замедлил шаг. Матиас привалился к Рене, она обернулась, стала звать его, заставила поднять подбородок. Он вымученно улыбнулся и впал в полузабытье.
Они все-таки доехали до хижины Жюля. Матиас свалился на снег у порога и потерял сознание. Его била дрожь, тело было мокрым от пота, и Рене, как ни старалась, не могла привести его в чувство. Вокруг стояла гулкая тишина – все звуки войны стихли, и только девочка рыдала, глядя на помертвевшее лицо Матиаса. Она трясла его, звала по имени, потом совершенно отчаялась и дала ему пощечину. Он очнулся и дополз до старого матраса. Рене разожгла огонь в очаге, сняла пальтишко и накрыла его, потом сходила к источнику за водой и попыталась напоить Матиаса, но не сумела. Жизнь медленно покидала его.
Рене подумала было вернуться на ферму за помощью – Соломон наверняка найдет дорогу, – но испугалась, что смерть воспользуется моментом, придет и заберет Матиаса. Она сидела рядом, вытирала ему лицо и шею влажным полотенцем и просила остаться с ней. Он что-то бормотал по-немецки, из груди у него рвались хрипы, глаза на мгновение открылись, но не видели Рене.
Два часа спустя пришел Филибер. Он промыл рану, сделал новую повязку. Кровотечение остановилось, но в себя Матиас не пришел, и жар все никак не спадал. Пришлось идти за Жинеттой. Знахарка извлекла пулю и четверо суток не отходила от больного. Филибер топил не переставая, но в комнате все равно стоял ужасный холод. Жинетта изумлялась атлетическому сложению Матиаса, той яростной жажде жизни, которая пропитывала все его существо и не позволяла сдаться. Он был рожден для жизни, хоть и делал вид, что глубоко ее презирает.
17
Арденнское сражение закончилось 24 января, после того как союзники взяли Сен-Вит. Во время наступления на Уффализи Сен-Вит ферма пережила третье «нашествие» американских солдат. К концу января Матиас уже мог вставать и даже ходить. Жюль и Филибер принесли кровать, две табуретки и стол, чтобы он прятался в хижине до полного выздоровления. Свидетелям рождественских событий сказали, что Матиас мертв, и только члены семьи Паке, Филибер и Жинетта знали правду. Рене жила на ферме, но могла навещать Матиаса, когда хотела, – Филибер ее провожал, а потом забирал.
Все изменилось. В присутствии Рене Матиас чувствовал необъяснимую неловкость. Он надеялся, что, вновь оказавшись в хижине вдвоем, они переживут мгновения острого, идеального, почти сказочного счастья, но все вышло иначе. Тогда, зимой, случилось чудо, теперь нужно было думать о будущем, а Рене в нем места не было. Матиас не умел жить среди людей, он был уверен в бессмысленности всего сущего и ничего не мог дать девочке.
Она сразу поняла, что все изменилось. Матиас избегал физического контакта, был немногословен, а иногда даже отворачивался, когда она на него смотрела. После ухода Рене он чувствовал облегчение, но следующей встречи ждал с лихорадочным нетерпением. Так повторялось из раза в раз.
Матиас был так несчастлив, что даже подумывал сбежать, как вор. Утром он готовился к уходу, а вечером сидел у очага и курил, глядя на огонь. Не хотел жить с Рене, но не мог решиться на жизнь без нее.
Она прекрасно понимала, что его мучит, и была готова противостоять событиям, которые предугадывала лучше Матиаса. Рене навещала его все реже, а потом решила не приходить вовсе, зная, что именно этого он и хочет. Так было нужно. Обитатели фермы не слишком удивились: немец скоро исчезнет, а девочка вернется к семье. «Они не могут, не должны быть вместе, – говорила Берта. – Теперь, после войны, все должно вернуться на круги своя».
Жюль пришел в хижину, чтобы поговорить с Матиасом о делах. Он считал, что пора разыскать родителей Рене. Немец ничего не ответил, только посмотрел на фермера непроницаемым взглядом. Жюль сказал, что отправится в Брюссель, как только закончится треклятая война.
Матиас был почти уверен, что родителей Рене нет в живых. Бельгиец – славный человек, но он ни черта не понимает, а объяснять ему, что концлагерь – не санаторий на водах, Матиасу совсем не хотелось. Ладно, пусть ищет… Рене уже ничего не ждет, она давно перестала надеяться. Интересно, как отреагирует малышка, если случится чудо и окажется, что жив ее отец, тетка или брат? Наверняка будет счастлива, но и потрясена, как любой ребенок. Возможно, слишком потрясена, чтобы радоваться… Матиас редко общался с детьми и не представлял ни мыслей, ни чувств Рене.
Жюль запретил Жанне видеться с Матиасом, но она, конечно же, не послушалась. С наступлением ночи девушка покидала ферму и возвращалась только на рассвете. Матиас не протестовал. Жанна была очень хороша, по уши влюблена и помогала ему забыться. Ничего, когда он уйдет, она справится. Не уморит себя голодом, не прыгнет с моста. Жанна приносила ему поесть, всегда что-нибудь вкусное.
Время шло медленно, ужасно медленно. Матиасу надоело охотиться, надоело разжигать огонь, он устал даже от бурной страсти Жанны. Ему нужны были простор, свежий воздух, суровое одиночество и дикость северного края. Он мечтал затеряться на бескрайней ледяной равнине и все время видел во сне стремительную реку Руперт – самую любимую и опасную, едва не лишившую его жизни. За этой природной границей мир становится иным, девственным и очень древним. Он будет вечно ускользать от Матиаса и вечно манить его к себе.
Война затягивалась. На что надеется Усатый? Русские и союзники зажали его в клещи, армия обескровлена, народ гибнет, страна лежит в развалинах. Даже самые упертые фанатики начинают уставать. Только Геббельс и его жена-истеричка рассуждают вечерами в бункере о превосходстве арийской расы, одиноком герое, хозяине мира, населенного сверхлюдьми, похожими друг на друга как две капли воды своей физической и духовной «белокуростью». Арийский сверхчеловек не явился с таинственного исчезнувшего континента, чтобы спасти Германию от катастрофы, хотя в жертву ему были принесены целые народы… Весь этот нацистский бардак закончился полным крахом.
Восьмого мая Германия капитулировала. В деревнях звучала шумная музыка, люди танцевали на площадях, ветер доносил с фермы Паке веселые возгласы и песни. Радуйтесь, добрые люди, и спите спокойно! До следующего раза.
Рене не приходила много недель. Матиас очень удивился, узнав, что она сама так захотела. Девочка все правильно поняла и приняла решение, на которое он втайне надеялся.
Зашуршала листва, и Матиас мгновенно оказался на ногах, но это был всего лишь Филибер с полной корзинкой еды. Доброй Берте было немного совестно пировать и праздновать, пока «бош» сидит в хижине один как сыч, оголодавший и замерзший. Матиас представил, как она говорит недовольным тоном: «Война закончилась для всех…» Женщина решила проявить благородство к «врагу» – а Матиас ей враг и таковым останется, – она собрала угощение и послала Филибера в лес, наказав не задерживаться надолго с «большим злым волком».
Паренек дважды постучал в приоткрытую дверь, и Матиасу захотелось прогнать его, но Филибер уже вошел, просияв обычной смущенной улыбкой. Немец производил на него завораживающее впечатление. В корзине нашлись сухари, ветчина, хлеб, масло и даже бутылка красного вина, чему Матиас очень обрадовался, – в последнее время Жанна приходила редко и мало что приносила. На ферме о нем почти забыли.
На улице стемнело. Жюль сидел напротив Матиаса, на столе перед ним лежал небольшой блокнот со сделанными второпях записями. Он долго не мог начать разговор, но наконец решился:
– У малышки никого не осталось. Ее родителей отправили в Ауш… Ауш…
– Аушвиц, – отрывисто произнес Матиас.
Жюль посмотрел на него с удивлением и ужасом, сглотнул и снова уткнулся в записи:
– Ну так вот… Их увезли в январе 1943-го, в составе номер девятнадцать. Никто оттуда не вернулся.
Фермер поднял глаза на бледное бесстрастное лицо Матиаса и продолжил дрогнувшим голосом:
– Ее родители приехали из Германии, в 1939-м…
Матиас не удивился, он с самого начала предполагал, что Рене – немка. Мир очень скоро узнает великое множество печальных и, увы, банальных историй депортированных семей, и все они будут похожи одна на другую. Жюль вздохнул, захлопнул блокнот и подтолкнул к Матиасу.
– Все здесь. В Брюсселе меня спросили, смогу ли я недолго подержать малышку у себя. Для таких детей есть специальные дома, но они переполнены…
– Мне не нужен блокнот, – неприятным тоном бросил Матиас.
– Я все-таки оставлю его тебе, – возразил Жюль и достал из кармана конверт. – Вот твои документы. Ну ладно… мне пора, коровы ждать не будут.
Матиас кивнул. Жюль пошел к двери, обернулся с порога и сказал:
– Жанна была в кино, в Льеже. В хронике показывали… освобождение лагерей…
Ну вот, теперь понятно, почему девушка так давно не приходила. Фермер спросил, известно ли Матиасу, что делали с людьми там. Да, известно. Участвовал ли он в этом? И да, и нет. Он отправил в лагеря немало людей – пусть и не своими руками, – но никогда там не… работал.
– Хорошо…
Все слова сказаны. Матиасу было жалко Жанну – она узнала чудовищную, невыносимую правду. Мир не скоро оправится от пережитого кошмара, но сейчас нужно попытаться выжить.
Жюль ушел, и Матиас подбросил дров в огонь. Значит, Рене потеряла всю семью. Она останется у Паке, пока для нее не найдется место в одном из еврейских интернатов, и присоединится к десяткам навсегда травмированных детей. Они будут хором распевать на иврите, плести макраме и чистить картошку. Ладно, все, успокойся… Матиас закурил. Нет, не все. Не такой он представлял судьбу Рене, и она наверняка тоже хочет другого. Неужели надеется, что Матиас возьмет ее с собой и будет воспитывать как дочь? Он совершенно не готов стать отцом. И никогда не будет готов.
Матиас сел за стол и открыл конверт с фальшивыми документами. Теперь его имя Матиас Грюнбах, бельгиец, уроженец Рарена[89]. Придется придумывать новую историю, новое прошлое, а Матиас устал таскать за собой двойников, как надоедливых четвероюродных кузенов, с которыми приходится проводить каникулы.
Несколько месяцев назад, очнувшись после ранения, он начал путаться в своих многочисленных жизнях, смешивая реальность и вымысел. Да какая, к черту, разница, если все это время его судьбой руководила ложь! Разгульные предвоенные годы в Берлине казались теперь не более реальными, чем все выдуманные жизни и образы на вечер или несколько месяцев. Он встал, подошел к окну и мысленно рассмеялся, увидев свое отражение в стекле. Волосы отросли, черная краска слиняла, и к ним вернулся натуральный средне-русый, с медным отливом, цвет. Матиас подумал, что выглядит сейчас как мальчик из хора, и в таком виде Дэн ни за что бы его не разоблачил. И, возможно, остался бы жив. Как же глупо все вышло… Он выдохнул дым, и стекло запотело.
Матиас взял блокнот Жюля. Все это его больше не касается. У Рене своя жизнь, у него своя. Он протянул руку к огню, отдернул ее, положил блокнот на стол, открыл и начал читать. Глаза задержались на одном слове: Ребека. Жюль написал имя через одну букву «к». Матиас захлопнул книжечку. Решено, через неделю его здесь не будет.
День был серым и прохладным. Легкий туман окутывал деревья, размывая их очертания, совсем как зимой. Рене и Матиас ели пирог, который принесла девочка. Филибер должен был вернуться за ней через пару часов. Узнав, что Матиас хочет ее видеть, она обрадовалась, надела новое красное платье, а он сидит, молча жует и хмурится.
– Давай, скажи, что вкусно.
Матиас улыбнулся:
– Вкусно.
Рене изменилась. Выросла. Девочка вела себя очень естественно, но отстраненно, и это сбивало Матиаса с толку. Черные, с синеватым отливом волосы, подхваченные красной бархатной лентой, свободными волнами падали на спину. Она держалась очень прямо, смотрела, как он ест, и в ее взгляде была ирония.
– Ты не очень тут скучал?
Его удивил веселый тон Рене: она не выглядела ни расстроенной, ни мрачной.
– Нет.
Рене знала, что это неправда. Он уйдет. Один. Матиас позвал ее, чтобы сказать это. Девочка неделями ждала, чтобы он подал знак, каждый час, каждую минуту думала только о нем. И как-то вечером, за ужином, вдруг осознала, что ее мысли были заняты им не весь день. Жизнь стала полной и простой, как прежде, она подготовилась к уходу Матиаса, приняла решение не навещать его в хижине, интуитивно понимая, что продолжает плести связующую их нить. Разлука может оживить чувства, заставить Матиаса тосковать по ней. Она смотрела, как он ест пирог, и понимала, что не ошиблась.
Ее немец изменился. Глаза утратили блеск, уголки губ опустились, делая его похожим на капризного мальчишку. Он набрал вес, стал двигаться не так грациозно. На ферме Паке Рене видела журнал с фотографией тигра в зоопарке. Хищник лежал в тесной клетке и устало смотрел на фотографа чудными оранжевыми глазами. Она подошла к Матиасу и положила руку ему на плечо.
– Все будет в порядке. Когда ты уходишь?
Матиас подавился крошкой и закашлялся. Девочка постучала ему по спине, но это не помогло – пришлось выпить воды. Рене решила облегчить ему жизнь, не хотела, чтобы неспособность выговорить то, что следовало сказать, омрачила их последние мгновения. Он ответил, отведя взгляд:
– Дня через два или три.
Они решили прогуляться по лесу. Время у них было – Филибер появится только через час. Рене шла первой, не оглядываясь, и вдруг остановилась, чтобы сорвать цветок. Матиасу показалось, что он вернулся назад, в стылое декабрьское утро, тишину которого нарушали взрывы и карканье ворон. Он целился Рене в спину, потом она обернулась, подняла глаза, и он замер, не в силах выстрелить. Его словно парализовало, и только внутри все дрожало, он чувствовал, что падает с головокружительной высоты. Так бывает, когда человеку снится падение и он просыпается в самый последний момент, перед тем как разбиться. Матиас встряхнулся, а девочка все так же смотрела на него черными блестящими, как китайский лак, глазами, и взгляд этих жгучих глаз был спокоен. Он почти физически ощущал ток крови в сердце, венах и мышцах ребенка, видел, как стынет на морозе каждый выдох ее алых губ. От Рене исходило нечто несказанное, какое-то сверхъестественное и могущественное присутствие. Она – сама жизнь, и она смотрит на него так, как будто узнаёт, так, словно ждала его.
Не он решил не убивать Рене – она. В это мгновение он душой и телом принадлежал еврейской девочке в потертом пальтишке и дырявых ботинках, малышке с дерзким взглядом и статью королевы. Матиас не испытал сочувствия или порыва доброты. Он бы хладнокровно убил любого другого ребенка, но в Рене выстрелить не смог. Этот жест не обеспечил ему искупления, ни от чего не спас, но изменил необратимо.
Эпилог
«Аркадия» уже неделю плыла в Галифакс. Погода хмурилась, море штормило. Второй помощник капитана Дэвид Джонс, крепкий жизнерадостный валлиец лет пятидесяти, курил на задней палубе. Ему иногда удавалось перекинуться парой слов с бельгийцем, одним из немногочисленных пассажиров торгового судна. Джонса снедало любопытство. Страны по ту сторону Атлантики еще не открыли свои порты для иммигрантов, как же этот человек убедил капитана взять его на борт? Загадка… По его словам, он до войны был траппером и теперь возвращается в далекий морозный край – залив Джеймс. Может, и так. Странный тип. Кроме французского, хорошо говорит по-английски, но выглядит как пришелец со звезд и вроде бы умеет читать мысли.
Если бельгиец не в настроении и не желает общаться, он смотрит на вас странными светлыми глазами, так что дрожь пробирает, и вы оказываетесь на другом конце корабля. Дэвид так далеко уходить не стал, задержался у толстой двери, ведущей с палубы в коридор. Пассажир курил, облокотясь на леер. Когда дверь заскрипела, он обернулся, и его лицо просветлело. Второй помощник не видел, кто появился на пороге, но готов был поставить двадцать монет, что это девочка. Только она способна заставить так улыбаться загадочного охотника. Тонкий силуэт, гордая посадка головы, черные волосы развеваются на ветру. Бельгиец сказал, что она его дочь, и документы предъявил, но это брехня. Матросы держатся от странной парочки на расстоянии, но Дэвиду и капитану нравится их компания, хотя общаться или нет, решает траппер. Второй помощник не знает, что связывает этих двоих. Они не похожи, но в них есть нечто общее, этакая животная дрожь, свирепая энергия, редко встречающаяся в людях. Однажды Дэвид спросил, как они пережили войну, мужчина пожал плечами и ответил: «Какая разница? Сегодня мы живы».
Примечания
1
«Кюбельваген» – немецкий военный легкий вездеход со съемным тентом и без боковых окон. За высокую надежность, живучесть и проходимость автомобиль получил прозвище «немецкий верблюд». (Здесь и далее примеч. перев.)
(обратно)2
Зловещая эмблема СС (военизированные формирования НСДАП в 1933–1945 гг.), печально известная миллионам людей, была разработана художником-графиком гауптштурмфюрером СС Вальтером Хеком в 1933 г. Эмблема имела вид сдвоенных рун «зиг» и напоминала латинское написание «SS» (ϟϟ – руническое «SS»). Руна «зиг» – атрибут бога войны Тора. Г. Гиммлер утвердил «сдвоенную молнию» в качестве эмблемы СС.
(обратно)3
Возьмите девочку! (англ.)
(обратно)4
Вы рехнулись?! (англ.)
(обратно)5
Она (англ.).
(обратно)6
Ее уничтожат! (искаж. англ.)
(обратно)7
Ну и что нам теперь делать? (нем.)
(обратно)8
Лестер Янг (1909–1959) – американский тенор-саксофонист и кларнетист, один из крупнейших музыкантов эпохи свинга. Американская контрразведка отслеживала немецких диверсантов, проверяя знание пароля и документы, а также задавая элементарные на первый взгляд вопросы, ответить на которые мог только настоящий американец. Один из генералов, например, попал под арест до «выяснения личности», когда не сумел назвать имя мужа актрисы Бетти Грейбл – трубача Гарри Джеймса. От участия в тестах освобождались только негры.
(обратно)9
«Гриф» – немецкая операция, замысел которой принадлежал Гитлеру, началась 16 декабря 1944 г. Перед диверсантами стояли грандиозные задачи: убийство главнокомандующего англо-американскими войсками Дуайта Эйзенхауэра, захват одного или нескольких мостов через реку Маас, создание хаоса в американских тылах. В этой операции задействовали около 3 тыс. англоговорящих диверсантов, переодетых в форму армии США и перемещавшихся на американской военной технике. Операция провалилась еще на этапе захвата моста, руководивший ею Отто Скорцени (см. ниже) бежал в Берлин, многие диверсанты были схвачены и расстреляны. 29 января 1945 г. союзники начали вторжение в Германию.
(обратно)10
Отто Скорцени (1908–1975) – немецкий диверсант австрийского происхождения, оберштурмбаннфюрер СС, получивший широкую известность в годы Второй мировой войны благодаря успешным спецоперациям. Самая известная – освобождение из заключения свергнутого итальянского диктатора Бенито Муссолини (1883–1945).
(обратно)11
3 сентября 1941 г. по приказу заместителя коменданта Освенцима К. Фрицша были запущены первая газовая камера и крематорий. В этот день погибли 600 советских военнопленных и 250 других узников.
(обратно)12
В 1943 г. по заданию Гитлера О. Скорцени разработал операцию по освобождению Б. Муссолини, арестованного по приказу короля Виктора Эммануила III. Двенадцать планеров «DFS 230» с одним пилотом и девятью десантниками на борту каждого приземлились в горах рядом с отелем «Кампо Императоре», где содержался дуче. Две немецкие роты захватили в долине станцию канатной дороги. Все произошло молниеносно, итальянцы были так потрясены, что не оказали никакого сопротивления. На легком одномоторном самолете «Физелер-Шторх» капитан Г. Герлах вывез Муссолини на военную базу в 30 км от Рима. 14 сентября 1943 г. на «Юнкерсе-52» он прилетел в ставку Гитлера в «Волчьем логове».
(обратно)13
15 октября 1944 г. в ответ на объявление регентом Венгерского королевства адмиралом М. Хорти перемирия с СССР Германия начала операцию «Панцерфауст». Сын регента был похищен диверсантами Скорцени. Немцы угрожали убить Хорти-младшего, если его отец не передаст власть лидеру венгерских фашистов Ференцу Салаши. Регент выполнил все требования, его сын пережил войну, а венгерские евреи пополнили ряды узников немецких концлагерей.
(обратно)14
«Кобеднешную» одежду надевали к главной дневной службе – литургии, иначе, обедне.
(обратно)15
К осени 1943 г. в Дании усилилось сопротивление захватчикам. В октябре немцы ужесточили оккупационный режим и распустили парламент. Гитлер распорядился провести акции устрашения, и в начале 1944 г. Скорцени отправил в Данию пятерых своих людей под руководством О. Швердта. На счету этой группы было 10 политических убийств, 30 нападений на общественные собрания и более 20 нападений на предприятия, в том числе на общественный транспорт.
(обратно)16
Рене, как умеет, пересказывает Матиасу сюжет французской эпической поэмы «Четыре сына Эмона» (XIII в.) о многолетней вражде четырех сыновей графа Эмона (Аймона) Дордонского с императором Карлом Великим. Сюжет таков: на следующий день после принятия четырех братьев в рыцари, они убили двоюродного брата Карла, поссорившись с ним после проигрыша в шахматы. Император неустанно преследовал их. Один из самых известных персонажей этой поэмы – конь Баярд, от природы наделенный человеческой мудростью и способностью вытягиваться так, что на его спине умещались все четыре брата. Другой ключевой персонаж – волшебник Можис.
(обратно)17
Ти́пи – повсеместно принятое название традиционного переносного жилища кочевых индейцев Великих равнин – предгорного плато в США и Канаде, к востоку от Скалистых гор.
(обратно)18
Увы, благородного коня ждал трагический конец. Баярд служил верой и правдой новому хозяину, не раз спасал жизнь братьям, но сыновья Эмона, чтобы купить прощение императора, предали друга, отдав его Карлу Великому. Правитель приказал привязать грузы к копытам Баярда и привести его на середину моста через Сену. Затем на глазах у хозяина коня столкнули в воду. Волшебство не спасло от предательства.
(обратно)19
«Аве Мария» (лат.) – католическая молитва к Деве Марии, названная по ее начальным словам: «Радуйся, Мария…»
(обратно)20
Так во время Второй мировой войны называли укрытия для стрелков, вырытые в стенах общей траншеи. В таких «лисьих норах» можно было уберечься при артобстрелах, иногда их готовили для себя снайперы, если на местности не было естественного укрытия.
(обратно)21
Pater noster (лат.) – христианская молитва «Отче наш», или «Молитва Господня». Согласно Евангелию, Иисус Христос дал ее своим ученикам в ответ на просьбу научить их молитве. Приводится в Евангелиях от Матфея и от Луки. Текст Матфея упоминается в письменном источнике конца I – начала II в.
(обратно)22
«Аве Мария».
(обратно)23
Есть кто-нибудь дома? (англ.)
(обратно)24
Стумон – коммуна в Валлонии, расположенная в провинции Льеж, округ Вервье. Принадлежит Французскому языковому сообществу Бельгии.
(обратно)25
Только семья (англ.).
(обратно)26
Пожалуйста, не стреляйте! (англ.)
(обратно)27
Что это? (англ.)
(обратно)28
Глядите, кто это тут у нас?! (англ.)
(обратно)29
Рене по-французски – «возрожденная».
(обратно)30
Имя Чичучимаш в переводе с языка индейцев племени кри значит «принцесса».
(обратно)31
Траппер (от англ. trap – ловушка, капкан) – охотник на пушного зверя в Северной Америке, пользующийся чаще всего западнями.
(обратно)32
Справедливости ради стоит отметить, что немецкая каска времен Второй мировой войны, за форму прозванная солдатами «ведерком для угля», по праву считалась лучшим образцом военного снаряжения, надежнее всех прочих защищая человека от ранений и контузий. Доказательством ее практичности может служить то, что современная американская каска по форме очень схожа с немецкой.
(обратно)33
1-я танковая дивизия СС «Лейбштандарт СС Адольф Гитлер» – элитное формирование войск СС, созданное на базе личной охраны Адольфа Гитлера. За период своего существования дивизия была развернута в танковый корпус. До начала боевых действий подчинялась лично фюреру.
(обратно)34
Новая Англия – регион на северо-востоке США. Граничит с Атлантическим океаном, Канадой и штатом Нью-Йорк.
(обратно)35
Игра в бабки (в ко́зны) – старинная народная игра, которой обязаны своим происхождением современные игральные кости. Игроки бросают косточки («бабки»), отсюда и название.
(обратно)36
Саскачеван – провинция на юге центральной части Канады, граничит на юге с американскими штатами Монтана и Северная Дакота. Столица – город Реджайна.
(обратно)37
Германские войска довольно быстро захватили Мортен (город и коммуна в регионе Нижняя Нормандия), однако не смогли пробить брешь в обороне 30-й пехотной дивизии армии США, а бойцы 2-го батальона 120-го стрелкового полка американцев в полном окружении удержали высоту 314. Из семисот человек, оборонявших позиции до 12 августа, погибло более трехсот.
(обратно)38
«Гроздья гнева» (1939) – роман Джона Эрнста Стейнбека (1902–1968). Удостоен Пулитцеровской премии в номинации «За художественную книгу». Из-за детального изображения тяжелой жизни времен Великой депрессии роман был изъят из библиотек Нью-Йорка, Сент-Луиса, Канзас-Сити и Буффало. В Ирландии книгу запретили в 1953 г., в канадском городе Моррис – в 1982 г. Сейчас «Гроздья гнева» входят в учебные программы многих школ и колледжей США.
(обратно)39
Ришар, Жозеф Анри Морис (1921–2000) – канадский хоккеист, правый нападающий. Провел в НХЛ 18 сезонов в составе клуба «Монреаль Канадиенс». Стал первым игроком, забросившим 50 шайб в одном сезоне.
(обратно)40
Гектор «То» Блэйк (1912–1995) – канадский профессиональный хоккеист и хоккейный тренер, партнер Ришара по «Ударному звену» (самой результативной тройке нападающих, одной из лучших в истории хоккея), многократный обладатель Кубка Стэнли, член Зала хоккейной славы НХЛ.
(обратно)41
Александерплац – Центральная площадь Берлина.
(обратно)42
До тошноты (лат.).
(обратно)43
16 декабря 1944 г., в начале немецкого наступления в Арденнах под кодовым названием «Вахта на Рейне», войска вермахта прорвали англо-американский фронт на участке в 80 км и захватили в плен 30 тыс. американских солдат и офицеров.
(обратно)44
«Гибель богов» (1874) – опера Рихарда Вагнера (1813–1883), завершающая тетралогию «Кольцо нибелунга», а также принятое в немецкой историографии название периода агонии Третьего рейха конца апреля 1945 г., когда нацистское руководство оказалось в бункере рейхсканцелярии в Берлине.
(обратно)45
Джозеф Пол «Джо» Ди Маджо (1914–1999) – американский бейсболист. Один из самых выдающихся игроков за всю историю бейсбола. Ди Маджо был трехкратным обладателем награды «Самый полезный игрок» и 13 раз принимал участие в матчах всех звезд.
(обратно)46
Гребаные фрицы! (англ.)
(обратно)47
Собибор – лагерь смерти, организованный нацистами в Польше (май 1942 г. – октябрь 1943 г.). Здесь было убито около 250 тыс. евреев. Именно в Собиборе 14 октября 1943 г. произошло единственное успешное из крупных лагерных восстаний, возглавленное советским офицером Александром Печерским и польским раввином Леоном Фельдхендлером.
(обратно)48
Миллер, Олтон Гленн (1904–1944) – американский тромбонист, аранжировщик, руководитель одного из лучших свинговых коллективов, оркестра Гленна Миллера. Война близилась к концу, союзники освободили Париж. Планировалась переброска оркестра на континент. Майор Миллер должен был отправиться в Париж и подготовить все для предстоящего рождественского выступления в зале «Олимпия». 15 декабря 1944 г. он вылетел на небольшом «Норсмане С-64» с авиабазы «Твинвуд-Фарм». Стоял густой туман, даже птицы, как заметил перед отлетом Миллер, опустились на землю. Самолет, в котором он летел, не достиг Франции, его след затерялся где-то над Ла-Маншем.
(обратно)49
Каунт Бэйси, наст. имя Уильям Джеймс Бэйси (1904–1984) – американский джазовый пианист, органист, знаменитый руководитель биг-бэнда. Бэйси был одной из самых значительных фигур в истории свинга. Он сделал блюз универсальным жанром.
(обратно)50
Билли Холидей, наст. имя Элеанора Фейган (1915–1959) – американская певица, повлиявшая на развитие джазового вокала оригинальным стилем пения.
(обратно)51
«В настроении» – песня из музыкальной комедии «Серенада Солнечной долины» (1941) американского кинорежиссера Брюса Хамберстоуна. Героиня фильма в исполнении знаменитой фигуристки Сони Хени отправляется в Солнечную долину в составе оркестра Гленна Миллера.
(обратно)52
«Песня партизан» (Le Chant des partisans) – песня Французского Сопротивления была написана в 1943 г. в Лондоне на основе русского текста Анны Марли. Французский вариант создали писатель Жозеф Кессель и его племянник Морис Дрюон. Анна Марли исполняла песню в прямом эфире на радиостанции Би-би-си; французские партизаны приняли ее в качестве своего гимна и опознавательного сигнала.
(обратно)53
Что мне твой пустой суп и хлеб из зерна для скотины! (валлон.)
(обратно)54
Бильбоке – игрушка в виде шарика, прикрепленного к палочке. Игрок подбрасывает шарик и ловит его на острие палочки или в чашечку.
(обратно)55
Заксенхаузен – нацистский концлагерь, созданный в 1936 г. рядом с городом Ораниенбург в Германии. За время существования в нем погибли свыше 100 тыс. узников. Лагерь был освобожден советскими войсками 22 апреля 1945 г.
(обратно)56
Группы мобильного реагирования, отвечавшие за уничтожение политических и расовых врагов нацистского режима, в том числе евреев.
(обратно)57
Фольксдойче – до 1945 г. так называли «этнических германцев», живших в диаспоре, то есть за пределами Германии. Это понятие возникло после Первой мировой войны, когда в результате изменения границ многие немцы оказались за рубежом, и оставалось в активном употреблении до 1940—1960-х гг.
(обратно)58
«Жизненное пространство на Востоке» (нем. Lebensraum im Osten) – термин национал-социалистической пропаганды, отражавший планы заселения германскими народами (арийцами в понимании национал-социалистических вождей) территорий в Восточной Европе.
(обратно)59
«Ход конем» – название военной операции нацистских войск против Народно-освободительной армии Югославии (25 мая – 6 июня 1944 г.). Целью операции был захват или убийство лидера Югославии Иосипа Броз Тито (1892–1980), однако единственным «трофеем» эсэсовцев стал его китель, который потом был экспонатом выставки в Вене.
(обратно)60
Анте Павелич (1889–1959) – хорватский политический и государственный деятель радикального националистического направления, основатель и лидер фашистской организации усташей (1929–1945). В 1941–1945 гг. диктатор Независимого государства Хорватия, основанного в апреле 1941 г. при военной и политической поддержке стран «оси».
(обратно)61
Имеется в виду «сербосек» – клинок хорватских усташей. Появился в результате проведения правительством Павелича специального конкурса: какой нож следует изготовить, чтобы палачи могли убивать людей как можно быстрее и при этом как можно меньше уставали.
(обратно)62
Тендинит – острое воспаление сухожилия. Травматическая форма провоцируется тяжелыми физическими нагрузками.
(обратно)63
Пришли еще какие-то люди? (валлон.)
(обратно)64
Юнгфернзее – «Озеро девственниц» своим названием обязано бенедиктинскому монастырю Святой Марии, существовавшему в XIII–XVI вв. в Шпандау (до 1878 г. – Шпандов).
(обратно)65
Традиционное бельгийское лакомство, которое пекут накануне Рождества. «Хлеб Христа» представляет собой сладкую булочку в форме завернутого в пеленки младенца. Делают сдобы с различными начинками, кусочками шоколада, изюмом или сахаром. В зависимости от региона Бельгии булочка может называться «куньу», «коньоль», «фолартс».
(обратно)66
Я видел тебя через окно… (англ.)
(обратно)67
Понятно? Ты покойник! (англ.)
(обратно)68
Евангелие от Луки, 1:30–33.
(обратно)69
«О Святая ночь» (оригинальное французское название «Minuit Chrétiens») – знаменитая рождественская песня, традиционно исполняемая во время полуночной рождественской мессы в католической церкви. Слова этого гимна написал Пласид Каппо (1808–1877), музыку – Адольф-Шарль Адан (1803–1856).
(обратно)70
«Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное» – первая из Заповедей блаженства, произнесенных Иисусом Христом во время Нагорной проповеди и дополняющая Десять заповедей Моисея. (Мф. 5:3—12 и Лк. 6:20–23).
(обратно)71
Морис Огюст Шевалье (1888–1972) – французский эстрадный певец, киноактер. Получил широкую известность в конце 1920-х. Во время оккупации Франции в 1940–1944 гг. выступал в Париже и для французских военнопленных в Германии.
(обратно)72
Мистенгет (наст. имя Жанна Флорентина Буржуа; 1875–1956) – знаменитая французская певица, актриса кино, клоунесса-конферансье. В 1925–1929 гг. была художественным руководителем кабаре «Мулен Руж».
(обратно)73
Во Франции с 1910-х гг. пользуется популярностью танец ява (джава), по движениям напоминающий одновременно вальс, мазурку и мюзет. На народных праздниках парижане и сейчас танцуют яву под аккордеон.
(обратно)74
Уильям Кларк Гейбл (1901–1960) – американский актер, кинозвезда и секс-символ 1930—1940-х гг., которого называли Королем Голливуда.
(обратно)75
Бессознательное – действия, в реализации которых человек не отдает себе отчета и которые носят неосознаваемый характер. В область бессознательного вытесняются тайные желания и фантазии, которые противоречат общественной морали и общепринятым нормам поведения или слишком тревожат человека, чтобы быть осознанными.
(обратно)76
Эмиль Яннингс (наст. имя Теодор Фридрих Эмиль Яненц; 1884–1950) – немецкий актер и продюсер. Первый в истории лауреат премии «Оскар» за лучшую мужскую роль (1929; картины «Последний приказ» и «Путь всякой плоти»). В 1943 г. сыграл главную роль в фильме «Старое сердце снова становится молодым».
(обратно)77
Речь идет о Рыцарском кресте Железного креста с дубовыми листьями, учрежденном 3 июня 1940 г. Им награждался личный состав вермахта и военных партийных организаций за выполнение особо трудных заданий и проявленную в бою отвагу.
(обратно)78
Гестапо – тайная государственная полиция Третьего рейха в 1933–1945 гг.
(обратно)79
Служба безопасности рейхсфюрера СС (сокр. нем. SD от Sicherheits Dienst, рус. СД) была создана Гиммлером в 1931 г. как внутренняя служба безопасности нацистской партии, призванная следить за чистотой партийных рядов и предотвращать проникновение в них чуждых и враждебных элементов.
(обратно)80
Эрих фон Штрогейм (1885–1957) – американский кинорежиссер, актер и сценарист. Роль коменданта крепости, немца фон Рауффенштайна, в фильме «Великая иллюзия» (1937) французского кинорежиссера Жана Ренуара принесла ему настоящую славу.
(обратно)81
Дэвид Крокетт (1786–1836) – знаменитый американский народный герой, путешественник, офицер армии США и политик, ставший персонажем фольклора.
(обратно)82
Сколько ни меняй – ничего не изменится (фр.).
(обратно)83
Когда Христос шел, сгибаясь под тяжестью креста, к месту Распятия, к нему подошла благочестивая еврейская женщина, которая не побоялась подать ему свой плат, чтобы Он мог обтереть лицо. По преданию, на ткани осталось «истинное изображение» лица Иисуса (лат. Icona vera) – Нерукотворный образ.
(обратно)84
Эсфирь – героиня, спасшая свой народ в эпоху владычества царя Ксеркса. Дебора – четвертая по счету судья Израилева и пророчица эпохи Судей (XII–XI вв. до н. э.) – стала вдохновительницей и руководительницей войны против ханаанейского царя Явина. Сарра – жена Авраама, первая из четырех прародительниц еврейского народа. Юдифь – благочестивая вдова, спасшая свой город от нашествия ассирийцев.
(обратно)85
Француженкам, которые во время оккупации вступали в связь с немцами, после войны насильно брили голову.
(обратно)86
Гоплит – древнегреческий тяжеловооруженный пеший воин. Слово происходит от названия тяжелого круглого щита – «гоплон».
(обратно)87
«Там, где мы, дело движется, дьявол хохочет, мы воюем за Германию, мы сражаемся за Гитлера…» (нем.)
(обратно)88
Фермопильское сражение – битва между греками и персами в ущелье Фермопилы в сентябре 480 г. до н. э. Гибель царя Спарты Леонида I и его трехсот воинов, которые ценой жизни спасли свою честь, стала легендой.
(обратно)89
Рарен – коммуна в Валлонии, расположенная в провинции Льеж, округ Вервье. Принадлежит Немецкому языковому сообществу Бельгии.
(обратно)


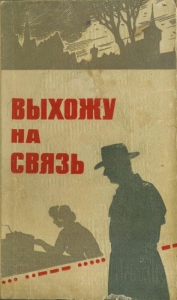
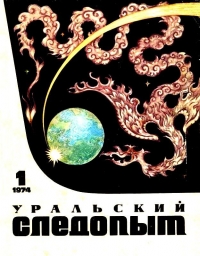

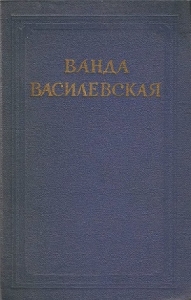

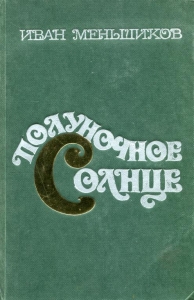


Комментарии к книге «Сегодня мы живы», Эмманюэль Пиротт
Всего 0 комментариев