Валерий Поволяев За год до победы
* * *
«За время наступления с 4 марта по 17 апреля войска 1‑го Украинского фронта продвинулись на 80—350 километров, освободили значительную часть Правобережной Украины, ее областные центры Винницу, Каменец-Подольск, Тернополь и Черновцы, а также свыше 700 крупных населенных пунктов. Войска фронта вышли в предгорья Карпат и совместно с войсками 2‑го Украинского фронта разрезали фронт немецко-фашистских войск на две части. Южная группировка врага оказалась изолированной от группировки, находившейся в районе Львова…»
(Из «Истории Великой Отечественной войны Советского Союза 1941–1945», том IV, с. 80)
1
Лепехин облюбовал себе спальный выступ печки, нагретой до того, что к кирпичам было больно прикасаться, забрался на него, укрылся по пояс шинелью, как одеялом. В хате было шумно — гомонили разопревшие от жары связисты — молодые ребята, каждому лет по девятнадцать, не больше; на гимнастерках — ни медалей, ни орденов, одни только гвардейские значки, а они, как известно, не в пример ЗБЗ, как называют медаль «За боевые заслуги», или, скажем, медали «За отвагу» — удастся из пополнения в гвардейскую часть попасть, вот и получай внушительный, похожий на орден значок.
Связисты пришли часа два назад, вольно расположились в хате, свалив на пол груду телефонных катушек, поели тушенки, которую доставали широким лопатистым ножом прямо из только что открытой высокой банки, потом взялись за карты.
Резались в дамский преферанс, звучно прозванный кингом, — игру древнюю и занимательную, резались ради азарта, но за проигранные очки довольно больно хлестали друг друга сложенными вместе несколькими картами. Либо по ушам, либо по носу. На выбор. По носу ударов делали в два раза меньше.
В углу посверкивал крутящимся черным диском патефон, напевал что-то сентиментальным голосом. Патефон этот отбили у немцев. Фрицы, видно, были любителями сладкой музыки: при патефоне оказался набор пластинок, да каких! Что ни песня — то надрыв, крик души.
Лепехин приподнялся, заглянул в маленькое квадратное оконце, прорубленное в стене рядом с печкой. В оконце был виден развороченный от прямого попадания снарядом бок сарая, обледенелая навозная куча, в которой важно копошилась нахальная одноглазая курица с голыми розовыми ногами, — отрада старика хозяина, называвшего курицу не иначе как Мери — на старинный лад. Да и в самом хозяине было что-то от русских дворян эпохи декабристов — он пересыпал речь давно выбывшими из употребления словами: Лепехина называл «сударь»; обращался к нему: «Не изволите ли отведать чаю, дорогой сударь?» и так далее, а вообще был забавным и безобидным стариком. Часто сбивался на украинскую речь.
Вот уже третий день старик сетовал на пропажу снохи…
— Наша деревня Словцы называется, — говорил он. — Да. А в двадцати верстах, сударь, — хутор. Там мой брат живет, богатым хозяином числится… Немцы хутор стороной объезжали, партизан боялись и хозяина ограбить, как говорится, не успели. Хотя и пытался Гитлер образовать тут, у нас, дистрикт Галичину, а партизан побаивался, да. Впрочем, может, и не поэтому фрицы вниманием хутор обходили… Может, и не поэтому, сударь. Так вот, я и отправил сноху к брату за продуктами. Сноху мою Зинаидой зовут. Поехала она и с собой внучонку Марию, девицу десяти лет, на салазках увезла. Посадила верхом на салазки, да и заявила: здесь война недалеко проходит, вдруг немец опять вернется, лучше уйти от проклятого, говорит, на хутор. Его туда… его, значит, фрица, а туда — значит, на хутор, — наши не пустят. Вишь, какой стратег! А? Прямо Кутузов Михаил Илларионыч!.. Уехала, и все нет и нет… Что бы такое могло случиться, а? Не знаете, сударь?
Он был совсем далек от войны, этот старик, от речей его веяло чем-то домашним, успокаивающим, земным, и Лепехин, улыбаясь и теплея душой, как умел, утешал старика: фронт ушел вперед, фрицы не вернутся и со снохой ничего не случится.
Перед самым приходом связистов дед забрался в старый источенный червями комод, долго рылся в его бесчисленных ящиках, нашел твердый, как картон, лишенный глянца фотоснимок, показал Лепехину.
— Вот она, Зинаида моя. Правда, на меня похожа? Хоть и не дочка она мне, а всего-навсего сноха… Как считаете, сударь?
Лепехин взглянул на розовый и голый, как колено, дедов череп, потом на фотокарточку довольно привлекательной женщины с неторопкими глазами, гладкими скулами, неопределенно покачал головой. Дед воспринял это покачивание однозначно, он сморщил лоб, обнажил в беспомощной детской улыбке стертые корешки зубов.
— Я когда молодым был, знаешь, какое начало собой являл?.. Э-э, сударь… — Он зачмокал губами, погружаясь в воспоминания, но быстро пришел в себя, засмущался, спрятал фотоснимок в комод.
— И гдей-то она запропастилась? — будничным голосом запричитал старик. — Мери кормить нечем. Хлеб жалко куре отдавать, но что-то кушать она должна же. Живое существо всежки…
В конце была видна дорога — по ней изредка проезжали тяжелые, неповоротливые тягачи с орудиями на прицепах и сгорбленными от пронзительного весеннего ветра солдатами, застывшими в кузовах. Сновали мотоциклисты и конные, справляли нехитрую воинскую службу. Лепехин ворочался под шинелью, кряхтел и постанывал, но никак не мог уснуть, ныла плохо залеченная нога: зацепило в прошлом году в разведке, когда ходили за «языком». Попал в медсанбат, но через несколько дней наши стали наступать, и он сбежал из медсанбата, несмотря на ругань и требования врачей, а потом уж отлежаться и подлечиться как следует не смог. Не было времени.
Связисты подняли гам страшеннейший: партию кинга проиграл здоровенный широкоплечий парень с прыщавым лицом и цыганскими глазами, круглыми, как пуговицы, и черными до непроницаемости, и теперь тройка партнеров — а все трое оказались в выигрыше — готовилась к экзекуции. Парень недоуменно моргал глазами-пуговицами, оглядывался по сторонам с виноватым выражением.
— Готов? — восторженным, высоким от азарта голосом поинтересовался один из игроков.
— По носу бить иль по ушам? Как предпочтешь, рядовой, а? Может, еще каким макаром? По-артиллерийски, с отмашкой? А?
— Хошь, по кормовой части бить будем? Только тебе слегка подразуться надо будет…
Квадратик окна наполнился белым: повалил снег. Густой, набрякший влагой, непроницаемый, он тяжелыми хлопьями ложился на темную, распаренную весенней оттепелью дорогу, серел на глазах, потом стаивал вовсе.
— Ладно… Давай-ка подставляй ухо. Ухо — тоже больно. Особенно если не промажешь.
После первых ударов ухо прыщавого связиста начало наливаться вязкой краснотой, пухнуть. Бьющий сделал передышку, размял карты, сложил их в тугой веер и размахнулся вновь.
— Двадцать три!
— Двадцать четыре!
— Двадцать пять!
— Эт-то что так-кое? — вдруг раздался на пороге хриплый бас, такой мощный, что казалось, будто он не вмещался в комнате, — от баса стекло судорожно всхлипнуло, а ковырявшаяся в навозе Мери подняла голову и, стряхнув с гребешка снежины, настороженно нацелилась в оконце единственным, уцелевшим «после немецкой оккупации», как заявил дед, глазом.
— А ну! Встать! — рявкнул бас.
Лепехин беззвучно рассмеялся. Сейчас пришедший, начпрод роты разведчиков старшина Ганночкин концерт устроит. Василий Ганночкин славился своим умением бесшумно входить в любой дом, незамеченным появляться где угодно; вот ведь не ждешь его, а он, глядь, сидит у тебя за спиной и молча выслушивает, как ты его раскладываешь по косточкам за какую-нибудь немудреную промашку. Но обижаться Ганночкин никогда не обижался, не было еще таких случаев; только рявкал, да иногда, правда, обещал «шкуру спустить», но на этом дело и кончалось. Что же касается умения Ганночкина быть невидимым и нежданно-негаданно появляться в самых разных местах — говорят, даже одновременно, то, наверное, никто бы не удивился, если бы вдруг обнаружил Ганночкина, к примеру, в мешке с бельем или в ящике с макаронами. Таким талантом обладал старшина… Но вместе с тем Ганночкина и любили. Если в разведку уходили три человека, Ганночкии выдавал харчей на восемь, а соответственно и «наркомовскую пайку» — то горячительное, сорокаградусное, до чего охоч солдат; если же в разведку уходил взвод, Ганночкин не скупился в продуктах на целую роту. Но, несмотря на щедрость, был он предусмотрительным, запасливым, даже когда в соседних ротах, батальонах случались перебои с харчами, разведчики не знали, что такое голод, — по продуктовой части Ганночкин был большим мастаком.
Связисты смущенно поднялись, начали оправлять гимнастерки, загоняя складки под ремень, прыщавый схватился было за ухо, но Ганночкин так на него взглянул, что тот сжался, сдал в плечах.
— Та-ак… Веселимся, значит? Орлы-герои… Вояки голые лопатки. А ну! Смир-рна!
Связисты вытянулись.
Ганночкин подошел к столу, о край раскуроченной полупустой банки вытер лопатистый нож, потом собрал карты, переворошил их, словно проверяя, все ли на месте, подошел к печке.
Кто-то из связистов шевельнулся, но Ганночкин бросил не оборачиваясь:
— Я не давал команды «вольно».
Он отодвинул в сторону кирпич, которым была придавлена жестяная заслонка, брезгливо швырнул карты в огонь, вновь прикрыл печное жерло заслонкой.
— Картишки — это шалость, — вразумительным голосом произнес он, затем, покрутив для острастки головой, начал почему-то говорить шепотом: — Тут фронт, а не детские ясли и не… Не курсы мастеров картежной игры! Шулеров, так сказать. Фокусников — участников художественной самодеятельности. Нет. Здесь фронт, война. Так-то, ловкачи. Серьезнее надо быть. И пора отдавать отчет за свои поступки.
Ганночкин фыркнул и, не глядя больше на связистов, словно они перестали для него существовать, прошел в закуток, где ворочался с боку на бок тщетно пытавшийся заснуть Лепехин.
— Товарищ Лепехин, честь имею! Давай просыпайся… Капитан вызывает. — Ганночкин громко ширкнул носом, потом вытер его пальцами, осмотрел внимательно ладонь. — Отсырел согласно погоде.
— Погода, верно, — отозвался Лепехин. — А насчет просыпа, то просыпаться мне нечего. Я не спал.
— Тем лучше.
Кряхтя, старшина уселся на сдавленно скрипнувший под тяжестью его необхватного тела колченогий стульчик, добыл из-за уха заранее свернутую «козью ногу», раскурил ее, выпуская сквозь ноздри кислые, от которых у Лепехина сразу запершило в горле, клубы дыма.
Лепехин откашлялся, спрыгнул с печки и тихо охнул: нога. Кажется, тепло не помогло… Искоса, морщась и щуря глаза, поглядел на связистов. Те стояли навытяжку, не шевелясь. Тренированные рабята! Пройдет время, пообтешутся, солдатами станут. Хотя, может, это им вовсе не нужно: еще полгода-год, и война кончится.
Был Лепехин невысок ростом, но кряжист и подвижен. Чувствовалась в нем сила и гордая, умная мужская стать, приметы человека видного; еще сообразителен он был и ловок. И храбр. Храбр не огульным, неряшливым безрассудством, а спокойной, расчетливой смелостью. Он аккуратно обмотал ноги портянками из теплой трофейной байки, украшенной розовыми цветочками и крупными пепловыми горошинами по коричневому фону, натянул разношенные кирзовые сапоги, слегка притопнул, проверяя, не жмут ли, не тревожат ли больную ногу.
— Все, старшина… Готов.
— Пошли!
Ганночкин затушил о каблук «козью ногу», бережно сунул окурок за ухо — чем-чем, а вот табаком Ганночкин не любил разбрасываться, знал, что порою табачок бывает нужнее, чем хлеб. Он поднялся, распрямляясь во весь свой огромный рост, шагнул к выходу… В сером сумраке сеней обернулся:
— Вольно! Кар-ртежники…
На улице сыпало не переставая: ветер швырнул горсть сырого снежного хлопья Лепехину в лицо, разом остановив дыхание, в отчаянной пляске белые холодные молнии разрезали тусклое, неприбранное по весне небо, развалины разбитых во время последнего артиллерийского обстрела домов, темнеющую вдалеке гряду леса на множество рваных ломтей, на мелкие доли.
Лепехин отер лицо, отворачиваясь от ветра, сплюнул, прокричал Ганночкину:
— Зачем вызывает капитан?
Старшина не расслышал вопроса, он оглянулся и, прикрывшись ладонью от снега, громыхнул коротко:
— Повтори! — Добавил: — Уши забило. Этой вот… холодной… мерзостью.
— Зачем, говорю, я понадобился?
Ганночкин повел плечами.
— А бог его знает. Зачем-то надо… Может, «языка» брать? Хотя сейчас вряд ли…
Штаб бригады располагался в длинном, наполовину вросшем в землю доме, сложенном из толстых пузырчатых камней, изъеденных паводковым прибоем; когда-то в этом доме располагались продуктовые склады богатого купца-украинца Терещенко. Вывеска того времени даже сохранилась. Купец исчез в неспокойном двадцатом году, присоединившись к отступающей банде, вобравшей в себя и желтых, и зеленых, и синих, и прочую масть, исчез и больше не возвращался. А склады остались. И служат. И прослужат, крепкие, основательно сработанные, наверное, еще не один десяток лет.
— Здравия желаю, Грибов. На пост заступил? — старшина откозырял часовому.
Часовой поправил автомат на груди, приложил руку к ушанке.
— Заступил, товарищ старшина.
— Сам-то здесь?
— А кто это «сам»? — поинтересовался часовой.
— Естественно, кто… Комбриг.
— А-а… Я-то подумал, что сам — это товарищ капитан Лоповок. Товарищ полковник здесь.
— Капитан тоже не уходил?
— Нет.
Дверь склада открылась с долгим визгливым скрипом — сколько ее ни смазывали ружейным маслом, она все равно скрипела. На фоне ярко освещенного огнем печки складского предбанника Лепехин увидел неестественно прямую фигуру капитана Лоповка. Хмурое и строгое лицо с намертво припечатанным к нему командирским выражением никак не шло к хрупкой фигуре балетного танцора, какой обладал капитан.
— Заходите, Лепехин, — сказал Лоповок озабоченно. Посторонился, давая место в проходе. — Комбриг ждет.
Лепехин сбросил шинель и, не найдя гвоздя на дощатой стенке предбанника, сложил ее вчетверо, чтобы полы не подметали пыль, аккуратно пристроил на табуретке, стоящей рядом с узким и высоким, похожим на колонну питьевым бачком. Сверху водрузил шапку. Затем, оправив гимнастерку, шагнул вслед за капитаном в широкую, занимающую добрую половину склада комнату.
В углу, за столом, сидел командир бригады полковник Громов и, сжимая обеими руками металлическую кружку, как пиалу, пил чай. Расколотый надвое кусок сахара лежал рядом. Полковник кивнул вместо приветствия, размеренным четким движением поднес кусок сахара ко рту, откусил — даже скорее отщипнул, чем откусил, приложился к кружке. Пил чай он неспешно, с придыханием — понимал полковник в стародавнем напитке толк и умел, судя по всему, отличать хороший настой, сделанный из смеси нескольких сортов, от пересушенной военторговской преснятины. Лицо у него было белое, немолодое, чуть оплывшее от недосыпания. Когда подносил кружку ко рту, было видно, как досиза выбритый кадык ползает поршнем вниз-вверх по тугой шее. Скосив глаза, полковник читал какую-то книжку в пупырчатом, похожем на кожаный, переплете.
Закончив пить чай, он осторожно отставил кружку в сторону, остатки сахара тщательно завернул в газетный оборвыш, положил рядом, потом прикрыл глаза тяжелыми полупрозрачными веками, задумался. Лепехин, стоя навытяжку посреди комнаты, ждал. У стенки, привалившись к ней одним плечом, застыл Лоповок.
Пламя поигрывало неясными бликами на эмали полковничьих орденов.
— Вот что, Лепехин, — произнес полковник, не открывая глаз. — Ты у нас разведчик опытный, всему фронту известный…
У Лепехина мелькнуло — надо бы отчеканить: «Служу Советскому Союзу!» Хотя с какой стати? Ведь полковник не благодарность же объявляет.
— В тридцати пяти километрах отсюда есть деревушка. Маковки называется. В деревушке окопался ушедший вперед от нас полк Корытцева. Похоже, что он окружен немцами и держит круговую оборону. Наши наступающие части застряли. Погода видишь какая? Застряли… Тут другого выражения не подберешь. — Полковник устало потер переносицу суставом указательного пальца. — Связи с Корытцевым, к сожалению, никакой. Немцы осатанелые сейчас, делают ставку на войну тотальную, им одно важно — любой ценой задержать наше наступление. Тут им весна на подмогу пришла. Твоя задача — пробиться в полк — проползти, проскочить, прошмыгнуть — как хочешь, это вы, разведчики, умеете делать — и вручить майору Корытцеву пакет с приказом. На словах передашь, что мы ударим по гитлеровцам десятого марта в одиннадцать часов вечера. Десятого! В двадцать три ноль-ноль. Пусть приготовят встречный удар. Если попадешь к врагу, то… — Голос полковника вдруг сделался жестким, в нем прорезался металл. Он открыл глаза, посмотрел на Лепехина. — То пакет должен быть уничтожен. Все. Вопросы есть?
— Вопросов нет, товарищ полковник!
— И вот еще что, Лепехин… Попытайся проехать на мотоцикле, так быстрее. Пройдет мотоцикл? По снегу? Как считаешь?
— Пройдет, товарищ полковник. У меня — рационализация, мотоцикл-вездеход.
— Это что ж? — спросил полковник. — Переднее колесо ведущее и заднее ведущее? Как у «бантама»?
Лепехин молча, не по-уставному кивнул. Полковник заметил это, улыбнулся сухо, чуть выгнув края рта…
— Ну добро… Держись только в стороне от дорог. На дорогах сейчас много всяких недобитков. Фрицы к линии фронта стягиваются. Так что гляди в оба! И в бой, если что, не вступать! Ясно? Ну! — Комбриг вновь придвинул к себе кружку, сжал ее привычным жестом. Лепехин посмотрел на полковничьи руки — незагорелые, некрепкие пальцы были оплетены темными нитками жил, и ему вдруг стало жаль этого старого, доброго и совсем штатского человека, для которого нет ни отдыха, ни покоя; одни лишь бессонные ночи, — человека, которого фронт оторвал от любимою дела. Полковник до войны был историком.
— Успеха! — сказал комбриг буднично.
2
— Слушай, Лепехин, как считаешь, от чего у гуся нога красная? А? Отгадай. — Старшина Ганночкин копался в мешке с концентратами, подняв круглое, красное от натуги лицо. Ганночкин доставал из мешка брикеты в сальных от парафиновой пропитки обертках, один за другим: «Каша гречневая», еще раз «Каша гречневая», «Каша перловая», «Суп гороховый»… Все — довоенного еще выпуска.
Лепехин куском пакли счистил тавот с автоматных дисков, ответил, не поднимая головы:
— От крапивы!
— Молодец! Почти угадал! Гах-гах-гах! — Ганночкин оглушительно захохотал. — От колена она красная…
— От колена так от колена, — согласился Лепехин.
— А от чего утка плавает? — допытывался старшина. Отсчитав брикеты, он сложил их скибкой на дне небольшого картонного ящика, на вмятом морщинистом боку которого было выведено дегтярными буквами: «Одеколон “Ривьера”».
— А? От чего?
За «балаканьем», как старшина называл подобные разговоры, Ганночкин о деле не забывал; отложил в сторону некрупную сахарную головешку, помедлив, добавил еще половину, неровно сколотую с макушки; туда же, в общую кучу, поставил четыре банки со «вторым фронтом» — по одной на день и еще плоскую, похожую на портсигар банку редкой «гусиной печенки», — трофейную.
— От берега утка плавает… Вот так.
Ганночкин — из породы тех, кто поговорить любит, — хлебом не корми, а дай высказаться; за словом в карман он не лезет: и сразить в споре может, и отбрить так, что никогда больше возражать не захочется, и умело, очень деликатно — дипломат, да и только! — заступиться.
Уже год Ганночкин возил за разведчиками прицепную трофейную колымагу — фургон, набитый бог знает чем — тут и тряпье, и продукты, и новенькие, в масле еще, ни разу не опробованные в бою немецкие «шмайсеры»; в фургоне можно было найти даже снаряды — имелось у старшины несколько штук, их разбирали в непогоду, выколупывали порох, крупный, кристаллами, на привалах им костры разжигали, а то и просто обогревались в морозные вечера. В разных переплетах побывала за этот год бригада полковника Громова — она теряла людей и орудия, попадала в страшные передряги, а ганночкинской колымаге хоть бы что — цела и невредима, даже краска на бортах не облезла. И порядок в ней внутри, на полках да в закутках, царил идеальный.
Когда входишь в фургон, то обязательно задеваешь головой за здоровенное березовое полено — оно всегда раздражало Лепехина, — испещренное корявыми буквами. Крупно было вырезано: «Жалобная книга», это в самом верху, а ниже — помельче, но довольно разборчиво: «Добро пожаловаться!» Отдельно, зацепленная за гвоздик, висела амбарная книга. Тяжелый переплет, плотные листы. На первой странице было написано химическим карандашом: «Один пожаловался, больше его не видели». Фамилия, естественно, придуманная — И. Шавкин. Зачем фамилия придумана — непонятно, можно было бы и своей подписаться. На другой странице — «Прошу включить в меню бульон с хрюкадельками». Глупо. Подпись, тем не менее, подлинная — В. Саляпин. Кроме того, точный адрес: первый взвод. Был у них такой боец, Саляпин, был — его зацепило осколком при освобождении Коростеня, маленького полусожженного украинского городка; Саляпина вместе с ранеными партизанами из бригады Маликова отправили в госпиталь, в Житомир…
Когда у старшины спрашивали, зачем ему амбарная книга с записями и вообще весь этот карнавал, он отвечал с серьезным видом:
— Для юмора. А то на войне народ черствеет. Забывает, что есть лекарство, которое продлевает человеку жизнь… Ага. Смех это лекарство.
Юморист старшина. Ему бы быть шефом «Крокодила» либо другого сатирического журнала, редактором — не меньше, а он возится с пшенными да гречневыми концентратами, командует банками говяжьей тушенки, талант свой губит, в землю зарывает.
— Ну вот, товарищ сержант Лепехин. Продукт тебе весь. — Ганночкин стукнул ладонью по боку картонного ящика, в котором лежали брикеты концентрата, потом, словно вспомнив о чем-то, перегнулся ловко и в мгновенье ока выудил откуда-то из тайника, расположенного в фургонной стенке, запыленную бутыль зеленого стекла «ноль пять», горлышко густо облито сургучом, и осторожно, будто бутыль была хрупкой елочной игрушкой, поставил на стол. — Это для обогрева… Чтоб пальцы не синели.
Лепехин взглянул на старшину с усмешкой, будто дивясь его щедрости, Ганночкин перехватил взгляд, и крохотные довольные глаза его обметали морщины, целая сетка.
— Может, еще чего? — спросил он. — Излагай, пока я добрый.
Смахнул пальцами пот с лица, потряс ладонью, будто освобождаясь от чего липкого. На сапоги моросью сыпанули капли.
— Хватит?
Лепехин приподнял жесткие брови, свел их у переносицы.
— Хватит. — Подошел к порожку фургона, неловко, целя приземлиться вначале на одну ногу, потом на другую, спрыгнул. Снизу крикнул: — Подавай свой продукт, старшина.
Ганночкин поднял ящик, сунул под мышку и, прижимая его локтем к бедру, осторожно, боком, стараясь не оступиться с ослизлых, обпаянных льдом ступенек, спустился на землю. Лепехин принял ящик, пристроив его на полурасщепленном сосновом чурбаке, начал сортировать продукты: отобрал три банки консервов, полдесятка брикетов, сунул в рюкзак, остальное оставил в ящике.
— Это не возьму. Лишнее.
— Ладно, — сказал Ганночкин зябко, ширкнул носом, в глазах у него отразилось недоумение. — Ладно. Знаешь что? — Он поглядел вниз, на головки собственных сапог. Пощелкал пальцами. — Еще я тебе телогрейку выдам. Под шинель наденешь. Теплее будет. Особенно ночью. Ночью мороз злеет.
— Давай, Степан Сергеевич, — назвав старшину по имени-отчеству, откликнулся Лепехин. — От телогрейки не откажусь. А вообще ты меня как на Луну собираешь. По высшему разряду.
— Вернешься — отдашь. А не отдашь — отниму, — сказал Ганночкин, слазил в фургон, вышвырнул из теплой притеми ватник с остро блеснувшими на лету латунными пуговицами, погромыхал ступеньками.
— Ну, Иван брат Сергеевич, — он широко развел руки, будто собирался обхватить целую деревню.
— Иван брат Сергеевич — так не говорят. Говорят — Иван свет Сергеевич.
— Ага, — согласился старшина. — Ни пуха тебе…
— К черту, к черту… — Лепехин сделал шаг к Ганночкину, обнял крепко, подумал, что Ганночкина обнимать все равно, что слона, пристукнул ладонью по спине. — Нельзя объять необъятное.
Ганночкин же в ответ сжал сержанта так, что Лепехину небо показалось величиной в копеечную монету, в позвоночнике что-то хрумкнуло, а перед глазами заелозили электрические светляки. Здоров же мужик! Пушку бы вместо тягача ему таскать, а не крупу развешивать.
— Слушай, попрошу тебя об одном, Лепехин. Не откажи, а? Как там у Корытцева брат мой? Кузьма Сергеевич Ганночкин, ты знаешь… Посмотри, как он? Жив? Давно что-то от него ничего не поступало. Нет вестей и нет…
Старшина отступил на шаг, уперся сапогом в ступеньку фургона.
— Двигай… Вернешься — обмоем.
В маленьком амбарчике с продавленной крышей, пристроенном к боковине склада, был расположен штабной гараж. Лепехинский мотоцикл, марку которого затруднялся определить даже самый крупный фронтовой знаток мотоциклов капитан Лоповок, был «сборной солянкой»: рама от одной машины, колеса от другой, мотор от третьей, прицепная люлька от четвертой. Время от времени мотоцикл капитально ремонтировали, пробитые осколками и пулями детали заменяли новыми, железный коняга был пестр от этих деталей, смешон и нелеп… Лепехину несколько раз предлагали новые мотоциклы — и трофейный немецкий БМВ, и французский БСА, и американский «харлей», но он отказывался, предпочитал чинить старую машину. Слава об этом много раз латаном-перелатаном мотоцикле и его хозяине шла по всей армии — рассказывались легенды, порою такие, что были внове самому Лепехину; иногда солдаты, чаше всего незнакомые, из пополнения, смеялись, глядя на нелепый мотоцикл. Но Лепехин не обращал на насмешки внимания, только лицо его делалось холодным и мрачным, да в голосе появлялась раздражительная напористость.
Он сложил продукты в коляску, завел мотоцикл, тот послушно закашлял, зачадил дымом; Лепехин, выждав, когда прогреется мотор, выехал на дорогу…
На малом газу он пробирался вдоль разбитой тягачами колеи, стараясь не попадать в глубокие вдавлины колесами прицепной коляски — если увязнешь, не сразу выкарабкаешься.
Что же еще взять с собой? Проверить амуницию надо сейчас, потом проверять будет поздно. Все взял или что-то забыл?
Навстречу медленно полз «студебеккер». Лепехин свернул с колеи и съехал в снег. Мотоцикл заревел, прополз несколько метров по снегу, разрубая передним колесом корку наста, но сил не хватило, мотор зашелся в вое — Лепехин, пережидая, сбросил газ, остановился.
— Лопатку забыл, вот что, — сказал он вслух.
«Студебеккер» обдал вонючим масляным теплом и, кренясь из стороны в сторону, словно корабль на волне, прополз мимо. Лепехин, отвернув обшлаг шинели, посмотрел на часы — фосфорная точечка секундной стрелки торопливо скользила по циферблату. Скоро три. Три часа дня. Стрелка пробежала один круг. Быстро бегает, зараза. Он выбрался на дорогу. Дальнейший путь прошел без приключений, и через несколько минут он уже сворачивал во двор дома. Мери с негодующим кудахтаньем выскочила из-под колеса прицепа и, размахивая редкими, с размочаленными концами крылышками, взлетела на закраину полуповаленного плетня. Слышно было, как в доме громко заливается патефон, певица с надрывом выводит тягучую, полную печали песню. Связисты продолжали пировать. Молодость, она и есть молодость. Не страшно ей ничто.
Лепехин заглушил мотор, постучал сапогом по покрышкам колес, проверяя их целость, надежность, потом пошел в дом.
В темноте сеней долго не мог нащупать ручку двери; наконец нащупал, потянул на себя и, вдруг почувствовав, что сверху на него что-то падает, молниеносно прижался к косяку. Мимо головы, почти у самого уха, пролетела наполненная водой кружка. Кружка эта была привязана бечевкой к дверной ручке, стоило ручку потянуть на себя, как бечевка тащила за собой кружку, и та, сорвавшись с дверного перекрытия, обрушивалась на голову. Старый фокус.
Кружка глухо стукнулась о порог, вода веером брызнула во все стороны, спорыми струйками потекла в едва заметную в сером сумраке ложбину, выбитую в земляном полу. Дружный, в несколько глоток, смех резанул уши.
Лепехин выглянул из-за косяка. Связисты разом умолкли. Словно и не смеялись. И вид у каждого сделался обиженно-детским, недовольным, плаксиво натянулись губы.
Сзади кто-то сипло кашлянул. Лепехин обернулся: в сенях с плохо освещенным и оттого плоским лицом стоял прыщавый связист, невыразительно мигая глазками-бусинками. Вот кого ожидала кружка с водой.
Лепехину враз расхотелось наводить порядок в этом детском саду. Он молча забрал сушившиеся на печке короткие, обрезанные по щиколотки катанки — в такие удобно засовывать ногу прямо в сапоге — и вышел на улицу.
Снег перестал идти. Воздух погустел, набряк влагой, над узкой полоской далекого леса показалась проволочная, словно обведенная по контуру, совсем незаметная на светлом, дневном еще небе, рогулька месяца…
3
Ночью Лепехина перебросили через линию фронта — под шум специально затеянного отвлекающего боя. Так под грохот стрельбы и провели… Вместе с мотоциклом.
В небольшом редкоствольном лесочке Лепехин попрощался с сопровождавшими его разведчиками…
Когда разведчики уходили, то старший группы лейтенант Гиндаев, молоденький еще, усы едва начали пробиваться над толстыми, постоянно шелушащимися губами, все оглядывался на Лепехина, круто вывертывая голову в ушанке-маломерке, поднимал прощально руку в двухпалой байковой перчатке. Лепехину еще долго в свете вынырнувшего из-за облачных лохм месяца была видна настороженная подвижная фигура старшего, потом месяц вновь заполз за тучи, и группа исчезла, а с нею исчезли и все звуки — теперь не раздавались ни треск веток, ни шорох сосновых лап, ни щелк ломкого от ночного мороза снега.
Лепехин вытащил из коляски автомат, повесил его на плечо дулом вниз, потом надавил каблуком на торчок педали, заводя мотоцикл; он ожидал, что тот будет капризничать, что остывший мотор не сразу затянет свою стрекотную песню, но мотор, порывистый и упрямый в другие разы, завелся, как говорят шоферы, с полуоборота. На ощупь, усиленно вглядываясь в едва подсвеченную месяцем темноту, Лепехин вырулил на старую, вырубленную еще до войны просеку, поехал вдоль нее. За лесом начиналось длинное, неровное от плохо запаханных ложбин поле, подрезанное с одной стороны дорогой, с другой — балкой — Лепехин помнил и поле, и дорогу по карте и преодолел это ровное место без приключений; потом шла деревушка — она была сожжена, вместо мазанок — неровно оплывшие, с закругленными краями останки; опасаясь встреч, Лепехин объехал деревушку стороной.
Дальше двигаться было нельзя — надо сориентироваться, оглядеться, не то ведь и заплутать недолго, и к фрицам в лапы угодить.
Километрах в пятнадцати от линии фронта он отыскал скирду, расположенную на взгорке, который огибала безлюдная, но хорошо накатанная дорога, решил заночевать — загнал в скирду мотоцикл, притрусил сверху, чтобы не было видно, сеном, сам забрался наверх и очень скоро заснул, прислушиваясь во сне к далеким редким выстрелам.
Во сне Лепехин видел длинную, как небо, степь, траву, густую, рослую — по пояс, видел сторожкие, пугающиеся даже шороха табуны лошадей. Низко над горизонтом висело солнце, от жгуче ярких, прямых лучей конские спины светились огнем, и трава светилась золотом, и небо; оно казалось бездонным и глубоким, словно море.
Над степью звенел жаворонок. Он как бабочка трепетал крыльями, будто застыв на одном месте, пел свою бесконечною песню, потом срывался с места и, пролетев несколько метров, опять застывал в песне.
Неожиданно в траве взметнулась пружинистая веревка — степная змея подняла голову, сделала стойку. Жаворонок — любопытная птица — замер на месте и петь перестал, и испуганно взглянул вниз. Глаза жаворонка встретились с глазами гадюки, и птица не смогла отлететь в сторону — ее приковал взгляд змеи. Потрепыхав недолго крыльями, привороженный жаворонок обессилел и упал. А над степью по-прежнему бездумно расстилалось прозрачное от горячего солнца небо. Беспечное и голубое.
Гадюка лежала неподвижно — длинная прямая палка с узловатым наростом посредине. Теперь она будет лежать недвижно, переваривая птичью тушку…
Во сне у Лепехина защемило сердце — оттого, что увидел степь и солнце, разглядел больших и малых птиц, жаворонка-порхыша, зверей, живущих около глазастых озер; еще больше ему стало невмоготу, когда он увидел во сне самого себя — угловатого, лобастого молчуна, сидящего верхом на пегой злыдне лошади — он узнал нахрапистую кобылу — Мамайка! И неподвластная тяжесть наполнила его тело, закупорила легкие, сдавила горло.
Проснувшись, Лепехин долго вглядывался в ночную темь, сдерживая тревожное колотье в груди, потом зарылся поглубже в сухое, пахнущее прелью сено, ноги укрыл охапкой слежавшегося твердого пырея, разровнял охапку стволом автомата и вновь смежил веки. Хорошо, подумал он, что взял у старшины Ганночкина телогрейку, не отказался — в одной шинели-то было бы худо… Холод — он что голод — не тетка.
Ощущение какой-то неосознанной строгой вины охватило его. Где-то далеко протрещала автоматная очередь, стрекот был похож на звук рвущейся бумаги, потом солидно выступил пулемет — крупнокалиберный, гулко, парой, ухнули полковые минометы — Лепехин вначале улавливал эти звуки, фильтровал их, запоминал, но потом сон сморил его, и он погрузился в тяжелое бесцветное забытье.
Очнулся оттого, что странное чувство вины не прошло, и еще от ощущения, будто рядом кто-то находится… Было тихо. Утреннее небо, мглистое, с плотной клочковатой наволочью, выгнулось над землей, ветер посвистывал среди сохлых остьев полыни и репья. Лепехин шевельнул рукой и чуть не вскрикнул от боли, это сон сумел так сковать его тело; усталые мышцы болели.
Он тронул ствол автомата, отметил, что сегодня тепло — температура нулевая, а может, даже за нуль, на плюсовые отметки заползла. Если сегодня он выйдет на полк Корытцева, то завтра — если, конечно, повезет, — вернется в бригаду. Если, конечно, повезет.
Влево от скирды тянулась плоскобокая, вырастающая из холма горка, которую Лепехин ночью не заметил, голые склоны покрыты редкими, остекленевшими с краев, выветренными пластами снега, вершину венчает несколько молоденьких елочек. Торжественная зелень их была целомудренной и приторной — такие елочки изображены на рождественских открытках, которые присылали из глубины Германии немецкие фрау со словами поздравлений своим «героически сражающимся на Восточном фронте с красной коммунистической заразой» отцам, мужьям, братьям, сыновьям.
За первой горкой полукружьем тянулась вторая, тоже голая, обдутая ветрами, с льдистыми проплешинами. Что за ней — не разобрать. Справа, примерно километрах в трех от стога, по дороге шла колонна автомашин, это насторожило Лепехина. Машины были грузовые, тупорылые, с закрытыми фургонами. С чем машины — не различить, далеко до них — они могли и подкрепление перебрасывать, продукты везти, могли и порожняком идти — попробуй, различи. От дороги к скирде — хороший подход: две прочные, еще по зиме проложенные колеи, притрушенные клочками сена, двумя темными полосами пересекали поле.
Вдруг до Лепехина донеслось легкое, чуть с простудцей, посвистывание, беззаботное, довольное и едва слышимое — настолько едва, что его можно спутать с голосом ветра. Потом раздалась песенка. Тоже не бог весть что — тихая и бессловесная… Кто это? Пока не узнать. Кто-то добродушно, с одышливыми перебоями мычал, подгоняя мычание под нехитрый мотив. Лепехин беззвучно переложил к закраине мешавшую ему охапку сена, осторожно заглянул вниз. Никого. Мычание раздалось сбоку — и тут по бесцветности звука, по однотонности, лишенной переходов, Лепехин вдруг понял — чужой. Краем глаза сержант заметил, что колонна тем временем остановилась, две машины вырулили из череды грузовиков, неловко перевалили через затвердевшие ухабины кювета и направились по колее к стогу.
Надо было уходить. Через бугры. Иначе накроют. Как в ловушке. Хотя была у него надежда — может, машины… чем черт не шутит?.. Может, корытцевского полка? Вон сколько трофейных грузовиков в наших частях!.. Но машины были чужими, гитлеровскими: на заляпанных грязью бортах серели кресты.
В это время рядом показалась голова в ватной красноармейской шапке с опущенными вниз ушами. Завязки были оторваны, придавая владельцу залихватский и одновременно жалкий вид. И глаза… Они были немигающими, светлыми до льдистости, с пивными ресницами — типичные не наши… И погон на шинельке вздернулся мостком, немецкий, с плоским желтым кантом. В глазах немца заплескался страх — он оборвал мычание, приоткрыл рот — в углах вспухли пузырьки слюны. Лепехин увидел язык, остробокий, с бугристыми венами. Сколько надо времени, чтобы успеть схватить автомат, оттянуть затвор и выстрелить — немного, но этого немного у Лепехина не было, он не успевал, как не успевал и немец — у того автомат был подхвачен рукой под ремень, как обычно берут оружие, когда ползут по-пластунски.
— Руссиш!.. Зольдат-н!.. — шепотом, словно еще не веря тому, что видит, проговорил немец, умолк и вдруг крикнул изо всей мочи, оглушая и Лепехина, и самого себя: — Руссише зольдат-н!..
Лепехин не помнил, как нащупал автоматный ствол, сразу ставший липким от погорячевшей ладони. Немец проиграл, мелькнуло в голове, проиграл, выкрикнув эти панические слова, — потерял малые, самые малые доли секунды, а от них, малых долей, сейчас зависит все. Он сцепил пальцы на стволе и коротко, всем плечом, без разворота, ловя искры, сиганувшие из глаз, гася злостью боль, ударил немца автоматом, как дубинкой. Удар пришелся в основание шеи, в самый угол, где находится выпуклость ключицы; немец враз обмяк, приникая головой к скирдяному боку, словно собираясь зарыться в сено, схватился рукой за пук пырея, но не удержался, медленно поехал вниз. Лепехин рванул автомат к себе, ладонью оттянул затвор. Оглушенный немец упал боком на свежую прогалину под скирдой, откатился к небольшой островерхой копенке, стоявшей отдельно.
Лепехин рывком перебросил тело к краю скирды и, перемахнув через закраину, спрыгнул вниз. На ходу больно задел коленом за что-то твердое — наверное, за ссохшийся земляной ком. Присев на корточки, он охнул от боли, стиснул зубы. Если б у себя был, то пришлось бы в санбате эскулапам показаться. Боль сильная. Может, и придется показаться. Если, конечно, вернется… Он вцепился пальцами в угловато-костистую коленную чашечку. Несильно сжал ее, ожидая, когда стихнет, отступит боль.
— До свадьбы все пройдет. Вся хлябь, — пытаясь успокоиться, машинально пробормотал он хриплым, перезрелым от боли голосом.
Наверное, завести мотоцикл он не успеет — машины уже совсем близко, отчетливо слышен их рев; остается одно — бегом на горку, поскольку та прикрыта скирдой и не видна со стороны дороги, на горке — елочная гряда: этой самой грядой он и уйдет. Лепехин, выпрямляясь, подхватил автомат, но не успел сделать и шага, как услышал громкое:
— Хенде хох!
Он резко повернулся, увидел глубокий темный глазок «шмайсера», вдавлину ствола, направленного на него, — черную, четко обрисованную точку, из которой через секунду-две, если он сделает хотя бы одно движение, выплеснется огонь. Немец, в чьих руках находилась сейчас его, лепехинская, смерть, жизнь его, был длинным, молодым, розовощеким, сытым, щеголеватым; опрятная офицерская шинель была распахнута на груди, хромовые сапоги, несмотря на весеннюю грязь и ядовитый талый снег, начищены до лакового блеска — хоть смотрись. Он стоял, прислонившись плечом к углу скирды, как к дверному косяку, небрежно согнув одну ногу в колене.
— Хенде хох! — повторил немец зло и повел стволом «шмайсера» вверх. — Више, — сказал он ломано, по-русски. — Хох!
Лепехин медленно поднял руки, ощущая привычную тяжесть ППШ, который он держал в правой. Немец хохотнул весело и зло, ткнул «шмайсером» вперед — автомат тотчас выбило у Лепехина из руки, а в шею и в щеку впилась мелкая деревянная щепа; автомат с расколотым прикладом отлетел в сторону, воткнулся стволом в снег. Полустертая плечевая пластина, привинченная к торцу приклада, заблестела остро и недобро. Лепехин сощурился с горечью, слизнул языком изморось, выступившую на губах. Немец еще раз хохотнул — на этот раз с откровенным довольством. Что такое меткая очередь с живота, Лепехин хорошо знал — гитлеровец был первоклассным стрелком.
— Крю-гом, — тщательно выговаривая каждый слог, скомандовал немец по-русски. Лепехин сощурился, посмотрел поверх немца, в боковину скирды, где ловко, без сбоев, вскарабкивалась на закраину мышь — крохотный серенький комочек, совершенно беззаботный, незаметный, позавидовал ей, повернулся. Будет стрелять в спину? В лицо испугался? Паскуда, недобиток, выкормыш…
За стогом, теперь совсем уже рядом, натужено взревывали моторы поднимающихся по скользкому склону машин; когда колеса пробуксовывали, попадая на обледенелые проплешины, звук этот становился вязким, высоким, с жальцой… Лепехину сделалось тоскливо, он ощутил, представил почти зримо, как из-под рубчатых скатов веером вылетают колючие брызги снега, крошево мерзлой земли, перемешанное с липкой весенней жижей; такое крошево хлещет больно, до крови, если не успеешь увернуться. Но вот звуки унеслись куда-то под облака, исчезли разом — машины, судя по всему, застряли, моторы, как по команде, заглохли. Через секунду взвыл и тут же смолк стартер, и Лепехин остался один на один с тишиной, пронзительной, безумной, полой. С такой пустой тишиной Лепехин был уже знаком. Однажды, когда разведка подорвалась на минном поле под деревней Кличино и остался в живых только он, опустошенный, покореженный, оглушенный, не соображавший, где небо, а где земля, где свои, а где чужие, когда казалось, что пора уже ставить точку и на этом подвести счеты с жизнью, он на себе испытал, что такое мертвая предсмертная тишина; она поразила его, смяла тяжестью своей, предрешенностью, неизбежностью быстрого, но мучительного конца. Он выжил тогда — наперекор всему выжил. Один, ощупывая обмороженными, переставшими слушаться руками каждую кочку минного поля, переполз лощину, вышел к своим. С собой он вынес планшетку немецкого офицера-связиста, в планшетке, под целлулоидом, находились важные штабные документы. Из-за них-то и ходила в разведку группа, из-за них и полегла… Навсегда, на всю жизнь Лепехин запомнил ту тревожную, кричащую всеми, что только существуют на свете, криками тишину.
Через полгода после трагедии на минном поле под Кличином мальчишка, попавший к разведчикам из необстрелянного, снятого под бомбежкой с эшелона пополнения, разбирая в землянке гранату РГД, нечаянно уронил ее на пол. Не все даже обернулись на стук. Ну, упала граната, да мало ли гранат случайно падает на пол! Рядовой случай. Только один Лепехин сумел заметить во мраке земляночного тепла бледное как бумага лицо паренька, растерянно сведенные в одну точку глаза. Из гранаты была выбита предохранительная чека… Тускло поблескивая, РГД лежала на земляном полу; большая, безобидная на вид, с надетой на ствол рубчатой осколочной рубашкой. А над ней наискось, растворенная, совершенно плоская, приклеенная к стенке фигура растяпы новобранца. Лепехин прыгнул на гранату прямо с места, с колченогой расхлябанной табуретки. Долго потом еще вспоминали этот прыжок, чемпион мира так бы, наверное, не прыгнул. Лепехин схватил гранату и, крепко сдавив ее ладонями, притиснул к животу. Распластался ничком на полу землянки. От такого прикрытого взрыва никто не пострадает. Тогда тоже исчезли все звуки, и наступила знакомая уже тишина; он ждал секунду, вторую, третью, ждал, что вот-вот землянку всколыхнет грохот взрыва, навсегда исчезнет вечернее тепло, сумрак окрасится огнем. А потом, еще не веря в счастливый исход, он медленно, неуклюже поднялся с пола, крепко сжимая сведенными от судороги руками рубашку РГД, — граната не взорвалась, не сработал запал. Случай! Несколько раз он сталкивался потом с этой смертоносной тишиной; война есть война, а на войне, как говорят тыловые шутники, иногда стреляют. Конечно, он не заговоренный, когда-нибудь наступит конец, но где находится эта черта, где проходит рубикон, он не знал. Да и не должен был знать и даже на догадку не имел права. И все же ему не верилось, что конец этот наступит именно сейчас.
Он ощутил холодный пот в подглазьях, боль оттого, что тяжелые соленые градины, примерзая к коже, стягивали ее. Вздохнул глубоко, почувствовал сырость под мышками, в ложбине груди. Смерти он не боялся, нет. Было другое — обида. Обидно, что попался как кур в ощип. Шли секунды. ППШ находился буквально рядом, рукой можно дотянуться — из серого пористого сугроба торчал расщепленный автоматный приклад. Вот оно… Второй раз за сегодняшний день Лепехин был в проигрыше: первый, когда он проворонил и пропустил к стогу гитлеровца, второй — сейчас. Но с первым проигрышем он все же справился, а со вторым? От оружия его отделяли доли секунды, считанные мгновенья и коротенький — раз плюнуть — отрезок земли: метр, полтора, от силы два… Отрезок земли, цена которому равна сейчас целой жизни.
Немец медлил, не стрелял. Лепехин расслабился, сделался ниже ростом, он стал ощущать вес собственных мышц, прикинул, куда пойдут первые пули автоматной очереди: выходило — полукругом, от места, где он сейчас стоит, через некрупный притрушенный сенной крошкой отпай к автоматному прикладу. Почему медлит гитлеровец, почему молчит? И сколько еще он будет медлить, сколько будет молчать? Пять секунд, десять, пятнадцать?
Лепехин сгорбился еще больше, совсем врастая в снег, в тот же миг он оторвался от земли, вытянулся, далеко вперед выбросив руки и широко растопырив пальцы, прыжок этот, происходящий в судорожном безмолвии, вызывающем тошноту, длился бесконечно долго, за это время можно было прожить целую жизнь, может быть, даже не одну — взгляд его был нацелен на пластину ППШ; и одновременно Лепехин каждой своей мышцей, каждой клеткой тела ожидал, что вот-вот раздастся автоматный стук, вот-вот…
Он ухватился рукой за приклад, рванул его к себе, тут же всей грузнотой тела ощутил с нелепой болью, что проваливается под снежный пласт… Это сковало движения. Он притиснул ППШ к себе, потянул рычаг затвора, тугой, знакомый, тот не подался, он был взведен еще наверху, на стогу; несколько раз перевернулся в снегу по инерции, зарываясь лицом в жесткий, пахнущий полем и мышами наст, оцарапывая нос, щеки, подбородок. Потом выплюнул набившееся в рот мерзло-жгучее крошево, выбросил перед собой ствол автомата, ловя на мушку фигуру врага, и в тот же момент поразился странной его позе: у немца были безвольно опущены руки и круто запрокинута голова, словно он собирался молиться. Автомат валялся в куче сена, вороненая ручка приклада была похожа на любопытный птичий глаз, она поблескивала, угольной чернотой выделяясь на ржавой боковине скирды.
— Эй! Вставай! Не курорт же? — раздался вдруг голос, негромкий, очень спокойный — неестественно спокойный! — и едкий. — Советую поскорее ноги к рукам приспосабливать.
Лепехин, чувствуя, как из него уходит тепло — может быть, последнее тепло жизни, — взметнулся в снегу, увидел, что в стороне, небрежно притулившись к круто выбранному, с навесью, срезу скирды, стоит парень в кубанке и ватной телогрейке, перепоясанной офицерским ремнем. На ремне — пустые ножны от немецкого кинжала — такие кинжалы носят эсэсовцы, больше никто, — знакомые Лепехину изящные ножи с затейливо выгравированной надписью: «Дойчланд юбер аллес» — «Германия превыше всего». Парень, взявшись за ножны рукой, потянул их, кожаные помочи лопнули с тугим хрустом, он сорвал с ремня уже ненужный теперь футляр и широким, вроде бы как на сцене отработанным жестом отшвырнул от себя.
Лепехин отплюнул изо рта серый снег, провел ладонью по мокрой, со свалявшимися волосами голове — шапку он потерял, где-нибудь рядом в снегу лежит, надо поискать, но время, время, время! — поднялся.
— А ты, голуба, телишься долго.
Лепехин обтер рукой лицо, не сводя настороженного взгляда со своего неожиданного спасителя.
— Быстрее вон к тем елкам! Не успеем — встретимся на облаках!
— Успе-ем! — прохрипел Лепехин; пошатываясь, он разогнулся, потом резко, в три скачка достиг скирды, оттолкнул ногой вцепившегося руками в сохлые стебли щеголеватого немца, брезгливо копнул автоматным стволом сено с приставшими к нему пятнами крови.
— У тебя что, в тех машинах друзья едут? А? — выкрикнул парень.
Лепехин, задыхаясь, хрипя, — еще не отошел от прыжка, от смертной униженности, — расшвырял ногами сено, в притеми блеснуло гнутое дышло — руль мотоцикла, ухватился за него обеими руками, потянул из скирды. Отделилась большая охапка, медленно рухнула на Лепехина, запорошив пылью глаза.
— Ну! Помоги! — закричал он резким голосом, наваливаясь на мотоцикл всем телом. — Че стоишь?
Парень в кубанке мигом понял, он даже послабел лицом, с него стерлась насмешливость: упершись каблуками сапог в твердый низ скирды с проламывающейся ледяной коркой, помог вытащить мотоцикл.
Лепехин выбил из горла мокроту. Только бы завелась мотоциклетка сейчас, только бы завелась… Он с силой ударил каблуком сапога по рогульке стартера с напаянной на штычок резиной, но остывший за ночь мотор, как его осторожный Лепехин ни укутывал, ни утеплял, лишь слабо чихнул. Лепехин приложился к педали еще раз и еще, потом крикнул парню, неподвижно стоявшему сзади:
— Чего замер, как статуя, толкай!
Парень кинулся к коляске, послушно уперся в нее руками; Лепехин — тоже, толкая одной рукой мотоцикл в бензобак, другой в руль.
— Ну-у… Быстрей! — запаленно выдохнул он, ощерив зубы.
Мотоцикл недовольно чихнул один раз, звук был схож с пистолетным хлопком, засопел, потом хлопнул еще раз, другой и третий…
— Э-э-э! Ду-убинушка! — вдруг отчаянно, не к месту закричал Лепехин, вспомнив неожиданно, как техмастер ПАРМа, полуглухой сержант дядя Ваня Усов называл неисправные машины «дубинушками».
— Выручит — памятник поставим!.. — Парень в кубанке по самые колени погрузился в наст, под ним, казалось, сама земля затрещала.
Колеса вязли в снегу, медленно, слишком медленно вспарывая его… Но вот переднее всползло на лысую, твердую, хорошо обдутую ветром поверхность бугра, и они побежали, толкая мотоцикл из последних уже сил, задыхаясь, готовые распластаться, ослабшие, с лицами, залитыми потом. Тут мотоцикл завелся, обволокся вонючим бензиновым смрадом, и Лепехин на ходу уже дал полный газ, переключая рычаг скоростей.
— Прыгай! — не оборачиваясь, крикнул он парню в кубанке.
Тот, неуклюже взрыхлив ногами снег, упал сверху на прицепную коляску, ухватился руками за козырек сиденья. «Шмайсер», соскользнувший у него с плеча, задевал стволом за спицы, и те с тупой дробью бились о ствол в поспешном беге.
— Автоматом спицы вырубишь! — прохрипел Лепехин.
— Не-е… Раньше смерти не помрем, — натужено, со злой одышкой пробормотал парень в кубанке и подтянул «шмайсер» к себе. Они одним махом взлетели на макушку бугра, перевалили через него и только тогда поняли, что спаслись, — именно в этот момент один из грузовиков показался из-за скирды… Но они уже форсировали макушку… Грузовик, развернувшись, остановился у небольшой копенки, где лежал оглушенный немец, и одинокая автоматная очередь, ударившая им вслед из кузова, вреда не причинила, она лишь состригла несколько лап со смолистых елочек, росших на самом бугре и по ту сторону его…
4
Небо безмерной чашей — краев не видно, выгнулось над ними, плотные облака грязно-желтой шубой сваливались за горизонт, они шли низко и тяжело, они почти цепляли за голову. В стороне, примерно в двух-трех километрах от них, вспыхнул бой — доносились частые, сохраняющие звонкость и на расстоянии строчки автоматных очередей; задумчивый, уверенный в себе пулеметный стук и короткие, недобрые звуковые всплески — это били танковые орудия.
Овраг, в котором они остановились на привал, был с крутыми щелястыми склонами, прогнувшимися под тяжелым набухшим снегом, дно же было каменистым, чистым, удобным для езды, добела отмытым сочившимися из-под обледененного снежного края полосками воды; вверху, на кромке, по всей гряде росли тускло освеченные небом кусты, редкие, с хитро, как в паутине, переплетенными ветками. Огонь жадно лизнул тряпьевый кусок, смоченный бензином, взорвался, загудел-взыграл опасно; котелок, повешенный на рогульку, быстро отсырел, зачастил крупными слезами, которые стекали в прозрачное, невидимое на свету пламя и, глухо шипя, истаивали. Каша в котелке заворочалась шумно и грузно, на подернутой коричневой жировой пленкой поверхности вспухали и тут же звучно обмякали пузыри. Еще немного, и будет готова… Лепехин отстегнул полог у мотоциклетной коляски, засунул руку в нутро, кряхтя, достал алюминиевую миску, кинул из-под локтя, норовя попасть на снежную куртину.
— Почисть-ка, а? — попросил он. — Снегом. А то бензином приванивает.
Парень в кубанке ткнул носком сапога миску, та отъехала от костра к бочажку, набитому снежной жижицей:
— Слухаю и повинуюсь!
Лепехин недовольно дернул небритой, покоричневевшей от огня щекой — юморист парень-то, а юморист на войне все равно что… А вот что? — Лепехин с ходу придумать не мог, не получалось с ходу, еще в детстве отец приучал его обмысливать каждую фразу, отшлифовывать ее со всех сторон, чтобы ни зазубринки, ни комелька в ней не было, чтобы народ не придирался, чтобы смеха не было…
— …папа римский в женской бане, — услышал он громкое, — или же все равно, что гвардейский лейтенант на курсах сестер-акушерок. Так?
— Что так? — Лепехин нахмурился раздосадованно.
— А ничего. Просто я дядя Берендей, умею угадывать мысли.
— Шутник…
— А ты, я вижу, обиделся, а? Не обижайся…
Веселый человек. Непонятный. Уж не власовец ли?
Говорят, на их участке фронта власовцы появились… Прихлопнул гитлеровца, чтобы в доверие влезть… Лепехин даже вздрогнул от этой мысли. Выковырнул плоский ноздреватый камень, впаянный водой в снежную куртину, подтянул его к костру, положил на снег и, придерживая пальцами брючины суконных галифе, сел. Из-за оттопыренного голенища выудил мельхиоровую ложку — мельхиор настоящий, не подделка какая-нибудь, трофей! — ладонью разгреб наст в стороне и, набрав горсть чистого рассыпчатого снега, поскоблил вдавлину, погляделся в нее, как в зеркало… Шанцевый инструмент все отражает: и облака — целый шатер, и мирные тихие, порченные водой склоны оврага, и даже его самого узнать можно по отдельным чертам, по приподнятому вверх носу да щекам в черных зарослях.
Он тронул рукой подскулье. Щетина такая, что только блох разводить. Парень в кубанке посмотрел на Лепехина внимательно, в глазах у него, в самых зрачках — глубокие тени, подвижные и тяжелые, как дробины.
— Я понимаю, что у нас не бал, — сказал он, — не тот банкет, что устраивает английская королева… На царские балы, туда нужно обязательно приходить во фраке, да с белой, так сказать, орхидеей, воткнутой в петлицу. И там еще говорят: «Позвольте представиться, я такой-то» — очень чопорно и с протягом, — поют, одним словом, как в оперетте. А иногда вместо «позвольте представиться!» вручают визитную карточку: глянцевая бумага и золотой обрез по бокам… Но это ведь на балу, а не… — Парень неожиданно замолчал, и Лепехин позавидовал ему — говорить умеет, не то что некоторые, втянул в себя воздух, задержал дыхание, прислушался, все ли тихо. Было тихо. Парень в кубанке тем временем продолжил, насмешливости в его голосе поубавилось: — По книгам все мы знаем, что такое балы… А впрочем, что я такое говорю? — вдруг сник он. — Меня Андреем зовут. Андрей, вот как. А тебя?
Лепехин оценивающе посмотрел на парня в кубанке, стараясь разгадать, какой человек стоял перед ним, разделенный надвое угасающим, но все еще жарким костерком, опустив вдоль тела красные, с шелушащейся кожей, видать, где-то обмороженные, руки. Он был очень прост на вид, этот парень в кубанке. Прост и сложен одновременно, такого не сразу зацепишь. Лепехин смотрел на него выжидательно, а тот стоял спокойно, не меняя позы, и тогда Лепехин ответил хмуро, решив про себя, что всякие слухи, что на фронте появились власовцы, — чепуха, а даже если это и так, то к парню не подходит, — не власовец же он. Зачем власовцу фрица на тот свет отправлять?
— Лепехин, — произнес он ровным, бесцветным голосом.
— А я, значит, Старков по фамилии. Из пехоты.
Парень в кубанке сел к костру. Почувствовав ледяную стылость сырого снега, тут же привстал, подтыкая под себя полы длинной телогрейки.
— Надо ж. Как на танцплощадке друг другу представились…
Не окажись Старков у скирды, Лепехину пришлось бы плохо. Виноват он, да. Считается опытным разведчиком, а попался как кур в ощип. Лепехин вдруг ощутил, что в нем растет, разбухает злость на самого себя, на неожиданного спасителя, на непредусмотренную ситуацию. Он попытался погасить в себе это неприятное и несправедливое чувство — в конце концов война, она война, немало в ней пиковых ситуаций, каждый шаг — это некое мертвое пространство между жизнью и смертью, и сколько уже раз ему, к примеру, помогал выжить случай…
— Ладно, — сказал он, знобко передернул плечами, поднялся, нашарил в коляске замутненный от холода пузырь с граненой пробкой: пузырь был сделан из такого толстого и прочного стекла, что его не брала, даже пуля. Трофейный пузырь, из немецкого блиндажа… В него-то Лепехин и перелил выданное Ганночкиным «средство от посинения пальцев». Из кармана добыл металлический стакан-складешок, сдул с него прилипшие крошки ржаного хлеба, махорочную труху, налил водки до краев и протянул парню.
Тот сдвинул пальцем кубанку на затылок, спросил, словно, кроме него и Лепехина, еще кто-то сидел у костерка:
— Мне?
Лепехин кивнул.
Старков поднял складешок на уровень глаз, будто собирался рассмотреть его на свет, еще до пробы узнать, водка в складешке или не водка, прижмурился, проговорил раздельно, отливая каждую буковку, как пулю:
— У нас в пехоте такая молитва есть: «Прими, господи, не за пьянство, а за лекарство; не пьем, господи, а лечимся. Не через день, а каждый день, и не по чайной ложке, а по чайному стакану. Да разольется влага животворная по периферии телесной, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь!» Гусарство, конечно, но…
Он согнул руку в локте, махом выпил, крякнул, провел пальцами по губам, протянул складешок Лепехину.
— Хорошая штука от мороза.
Лепехин налил себе, осторожно поставил складешок на снег, заткнул пузырь пробкой, выпил.
Где-то наверху, придушенная далью, раздалась стрельба — Старков поднял голову, прислушался, Лепехин внимательно, цепляясь взглядом за каждое пятно, за каждую плешину, за каждую подозрительную кочку, осмотрел склоны оврага.
— Вот ведь поесть не дадут.
— Могут и не дать.
Стрельба утихла так же быстро, как возникла, потом ударило орудие — тяжелое, хорошего калибра, с дальним боем, через полминуты выстрелу ответил грохот взрыва, вязкий, промозглый.
— Интересно, смогут фронтовики спать после войны? Когда тишины, так сказать, будет от пуза, и больше ничего, а? Иль не смогут? — Старков взглянул на Лепехина, усмехнулся, сморщив лоб, стянув брови в единую линию. — Странно… В нашем доме, это до войны еще, жильцы дважды подавали жалобу на дворника. Жаловались, что тот вставал чуть свет и начинал шмурыгать метлой по асфальту. Говорили, что не могут под метлу спать. А фронтовики спят под бомбежкой, под артобстрелом, и хоть бы хны… Просыпаются, по-моему, только от одного — от тишины. Ничего хреновее на фронте нет, чем тишина.
Пока Старков рассказывал, Лепехин еще раз внимательно рассмотрел его. Взгляд у Старкова быстрый, нескрытный, человек с таким взглядом не обманет и не подведет, руки вот только смутили Лепехина — маленькие слишком. Культурные. Военный человек руки не такие должен иметь. А вообще Старков — приметный малый, веселый, довольный, тут иного слова не подберешь, довольный тем, что не убит…
— Ты воюешь как? — поинтересовался Лепехин. — С начала войны или уже позже на фронт попал?
— Будем считать, что позже.
— Точней…
— В сорок втором, на Волге первый раз в бой попал.
Лепехин кивнул: самое горячее время на Волге было — сорок второй год, хотя сам Лепехин в тот год воевал на Кавказе, там тоже не сладко было, но все же не сравнить со схватками на сталинградских улицах. Потом сержант сказал, что Старков вроде бы молод для того, чтобы воевать в сорок втором, его год призывали позже…
— Я молод на вид, но трухляв на здоровье, — сказал Старков смеясь. Он ковырнул ложкой кашу, складки его губ затвердели, сделались костяными, желтоватыми, и лицо приобрело жесткий вид: как-то сразу он постарел лет на десять. Расстегнул телогрейку, под стеганым бортом Лепехин увидел орден Красного Знамени, старого еще образца, которые давали в первые два года войны, коротким движением выковырнул пуговицу из петельки нагрудного кармана гимнастерки, достал плоский, наподобие записной книжки серебряный портсигар, щелкнул крышкой — в портсигаре, плотно прижатые друг к другу пружинкой, светлели две немецкие, какие курили только старшие офицеры, сигареты. Старков поддел крепким пальцем пружинку, осторожно вытряхнул на ладонь одну сигарету, за ней выкатилась другая, первую он ловким движением циркового фокусника подкинул вверх, и она сразу же приклеилась к старковской губе, вторую же протянул Лепехину. Сержант взял ее, растер пальцами кончик, от сигареты тянуло слабым приятным запахом, непохожим ни на какие табачные запахи, известные ему. Лепехин понюхал сигарету еще раз — такие в разведке не попадались. Старков чиркнул зажигалкой, поднес прозрачный, почти бесцветный огонек к лицу Лепехина — сержант прикурил, глубоко затянулся дымом, остро защекотавшим ноздри и нёбо, выдохнул, потом затянулся еще раз.
Старков перевернул портсигар, серебряный бок тускло блеснул на ладони, сделал неуловимое движение пальцами, портсигар открылся вновь; Старков копнул ногтем тоненькую, плотно прилегающую к крышке серебряную пластинку, на которой штихелем были вырезаны четкие буквы монограммы — пластинка отскочила, словно створка ракушки. Под ней лежало удостоверение об окончании сержантских курсов, а под удостоверением — совсем новенький, обернутый слюдяной бумагой партийный билет.
— Вот, — сказал Старков.
Лепехин взял партбилет в руки.
«Старков Андрей Евграфович…» Год рождения… Организация, выдавшая партбилет… Фотография, печать, закорюка-подпись — все есть, чему положено быть, все стоит на своих, обведенных типографскими нитками местах.
— Клади обратно.
Лепехин вернул Старкову партийный билет.
Старков вдруг звонко расхохотался, стер тыльной стороной ладони выпорхнувшую на щеку слезу:
— Как говорил один французский дипломат — Талейраном его звали — лучший рецепт для любопытного — это, так сказать, соединить в себе французскую любезность с английской глубиной, а итальянскую ловкость с русской твердостью… Все любят разглядывать других, но никто не любит быть сам разгаданным.
Он потянулся за толстым лозиновым прутом, шевельнул увядающий костерок. Погасшая было тряпка вдруг дымно зачадила на сыром снегу. Лепехин встал, вдавил ее в наст сапогом.
— Думаешь, фриц на дым приползет? До этого ль ему сейчас? Если только случайно. Хотя без случайностей на войне… — Старков усмехнулся, начертил прутом два прямоугольника, косо стоящие друг к другу, с двух сторон пририсовал две неровные, искривленные линии. — Вот это, — ткнул прутом в один из треугольников, — штаб батальона, в деревянной избе располагался, а это, — он пририсовал к штабу небольшой квадратик, — гараж. А здесь вот — подсобка. Сарай! Вот в этом-то вот сарае я, когда вернулся с задания, в разведке был, решил переночевать. На свежем воздухе, так сказать. Оказалось, напрасно — не рассчитал я с той ночевкой. Когда ложился — кругом свои ребята были, веселые после наступления, добряги, улыбки шесть на девять, все подтрунивали, что рано я ложусь, время-то, мол, еще школьное… А когда проснулся, увидел, что у ног моих два немца сидят, автоматами мне в живот тычут, зубы скалят. Смешно, видите ли, им. Оказывается, они ночью просочились, перебили штабную охрану, захватили штаб, деревню тоже заняли — и все без единого выстрела, сукины сыны. Смеются немцы у меня в ногах, стволами показывают — снимай сапоги, мол. Сел я, сапоги стаскиваю, а сам стараюсь в дверь заглянуть — что там, во дворе? А во дворе весна… Голубое небо, солнце и хлопцы наши перебитые лежат; гитлеровцы, издеваясь, в штабель сложили — ряд вдоль, ряд поперек сверху, а потом еще ряд вдоль и еще ряд поперек. Из гаража комбатов «бантам» выкатили — новый, всего раз, наверное, ездил наш комбат на нем, краска не успела облупиться, в моторе, гады, ковыряются, завести хотят…
Скрипи зубами не скрипи, а вон какая горькая штука налицо — я в плен угодил, хлопцы — на тот свет. В голове мысль стучит — раз сапоги стаскивать заставляют, значит, разговор будет коротким — к стенке, и прощайте, товарищи! Снял я один сапог, потом стянул другой, кинул фрицам. Они обувку голенищами на свет и языками щелкают, словно на рояле. Довольны. Потом замахали на меня — живи, мол, пока, а что дальше — видно будет. Сарай заперли…
Старков замолчал, докурил сигарету, швырнул ее в снег, потом достал из запазушного, потайного кармана непочатую пачку, расколупал ее ногтем, щелчками по донышку выбил одну сигарету, протянул Лепехину, затем, выколотив наполовину вторую и сунув обведенный золотым колечком мундштук в рот, вытянул ее губами из пачки.
— Сижу, значит, я, кукую. Весна весной, а холодно, пятки примораживает. Хорошо, что еще портянки не отняли, а то совсем был бы каюк. Отыскал я в темноте конец телефонного шнура, намотал на ноги, чтобы портянки не лохматились. Жду. А фрицы тем временем пьянку устроили до чертиков, уже палят во дворе из автоматов. Ну, думаю, под пьяную лавочку пристукнут, как пить дать. И точно — стали с моим часовым ругаться, спорить — выводи, мол, русского, пусть песни перед смертью попоет. Огляделся я, думаю — помирать, так с музыкой. Наткнулся в углу на ломик, примерился… Ну а часовой — дай бог ему здоровья на том свете — упрямым оказался, а может, начальство строго-настрого приказало сберечь пленного — словом, ничего у пьяных немцев не вышло. Кормить же не кормили — целый день во рту ни крохи не было. Вот такая жизнь хреновая… К вечеру часового сменили — уже третьего по счету, в щелях сарайных, смотрю, темно стало. Ну, думаю, надо бежать. А как бежать, когда сарай моим ломиком не расковыряешь — он недавно построенный, бревна одно к одному, вековой сосняк рубили, с малосильным ломиком да против таких бревен все равно что с тачкой против танка. Ага. Ночью я стал барабанить в дверь, кричать: «Пить принесите хоть, сволочи… Пить!» Часовой открыл, успел он только фонариком сверкнуть, как я его ломиком под каску. Свалился — не пикнул. Сорвал я с него автомат, хотел и сапоги снять, да не тут-то было — плотно обувка сидела. Подвернулись только под руку гранаты — ручками в голенища засунуты, извлек я их и обе запустил в окно штаба, а сам — на огороды, в темноту. Поднялась паника, трассеры небо на куски… Ну как хлеб резали… Ну, я среди этих трассеров с рекордной скоростью и драпанул. В портянках. Под утро опять наткнулся на немцев. Хорошо, что их землянку вовремя разглядел. Выползает из нее чистоплюй, глаза красные, кроликом был тот фон-барон и, значит, по малому делу прицеливается… Тут-то я на него втихаря и навалился, даже часовой не услыхал. Оказалось, эсэсовец. При полном параде — ордена, кортик, «вальтер» в лаковой кобуре. И сапоги…
Лепехин еще раньше заметил, что заляпанные грязью, в приставших остьях соломы старковские сапоги — не простые кирзачи, что положены пехотному сержанту, а изящные, хромовые, с аккуратно вытянутыми голенищами и широким рубчатым рантом, выступавшим из-под головок. Трофей первого сорта.
— Ты до войны кем был? — спросил Лепехин.
— А-а… Почти никем. Студентом.
У Лепехина возникло такое ощущение, будто отдача выстрела — жесткий тяжелый толчок — двинула его в плечо: сержант сам когда-то мечтал стать студентом, да образования не хватило, пять классов за плечами всего. Он растер рукой плечо, убирая тихую боль, взглянул вопросительно на Старкова: каким, мол, был студентом, какой профессии обучался, потом, не дожидаясь ответа, полез в полевую сумку за картой — надо было решать, как пробираться в деревню с детским названием Маковки. Маковки — ох и смешное, ох и доброе прозвище, будто из сказки.
— Два курса ГИКа. — Старков встал, потянулся мягко, лениво — под фуфайкой проступили мышцы, выпуклые, твердые. — Был такой институт в Москве, да сплыл. В другой город эвакуировался. ГИК — это сокращенно Государственный институт кинематографии. Два курса отучился, перешел на третий и дал тягу на фронт. Вот так. А что отсиживаться в тылу, когда другие воюют? — Старков замолчал, отошел к тщедушному, едва достающему до колена, но уже выпрямляющемуся по весне кустику, сломил ветку.
Лепехин оттянул рукав фуфайки, поглядел на часы.
— Пора.
5
Лепехин видел однажды в казахской степи, у Джунгарского предгорья, в пяти минутах езды от сопки Коян-Коз, как со здоровенной, сизой от старости, но очень мощной гадюкой расправился невзрачный, маленький, чуть больше кулака ежик. И сделал это ловко, с умом. Узрел гадюку, дремлющую на пригорке, подкатился, вонзился маленькими острыми зубками в змеиный хвост. Вцепился и в тот же миг свернулся в плотный тугой комок, выставив во все стороны колючки. Змея, ощетинившись от боли чешуей, взвилась в воздух. Но вырваться ей не удалось — ежик прочно зажал в зубах гадючий хвост. Огромная матерая змея начала безумно метаться из стороны в сторону, биться о землю, ломая высушенные до костяной жесткости стебли чернополынника, дырявя свое тело о подставленные ежом колючки. Через десять минут битва была закончена. Гадюка длинной вялой веревкой лежала на пригорке, а ежик, весело похоркивая, бегал вокруг поверженного врага, решая, что делать с ним дальше.
«Вон какая философия — все в природе уравновешено, — думал Лепехин, — как в арифметике, когда левая часть равна правой. И закольцовано. На страшную змею есть управа — ежик, на ежика — лисица, лисица пасует перед волком, волк — перед медведем, медведь — еще перед кем-то, и эту цепочку можно продолжать, пока кольцо не замкнется и не окажется вдруг, что самый большой зверь — слон боится крошечной мыши. Вот те и пожалуйста, бабушка, Юрьев день…»
Лепехин задумался, состояние сладкой сонной оцепенелости охватило его — ровная, с хорошо обдутым настом дорога, нарастающие запахи весны притупили бдительность.
— Э-э, притормозни-ка. — Его резко толкнул в бок Старков.
Лепехин встряхнул головой, освобождаясь от одури плывущего своего состояния, и сбросил газ.
— Погляди-ка. Вон туда, на высотку! Видишь? Человек! Разгуливает по плеши, как одессит по Дерибасовской, а? Свой или не свой?
Лепехин, закаменев лицом, всмотрелся вперед: высотка, вон она, видна хорошо, почти на ладони, а вот человека… нет, не видно человека.
— Справа, в низинке, под высоткой темное пятно. Узрел? Это вход в землянку, а чуть ниже и правее — часовой. Сейчас он, кажись, перестал ходить. Вполне возможно — нас разглядывает. И не без изумления, если, конечно, видит.
Лепехин уперся коленями в полудужья руля, страхуя, чтобы мотоцикл не заваливался, не выходил из наката, подтянул за ремешок бинокль. Старков действительно прав — на высоте немцы, над бруствером пулемет ствол вскинул, к пологу, закрывающему вход, пришпилен плакат с готическими буквами, на часовом прямо на меховую шапку нахлобучена крутобокая немецкая каска. Немцы расположились и ниже землянки — у самого корня высоты полуярусом вырыты окопы, а чтобы земля не чернела, не выдавала эти окопы, брустверы, присыпали снегом. Аккуратисты, ничего не скажешь. И сверху снег лопатами утрамбовали.
До высоты оставалось метров пятьсот-шестьсот, но поворачивать назад уже нельзя, если разберут, кто такие, — пустят вдогонку несколько мин, тогда заказывай похороны за счет родной воинской части.
Вправо дугой уходил проложенный по снегу санный путь, уже начавший таять, но все еще твердый, вполне способный выдержать вес мотоцикла и двух седоков. Переднее колесо вильнуло — видно, попал замороженный твердяк. Старков выругался — не хватало еще застрять на виду у немцев. Но немцы молчали — не разобрались пока. Да и разобраться мудрено: попробуй определить, в чьей одежде ты — в немецкой или не в немецкой? Лепехин выжал газ, из-под колес брызнула снежная стружка, они свернули на санный путь, поначалу твердый, а далее уже просевший, в трещинах, ломко-серый. Вскоре высотка осталась позади.
Километрах в трех от первой высотки они увидели еще одну, тоже занятую гитлеровцами, и, судя по всему, недавно свежие окопы, свежая маскировка — похоже, обложили кого-то, не хотят выпускать. И плотно обложили. Значит, корытцевский полк в этом кольце… На ходу Лепехин сверился с картой: вот высотка, оставленная позади, крохотное бледно-зеленое пятнецо обозначено просто и без всяких эмоций коротко — 0826, а вторая, что перед ними, — 0827, но попробуй взять эти 0826 и 0827 — не одну роту положишь, прежде чем доберешься до окопов. За высотками — Маковки. Лепехин затормозил, снег крахмально завизжал под колесами; пройдя по инерции метров пять, мотоцикл остановился.
— За высоткой, — Лепехин ткнул пальцем в карту, в бледно-зеленое пятно, — вот она, эта высотка, пупырь на ровном месте, 0827 зовется, — расположена деревня Маковки. Тут рукой подать, доплюнуть до этих Маковок можно, — от силы километра три. В эти чертовы Маковки мне и надо. Обязательно! Ночью, днем, когда угодно, но обязательно сегодня. Как прорываться, не могу сказать; надо понаблюдать, наклюнется стык — придется на этом вот коняге через окопы.
— Поня-ятно, — протянул Старков. Что было понятно ему, сразу не определишь. То ли сам факт, что придется на мотоцикле прыгать через окопы, понятен, то ли то, что ему, Старкову, придется выбирать одно из двух: либо оставаться с Лепехиным, либо откалываться и в одиночку добираться до своих.
— Решай сам, как тебе поступать. На выбор, — сказал Лепехин. — Можешь со мной пробиваться, можешь действовать самостоятельно. Так-то, паря.
Старков хмыкнул неопределенно, взъерошил волосы, запустив руку под шапку.
— Штыком и гранатой, значит? Это один вариант. В кусты — другой. Или — или… Спасибо тебе. Спасибо за свободу самоопределения, так сказать.
По вздернутым бровям сержанта и сердито потускневшим глазам Лепехин понял, что Старков остается. Никуда не уйдет, и прорываться они будут вдвоем. Это хорошо, двое — не один, двое — это целое войско. Чувство тревоги, поднявшееся вдруг в Лепехине, улеглось, он отер ладонью лоб, щеки, прислушался к току крови в ушах — так и садит, так и садит сердце, будто из пулемета.
— Что молчишь? — спросил Старков. — Понял теперь?
— Понял, — ответил Лепехин, — чем дед бабку донял…
Они отыскали неглубокий, покрытый осевшим рыхлым снегом овражек, загнали в него мотоцикл; Лепехин полез наверх с биноклем — вести наблюдение. Надо было нащупывать стык, в который можно будет проскочить. Старков расстелил на дне овражка, соскребя с него сапогами снег, плащ-палатку, лег. Лепехин, оглянувшись, с завистью почмокал. А высотка-то мертва, ни души. Да, ни высотка — этот приплюснутый разнобокий холм, ни находящийся в изголовье стежок окопов не подавали признаков жизни — ничего живого, ни намека, только серое, скучно выхолощенное низким небом поле, ровное и голое, глазу не за что зацепиться.
Лепехин лежал, вжавшись грудью в мокрый снеговой гребень, твердый и неровный; сырость проникала в него сквозь шинель, телогрейку, выбивала дрожь, неприятно холодила мышцы, он ежился, покашливал, стараясь отвлечься, снова и снова прикладывался к биноклю. Но высотка по-прежнему было мертва. Ему хотелось поговорить, но он не хотел навязывать разговор. Старков же, в свою очередь, тоже не навязывался, он лежал на плащ-палатке, покусывая хворостину и сплевывая в сторону древесную кожуру, думал о чем-то своем.
Справа, из-за высотки, показались две маленькие фигурки. Подгребая под себя руками воздух, часто нагибаясь к земле, двинулись вдоль окопов. Лепехин догадался — связисты. Линию тянут. В овраг они точно не заглянут — незачем, поковыряются наверху, проложат провод и уберутся восвояси. Связисты спотыкались, часто останавливались — укладывали линию надежно, прочно, словно собирались надолго засесть в этих местах. Лепехин проводил их глазами, растянул уголки рта — ну-ну…
Небо начало тем временем проясняться, сквозь рвань, в облаках неожиданно проглянуло солнце, несмелое, невеликое. Было оно неярким, и силы-то в нем всего-ничего, а снег вмиг заиграл красками, запел разными цветами, каждая снежинка, каждая ледышка засветились. Внезапное солнце, цветистый снег, глухая спокойная тишина напомнили Лепехину мирную довоенную жизнь, все, что находилось там, за гранью военного времени. И показалось Лепехину, что и войны уже нет, и смерти нет, и все страшное, что довелось ему пережить, было сном. Все в бывшести.
Голубую прореху неба пересекло небольшое черное пятно. Лепехин еще раз оглядел горизонт — пусто, и тогда он, раскрылатив локти, сполз на животе вниз. Черное пятно медленно прочертило широкую дугу, по спирали скользнуло к земле. Ворон.
— Недобрая птица. Пожаловал, подлюга.
— Не люблю небесных куриц, — проговорил Старков. Он тоже увидел ворона. — Вот здесь, вот где они у меня сидят, — щелкнул пальцами по кадыку. — Помню, под Сталинградом, в степи, мы наткнулись на балку. Гнилая, вонючая. На дне трясина, по обводу — деревца. Чахлые, едва живые. Немцы расстреляли в этой балке пленных разведчиков — шесть человек. Взяли раненых, пытали, а потом пустили в расход. Воронье слетелось со всей степи. Мы подошли, а они, раздутые от мертвечины, сидят на трупах, подняться не могут. Перестреляли их из автоматов, подошли на ребят поглядеть. А у них животы выедены, глаза выклеваны, кости торчат. Страшно. Вороны и трупы разведчиков…
На немецкой стороне, за высоткой, тягуче, с придыханьем, всхлипнул миномет, и мина, хрипатая, крупная, тяжело взрезая воздух, прошла низко, почти видимая глазу. А разорвалась где-то далеко; взрыва не было заметно, он лишь ощутился по лениво вздрогнувшей земле да всколыхнувшимся облакам. Вслепую бьет, для острастки.
Прошел час, промозглый, леденящий, а Лепехин все не мог засечь стык — тот свободный коридор, в который он мог бы проскочить, — высотка молчала, и окопы тоже молчали, будто немцев в них и не было. Может, Старкову повезет?
— Слушай-ка, сержант, — Лепехин, распластавшийся на краю гребня, не поворачивая головы, помахал в воздухе ладонью, поманил Старкова к себе. Старков, круша сыпучий снег своими щеголеватыми сапогами, полез на гребень; взобравшись, привалился боком к Лепехину, осмотрелся, тяжело дыша. Лепехин сдернул с шеи тоненький ремешок бинокля, перекинул Старкову.
— Глянь-кась. Может, нащупаешь слабину, а? Где лучше всего окопы перемахнуть?..
— Не глянь, а взгляни, — поправил Старков. Он повел биноклем вдоль линии горизонта, по немецким окопам, задержался на том месте, где линия окопов обрывалась за снежным накатом, потом и этот накат кончался — уже у самого подножия высотки, — Лепехин внимательно проследил за движением бинокля, сощурился, когда Старков задержал бинокль. Лепехин уже думал, что немецкую оборону можно проскочить именно в этом месте, на смежении окопов с высотой. Там и пулеметов нет, да и по простой арифметике они не должны там стоять, и немцев явно поменьше, хотя и не стык это, а некий промин обороны, где торцовая сторона траншеи защищена высоткой и хорошо простреливается со всех сторон. В общем, места удобнее, чем эта закраина, не найдешь.
— Добро, — сказал Лепехин, посмотрел на Старкова. У того лицо было усталым, в глазах, в далекой глуби, в зрачках вспыхивали крохотные светляки, будто отблески костра, дергались и подпрыгивали. На лице кожа сухая, с шелушинами, похожими на мелкую чешую, губы в трещинах, одна, как порез, глубокая, с запекшейся кровяной корочкой, половинила нижнюю губу.
— Прорваться бы к своим, — проговорил Лепехин, прислушался к собственному голосу, — к своим бы! Там ребята дадут возможность отдохнуть, прийти в себя.
Старков кивнул.
— Добраться бы. Осточертело все, хоть вой. Так-то, товарищ солдат… — Помолчал, добавил: — Солдат что, дымом греется, шилом бреется. Надоело дымом греться, шилом бриться. Война надоела! — Старков повернулся, поджав к себе ноги, съехал в овражек.
— Зад не обдери! — предупредил Лепехин. Сплюнул. — Вот война, ни одного выстрела не слышно.
— Канонады захотелось, — поддразнил его Старков. — Еще будет канонада…
Время тянулось долго, до вечерней темноты оставалось еще часа три, а то и все четыре, час надо накинуть, пока темнота не сгустится, не станет окончательно безопасной.
— Смени меня, — попросил Лепехин, — я перекус организую.
— Добро, — согласился Старков. — Бинокль только оставь.
Скатившись вниз, Лепехин достал из коляски две банки говяжьей тушенки. Вспоров их ножом, одну кинул на гребень Старкову.
Старков поймал банку, не вытряхнув из нее ни крошки, поставил на снег, достал из-за пазухи ложку — все у Старкова хранилось за пазухой, под телогрейкой у него целый склад.
— Вот и старуха оттопырила ухо!
— Чего-то ты стихами заговорил.
Покончив с «вторым фронтом», Лепехин повертел в руке пустую банку, соображая, куда же ее сунуть, потом, подумав, что сюда могут заглянуть немцы, раскопал снег сапогом, сунул в лунку, сверху нагреб кучку, придавил каблуком.
— Лезь сюда. Покурим, поговорим! — предложил Старков. — Когда вдвоем — веселей. Мозговые клетки можно развивать.
— Я говорить не мастак, — сказал Лепехин. — Я больше слушать.
Вдруг Старков настороженно вытянул шею, прислушался к чему-то; Лепехин тоже замер, встревожившись. Но было тихо — ни звука, ни ветра, еще недавно попискивающего в ушах. Здесь, в овражке, ветер был — странное дело — сильнее, чем наверху. Старков съехал с закраины гребня, но тут же высунулся вновь, показал Лепехину два пальца, затем мелко потряс кулаками, — Лепехин вначале не понял, что это означало, потом догадался: Старков изображает стрельбу из автомата и махнул рукой, подзывая Лепехина к себе.
Лепехин, вонзая носки сапог в наст, вскарабкался на гребень и, выглянув из овражка, увидел, что прямо на них идут два немца, здоровенные егеря, — медленно, по колено проваливаясь в ослабший за несколько часов снег. Еще утром этот снег держал мотоцикл. За ними на ровном, без единой кочки поле оставался широкий синий след. Лепехина неприятно поразила непрочность снега: если снег к вечеру не будет схвачен морозом, мотоцикл будет вязнуть, буксовать, глохнуть.
— Стрелять не надо, — прошевелил он губами.
Старков отодвинул свой «шмайсер» в сторону, плюнул в левую ладонь, большим пальцем правой руки растер невидимый плевок.
Немцы шли молча. Автоматы на животе, руки в пятнистых двупалых рукавицах лежали на тусклых от сырости стволах. В минуту опасности всегда в голову лезут мелочи, и глаз замечает незначительные, не имеющие никакого отношения к делу детали. Лепехин подумал, что в таких рукавицах стрелять неудобно — указательный палец слишком громоздко сшит, не просунешь его в дужку спускового крючка, плохо… Проще стрелять вообще без рукавиц. Даже в мороз, когда пальцы прилипают к клейкому, до костей обжигающему металлу, Лепехин предпочитал стрелять без рукавиц, без этих громоздких бахил, склепанных из пожарного брезента.
Двоим взять двоих нетрудно. Но ведь за этими двумя обязательно придут другие. Значит, отсиживаться в овражке больше не придется, надо будет менять стоянку. А это в планы никак не входило. Если они возьмут этих гитлеровцев, вышедших на променаж, то, кто знает, выполнит ли он, Иван Лепехин, приказ полковника Громова или не выполнит?
Куда идут эти двое? Связь? Нет, не связь, не видно красно-синего телефонного шнура… Может, патруль? Но что делать патрулю в голом, безлюдном поле? Другое дело в городе, где тысяча закоулков, переулков, улиц, где каждый дом может спрятать, утаить неведомое, где каждая развалина, каждое дерево, стена каждая представляют для гитлеровцев опасность, где можно схоронить от постороннего глаза и одного человека, и целый партизанский отряд. Там патрульная служба нужна, ничего не скажешь. А здесь? Непонятно.
Немцы, не дойдя до овражка метров десяти, повернули. Пошли вдоль, увязая по колено в снегу, надсадно всхрипывая, сморкаясь, но, не петляя и не сворачивая с намеченного пути, двойной стежок за ними остался ровным, он будто по линейке был проведен. У Лепехина отлегло на сердце — хорошо, что гитлеровцы повернули налево, поверни они направо, могли напасть на следы, оставленные мотоциклом, заинтересоваться, спуститься по ним в овражек…
Старков проводил немцев холодными, ничего не выражающими глазами, из которых в несколько минут вытаяла, исчезла усталость, покусал зубами нижнюю губу:
— Хорошо сделали, что до овражка не дошли. Не то… — Он издал секущий звук.
— Здоровые хряки. Они нам тоже могли это самое «ц-ц-ц» сделать.
Вскоре закатилось за облака солнце и повалил снег, густой, крупный. Зима старалась утопить весну в этом потоке, в лавине студенящей липкой ваты — ни с чем другим такой снег не сравнить. Но это были слабые потуги — не та уж стала старуха зима, одряхлела она и обессилела. Но потом ожил мороз, проснувшись, он в один миг сковал землю, стянул ее ледовым обручем, и снежинки, истончаясь на глазах, падали на наст с тихим, очень похожим на стеклянный звоном. А может, им только казалось, что снег падал со звоном.
— Такая погода, она в самый раз для прорыва. — Лепехин облизал губы. — Густота, как ночью. Собственного носа не видно.
— Не рано ли?
— Подождем еще чуть.
6
Перед дорогой выкурили по сигарете — последней, больше в пачке не оставалось, и Старков, с сожалением взглянув на светившуюся в сумраке красным пустую обертку, скомкал ее, бросил под ноги, отбил в сторону носком сапога. Темнота надвигалась медленно, неохотно, и долгое еще время им из овражка была видна высота, хотя сама линия окопов исчезла довольно быстро, утонув в вечерней густоте.
— Пора! Будем трогаться. — В голосе Старкова Лепехин уловил натянутость — это от напряжения, от нервного накала. Прислушался — все ли тихо? Было тихо, лишь где-то за высотами, далеко по ту сторону, раздавалась нечастая стрельба.
— Гранаты проверь, — проговорил Лепехин спокойным голосом.
— Гранаты? Наготове гранаты. Раз, два, три… — начал было считать Старков, но Лепехин перебил его:
— Знаешь что… Всякое бывает. Вдруг меня убьют, а ты пробьешься, а?
— Не пори ерунды!
— Командир полка в Маковках — Корытцев. Майор. Запомни, майор Корытцев… Ему передашь пакет, если что; пакет вот здесь, под ремнем. — Лепехин отогнул полу телогрейки, показал, где находится прихваченный поясом пакет. — А на словах скажешь: прорыв назначен на десятое марта. Десятого марта в одиннадцать вечера… Запомнил?
— Чего ж тут запоминать?
— Поехали!
Лепехин ударом каблука по торчку завода запустил мотор, включил первую скорость, и мотоцикл медленно, трудно пополз, преодолевая крутую боковину оврага, пробуксовывая на наледях. Старков подталкивал мотоцикл сзади.
Выкатив машину из оврага, огляделись — высоты не видно, она только чувствуется во тьме — сели: Лепехин за руль, Старков верхом на коляску, пристроив одну ногу на низком порожке, другую поставив на квадратную перекладину, которой «люлька» крепилась с машиной.
Лепехин сделал перегазовку, обвыкаясь в темноте с педалями, рычагами, рукоятями и кнопками управления, — в ночи, когда даже собственный нос не виден, они казались незнакомыми, хотя и запутаться тоже было мудрено — руки и ноги управлялись с ними автоматически. Старков задумчиво погладил «шмайсер», поставленный стоймя между коленями.
— Пора, — сказал он. — Нечего медлить. Поехали!
Лепехин тронул мотоцикл с места, заснеженное поле поползло им навстречу. В небе между разорванными облаками неярким огоньком засветилась далекая, едва заметная звезда, оба сержанта разом подняли головы, они словно почувствовали, что на них кто-то смотрит, изучает внимательно и предупреждающе, и подумали разом, что это зажглась их звезда. Звезда, принадлежащая только им одним, больше никому…
Лепехин, цепляясь глазами за любую неясность, высветленность в теми, а темь сделалась вдруг тяжелой, угольной, вспомнил о матери — ее лицо, молодое и печальное, в отчетливой яви возникло перед ним, кожа истончавшаяся и прозрачная, особенно на висках и под глазами, а на лбу — будто навощенная, каждая прожилка, каждый кровяной каналец виден. Он на секунду зажмурил глаза, встряхнул головой, ощупав одной рукой тяжелые костяные наросты надбровий, оглянулся на Старкова, высматривая в темноте его лицо, а когда вновь начал глядеть перед собой, наваждение исчезло.
Старков даже не заметил, как они очутились перед линией окопов, а потом и над самими окопами, — он с легким обмиранием ощутил, что мотоцикл неожиданно повис в воздухе, внизу мелькнуло бледное, освещенное огоньком сигареты лицо с большими, очень глубокими провалами глаз и черным ртом. Мотоцикл сильно тряхнуло — Старков, скатываясь с него, успел вцепиться в скобу, приваренную к стойке, потом увидел, как следом, перевалив через бруствер, выскочил немец в очень длинной, путающейся в ногах шинели и автомат, прижатый у него к животу, заплясал, забился разноцветными длинными огнями: зелеными, синими, красными… Но тут же смолк — заклинило.
Справа косо в сажевую недвижность неба вошла ракета и, сыро шипя, погасла в низком взлохмаченном облаке. В коротком всплеске света Лепехин разглядел очень близкую вторую линию окопов; покатые, через весь бруствер прорубленные ниши для пулеметов, всполошенных, кричащих людей, устанавливающих в одной из ниш тяжелый МГ с дырчатым, похожим на пожарную кишку стволом. С фланга выплеснула автоматная струя, прошла выше их, но ненамного, буквально несколько сантиметров не дотянула до головы — Лепехин даже ощутил тепло раскаленных пуль.
Старков, подпрыгивая в коляске, пытался рукой достать гранату, но тяжелое маслянистое тело РГД ускользало у него из рук. Он чертыхался и умолк только тогда, когда вытянул наконец гранату, сжал ее крепко в руке, а потом, внезапно вспомнив, что гранату кидать нельзя — осколки посекут и их, выставил ствол «шмайсера» перед собой и, держа автомат одной рукой, словно пистолет, полоснул очередью по месту, откуда выплескивалась огненная струя. Лепехин услышал, как в ответ кто-то очень тонко и страшно закричал, вдруг подумал с безразличием, что гитлеровец ранен в живот или в лицо, только при таких ранениях кричат вот так тонко и страшно, предсмертно.
— Пригнись! — прохрипел ему на ухо Старков.
Лепехин резко наклонился, почти уткнувшись лицом в бензобак, ощутив, как горько и остро пахнет загнанная машина. Старков же, не рассчитав, кидая гранату, сильно задел локтем его по голове, и Лепехин, ударившись о железо, почувствовал во рту вкус крови, он отвернул лицо и сплюнул в сторону, не разгибаясь. Впереди рванул взрыв, ослепил ярко, разбросал в стороны немцев, устанавливающих в нише пулемет, а сам пулемет выкинуло из окопа, и он упал у них на пути в снег, зашипел громко и сердито, охлаждая раскаленный взрывом дырчатый кожух.
Мотоцикл вильнул, и Старков опять чуть не сорвался, но успел схватиться за спину Лепехина.
Сбоку прошла светящаяся струя, перекрестившись с ней, выпущенная с другого фланга, — еще одна, ниже и прицельнее, с ними схлестнулась третья, и Лепехину показалось вдруг, что все в этой ночи, на этом небольшом клочке земли перемешалось, все сместилось — небо стало землей, а земля небом.
Он заметил, что Старков готовится кинуть еще одну гранату и выбирает, теряя драгоценные секунды, место, куда кинуть, чутьем, а не глазом нащупывая окопный зигзаг, где сейчас сгрудилось больше всего врагов, где зыркают автоматные вспышки, где таится наибольшая опасность. Под колеса подкатилось приплюснутое, с буграми всковырнутой мороженой земли тулово бруствера, Лепехин выжал до предела газ, и мотоцикл, ревя, подмял собою бруствер, но скорости не хватило, и машина, потеряв равновесие, гулко ударилась передним колесом о боковину окопа, пробуравила снег, выбираясь из ловушки. Заднее колесо мотоцикла и колесо «люльки» не успели проскочить, они застряли на ребре траншеи, заюзили, но бруствера не одолели. Мотор заглох. Лепехин упал в окоп, на самое дно, поскользнувшись на чем-то мокром. «Кровь», — мелькнуло в голове. Сверху на него свалился Старков, но тут же вскочил и, подладившись под коляску мотоцикла, махнул зажатым в руке «шмайсером».
— К рулю! Быстро! — выкрикнул он. — Чего стоишь! Двигай наверх! Заводи мотор! — Старков закряхтел, горбясь под тяжестью сползающего на него мотоцикла, Лепехин без разбега прыгнул, стараясь взобраться на ребровину окопа, но сорвался. Падая вниз, ломая ногти о земляную стенку, он увидел, что на бруствере, через который они только что перемахнули, возникла длинная темная фигура, и Старков из-под коляски, с колена выстрелил в нее, фигура без крика, без стонов, совсем молча, словно кукла, перевалила через бруствер и, сломавшись в поясе, с вязким шорохом, больно вонзившимся в секундную растерянную тишину, съехала на дно окопа. На деревянной слеге, проложенной в бруствере для крепости, повис, зацепившись ремнем за конец горбыля, автомат. Взобравшись на ребровину, Лепехин изо всех сил потянул руль к себе, но мотоцикл не подался. Он был тяжел и неувертлив, и Лепехин, стиснув зубы, страдая за оставшегося в окопе Старкова, ничего не видя в темноте, наугад долбанул сапогом по педали завода, мотоцикл взревел, и тотчас на звук его стали бить скрытые извилинами окопа автоматчики. Пули вспарывали воздух, они посвистывали слева, справа и над головой, метили прямо в него, но Лепехин не замечал их. Наконец мотоцикл подался, рванулся из окопа, выламывая руки. О железный бок коляски жарко щелкнула автоматная струя, пули, пробив люльку, застряли в ней. Лепехин повис на руле. Мотоцикл упрямо полз вперед и тащил за собой Лепехина, а он не мог подтянуть к себе обмякшие от ушиба ноги, не мог остановить и мотоцикл. Тогда он выкрикнул в гулкую ночь бессвязные слова, в ответ железо коляски вновь вспороли пули и лишь после, уже издалека, до него донесся глухой, скраденный темнотой, а может, чем-то сдавленный — на это больше похоже, подумал Лепехин, — голос Старкова. Этот голос будто влил в Лепехина новые силы, он наконец подтянул тело к рулю, перекинул ватную ушибленную ногу через сиденье. Сразу показалось, что пуль стало меньше и гитлеровцы бьют куда-то в сторону. Лепехин круто повернул руль, помчался к окопу; подъехав, вначале услышал, а потом разглядел, что внизу, сопя и с хрипом размахивая в темноте руками, возятся три или четыре человека. Переваливаясь с сиденья через коляску, Лепехин еще раз зацепил ушибленной ногой за пропоротый пулями угол, резь ножом вонзилась в его тело. Хромая, Лепехин доковылял до окопа и только тут вспомнил, что автомат остался в коляске, но медлить было нельзя, он на ходу нагнулся, вытаскивая из-за голенища нож, и, припаявшись пальцами к нагретой деревяшке рукояти, спрыгнул в копошащуюся кучу людей. Под ним заворочался здоровенный, пахнущий кислым потом и табаком фашист, и Лепехин, широко взмахнув ножом, с силой ударил его к спину. Гитлеровец, набычившийся, обмяк и, заваливаясь, ткнулся головой в стенку окопа.
— А-а-эй! — бессвязно выкрикнул Лепехин. Он враз запамятовал и фамилию Старкова и имя его — тот сдавленно замычал в ответ, будто ему тисками зажали горло. Старков находился рядом, и когда над окопом прошла длинная цветистая очередь, сержант увидел в тусклом жаре ее, что Старков возится на дне окопа сразу с двумя гитлеровцами, Лепехин, волоча подбитую ногу, прохромал вперед, схватил ближнего немца за воротник и, подставив под его спину колено здоровой ноги, переломил на себя. Гитлеровец закричал от боли, перевернулся, выскользая из рук Лепехина. Лепехин отпустил, и тот, обессилевший и беспамятный, неподвижно распластался на промерзлом насыпе окопа.
Третьего прикончил Старков прежде, чем Лепехин сумел помочь ему. Он откинулся к туго оббитой лопатами стенке, прижался к ней спиной, загнанно задышал.
— Сейчас еще поднабегут, — отер губы ладонью. — За ними не задержится.
— Ранен?
— Н-не знаю… Есть немного. Помяли…
— Хорошо, что темнота. — Лепехин уперся сапогом в выбоину окопа и выбрался наверх. В стороне бил одинокий автомат, гитлеровец не видел цели и палил в копеечку. Лепехин лег животом на снег, протянул в темноту руку.
— Скорей! — прислушался, стараясь разобрать в стрельбе звук мотора, закричал: — Есть! Есть! — различив едва приметный, едва живой — все-таки живой! — стук мотоцикла.
Под обрезью облаков хлопнули две ракеты, и Лепехин увидел мотоцикл. Опять ударили автоматы. Когда пули попадали в металл, мотоцикл будто освещался огнем электросварки, но не сбавлял скорости и, не сворачивая, не застревая в выбоинах, продолжал двигаться по кругу. Ракеты погасли, но на смену им взлетели еще несколько. Стрельба утихла, она будто оборвалась, и Лепехин, всмотревшись в темь, понял, что их сейчас будут брать в кольцо, будут обкладывать, как обкладывают зверя на хорошо продуманной охоте. Серые фигуры, пригибаясь, перебегали по полю. Слева, справа… Спереди. Сзади?.. Сзади, в первой линии окопов — тоже немцы.
— Где ты там? — просипел он промозглым, увядшим голосом. — Скорее!
— Тут, — Старков вцепился в его руку, с надсадом выбрался из окопа.
— Окружают, с-сволочи! — беспокойно проговорил Лепехин и, не дожидаясь ответа, привстал в рывке, подался вперед, как спортсмен на старте, потом прыгнул на звук, когда мотоцикл приблизился. Горячая струя опередила его, сбила наземь, боль опалила грудь. Попали. Или старая рана прихватила? Как же так, как же? — ведь говорят, что в одну воронку снаряд два раза не ложится, пуля дважды одну и ту же рану не клюет. Похоже, пуля была на излете и, уже без сил отрикошетив от мотоцикла, лишь зашибла, слабо контузила его. Старков кинулся к Лепехину, ухватил под мышки; пригибаясь, потащил в сторону:
— Жив? Ж-жив, па-арень… Пропадать, так с музыкой! Счас мы им покажем, где р-раки зимуют, счас мы с тобой круговую займем…
Лепехин, упершись сапогами в снег, вырвался, слабо взмахнул руками.
— Погоди… Я не убит. Сам!
Он поднялся на ноги и, закусив до крови губу, спотыкаясь и сипя, кинулся к мотоциклу, сдавил обеими руками тормоз, отпустил; мазнув ладонью по бензобаку, нащупал шишковину рычага скорости, обнесенного проволочной оградкой. Мотоцикл остановился.
— Сержант! — закричал он и, когда Старков навалился грудью на посеченный верх коляски, резко крутанул на себя рукоять газа. Под колесами завизжал морозный снег, неестественно длинные, скраденные ночной густотой тени стремительно отпрыгнули в сторону. Старков сгорбился, собираясь в ком, — он едва удерживался на продырявленном железе, — возя руками по дну коляски, пробовал нащупать какую-либо зацепину, но не находил. В небе вновь вспыхнула ракета. Лепехин резко тормознул, чтобы осмотреться.
Немцы не стреляли. Оставшиеся позади окопы молчали. Было слышно, как по-бабьи слезно воет поднимающаяся поземка; снежная крупа, не задерживаясь на гладкой, отутюженной морозом поверхности поля, уносится прочь.
И справа и слева на них надвигались плотные шеренги гитлеровцев, охватывая глубоким, уже почти замкнувшимся кольцом. Лепехин понял, что допустил просчет — в темноте он въехал в горловину этого кольца, как в кувшин… Дороги назад тоже нет.
Он упрямо боднул головой воздух, затянулся им, обжигая студью горло и грудь, чувствуя, что где-то внутри, у самого сердца, рождается холодная, расчетливая, яростная злость — на самого себя, на войну, на мороз и снег, на Гитлера, на тех, кто хочет сейчас их пленить, убить.
Цепь надвигалась. Уже близко, рукой подать. Да, угодили в ловушку. Не прорваться. Старков щелкнул затвором, но выстрела не последовало, в тишине намертво отпечатался звонкий щелк бойка.
— Ч-черт, — прохрипел он. — Перекос… Дерьмо, а не автомат! — Он отщепил от ложи «шмайсера» патронный рожок, швырнул его в сторону, затем выхватил из-за голенища новый, с лязгом вставил в паз.
— Не прав медведь, что корову украл, не права и корова, что в лес зашла, — выкрикнул он. — Ну, голубчики, ближе, ближе… Чтобы было наверняка, без суеты.
Лепехин сдавил коленями бензобак мотоцикла, ощутил потряхивание — мотор, заключенный в самодельный кожух, сшитый из стального листа, был жив, он, хорошо защищенный, работал. И бак был защищен стальным прокатом — пули оставляли в нем только вдавлины.
— Обложили, а? Кренделей хотят из нас напечь, — опять заворочался Старков, звучно сплюнул, похрустел чем-то попавшим на зубы. — Страху много, а смерть одна…
Немцы по-прежнему, не делая ни одного выстрела, беззвучно, словно привидения, надвигались на них — все ближе и ближе, хорошо видимые в свете непрерывно теперь висящих в воздухе ракет. Было слышно, как повизгивает снег у них под ногами.
Осталось метров семьдесят. Лепехин тихо, про себя, уже начал отсчет, чтобы открыть стрельбу, как Старков неожиданно вывалился из коляски, распластался на снегу, достал из кармана гранаты, воткнул в снег три рожка-магазина.
— Рви вперед! Я прикрою, — негромко сказал он. — Слышь?
Лепехин словно прикипел к сиденью мотоцикла. Он не двигался, он даже не повернул головы.
— Рви вперед, в прогал!.. Я прикрою… Ну! — вдруг озлясь, выдохнул Старков, поднял автомат, но тут же опустил, стукнул кулаком по снегу. — Ну! Рви вперед. Я же стрелять не смогу, пока не уедешь. Ну! У тебя пакет! Ну! Как человека прошу.
Он лежал на снегу, плотно вдавившись в него грудью, животом, коленями, став плоским, и Лепехин поверил в его прикрытость, защищенность. Сержант видел в мерцании ракет, как влажно поблескивали белки старковских глаз, в притеми раскрытого рта слабо белели зубы. Лепехин был готов заплакать, он понимал свою слабость и беспомощность, свою привязанность к пакету, о котором он неосторожно сказал Старкову, он понимал, на какую жертву идет ради него Старков, он знал еще также, что обязан доставить этот пакет майору Корытцеву.
Услышав, как рядом забился старковский автомат — цепь мгновенно поредела, и в ответ вспыхнуло светящимися точками поле, — выдернул из люльки ППШ с иззубренным пулями прикладом, отбросил в снег пробитый диск, вставил новый, и руль мотоцикла заплясал под ложей автомата в такт выстрелам. Да, Лепехин хорошо понимал, что приказ есть приказ, что пакет надо доставить любой ценой, какой бы дорогой она ни была, но он понимал также, что Старкова, который добровольно решил прикрывать его, нельзя оставить одного, нельзя бросить в этой страшной ночи. Он всхлипнул от собственной слабости, от неизбежности того, что должно произойти, от невозвратности. Мутная пленка опустилась у него перед глазами, он выругался и, прервав стрельбу, стер клейкую муть. Как поступить, где выход? Не лучше ли подцепить пулю и тогда ни угрызений совести, ни… А? Медлить уже было нельзя. В грохоте выстрелов что-то кричал Старков, а что — не разобрать.
Тогда Лепехин решил, что самое лучшее — проскочить сейчас вперед, вырваться из кольца, а потом обрушиться на немцев с тыла.
Взревел мотор.
Лепехин врезался на мотоцикле в коридор, который для него расчистил Старков. Стреляя на ходу, он слышал, как пули звонко, с чоканьем вгрызались в землю, взрыхляя ее фонтанчиками, — кроме этого чоканья, никакие звуки не проникали в его мозг, даже крик двух гитлеровцев, очутившихся на дороге и сбитых его коляской, и когда за спиной неожиданно стихли выстрелы, он вдруг понял, что прорвался. Он затормозил. Мотоцикл ткнулся передним колесом в намерзь, высокую, похожую на кочку, и остановился. Болела нога, болело тело, саднило голову. Тыльной стороной ладони Лепехин провел по лицу, разглядел черное, маслом блеснувшее пятно, отпечатавшееся на бугpax… Кровь.
Сзади вновь зачастили выстрелы, густо заискрились трассеры — за спиной вел бой Старков. В метре от Лепехина тихо чивкнуло несколько пуль. Лепехин оглянулся, потянул руль круто влево, закусил губу, подумал, что есть надежда, есть… Если в осажденной деревушке догадаются, в чем дело, то вмешаются, придут на помощь. Он скрипнул зубами, кляня свою долю, кляня пули, прошедшие мимо него, людей, изготовивших целую несметь смертоносного металла — а металла и пороха Гитлер извел на него немало, кляня пакет, притороченный к животу брючным ремешком.
Еще один трассер прочивкал над головой, автоматчик был недалеко, и Лепехин засек это место, он прижал к плечу приклад ППШ, с силой прижал пальцем курок к скобе. Автомат дважды лягнул его в плечо, и сержант поморщился от боли, но потом отдача стала безынтервальной, сплошной, приклад просто давил его в плечо, а он всем телом своим, всей тяжестью веса удерживал его. Лепехин стрелял до тех пор, пока не оборвалась встречная ниточка пуль, а когда оборвалась, перехватил автомат левой рукой, правой накрепко зажал вертыш газа и ринулся вперед, к Старкову, слепя себя жарким огоньком, вырывавшимся из ствола ППШ, оглушая криком, бесконтрольно вырывавшимся из глотки.
В лицо ему ударил вязкий, разом отбросивший небо от земли взрыв, снег взметнулся над огромным полем и покатился с ветром и звонким шорохом, заравнивая лощины и канавы… Лепехин умолк, задохнулся от скорби, сдавившей ему горло, вздернул ствол автомата и выпустил длинную очередь в небо, в равнодушные облака.
— Ну Гитлер, Геббельс, Гиммлер! — в неистовстве закричал он, ощущая, как весь рот, язык, неудобно лежавший в высушенной от горя полости, нёбо, изнанку щек обметывает щавельная кислость, имеющая тяжелый кровяной привкус, а веки горят от ветра и от слез. — Н-ну, гады! Ну три «г»! Вы еще попомните русских мужиков!
Не сдержавшись, он всхлипнул, выпалил из автомата по далеким теням, ему слабо отозвались в ответ, и Лепехин, разъярившись, соскочил с мотоцикла, залег за мелкой неровностью, чтобы хоть как-нибудь этим ненадежным бруствером прикрыть собственное тело, и открыл размеренную расчетливую стрельбу. Немцы не приняли боя, ушли…
— Г-гады, — в бессильной злости пробормотал он. — Поплатитесь еще! Умоетесь кровяной юшкой!
Когда взрыв гранат подорвавшего себя и немцев Старкова высветил поле и дорогу, Лепехин в нереальном отчуждении успел заметить закопченные стены деревенских домов, стоящих впритык к закраине поля, сорванные крыши, черные, страшные в своей обнаженности печные трубы, орудийными стволами смотрящие в небо, поваленные наземь деревья. Это была деревня Маковки.
7
Лепехин сидел на кряжистом березовом комле, густо обросшем суками, и, укрывшись от ветра за стеной дома, курил. Светать начало неожиданно быстро, и, хотя до конца ночи было еще далеко, в тусклой и убогой сырости зарождающегося дня он все же мог уже разглядеть ближние дома, улицу. Но Лепехин не трогался с места — не разведав, он не мог двигаться вперед. Он не знал еще, что происходит в деревне, кто в ней. А вдруг здесь нет Корытцева? Может, здесь немцы; деревня была длинной и очень бестолково расположенной — дома разбросаны в беспорядке, кое-как, бездумно. Маковки. Нелепое какое-то название. Ветер был теплым, по-весеннему переменчивым, он дул Лепехину в колкую щеку, и сержант отворачивался от него, прикрывая сложенной в ковш ладонью табачный чинарик. Мокрые от растаявшего снега пальцы оставляли на окурке серые следы, и Лепехин старался держать чинарик огоньком вниз, чтобы дым подсушивал и табак и бумагу. Он несколько раз сильно, во всю грудь, затянулся — чинарик истаял на глазах; начавший уже гаснуть, больно жегший пальцы огарок Лепехин откинул от себя. Огонек, разгоревшийся на лету, высветился в снегу розовой тусклой точкой и погас.
Перед глазами Лепехина встал ночной бой, Старков, и слабость овладела им. Опустив голову, он посмотрел под ноги, нашел в очертаниях пятен, в пролежнях снега что-то знакомое, близкое ему. Сощурил воспаленные, до боли в темени растравленные глаза, подпер набухшую тупым звоном голову кулаком и еще пристальнее начал вглядываться в эти пятна, потом, оторвав взгляд, посмотрел вдоль улицы, пытаясь угадать, есть ли в деревне какое-либо движение и вообще что-нибудь похожее на жизнь. Но деревня была мертвой, словно в ней никто и никогда не жил. Несколько раз он поднимался с места, обходил дом кругом, стараясь ступать след в след, заглядывал сквозь заколоченные ставни в окна, пробуя разобрать, что есть в этом доме. Внутри было темно; проступали какие-то угловатые предметы — наверное, мебель, и больше ничего нельзя было разобрать.
Он снова возвращался к комлю, который облюбовал для сидения. Хотелось курить, но табак, что наскреб со дна кармана, — небольшая щепотка — кончился с тем чинариком, кисет потерян в ночной схватке. От табачной жажды во рту комком собралась тягучая, противная слюна. Чтобы не думать о куреве, Лепехин поднялся с места, осторожными шагами отправился в обход избы, выставив перед собою автомат и изредка поглядывая на ствол, покрытый крупной седоватой изморозью, как солью. Когда Лепехин протирал ствол рукавицей, в гулкой тишине раздавались скрипучие дверные звуки, вызывающие щекотный зуд на зубах.
В одном из обходов он нашел в снегу осколок темного от старости оконного стекла, в нем разглядел себя, поморщился: зрелище, надо сказать, было еще тем… Кто увидит — испугается. Измазанные черным, обросшие редкой, проволочно-жесткой, не по годам серой от седины щетиной щеки, резкие впадины под скульными костями, а глаза, те совсем не рассмотреть — упрятаны в глубокие провалы; запекшаяся на лбу ссадина косо шла вниз через весь висок, нос исцарапан. Лицо изможденное, больное, как от жара. Он швырнул осколок, тот вошел ребром в снег легко и беззвучно, будто горячий нож в масло.
Оглядев внимательнее хату, Лепехин понял, что изба была брошена давно. Болты на ставнях проржавели до густой красноты, ржавь уже вошла, въелась в набухшее сыростью дерево. Соломенная крыша местами провалилась между крепкими еще стропилами и от этого казалась горбатой, во вдавлинах прочно обосновался черный, в ноздревинах, подтаявший с боков снег; навес у задней стенки, под которым он поставил мотоцикл, покосился, бессильно заваливаясь на одну ногу, скоро рухнет, если не объявится хозяин, не подправит. Он постоял у навеса, пробуя угадать, что же хранили под навесом — телегу ли с санями, дрова ли, сено, может, ларь тяжелый или еще что-либо?.. Но утоптанный снег следов не сберег, и Лепехин решил: скорее всего, дрова, хотя кто знает — может, плиту или печку топили углем: лесов в этих местах с гулькин нос, каждое бревно, полено каждое на вес золота, поэтому дешевле отапливать хату углем.
Он поднес к уху руку с часами — тикает время или не тикает, уловил едва слышимый робкий перестук — выходит, живы; не глядя, завел, то и дело упуская из огрубелых, пораненных пальцев крошечное колесико.
Лепехин не заметил, сколько времени прошло, когда в дальнем конце улицы показались люди. Четверо. Люди шли, держась стенок домов, сосредоточенно разглядывая дома, проезжую центровину улицы, безмолвные и пока еще далекие, таящие в себе опасность.
Лепехин вглядывался в продолговатые и нескладные, плохо различимые в утреннем полусумраке фигуры и испытывал сложное чувство, связанное с неизвестностью, неустроенностью его сегодняшнего положения, с неопределенностью судьбы человека, глядящего в глаза и смерти и жизни попеременно, с каким-то опустошением, царившим внутри его. Он понимал, что надо собраться, стянуть расклеенные нервы в единый клубок, и напрягал сейчас весь свой организм, мобилизовывал все силы, оставшиеся в нем, чтобы стать тем, кем знали его в бригаде, — Лепехиным, человеком, с которым можно идти не только за линию фронта, в близлежащие леса, степи и горы, можно лезть в какое угодно пекло.
Свои это или немцы шли по улице — издали не разобрать, нет — на ватники надеты маскхалаты, у троих на груди — немецкие автоматы, у одного — карабин за плечами. Хотя по тому, как шли люди, по каким-то неуловимым признакам угадывалось, что не немцы…
Но, как говорят, береженого бог бережет. Лепехин отступил за стенку, выведя одну ногу вперед, чтобы легче было выскакивать, стал ожидать, когда эти четверо подойдут.
Уже совсем рассвело. Сырое небо отступило от земли, приподнялось, и вроде бы стало легче дышать, запахло землей, лежалым снегом, сеном, еще чем-то свежим; запахи фильтровались, наслаиваясь один на другой, ноздрям даже щекотно стало от такого обилия… Лепехин помассировал затылок ладонью, сгоняя внезапно подступившее опьянение, но тупая одурь не проходила, и он, сдвинув на лоб шапку, потерся затылком о шероховатую, напильниковую поверхность стенки, отрезвляюще больно цепляясь за длинноостую щепу успевшими отрасти после последней стрижки волосами.
Когда четверо были совсем близко, Лепехин оттянул рычажок затвора, ставя автомат в боевое положение, потом стащил зубами рукавичку, сунул ее за пазуху, изготовился.
Саднил рассеченный лоб — царапина оказалась глубокой и запеклась толсто, болезненно стянула кожу, Лепехин потянулся вниз, зацепил пальцами горсть талого, набухшего весенней сукровицей снега, провел им по лбу. Колкие холодные струйки поползли по щеке, за воротник, растеклись, растаяли в теплой глубине, остужая кожу, выбивая дрожь. Тупо ныла грудь — как он понял утром, его шибануло не отрикошетившей пулей, а кронштейном, на котором держалась фара, — сбило стояк разрывным зарядом и швырнуло вверх; навались Лепехин на мотоцикл десятой долей секунды раньше, стояк угодил бы в голову. Под рулем, в развилке амортизатора, где была установлена фара, зияла дыра; спутанные обгоревшие проводки комком выпростались наружу из рулевой колонки, а сам мотоцикл, дырявый, исковерканный, был уже не чем иным, как кучей железа, каких полным-полно на обочинах фронтовых дорог.
Лепехин посмотрел на своего железного конягу искоса, усмехнулся с тихой печалью, ощущая жалость к безотказному механизму — железо железом, а этот металлолом он не променяет ни на какую другую машину, на ноги поставит, дырки залатает, новой фарой вооружит — не-ет, не променяет.
Четверо были уже совсем близко. Они шли, с безразличной сосредоточенностью разглядывая деревенскую улочку, останавливаясь у плетней, заглядывая во дворы, в зияющие дверные провалы банно пахнувших после пожара хатенок, в выклеванные огнем глазницы окон; шли словно отрешенные, перебрасываясь редкими неразборчивыми фразами, погруженные в себя, — вместе с тем готовые в каждый миг встрепенуться, залечь, открыть огонь.
Они поравнялись с избой, за которой укрывался Лепехин, и, не задерживаясь, прошли было дальше, как один из четверых, совсем еще мальчишка, белобрысый и крупноглазый, задиристо курносый, с яркой сыпью конопушин на лице, заморгал бесцветными ресницами, недоуменно уставившись в рубцы, выдавленные на снегу колесами мотоцикла; потом недоумение на лице стерлось новым выражением, он поскреб тыльной стороной вязаной из домашней шерсти варежкой нос, взрезал тишь тонким голоском:
— Гля… Чи, броневик?
— Чи, броневик! Чи, броневик! Недотепа! — шуганул его подвижный черноволосый человек, заросший щетиной по самые глаза. Голос его был зычным, с кавказской, когда акцент на «э», окраской. — Разве броневик такой след оставляет? Это мотоциклетка. С люлькой. Три колеса — три следа. Недавно прошла… Вон пятно автола свежее. Когда свежее, оно всегда вот такое коричневое, если несвежее, то по ободку синяя кайма проступает. Понял?
— Так точно, товарищ гвардии ефрейтор, если несвежее, то по ободку с синей каймой. — Белобрысый с силой пристукнул каблуками кирзачей, карабин сорвался у него с плеча, больно лягнул по ноге.
— В полную глотку не ори, — предупредил его «товарищ гвардии ефрейтор», не обращая на громкость собственного голоса никакого внимания. — Немцы близко, они дадут прикурить, если разоряться будешь. Продырявят за милую душу.
— Е-исть, — тряхнул головой белобрысый.
— Каладзе! Семенченко! — оборвал их третий, худой, высокий, с замотанным старым клетчатым шарфом горлом шепелявый человек. — Ба-азар! — Он отогнул капюшон, стряхнул прилипший к нему снег. К шапке вверх ногами — серп с молотом оказались перевернутыми — была прикреплена с кусочками застрявшей в железе эмали звезда.
Свои. Лепехин выступил из-за стенки, увидел, как в глазах белобрысого ширится, растет испуг, глаза делаются совсем как у совы, круглыми, и руки, крепко вцепившиеся в ложу карабина, беспомощно бледнеют, становясь прозрачными, младенческими. Черноволосый быстро вскинул автомат и направил темный, недобро сверкнувший глазок ствола на Лепехина.
— Убери оружие, — поморщившись, спокойно произнес Лепехин. — Давай, давай, дыркой вверх. Свой я…
Черноволосый, не мигая, пристально смотрел на Лепехина, и в темных, цепких, похожих на сливы глазах его можно было прочесть и угрозу и любопытство одновременно.
— Чем докажешь, что свой? — зычно поинтересовался черноволосый.
— Георгий, погоди, — остановил его высокий. — Сейчас разберемся. — Он задрал полу плащ-палатки, залез в карман брюк, достал кисет; из кисета, послюнявив палец, выудил оборвыш газетной бумаги — газета была немецкая, буквы готические — зажал губами, потом, подцепив на дне кисета щепотку табаку, высыпал на бумагу… Пока он все это проделывал, черноволосый держал Лепехина под автоматом. «Южный человек — недоверчивый», — говорил как-то Лепехину товарищ по разведке, карел Яакко Суумсанен, сам никогда, правда, не бывавший на юге, но по любому поводу имевший свое мнение, иногда правильное, иногда ошибочное, — наверно, прав был онежский лесоруб: недоверчивы южные люди. Ну какого черта держишь под автоматом? Высокий слепил тем временем цигарку, сунул ее в губы, старательно свернув кисет, разгладил складки на его вытертой бархатной поверхности, лишь потом отправил в карман, затем, долго шарив, вытащил кусок стальной подковы с надломленным ржавым торцом и обелесенный от постоянного пользования кремень; чиркнув несколько раз куском подковы по кремню, запалил пеньковую скрутку, подул на нее, прикурил, огонь же замял худыми пропеченными пальцами. Тусклые искры веером сыпанули на снег.
— Свой, говоришь? Откуда пришел? — простудно прошепелявил он.
Лепехин показал головой на снеговую равнину, распластанную за деревенской околицей, на растворенную в туманной пелене далекую высоту и поле, где остался Старков.
Высокий быстро взглянул на Лепехина, и в этом коротком взгляде Лепехин уловил затаенный вопрос, а может, проскользнуло и уважение.
— Отведите меня в штаб, — попросил Лепехин. — Мне в штаб нужно.
Высокий ковырнул большим пальцем у себя в зубах, в глазах его промелькнула непонятная хитрая усмешка.
— В штаб говоришь?
— Да. К майору Корытцеву.
Высокий затянулся самокруткой, выпустил из ноздрей слоистый хвост дыма, разогнал его ладонью.
— Пусть будет в штаб. Семенченко! Каладзе! Отведите задержанного в штаб.
Каладзе согласно кивнул. Лепехин шагнул вперед, к высокому.
— Следы, между прочим, моего мотоцикла…
— Не беспокойся. Найдем. — Высокий с сожалением поглядел на цигарку, которую зажимал в пальцах, затянулся еще раз, в последний, передал ее Каладзе. — Доставить в цельности-сохранности.
В голосе его не было ни доброты, ни тепла, ни участливого сочувствия — бесцветный ровный тон.
— Может, я сам? — спросил Лепехин.
— Не положено! — Зычен голос у грузина Каладзе, зычен, ничего не скажешь. Холодом пробило от его слов. У Лепехина враз обметало рот гадливой пороховой кислотой. Он попытался вспомнить — видел кого-либо из этих людей в штабе бригады или же не видел? Лица были незнакомы — выходило, что не видел. Может, прибыли с последним пополнением и он не успел еще с ними повстречаться?
— Ты того… Бежать не вздумай! — угрюмо предупредил его грузин и устрашающе ощерил белые красивые зубы. — Не то… Сразу девять грамм промеж рогов. Понял?
— Товарищ гвардии ефрейтор… — пискнул Семенченко.
— Хватит болтовни! — прикрикнул высокий. — Марш в штаб!
Двинулись вдоль улочки — Лепехин посредине и чуть впереди, Семенченко и Каладзе — поотстав на шаг. Деревня по-прежнему была пустынной; примчавшийся откуда-то суетной ветер теребил сорванный с одной из крыш лист железа, ржавый, с облупившейся краской, раскачивал его на вывернутом гвозде с жалостливым скрипом. Когда ветер усиливался, скрип становился громче и протяжнее. Едва порыв уходил, скрип затихал. Этот звук, если не считать крахмального хрумканья снега, сопровождающего их шаги, да дыхания, был единственным живым звуком в деревне. Все остальное молчало — непохоже было, что в этой деревне мог разместиться полк.
Так они шли минут пять. Каладзе вдруг спросил совсем без акцента:
— Это ты там шум-гам у немцев устроил? А? Иль не ты?
Лепехин не ответил. Каладзе такое молчание разозлило — он ткнул сержанта в спину.
— Шагай живее. Кто знает, может, ты не красноармеец, может, кто-нибудь еще… Власовец, например. А что? Может быть… Два дня назад мы такого выловили, приняли за разведчика, а потом шлепнули.
— Напрасно ты так, — вступился за Лепехина Семенченко.
— А ты не лезь не в свои дела. Сам знаю, что делаю. Перетерпит…
Лепехин прибавил шагу. От сухого хряпа, с каким его сапоги давили тропку, проложенную среди двух колесных линий в центровине колеи, и мрачной стылости воздуха, от молчания — теперь и ветряной скрип уже не был слышен, — ему казалось, что он идет по снегу босиком, ступням ног ожигающе больно, эта боль высекает слезы и опустошает грудь, от нее тощает сердце. Он сжал до деревянной твердости губы, посмотрел перед собой, поморщился от толчка грузина, вспомнил любимую пословицу Суумсанена — тот, даже умирая, выдавливал изо рта вперемежку с кровяными пузырями слова какой-то поговорки, удивительный человек был этот карел! «Смеется тот, кто смеется последним». Хорошая пословица, да. Хотя Яакко как-то сообщил под общий хохот, что у нее, этой пословицы, есть два толкования: одно обычное, соответствующее истине, изложенной в пяти словах, другое — каламбурное. Улыбаясь и путая буквы, лесоруб сказал, что некой компании был преподнесен анекдот. Смешной. Естественно, все рассмеялись, а один карел ни гугу, сидел и молчал, как медведь, плотно сжав губы, — рассмеялся он лишь к вечеру на следующий день: до него анекдоты, оказывается, очень долго доходили. Шея больно длинная была… Есть, конечно, еще и третье толкование. Если понадобится. Иван Лепехин сумеет разъяснить… Кому? Конвоиру-грузину, например. Первый год на фронте, не иначе. Бдительность проявляет. Ну-ну… Проявлять-то проявляет, а по опасной улице в открытую ходит.
Поравнялись с небольшим кирпичным домом, стоявшим в конце села, дальше уже начиналось унылое поле, и виднелись вырытые в полный профиль окопы, в которых ходили люди. Как же так? — недоумевающе оглянулся Лепехин, полк держит круговую оборону, а окопы только с одной стороны, потом понял — окопы не нужны, бойцы засели в домах, которые он принял за пустые, мертвые.
Вдруг за спиной раздался голос, который Лепехин смог бы различить в сотне других голосов. В сорок втором вместе выходили из окружения, столько лиха хватили на двоих, пока не пробились к своим, — из тысячи других голосов он узнал бы хрипловатый от курева бас Кузьмы Ганночкина, младшего брата начпрода разведчиков старшины Ганночкина!
— Лепехин! Братуха! — И такое родное, доверчивое, близкое, теплое наполняло этот голос, что Лепехину мигом вспомнилась ковыльная опаленная степь, по которой тащились они в июле сорок первого, оба раненые, помогая друг другу, обходя дороги, запруженные вражескими машинами, ночуя в балках и в мелких лощинах, засыпая по очереди, охраняя друг друга. А как однажды за ними гонялся «мессер», как уходили от него по ровной, как стол, твердой земле, в которой не было ни окопчика, ни воронки — было некуда, и все-таки ушли…
— Чтой-то? Что за конвой? — закричал Ганночкин-младший.
Лепехин стремительно обернулся. Столкнувшись нос к носу с Каладзе, легко и совсем незаметно для постороннего глаза поддел его рукой. Грузин, мелькнув стесанными подошвами сапог и задушевно крякнув, полетел головой в снег, зарылся в него по самые плечи под хохот Ганночкина и еще какого-то солдата, выскочившего на крыльцо в мятой, с растекшимся на груди пятном солярки гимнастерке. Семенченко отскочил назад, на безопасное, как ему казалось, расстояние и закричал тонким голосом, дергая затвор карабина.
— Ну-ну-ну!..
— Не нукай, я не лошадь…
— Ай да Ваня! Во что значит бригадная разведка!
Ганночкин скатился с крыльца, проворно перебирая кривоватыми ногами — над его ногами всегда посмеивались, намекая на кавалерийское происхождение, в два прыжка примчался к Лепехину, сжал его.
— Как там брательник мой? Жив?
— Жив, жив, — проговорил Лепехин, пытаясь вырваться из объятий.
Каладзе поднялся на ноги, выковыривая из ушей снег.
— За что? — спросил он плаксивым, растерявшим зычность голосом.
— За юмор.
Ганночкин ткнул пальцем в сторону, откуда привели Лепехина.
— Ты?.. Через фрицевы окопы?
Лепехин наклонил голову. Ганночкин вопросительно посмотрел на него, посерьезнел.
— А мы, вона, круговую заняли. Осадили нас немцы. Вначале мы их в кольцо, потом они нас. Ты к майору? Ясно. Счас сообразим.
— Нелады у меня, Кузьма. Парень тут один при прорыве погиб, прикрывал. Вот, — тихо сказал Лепехин.
— То-то, я смотрю, глаза у тебя… Не твои глаза какие-то, — проговорил Ганночкин тоже тихим голосом. — Надо бы поиск сообразить. Может, найдем что?
— Надо бы…
Лепехин поднимался вслед за Ганночкиным по ступеням крыльца, чувствуя, что вот-вот сорвется с обледенелых порожков, вот-вот упадет от сковавшей все тело усталости; его одолевало безудержное, животное в своей необузданной дикости желание свалиться на тюфяк или на охапку сена, поспать хотя бы немного, хотя бы минут двадцать, этого хватило бы, чтобы прийти в себя, но нет, нельзя. Когда он был уже наверху, его остановил Каладзе.
— Прости, друг. Не сердись, — сказал он, держась за шею.
— Не сержусь, — печально произнес Лепехин.
— Может, помощь какая нужна, а? Ты только свистни.
Плотная широкая спина низкорослого Ганночкина провалилась в душную распаренность дома, Лепехин шагнул следом. В сером утреннем полумраке он разглядел, что в горнице на скамейке, поставленной у окна, сидят трое, а в углу, над небольшим столом с поднятой на книжку и часто мигающей коптилкой, склонился четвертый, майор. Перед майором была расстелена потертая на сгибах карта-пятнадцативерстка. Ганночкин-младший шагнул к склонившемуся за столом командиру, приложил сложенную лодкой ладонь к уху:
— Товарищ майор!..
Майор, не поднимая головы, пометил какую-то точку на карте, ногтем дважды подчеркнул ее.
— Что там? — Голос у него был усталым.
— Связной из штаба бригады, товарищ майор!
— Ну! — Корытцев вскинулся. Лицо его стало обрадованным. — Связь ждем… Пакет?
— Так точно, товарищ майор! — сказал Лепехин. — Пакет и устное донесение.
— Давайте-ка для начала пакет!
Лепехин начал расстегивать шинель, но крючки туго натянутой на телогрейку шинели не поддавались, и он, стараясь освободиться от шинели, от навалившейся на плечи тяжести и теплой дурноватой размеренности, с силой потянул на себя борт, верхний крючок не выдержал, треснул, вырвался с мясом.
— Помогите ему, — приказал Корытцев, перевел взгляд на Ганночкина, тот поспешно подскочил к Лепехину. Вдвоем расстегнули вначале шинель, потом ватник, и Лепехин, нагоняя холод, осторожно пробрался под гимнастерку, стараясь не касаться еще не отошедшими в тепле, негнущимися пальцами тупо нывшей груди, достал пакет. Протянул Корытцеву.
Майор взял мятый, пропитанный потом конверт, сколупнул ногтем ломкий, бугром налепленный на бумагу слой сургуча, вытащил сложенный вчетверо листок, поднес к коптилке. Затем оторвал от листка глаза и приказал Ганночкину:
— Проводите отдохнуть! И накормите как следует… — Добавил строго и властно: — Слышите, как следует!
— И-есть, товарищ майор, — козырнул Ганночкин, но майор, уже не обращая на него внимания, еще раз перечитал листок и, вдруг засвистав тоненько, по-птичьи, совсем как синица, шагнул к окну, где на вытертой до лакового блеска скамье сидели трое командиров с одинаковым молчаливым сосредоточением на лицах.
Лепехин покашлял в кулак, освобождая грудь и горло от теснящего комка, втянул в себя парной домашний воздух, какой бывает только в обжитых хатах, взглянул в окно на пестрорядь неба.
— Полковник Громов просил передать на словах — прорыв назначен на десятое марта… В одиннадцать вечера… Два встречных удара, товарищ майор…
— Да. Тут в пакете сказано. Отдыхайте, сержант!
— Это не все, товарищ майор. Со мной прорывался еще один человек. Сержант Старков. Он прикрывал меня в поле перед деревней и остался там… Неплохо бы разведчиков туда, а, товарищ майор? — Лепехин облизнул спекшиеся губы, опять поглядел в окно. — Он подорвал гранатами себя и немцев… Вдруг остался жив, а, товарищ майор? Поиск бы организовать. Я сам пойду с группой…
— Никуда вы не пойдете! Отдыхайте! — неожиданно резким, высоким голосом выкрикнул майор. — Приказано отдыхать — отдыхайте! Без вас справимся! Александр Иванович! Гончаров!
Майор развернулся всем своим низеньким крепким телом на сто восемьдесят. Лепехин невольно вытянулся, смежая каблуки кирзачей, — слишком знакомое, то безоговорочно строгое проскользнуло в простом движении майора, то властное, командирское, что заставляет самых строптивых делаться шелковыми.
Поднялся один из троих — худой, с синими тенями в подскульях старший лейтенант, неторопливо оправил на себе длинную, с мешковатыми сборами внизу гимнастерку.
— Как стемнеет, организуйте поиск. Только вот что… Такое условие — к ночи все разведчики должны быть в полку…
— Хорошо, Сергей Никитич. Будут!
— Спасибо, товарищ майор, — четко и твердо, выделяя каждую букву, будто первоклассник на уроке чтения, проговорил Лепехин, повернулся, печально кривя губы; Ганночкин-младший притиснулся своим плечом к его плечу, поддерживая, потом оглянулся, увидел, что строгий Корытцев уже не смотрит на них, он уже начал что-то втолковывать командирам, обхватил Лепехина за спину, помогая:
— Пошли на полати. На роздых пора, вот… Есть тут у меня одно царское местечко. Сразу императором почувствуешь себя.
Лепехину пришло на память, что вот точно так же он вел Ганночкина, раненного в плечо, жарким летним днем, когда отвесно висевшее солнце дымилось от жара и перевязанный, на скорую руку высохшей и ожестеневшей от крови тряпкой, Кузьма Ганночкин, уже на самом подходе к Дону, стал просить, чтобы Лепехин бросил его, что идти нет мочи, что пора умирать… Настала такая пора… Но Лепехин, которого тоже зацепила пуля, только легче, не бросил Ганночкина, переправил через буйный Дон ночью, при свете ракет, а через неделю вывел к своим.
— Вот сюда, Иван. Давай-кась! Ординарский чулан.
В отгороженном шинелями закутке был установлен узкий деревянный топчан, два ватных матраца брошены сверху, в головах сложена втрое шинель.
— Это и есть полати. Как? Ни одна муха не укусит. Сапоги можешь снять.
Лепехин медленно сел на топчан и отрицательно покрутил головой, погружаясь в странное светлое забытье, лишь услышал сквозь дурноту, как где-то далеко фыркнул добродушным смехом Ганночкин…
Потом он еще почувствовал, как ко лбу, к запекшейся ссадине прикоснулись прохладные и очень легкие — почти ничего не весили — руки, как бережно приподняли его голову, и женский голос произнес, едва пробившись сквозь сон:
— В медсанбат придется, наверное.
— Не-е, — возразил Ганночкин. — Отоспится и без медсанбата. Это ж разведчик! Лепехин его фамилия. На всю бригаду разведчик из разведчиков.
— Я вас, Ганночкин, как старшая по званию, на гауптвахту посажу, — сердито проговорила женщина. — И никакие знаменитости не помогут. Ни Лепехин, ни даже сам командующий фронтом.
— На губу мы завсегда, — приглушенно хохотнул Ганночкин, — только вот товарища вы не отсылайте в медсанбат. А? Прошу вас! Мы отступали с ним вместе. Он меня у смерти из-под носа увел…
8
Лепехин проснулся от крутой комнатной жары и от тишины. Сдвинув на живот пропаренную, мокрую от дыхания шинель, он, уставший от неподвижности, некоторое время лежал не шевелясь, бездумно-трезвым взглядом, какой бывает у только что очнувшихся людей, рассматривал растрескавшийся от старости деревянный потолок, серо-коричневую, густо засиженную мухами матицу, потом, приподнявшись на локтях, сел. Повязка, наложенная ему во сне на голову, туго сдавила виски, под ней намокла и теперь ныла ссадина, разъедаемая солью… Он нащупал на затылке плоский узелок бинта, потеребил его пальцами, пробуя развязать, но узелок не поддался, такой был закостенелый и прочный — умелая рука потрудилась, ничего не скажешь, тогда он похлопал по сапогу, определяя ладонью — в голенище должен быть нож, цел ли? Нож был в голенище, Лепехин вытянул его, обнажив тяжелое приятно-теплое лезвие, аккуратно просунул кончик острия под завязку, перерезал.
Бинт отделился от ссадины легко — всегда отделяется легко, если рана нагноилась. Лепехин скатал его в тугой рулончик, сунул в карман гимнастерки — сгодится на случай, если придется еще раз перевязаться. Хотя медики и говорят, что нельзя один бинт дважды использовать — его обязательно надо стирать, но медики медиками, а свое мнение на этот счет должно быть, иначе бинтов не напасешься.
В избе было пусто, в центре стола на выскобленной до янтарного сверка доске стояла холодная коптилка, книгу из-под нее вытащили. В воздухе висел, выветриваясь, запах махорки, ворвани, пота…
Лепехин свесил ноги с топчана, нащупал пол. Накинув на одно плечо шинель, прошелся по избе.
— Вымерли, что ли? — Голос в пустой хате звучал глухо и одиноко. Лепехин присел на лавку, тронул пальцем коптилку — обдала холодом, вспомнил, что в кармане шинели должны быть спички. Нащупав коробок, зажег — огонек синим прозрачным пламенем вспыхнул на мгновение и стал гаснуть, Лепехин поспешно довернул колесико коптилки, поднес спичку к фитилю и долго, неотрывно смотрел, как, неспокойно мигая, разгорается пламя. Говорят, что азиаты любят смотреть в быстрые воды реки — их завораживает течение, европейцы же — на огонь. Он задул коптилку. Подняв голову, увидел, что на крюке, вбитом в стенку над топчаном, висит его ППШ с лохматым от иссеченной щепы прикладом, а внизу, у окна, стоит заботливо перевязанный трофейным телефонным шнуром мешок, дырчатый от пуль, — Ганночкин вытащил из коляски, но развязывать не стал. Лепехин поднялся, морщась от тяжести, вступившей в голову, снял со стенки свое покалеченное оружие, вышел на улицу.
День разгулялся. Земля, высвеченная солнцем, была синей от снежных теней, воздух — прозрачным. Деревня же — по-прежнему малолюдной, только далеко за пределами ее, в поле, совершенно открыто, не страшась выстрелов, ходили люди… Лепехин спустился с крыльца, услышал легкое потрескивание, будто кто щепил лучину. В углу двора у полуобвалившейся каменной стенки Ганночкин-младший развел костерок и, держа в вытянутой руке сковороду с длинной ручкой-рожком, что-то сосредоточенно в ней разогревал. Рожок, чтобы не обжечься, он обмотал порыжелым от старости вафельным полотенцем и медленно водил днищем сковороды по огню, время от времени выхватывая из разложенной рядом кучи дров какую-нибудь крюковатую суковину и засовывая ее в огонь. Двор благоухал от аромата разогретой говяжьей тушенки — зубы даже заломило от запаха, так захотелось есть. Лепехин присел на ступеньку крыльца. Услышав скрип, Ганночкин живо обернулся.
— А-а, проснулся? Сейчас обедать будем.
— Почему так тихо в деревне? Утром было тихо, сейчас тихо, а? Будто мы в тылу.
— Почему, почему?.. По кочану да по кочерыжке. Много знать будешь, скоро состаришься, — рассмеялся Ганночкин, повернул к Лепехину лицо. Лицо у него было широким, некрасивым, до пьяной красноты разогретым близким огнем, щеки полыхали, глаза же, вернее, глазки — неопределенного серого, с прозеленью цвета, с белками в мелких кровяных прожилках — были добрыми, ребячьими.
— Старкова не нашли?
Ганночкин не ответил. Он резко выкрикнул:
— Посторонись! — Стремительно и тяжеловато пронесся мимо Лепехина, загремел ступенями крыльца. Через мгновенье вновь показался в дверях, поманил пальцем:
— Обед готов, Иван. Пора приступать. Давай-ка лапы помой снежком и в дом. А?
Его маленькие глазки искрились от яркого прямого света, Лепехин по тому, как Ганночкин ушел от ответа насчет поиска, понял, что полковая разведка вернулась или ни с чем, или же с вестями неутешительными. Посмотрел на автомат, который держал в руке, совсем не ощущая его тяжести, на исщепленный, испачканный сохлой грязью приклад, кожух, покрытый вдавлинами и свежей ржавью, поднял, чувствуя, как солоноватый, твердый, словно резина, ком входит в горло, мешая дышать, а в груди под самым сердцем образуется опасная пустота.
— Не надо, Ваня! Этим делу не поможешь, — услышал он тихий голос Ганночкина, сморгнул горячую едкую слезу.
— Ладно, — сказал он. — Пакостно как-то на душе. Будто я этого парня предал.
— Это всегда бывает, когда кто-то гибнет, а ты остаешься в живых. — Ганночкин сглотнул горлом, и последние слова ушли у него куда-то внутрь. — По себе знаю, бывает.
Лепехин положил автомат на крыльцо, нагнулся, зачерпнул снега в ладонь, растер.
— Ничего не поделаешь, — сказал Ганночкин. — Какую спичку вытащишь — короткую иль длинную, то тебе и выпадет. Да. Повезет или не повезет, вот во что идет игра на войне.
Лепехин, стиснув снег в комок, приложил его к вискам, остужая незнакомую щекотную боль, провел по подскульям, по щекам; намочив пальцы, протер глаза.
— Ты что повязку снял? — спросил Ганночкин.
— Давит. Бинт попался, как портянка.
Ганночкин потоптался на крыльце, подминая его громоздкими, растоптанными сапогами.
— Давай в избу.
Лепехин поднялся в дом, сел на лавку, локтями уперся в стол.
— Болит? — Ганночкин стрельнул глазами на ссадину. — Снегом ты к ней того… Напрасно разбинтовался. Пусть было бы. А так не скоро заживет.
— Не пудри мозги, — сказал Лепехин. — Давай про Старкова.
— Час назад два батальона пошли в атаку, вот, взяли окопы, а окопы тю-тю… Оказались пустыми. Ушли немцы. Окопы бросили, даже отход прикрывать не стали. Обычно они в пулеметных гнездах людей оставляют — отход прикрывать… А тут — нет. В общем, немцы утекли. А с флангов ударила бригада, полк с нею уже соединился. Да сейчас не только бригада, весь фронт, говорят, наступает.
— К-как н-немцы утекли?
— Очень даже просто, — помедлив, ответил Ганночкин. — Оставили свои окопы, блиндажи, высоту бросили и дали тягу…
Значит, ушли. И прорыв ночной, выходит, был напрасным, и Старков напрасно, выходит, погиб? Лепехин вздохнул, отер ладонью рот, обжег Ганночкина тревожным взглядом. Нет, не напрасно! Война есть война: двум смертям не бывать, а одной не миновать, как ни хоронись. Завтра может погибнуть и он. Господи, что за пустые, стертые слова! Человек погиб, геройски погиб, из-за него погиб, а он? У Лепехина затекли руки, занемели, став чугунными, он чувствовал, что не в состоянии даже шевелить пальцами, не то чтобы что-то делать; сосущей болью заныл живот. Он закрыл глаза, и в черной мятущейся мгле заплясали перед ними яркие подвижные кольца; он не выдержал, затряс головою, потом стер с губ и щек горячую щиплющую росу.
— Давай насчет Старкова.
— Искали. Разведгруппа ходила. Все обшарили вокруг, нашли только вот что… — Ганночкин пошарил в кармане, вынул знакомый плоский портсигар, старковский, с негромким звяком положил на стол, придвинулся к Лепехину.
— Документы в штаб полка сдали, а портсигар велели тебе… На память.
Лепехин молча кивнул. Кузьма Ганночкин смотрел на него совсем точечными, сделавшимися очень жесткими — как ни странно, это от растерянности — глазами, не зная, чем и помочь, пробормотал неловко:
— Простыл ты, наверное. Баню бы тебе сейчас. Да нету, жаль… — Затем заговорил быстро-быстро, съедая слова: — Вот у нас в Сибири бани-и… У каждой семьи — своя, индивидуальная. Бани с тремя ярусами полок — на одной полке жарко, на другой — очень жарко, на третьей — очень-очень жарко. Когда идут в баню, с собой непременно берут ведро медовухи, в нее кладут колотый лед с реки, чтобы медовуха морозом отдавала, иначе баню не вытерпеть. Попаришься так минут сорок, с верхней полки — на среднюю, а потом на нижнюю, а потом на улицу и в снег… Пока в снегу ворочаешься, он до самой земли вытаивает. Затем снова в баню, на самую жаркую полку и кружку медовухи с собой. Все болезни после такой бани улетучиваются. И молодеешь сразу, как пить дать. Вот почему сибиряки долго живут и не болеют…
Лепехин глянул на него, и Ганночкин осекся. Спросил только:
— Машину свою еще не видел?
Лепехин отрицательно качнул головой.
— Вся в звездах — пули разделали… Сплошняком дыры…
Ганночкин поднялся, сапогом загнал под стол выкатившуюся консервную банку, прошел в сенцы. Было слышно, как он протопал по крыльцу; прошло немного времени, и он вернулся обратно, неся в руке чайник, прокопченный настолько, что сажа уже начала свертываться в катыши на его выпуклых сальных боках. Положив на стол старый, похоже, чудом сохранившийся учебник алгебры 1940‑го, довоенного года выпуска, водрузил на него чайник.
— Сейчас я тебе заварочку сибирскую сотворю, по нашим рецептам. От такого чая хворь старая проходит, новая не цепляется.
Он достал два граненых стакана, поочередно плеснул в каждый понемногу кипятку. Потом поболтал, обмывая стенки, воду вытряхнул на пол.
— Предварительно надо стакан обваривать, лишь только потом чай засыпают. Иначе вкуса нужного не будет.
Из кармана извлек плитку черного прессованного чая в мятой серебряной обертке, отщепил два аккуратных пласточка, бросил в стаканы, плеснул на донья немного кипятку, чай сразу же начал мутнеть, пузыриться, набухать краской. Ганночкин накрыл стаканы ладонями.
— Через минуту чай будет готов, — объявил он, оторвал пальцы от верха стаканов, вновь накрыл, вновь оторвал, потом торжественно произнес: — Кондиция.
Лепехин жадно глотал этот чай и, обжигаясь, чувствовал, как распариваются, согреваются его кости, согревается и сам он, а Ганночкин-младший уселся напротив и, блаженно улыбаясь, начал причмокивать толстыми, круто вывернутыми губами, отхлебывая чай из стакана. Где-то далеко — звук был слабым — раздалось несколько выстрелов. Ганночкин отставил стакан в сторону, прислушался. В неглубоких ямках, венчающих самые уголки рта, в невыбритых остьях волос застыли чайные капли, придав Ганночкину немного неряшливый, но очень домашний вид.
— На высотах стреляют, — заметил он.
Лепехин посмотрел на окошко и не увидел старого, с обколупленной рамой окна — перед глазами опять, в который уже раз, встала ночь в высоком, до самых облаков разрыве, в огненных охлестах очередей; в темноте мелькали серые тени с зажатыми в руках автоматами, курился розовый от брызгающего пламени снег… Одного сейчас хотелось Лепехину: тишины. Такой тишины, чтобы в ней было слышно, как колотится собственное сердце…
А где-то в это время был мир, люди ходили в платьях, на которые никто и никогда не вешал воинских знаков различия, вежливо здоровались друг с другом и так же вежливо прощались, читали газеты, посещали кино, магазины, наносили друг другу визиты. Сам Лепехин уже успел позабыть, что такое ходить в гости. Сколько времени прошло с последнего гостевания?.. Когда он был в гостях последний раз? До войны, пацаном. Целых три года назад! Три тяжелых года боев — без передышек — отступления и обороны, наступления и атаки; три года, полных холода, голода, раскаленного свинца, горестного ожидания, неизвестности — никто не знает, чем для тебя обернется завтра война — убит ты будешь или ранен, или искалечен на всю жизнь. И он в первый, наверное, раз за всю войну вдруг остро позавидовал тому, кто не знает всего, что знает он, что он пережил, перестрадал, перечувствовал. А потом мысленно отругал себя — за размягченность, за то, что вот так по-щенячьи раскис… Ласки, видите ли, ему захотелось. Безмятежной жизни…
Во дворе показались два солдата, оба белозубые, смеющиеся и очень молодые — им бы в школу еще ходить надо, а не воевать; солдаты толкали перед собой мотоцикл, изрешеченный донельзя, — жалкий, беспомощный кусок железа, мертвым-мертвый — опять дядя Ваня Усов будет крыть, на чем свет стоит его походы в немецкие тылы… На целый день работы подкинул — на целый, если не больше.
Солдаты поставили мотоцикл у стены дома, уходя же, один из них приблизился к окну, притиснул к стеклу лицо, но, не разглядев ничего в сумраке, стукнул костяшками пальцев в переплет рамы. Принимайте, мол, имущество.
Ганночкин коротко гребанул ручищей воздух — проваливайте, ребята, обратно, — заглядывавший различил наконец людей в комнате, беззвучно рассмеялся, показал пальцем вверх, на солнце, уже метрах в двадцати от дома оглянулся, снял с себя, как хомут, через голову, винтовку и, держа ее в отставленных руках, как держат флаг или транспарант, гулко выстрелил в воздух. Мимо окна стремительно пронеслась стая воробьев, а ершистая, пегая, будто вывалянная в золе галка снялась с верхушки ближней березы и, опасливо прижимаясь к стенкам домов — научена войною птица, — унеслась прочь.
— В следующий раз ты у меня посалютуешь, — проговорил Ганночкин и показал в окно кулак. — Пополнение пришло. Наступление идет. Не рывком на три-четыре километра, а общее, на сотню-другую… Чтобы поболе гитлеровцев в борщок окунуть, сверху крышкой накрыть. А насчет Старкова твоего… Парень он, видно, был хороший, боевитый, извини… От судьбы, как говорится, не уйдешь. Коли суждено пулю споймать — споймаешь. Хочешь выпить? — вдруг вскинулся Ганночкин-младший, потер ладонью о ладонь. — Чуешь? Порохом пахнет. У меня спиртевич питьевой есть! Как раз к месту, за немецкое отступление.
Лепехин ничего не ответил, только поморщился.
9
Немцев теснили по всему фронту, в бой вступило пополнение, несколько свежих танковых бригад, и война шла уже не среди людей, а среди машин. Штаб бригады снимался из Словцов и перекочевывал в деревушку, расположенную в десяти километрах западнее, писаря выносили из домов длинные, окрашенные в защитный цвет деревянные ящики, в которых хранят документы, грузили их в «студебеккеры», в деревне царила озабоченная деловая суматоха, какая бывает только при наступлении. Хотя при отступлении суматоха тоже бывает, и еще какая! — с той лишь разницей, что при отступлении люди работают молча и зло, экономя время, движения, при наступлении же — с шутками и веселым удальством. Командира бригады полковника Громова Лепехин нашел во дворе склада — сидя в «виллисе», полковник слушал доклад офицера-штабиста, с сосредоточенным вниманием смежив брови; увидев Лепехина, он жестом остановил штабиста и, кряхтя, выпростал ноги из маленького, не по комплекции кузовка, свесил их, провел над землей, но поопасся испачкать начищенные до зеркального сверка сапоги в распаренной, превратившейся в жижку от устойчивого и по-настоящему пригревшего в этот день солнца земле.
— Здравствуй, разведчик, — произнес полковник Громов торжественным голосом. — Молодец, сержант Лепехин. Спасибо тебе! Можешь не докладывать, — разрешил он, увидев, что Лепехин тянется рукой к шапке. — Иди-ка сюда.
Он взял Лепехина рукой за плечо, повернул к себе, будто плохо его видел или, наоборот, хотел запомнить небритое лицо с запавшими глазами, с куделью влажных, пропахших порохом и землей волос, выпроставшихся из-под темного, пропитанного свежим по́том края шапки, запомнить нос и скулы, обсыпанные блеклыми и почему-то детскими — да, детскими, подумал полковник, ведь он мальчик еще, мальчик, постаревший на войне, — весенними конопушинами, выступившими в один день, абрис головы с лопушьими торчками ушей и заусенистые от обветренности губы.
— Прости, сынок, — сказал комбриг, как будто был в чем-то виноват. — Война решила все за нас, и час наступления определила, и минуты, и то, кого миловать, а кого… За пакет — спасибо. Зацепило тебя? Сильно? — спросил он, указав на голову Лепехина, на скатавшуюся несвежую повязку, — пригодился все-таки бинт. Лепехин, как и тогда, перед походом в немецкий тыл, подумал, что человек, сидевший перед ним в машине, уже стар, подумал, что трудно, наверное, воевать в таком возрасте. Он слышал, что комбриг пошел в ополчение рядовым, а теперь вот полковник, командир бригады, за Курскую получил Героя. Видя, что полковник внимательно смотрит на повязку, а стоявший рядом штабист стреляет глазами — чего, заснул, что ли, солдат? — Лепехин дотронулся до хрустнувших под пальцами сохлых бинтов.
— Нет, не сильно, товарищ полковник.
Громов наклонил голову, взглянул на Лепехина исподлобья, оценивающе, глаза его стали туманными от воспоминания, от чего-то другого, смутного и чудесно беспечного, от радостных ассоциаций, сменившихся, впрочем, печалью. Громов глядел на Лепехина и вспоминал самого себя, молодого сотрудника Исторического музея, этакого охламона, занимающегося медными изделиями уральских заводов XVII–XIX веков — он писал тогда научную книжку; много шлялся по уральским поселкам и небольшим, едва превышающим своими размерами среднерусские села городкам, сколачивая бесценную коллекцию медных изделий, — собирал братины и ендовы, четвертины, кувшины, каравайницы, стопы, перегонные кубы, чайницы, чарки, кружки, шкатулки, рукомойники, сбитенники, магниты, самовары производства демидовских, осокинских, турчаниновских, строгановских заводов, охотясь за тем, что составляло суть его работы, давало пищу книжкам, одной и другой; музейное начальство считало его преотличным работником, потом он заматерел, стал маститым, но, когда началась война, словно бы проснулся, словно родился наново — записался в ополчение, отбился от доброхотов, пытавшихся укрыть его за бронью, и уехал на фронт…
Вспомнил он в эти минуты, солнечные, суматошные, оттягивающие хворь, усталость и другое — то, как он, будучи лейтенантом — самым старым на фронте лейтенантом (так шутили полковые остряки), — угодил с батальоном в окружение, когда погиб комбат и он остался за командира… Попали в окружение глупо — собственно, как и полк Корытцева — оторвались от тыла, выбили немцев с полуплоской, изрезанной окопами высотки, заняли ее, оглянулись и только тут увидели накатывающуюся сзади серо-зеленую вражескую цепь — соседние батальоны застряли, остались километрах в двух позади. Вот ведь как!
Он ясно, беспощадно ясно, до самых мелочей вспомнил враз вставшую перед ним ослепительно черную, ни одной искорки на небе, ночь — одну из последних ночей обороны, беспросветно глухую, вязкую, когда лишь по тяжести, по плотной сырости воздуха чувствовалось, что земля все-таки имеет продолжение, а невысоко над головой плывут набрякшие дождем тучи, скрывающие небо. Под высотой мельтешили автоматные огоньки. Чьи — не разберешь… На ночную атаку немцев это не было похоже. Смахивало на другое — кто-то из наших наткнулся на ночную разведку немцев. Вот только кто?
…То, что и Лепехин и Громов вспомнили сейчас события, происшедшие ночью, в одинаковых условиях, роднило их, делало общим восприятие мира, жизни, фронтовой череды… Они поделили пополам беды и радости, горькое и сладкое, удачи и неудачи, даже кровь…
Громов вспомнил, как он, грузный, неуклюжий, одышливый, уложил автомат на бруствер, оттянул затвор — может, это из штаба дивизии пытаются пробиться через фронт к окруженцам, зацепившимся за крохотный, в полторы фиги величиной островок земли? Ведь наши находятся всего в каких-нибудь двух километрах, в двух! Днем он попробовал прикинуть, на сколько же у них хватит сил? Арифметика выходила невеселой. Еще неделю назад, в первый день обороны, когда немцы обошли их, взяли в замок, оттеснив соседние части, их было на этой высоте ни много ни мало — полновесный стрелковый батальон — пятьсот человек. Сколько осталось? Семьдесят. В день немцы делают по шесть атак и по шесть артналетов — высотки как таковой не существует — уже напрочь перерыта и перелопачена.
Сколько человек уносит каждый день? Он мотнул головой — страшный счет, не поднимается рука передвинуть невидимую костяшку. Но ведь ты командир, Громов, тебе и ответ держать. А раз ответ держать, значит, ты должен все знать и все до последней веревочки в своем хозяйстве иметь на учете. До того момента, пока чужая пуля не нащупает тебя.
Словом, их хватит еще на два дня. На каждый автомат осталось по полтора диска, на винтовку — по две полные обоймы и еще плюс по три патрона. Хотя, можно считать, по два: последнюю пулю надо сберегать для себя.
Он вытащил тогда из кобуры свой ТТ, из рукояти извлек один патрон — тяжелый, масляный, толстый, и, боясь потерять в темноте, не удержать в дрожащих пальцах, торопливо сунул в левый карман гимнастерки, под твердую книжицу партийного билета — вот этот патрон и пойдет на собственные нужды.
Стоял тогда перед Громовым и еще один главный вопрос — пища. Нечем было поддержать раненых. Дважды он посылал людей в нейтральную полосу, к березовому пятаку — там от толстой березовой кожуры отделяли коричневый мездровый слон — есть такой под непрозрачной белой кожицей, мелко крошили мездру, варили из нее кашу. Это единственное, чем питалась высота. Еще почки ели. Но это уже было деликатесом, да почки они слопали в первые два дня голодовки.
— Разрешите доложить, товарищ командир батальона!
Громов обернулся на невидимый в темноте голос, по уверенной глухоте определил, как говорится, на ощупь — старшина первой роты, поморщился — все-таки передний край здесь, когда же все-таки старшина отучится от манеры вытягиваться перед начальством в струну и гвоздить по-парадному: «Разрешите доложить!» Наверное, и на том свете, когда он в раю предстанет перед приемной комиссией, то прищелкнет сбитыми каблуками кирзачей и рявкнет на все преподобное царство:
— Разрешите доложить! Старшина такой-то прибыл в ваше распоряжение для дальнейшего прохождения службы.
— Докладывайте, старшина. Только не ревите, как паровоз перед отправкой в долгую дорогу, — тихо сказал Громов.
— Е! — По-деревенски остро смутился старшина, сбавил голос: — Товарищ комбат, тут я это… посылал ребят в жиднячок за березовой кашей. Из-за этого стрельба завязалась — наткнулись хлопцы на гитлеровских саперов. В нейтралке. Ушли ребята. И трофей с собой принесли. Два автомата и во-от еще… Фляжка с каким-то дерьмецом. Одеколоном пахнет…
Старшина поболтал в темноте флягой, Громов услышал тяжелый плеск жидкости, сглотнул слюну.
— А стрельба?.. Почему стрельба продолжается?
— Испуг у гитлеровцев стрясся, товарищ командир батальона. С него они еще полчаса патроны жечь будут.
Громов взял фляжку в руки, открутил пробку, понюхал — в нос шибануло терпко-каленым, коричным, древесиной и какими-то приятными травами. Он всосал в себя запах, втянул в живот.
— Ром, — определил он. — Пакость, конечно, для непривычного человека… Но в наших условиях и такая пакость сгодится. В санчасть отнесите.
— E! — Старшина как был невидим, так и не проявился в темноте. Голос его исчез.
Громов с беспокойной гулкой тревогой, с колотьем под ребрами задумался: как быть дальше? Связи с дивизией никакой. Единственно возможный язык разговоров — ракетница. Да и то разговоры придется вести недолго — ракет к ней всего две штуки, красных. На тот самый случай, когда придется ставить точку и вызывать огонь на себя. Если наши увидят, то накроют высоту огнем дивизионных пушек. Две красные ракеты — сигнал «вызываю огонь на себя».
Остаток ночи Громов провел за картой, решал, смогут ли они прорваться к своим или не смогут. Сходил в госпитальный блиндаж посоветоваться с раненым старшим лейтенантом Иваном Кузьминым. Тот, выслушав громовские соображения, прижал к себе задеревеневшую культю.
— Ты, мужик, сейчас командир! — сказал он, напирая на слово «мужик». — Тебе видней, что в данный момент делать, а чего не делать. Но знай одно: если будешь прорываться с нами, с ранеными, то дело твое дохлое. Не прорвешься. Сам погибнешь. А о нас и речи нет — все поляжем. Если будешь уходить, оставь нам немного патронов, чтобы мы живыми не попали к врагу, — будем прикрывать вас. Как решишь, так и будет. Мы тебя не осудим.
— Т-точно, старлей, не осудим, — подтвердил лежавший на полке бородатый и худой, как Дон Кихот, парень в обвисшей, очерненной грязью нательной рубахе, — в крайнем случае, во-от…
Он сунул руку под брезентовик, подложенный под голову, извлек гранату-лимонку с проржавелым лобиком.
— За так не отдадимся.
В зрачках его блеснула злая удаль, прямолинейная бесшабашность человека, не привыкшего уступать, покоряться. Кузьмин кивнул с сурово закаменелым лицом, поддерживая решимость парня с гранатой.
— Дело, кореш, — сказал он. — А ты, лейтенант, решай сам, чему быть, а чему не бывать. — Он поднял культю, строго прищурившимися глазами оглядел густо-рыжую от крови концевину.
Громов тяжело крякнул, поднялся, пошебаршил пальцами в плотной щетине щек.
— Отросла, а бриться нечем, все осталось в обозе. Если только осколком стекла?
Ясно одно — высоту нельзя оставлять. Причин на это две: первая — с ранеными им не прорваться, тут Кузьмин прав, и второе, высота — важный опорный пункт; уйдут они сейчас с нее, отдадут немцам, значит, потом, при наступлении, ее придется брать снова. И, ой-ой-ой, какой дорогой ценой. Словом, высоту оставлять нельзя. Надо держаться до последнего.
Утро началось с немецкой атаки.
— Фрицы, сволочи, живут по расписанию. Проснулись, умылись, перекусили, выпили по чашке кофе, набили «шмайсеры» патронами и потопали в атаку… Ну-ну, давайте, давайте, голубчики, мы вам сейчас покажем, где раки зимуют, — разразился лежавший рядом с лейтенантом — вдвоем они едва втиснулись в мелкий окопчик — солдат Серега Чернышев. Его фамилия врезалась Громову в память, до сих пор помнит, хотя людей прошло перед ним тысячи. — Давайте-давайте, блесните напоследок сапогами.
Главное, подпустить немцев поближе, угадать психологический момент, когда можно ударить наверняка. Наверняка и чтоб патронов меньше потратить…
Немцы цепью продвигались к высоте, окружая ее полукольцом.
— Завоеватели! Гниды пахучие, — выглянул из окопчика Чернышев, а Громов осадил его непривычно резко и зло. Сдавали нервы перед боем, он подумал об этом без сожаления, с обреченностью.
— Не долдонь, Черныш! — сказал он, хотя знал, что, не будь этих непритязательных, очень простых шуток солдата Сереги Чернышева, жилось бы высоте тяжелее.
— Стрелять одиночными, экономить патроны, — передал по цепи Громов, притиснул к плечу автомат, ощущая щекой остужающе холодную боковину приклада.
— Стрелять одиночными, экономить патроны… Стрелять одиночными, экономить патроны… — пополз приказ по траншее.
Громов выждал, когда немцы были уже совсем близко и шли осмелело, не встречая огня, когда различались даже блестины пота на распаренных молодых лицах, огрузших от напряжения и крутизны подъема, выкрикнул резко и властно:
— Пли!
— Гха! — гикнул Серега Чернышев. — Понеслась душа в рай, лапками засверкала.
Грохот вспорол трепетную опасную тишину, и Громову, сразу полегчало, он холодно и спокойно ловил на мушку муравья, одетого во вражеский мундир, тщательно прицеливался, чтобы не было промаха, и равномерно, с едва уловимой плавностью нажимал на спусковую собачку, не глядя уже потом, что делал подбитый им муравей.
Затем из-за мутной, с перепадами, едва различимой кромки горизонта, из-за горбушек бугров выползло солнце, осветилась березняковая плешь, заискрилась мокрая от ночной испари ложбина под высотой, и розоватый парок, прикрывавший топкое болото да скособоченные домики недалекой деревушки, покинутой жителями и очень схожей с Маковками, начал таять, редеть на глазах. Едва стаял, как Громов увидел танки — приземистые серые утюги. Два, три… пять… восемь… пятнадцать… Пятнадцать машин! Не совладать. Он тронул пальцами шею, пытаясь унять судорогу, стянувшую горло, потом стер рукавом ватника липкую моросу с носа и подбородка, в горячечном мозгу вспыхнула однозначная мысль — все.
— Кранты, лейтенант! — прошептал Чернышев. — Пора ставить точку: против такой силы нам не устоять…
На смену суетливому, бессильному от осознания собственной беспомощности, собственной безоружности состоянию вдруг пришло ощущение расчетливой, почти равнодушной отрешенности. Громов почувствовал боль в распаде грудной клетки — это подперла толстая рукоятка ракетницы, вспомнил про сигнал: две красные ракеты — «вызываю огонь на себя», протиснул ладонь под тело, пальцами нащупал рукоять, отер, чтобы не выскользнула, мокрую рубчатую щечку. Пришел черед, Громов, подумал он. Пора, профессор! Усмехнулся — теперь уже бывший…
За танками, укрываясь броней, шла новая цепь немецких солдат. До высоты уже донесся рык моторов, за рыком пошел звонкий лязг траков. Рык да лязг…
Высота настороженно молчала. Громов видел напряженные спины бойцов, лежавших на высоте; небритые, густо обросшие подбородки, прижатые к мягкой, вспаханной осколками земле; глаза, зло прижмуренные; измазанные землей кулаки. У входа в госпитальный блиндаж стоял на согнутых ногах старший лейтенант Кузьмин и, морщась от боли, от того, что он, беззащитный, на виду у немцев пытался выломать из повисшей на одной петле двери доску, мимо него проползали, показываясь из темно-душного блиндажного чрева, раненые проползали без стонов, без охов, с хрипатым дыханием; лишь один — сержант с обмотанным до самых бедер туловищем — зацепил ногой за пустой патронный ящик и выматерился с тихой тоской в голосе.
Раненые — кто с чем: кто с пустым автоматом, кто с ножом-финкой, кто с саперной лопатой, лишь бы что-нибудь было в руках — что-нибудь, придающее уверенность.
Патронов нуль — сколько на каждый автомат осталось? Громов прикинул, горько усмехнулся — пальцев одной руки хватит; что же касается винтовок, то тут пальцев и того меньше. «Ты, мужик, сейчас командир… Как решишь, так и будет», — вспомнил он слова Кузьмина и, осилив какую-то непрочность, сидевшую в нем, вытащил из-за пояса ракетницу. Пора или не пора? Танки были уже близко; первый на малом газу перевалил через лощинку, потом, запрокидываясь, задрал ствол пушки вверх, с ревом пустил тугую струю выхлопа и полез на высоту.
— Не сдаваться, мужики! Не сдаваться… Ведь мы же, мужики, партийные… — услышал Громов крик старшего лейтенанта Кузьмина. Потом Кузьмин закашлялся, громко заскрипел зубами от боли. Тут Громов услышал, как кто-то очень высоким, дрожащим от внутренней натуги голосом запел — вначале невнятно, проглатывая слова, а потом все отчетливей, постепенно приходя в себя и переводя голос из высоких тонов в низкие, басовитые, делаясь знакомым. Серега Чернышев! Москвич, земляк…
Эх, яблочко, Куда ты котишься? Попадешь ко мне в рот — Не воротишься…Громов почувствовал теплое благодарное удушье, подступившее к глотке, вмиг выбившее слезу из запорошенных сухих глаз, вдохнул горький запах оттаявшей, готовой к новому рожденью весенней земли, поднял руку с ракетницей.
Люди изумленно прислушались к чернышовскому голосу, дрожанием своим, всесильной злостью перекрывшему грохот моторов, стали поднимать головы; потом один неловко, неумело — консерваторий ведь не кончали — поддержал, затем другой присоединился к дурашливой песенке Сереги.
Громов поднял руку еще выше, взглянул в безмятежную белесость неба и нажал на спусковые крючки.
Ракеты с крепким яблочным хрустом взорвались над самой головой, взметнулись в вышину, ярко всполыхнув, как флаги. Громов посмотрел на танки, увидел, что у головного из радиаторного жалюзи вытекает жирная чернильная струйка масла, и это почему-то, даже непонятно почему, успокоило его, вселило странную хмельную веселость, он растянул рот в страшной смертной улыбке, спрашивая самого себя:
— Увидят наши сигнал или не увидят? Должны увидеть! И помочь должны!
Не успели ракеты угаснуть, как откуда-то издалека послышался затяжной свист, переходящий в густой вой, потом он исчез, враз сокрытый чем-то плотным, и из-под головного танка с неисправным маслопроводом выхлестнул плоский невысокий столб, танк, приподнятый огромной силой, опрокинулся на бок и заполыхал, как картонный. Громову даже не поверилось, что так скоро может загореться тяжелая стальная машина — гусеницы же, взблескивая, крутились вхолостую, потом внутри рвануло, и, когда густой, с вороньей сизотой дым разверзся, на месте танка догорали покрытые прозрачно-желтыми языками куски металла.
Снаряды рвались один за другим, в их грохоте, вое растворилась высота, исчезло небо, исчезла сама жизнь, исчезло прошлое и настоящее, земля ходила под Громовым ходуном, он что-то бессвязно бормотал, прикусывая язык и плотно сжав веки, потом обхватил лицо ладонями и, теряя сознание, ткнулся головой в горячий земляной накат…
А через полчаса ложбину под высотой уже утюжили не гитлеровские танки, а советские тридцатьчетверки. Громов собрал оставшихся в живых бойцов, обгорелых, с пепельно-серыми лицами, перетянутых наспех бинтами, оглохших; выстроил их, пересчитал. Двадцать один человек — все, что осталось от батальона.
Среди живых не было Сереги Чернышева, снарядный заусенец вошел ему в рот, выбил зубы, проткнул тело насквозь и вышел из ноги у колена, рвано располосовав штанину. Не верилось, что этот человек совсем недавно мог петь, подбадривать людей.
— Ну вот, — сказал Громов сырым голосом. — Теперь мы можем уйти с высоты, товарищи. Право на то имеем.
У деревушки их остановила штабная полуторка, из кузова выпрыгнул офицер, очень похожий на Лоповка, молодой, белобрысый, тонкий, как лоза, протянул Громову бумажный пакет цвета первой, еще не успевшей пожить зелени — трофейный, фрицы яркие цвета любят.
— Это из штабдива…
Громов оторвал боковину конверта, вскрыл его, вытащил тетрадочный листок в клетку.
«Любому оставшемуся в живых командиру. Приказываю похоронить убитых, забрать раненых и отойти в село…» В какое село, Громов уже не дочитал, он всмотрелся в белобрысого, в спокойное розовое лицо, в глаза с веселой хмельниной, разлепил одеревеневшие губы:
— Все понятно. И сделано все… Уже сделано.
Когда полуторка развернулась на кочковатой, обсушенной быстрым солнцем дороге и собралась было проскочить мимо, Громов поднял руку, рубанул ею воздух. Полуторка с визгом затормозила.
— Чего у тебя, лейтенант? — Связной перевесился через борт.
— Просьба у меня, — сказал Громов.
— Выкладывай.
— Если не жалко, дай нам хотя б один диск. А то у нас в автоматах ни патрона. Мало ли что может случиться, пока до места доберемся.
— Усек, — хитровански ухмыльнулся связной, поднял со дна кузова автомат, отщелкнул от ложи диск, — усек, на прием переходить не буду… Держи, борода! А то действительно… Вдруг какой-нибудь ганс с поднятыми лапами подвернется…
Громов чуть не съездил тогда кулаком ему в морду. А ничего не подозревающий связной хлопнул ладонью но кабине, шутливо сморщив лицо, подул на пальцы, и полуторка, отчаянно вихляя простреленным, помятым задом из стороны в сторону, запрыгала по ухабинам плохой дороги. Солдаты Громова построились в колонну и неспешно, устало, как шли и раньше, двинулись на восток.
Все это в считанные секунды пронеслось перед полковником Громовым, пока он с отрешенной задумчивостью в глазах разглядывал Лепехина, его побитое, утомленное лицо в крупных, как оспины, притемненных порах на щеках, старым, уже ссохшимся и увядшим шрамом, косо выползавшим из-под бинта. Да, воспоминания роднили его с Лепехиным.
— Значит, царапнуло не сильно, — медленно проговорил комбриг, сунул руку в карман шинели, вытащил озелененный медный кругляшок со щитом и вензелями, с неровной подписью, пущенной вдоль всего окоема.
— На Урале бывал когда-нибудь, Лепехин? — спросил он, разглядывая кругляш.
— Не бывал, товарищ полковник, — ответил Лепехин. Вскинул руку, прикладывая ее к виску.
— А я бывал… Историческую науку вперед двигал. Видишь, что сегодня нашел? Гербовая бляха, Демидов выпустил в честь своего семидесятипятилетия. Вот тут и надпись есть «гдна дествителнаго статского советника Акинфея Никитича Демидова». Надпись и значок «НЗ»… НЗ — это Невьянский завод… Был такой заводец у Акинфея Никитича. А вот клеймо Демидова, видишь? — полковник указал на тусклые буквы в самом верху кругляша. — «Сибир» написано. Без мягкого знака, латинскими буквами… Любил он это свое «Сибир», папаша Демидов, ох как любил! Есть еще клейма «ИОИЗ» — Ивана Осокина Иргинский завод, или «ИОЮЗ» — Ивана Осокина Юговский завод. Все Урал да Урал… — Он опустил бляху назад в карман, та брякнула о что-то металлическое, похоже, о пистолетные патроны. — Вот так-то мы и встречаемся в войну с довоенными своими занятиями… Встречаемся, и грустно становится.
Из-за угла показался, улыбаясь и почесывая пальцем маленькие густые усики, капитан Лоповок. Легок на помине, подумал Громов. На одно плечо капитана была наброшена длиннополая шинель, щеголеватая, кавалерийская; другое украшала деревяшка негнущегося погона — в погон вогнана фанерная пластина, вот он и напоминал деревяшку. Лоповок приблизился, небрежно оперся рукой о капот «виллиса», комбриг улыбнулся с покровительственным одобрением, втянул ноги в кузовок «виллиса», повернулся к Лоповку, сдвинув фуражку на затылок, спросил:
— Капитан, как считаешь, представим сержанта Лепехина, имя-отчество такие-то, к ордену Отечественной войны? Как?
— Считаю, что да… Товарищ полковник!
— Ну вот, на том и порешим. И еще… — Комбриг глянул на этот раз строго, и Лепехин уловил в глазах его внезапно возникший грозный холодок, но взгляда не отвел. — Чтобы помыться, побриться, привести себя в порядок, даю сутки. Входи в любой дом в этой деревне, просись, как говорится, на постой, а завтра вместе с тыловым хозяйством догонишь бригаду.
— Пойду в дом, где раньше останавливался.
— Тогда лады. — Громов застегнул крючок шинели, бросил водителю: — Трогай!
— Товарищ полковник, разрешите обратиться! — Лепехин вскинул руку к виску, щекотно провел концами ногтей по волосам.
— Что еще, Лепехин?
— Товарищ полковник, разрешите доложить — я не один прорывался в Маковки.
— Не понял… Яснее!
— Со мной сержант еще был. Пехотный… Примкнул по дороге. Старков его фамилия… Андрей Старков, из Москвы. Студентом до войны был… Он погиб, погиб уже у самых Маковок… Старков Андрей, а вот отчества не помню, редкое у него отчество, вот я и забыл.
Полковник помрачнел, по лицу его пробежала тень, он тяжело перекинул на сиденье свое полное тело к Лоповку.
— Капитан! Сержанта Старкова — тоже к Отечественной войне. Посмертно!
— Включить в общий список?
— Нет, отдельно!
Лоповок занес руку, чтобы козырнуть, но шинель поползла у него с плеча, он перегнулся, пальцами дотягиваясь до воротника, пробормотал сдавленно:
— Слушаюсь, товарищ полковник.
«Виллис» тронулся с места, разбрызгивая колесами жидкий, перемешанный с грязью снег; на ходу, неуклюже увязая сапогами в жиже, в машину вспрыгнули два автоматчика из штабной охраны. Полковник, не оборачиваясь, прощально махнул перчаткой, мотор «виллиса» тонко взвыл, и машина, почувствовав под колесами твердину, за что можно зацепиться, рванулась вперед, легко и быстро набирая скорость. Вскоре она исчезла за околицей, круто ускользающей вниз.
— Устал, Лепехин? — спросил Лоповок.
Лепехин молча приложил ладонь, приветствуя капитана, повернулся и, разъезжаясь ногами в талом снегу, пошел к мотоциклу — дырявому, смятому, едва живому отбросу войны.
Сел, качнулся взад-вперед на скрипучем, с оборванными пружинами сиденье, ощупал ладонями посеченное, горячее от солнца железо бензобака, потом уперся каблуком в торчок запуска. Мотор захакал бензиновым смрадом, противясь лепехинскому надоеданию, но, когда Лепехин выжал ручку газа, взревел так густо и грозово, что задрожали, задзенькали зарешеченные с внешней стороны окна склада и к стеклу одного из них приблизилась лобастая, с приплющенным носом физиономия штабного писаря, и рядом с ней заерзал влево-вправо толстый белый кулак.
По колее, пробитой громовским «виллисом», Лепехин вырулил на улицу, где колготились молодые, не отличимые друг от друга пацаны в военной форме, зубастые и голосистые, обрадованно улыбающиеся солнечному дню солдаты пополнения — от одинаковости одежды, от одинакового настроения, одинаково непривычного обостренно-веселого состояния эти парни все до единого были на одно лицо: попроси сейчас запомнить наиболее выдающиеся черты любого из них, а через час выложить памятку на бумагу, Лепехин, ей-богу, не справился бы с этим простым, проще быть не может, заданием.
Он подъехал к хате, где уже останавливался, почувствовал, что во внешности дома что-то изменилось — уютнее и прибраннее стал, а плетень, на котором любила сидеть малахольная курица Мери, в нескольких местах порванный неосторожными танкистами, был поднят, дыры эти залатала заботливая хозяйская рука, для прочности по обе стороны плетня были забиты в землю колья — свежие, недавно оструганные. Над крышей поднимался столб плотного, коричневатого, что бывает, как правило, от шлакового топлива, дыма.
Лепехин оставил мотоцикл у плетня, на нижней ступеньке крыльца обстоятельно вытер, оскоблил ноги о вбитую в деревянную ступеньку скобу, поелозил подошвами по дереву, проверил боковины и задники сапог — не грязные ли, потом поднялся на верхотуру крыльца и стукнул кулаком по дверной ручке. Дверь была обита войлоком, стучать можно было только о дверную ручку. В ответ услышал длинное, певучее, с растянутыми гласными: «Войдите!»
В избе было сумрачно после ослепительного блеска, сияющего за окнами, и тепло-звонко гудела-постанывала печь, в которой горели кизяки, политые керосином. Попав со света в темень, Лепехин не сразу разглядел, что в хате, кроме старичка «дворянина», сухонького, как прошлогодний гриб, с белой, хорошо прочесанной куделью бороды на пропеченном и проветренном до черноты лице и совершенно голым, без единого следа растительности черепом, находится еще молодайка в закатанной до локтей линялой солдатской гимнастерке, рвущейся на груди. «Наверное, та самая, что была на хуторе. Недаром сетовал старик», — подумал Лепехин. Молодайка беззастенчиво оглядела его с головы до ног и прикусила припухлую яркую губу, пытаясь удержать беспричинный смех.
— Здравствуйте, — проговорил озадаченный таким приемом Лепехин.
Старик, видно, не склонный в эту минуту разговаривать, беззвучно кивнул, молодайка как эхо откликнулась:
— Здравствуйте!
— А я опять на постой к вам… На сутки. Можно?
— Значит, пока я на хуторе хлеб-соль добывала, это вы здесь жили? — протянула своим певучим голосом молодайка. — Отчего же? Отчего нельзя? — вдруг зачастила она. — Если не ты, так на постой другие придут. Наше дело такое — только квартирантов меняем да меняем. Вечером ложится спать один, а просыпаешься поутру — глядь, на его месте другой уже ворочается. Так что, — она сделала жест рукой, приглашая Лепехина войти, смело располагаться.
— А я не один… — сказал Лепехин.
— Вдвоем? С другом? Так давай вдвоем. Веселее будет.
— У него мотоциклетка, — подал голос дед. — Мне ровесница. Прошлого века…
— Хоть с мотоциклом, хоть с телегой, хоть с мататой, — расхохоталась молодайка. — С чем хочешь. Все равно можно.
Лепехин, смущаясь молодайки, снял рукавицы и, не найдя, куда положить, приспособил рядом с питьевым ведром, прикрытым мокрой вздувшейся фанерой.
Старик задумчиво следил тусклыми, безразличными глазами за молодайкой. Молодайка, чувствуя на себе этот взгляд, несколько раз недовольно зыркнула в его сторону…
— Все ревнует. К Петьке, мужу моему, ревнует… А где муж-то? — Она всхлипнула коротко, губы ее обметала сетка морщин, а около рта проступили две горькие линии. — Как в сорок первом ушел на войну, так ни слуху ни духу. Ни письма, ни записки. Как в воду канул. Уж и костей, наверное, не найти теперь.
— Может, найдется, — сказал Лепехин. — У нас вон в медсанбате санитарка была, Варя. Ушла на фронт за пропавшего без вести мужа мстить. Муж-то тоже, как и у вас, попрощался в сорок первом и пропал — ни вестей от него, ни весточек. Вот тогда и собралась Варя за своего мужика расплачиваться. А год-то был уже, слава богу, тысяча девятьсот сорок третий. Ну, воевала она нормально, раненых из-под огня человек полтораста вытащила, случалось, и по фрицам стреляла… Месть, она есть месть… А однажды муж среди бела дня заявляется в медсанбат. В офицерских погонах, ордена в два ряда. Оказывается, почти три года провел в тылах, задания специальные выполнял. Вот ведь как бывает.
— Ну с моим такого не случится, — неуверенным голосом проговорила молодайка, — ордена в два ряда… Погоны офицерские… Это дед у нас храбрый, до сих пор молодцом старается выглядеть, а муж-то — простачок. Простачкам всегда на войне плохо, всегда они головы под пули подсовывают.
Она всхлипнула, выхватила из фартучка шелковый, сделанный из парашютного полотна платок, промокнула им слезы, машинально улыбнулась. Улыбка получилась виноватой, растерянной.
— Как зовут-то вас? — Лепехин сбросил с плеч шинель, повесил ее на глубоко вбитый в бревенчатую стену гвоздь-дюймовку, присел на высокий порог.
— Как, как? Раскакался, — неожиданно рассердилась молодайка. — От каканья деньги в кармане перестают водиться. Зинаидой зовут… Проще простого.
Лепехин вытащил из кармана кисет, посмотрел на деда, спрашивая взглядом, будет тот курить или нет, дед, подняв коричневый, прокопченный густым самосадным дымом палец, отрицательно пошевелил им.
— Ой, да у него свой есть. По собственному рецепту изготовленный. — Молодайка засуетилась, спешно двигаясь но горнице от печки к столу, от стола к печке. — Вы ему не предлагайте, других табаков он не признает. Свой да свой…
«Как же, как же… Раньше курил мой, а сейчас не признает? Ну-ну». — Лепехин скрутил «козью ногу», запалил ее, затянулся, стряхнул пепел в большую консервную банку из-под «второго фронта», оставленную связистами.
— А ваше имя-отчество? — спросила молодайка. Приспособив ухват на деревянном катке, она вытаскивала из печного нутра чугунок. — Помоложе не могли прислать? — вдруг произнесла она, отвернув от печного зева лицо и сдувая со вспотевшего лба прядь волос. — Так-то ты симпатичный, а вот насчет возраста начальник твой ошибся. Помоложе мог бы подобрать.
— Иваном меня кличут. — Лепехин загасил «козью ногу», окурок развернул и ссыпал остатки табака назад, в кисет. — Можно без отчества… А вообще-то отчество есть, Сергеевич. Иван Сергеевич.
— Ого! Как у Тургенева. Из каких же краев ты, Иван по отчеству Сергеевич, прилетел-то?
Лепехин помедлил, вдыхая запах варева: суп был овощным, без мяса — мясом тут и не пахло, подумал — надо бы хозяев снабдить мясом. Голодно на Украине после оккупации.
— Из далеких! Ближе до Германии будет, чем до моих краев!
— Ну а все-таки! — Молодайка наконец справилась с чугунком, выкатила его на приступку, закрыла печной лаз заслонкой, тяжелой, склепанной из двух листов и уже прогоревшей в самой середке.
— Из степных краев. А дед что молчит?
— Обиделся. Я самогонки бутылку привезла, он клянчит, а я не разрешаю. Вот и дуется.
— Клянчит, — пробормотал дед. — Вы хотя бы выражения, сударыня, подбирали.
Но молодайка в его сторону даже не взглянула, она повернула к Лепехину красивое лицо с крепким припухлым ртом, в фас лик был скуластым и чуть похожим на монгольский, стоило Зинаиде чуть отвести голову, как упрямая эта скуластость исчезла, осталась нежная притемь-выемка на щеках. Еще глаза у молодайки были хороши — Лепехин это сразу определил, посмотрел в глаза, и в ответ такая глубина из зрачков высверкнула, что ни конца, ни начала, бездонь одна; и еще хорошей задумчивостью обдало Лепехина из Зинаидиных глаз.
— Знаете что, — предложила Зинаида Лепехину. — Я баню истоплю. — В голосе прорезались жалостливые нотки, которые не понравились Лепехину, он не любил, когда его жалели. — Не то вы вон какой… Черный, обшарпанный, будто из горелого танка вынутый…
Лепехин кивнул в знак согласия.
10
Есть ли рай на земле? Есть! Иначе как описать ощущения человека, который несколько дней и ночей провел в холоде, в скитаниях по вражеским тылам, играя в прятки со смертью, а потом, обмерзлый, уставший, грязный, но главное — живой! — вдруг попадает в жаркую, пахнущую хвоей баню, заботливо истопленную женскими руками? На прилавке лежит загодя отпаренный веник, связанный из дубовых веток, стоит ковш с льдистой водой… Об этом и думал Лепехин, когда забрался на полку, и даже зайокал от неожиданного прилива радостных, будто заново приобретенных ощущений, от непривычной легкости собственного тела, вскрикнул благодарно, начал хлестать себя веником наотмашь через плечо, вдоль и поперек быстро краснеющей спины…
А после бани он, окончательно обессиленный, выбритый и освеженный, одетый в новую, бог знает сколько хранимую в вещмешке и ни разу не надеванную гимнастерку, сидел за столом, на котором вкусно дымились щи; на отдельной тарелке лежало тонко нарезанное желтоватое от времени сало из «стратегических» запасов Ганночкина; горкой был разложен на газете хлеб.
— А ты, оказывается, не старый. — Молодайка посмотрела на Лепехина смеющимися хитрыми глазами. — Побрился, помылся, вместо бинта на лоб пластырь прилепил — лет двадцать, а то и весь четвертной с плеч скинул.
— А ты думала!
— Ну расскажи хоть, как воюете?
— Что рассказывать? Воюем как все. Команду «вперед» дают — вперед идем, команду «отступить» дают — и ее выполняем. Опять же, когда приказывают, не сами.
— Да вам волю дай, вы до самого Дальнего Востока отступите.
— Неправда.
Зинаида, перегнувшись через стол, провела ладонью по орденам, привинченным к лепехинской гимнастерке…
— Где наград столько заработал?
— Там, — Лепехин махнул рукой в сторону.
Там — означало на фронте, в боях — получил ордена за атаку под Косым Логом, когда шли на пулеметы с примкнутыми к стволам пустых винтовок штыками; за ночь у деревни Поганцы, когда без единого выстрела брали вражеские траншеи; за «языков», что приводил из вражеского тыла, за многое другое, о чем в двух словах не расскажешь…
— Это орден Красного Знамени, да? — Зинаида щелкнула пальцем по левому краю гимнастерки.
— Он, — неохотно ответил Лепехин.
— И этот тоже?
— И этот.
— Целых два, — Зинаида посмотрела с уважением на ордена.
Деду что-то стало не по себе, он поднялся, пошатнувшись, ухватился рукой за косяк стола, но на ногах удержался, поглядел на Лепехина покрасневшими, ставшими совсем кроличьими глазами, пробурчал что-то невнятное. Лепехин не понял ничего, молодайка разобрала, обронила, также поднимаясь из-за стола:
— Прилечь захотел. Постелить просит.
Она обхватила деда за спину, ловко и бережно повела его в горницу. До Лепехина донесся шелест расправляемой простыни, скрип жесткой кровати, когда дед укладывался, потом протяжное, беспомощное, сонное:
— Сударыня-барыня… Где ж наш Пе-етенька-а?
Зинаида вернулась мрачная и молчаливая, под глазами высветлилась кожа, Лепехин понимал, каково ей, он проникся сочувствием к вдовьему положению.
— Весна скоро, — заговорил он осторожно, однообразным меркнущим голосом. — На носу вон… Люблю, когда деревья распускаются.
— Я тоже люблю, — отозвалась Зинаида.
— Особо по вечерам запах сильнеет — ох! Листки на деревьях, они еще неокрепшие, дышать на них опасно, а запах настолько силен, ну прямо духи. Вон в нашей деревне было, как… прицепщики у нас в доме жили, а они весной до чертиков уставшие бывают, и то приходили со смены и забывали про все на свете, вот. Когда весна-а — влюбляться надо, а не воевать. Знаете, скворцы какие концерты у нас в апреле устраивают? Ого! Пером не опишешь. Как в филармонии. Выйдешь на крыльцо, сядешь на ступеньку, да так истуканом и застынешь. Шелохнуться, ей-богу, боязно — а скворечье, оно такое вытворяет, такое! Птица иль зверь какой — они ближе нас к природе стоят.
— Что говорить, зверь и птица поближе к природе, чем мы, две ноги, две руки, — кротким голосом сказала Зинаида, тут же сменила кротость на упрямство, и в голосе появилась властная настойчивость. — Рассказал бы все-таки о фронте. Как воюете, где и что… Интересно ведь!
Последние слова Зинаиды, ее «интересно ведь» доконали Лепехина. Он поерзал на скамейке, словно под него сунули горячую сковородку — не привык общаться с женским обществом, проговорил тихо:
— Да не умею я рассказывать. Понимаешь, не умею.
— А вологодские у вас были? — спросила Зинаида.
— Были, — ответил Лепехин, вспомнил своего приятеля-вологодца Мишу Бесова, погибшего при переправе через крохотную, в полтора воробьиных скока речушку, когда их полуторка наехала на странную хитроумную мину, закопанную в сыром песке. Все остались целы, лишь Бесов обмяк в кузове и не встал — крохотный, в бусинку, осколок раскровенил ему шею, перебил сонную артерию. Только что Бесов смотрел на речушку, хвастал, какая вода в северных реках сильная и нежная, какие мягкие волосы становятся после купания, а кожа гладкая, и вот…
— Вода в реках со щелоком, — пояснял он.
— Были вологодские, — повторил Лепехин. — У меня даже в приятелях один был, ординарцем у комбата служил. Упрямый парень, если задумает какое дело, исхудает, в кость обратится, но обязательно доведет до конца. А что вологодскими заинтересовались?
— А я ж из вологодских. А здесь, на Украине, замужем.
— Ясно, — кивнул Лепехин.
— Ты откуда призывался?
— Из Адлеровки. Пацаном взяли — сам напросился… Зимой.
— Адлеровка — это что? Город?
— Деревушка.
Есть такая деревушка в степи, среди хлебов и арбузных бахчей. Война началась для Лепехина с безудержного желания попасть на фронт, потому что, как считали он и его приятели-подростки, бои могут кончиться без них; расколотят папаши и старшие братья ворогов и на их долю ничего не оставят.
Осенью немцы подошли к Адлеровке. Собрались колхозники на звон бригадного колокола — враг под носом, уходить надо. Рядили недолго: первым делом нужно разобрать и закопать в землю оставшуюся в колхозе технику; вторым — согнать в гурты скот и увести его на восток.
Со скотом снарядили семерых. Троих — старых и четверых — малых. У старых — опыт, знают белобородые деды, как уберечь скот от напасти и тяжелой дороги, у малых — резвые ноги. Так что из семерых по всем законам арифметики выходило три полноценных пастуха, которым можно было доверить колхозных чернух и буренок. На том и порешили.
Дома наскоро скрутили Лепехину узел, сунули в него полтора десятка праховых яиц — Лепехин признавал только праховые, всмятку, еще положили два пшеничных ситника, в использованный почтовый конверт насыпали соли, на прощание перекрестили размашистым русским крестом — скорее по привычке, чем по вере. Когда же гурт тронулся под лай собак и щелканья кнута деда Никанора, — а дед Никанор был назначен главным пастухом, выскочила соседка, — тоже, как и Зинаида, молодайка, — метнулась к дороге с кульком пахучих деревенских булок:
— Поддымники. Горячие! На всех хватит. Токо-токо испекла…
Хотела еще что-то сказать, но не смогла и опустилась на пыльную обочину.
Вернулся Лепехин в село уже зимой. Адлеровку немцы так и не взяли, распласталась она среди снегов, высохшая, почерневшая, голодная, незнакомая. Что-то произошло с деревенькой, что-то надломилось в ней. Потом он понял, в чем дело: те, кто постарше и посильнее, уже воевали — даже бабы, в том числе и соседка, кто послабее — эвакуировались. Осталась серединка на половинку, самая малость, по пальцам можно пересчитать — вон дым из трубы вьется, значит, в этой избе живут люди; вон вторая труба коптит облака, вой третья… И все. Пальцев одной руки хватит.
Двинулся Лепехин в военкомат пешком. Добрался к вечеру, в прихожей стянул с себя засаленную, пропахшую кострами и землей телогрейку — это у него привычка снимать одежду в прихожей, — сунул ее под табуретку, стоявшую у двери, направился к военкому.
Мужчина с двумя шпалами в петлицах что-то писал стремительным неразборчивым почерком на разлинованном карандашом листке бумаги. Лепехин кашлянул — мол, к вам пришли; военком махнул рукой — подожди, парень! Закончив писать, он оторвался от стола и подозрительно осмотрел Лепехина с головы до ног.
— На фронт, что ли?
— На фронт.
Военком хватанул воздух побелевшими губами и гулко хрястнул кулаком по столу.
Другой бы стушевался, оробел, но… Неудачно шутите, товарищ военком! Лепехин отчеканил три шага вперед и, в свою очередь, изо всей силы опустил кулак на комиссаров стол.
Военком растерянно откинулся на спинку стула, в глазах его Лепехин уловил слабину восхищения — вот зараза!
На следующий день он уже трясся в теплушке, идущей на фронт.
— Что-то я слышала про эту твою Адлеровку, — сказала молодайка, в голосе ее были удивление, сомнение, неуверенность.
— Не знаю. В военных сводках она не фигурировала. По радио о ней тоже не передавали… Ну, хозяюшка, спасибо за все доброе. Надо бы и кемарнуть, а то завтра туда, — Лепехин кивнул в сторону окошка, тоненько тренькавшего под напором грузной ночи.
Зинаида не ответила, она поднялась бесшумно, искоса поглядела на Лепехина. Сержант уловил в бездони ее глаз удивление, дерзость, опасный хмель, впрочем, все это тут же исчезло, утонуло, на плаву осталось лишь сочувствие, которое и женским-то не назовешь, оно скорее материнское или сестринское.
Лепехин тоже встал, почувствовал себя одиноко, потянулся, захрустели кости, зевнул равнодушно, ощущая, как ноют затекшие мускулы.
Украдкой он взглянул на Зинаиду, и вдруг такая тоска, теплая, как перекисшее на печке вино, всколыхнула все его существо и так сильно всколыхнула, что ему захотелось поскорее исчезнуть из этой приветливой, нагретой избы. Он улыбнулся через силу, улыбка получилась усталой и застенчивой, жалкой, в считанные секунды стал сам себе противен. Он не понимал, что с ним происходит. В голову вдруг пришла мысль, что он сровни сейчас подтаявшей на солнце сосульке, когда та, обработанная весенним жаром, вдруг обламывается, отрывается от среза крыши и со стоном ахает о твердый ледяной припай, образованный от ее же капель, разбрызгивается на сотни мелких осколков. Каждый сверкает. Сердце, легкие, ребра подпирала неприятная тяжесть.
И тут вдруг с пугающей отчетливостью Лепехин понял, что он к молодайке неравнодушен и что, если не возьмет сейчас себя в руки, дело кончится… Плохо кончится, может быть, даже очень плохо. Его друзья по разведке влюблялись в каждой деревне, где им доводилось останавливаться, но стоило эту деревеньку покинуть, как они с завидной легкостью забывали об увлечениях. С Лепехиным этого не случалось — к любовным историям он относился неодобрительно, даже презирал сердцеедов — всех этих, будь они неладны, спецов по женским подолам. И вот на тебе! Он попробовал отделаться от слабости, от неловкости, опутавшей его мозг и тело его, но все знакомые приемы здесь не проходили; вид у Лепехина был сейчас незавидно детским, стыдливым — увидь он себя в зеркале, еще больше стушевался бы, возненавидел бы себя…
Мелькнула мысль, что не надо тормозить себя, надо отдаться властному чувству, так ловко коленом припершему его к стенке. Тут же он задал себе вопрос: а что будет потом? Что будет потом, Лепехин не знал. Вначале надо расколошматить гитлеровцев, а там… Слепой сказал: посмотрим.
Он пробормотал глухим, чужим голосом, глядя вбок, в закопченные, старые, изрезанные трещинами бревна стены:
— Я спать пойду.
Зинаида ответила спокойно:
— Иди.
Шаткой походкой он пробрался в закуток, где ему было постелено; стаскивая сапоги, зажмурился, потея от боли — опять начала тревожить нога…
Уже вечером, когда в хате был погашен свет, а на улице стихли привычные звуки тыла, команды старшин и офицеров, разные начальственные окрики, не стало слышно тупого рева «студебеккеров» и натуженного завывания полуторок — доносилась лишь далекая артиллерийская канонада.
Проснулся он от странного ощущения, будто кто-то стоит над ним и внимательно его рассматривает.
Это чувство вызвало у него быстрый и легкий, как полет голубя, испуг. Вот какая удивительная вещь — столько раз сталкивался нос к носу со смертью, ни разу не пугался, а вот здесь возникло давно забытое, оставленное в ушедшем детстве ощущение… Взгляда испугался. Суумсанен говорил, что есть даже рыба, сардина называется, нежная, вкусная, — так вот, эта рыба умирает, если на нее злым взглядом посмотрит человек…
В темноте он разглядел склонившуюся над ним девочку лет десяти-одиннадцати — она стояла тихо, как мышь, не шевелясь и не произнося ни звука.
— Кто ты? — шепотом спросил Лепехин.
— А ты кто? — в свою очередь так же тихо, шепотом, спросила девочка. — Па-па? Да? Папа?
— Наверное, нет. Не папа…
— А-а-а… А я думала, папа приехал. Очень похож.
— Как тебя зовут?
— Марией, — произнесла девочка взросло.
Лепехин вспомнил, что в прошлый раз дед говорил ему о «девице десяти лет Марии», порылся в карманах галифе — он спал, не снимая брюк, по-походному, нашел завернутые в носовой платок полплитки шоколада, мягкого от тепла его тела, отдал девочке.
— Гостинец. От Деда Мороза.
— Разве Дед Мороз сейчас может жить? — шепотом спросила девочка. — Никакой Дед Мороз сейчас жить не может. Уже весна и лужи. Дед Мороз уехал туда, где холодно. А Снегурочка растаяла, я сама видела.
— Не жалко Снегурочку?
— Она к зиме родится снова!
Лепехин услышал, как по полу зашлепали быстрые босые ноги, из темноты возникла Зинаида, взяла девочку за руку, заговорила жарким шепотком:
— Не мешай дяде спать. Что мешаешь? Дядя устал. Пусть выспится. Ему завтра рано вставать. На войну уходить надо.
— А-а, — разочарованно протянула девочка, — дяде надо на войну… Как папе? Да?
И было сокрыто в этих словах также что-то неведомое Лепехину.
Молодайка увела дочь в глубину дома, за ситцевые занавески.
Ночью он еще раз проснулся — почудилось, что кто-то гладит его теплой невесомой рукой по волосам, как когда-то в детстве гладила мать — быстро, нежно, ласково. Он открыл глаза. Никого. И долго еще потом лежал без сна, ожидая, когда же к голове вновь прикоснется невесомая рука…
11
Утром, когда Лепехин с канистрой в руках ходил добывать бензин для мотоцикла, ему повстречался Никита Пивко — штабной повар с пышными, под Буденного, усами; большой специалист по приготовлению флотских щей и телячьих отбивных, настоящий кухонный бог — Пивко мог из простой колодезной воды сотворить харчо с бараниной, а из неприметной серенькой травки, что в изобилии произрастает весной на обочинах дорог, делать настоящий огуречный салат. Полковник Громов за редкое умение повара приставил к нему в помощь трех солдат, которые делали на кухне всю черную работу: таскали воду, кололи дрова, чистили картошку. В отношениях с солдатами Пивко был прижимистым мужиком, и выпросить у него что-либо — дело, надо сказать, почти безнадежное. Но к разведчикам он относился хорошо — впрочем, не только он, весь штаб — не перечить же полковнику, который больше других любил именно разведчиков, выделяя их из всех фронтовых специалистов.
Постояли с Пивко на улице, покурили, поглядывая в безмятежное голубое небо, потом Лепехин, испытующе глядя повару в глаза — иначе не проймешь, — наивно-трогательным, неестественным голосом попросил немного мяса.
— Семья тут одна. Для них, — сказал он. — Баба-солдатка да ребенок. Девочка. Совсем еще маленькая, худенькая… Дунь — упадет. Марией зовут. Да еще дед…
Пивко подумал-помыслил, поковырялся пальцем в голубых усах, кивнул головой:
— Ладно. Шмот дам, так и быть. Из уважения к тебе. Другому бы не дал.
Повернувшись, он неторопливо зашагал по улице — ровно генерал. Лепехин следом. А сзади, шагов пять отступая, мягкими кошачьими шагами следовал освобожденный от черной работы «телохранитель». С автоматом наизготовку.
За крохотным окраинным домиком стояла дымящаяся походная кухня, благоухающая телячьей мякотью, костью, жирным сахарным мозгом, капустой, маслом, томатом, перцем, лавровым листом, корицей, черносливом, морковью, петрушкой, чесноком, луком (хотя ничего этого в котле не было). В поддувале кухни бойко шуровал обугленным поленом маленький, ростом с трехлинейную винтовку, чумазый солдатик.
Пивко подошел к кухне, потрогал ладонью горячий бок, затем нажал на невидную Лепехину кнопочку, и на покатой широкой крышке отскочил плоский, величиной с гривенник клапан-болванчик. Пивко осторожно приблизился к круглому отверстию, из которого тугой струйкой забил пар, распространяя аромат, поерзал носом, вновь даванул пальцем какую-то пружинку, и клапан-болванчик беззвучно улегся на место. Пивко сказал речитативом:
— Го-то-во!
Солдатик подскочил к чану с водой, захватил полный черпак и, приоткрыв на два пальца дверь топки, плеснул в нее воду. В лицо ему шибануло молочное облако пара, но солдатик-храбрец не отшатнулся, успел плеснуть еще один черпак.
— Одно дело сделано, — сказал Пивко, дернул себя за ус, двинулся дальше, к маленькой клетушке, похожей на двухместный переносной сортир; у дверей клетушки стоял не шевелясь рослый парень с автоматом на груди и неформенной шапке из черной цигейки, сдвинув на одно ухо.
— Убери свою сорокапятку. — Пивко взялся рукой за ствол автомата, развернул парня на девяносто градусов, затем, поелозив пальцами в кармане, добыл замысловатый, с четырьмя зубчатыми бородками ключ. Чтобы открыть клетушку, понадобилось минут пять довольно мудреного колдования над замком. В центре клетушки, на утрамбованном до каменной твердости полу стоял массивный чурбак с воткнутым в него топорком, а в углу из-под пятнистого трофейного брезента выглядывали ноги располовиненной воловьей туши. Пивко ухватился за одну ногу, кряхтя, подтащил тушу к себе, прицеливаясь одновременно топорком — в какую бы филейную часть врезаться, что бы такое вкусное отхватить?
Из клетушки Лепехин вышел отяжеленным, крепко зажав под мышкой завернутый в чистую мешковину кусок мяса, карманы бугрились под тяжестью банок «второго фронта».
Зинаида, увидев выложенное на стол богатство, озадаченно всплеснула руками, не понимая поперву, откуда эта куча провизии; когда же поняла, то, покраснев гуще макового цвета, стала выкрикивать звонким рассыпчатым голосом:
— Деда! Деда!
Но дед запропастился, а может, просто пригрелся где-либо на солнце и уснул, разогретый, — не отозвался дед, словом…
— Кстати, где ваша диковинная курица? Эта… С дворянским именем? — спросил Лепехин. Надо сказать, он до сих пор не мог освободиться от сложных ощущений, от неуюта и смятения, творившегося у него в душе, от жжения в горле — и вообще он не мог понять, что с ним происходило вчера и происходит сегодня.
— Мери? — взгрустнув, протянула молодайка, потом, неспешно вскинув руки, провела ребровиной ладони по горлу. — Нету больше куры. Съели.
Через час Лепехин уезжал. Уже стронулось с места и исчезло в голубых мартовских снегах хозяйство кухонного бога Никиты Пивко, ушло следом и шумноголосое, веселое — до первого боя — пополнение, в четыре грузовика уложили свое хозяйство писаря и тоже уехали. Словом, час настал… Лепехин, дважды опробовав мотор своего искалеченного мотоцикла — мотор, несмотря ни на что, все-таки работал, зашел в избу попрощаться. Молодайка сидела на лавке покорная, смирная, как воробей под дождем, — от вчерашней бойкости не осталось и следа.
— Голову тебе не перевязать? Рану можешь застудить, — спросила она.
— Какая там рана… Пустяк! — Лепехин осторожно ощупал рукой тонкую повязку, окольцевавшую голову, бугристость марлевой накладки со стрептоцидом.
— Напиши нам, — попросила молодайка.
Прозвучала в ее голосе униженная стыдливость, растерянность, даже испуг, а одновременно желание продлить знакомство, не ставить точку, отодвинуть момент прощания, было в этом что-то жадное, страстное до одури, любящее, непонятное Лепехину — непонятное и подчиняющее себе, влекущее. У него голову словно туманом забило, но потом прояснело, хотя слова Зинаиды еще не дошли до сознания, остались пока за пределами, но вот немного, еще немного, и они проникли в мозг, стали лепехинской плотью, его сутью, его торжеством, его совестью и болью.
И все равно он не поверил своим ушам — написать? И не поверил бы, если бы молодайка не встала, быстрыми шагами не пересекла комнату, не скрылась бы за занавеской. Обратно она вышла с тонюсенькой ученической тетрадкой, зажатой в обеих руках, молча положила ее на застеленный клеенкой стол. Лепехин раскрыл тетрадку — на первом листе ровными печатаными буквами был написан адрес, заранее написан! Село Словцы, Украинская ССР, прочие почтовые атрибуты…
Лепехин аккуратно вырвал листок, сложил вчетверо, спрятал в карман гимнастерки, на следующем, чистом, написал номер своей полевой почты, имя и фамилию…
12
По многим дорогам прошел Лепехин, не раз фронтовая судьба устраивала ему испытания, не раз он терял товарищей, попадал в тяжелые передряги, однажды даже оказался в окружении. Был ранен в бедро. Осколок, слава богу, кости не зацепил, поэтому, провалявшись три без малого месяца в госпитале, Лепехин вновь вернулся в свою часть. Хотел было попроситься на побывку, хотя бы на неделю, но время было такое, что не до отпусков, война находилась на излете, еще немного — и грянет победа; встретить ее в тылу было бы обидным для Лепехина. Поэтому сержант отказался от побывки. И вот какая вещь — с тех пор как он стал получать письма Зинаиды — цветастенькие аккуратные треугольники без марок, часто ловил себя на мысли, что начал оберегаться — не ленился лишний раз поклониться минному и снарядному визгу, винтовочному щелку, пуле, осколку. Пуля, осколок — они чужие, дуры, они, как известно, не разбирают, поэтому Лепехин не корил себя за излишнюю осторожность.
Письма были разные — и по-хозяйски хлопотные: землю некому обрабатывать, в доме обязательно нужен мужик; и опечаленные: «умер деда», недолго протянул с момента их встречи — всего полгода; и озабоченные: Мария подросла, длиннее всех у себя в классе, этакая каланча вымахала, принесла несколько двоек, но не в этом беда — научилась врать, подтирать резинкой оценки в тетрадках — совсем отбивается от рук дочка, и в семье по этому случаю опять-таки нужен мужчина. Словом, все складывалось к тому — додавить Гитлера в его логове да прибиваться к дому…
Однажды, уже весной сорок пятого, когда подступали к Берлину, Лепехину после боя принесли знакомый нарядный треугольник. Одна лишь Зинаида умела так тонко, броско и со вкусом оформить письмо — сколько писем ни приходило к разведчикам, Лепехин ни разу еще не видел, чтобы они имели такую веселую наружность.
Только что взяли хутор со звучным названием Мессенгоф, хутор как картинка, аккуратный, маленький — десять чистеньких домов с бетонированными хлевами, глубокими подвалами, в которых были установлены бочки с вином; обшитые досками закрома переполнены хлебом — тяжелым тугим зерном, которое в этих краях явно не родится — хлеб был вывезен с Украины.
Капитан Лоповок сидел на перевернутом снарядном ящике и, сдавленно мыча, тетешкал раненую руку, — когда немцы контратаковали и пытались возвратить Мессенгоф, капитан поднял разведчиков. Схлестнулись врукопашную, стенка на стенку, и в этой схватке Лоповку прострелил руку молоденький, видно, последнего набора унтер. Унтера прикончил Лепехин, а Лоповка выдернули из кровавой гущи, из сопенья, мата, редких выстрелов, топота сапог, хрипов и аханья, завели в первый попавшийся дом, оказавшийся пустым, и наскоро перевязали. Вдали горело двухэтажное жилое здание — верхний этаж полыхал тревожным красным заревом, время от времени там что-то взрывалось, и тогда из окон плоскими рваными снопами вылетало пламя. Несколько человек, пользуясь передышкой, стащили гитлеровские трупы в воронку и теперь поспешно закапывали ее. Наконец появился санинструктор — пожилой молчаливый человек с помятым щекастым лицом и споротыми с плеч погонами. Лоповок, перестав стонать, начал развязывать зубами узел бинта.
Лепехин распечатал треугольник, поднес письмо близко к глазам, стараясь в тусклых отблесках пожара не пропустить ни одной строчки.
«Здравствуйте, дорогой товарищ сержант Иван Сергеевич! С поклоном к вам Зинаида Григорьевна Коротенко и ее дочь Мария. Думала, думала я, написать вам это письмо или не написать, и решила, что лучше будет, если я все-таки напишу вам. Очень нужен мне ваш красноармейский, товарищеский совет, а то я не знаю, как поступить. Дело в том, что в нашу деревню после ранения прибыл лейтенант Первого Белорусского фронта тов. Бурыкин. Приехал не то чтобы на временный постой, а, судя по всему, уже навсегда, так как после ранения у него одна нога короче другой, а с такой заметной инвалидностью на фронт уже не берут. С семьей у него тоже произошло несчастье: жена была расстреляна немецко-гитлеровскими оккупантами в городе Калинине в зиму 1941‑го года, а дочь неизвестно где, до сих пор найти не может, и один бог знает, жива она сейчас или не жива.
Так вот, дорогой товарищ сержант Иван Сергеевич, обращаюсь я к вам за советом — как быть? Тов. Бурыкин предлагает выйти за него замуж, т. е. соединить наши жизни…»
Заканчивалось письмо фразой «Как скажете, дорогой товарищ сержант Иван Сергеевич, так и поступлю».
Застонал Лоповок — санитар накрепко стягивал ему руку повязкой, и капитан кусал от боли губы. Потом два разведчика подняли его и повели в медсанбат. Лепехин проводил, вернулся, опустился на снарядный ящик, на котором только что сидел раненый Лоповок. Еще раз поднес к глазам листок бумаги. «Тов. Бурыкин предлагает выйти за него замуж, т. е. соединить наши жизни». Он пошевелил губами, перечитал фразу еще раз и еще, словно хотел запомнить, надолго отпечатать в мозгу. «Надо же, замуж!» — шевельнулось у него внутри что-то недоброе, тяжелое, бессильное. Он словно бы раздвоился сейчас, отодвинулся от самого себя и с холодной тщательностью рассматривал со стороны. Но эта посторонность, раздвоение длилось недолго, ему вдруг сделалось жутко, он понял, что этой жизненной напасти он ничего не может противопоставить. И, осознав это до конца, Лепехин сжал руками голову: будто враз обессилев, ощутил, что у него в считанные секунды опустошилась душа, из нее, будто вода из аквариума, вытекло все живое; почувствовал тяжесть, холодно и тупо легшую на сердце, и зажмурился, выдавливая из глаз крохотные слезины, они, освинцовевшие, выкатывались на щеки, ползли и справа и слева к подбородку.
Он еще раз взглянул на листок письма, обвел глазами слова, полные для него разгромного смысла, совсем не обращая внимания на последнюю фразу, где Зинаида писала: «Как скажете, дорогой товарищ сержант Иван Сергеевич, так и поступлю». Он страдал, мучился, как грешник на огне, от собственного бессилия, от тупой невзнузданной ярости, от тоски, полой и продолжительной, — да, от уже начавшейся тоски, хотя и знал, что настоящая тоска придет позже, когда отправится в путь-дорогу письмо с ответом.
Ответ мог быть только один, другого просто не существовало для Лепехина — Зинаиде надо было выходить за раненого лейтенанта; он вдруг подумал, что небось ходит этот Бурыкин по Словцам надраенный и торжественный, словно крейсер на параде, блистает орденами и нашивками, клюшечкой помахивает, девчат очаровывает, госпитальный сердцеед… Да, ответ мог быть только один; Лепехин с телескопической ясностью, увеличенной в несколько раз, увидел вдруг Зинаиду — женщину в обелесенной солдатской гимнастерке, туго обхватывающей грудь, с полными губами, нежными, в редком соблазнительном пушке щеками, с высоким милым и строгим лбом, в глазах играют, ходят взад-вперед добрые смешливые блестины; он зажмурился, прогоняя видение, и Зинаида исчезла, оставив свой запах и след. Когда открыл глаза, то перед ним был все тот же чертов Мессенгоф; двухэтажный жиловик уже догорел, и в нем ничто больше не рвалось, в леске, начинавшемся в полукилометре от хутора, редко и незлобно постреливали.
Лепехин покривил губы — Зинаида принадлежала ко времени, ушедшему, чтобы не возвратиться. Прекрасному и горькому времени. Это истина, а истину надо принимать, какой бы нежеланной она ни была.
Он провел рукой по воздуху, не видя ничего; со стороны этот жест не казался странным, в нем была обыденность, полная бытового смысла, будто Лепехин хотел собрать пороховую сизь в ладонь, счистить ее с воздуха, твердого, осязаемого, материального.
— Ладно, — сказал он тускло. — Схороним что было. Ничего не было… Выходи замуж!
Вот и вся история.
Хотя нет, не вся… Уже в сорок шестом, весной, демобилизовавшись, сержант Лепехин возвращался из Германии к себе на родину. По пути, как это часто бывает, случилась задержка, сейчас уже трудно вспомнить, что было тому причиной — то ли Лепехин сам пожелал, то ли железнодорожные неурядицы помогли, а может, и то и другое, вместе взятое, — в общем очутился Лепехин в знакомом украинском селе, быстро нашел нужный домик, подивился перемене — Зинаидины хоромы были свежепобеленными, с новой, собранной из толстощепленного теса крышей, а вокруг посверкивала гладко обструганными колышками изгородь, поставленная вместо плетня. В палисаднике цвела обильная пахучая сирень, розово-фиолетовая, дурманящая; от крупных, плотно сбитых гроздей веяло теплом и жизнью, еще за изгородью буйно зеленел огород, морковка, огурцы, свекла так и перли из земли, грядки даже трещали, яблоньки были побелены и вкопаны — чувствовалось, что в хозяйстве есть мужская рука. У калитки, словно дожидаясь кого, стояла красавица девчонка, очень отдаленно напоминавшая ту, виденную два года назад. Длинноногая, невозмутимая, с оттянутыми к скулам глазами, с трогательным овалом лица, нереальная и прекрасная в своей юности. «Вот подарок какому-то парню растет, — подумал Лепехин. — Не жена будет, а богиня. Неужто это Зинаидина Мария, Маша?» Ему захотелось постоять отрешенно и посмотреть на девчонку, как на некое произведение искусства, со стороны, как, к примеру, смотрят на русские иконы в церквах, на богинь, чьи дивные изображения он уже видел в Германии.
— Здравствуйте, — тихо произнесла девчонка. — А я ваше имя-отчество знаю.
— Ну? — очнулся Лепехин, повел головой, враз поверя девчоночьей серьезности, ее рано созревшей ладности, сообразительности, идущей не от интуиции, а от верткого напористого ума.
— Как у великого русского писателя имя-отчество. А вот фамилия у вас смешная. Ле-пе-хин, — протянула она нараспев. — Что-то такое… Знаете… От коровьего котяха… Ох, простите меня, пожалуйста, — попросила она, увидев, что темнолицый, пахнущий пылью и паровозным маслом сержант вдруг поугрюмел лицом, а в глазах у него появилось отражение туч.
— Где же мама? Где Зинаида Григорьевна? — спросил Лепехин.
— Мама? — тихо переспросила Маша, посмотрела себе под ноги. Она была обута в тапки-коты с давлеными задниками. Очертила носком тапки кружок, обувка свалилась у нее с ноги, обнажив длинную узкую ступню с белыми, тонко просвечивающими пальцами. — Мама проводником на пассажирский поезд устроилась работать. Сейчас в рейсе.
— А-а… — Лепехин умолк, потом пожевал губами и, глядя в сторону, на зады огорода, выговорил: — А папа?
— Папа? — Маша дернула плечиком, и Лепехин невольно посмотрел на широкие, выпукло обтянуты загорелой кожицей ключицы. — Папа, он на работе. На станции.
Лепехин вздохнул долго и протяжно, провел ладонью по груди, отозвавшейся бодрым звяком орденов и медалей, одолевая чувство тревоги, душности, подступившей к горлу. Он надеялся, он все-таки надеялся услышать, что папы в этом доме нет и не было, и втайне верил, что так оно и есть, но услышал другое. Машины слова вызвали в нем боль, слезы, растерянность, он невольно искал в эту минуту спасения, а спасения не было.
Пауза затягивалась, Лепехин это понимал, надо было что-то делать, но он с пустотой и жжением, наполнившими все его естество, не мог даже сдвинуться с места.
— Проходьте в хату, — издалека донесся до него Машин голос. — Молоком могу угостить. Квас еще есть. А если хотите поплотнее, то надо время, чтоб сготовить…
— Нет, — неловко пробормотал Лепехин. — У меня поезд. — Он сглотнул что-то твердое, пыльное, забившее ему горло; казнящее чувство не проходило, оно, упрямое, больно-сладкое, и не думало отступать.
— Тогда что ж…
— Прощай. — Лепехин взялся за ручку фибрового трофейного чемодана и, не оглядываясь, чувствуя, что Маша смотрит вслед, двинулся вдоль единственной деревенской улицы, из каждого палисадника полыхающей сиреневым цветом. Он шел ровными широкими шагами и боялся сейчас одного — боялся зацепить носком сапога за камень, боялся сбиться, споткнуться, боялся, что этот спотык остановит его, вернет и мученья тогда продолжатся… Нет, нет и нет! Спотыканье ведь плохая примета, верно? — задал он себе наивный вопрос. Воспоминания одно за одним возникали в его воспалившемся мозгу — вот отчетливо возникло перед ним длинное поле с куржавистым от ветра снегом, насмешливое лицо Андрея Старкова, ночь, испещренная синими и красными трассерами, дымными хвостами ракет. Как давно все это было… Резь вспорола его сердце, он покачнулся, и земля под ним качнулась, но устоял — лишь упрямо наклонил голову и прижал подбородок к груди, уколовшись о холодок орденов, потом, смежив веки, побрел дальше вслепую.
Когда открыл глаза, увидел перед собою дорогу, ярко высвеченную солнцем, пустынную и пыльную, с ветлами и серебристым от пыли кустарником на обочинах. И вела эта дорога далеко-далеко… И не было в ней места воспоминаниям, он выжег их из себя, не зная еще, что прошлое имеет свойство возвращаться. В тех же воспоминаниях.


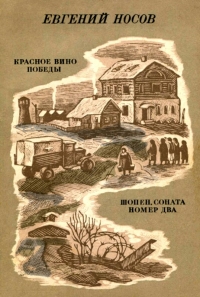
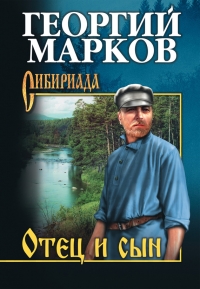
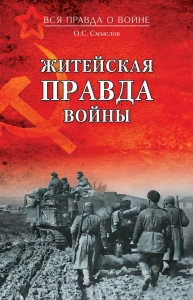




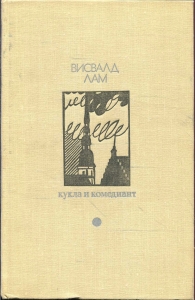


Комментарии к книге «За год до победы», Валерий Дмитриевич Поволяев
Всего 0 комментариев