Глава первая
ПРЕДСКАЗАНИЕ ПРОРИЦАТЕЛЯ, ИЛИ О ЧЕМ ДУМАЛ КАНЦЛЕР ГЕРМАНИИ В НОЧЬ НА 22 ИЮНЯ 1941 ГОДА, ИГРАЯ ЛЮБИМОГО ВАГНЕРА?
I
В ночь на 22 июня 1941 года канцлер Германии Адольф Гитлер находился в загородной резиденции в Берхтесгадене. И долго, задумчиво играл на рояле любимого Вагнера. Он был не один. Его окружали генералы и фельдмаршалы в военных мундирах, убранных золотом, министры в строгих цивильных костюмах и их жены, одетые роскошно и со вкусом, прикрыв обнаженные плечи мехами. У входа величественно и неслышно прохаживались его телохранители Ульрих Граф и Христиан Вебер, личный адъютант штандартенфюрер СС Рихард Шульце. Вдоль стен замкнутым квадратом замерли изваянием рослые охранники из лейб-штандарта «Адольф Гитлер». Стояли они в черных парадных мундирах СС, широко расставив ноги, скрестив на груди руки, гордые, непреклонные, неся во взгляде холодную жестокость, надменность и непобедимость. Они – как сошли на землю по воле самого бога войны Ареса. Все почтительно, в благоговейном молчании слушали музыку нибелунгов.
Вождь германской нации играл совершенные произведения великого композитора – «Золото Рейна», «Валькирию», «Парсифаль». Играл искусно, исступленно, весь отдавшись музыке. Он сидел во фраке на мягком стуле, горделиво вскинув голову, отстранившись от рояля, как от пламени костра. Лицо было строгим. Глаза горели безумным огнем, черная косая челка свесилась на взмокший лоб, холеные, быстро бегающие пальцы, едва прикоснувшись к клавишам, повелительно взметывались ввысь, словно прикасались к раскаленным угольям, обжигались, слышали боль. В святейшей тишине музыка нибелунгов гремела, как окаянная. Билась о белые мраморные колонны, о стены, отделанные черным резным камнем, уносилась в распахнутое окно – в безмолвие и беспредельность гор, увенчанных девственно чистым снегом, в изумительно привольные долины с густыми, певучими травами, в таинство леса, украшенного серебром луны, как одетого в рыцарские доспехи. Играя, он никого не замечал. Жил в себе. Наедине со своими думами. Маршевая, воинственная музыка возбуждала нервы, будила сладостное ощущение силы, величие духа, приобщала к бессмертию. В эту ночь он был наравне с Богом. И ощущал себя властелином мира. Такая царственность чувств еще не посещала его.
Но вряд ли высшие чины третьего рейха, те, кто находился в салоне замка, даже отдаленно могли представить себе, о чем думал фюрер, играя классическую музыку Рихарда Вагнера. Он испытывал горчайшую тревожность и рассогласованность с собою и миром. И пытался восстановить гармонию в душе. Но необъятная тайная скорбь неотвратимо мучила его, несла и несла отчаяние и печаль. Величайший астролог двадцатого века, гордость Германии, седовласый мудрец Ханну-сен предсказал ему гибель, если он начнет войну с Россией.
Такое необычное пророчество оскорбило фюрера. И потрясло. Потрясение было равно громопадению Вселенной. Он не мог принять его правду, свою гибель. Он считал себя посланцем Бога, высшим, надзвездным, совершенством человека. Кладбищенская тишина, могильные венки, скорбный плач женщин-печальниц, вечный мрак и пустота не должны коснуться его. Он из вечности. Сама вечность. Ему подвластны мировой дух, бесконечность Вселенной, бесконечность сердца. Как может обычный землянин, человек-жрец, чья жизнь мгновение, проникнуть в тайну его жизни, его смерти? Его мировой необъятности?! Он усомнился в его ясновидении. Но снять тревожность не удавалось. Дух его жил в рабстве страдания, в рабстве страха. И вождь нации, играя Вагнера, в который раз мысленно возвращался к первой встрече с мудрым провидцем Ханнусеном, желая спасти гибнущую душу, разрушенный мир чувств, вернуть изощренный, провидческий ум, полученный от дьявола, тоже оказавшийся в смятении.
Она произошла в старинном двухэтажном особняке на набережной Королевы Августы. Фюрер явился тайно, в сопровождении телохранителя Ульриха Графа и хауптштурмфюрера СС Альфреда Науйокса, знающего все закоулки Берлина, известного палача-гестаповца из управления государственной тайной полиции Ренголь-да Гейдриха на Принц Альбрехтштрассе.
─ Я начинаю битву за мировое господство,– прямо произнес вождь нации.– И хотел бы узнать о своей судьбе. Вы готовы предсказать ее?
Заглянув в книгу черной магии, задумчиво полистав ее, посмотрев в телескоп на звезды, мудрый Ханнусен отказался быть предсказателем его жизни и смерти.
─ Мой фюрер,– уклончиво и вежливо произнес он.– Вы окружили себя гадалками и прорицателями, блаженными и чудотворцами. У вас есть свои Сивиллы Дельфийские. Не много ли чести для скромного ясновидящего стать пророком жизни гения?
Но фюрер настоял.
─ Мне нужна правда.
─ Правда? Какая? – оттягивал время прорицатель.
─ Сколько мне осталось жить? Как умру? Сам по себе? Или буду убит? Сумею ли овладеть миром? Мои придворные пророки говорят о благоприятном расположении звезд. Но я мучим сомнениями! Не простое любопытство привело к вам, а боль и молитвенный страх за судьбу Германии.
Таинственным взмахом руки Ханнусен зажег свечи. Бросил в кипящую чашу в форме паука зелье. И стал вызывать духов, шептать заклинание. Затем поднес пламя к иконе с распятым Христом, под которой сидел вождь нации. Золото иконостаса померкло.
─ Вас ждет насильственная смерть, мой фюрер, если вы начнете войну с Россией, – не стал уклоняться от правды мудрец.
Предсказание оскорбило канцлера. Он был поклонником учения геополитика Гаустофера о переселении душ. Верил в фатальность судьбы, черную магию. Сам общался с мировым духом. И мог мысленно бродить в царстве мертвых, как Данте, о чем поэт средневековья засвидетельствовал в «Божественной комедии». Но все земное и неземное ─ для простого смертного. Он единственность, из бессмертия. Разве может его коснуться тлен?
Сдерживая гнев, он спросил:
─ Я не ослышался, господин Ханнусен? Меня ожидает гибель и забвение, если я поведу своих крестоносцев на великую битву с Россией за мировое господство?
─ Правда, которая печалит, не повторяется,– мудро заметил прорицатель.
Высокий гость мрачно помолчал.
─ Могу я избежать ее?
─ Гибель?
─ Битву? И обмануть судьбу?
─ Нет, мой фюрер. Не победив страну варваров, вам не стать властелином мира. Рано или поздно вы начнете крестовый поход на Восток. Войны не избежать, как не избежать смерти. Россия – ваш рок. Гитлер зловеще улыбнулся.
─ Я вижу, ты смел и правдив. Казнь на гильотине не страшит тебя. Надо полагать, ты предвидишь свою судьбу. Твой дар ясновидца достоин похвалы. Но раз ты сумел проникнуть в тайну моей жизни и смерти, то скажи, когда я начну войну с Россией?
─ На два дня раньше Наполеона.
─ Именно? – попросил уточнить великий германец.
─ 22 июня, мой фюрер. Такое же расположение звезд легло и у великого Нострадамуса. С этого времени и начнется роковой отсчет вашей гибели.
─ Когда он закончится?
─ На пятьдесят седьмом году вашего земного пребывания.
─ Но разве не в моей власти изменить срок нападения на страну варваров? И разладить во Вселенной ход и исход моей жизни и смерти?
─ Ваша власть безгранична, мой фюрер. Вам покорится Европа. Благословит на бессмертие История. Достань вам времени, вы покорили бы Вселенную. Ваш гений велик и безмерен. Но войну с Россией вы начнете так, как указано в небесных святцах.
─ Моя судьба предсказана высшими силами?
─ Да, мой фюрер. Целомудренно счастливы те, кто не верит в судьбу. Но в мире не существует ничего случайного. Все наши жизни вписаны в мировое пространство. Мы – люди земли, те же звезды Вселенной, только ожившие. У каждого свой удел, свой срок сгорания. Мы – единственность, но все связаны с мировым духом. Безусловно, одиноко живущим трудно представить, что все земляне имеют свою небесную родословную. Можно ли знать по отдельности миллиарды душ? Человек – загадка, жизнь его – мгновение во времени и пространстве. Но это так! Мы все живем по законам высшего миропорядка. И то, что должно случиться, то случится. Как бы человек ни пытался обмануть судьбу, предсказанную ему небесными богами.
Выслушав, Гитлер не сдержался в гневе:
─Ты лжешь, прорицатель! Никто не может знать мой последний час. Я недоступен мысли землянина. Я – мессия! Сын Бога и неба. Я сошел на землю, как Христос – спасти от распада немецкую нацию, мировую цивилизацию. Я пришел из бессмертия. И уйду в бессмертие. Мой дух вознесен в таинство Вселенной. Как можешь ты, простой смертный, предсказывать мою жизнь и мою гибель?
─Вашу судьбу предсказали звезды, мой фюрер. Я только прочитал их расположение,– смиренно отозвался прорицатель.– Еще вы желали узнать, как умрете? От пули, от бомбы, на гильотине? Вашей могилою станет пламя костра. Вы сгорите в огне. И душа ваша устремится искрою в небо. Но не достигнет его ледяных вершин, истает у земли.
─ Надеюсь, я возгорю от небесного огня, от молнии? – проявил любопытство ночной гость.
─ От земного. Огниво принесут славяне-руссы.
Новое пророчество ввергло великого германца в истерику. Есть ли что оскорбительнее для человека-Бога, властелина мира, чем умереть в пламени костра, который разожгут извечные враги Германии славяне-руссы? Такое даже представить немыслимо. Он разразился злобными ругательствами, назвал прорицателя опасным заговорщиком, изгоем и предателем нации. И повелел без промедления отправить его к президенту народного трибунала генералу СС Роланду Фрейслеру. И казнить на гильотине.
Страдальца тут же заковали в цепи и на бронированном автомобиле доставили в тюрьме Бранденбург. Вернувшись в свои роскошные покои в замок в Оберзальцбурге, владыка судеб, так и не остыл от гнева и оскорбления, и нашел, что мгновенная гибель для лживого гадателя будет, ─ слишком роскошная смерть. И велел не расстреливать прорицателя-правдолюбца, а выслать в особый лагерь СС в Эстервальде; пусть поживет, убедится, что вождь Германии вечен!. Но до лагеря смерти бесстрашный прорицатель не доехал. Вельможный гестаповец Альфред Науйокс не сумел пережить нанесенное фюреру оскорбление, и в таинстве повелел его застрелить. И он был на этапе застрелен патриотом.
II
Прошло время. Гитлер уже стал забывать о предсказании. Но, подписав 18 декабря 1940 года план «Барбаросса», нечаянно обратил внимание на то, что начинает войну с Россией именно 22 июня 1941 года, на два дня раньше Наполеона! Как раз в то время, которое было предсказано вещим мудрецом. Такое совпадение удивило его. Он в тревоге подумал: случайное? Роковое?
Его охватил мистический страх.
Неужели прав предсказатель?
Самое необъяснимое, странное в загадочной истории, которое не объять, не осмыслить даже умом гения – он несколько раз переносил сроки нападения на страну варваров. Первоначально властью диктатора повелел разгромить ее осенью 1940 года. Но с гордым бесстрашием возразил начальник штаба верховного главнокомандования фельдмаршал Вильгельм Кейтель, сумев убедить: к осени вооруженные силы Германии не будут подготовлены для нанесения внезапного и победного удара. Гитлер закатил генералам истерику, обвинил в тугодумстве и лености. Но, излившись в гневе, признал крамольные доводы неоспоримыми. И перенес время вторжения на 12 марта 1941 года. На этот раз возразил фельдмаршал Браухич, главнокомандующий сухопутными войсками: «Мой фюрер, в распутицу русские дороги поглотят не только танки Гудериана, Гота, но и всю Германию». Пришлось разъяренному фюреру снова вложить меч в ножны. И объявить крестовый поход на славянское государство на 14 мая, затем на 15 июня. В результате случилось то, что случилось. Он начал войну с Россией 22 июня 1941 года, как и предсказывал великий прорицатель.
РАЗДУМЬЕ О ЖИЗНИ И ВЕЧНОСТИ
Предчувствие смерти овладело Гитлером всерьез. Тревожные раздумья были мучительны. Неужели и правда его судьба вписана в небесные святцы? И его жизнь во власти высших сил? Цицерон в трактате «О судьбе» писал: человек зависит от судьбы, но только в земном измерении. Небесные боги лишены роковой, фатальной силы. Никто не может знать о последнем мгновении человека, зверя, птицы. Знание сделало бы жизнь на земле кошмаром! Фюреру очень хотелось верить в правду великого римлянина!
Но предсказание сбывалось!
Немыслимо!
Необъяснимо!
Неужели и правда он ступил на крестный и жертвенный путь своей гибели?
III
Кончив играть Вагнера, Гитлер, как заправский пианист, устало, безвольно опустил бело-женственные руки. И стал отрешенно смотреть в пространство, в вечность.
─ Вы играли божественно, мой фюрер,– сладкоречиво произнес тучный, но подвижный Геринг в белоснежном парадном мундире маршала авиации.– Все верноподданные восхищены вашим талантом. Гением Вагнера! Слушая его музыку, воочию видишь и великого Ницше, и его героя Зигфрида из «Песни о нибелунгах», кующего меч для врагов, и императора Священной Римской империи Генриха Шестого, отправляющего полки на завоевание славянских земель. И то, как вы под разудалую и сладостную песнь колоколов достойно въезжаете на белом коне героем-победоносцем в поверженную Москву и торжественно извещаете: Россия разгромлена. Мы – владыки мира, господа!
Фюрер медленно закрыл крышку рояля. Он был тих и задумчив. Лицо хранило небесную строгость. В облике жило величие. Казалось, лесть не коснулась его. Но вот голубоватые немигающие глаза, отливающие свинцом, взметнулись на Геринга, осветились улыбкою. Он смущенно похлопал его по плечу, обвел рассеянным, благодарным взглядом окружение. И неспешно прошел к камину, погладил бюст Бисмарка. Ночь была теплая. Жарко горели свечи. Но он слышал в себе оледенелость. И зябко протянул руки к огню. Присев на корточки, долго всматривался в багровое пламя, в котором, по предсказанию, ему предстояло сгореть. Он даже в мучительном ужасе неотвязно ощутил, как непорочно красивый, стихийно-загадочный огонь жгуче и страшно выплясывает в его самозваной гробнице, пожирая одежды, тело, мозг. И снова непрошенно зашла, забилась печалью тревога. Неужели и правда его могилою будет пламя из костра? И огниво принесут русичи? И он бесследно, бесславно исчезнет с земли, так и не заполучив вожделенной короны властелина мира? Страшно! Окаянство печали. Неужели боги не знают: умрет он – умрет Германия! Надо же было ему, земному богу, идти к прорицателю, забираться в небо, в звезды. Но больше – в таинство своей судьбы. В земной юдоли не может быть миропорядка. Каждый живет равнодушно-бессмысленно. И умирает в одиночку. Сам по себе. Без правды воскресения и предсказания. Стоит ли мучить, печалить себя, расстраивать безысходностью? Пророчество – тоже суть бессмыслицы.
От лукавого!
Еще раз успокоив себя, Гитлер отошел к высокому венецианскому окну. Приближался тот самый рассвет, которого он ждал всю жизнь и которого теперь боялся сильнее смерти. Солнце еще не взошло, но изумительно дивная и свежая заря уже благословила розовым светом вершины гор, половодье тумана над озером, разбудила спящих лебедей. Часы в салоне замка пробили два удара! В России было четыре утра. Спокойные удары прозвучали как гром пушек. Все гости в мгновение всколыхнулись, ожили, как расколдовались. И в таинстве, в напряжении замерли. Наступила строгая, величественная тишина. Каждый знал: началась битва с варварскою Россией. И по-своему переживал историческое время.
Вождь нации тоже испытывал волнение; его мысль жила напряжением. Он посмотрел на часы, подождал, пока истает мелодия национального гимна, когда железный рыцарь в одежде паладина, поиграв мечом, спрячет его в ножны и сам скроется в овальном окошечке, неожиданно громко произнес:
─ Повторим вслед за Ницше: «Бог умер!»
Геринг расхохотался.
─ Мой фюрер, вы имеете в виду Сталина или Черчилля?
─ Себя, ─ загадочно вымолвил он; смысл сказанного был ясен только ему одному. Видя печально-мудрую озабоченность маршала, вальяжно потрепал его по щеке.– Что делать, мой Герман? Все великие венценосцы приносили себя в жертву народу.
Хозяин замка любезно пригласил гостей к банкетному столу. С изысканно вежливою готовностью засуетились церемониймейстер с золотою цепью на черном фраке, лакеи в расшитых золотом ливреях и белых перчатках стали подавать на подносах со свастикою вина, горячие закуски.
Выждав, когда все рассядутся, фюрер поправил галстук с партийным значком, взял бокал шампанского.
─ Господа! Только что мои войска перешли границу варварской России. Я вверил судьбу Германии, свою судьбу великому немецкому солдату. Война началась самая жестокая, кровопролитная за всю историю человечества, какою не виделась даже ее идеологам Мольтке и Клаузевицу. Мне не столько важно разгромить русское государство и взять Москву, сколько уничтожить славянские народы.
Восточные славяне – низшая раса. Они лишены чувства чести и достоинства, гордой любви к Отечеству и свободе, исповедуют покорность и смирение, нищенскую жизнь. Утрачена незыблемая святость устоев семьи. Сын предает отца, брат убивает брата, мать отрекается от сына, кого гонят в кандалах на Лубянку, на Соловки. Эту расу безжалостно убивал Иван Грозный, в ком текла мистическая кровь великого монгола Чингисхана; эту расу, сколько желает, убивает сын сапожника из Грузии, кремлевский диктатор Иосиф Сталин. И что нация? Защищает себя? Свою жизнь? Свое достоинство? Рукоплещет убийце! Разве это народ? Разве он имеет право на существование?
Славянская раса на пути вырождения. Своим разложением она несет гибель немецкому народу. Разве мы не вправе защитить себя? Я – мессия, я пришел на землю, подобно Христу, спасти от распада Германию! Кто может оспорить мое право уничтожить двадцать миллионов славян? Тридцать? Сто миллионов? И я уничтожу! – возвысил голос до истерики Гитлер.– Я спасу свой народ. И вознесу его. Он станет властелином мира.
Но прежде я завоюю безбрежные славянские земли, о чем вожделенно мечтал еще в тюрьме в Баварии, в крепости Ландсберг, когда писал «Майн Кампф». Меня отчаянно и безмерно мучила несправедливость: почему лучший народ обречен ютиться на убогом островке земли, а откровенная низшая раса владеет бесконечными пространствами? Благо бы умели управлять ими. Не умеют! Живут, как плебеи, как скот в хлеву. Ни красивых городов, ни дворцов, ни дорог. И вечно нищенствуют! Спрашивается, зачем неполноценной расе такие пространства, да еще с сокровищами нефти, золота, леса, птицы и зверя? Было же, когда тысячу лет назад измученная смутами Русь, пригласила варяжского князя Рюрика править ими. Мы, немцы, создали им государственность! Но русская раса не оправдала себя! Самим провидением я призван истребить ее, восстановить историческую справедливость.
Гитлер все больше взвинчивал себя.
─ Отвоевав безбрежные славянские просторы, я создам на Востоке новую нордическую империю, которая по красоте и величию далеко обойдет Священную Римскую империю! Вокруг городов-замков выстрою сады-деревни, соединю летящими зеркальными дорогами. Немцы будут жить в роскошных имениях. Славян мы обратим в рабов, в илотов. Они будут строить для господ Города солнца, пахать землю. Кто не будет представлять ценности, уничтожим на Урале в новом Освенциме. Славяне размножаются, как черви в навозной куче. Мы лишим их материнского зачатия. И со временем русская нация, беспутная, чуждая миру, изживет себя. Но семьи пока сохраним. Пусть размножаются. Молодые рабы нужны. Но жить будут за колючею проволокою, в землянках или в хлеву с хозяйскою скотиною. Они животные, им все едино. За половую связь с немкою вешать немедленно. В случае бунта, убивать без жалости. Я веду битву ─ расовую! Идея о равной ценности людей – лжива и губительна! Она заполонила мир низшими расами, разложила и уничтожила классические государства Вавилон, Египет, Грецию, Рим. Это звери! Их надо убивать без милосердия! Я уничтожу славян на века! Я подарю немецкому народу Восток. И сделаю его господином мира! С нами Бог! ─ он небрежно вскинул ладонь к плечу.
Высшие чины третьего рейха безоглядно верили в гений фюрера, в победу. Восток непременно будет германскою Ривьерою, заселен немцами, и они на тысячи лет, под нацистским знаменем со свастикою, будут владыками мира!
Все приглашенные на банкет, едва фюрер завершил речь, молниеносно вскочили, словно взметенные бурею, выбросили правую руку вперед, истерично троекратно прокричали:
─ Зиг хайль!
─ Зиг хайль!
─ Зиг хайль!
И сладкая музыка эта еще долго билась в каждом ликующем сердце немца-господина, в радости разбивалась о мраморные стены роскошного замка в Берхтесгадене.
Глава вторая
ИЗ ВЕКА В ВЕК УХОДИЛА РУСЬ НА ПОЛЕ СЕЧИ, НО НЕ ПОГИБЛА ОТ МЕЧА. ВЫЖИЛА ДЛЯ БЕССМЕРТИЯ. В ЧЕМ ЕЕ ТАЙНА?
I
Александр Башкин, сын пахаря Ивана Васильевича и столбовой крестьянки Марии Михайловны, что жил на Руси в деревне Пряхина на реке Мордвес, как раз и был тот славянин, кому по замыслу фюрера Германии Адольфа Гитлера предстояло быть уничтоженным в лагере смерти на Урале.
Естественно, повели бы безвинно по горестно-скорбной земле на гибель, с петлею на шее, не только его, повели бы и мать Марию Михайловну, братьев Ивана, Алексея, сестер Евдокию, Нину, Прасковью, Аннушку, зачинателя пахарского рода, деда Михаила Захаровича. Все бы в одно роковое утро, как печальники-жертвенники, по воле гестаповца, вошли бы живыми людьми в огненную печь крематория, а вылетели из трубы искрами пламени, черным дымом. И устремились бы в бездонность неба. Прощально покружились бы над оскорбленною русскою землею, и безыменно бы опали погасшими искрами на заснеженные просторы ─ остывшею болью и скорбью.
В лучшем случае Александра могли оставить рабом, заковать в кандалы и заставить работать на немецком поле под грозные окрика надсмотрщика, оскорбительные удары бича. И он бы гнул спину на чужеземного барина, оглашал плененную Русскую Землю вечно печальным звоном цепей, бурлацкою песнею, зажав в сердце крики боли и стона. Или бы убил господина и себя, не приняв оскорбительную правду раба.
Так было бы!
Восточные славяне не вписывались в германский миропорядок в Европе. Каждому Русскому Человеку предстояло быть рабом, без молитвы и покаяния! Каждому Русскому Человеку выпадал по судьбе терновый венец безвинного мученика, где своя милая, родная Русская Земля становилась Голгофою, гибелью на все времена!
Дальше для славян все кончалось. Страшная гибель ожидала Русь святую!
II
В ту самую горестную и тревожную ночь на 22 июня 1941 года над деревнею Пряхина вознеслась сильная гроза. Черные тучи сплошь закрыли небо, молнии, как дикие, немыслимые чудища, грозно озаряли мир, раскатистые грома, зловеще рушили небеса. Ветер мятежно, со стоном раскачивал деревья, рвал железо на крыше домов, с разбойничьим свистом взметывал на реке Мордвес крутые волны и с диким воем разбивал о мрачность скалистого берега. Мария Михайловна, проснувшись, уже не могла уснуть. Вслушиваясь в разгул стихии, в пугающе раскаты грома, она невольно испытывала тревожность за сына Александра. Почему, отозваться себе не могла! Но мучил страх за сына, и мучил! Мало ли гроз гуляло над Русью? И все обходилось, не чернела душа в горько-смутной тревоге, а тут мысли, как сорвались на пиршество печали. Гроза несла и несла гибель ее сыну Александру.
Женщина поняла, не будет дальше покоя, пока не истает грозовой ливень, и не упадет последняя дождинка с ветки березы на землю. Она поднялась с постели, накинула ситцевое старомодное платье. И тихо пошла в угол к иконам, где светилась горящая лампада, кротко высвечивая лики святых. Она молилась долго, строгая и задумчивая, и все просила у Бога разогнать страх перед жизнью, ибо сама была бессильна его укротить.
Иван недовольно отодвинул штору на печке, беззлобно произнес:
─ Спала бы, мать. Все встаешь и встаешь, и молишься! Скоро весь дом разбудишь.
─ Не спится, Ванюшка, ─ смиренно наложила крестное знамение Мария Михайловна. ─ Досель невиданная гроза гуляет! Тучи зашли гробовые. Громы тревожные, сабельные. И молнии долго не гаснут, пожарищем озаряют небо. Над Русью взошла беда, сынок! И та беда, ─ как Божья кара! Тоскою и несказанным плачем отзовется та кара в русском сердце.
─ Ты, мать, злая пророчица Кассандра. Одни беды пророчествуешь. Спи! С переутомления твои тревожности. Сколько вчера сена накосили, в семь изб.
Мария Михайловна неожиданно прильнула к окну, иссекаемому молниями, сильным ливнем:
─ Посмотри, Ванюшка, живо посмотри, огненный крест стоит над рекою. До неба крест! Весь из себя грозный, багровый. И непорочно, как перст Божий, отражается в кровавой реке. Разве может быть ночью багровая вода?
Иван неохотно отбросил ситцевое одеяло, неспешно подошел к окну, и долго всматривался в ночную тьму. Земля и небо как обезумели; сплошным водопадом ниспадал с неба ливень, цепко впиваясь в гуляющие ветви берез, в сенные стога, в бунтующие волны реки. Молнии высвечивали колодезный журавель. Ветер с веселою одержимостью расшатывал бадью, как играл, забавлялся. В открытую форточку с огорода приятно пахнуло полынью. На островке, на лугу пасся одиноко стреноженный конь. Он изредка ржал, потрясал мокрою от дождя головою, звенел бубенчиками на шее, как бы жаловался судьбе, прислушивался, услышит ли хозяин его печали? Но никто не шел, и он, постояв в задумчивости, с привычною смиренностью склонялся к траве. Жизнь в деревне была, как была! Загадочного огненного креста в реке, с кроваво-багровыми отсветами, Иван так и не увидел! Хотя до боли вглядывался в тоскующую и плачущую ночь, какая пугала огненными молниями, гневными раскатами грома.
─ Не зришь, что ли? ─ нетерпеливо спросила Мария Михайловна, посмотрев на сына. ─ Чего молчком живешь?
─ Было знамение, мать. Стоял крест! Да не успел я его разглядеть. В грозе исчез, в свете молнии; скорее, боги вознесли обратно в небо, ─ слукавил Иван, не желая огорчать матерь Человеческую.
Мария Михайловна робко взглянула в окно. Крест и в самом деле исчез. Вода на реке была сплошь черная, еле видимая. Но крутые грозные волны все бушевали в тревожности. И так же обреченно гибли, разбиваясь о берег. И молнии сверкали так, словно огненный дракон пытался выпрыгнуть из черных туч на русскую землю, сжечь ее, обратить в пепелище. Матерь, похоже, одна осмысливала грозу, какая несла почему смерть ее сыновьям.
─Думаешь, война начнется? ─ прямо спросил Иван, угадав ее мрачные мысли. ─ О том мужики на каждом потолкуе судачат.
─ Уже вошла вражья рать на Русь, сын мой, ─ строго произнесла женщина, перекрестившись. ─ Не случаен крест. Видела его, Христом заверяю, видела. Его ангелы-хранители Руси на землю опустили, дабы известить за страшную опасность. Завтра сам осмыслишь, когда начнет гулять с косою злодейка-странница, выстукивая посохом жадно на погосте могилы отцов, дико ворочая камни, освобождая место для новых могил. Все устрашатся ее, и молодой богатырь, и седовласый старец, и безвинные бабы. Заголосит деревня, исплачется слезами. И нашу избу беда не обойдет, смертями заглянет. Чувствую; я всю землю сердцем чувствую, когда на Руси горе, когда гусельная радость. Не слышал, как иволги на березе, скрытые ветвями, свистели-стонали? Как скотина кричала в овине, билась рогами о бревна стен? Полагаешь, с чего я так расслабилась? Смерть вашу чувствую. Смерть! Всех троих война заберет: тебя, Шурку, Алексея! Как мне одною жить?
Иван не выдержал, крепко обнял ее:
─ Не то говоришь, мать. Не от разума. Конечно, война окаянность. Но ежели германец зашел, то кому защищать дом, семью, могилу отца Ивана Васильевича на кладбище в Стомне, тебя, драгоценную, деревню, нашу Русь? И почему ты уже троим, выстраиваешь саркофаг на поле битвы? Каждого там убивают? Иди, спи, ─ он ласково пригладил ее седеющие волосы. ─ Спи без тревоги, ты добрая женщина. Бог не оставит тебя в сиротстве! Жди от сыновей радости, а не гибели. И довольно! Шурку разбудим, ему по заре за плугом ходить. Шурка пахарь. Зачем ему смерть? Добром помяни его житие! Ты же заживо на погост свела! По-матерински?
─ Убедил, сын, ─ покорно отозвалась Мария Михайловна.
─ Иди, спи. И не вини, что разбудила.
Иван по любви прижал к себе матерь и ловко вспрыгнул на печку, где вволю разместил себя на теплом, каменном лежбище.
Матерь подошла к скромному иконостасу, зажгла кадильницу; ледяная таинственная нервность, какая мучила всю ночь, отступила, но мысли-горевестницы еще тревожили. Особенно тревожили за непутевого Шурку. Грешно судить, но младший ─ разумом и душою, святая непорочная чистота! Стоит огненному дракону спрыгнуть с небес, из черных туч, на благословенную Русь, в мгновение изловит вороного коня на выгоне и помчит на ратное поле, бросит себя в пламя! И бросит с обнаженным мечом в самую плоть безумицы-битвы!
Кто его спасет?
Только Господь, и он спасет его, зная его честь, его праведность, его любовь к Отечеству! Помолившись Богу, она даже услышала Его вселенскую милость и заступничество, Его волю и спасение, и невольно, во благо, ощутила в душе смирение, ласковое оттепление. Безумствующие стоны отчаяния за каждого сына улеглись, усмирились. Можно было ложиться спать; гроза уже не страшила ее. Но сон не шел.
Мария Михайловна присела на сундук, поправила босою ногою вздернутый половик и долго сидела так, просто, без смысла, наслаждаясь покоем, воскресшим чудесным сиянием в душе. С иконы светло и благословенно смотрел Христос. На божнице горела малиновая лампада, радуя пламенем, красотою и уютом. Все несло надежду, умиротворение.
Она расстегнула пуговицы на старомодном коричневом платье. Легла в постель. Но лучше бы не ложилась. Снова пришло видение, наполнив ее ужасом, тоскующим стоном! Из грозовой, черной тучи на деревню Пряхине, надменно и обреченно, слетела лютая стрела-молния, с ликом Чингисхана. Подожгла ее. Русь тревожно забила в колокола. В неуемной печали заголосили бабы. Пожар в мгновение сжег ночь, обратил в траур, с цепкою, ужасною гибелью пошел гулять по земле. Ее Шурка, ее любимый сын Шурка, с ружьем через плечо, без ее благословения, шел один, суровый и непреклонный, призрачный, как привидение, сквозь безумие огня, горящие избы, слегка отклонившись от жаркого пламени. Шел в огнепад молний, в самый неумолимый ливень, в самую бездонность неба. И там исчезал, где мчались конники, обнажив сабли.
Матерь в страхе еще успела крикнуть:
─ Сын, остановись! Как без благословения матери идти на битву, где безнаказанно убивают?
Крикнула по молитве, по печали, по трауру, крикнула во всю неодолимую силу, во всю землю. Но не услышала себя. И сын ее не услышал. Мать обняла подушку и горько, страшно заплакала, не скрывая безумной жалости к сыну.
Проклиная его непослушность.
Его жертвенную обреченность.
Его смерть.
И одинаково свою.
Ее причитания, ее тихие горестные слезы обжигали печалью. Иван не выдержал, снова сел на печке.
─ Мать, ты чего зашлась? Прекращай, ─ нежно, но настойчиво попросил он. ─ Шурка спит, как праведник, а ты его все хоронишь и хоронишь.
─Замолчь, басурман, умом непролазный, ─ в строгом гневе потребовала женщина. ─ Не с тобою говорю, с Богом! Война громыхает. Не слышишь? И Шурка завтрева уйдет! В пожар и бездонность неба. И ты следом! Каждого из вас закрутит смерч-буря! Для смерти я вас растила? Не жалко мне вас? Когда я так слезами исходила? И что я могу перед бедою? Только поплакать! И с Господом поговорить. Вдруг и услышит мои слезы, скорбную молитву? Сбережет жизни, ваше солнечное свечение. На войне, в злой, роковой бессмыслице, вас, россиян, тьма и тьма поляжет, без исповеди, без целования креста, без прощального траурного плача женщин-горевестниц, а вы вернетесь. Через молитву и мое страдание! Почему и веду разговор с Богом за вас и за Русь. И замолчь, строптивец, не тревожь больше осудом!
Матерь Человеческая умолкла. В избе повисла тишина, строгая, молитвенная, суеверная. Гроза как приблизилась. Стало невыносимо страшно слышать, как без милости, с лютым, неугомонным насилием хлестал и хлестал ливень по гулким окнам, по крыше с острым верхом, как стонала изба, и как пронзительно, истерично, по-звериному выл ветер, наполняя Человеческую Соборность на Руси смертельною тоскою, правдою отчаяния.
Как только гроза стихала, становилось слышно, как в безмолвии отстукивали время часы-ходики. Часы были навешаны над лубочным ковриком с белыми, плавающими в пруду лебедями, с гордо выгнутыми шеями. Ветвистые белоснежные березки склонялись к красавицам в поклоне. Все было чарующе озарено пламенем закатного солнца.
На деревне голосисто пропели петухи.
Непорочный огонек в малиновой лампаде стал сильнее метаться в страхе.
По Руси шел первый день войны.
III
Проснувшись, Александр никого не застал. Мария Михайловна, несмотря на бессонную ночь, уже истопила печь, приготовила завтрак. На кухне приятно пахло свежеиспеченным ржаным хлебом, жареною картошкою, топленым молоком. Полы чисто вымыты, выскоблены. Стол накрыт скатертью с русскою вышивкою. Высился и сиял медью пузатый самовар, вычищенный, как учила бабушка Арина, ягодами бузины. В короне его уютно разместился заварной чайник, весело разрисованный петушками; от него исходил густой и пряный запах распаренных листьев смородины. Рядом лежала записка, написанная торопливою рукою матери. Она писала: «Милый сынок, будить к заутрене не стали, земля мокрая, пахать рано. Ешь картошку с мясом, она в чугунке. В печи – молоко и пироги с вареньем. Я с дочурками пасу коров. На закате солнца все соберемся. Корм для скотины я замесила. Ни о чем себя не тревожь, копи силы для поездки на учение в Тулу». Записка была необычная. Невольно тревожила волнение. В каждом слове затаенно и гибельно слышался крик материнской любви! И крик траура с погоста! Словно она по молитве, от Бога, увидела его смерть, его могилу, услышав в грозу печальные крики птиц в поднебесье, птиц-горевестниц. Странно, странно! Откуда с такою невыразимою болью разбудилась ее тоска о сыне? Откуда могла возникнуть такая нежность и такая ласковость в ее записке? И такая обреченность? Он любит мать, чувствует каждое движение ее сердца, ее ревнивую, требовательную и жертвенную любовь.
Но теперь откуда все?
Покушав, юноша вышел на крыльцо. И долго любовался земною красотою. Дождик еще разбрасывал жемчужную россыпь. Ветер, нагулявшись вволю за ночь, был ленив и неусерден, с трудом растаскивал громаду туч, но вдали уже голубело небо. Лучи солнца светло и радостно освещали дочиста вымытые верхо-острые крыши домов, помолодевшую землю, необозримые поля с зеленым разливом колосьев, бегущую речку, по берегам которой росли грустные, молчаливые ивы, живые, веселые березы, а на взгорье неунывающие, гордые неиссякаемою любовью к жизни – царица-крапива, крепыши-лопухи, по-петушиному задиристый репейник. Сколько их не выкашивала звонкая коса, не вымораживала зима, они, едва растает снег, схлынет половодьем, вновь, требовательно, поднимаются по взгорьям рощицами.
В бурьяне пела овсянка. Не во славу ли их завидного жизнелюбия?
Жизнь после грозы преображалась. Над рекою поднялась радуга. И весь мир царственно покрасивел. Дождь, солнце, радуга в одночасье ─ классическое творение природы. Лучше ею ничего не создано. Эта чарующая, заманчивая, целомудренная власть красоты будет мучить человеческое сердце вечно. В небе зависли жаворонки, закружились с переливчатым свистом стрижи, то игриво взвиваясь к облакам, то пугающе низко припадая к земле. Над полем цепко парил ястреб-конюк, высматривая храброго зайчонка, покинувшего лес поживиться плодами колосьев.
Из вдовьей избы вышла красавица Анюта в ситцевом платье, красной косынке, с достоинством спустилась к реке, неся на коромысле ведра-кадушки с выстиранным бельем. Ступив на камень, подоткнула подол, соблазнительно обнажила полные ноги, стала наотмашь, как играя, бить вальком по расстеленной полотняной простыне.
Земля нагрелась, и с луга пряно пахло медуницею, медовым сеном, с огорода ветер доносил горьковатый запах полыни и конопли.
Александр, вволю насмотревшись, присел на крылечко. Как все же прекрасен мир, если научился любить его, чувствовать красоту. Она и в радуге, и в капле дождя, что по печали опадает с куста малины, и в колосе ржи, и в летящей паутине, и даже в единственно солнечной соломинке из стога. Прикоснешься сердцем, и сладко-сладко тревожится в тебе человеческое.
Юноша жил в дарованном мире красоты. И даже отдаленно не мог представить себе, что по Его Земле уже катила в диком, варварском безумии колесница бога войны Ареса, где в страшном-престрашном разгуле рвали «мессершмиты-крестоносцы» на траурные ленты голубое небо Руси! В разрыве бомб, дыму гибли города в пожарище, благословенные поля с рожью, где колосья мучительно и безвинно изгибались в прощальном поклоне в подбегающем пламени, кровью окрашивались реки, а над исконною, праведною Русью в страшной траурной печали до неба стоял надрывный плач женщин и детей, кого убивали и гнали в рабство!
Еще мгновение и заплачет вдова среди русского поля, одетая во все черное, вся поседевшая за одну горькую ночь.
Еще мгновение и с горем, невыносимою тоскою сползет по косяку двери в крестьянской избе Матерь Человеческая ─ с похоронкою в руке, последнею весточкою от сына.
Черная рать Адольфа Гитлера неумолимо шла завоевателем по славянской земле, засучив рукава, прижав к животу автоматы, безжалостно сея вокруг смерть, и пьяно-безумными голосами распевали песню Хорста Весселя. Смысл ее был по-разбойничьи прост и варварски гениален: убей славянина, он низшая раса, мы господа мира! Нет прекраснее зрелища, как видеть врага с мечом в сердце, его глаза, наполненные слезами и как безудержно, радостно льется кровь из его растревоженных ран.
Истребляй, истребляй славянскую расу!
Мы есть безжалостные потомки гуннов царя Аттилы, рыцарей-крестоносцев германского императора Священной Римской империи! Мы пришли не только завоевать славянские земли, мы пришли убивать, убивать!
Вся эта суровая правда еще не раз в печали отревожит сердце
славянина-русса Александра Башкина.
IV
Трава еще не просохла, косить было рано, и Александр достал из отцовского ящика шило, суровые нитки, застывшую смолу и стал с усердием сапожника чинить латаные-перелатаные ботинки, какие развалились, а надо было ехать на семинар в Тулу. Работая, слушал, как сладостно пересвистываются иволги, спрятанные в листьях березы. Изредка посматривал, как важно разгуливал петух, распустив роскошно-малиновый хвост; отыскав зерно или удачно изловив червя, кто не ко времени выглянул с любопытством в мир, гостеприимно сзывал на пир свой гарем ─ неотразимо суетливых, быстрых на бег кур.
Юноша нечаянно залюбовался, увидев, как со стороны Дьяконова по старинному большаку, горделиво и осанисто неслись вороные, запряженные в дрожки; их сильно раскачивало, вышибало из колеи, опасно заносило на каждом повороте, и чуть было не опрокидывало в поле, где колосились овсы. Но хозяин все гнал и гнал лошадей, ударяя кнутом, взнуздывая вожжами. Юноша встревожился: «Не пожар ли где? Так только от несчастья мчат!»
У избы, где жили Башкины, дрожки остановились. С кожаного сиденья легко спрыгнул Михаил Осипович Доронин, председатель соседнего колхоза, друг отца и семьи. С лица суховатый, стройный, всегда одетый чисто и опрятно, собранный, он вызывал невольное уважение. Но на этот раз был необыкновенно встревожен.
Торопливо поздоровавшись за руку, спросил:
─ Мать дома?
─ На пастбище, коров пасет.
─ Пусть вечером придет в клуб. Надо сообща погутарить о сдаче излишков хлеба и мяса. Война, Шура. Война! В двенадцать часов будут передавать по радио правительственное сообщение. Выступит Молотов. ─ Глаза его стали печальными. ─ Как узнал, смертельная тоска взяла. Даже выпил. От века не пил, и не сдержался. Обожгло ощущение: призовут. И погибну! Не себя жалко. Жену Евдокию. И дочь Капитолину. Чего ей? Тринадцать лет! Как станут жить, получив похоронку?
Он неожиданно, с тоскою ударил ладонью о ладонь, и повел хоровод около жердяной изгороди, разгоняя неисправимо суетливых кур, грузно гуляющих уток, разбрызгивая хромовыми сапогами дождевые лужицы, подминая лопухи и крапиву с ожерельями росы. От его пляски веяло страхом, жутью. Словно он на осиротевшей земле один на один с Вечностью последним из землян отплясывал танец смерти.
С подсвистом вывел:
Эх, Москва, моя Москва,
золотые маковки.
Покатилась голова
коршунам на лакомки.
Девочку Капиталину юноша знал, она водила дружбу с его сестрами Ниною и Аннушкою, и часто являлась в гости. Он любил ее. Ее лик принцессы-россиянки он пронесет через все битвы. Вернувшись, назовет ее женою.
В двенадцать часов дня 22 июня вся деревня собралась у радио. Вместе со всеми, внимательно и с тревогою слушал Александр Башкин чеканные слова Вячеслава Михайловича Молотова. Он строго и с печалью говорил о вероломном нападении немецко-фашистских войск на Советский Союз, гневно осуждал Гитлера, призвал народ к единству, без промедления вступать в смертельную схватку с врагом.
Известие потрясло Александра. Войну ждали, чувствовали исподволь. Суровыми и собранными ходили пряхинские мужики. Молчаливо доставали вышитые кисеты с крутым самосадом, в раздумье закручивали цигарки, сладостно затягивались, тревожно начинали обсуждать житие-бытие.
─ Как думаешь, Елизарыч, зайдет немец?
─ Летось заявится, ─ без задумки отвечал самый мудрый мужик на деревне Илья Елизарович Меньшиков.– Земля наша привечает, неслыханные богатства. Немец и империю создал для разбоя. Как не порадует? Святотатственно живет, без Христа! Александр, сын Ярослава Мудрого, свирепо побил рогатого крестоносца на Чудском озере за Русь! Долго Гансы раны зализывали. Похоже, отлежались. Зазвенели мечами! Пока чудище рогатиною не придавишь, немец долго будет ходить на Русь, лить кровь, сеять смерть.
Мужики задумчиво, по скорби раскуривали цигарки. Тревогою горели маленькие костерки в ночи.
Реже на деревне стали гулять свадьбы, и еще реже с забубенною веселостью разъезжали по дворам хмельные сваты. Россиянки, собираясь соборно на девичники, перестали петь удалые песни. Кажется, не так звонко и удало играла по вечерам в березовой рощице у реки тульская гармонь Алексея Рогалина, хотя нарядные девицы-красавицы и забойные вдовы танцевали кадриль и русского с прежним задором, весело размахивая косынками, громко и пронзительно пели частушки.
Но отчаяние жило.
Жило ожидание грозы. И все же война пришла неожиданно и словно рассекла отлаженную жизнь надвое ударом меча!
Мир добра и красоты опал.
Земля качнулась.
Что делать, как быть, Александр Башкин уже знал. Конечно, он должен быть на острие, на разломе. А где еще? Только там, где бомбят его русские города, льется кровь, где по его земле грохочут гусеницами танки с черными крестами, щедро раздаривая россиянам страдание и смерть, превращая пашни и пахаря в могильные камни, где плач и горестный стон женщин стоят в печали до неба. Где же еще? Разве есть выбор? Но возьмут ли? Он еще молод. Восемнадцать лет. Возраст непризывной. Значит, он пойдет добровольцем!
В избе было душно. Он выключил радио и вышел в сад, прошел напрямую по зеленой конопле, которая обдала его горьковато-пряным запахом, к любимой яблоне в дальнем углу у жердяной ограды. И прислонился к ее ветвям лицом, стремясь унять жестокие стуки сердца, до боли горящие щеки. Рядом взбалмошно закудахтала курица, испуганно выбежав из кустов малины, взлетела на жердь, спрыгнула и понеслась, раскидывая крылья, по околице на большак. Но Александр уже ничего не слышал вокруг. Он жил войною, своими мыслями. И, прежде всего, подумал о матери. Только теперь он в полной мере осознал, насколько она мудра, насколько чутко ее сердце, осознал ее боль и тревогу, ее затаенный мученический крик к сыну. Она первая, если не в России, то в Пряхине своим провидческим зрением увидела огненно-грозовое таинство, идущее, крутящееся в диком, гибельном вихре на краю Русской земли, и поняла: началась война. Война – это смерть. Это бесконечные могилы с крестами, звездами на острие надгробий и обелисков и просто безо всего. И сын ее, будет ли убит на безумно-жестокой битве, будет ли оскорблен смертью или не будет, но сердце матери само по себе вздрогнуло в страхе, наполнилось тоскою и страданием. Отсюда она услышала стоны птиц, испуганно взлетающих в поднебесье из горящей ржи с обгоревшими крыльями, от гнезд детей, раздавленных гусеницами танков. Отсюда в ее записке, оставленной на столе, и была слышна ее затаенная, мучительная любовь к сыну.
Разлука может согнуть ее.
Тоска убить.
Как же быть, мама?
Пошлешь ли сына на смерть, на битву с врагом, что посягнул на Русь святую? Станешь ли упорствовать, если сам проявит желание идти на фронт, не дожидаясь своего времени? Наверное, пошлет! Мать строга, но справедлива. Повелительно несет в себе совесть и разумность. За ум ее зовут Марфа Посадница. Матерь не может не осмыслить: кто еще отправится защищать Русскую землю, если не ее сын? Только он, Александр! Его друг Леонид Ульянов, его приятели Сережа Елизаров, Михаил Меньшиков, Николай Копылов. Те, кто по чести любят Отечество, свою землю, саму жизнь.
Прощаясь, она прошепчет молитву. И с чистым, гордым сердцем, с непорочно-светлыми надеждами, как матерь России, благословит его на битву, осенив крестным знамением. Но как потом сама? Не упадет ли распятьем на землю от разрыва сердца? Не обратится ли в черную птицу, сгорев, без воскресения, от небесного огня, зажав в себе и мучительный крик, и мучительный стон в страдании по сыну? Не опечалит ли своею смертью его и русскую землю? Не окажется ли у могилы раньше, чем он?
Мать велика в печали, в жертвенной красоте души. В своей обреченности. Ее жертвенная, целомудренная тоска по сыну беспредельна, не поддается осмыслению. И может вознести матерь на погост, на Голгофу.
Он, несомненно, несомненно, не осмелится бросить вызов матери, не осмелится, без ее благословения, разогнать краснозвездную тачанку на фронт! Он, несомненно, не Пилат матери! И не сможет быть Пилатом! Даже по мысли, по чувству, даже в таинстве! Он и матерь это едино. Он очень любит матерь Человеческую.
Но и сама Мария Михайловна не даст себя в обиду! Она строга, повелительно строга, если насилуют ее волю, разрушают отлаженный миропорядок в душе. Земля есть молитва дисциплине! И жизнь, и человек есть тоже молитва дисциплине! Только суетность живет в Короне Сатаны, где может рухнуть все, и даже Отечество, и даже мироздание, обольстись ее свободою! То есть, моли, не моли, а стоит сыну сбежать добровольцем, на ратное поле, и не надо размышлять, ─ в мгновение матерь отречется от сына! В мгновение изгонит из сердца, отчего дома! Она все может! Она Матерь Человеческая! И любит Александра! Любовь и ненависть ─ до смерти неразлучные родные сестры.
И в то же время, как оставить Россию в беде? В тоске и боли надорвется сердце!
Но как разлуку обернуть в добро?
Печаль в радость?
Как, прощаясь, оградить мать от страха и горя?
Не принести гибельную боль?
Расставание может быть последним. Не на праздник Ивана Купала отправляется с девушками за околицу, жечь костры, где по реке Мордвес поплывут, покачиваясь на волне, ромашковые венки любви, в поиске жениха, а отправляется на битву, под пули, под венки скорби, какие могут положить на его братскую могилу.
Как быть? Скажите, Люди?
Александр слышал в себе Россию, ее печаль, ее горе, ее боль, ее смерть.
Александр слышал в себе и матерь Человеческую. Ее боль. Ее страдание. Ее смерть.
Пришла ночь. Но и ночью не было покоя. Бесконечно тревожили мучительные раздумья6 писать заявление в военкомат, дабы отправили добровольцем на фронт? Или обождать? Оставить мать сиротою? С бедою наедине? Без правды его возвращения? В петле отчаяния? Или не оставить? Разрывать родственную связь? Или дождаться благословения?
Он не выдержал, поднялся с постели и стал в раздумье ходить по горнице, боясь наступить на скрипучую половицу. Иван отодвинул занавеску на печи, с раздражением выговорил:
─ Не дом, а замок с бродячими призраками! Вчерась мать всю ночь ходила, молилась, спать не давала, теперь Шурка. Очумели вы? Я на вырубке горбатился, дров три воза доставил! Имею я право отдохнуть?
─ Замолчи, басурман! ─ повелительно остановила его Мария Михайловна. ─ Не видишь, мучается человек? Каждым нервом! Развоевался, воевода.
Александр не пожелал слушать перебранку, вышел на крыльцо. И прикрыл ладонями лицо; было горько.
В избе возникла тишина. В темноте, в свете одинокой свечи она казалась пугающе таинственною, бесконечно тревожною.
Мария Михайловна первою вскрыла свою скорбь:
─ Шурка завтрева на фронт уходит.
─ Какой ему фронт? Одумайся! Он еще годами не вызрел.
─ Он сердцем вызрел. И любит Отечество. Не возьмут, сам сбежит. Никого не послушает. Он бунтарь чище, чем ты. И упрямства не занимать. Упрям, как святой старец Аввакум. Слышал про такого мученика за веру? Нет? Значимо, не надо, раз Господь знанием не сподобил.
Матерь накинула на плечи жакетку и вышла через узкие сени на крыльцо к сыну. Поежившись от прохлады, тихо спросила:
─ Ну, говори, о чем печалишься, почему не спишь?
─ Не спится, мама, ─ уклонился от правды Александр.
─ Почему не спится? ─ потребовала ее обнажить Мария Михайловна.
─ Душно в избе.
Мать внимательно посмотрела:
─ Смерти ищешь?
─ С чего взяла?
─ По глазам вижу. Глаза у тебя добрые и умные, как у отца. И одинаково стыдливые, когда лгут.
─ Война опустилась саваном, мама. Враг топчет мою Русь. Вижу кресты и кресты. Вот и не спится,– честно признался сын.
─ Ближе к правде, Шура, ─ задумчиво покивала головою женщина. ─ О фронте думаешь? Своеручно к погибели себя хочешь приговорить?
─ Почему к погибели?
─ Знаю, что судачу! Не перечь, ─ в гневе потребовала матерь. ─ Оставь свои задумки. Уйдешь раньше времени, добровольцем, сразит пуля. Я вижу! Я через время твою жизнь и смерть вижу! Через тьму и пространство! Я вижу ту пулю в огненном зареве, какое ласкает небо, ─ и как летит и как сразит тебя. Наповал! И о матери на прощание не вспомнишь. Дождешься срока, призовут по чести. Все битвы пройдешь невредимым. Разумеешь о чем гутарю?
Юноша с усилием ответил:
─ Разумею, мама.
─ Вот так, по покою, и странствуй мыслями. Сам в безвременье соберешься, не пущу! Такова моя материнская воля! Ослушаешься ее, сбежишь, в Пряхино не возвращайся. Не признаю как сына! И как воина Руси! Блуди, где хочешь! Угодишь в огонь, в могилу, туда, значимо, и дорога! Вы, молодые, как звери, смерти не чувствуете. Я матерь Человеческая, я ее чувствую, чувствую! Ты мой плод. Засохла яблонька, отпал и плод. Вникаешь? Ты не просто взял и ушел на фронт. Ты вылетел птицею. Моим сердцем. Я осталась одна, в пустоте. В сиротливости. Ты стал моим сердцем! Забрал его! И улетел! Тебя подбили выстрелом! Упала и я! На твою могилу! Христовым распятьем, в стоне и крике. Так что оставь удаль забубенную. Еще навоюешься, война будет долгая.
─ Откуда знаешь? ─ с надеждою поинтересовался Александр.
─ Я все знаю, сын. Нет ничего умнее, чем материнское сердце, ибо матерь имеет душевную связь с богами земли и неба. Почему и слышит праздник жизни, праздник смерти. Стоит помолиться в терпении, и мне является правда земного бытия.
Помнишь, мы с дочками коров пасли на лугу? Так вот, огляделась я вокруг и увидела, как в зелени купаются березы, поют овсянки, как любо живет муравейник, и суетливые, трудолюбивые жители его тянут то хворостинку, то мушку в свое святилище. И откровенно порадовалась: все в мире живет в ладу и согласии, один человек в размирье. И кто толкнул взглянуть на небо. Прямо в сердце толкнул. И увидела там, где было солнце, камень из пламени. И пошел он, покатил грозно по небу, рассеивая, раскидывая вокруг себя с дьявольским упрямством огненно-сверкающий свет. Долго и пристально смотрела я вслед огненному колесу-камню, все ждала, когда истает во мгле. Не истаял! Зашел в лес и там сгорел, озарив на прощание пламенем всю землю, как окрасив ее кровью. И птицы несусветно застонали-заплакали в небе. И возник человеческий плач над землею. До неба стоял плач! Значимо, биться русские воины будут долго. Так известили землю ангелы-хранители, радеющие за Русь. Не сами по себе, не от земного чуда ─ от молитвы Христу! Я всю ночь у иконы Господа просила поведать правду.
Мария Михайловна поежилась от холодного дуновения ветра, запахнулась в жакетку
─ Верь, успеешь еще ружье на плечо навесить. Вызреешь годами, и пойдешь. Меньше будет боли. Ослушаешься, не осилишь волю и совесть Матери Человеческой, как держательницы мира, станешь по вольнице танцевать под дудочку Сатаны, великими печалями и болью насытишь сердце. Повелительно великими печалями и болью! Весь мир примет от тебя отречение! Тоска и скорбь сожгут сердце!
Будешь ходить по земле в Петле Черного Рока, Шура! До горького, страшного крика ощутишь сыновнюю сиротливость! И земную сиротливость! И материнское проклятье. Траурные колокола боли и печали будут лютою звонницею мучить всю жизнь, Шура! До могилы, до погоста станешь проклинать себя, что пошел на фронт вопреки материнскому слову. Нельзя разрушать в себе миропорядок! Нельзя разрушать миропорядок отцов! Нельзя разрушать вольницею родство с Русью! Нельзя жить там, где гуляет Сатана в Короне, там во все времена шествуют Змеями ─ распад и разлом, и Души Человека, и Души Земли, и Души Мироздания!
Она внимательно посмотрела:
─ Вникаешь, о чем гутарю+? От Бога правда! От неба! Была бы еще жизнь, мог бы проверить Его правду! И мою! Все бы сошлось, Шура, один к одному! Так и свершится, если наказ матери порушишь!
Матерь провидица, живет по мудрости. Возражать было бессмысленно. Часто сходилось так, как предсказывала.
Но сын возразил:
─Ты, мама, знатная кудесница! Я принимаю твои печали. Но твоя ревнивая любовь может свести с ума.
Мария Михайловна нахмурилась:
─ Значимо, не вник в вещее суждение? Зазря я с сыном на порожке судачила?
Александр обнял ее. И тихо подумал: в тревожном ли пророчестве дело? Гораздо серьезнее не его смерть, не его обещанные дьявольские были, а скорбь матери.
─ Я попробую, мама, ─ смиренно произнес сын.
─ Что попробуешь?
─ Правильно понять твою печаль и мудрость.
─ Зачем глаза прячешь? Стыдно, что лукавишь? Кого обмануть хочешь? Меня? Себя?
─ Себя, мама, ─ задумчиво отозвался юноша.
Мария Михайловна вошла в гнев:
─ Значимо, не покоришься воле? Не расколосился еще разумом? Не вошел в мою печаль-тревогу? По-своему решил поступить? Смотри, прокляну. Отрекусь!
Александр поцеловал ее в щеку, с любовью прижал к себе:
─ На сеновале прилягу. Верно, душно в избе.
Матерь холодно и пытливо посмотрела. В ее глазах метелью загуляли, заголосили страхи, словно сын уже уходил не на повети, а на фронт! Она испытала боль и даже попыталась задержать его, но вскоре подумала, пусть побудет в одиночестве. Скорее осмыслит вещее слово матери, укротит, усмирит себя.
Александр приставил к стене лестницу, поднялся на чердак.
Здесь лежало сухое сено. Он снял с гвоздя фуфайку, постелил на ее и лег, заложив руки за голову. В щель крыши светил месяц, свет его был холоден. Но созвездие Ориона, чудесная звезда Сириус, никогда не покидающие Пряхино, саму Русь, светили с нежностью, несли душе доброе раздумье, успокоенность. Ночь была бестревожная. В конюшне мирно жевали овес лошади Левитан и Бубенчик. Из свиного закутка изредка с ветром доносились приятные сонные свиные всхлипы, солоноватые запахи навоза. В углу без устали верещал кузнечик. Тут же был куриный насест. Но кур были только избранные, самые смелые. На высоту, в окаянную темь, на ночлег не каждая птица рискнет взлететь. Увидев незваного человека, куры всполошились, испуганно, со сна закудахтали, но гость ничем не грозил, не гнал, и они успокоились, спрятали голову под крыло, уснули.
V
Александр же уснуть не мог. Вспомнился любимый дедушка по матери Михаил Захарович Вдовина, в свое время был он первым богачом, вольнодумцем и книгочеем на деревне Пряхино, чтил старину и историю России. Шура еще мальчиком навещал его. Благие были вечера. Обычно встречались по субботам, когда хозяин дома возвращался из бани, щедро неся душевную добрость, запахи березового веника, клубничного мыла, крепкого табака.
Мальчик поджидал его, робко, стеснительно присев на сундук. Увидев внука, он в радости брал его в охапку, несколько раз подкидывал к потолку. Держал на руках и крепко целовал в губы, щекоча окладистою, распаренною бородою.
─ Говоришь, заждался? Извини, братец. Ну, стрекочи к столу!
На длинном столе, накрытом белою плотною скатертью с бахромою, уже стояли самовар, причудливая бутыль с вином, неисчислимое кушанье. Михаил Захарович почтительно угощал внука конфетами, пшеничными пирогами с вареньем. Он тоже сердцем привязался к мальчику, и не только за родственную кровь. Ему нравилось, что Шура рос любопытным, не по возрасту серьезным. Умел внимательно слушать чтение книг: «Королевич Бова», «Еруслан Лазаревич», «Волшебный рог Оберона». Мог по красоте, по чувству сопереживать рыцарю, кто с мечом в руке отважно, жертвенно защищал честь и свободу Отечества!
Сам Михаил Захарович был сыном крепостного крестьянина, и был от Бога наделен талантом пахаря, как Микула Селянинович, кто почитался на Руси мифическим богом Плуга и Хлебного Колоса; он знатно пахал и сеял, а со временем вошли в соборность дети, тоже от зари до зари знатно пахали и сеяли. Зерно баржами возили на продажу, на ярмарку в Нижний Новгород, появилась копеечка, появился достаток.
На деревне его почитали как родовитого великоросса. Сложения плотного, грудь крутая, медвежья, руки крепкие, сильные, без усилия гнули подкову. Во всем облике жила сила Ильи Муромца. По виду суров и строг, но доброту нес в себе необыкновенную, смеялся от души, верил в Бога, курил трубку из табака-самосада, читал по-славянски. Советская власть любовью не изошла к великому пахарю земли Русской, гнала на погост, на Голгофу, но ему удалось избежать воли Пилата и казни на распятье, он выжил, Михаил Вдовин прожил девяносто шесть лет.
Михаил Захарович уже знал, зачем пришел внук. Выпив после бани стакан водки, закусив курицею, он пододвигал к себе чашку с крепким чаем, начинал общение:
─ Ну, внучек, скажи, кого ты больше любишь?
─ Лошадей, деда.
─ Знаешь почему? Твои далекие предки были кочевники! Интересно тебе знать, на какой земле живешь, кто твой народ? Откуда он? Чем занимался тысячи и тысячи лет?
─ Конечно, деда.
─ Похвально, Шура. Что ж, слушай! И он начинал сказ о Руси великой.
─ Предки твои, внучек, с вековых времен населяли привольные степи между Черным морем и Днепром. Тысячи и тысячи лет вели кочевую жизнь, с неистово загадочным упрямством передвигались табором от стойбища к стойбищу и в жару, и в холодную осеннюю ночь, и в снежные ветровые бури, оглашая целомудренную тишину бесконечного пространства табунным топотом коней, тяжелым скрипом тележных колес, безумолчным мычанием коров. Жили в кибитке, родовыми общинами. Вокруг стойбища распахивали землю, растили хлеб, на крутоярах пасли скот, охотились с копьем на зверя и птицу. Молились богу Перуну, он же извещал вождя, богатство на исходе, зверь на излете, пора менять стоянку. И скитальцы-кочевники Руси шли дальше в поиске сада Эдем.
В то древнее, глубинное время кочевых племен в степи было тьма-тьмущая, были и знатные, как скифы, хазары. Все бились, как жертвенники-гладиаторы Римского Колизея, не на жизнь, а на смерть. Победители не знали жалости, с варварскою жестокостью воину-пленнику слепили каленым железом глаза, живьем закапывали в землю, в бурлящие реки бросали детей, без стыда насиловали женщин. Ограбленные кибитки и городища сжигали. Сильного воина-пленника угоняли в рабство, следом гнали покорные табуны лошадей.
Мальчик слушает внимательно. В душе просыпается жалость. Он в любопытстве спрашивает:
─ И мы так жили?
─ В смысле?
─ Как разбойники?
─ Нет, внучек. Древняя Русь не жила грабежами и насилием. Мы не были разбойниками! Мы были пахари, и плугом расширяли русские пространства! Мечом мы только защищали свою землю.
Конечно, мы тоже были варварами, жили по диким законам: если умирал вождь, убивали его жен и наложниц, веровали в таинственную связь человека с природою, поклонялись языческим идолам: Даждьбогу, богу Солнца,
Перуну, богу грозы,
Велесу, богу скота,
Берегине, богине земли и плодородия, а в засушье безжалостно, под костры, неурожайные времена приносили им в жертву самую красивую и невинную девушку-россиянку. Несли ее в саване, и тут же жгли костры, водили устрашающие хороводы
И все же мы были необычным племенем, жили в нимбе доброты и милосердия, отвергали вероломство в битве с врагом, лютую бесчеловечность к пленному, не обращали в раба, чем до изумления удивляли цивилизованный мир. И даже дружбу водили со скифами; наши россиянки были принцессами Земного Царствия, беловолосые, голубоглазые, с шелковистыми косами! Скифы за жену россиянку давали табун лошадей!
Наши предки любили волю, свободу, резвого коня, были охочи до пиров и игрищ. Веками вбирали мудрость и правду, желая осмыслить себя как народ. Стремились к бессмертию, пытались создать великую державу, но воинственные племена разрушали благие намерения. Руссам приходилось все дальше уходить от Черного моря, от Дикого поля, в густые леса, в недосягаемость. И вскоре, по Воле Провидения, по берегам рек Днепра и Роси, Русь обрела родину, свою государственность. Мастеровые возвели города-крепости: златоглавый Киев, Суздаль, Ярославль, Полоцк, Новгород. Но мира не получилось.
Михаил Захарович вдумчиво раскурил трубку:
─ Мы с тобою, внучек, битвы за Русь уже обсказывали. Ты какого князя полюбил? Игоря Святославовича? Или Божу?
─ Вожу, деда!
─ Еще про него ведать?
─ Он истинный русс!
─ Вижу, по жизни атаманом будешь.
─ Почему?
─ К былинным людям душа тянется.
─ Он из легенды?
─ Из правды. Как ты. Как я. Он самая-самая правда Руси! И ты можешь быть гордою правдою Руси, как Божа, и остаться в памяти народа.
─ Я? ─ встрепенулся мальчик.
─ Вполне, внучек, ─ благодушно отозвался Михаил Захарович. ─ Тебе уже девять лет, подрастешь, и тоже можешь выйти с мечом на свою Куликовскую битву, защищать Русь, как князь Божа. Твое Время, Время Воина, может быть, уже и зреет там, где Сатана изыскивает Поле Битвы с Русью.
И нет ничего удивительного, внучек. Русь и руссы только осели родовою общиною на реке Россь, еще не успели выжечь лес и распахать землю, выкопать защитные рвы, выстроить бревенчатые жилища с круглыми оконцами, крепость с Кремлем и высокими башнями, огородить частоколом, как пошли-покатили жестокие битвы за свободу Отечества! Кто только не шел на Русскую Землю, не жег ее, не грабил, не топтал в злобе копытами коней, не пытался поработить. Шли битвы с половцами, печенегами, иудами-хазарами, скифами, черными клобуками, викингами из Швеции, и все желали уничтожить Русь, ограбить, а народ угнать в рабство! Разобраться, чем мешали? Ничем! Пожелали жить, как люди, по совести и справедливости. Плугом расширять земли, а не мечом разбойника.
Веками, веками пришлось копить силу меча!
И не зря, не зря собирали силу меча. В четвертом веке на Русь напали готы, германские племена с королем Германарихом. На площади Киева с особою тревожностью затрубили кликуны князя в большие турьи рога, сзывая воинов со всех славянских земель. Воинственные готы вели битву за Мировую Корону, и уже покорили многие племена. Тревожили набегами и Священную Римскую империю! Закон разбоя суров, не выстоял, не защитил себя, гибнет твое государство, а ты становишься рабом. Теперь готы пришли завоевать Державу Руссов! И уже сеяли вокруг себя разорение и смерть. Выбора не было! Или руссы отстоят себя и Русь в битве, сохранят свои поля и леса, реки и озера, свою державу, продолжат жизнь в бессмертие или станут рабами!
Народ руссов вполне мог исчезнуть как народ!
Исчезнуть на Голгофе, на распятье, без воскресения!
И вскоре на святое поле битвы с готами-Пилатами двинулась Русь былинная, ратная ─ дружины полян, древлян. Александр уже слышал о битве с германскими завоевателями. И живо представлял себе, как по берегу Росси, по лесным тропам, по степи, вздымая пыль, гордо шествуют воинственные рати. Впереди конного войска на резвом скакуне едет князь под голубым знаменем, на котором вышиты жемчугом скрещенные пики, деревянный однорогий плуг, солнце над Россью. Следом строго вышагивает пешее воинство с воеводами, и бывалые бородатые ратники, и совсем еще юноши. Воины вышагивают, щит к щиту, выставив вперед копья, за ними пращники и лучники, остальные вооружены топорами, мечами.
Сеча с воинами короля Германии Германарихом на реке Эрак была лютою, кровавою. Сшиблись в битве рать с ратью, тьма с тьмою. Досыта благословилась родная земля смертями, слезами и кровью. Тысячи русов, бесстрашных ратоборцев, сложили головы. И долго еще с берегов Днепра, Росси и Эрак грозовые ливни будут смывать в бурно текущие воды человеческую кровь, а весеннее половодье вымывать на желтые пески белые кости, разрубленные мечами черепа, сломанные копья, пробитые ржавые доспехи, а белокрылые чайки тосковать над реками по павшим воинам.
Не сумела отбиться ратная Держава Руссов. На столетие в скорби растянется сеча с германскими завоевателями. Безжалостно они станут жечь и грабить Русскую землю. Много еще Руссов погибнет под стрелами и копытами лошадей. Во всю покоренную державу печалью возрастут курганы, курганы, курганы, как милосердные и бессмертные гробницы-мавзолеи! И наступит время, когда народ руссов окажется на краю могилы, но не выронит из рук меча и щита, будет жертвенно биться за Русь и на краю могилы.
И выстоит!
Не упали во Вселенную погасшими звездами!
В 375 году восточные славяне выбирают на народном вече князем красавца-воина Божу. Перед обессиленным, опечаленным народом он поклялся на оружии Перуном и Русью: вернуть все земли, завоеванные готами. Он и повел победоносные сражения с завоевателями. На то время держатель короны Германарих почил, королем стал его внук Амал Винитарий.
Божа и воины-русы бились с готами храбро. Люто и храбро бились на Днепре, на Дону, на реке Эрак ─ и дрогнул враг. Побежал с поля битвы, и гнали готов во всю славянскую землю, вдоль берега Понтийского моря. Но битвы еще шли. И был пленен Божа вместе с сыновьями.
Король германского племени повелел немедленно доставить храбреца к шатру. И долго рассматривал его. Он уже знал: язычники-руссы сражаются за свою землю не на жизнь, а на смерть. Но такого отважного воина княжеского рода, который с сыновьями и малою дружиною обращал бы в бегство его бессмертные легионы, видел впервые.
Князь Божа статен, широкоплеч, густые брови, синие глаза руса, гордо-красивая борода, длинные усы свисают до груди. Голова острижена, оставлен только локон. В ухе золотая серьга с камнем сапфиром. Одет в синее платно, отороченное соболиным мехом, с красным корзно на плече. Княжеский шелом украшен самоцветами. На поясе сиротливо висят ножны. Меч вынут. И передан королю. На землю брошен щит, лежит одиноко, сиротливо, и, кажется, в живой печали. Князь изранен, кровь сочится сквозь одежду, раны болят, но боли не слышит. Плен ─ самое страшное наказание. Он стоит в горе и стыдливости, глаза обращены долу. Сыновья рядом, они тоже изранены, истекают кровью.
Король Амар Винитар не тревожит воина. Все еще любуется им, и несет свою думу. У роскошного шатра стоят готы-всадники в шлемах: безжалостные, хмурые, утомленные битвами с дикарями-русами. И тоже рассматривают князя, невольно сжимая с силою эфесы сабель. В тишине слышно, как в небе звенят жаворонки, в траве стрекочут кузнечики, как течет между каменными берегами Россь.
─ Ты бился отважно, княже, ─ льстиво говорит король. ─ Но против меня не выстоять твоему народу. Русская земля исчезнет! Каждого мужа-воина предам мечу, россиянок уведу в рабство, на потеху Гераклам. Но я очарован твоею храбростью. Убивать воина от Бога несправедливо! Предлагаю жизнь, княже. И службу в моем бессмертном воинстве. Тебя ждут походы. Ты талантливый полководец, бесстрашный ратник. С тобою мы завоюем мир. Откажешься, ─ предам смерти. Меч вверю и сыновьям.
Шатер стоял на скалистом берегу Роси, откуда далеко была видна Русская земля. Князь Божа долго и влюблено смотрел на леса, долины, косогоры. И мысленно прощался с родиною. Не было в мире ничего милее его земли. Хотелось целовать каждый лист на березе, священном дереве, каждый камушек, что омывают прозрачные воды Роси. Все останется, а его не будет. Больно и печально!
Князь поднимает голову, презрительно смотрит на самозваного короля-пришельца:
─ Русскую землю тебе не сокрушить, ─ тихо и величественно произносит он, с трудом разлепляя ссохшиеся губы. ─ Я первый в своем народе и гордо заявляю: никогда народ-светоносец не станет жить низкопоклонным холопом, и перед тобою, королем готов-находников, и перед остальными разбойниками, кто придет покорить Русь! И милость твоя королевская не нужна. Любой смерд на Руси знает: честь дороже жизни. Наша земля прекрасна! Мы засеваем ее хлебом, а не кровью. Вы пришли для насилия и грабежа. Пришли с мечом, а изыщите гибель. Народ руссов бессмертен, ибо от Бога!
Король мрачнеет, в гневе взмахивает платком. Волхвы вскидывают бубны, бьют в сухую натянутую кожу тихо, все быстрее, сильнее. Удары достигают сумасшедшей силы, грозою, скорбью гремят медные подвесные колокольчики. Встревожено ржут кони, запряженные в позолоченную колесницу короля. Чайки заполняют небесные выси неуемною тоскою. Палач, оскалив зубы, с грозным посвистом опускает меч. Голова князя Божа необычно легко, с глухим стуком, падает на любимую землю, окрашивая ее кровью. Застывшие глаза еще несут печаль, печаль прощания с жизнью и с Русью. С грустью выкатываются слезы, обретя завязь еще в живом сердце. Рядом падают на погост его сыновья, без крика и стона. Открытые глаза несут боль и величие гибели за Русь.
КАЗНЬ КНЯЗЯ БОЖИЯ
Михаил Захарович в раздумье, в трауре выпил, помянул князя Божу, тихо произнес:
─ Так умирали русы, внучек, не зная страха и ужаса, ибо знали, смерти не существует. Они бессмертны на Руси, как боги, как сама земля, само солнце.
─ Предсказание Божи сбылось?
─ Сбылось. Народ изгнал германских завоевателей! Русь, залитая кровью, взялась за рала. Пахарь соскучился по хлебному колосу, а кузнецы в Родне устали ковать мечи.
VI
Но только всколосились буйные хлеба, еще не успели Матери и Жены высушить слезы, пережить горе, Мужи воскресить себя от битв, воровски, под покровом ночи, нагрянули с Дуная гунны с царем Аттилою. И снова по печали обрушилась в провал Русская земля! И уже не раз, не раз в горестной тревоге на площади Киева зазывно затрубили княжьи кликуны в большие турьи рога. И витязи, надев шеломы и доспехи, вооружившись мечами, луками, копьями, шли на святилище помолиться языческим богам, где в свете кострищ, под неистовые удары в бубны жрецов и волхвов дико танцевали с застывшими ликами, угрожающе стучали мечами о щиты, ─ молили богов даровать победу. И уходили на битву, в просторы Дикого поля, высоко поднимая знамена, где были вышиты лики богов, бык, что тянул рал по пашне, петухи, они почитались как вещие птицы, растущая у Росси береза.
Михаил Захарович знатно покурил:
─ Не устал еще слушать?
Внук с мольбою посмотрел:
─ Почему, деда? Говори, говори! Отбились от гуннов царя Аттилы?
─ Отбились, внучек. Не позволили увести изначальную Русь в рабство с петлею на шее. И даже щегольнули мастерством: построили царю Аттиле древоделы и каменотесы дворец на Дунае невиданной красоты. Вся просвещенная Европа изумилась строительному искусству русов.
─ Дворец царю-завоевателю? Зачем?
─ Для замирения, внучек. Руссам бы строить города и дворцы. Заполнять земное пространство неземною красотою. Все они умели и имели! Земля великого народа раскинулась от Русского моря до Ледового моря, в лесах зверья водилось видимо-невидимо, реки благодатно переполнены рыбою. Пашни буйно вздымали хлеба. На лугу с богатым травостоем пасся скот. Собирали руду на берегу Роси, варили сталь. Кузнецы в Родно ковали булат, цари и императоры слали заказы на выделку красивого оружия.
Любили наши предки работать, любили и сытную осень. Особенно, когда земля и богиня Берегиня сторицею воздали за труд, до верха наполняли амбары зерном. По величию, по щедротам устраивали разгульные братчины. К обильному застолью выкатывали бочки с хмельным медом, удало пели и танцевали под гусли, с задором вели игрища. Необычно гордые и сильные, они поражали иноземцев простотою общения, невзыскательностью к быту. Ликом красивы, телом стройны, нравом незлобивы, ложью и коварством обделенные. Жили по правде, милостью к убогим. Чтили любовь, доброту, жертвенность, на чем, собственно, и держится Истинная Земная Жизнь.
Бог создал красивый народ! Но не дал ему благословенного покоя. Только отогнали гуннов Аттилы, нагрянули на Русь с Дикого поля коварные хазары, печенеги с ханом Родманом, половцы с князем Всеславом. Долго, очень долго еще будут грабить и опустошать Русь по-разбойничьи дикие степные варвары, которую отцы и деды собирали трудом великим и храбростью необыкновенною.
Все века разжигались над Русскою землею грозовые молнии, шли и шли битвы, бесчисленно вставали курганы, курганы, как горестные, неистощимые раны Земли Русской, где с превеликими почестями хоронили храброго воина, кто принял жертвенную смерть во славу Отечества. Все века руссы пели боевую и грустную песню:
Гей, с поля, с поля туча налетает,
То не черная туча, орда наступает.
Бросил рало ратай, меч вынимает,
Гей, да гей!
Русь превеликая держава, ибо ею изначально правили Великие правители и воины, князья Олег, Игорь, Святослав. И Рюрик был Великим русским воином и правителем Руси, именно русским воином, он внук Новгородского Великого князя Гостомысла!
И все же, свершилось страшное разорение. Горькую печаль принесут на Русскую землю татаро-монгольские орды под водительством хана Батыя. Она зальется кровью. И примет муки несказанные в огне пожарищ.
Ничего не останется от дивной Киевской Руси, ее великой старины. Повелитель Золотой Орды прикажет разграбить ее и сжечь. В страшные костры, которые взметнутся над Днепром, осядет и рухнет златоглавый Киев, со своими княжескими теремами на Горе, над Лыбедь-рекою, с Золотою палатою, где принимались вельможные послы сильных держав мира, где хранились знамена, мечи и доспехи древних русских князей. Не уцелеет и Десятинная церковь, где покоились в гробнице святые мощи великого князя Владимира, крестителя Руси.
Познают изуверскую силу огня города, роскошные боярские хоромы и односрубные дома простолюдинов, церкви и храмы, насыпные курганы с погребениями воинов и мирские кладбища с крестами. В огне пожарищ сгорит все, что наработали мастеровые Руси за столетия, не уцелеют даже летописи о великом народе. Под ржание коней, подгоняя копьями и мечами, по скорбной, крестной дороге погонят татарские орды в неволю тысячи и тысячи славян: плачущих женщин с младенцами у груди, красивых и милых, как с картин Рафаэля, принцесс– россиянок в разодранных платьях, гордых юношей, связанных ремнями, величавых старцев с суровыми ликами, с мольбою и проклятьями на устах.
Надолго осиротеет славянская земля! И долго, страшно долго будут кружить над нею в скорбной печали степные коршуны да дико разгульные зимние вьюги. И сурово, тревожно-молчаливо, словно сострадая безмерной беде, будет всходить далеко за Днепром красное солнце, лучами боли светоносно высвечивая одинокие, притихшие горы и песчаные отмели, луга и дубравы, где жила в великой славе мудрая, вольная и гордая древняя Русь, где жизнелюбивые плотники возводили в благословенной красоте дворцы, крепости и храмы, освящаемые святыми иконами, где стриженные под скобку бородачи-крестьяне, степенно помолившись пашне и плугу, по древнеславянскому обычаю, пахали землю и возносили колос в дар миру. Где по крутой тропе, под тревожные крики взлетающих птиц, ехал на битву с половцами верхом на лошади храбрейший русский князь Святослав впереди дружины, блистал доспехами, золотою серьгою в ухе, украшенной двумя жемчужинами с рубином. Где на привольном крутояре, в благодатном окружении берез, в разгульные братчины, русичи, силою и ликами, как Ильи Муромцы, с завидным, неизбывным безрассудством пили из турьих рогов в чеканной оправе хмельной мед, пели и веселились под сладкозвучные гусельные перезвоны, жгли костры на Ивана Купалу, а в русалочную седмицу россиянки водили хоровод, пели песни во славу Лады и Леля, покровителей любви. Бросали венки в быстротечные реки, загадывая о суженом. Играли свадьбы. Растили голубоглазых детей ─ воинов и пахарей. И жизнь казалась вечною, неразрушимою, неистощимою, как правда, сама земля, как звезды неба и боги неба.
Но земля разверзлась.
И наступила смерть. Страшная и неожиданная.
VII
Михаил Захарович долго курит и, щурясь от крепкого дыма, смотрит на внука: интересно ли, не переутомил ли память и сердце? Нет, все дивно. Он не безмятежен. В родственную плоть мальчика заложена любовь к Руси! Он сердцем вжился в ее беды, неизбежные тяжелые испытания. Неведомые далекие века волнуют его. Тот скорбный мир властвует в его таинстве. Последнее известие деда потрясло горем и печалью маленькую душу.
Он скорбно хмурит брови:
─ И что, Русь погибла?
─ Погибла, внучек. В одно мгновение. От татарского копья. И меча. Все ушло в глубину веков, в забвение. В безвозвратность. Та, киевская! Но наша с тобою, изначальная, исконная Русь не умерла. Не одолели ее завоеватели. Она в скорбном молчании возденет мученический венец, с любовью попрощается с последним пристанищем, с киевскою землею! И, опираясь на посох, тихо, благословенно, под горестный плач женщин, печальное кружение птиц в небе, пойдет в беспредельном одиночестве от реки Рось, шепча молитву, в свое самоспасение ─ все дальше на север. Все дальше от могилы, ее страшной бездонности, ближе к Китежу и Новгороду, где во все прелестное и строгое раздолье и безбрежье радовали мир и человеческое сердце первобытно-густые леса и синие озера, чистая лазурь неба, загадочная даль полей. И русичи станут терпеливо возводить вокруг Новгорода новые города-крепости, копить силы для Воскресения русского Отечества.
И воскресят Русское Отечество, воскресят при крутом и властном Великий князе Иване Третьем, именно он остановит губительное разорение Русской земли, соберет в соборность княжества под верховенство Москвы. И явит миру новое великое государство ─ Русь святую, православную! И станет первым царем. Варварские полчища Золотой Орды еще будут носиться страшным смерчем над Русскою землею, наполнять ковыльные степи зловещим топотом коней, тьмою летящих стрел, звоном щитов и сабель. Жечь городища и церкви, безжалостно убивать ее святителей, бесчестить и уводить в полон принцесс-россиянок, лучших мужей, истреблять на корню славянские племена, но Русь, восставшая на пепелище, уже одержит победу на Куликовом поле, уже вырвется из безумия насилия и порабощения, разбудит неиссякаемые духовные силы. И все больше будет в труде, в умудрении, в таинстве молитвы возрождаться новою жизнью. Москва станет третьим Римом, защитницею славян всех земель.
Великороссы спасут себя как народ,
Но не спасут себя от битв. Непрошенно пожалуют ливонские рыцари из Литвы, панская Польша, воинство лютого и безжалостного Тамерлана, он же Тимур, железный хромец, будут измучивать крымские ханы, как Девлет-Гирей, владыка мира Наполеон.
─ Не давали жить русичам! ─ с печалью замечает Александр.
─ Не давали, внучек! ─ охотно соглашается дед-мыслитель ─ Бесконечно много боли и слез, разорения и унижения пришлось пережить им и принести жертв на поля битв, дабы не дать погибнуть земле Русской.
Мальчик задумчив:
─ Все века уходила Русь на поле сечи. Но не погибла от меча. Выжила! В чем ее тайна?
─ Тайна? Гм. ─ Михаил Захарович огладил бороду. ─ Сам бы желал знать, внучек, какие Божьи силы в череде веков сберегли ее для бессмертия? И сам народ? Канули в безвестность, многие кочевнические державы, кто шел на Русь с мечом, бросал ее в огонь земных пожарищ, грабил, обращал городища в каменные безмолвия, откровенно нес Земле Русов страшную правду смерти ─ скифы, сарматы, хазары, печенеги, берендеи, половцы. И еще бесчисленное множество хищных племен, гибельно грозных ханств и воровских царств. Все поднялись коршунами с земли и унеслись стаями в звездную Вселенную, истаяли, исчезли в вышине и тишине. А Русь осталась, не изжила себя, не сошла в безмолвие саркофага, сохранила свой исток, красоту, величие, рукотворные деяния потомков. Воистину загадка, которая не может не мучить гордою и пленительною красотою.
─ Наши воины умели биться? Это спасало? ─ высказал предположение Александр.
Дед ласково погладил его по голове.
─ Верно. Сражаться руссы умели. Вся дружина, отправляясь на битву, клялась на оружии в окружении женщин, старцев и жрецов, с достоинством произнося: «Лучше смерть приму и ею добуду вечную славу, чем оставлю в беде Русь!» От врага никто не бежал. Умирали с мечом, выпускать его из рук – считалось великим позором. Воин, убитый стрелою или копьем в спину, в братском могильном кургане не погребался, его тело выбрасывали воронью, а самого проклинали до скончания века как труса и изменника.
Дивились бесстрашию нашего рыцаря скифы и хазары, печенеги и половцы, готы и гунны, сами безукоризненные храбрецы.
Дивились жертвенной храбрости руссов и воины Батыя. В той же Рязани, защищая город от его несметных и необоримых орд, сражались все, и мужи, и женщины, вооружившись луками. Бились с отчаянием безумцев, изнемогая от тяжелых ран, пока не истекали кровью. Когда Батый вошел в поверженный, но непокоренный город, вокруг стояла святая могильная тишина. Мать не оплакивала сына, жена мужа, сестра брата – все были мертвы. Все погибли равно, героями и храбрецами. Кто не пал в битве, бросались с колоколен в огонь, на мечи. Бросались жертвенно и в реку, печально-красную от крови, дабы не попасть в плен, не стать рабом.
После крещения Руси, заступники ее умирали как святые праведники. Они верили, что получают вечную жизнь от Христа.
Еще великие русичи умели дружить, не помнить зла. И даже к лютым врагам несли любовь и милосердие. Победили в битве скифов, стали братьями, а не врагами.
В битве одолели половцев, в честь победы заложили на бреге Днепра храм Архангела Михаила, но по жизни обнялись, как братья. Русские князья охотно брали в жены красавиц из половецкого стана. Половецкие ханы до безумия полюбили россиянок, за одну голубоглазую принцессу-россиянку давали табун лошадей. Свадьбы играли разгульно. В веселой удали пела и плясала вся Русь! На затяжном роскошном пиру горделивые ханы, не желая уронить достоинства перед хлебосольством великокняжеского двора, не раз в буйном хмелю пропивали бочонки с золотом. Половцы по душе полюбили великороссов. Именно они первые приняли христианскую веру и в клятве в Софийском соборе поцеловали серебряный крест, на котором старинною вязью было выгравировано: «Быти воедино!» И были воедино. Почитали за честь ходить в походы с русичами и защищать славянскую землю. Бились отважно, делили с братьями не только пиры, но и смерть. Как и русичи.
Еще умели предки расти в страдании, зреть в беде. Не отчаиваться в горе. Тревожные века переживали с достоинством, без гнева и жалости к себе, без тоскующего плача о сиротской доле на развалине городищ, на могильном камне церкви и храма. И работали, работали! Они как открыли таинство жизни. Разгадали загадку, зачем живет человек? В чем его смысл, дивное земное назначение? А живет он не для меча, а для рала, ради жены и детей, сытой осени, ковша хмельного меда, для пляски под гусли и гармонику на вечернем росном лугу, в окружении берез с неумолчно свистящими иволгами. И в рукотворном творении наделять свою землю сказочною красотою. Уметь защищать ее.
Другого назначения у человека, по воле Творца небесного, не имеется, если в сердце живет гений созидания. В русиче он живет! Отсюда и вечно Воскресение Руси!
Михаил Захарович знатно покурил:
─ Что еще надо уяснить на прощание? Из глубины веков пробился на землю свет жизни ─ и мой, и твой. Не выживи гордая, непоклонная Русь, исчезни земною слезинкою, земною болью и былью в безжизненной пустоте, не пришли бы и мы с тобою, как россияне, на пир любви и жизни. И именно, ─ как россияне с красивым, гордым и бессмертным именем! Не увидели солнца, россиянок на роскошном лугу, что лебедушками плывут в хороводе, под удалую гармонь, не узнали бы, что высится на земле великая святая Русь с чарующею прелестью лугов и пашен, нежным разливом озер и рек, смиренно-милыми лунными ночами, с трогательно печальными березками, с медовыми запахами ржаного хлеба в косовицу. Они, твои предки, подарили тебе Русь. Теперь ты должен подарить ее сыну. И подарить во имя ее бессмертия Александр с любовью прижался к груди деда.
Глава третья
ВОПРЕКИ ВОЛЕ МАТЕРИ, АЛЕКСАНДР БАШКИН УХОДИТ НА ФРОНТ ДОБРОВОЛЬЦЕМ
I
Вернувшись из путешествия к себе на сеновал, в свою быль, пообщавшись с Русью, Александр ощутил горько-неуютную раздвоенность души. Еще больше стало обессиливать раздумье: идти добровольцем на фронт? Не идти? Быть воином Руси великой? Не быть?
Тревожные, громовые стуки сердца неумолимо кричали: быть им! Несомненно, быть! Разрыв с матерью неизбежен! Он не может остаться в стороне! По совести Михаил Захарович заверил, он на деревне Сократ-мыслитель ─ древние предки, навеки уснувшие в земле, обняв в трогательной смиренности мечи и рыцарские доспехи, смогли сберечь свою землю, спасти Русь. И даровать ему. Теперь он должен спасти Русь и даровать ее людям. И тем продвинуть ее в бессмертие. Конечно, он должен надеть рыцарскую кольчугу и взять меч. Как воин из дружины Святослава. Или из дружины Божи. Разве он не хочет, чтобы Россия и дальше жила в мире и согласии, наполняла себя красотою и величием? И благодарно одаривала ими человека? Не хочет, чтобы шла и шла в венке из ромашек победоносно и светоносно, от храма к храму, под сокровенный колокольный благовест в свой праздник жизни, в свое бессмертие? Разве не этим болит душа? Не этим наполнена и переполнена? Разве он не чувствует, как много она познала за жестокие века степных скитаний, кочевой бездомности, бесприютности, мук и скорби, нескончаемых битв. Зело непросто далось ей остаться на земле. Должно же быть возблагодарение святой страдалице. Не получается! Не удается скинуть крест проклятия, что несет из столетия в столетие, как Христос на свою Голгофу, безжалостно избиваемая плетьми и острыми пиками палачей.
Двадцатый век не стал исключением. Снова пришли на древнюю Русь времена печали и скорби. Великая неодолимая сила обрушилась на землю Русскую! Такой еще не было. Ратное побоище предстояло необъятно великое, бесконечно скорбное! Русь опять, в тысячный раз, должна была исчезнуть или защититься! Как же можно не быть ее воином?
Александр посмотрел на небо, на звезды. И снова в грусти подумал: разве может он теперь спокойно жить и работать, ходить на зазывные вечеринки в березовую рощицу, слушать радостные разливы гармошки, лихо, с подсвистом, танцевать кадриль и краковяк, играть в «колечко» с поцелуями? Не сможет! Он уже знает, что вдали от Пряхино враг топчет его землю коваными сапогами, рвет на траурные ленты ржаные поля гусеницами танков, бомбит и сжигает его города, убивает его русских мадонн.
Не сможет! В боли надорвется сердце. Он болен Отечеством! Он и Русь неотделимы! Он ─ ее березка, ее хлебный колос, ее родник, бьющий меж камней в устье Мордвеса, ее молния, ее синее небо, которое стоит в целомудренной красоте над Русью тысячи лет. Ему теперь все больно! Громыхают ли надменно-грозные сапоги по его дивной земле, ему больно. Больно! Не по земле, по его телу они так ожесточенно грохочут! И танки-крестоносцы, грозно идущие по полю, не хлебные колосья топчут и рвут на траурные ленты, а его сердце. Попал ли снаряд в березу, она занялась пламенем, опять же больно ему и ему! Это он горит на костре, и он слушает, как князь Божа, последнее песнопение земли Русской, и слушает, как он, перед казнью, прощаясь с жизнью.
Он слышит, слышит Русь не меньше, чем князь-жертвенник Божа! Они едины чувствами! В его сердце перелились чувства князя! Он горд, он, несомненно, горд, что предки даровали ему в наследство такое и милое и прекрасное Отечество!
Александр посмотрел в оконце. Уже занималась заря. Запели птицы. Взгляд невольно скользнул по балке. С балки, привязанная лыком, свисала сбруя, смазанная дегтем, в паутине, как в саване, томились тележное колесо, исхоженные лапти, запыленное лубяное лукошко, с которым еще дед Михаил странствовал по дико-густому лесу, собирая грибы и дикую малину. Неожиданно увидел лампу-трехлинейку под круглым жестяным щитком. Встрепенулся, снял ее с гвоздя, взболтнул; керосин был. Зажег, достал из ящика амбарную книгу, чернильницу-непроливайку, ручку с пером. Торопливо испробовал перо. И, чувствуя, как обжигают мысли, сильно стучит сердце, стал в волнении писать:
«В Мордвесский райком партии, первому секретарю П. В. Пенкину, военному комиссару майору А. И. Клинову.
К вам обращаюсь я, Башкин Александр Иванович, работающий в госбанке инспектором по кассовому планированию и заработной плате. Враг напал на мою Родину. Я как верный сын своего народа, гражданин великой страны Советов, выражаю искреннее желание немедленно и добровольно вступить в ряды Красной Армии, обещаю сражаться с врагом беспощадно, не щадя жизни, до последней капли крови. Клянусь, что не выпущу из рук оружия, пока последний фашист не будет уничтожен на моей земле. Я скорее умру в жестоком бою, чем отдам в рабство себя, свою семью, саму Россию. Кровь за кровь, смерть за смерть!»
Поставив размашистую подпись, он перечитал заявление. Получилось возвышенно. Подумал, не переписать ли? Труда не составит. И время было. Но какой смысл? Опять получится та же летопись. Все ─ от сердца, от правды чувств.
Долг перед Русью победил долг перед матерью.
II
По земле в пожарище неумолимо катил второй день войны. Александр Башкин с утра живо зашагал знакомою тропкою в Мордвес, надежно спрятав в карман пиджака заветное заявление-клятву, которое тревожило таинством и, казалось, обжигало огнем всю грудь. Он полагал, что явится в банк первым и еще раз все обдумает подальше от дома, от матери. Ему не хотелось оставлять ее наедине с горькою обидою, обращать ее любовь в ненависть. Его не страшила смерть, его сейчас страшила жизнь. Жизнь матери. Но, к его удивлению, в банке уже были управляющий и бухгалтер. Они сидели в кабинете, при свете настольной лампы, хотя золотистые лучи солнца ласково озаряли уютную рабочую комнату. Сидели они молча, задумчиво, лица их были бледны, взгляд не скрывал тревоги и растерянности.
Дверь полуоткрыта. Постучав, Башкин вошел, поздоровался. На всякий случай поинтересовался:
─ Могу ли я взять командировочное удостоверение, Андрей Иванович?
─Удостоверение? Какое? ─ не понял управляющий банком Щетинников, хмуря брови, напрягая мысль.
─ В Тулу. На семинар, в центральный банк.
─ Голуба, вы с луны свалились? ─ он посмотрел строго, с недоумением. ─ Разве вы не слышали по радио выступление Молотова? Фашисты бомбят Киев, в пожарище города, льется человеческая кровь. Самое время разъезжать по Руси на свадебной тройке с бубенцами!
─ Чем прикажете заняться?
─ Дел вперехлест. Указом Президиума Верховного Совета СССР объявлена мобилизация в армию. Звонил военком, надо немедленно приступить к выдаче денег каждому, кто обрел статус воина Отечества! Вы у нас инспектор по заработной плате, без вашей подписи им деньги не выдадут. Наплыв бухгалтеров из Мордвеса и колхозов ожидается серьезный. Придется работать ночью, ночевать в банке. Могу ли я рассчитывать на вас?
Башкин невольно подтянулся.
─ Я буду работать столько, сколько потребуется.
Управляющий банком поправил очки в роговой оправе,
─Это хорошо. Это оч-чень хорошо-с, что вы так остро чувствуете великую народную беду, судьбу Родины. Признаться, другого ответа я не ожидал. Вам сколько лет? ─ неожиданно поинтересовался он.
─ Восемнадцать, Андрей Иванович, ─ Башкин отозвался в смущении.
─ Оч-чень хорошо-с, ─ с удовольствием заметил он. ─ Значит, с вами еще поработаем. Вас востребуют много позже. Надеюсь, вы не собираетесь добровольцем на фронт? ─ он пристально посмотрел. ─ Впрочем, это ваше личное дело. Но, поверьте, мне было бы оч-чень жаль-с расставаться с вами. Вы человек чести и дисциплины, надежда банка, его юность, его прекрасность.
Жизнь завертелась вкрутую. Больше Александр Башкин домой не попал. Работал с полною выкладкою, ночевал в банке. Выписывая финансовые документы, постоянно думал, как бы вырваться и поскорее отнести заявление в райком партии. Но вырваться не получалось. Время сжалось предельно.
Звонок из райкома комсомола раздался рано утром.
Башкин снял трубку.
─ Привет, финансист! ─ услышал он бодрый голос первого секретаря Николая Моисеева. ─ Зайти можешь?
─ Не могу, ─ отрекся он, и невольно услышал в себе усиленные стуки сердца. ─ Дел вперегруз. Спроси начальство. Отпустит, подбегу.
─ Дай ему трубку.
Управляющий банком мрачно выслушал пожелание секретаря райкома комсомола.
─ Беги, голуба, раз зовут!
─ Я скоро вернусь, ─ пообещал Александр, увидев печальные глаза начальника.
─ Ты уже не вернешься, Сашок, ─ отечески вымолвил Андрей Иванович, сдерживая невольные слезы.
До райкома комсомола было недалеко. Башкин шел торопливо, хотя пытался сдерживать себя, укротить мятеж, что нежданно-негаданно взметнулся в груди, он мешал дышать, обрести строгое благословенное спокойствие; ноги несли сами, сила воли отказала ему. Он не слышал себя, жил вне времени и пространства.
Неуемное мятежное ликование не покинуло юношу и в кабинете секретаря райкома комсомола.
Моисеев, увидев его, приподнялся, поздоровался крепким рукопожатием.
─ Садись, богатырь, ─ бойко пригласил он; секретарь, конечно, шутил. Башкин был худ и высок и больше походил на Дон Кихота, чем на русского богатыря Никиту Добрыню.
Но юмор ценил:
─ Не тот богатырь, кто хвалится на весь мир, а тот велик и могуч, в ком дух певуч, ─ непреклонно отозвался Александр, присаживаясь на венский стул.
─ Верно, верно, ─ не стал возражать Николай Васильевич, оглядывая красивого юношу, с горделивым взглядом, губы характерно сжаты, голубоватые глаза отражали чистоту души. ─ Значит, так. Обком комсомола собирает под свои знамена добровольцев-ратников для отправки на фронт. Ты секретарь комсомольской ячейки банка. Понял, о чем я?
Помедлив, Башкин достал заявление, бережно расправил и подал секретарю райкома комсомола. Моисеев внимательно прочитал его.
─ Уже написал? В первый день войны? Молодчага! Идешь добровольцем? Что ж, выбирай! Обком партии принял решение о создании истребительного батальона и о создании Тульского коммунистического полка. Куда вытягиваем жребий?
Александр передернул плечами.
─ Ясно куда, скорее на фронт!
Секретарь райкома стал размышлять:
─ Истребительные батальоны создаются Управлением государственной безопасности, на случай защиты Тулы от врага. Коммунистический полк вершится исключительно из членов партии и комсомольцев, и, скорее всего, будет немедленно отправлен на Западный фронт, на защиту Смоленска, Вязьмы, Ярцева. Что выбираем?
─ Коммунистический полк, ─ твердо заверил доброволец.
─ Окончательно решил? В таком случае, перепиши заявление на мое имя. Но имей в виду, Тульский коммунистический полк, воинство особое, отсев будет серьезный. С добровольцем станут беседовать на бюро райкома, обкома. Отберут лучших из лучших. Не побоишься?
─ Попытаем судьбу, ─ тихо уронил Башкин.
─ Вот тебе талоны. Как доброволец, получишь в железнодорожном магазине два килограмма сахара и два килограмма муки, а в банке ─ денежное содержание. Дома напишешь автобиографию, заполнишь анкету: какие языки знаешь, был ли за границей, кто из родственников привлекался, как враг народа, кем работает мать, кто отец, ─ он подал ему бланк, отпечатанный в типографии. ─ В твоем распоряжении вечер. Попрощайся с родными, с девушкою. К двенадцати ночи быть у райкома партии.
III
Домой Башкин не шел, а бежал. Предстояло самое страшное, прощание с матерью. Временами, он останавливался, и долго стоял у березки, обняв ее, прижавшись разгоряченною щекою, слушая, как шепчутся листья, пересвистываются иволги. Как у реки, в зеленой осоке свистят коростели, как летают над привольным лугом неутомимые пчелы, разнося над цветением и разнотравьем хорошо уловимые медовые запахи, смотрел, как дивно колышутся в поле зеленые хлеба. Успокоившись, снова ходко шел все ближе и ближе к пугающему дому.
В избу он вошел с замиранием сердца. Матери не оказалось. У печи сидел Иван и строгал кухонным ножом лучины, аккуратно складывал колодцем у загнетки.
─ Где мать? ─ тихо спросил Башкин, сдерживая волнение.
─ Корову пасет на лугу.
─ Беги, позови. Скажи, я прошу.
Старший брат безмятежно вымолвил:
─ Ты чего такой жаркий? От волков бежал?
─ Узнаешь. Позови скорее.
─ Сам не можешь? ─ все еще не соглашался Иван.
─ Ты брат или не брат? ─ излился в гневе юноша.
Иван тревожно заглянул в его глаза, наполненные печалью и горем, где уже жили отречение от мирской жизни, молитвенная готовность к подвигу, все понял.
Тихо произнес:
─ Ну, дела, щенят сука родила. Обрадуешь мать, ─ и необычно посмотрев на брата, вышел, громоподобно хлопнул дверью.
Оставшись один, Александр долго, бесприютно ходил по горнице. Он слышал в себе отчаяние. Его страшил приход матери. Он не знал, что скажет, как объяснит свое вероломное отступничество, успокоит ее, укротит ее великую печаль? Все складывалось сложно. Невероятно сложно. Он дал слово и не сдержал его. Поступил бесстыдно. Перед самым родным и любимым существом. Оскорбил ее ложью. Омрачил ее надежду, ее светлую веру, ее целомудренные чувства к сыну. И исхода не было. Как ни печалься, а расставание неизбежно. Прощание тоже.
Дом радовал чистотою и уютом. Свет солнца приятен, он золотил нежным и ласковым светом раскидистую русскую печь, полку с посудою под загнеткою, стоящие в углу рогачи, топоры, кочергу, божницу с иконою Владимирской Богоматери, малиновую лампаду на бронзовой цепочке, стол, накрытый холщовою скатертью, заправленные ночные лежбища, портреты на стене в старинной раме; был полный расклад его древних родственников, по чьей осознанной ли, случайной воле зажглась его жизнь; деды его Василий Трофимович и Михаил Захарович, бабушки Арина и Матрена, их братья и сестры; многие уже ушли в землю, в саркофаг, в покой и тишину. Пройдет миг, еще один миг на земле, и все исчезнет. Станет недосягаемым. Вернется он снова в святилище детства, не вернется ─ неизвестно. Возможно, не вернется уже никогда-никогда. Вдали от дома, на чужой земле настигнет его пуля, и он, не зная: жил ли, упадет звездою в разверзнутую землю, в могильный склеп. В последней красоте, в последней печали. сгорая. Хорошо еще, если воскреснет именем на земле. Начертают друзья на могиле: жил, геройски погиб. А то и сгоришь земным костром, до последней искры. Без покаяния и молитвы, без человеческой памяти. И все, ничего больше не станет: ни отчего дома, ни милой деревни, ни быстро бегущей речки под окном, с березками по берегам, с туманами, осокою и коростелями, где он ловил бреднем карасей, раков в тине под камнями, любил наблюдать, как плавают гуси. Как, выбравшись на берег, чинно и важно идут по улице, не будет и луга, откуда ветер приносит медовую сладость трав и цветов и где сейчас пасутся, резвятся сытые жеребята, безмятежно, послушно ходит на привязи теленок, и этого колодца с журавлем. Не будут больше взлетать из-под ног дикие утки на болоте, за Волчихой, по которому они ходили вместе с другом Леонидом Ульяновым, со смертельным риском перепрыгивая с кочки на кочку; крепили стойкость духа, смелость и пренебрежение к смерти. Втайне от людей. Могли не раз погибнуть. Узнала бы мать, исполосовала ремнем до крови и беспамятства. Но больше всего печалило, что исчезнет в вековой безвестности и дом за рекою, ее дом, где живет милая и красивая девочка. По имени Капитолина. Она несказанно нравилась ему. Он не испытывал душевных мук, тоски и любви и не мог испытывать ─ принцессе было тринадцать лет. Но встречать ее было радостно: и на улице, и на разгульных вечеринках, где она чаще играла со сверстницами, кружилась вокруг берез, с дивным вниманием слушала гармонь Леонида Рогалина, по прозвищу Шалун, прищурив большие серо-голубые глаза, поджав пухлые губы, по-девичьи стыдливо и зазывно, поглаживая обе косички. Но чаще смотрела, как выплясывают радость парни и девушки, чем пускалась в пляс сама. Каждый раз при встрече прелестная соседка здоровалась с Александромашкиным. И он с юношеским целомудрием замечал, как замирает его сердце, наполняется трепетным и тревожным ликованием. Не раз она непрошенно и желанно приходила в его растревоженные мужские сны.
Он бы и сейчас желал ее увидеть.
Попрощаться. Мысленно. И сердцем. Больше для себя. На миг. Всего на миг. Возможно, с поцелуем. Одним-единственным. Не больше. Пусть бы осталась в памяти святою и непорочною русскою мадонною до его смерти.
Он невольно, в стыдливой чистоте, прильнул к окну: не выйдет ли с ведром к колодцу, который был рядом с ее домом и благостно закрыт от солнца густыми ветвями молодого ясеня.
Девочки не было.
Зов его не услышан.
Александр вздрогнул, прислушался. Так и есть. С улицы скрипнула дверь, в сенях раздались отчаянно быстрые, тяжело торопливые шаги матери. Войдя в горницу, она цепко, прицельно посмотрела:
─ Звал? ─ спросила настороженно.
─ Звал, мама.
─ Что случилось?
─ Я ухожу на фронт. Пришел попрощаться.
Мария Михайловна суетливо ощупала руками воздух, боясь упасть, присела на табурет и долго сидела строго и неподвижно, изредка, в бессилии, касаясь дрожащими пальцами платка, наброшенного на плечи, сухо, без внимания теребя бахрому. Известие ошеломило ее, потрясло, пронзило горем. И теперь она старалась разбудить, восстановить в себе душевную стойкость. В ее сердце жило естественное желание: защитить сына, спасти его от войны и смерти. А, возможно, и от гибельного душевного страдания! Ей было страшно. Она словно предвидела, какая злая и жестокая, мучительная судьба ожидает ее сына, какой крестный путь ему уготован пройти по земным кругам ада: он будет гореть в разбитом танке заживо земным костром посреди земли, биться до крови, до муки, до невырази мой боли головою о железные решетки тюрьмы, где его станут с бешеным упрямством, до беспамятства избивать чекисты, и так, что, брошенный на холодный пол в камере, окровавленный, он, придя в себя, будет в безумной надежде молить о смерти, чтобы избавиться от боли и мук, и смерть придет – свои приговорят его к расстрелу, как изменника Родины, и уже посадят в ко
нечно-земную камеру смертников, и он в горькой тоске, безвинно униженный и оскорбленный, будет ждать рассвета, казни. И только чудо, ее молитва спасут его. Оказавшись в окружении, в плену, его будут раздетого и разутого гнать в колонне по осенне-снежной распутице в фашистскую неволю, в рабство. И нещадно колоть штыками. Не единожды он будет бежать из плена. За побеги, в назидание остальным, его привяжут к деревянному кресту, поднимут на распятье и будут носить по лагерю перед заключенными; будут обливать холодною водою на морозе, и он будет долго-предолго стоять на ветру ледяною глыбою, травить до смерти овчарками. Но он снова выживет. И сбежит.
Сын еще ничего не знает. Правда его жизни скрыта временем.
Неисповедимы его пути.
Но мать, наделенная даром провидицы, мудрым и чутким сердцем предвидела его рок, который жил в ее сыне и ждал своего времени. Она не могла отдать его в такую страшную беду, отдать на поругание, отпустить его на добровольно избранный им крестный путь.
В ее милосердно-материнском сердце зрел протест.
Но как спасти его? И можно ли? Не от богов ли проклятье?
Матерь Человеческая угрюмо и строго посмотрела на сына. Он стоял безмятежно, слегка опустив голову, не чувствуя беды, страдания и смерти. Он был чист и свят в своем благородном порыве, в своем самоотречении. Но глаза отводил, чувствовал вину. И мать поняла: все слова ее бессмысленны. И не нужны сыну. И уже никому не отвратить страшную правду его судьбы.
Сын был из окаянного племени праведников, нес в себе непоклонность, одержимость.
Думы о сыне расслабили Марию Михайловну. Она подняла глубоко запавшие глаза, устало спросила:
─ И когда же ты уходишь?
─ Немедленно, мама. Попрощаюсь с вами, чемодан в руку. И в поход.
─ Как немедленно? Я не ослышалась? Объясни толком, ─ строго потребовала мать.
─ Чего объяснять? ─ выразил недовольство сын. ─ Отпустили на день. К двенадцати ночи быть у райкома партии.
─ Оглумеешь с вами, ─ тяжело вздохнула женщина. ─ Прибежал взбалмошный, как от волчьей стаи отбивался. И ни свет, ни заря на фронт! Не потужить, не погоревать, не поплакать всласть. Нешто по-людски?
Александр подошел и обнял ее.
─Так надо, мама. Извини. Знаю, что приношу тебе боль. Но так надо, родная.
─ Кому надо? – в горе спросила она.– Исстари на Руси провожали ребят с благословенно-тоскующим плачем женщин, с праздничною гульбою. На десять дней их освобождали от пашни и сенокоса. Они ходили от избы к избе, по гостям, пили водку, горланили песни под гармонь и балалайку. И никто их не осуждал. Даже самые строгие бабы. Напротив, все в деревне с почтением, ласково говорили: «Годные гуляют!» И подносили стакан самогона, пирог на закуску. В каждом домашнем святилище призывники были – знатные и желанные гости. Я была девушкою, я сама видела, как провожали героев на фронт в первую мировую. Обычай этот не от русской разгульности, удалой, забубённой бесшабашности. Ребята уходили на войну, на смерть! Осознай! И им на расставание играл оркестр! Грустный и гордый марш «Прощание славянки», берущий за сердце. Все было свято и торжественно.
Почему? Все шло от смысла, от крепости жизни, от красоты ее, от осознания ценности человеческой сути. А ты как уходишь? Ни марша «Прощание славянки», ни песен, ни гармоники, ни праздничной гульбы, ни материнского благословения. Уходишь, как беспутный бродяга! Не стыдно? Забыл разве, как я в печали, строго и молитвенно произнесла: прокляну, ежели ослушаешься?
─ Не забыл.
─ И что же?
Башкин хмуро уронил:
─ Вернусь с войны, отгуляем!
─ Вернешься ли? ─ грустно посмотрела мать.
─ Вернусь, я живучий, ─ твердо заверил сын. ─ Не всех там убивают. Не хорони заранее.
─ Ишь, расхрабрился. Вояка! – строго осудила его веселость Мария Михайловна. И отошла к печке, сняла медную заслонку, сложила лучины, сверху положила березовые поленицы, разожгла огонь. Стала собирать ужин. ─ Добро бы женат был. Дети были бы. Убьют, и рода пахарского не продлишь, себя не оставишь в памяти сына, дочери. Что жил, что не жил! Зачем своеручно ищешь свою погибель? Отскажи! Твои сверстники не торопятся. Придет черед, и их возьмет черт. Зачем из упряжи выбиваться? Обождал бы годок, свой срок, вошел в зрелость. Тебя бы самого востребовали. И вышагивай на битву со спокойною совестью. Кто гонит, какая печаль?
По живым и добрым движениям матери было видно, что она с тоскою и мукою, но примирилась с реальностью. И теперь осуждала-наставляла больше для порядка. Ее душевное равновесие радовало.
И Александр тепло сказал:
─ Ладно, мама. Оставим печали. За свое Отечество я иду на крест. За тебя, за сестер и братьев, дабы жили в свободе, а не в рабстве. О чем еще толковать? Придет смерть, что ж! Приму ее с молитвою и смирением. За Русь свою. Как предки-великороссы! И князь Божа. И пусть там, на чужой стороне, чужие березы опустят на мою могилу плакучие ветви. Поплачут ими в дождь, погорюют. Может, и ты приедешь, погрустишь. Все легче будет печалиться в угрюмо-звездной вечности, зная о материнской любви, ─ он ласково обнял ее. ─ Но поверим в лучшее, родная!
Мария Михайловна от ласки уклонилась:
─ Бестолошные вы дети, бестолошные. Я ему про жену, а он про сатану.
─ Все решено, мама. Безвозвратно! Зачем впустую расстраиваться?
─ Кем решено?
─ Мною, ─ без гордыни ответил сын.
─ В одиночку? ─ строго посмотрела мать. ─ А ты сестер спросил, Нину и Аннушку? Им как расти без кормильца? Кому по весне ходить за сохою и плугом, сев вести? Луга скашивать, сено возить? Топить овины, за скотиною ходить? На мельницу с помолом ездить, зимой в лес за дровами? И еще холсты ткать, хлебы печь? Кому? Все одною? Одною мучиться заботою? ─ Она вынула из жарко-угольной печи на ухвате чугунок с булькающею картошкою. ─ Ежели бы ты один меня сиротил, куда ни шло. Стерпела бы. Пересилила обиду. Я тоже матерь России. И боль ее понимаю, и беду. И святость твою. Кому, как не тебе от ворога ее защищать? Не Леньке Ульянову? Но вслед за тобою на сечу уйдет Иван. Алексей подходит, как на дрожжах. С кем я останусь? Только с горем наедине? А как печальница-война возьмет еще Ивана и Алексея? Выживу я?
В избе уже собрались все домочадцы: братья Иван и белокурый, как Лель, Алексей, сестры Нина и Анна. Девочки сидели на скамье, с любопытными лицами, усеянными веснушками, со светлыми, как лен, волосами, выгоревшими на солнце, с курчавыми колечками на концах, в холщовых сарафанчиках. И беззаботно, шаловливо болтали босыми ногами в ссадинах и порезах.
Александр присел рядом, погладил их по волосам.
─ Что, красавицы, отпускаете на фронт?
─ Отпуска-аем! – дружно, в голос воскликнули домашние принцессы.
─ Слышишь, родная? ─ весело посмотрел сын.
Мария Михайловна на шутку не оттеплилась, угрюмо заметила:
─ Нашел, у кого разум пытать. Муравей, который соломинку тянет, и тот мудрее. Бестолошные вы, и есть бестолошные. Ладно, окончим потолкуй. Садись к столу. И вы, мужики, и вы, проказницы. Не ждите особого приглашения.
Ужинали молча. Ели жареное мясо и картошку со сметаною, запивали молоком. Пили чай с малиновым вареньем. Только один раз взметнулась буря.
─ Я, мама, получил в магазине военный паек, муку и сахар. Оставляю вам. Испечешь пироги. Своя когда будет. Пусть чаи пьют послаще, ─ отпивая молоко, сказал Александр.
─ С собою возьмешь, ─ не согласилась мать. ─ В дороге пригодится. Мало ли чего?
Он удивился:
─ Зачем с собою? Я еду на фронт. Буду поставлен на довольствие.
─ Я сказала.
─ И я сказал!
─ Не иди вперекор, ─ огневилась мать. ─ Я знаю, что делаю, а ты тьмою живешь. Моя еще власть в доме. И замолчь, басурман бестолошный.
Дальше наступила тяжелая тишина.
После ужина Мария Михайловна достала деревянный чемодан, старательно вытерла пыль и стала аккуратно складывать чистые, отутюженные рубашки, отдельно завернула в газету яйца, отварное мясо, слоеные пироги. Александр решил не вмешиваться. Он взял хлеб, два кусочка сахара. И вышел во двор. Открыл тугие деревянные ворота стойла. Лошади стояли, наклонив голову, теребили из охапки сено, забирали его в толстые губы, с приятною, вдумчивою неторопливостью жевали, вальяжно встряхивали густыми шелковистыми гривами, в удовольствие скребя землю копытом. Он постоял, полюбовался и дал им с руки по очереди хлеб с сахаром. Подождав, обнял за шею Левитана, затем Бубенчика, ласково поцеловал. Лошади смиренно косили лиловыми глазами и, казалось, чувствовали расставание; глаза их наполнились слезами.
─ Прощайте, вороные, милые! Увидимся ли?
Александр нежно и с тоскою потрепал их по щеке и покинул стойло. В сердце его тоже густились слезы.
IV
Они вышли в путь-дорогу, когда уже смеркалось. Над лесом закатывалось солнце, благостно озаряя прощальным золотистым светом землю и небо. Он шел впереди, мать и Иван следом. Шли берегом реки, мимо берез, ольховых кустов. Над притихшею речкою стоял туман. В осоке свистели коростели, сильно и радостно, как на свадьбе, квакали лягушки. С реки с грустно-свистящим шумом вспархивали дикие утки. За огородами, откуда свежо пахло росистою полынью и коноплею, истошный женский голос звал заблудившуюся корову. На деревне блеяли овцы, лаяли собаки.
Путь пролегал мимо дома его девочки-подростка Капитолины. Опять страшно, до мучительно-сладкой боли захотелось увидеть ее. Просто заглянуть в глаза, просто подержать ее руку. Просто улыбнуться на прощание. И все, он бы на веки вечные ушел в ласковость, в правду любви и надежды. Но никто не вышел на высокое резное крыльцо избы-терема, не помахал платком в неотмолимой тоске и любви на прощание.
Грустно постояв у ее дома, Башкин, как опомнился, зашагал еще быстрее.
За околицею мать не выдержала, остановилась.
─ Извини, сынок, ноги не слушаются. Дальше не моту иттить. Ты иди, а я вслед посмотрю. Поцелуемся, и иди, ─ матерь Человеческая обняла его, крепко поцеловала. ─ Коль выпросился, меч не прячь, держи обнаженным! Не срами наш род, род пахарей и воинов! Башкины смело бились с германцами. Сам царь вручал им Георгиевские кресты за особую храбрость! Конечно, не такой я тебе судьбы желала, другой, чтобы пошел в отца, был пахарем и сеятелем. И из добрых хлеборобских рук кормил люд православный. Но что делать? Война есть война. Прощай, сынок! Благословляю! Возвращайся в дом. Даже калекою,─ она осветила его ласковою улыбкою. ─ Обиды не затаю.
Александр тоже обнял ее за плечи и поцеловал.
─ Не волнуйся, родная. Все будет хорошо. Не каждого на войне убивают.
─Это я уже слышала. Иди. С Богом, ─ она перекрестила его.
Александр в последний раз посмотрел на мать. Посмотрел с небывалою нежностью. Она была как святая в своей крестьянской простоте. Как сама правда, и сама вечность. И сама Русь. Одета в наглухо застегнутое темно-голубое платье, платок низко опущен на лоб. В облике жило величие. И своя женская красота. Но глаза, наполненные слезами, несли неостывающую, неотмолимую боль. Было трудно, горько покидать ее. Стоило большого усилия, повернуться и зашагать в разлуку, в неизвестность. Возможно, даже в смерть. Но идти было надо.
Он взял ее смиренно-послушные руки, поцеловал. И быстро пошел.
Но не выдержал. Оглянулся.
Матерь Человеческая не уходила, стояла одна, среди луга, цветов и трав, озаренная прощальными лучами заходящего солнца; во всей своей женской загадочной красоте и печали. Ее бледные губы неслышно шептали: «Господи Иисусе Христе, матерь пресвятая Богородица, почему не отвели беду, пустили ворога на Русь? Заступитесь за сыновей, услышьте мои слезы, выстраданные в безмужье и печальном одиночестве».
Защемило сердце. Сын как услышал ее молитву и теперь не знал, как снять печаль, усмирить тревогу, развеять ее скорбь. И страдал.
─ Знаешь, Иван, ты тоже иди домой, ─ тихо попросил он.
─ Провожу, тут недалеко, ─ не в лад отозвался старший брат.
─ Я сказал, иди! Матерь проводишь. Ужели не видишь, как тяжело ее сердцу?
Теперь он шагал в Мордвес один, шел по меже луга, по извилистой тропке, по которой ходил в школу, и в дождь, и в снежные бураны, потом на работу. Дойдя до большака, остановился, окинул деревню Пряхино прощальным взглядом. Она одиноко лежала посреди земли и леса, привольно затерянная в лугах и полях, никому не видимая, никому не известная. Но как она была несказанно мила сердцу. Как сокровенно прекрасна в своей обычной деревенской простоте и красоте, в своем домашнем уюте. Все радовало и волновало: и эти бревенчатые избы на взгорье с чарующе-чудесными яблоневыми садами, огородами, прикрытыми жердяными изгородями, и эти колодезные журавли, и эти риги и гумна с непролазною коноплею, страшно и пленительно манящие неизведанностью, своим таинством. И эти березовые рощицы с песнями иволг, и эти старинные дороги, пришедшие из далеких времен, вдоль и поперек истоптанные копытами коней, изъезженные колесами телег и полозьями саней, исхоженные его предками и в лаптях, и босыми, залубенелыми ногами. И эти с милым, загадочным раздольем пашни, где извечно ходили пряхинские мужички за деревянными рогатыми плугами и сохами, и он сам, с семи лет, не стыдился пахарского труда. Где, еще не остыв, густятся в воздухе их песни, их смех и слышен ветровой шелест красных рубах-солнц неутомимых косцов, нарядных сарафанов женщин, жнущих серпами рожь. Хороши таинственные раздумья ив и берез на берегу реки Мордвес, с россыпью крапивы и лопухов на крутогоре, которые каждое утро стоят в целомудренной росистой красоте. От всего невольно, в гордой приятности, замирает душа. Деревня, скрытая сумерками, остывающая после забот и хлопот, смотрит грустно и прощально. В избах горят огни. Кое-где из труб идет дым. Далеко-далеко за рекою, за белым густым туманом скрылся его дом. И терем его девочки Капитолины, с кем он так и не попрощался. Печально, печально! Так хотелось заглянуть в ее ласковые глаза, изловить солнечный лучик, наполнить себя миром любви и жертвенно бы нести по жизни ее светлый, целомудренный облик, не страшась битв и смерти. И земной сиротливости. Они бы и расстались на поле битвы вместе, в одночасье, со всем земным и сущим, поскольку юная красавица-пахарка жила бы в его сердце. Но пряхинская невеста, нареченная Богом, еще не услышала в себе любви. Скорее всего, не услышала! И это тоже было печально! Печально!
Он может больше сюда не вернуться. Возможно, на том лютом побоище его ждет смерть, вечное прощание с миром. И, конечно, на щите в Пряхино не принесут. Что ж, он сам выбрал путь гибели и путь надежды. Выбрал сознательно. Он русич! Он воин! В нем живет сила и праведность России, ее исконный гордый дух. Почему и возносит себя на крест. А где умрет, в отчем доме или на поле сечи, под гусеницами танка или перерезанный пулеметною очередью, и где будет похоронен ─ в братской могиле или в густой и высокой траве, как в зеленом саркофаге, под песню иволги и перезвон голубых колокольчиков, это уже таинство небесных сил.
Он ни о чем не жалеет.
В соборном согласии поднимается за Русь рать неисчислимая.
Он тоже сел в лодию с дружиною. И с великими русскими князьями ─ Олегом, Игорем, Святославом, и, несомненно, с князем Божею. Он тоже оттуда, оттуда, где была и билась за себя древняя страдалица-красавица Русь.
Милая крестьянская родина!
Прощай, прощай! Как хороши были над твоими древними полями хлебные и медовые ветры.
Глава четвертая
ЗАЧИСЛЕН В ТУЛЕ В КОММУНИСТИЧЕСКИЙ ПОЛК, ПОЛК ПРАВЕДНИКОВ И ЖЕРТВЕННИКОВ
I
У Мордвесского райкома партии уже толпился народ. Добровольцы пришли одни, без жен и любимых девушек. Все попрощались дома, наскоро. Зачем удлинять печаль и страдание, оглашать в тревоге притихшие долы и пашни излишним женским плачем? И плачем горевестниц!
Стояла святейшая тишина. Только в сквере, в святилище белоснежной сирени, где пили самогон, грустно-загадочно играла гармонь, и невольно, сладко и чувственно, тревожила душу, неумолимо и настойчиво напоминала о вечно-изумительной красоте жизни и, конечно, о смерти, и звала, звала за поля с гуляющим колосом, за луга, за ветры, где жило эхо, жило таинство. В самое сокровенное, в мир любви, но не битв.
Неведомое тревожило.
Смерть страшила.
По правде. Но правда жила в затаенности.
Все, кто пришел, были строги, суровы. Задумчиво курили, задумчиво слушали ночь и музыку. И было о чем мучить, тревожить сердце. Шла война. Вернутся ли?
Все окна двухэтажного здания райкома партии освещены багрово-мглистым светом ─ горели керосиновые лампы. Движок работал только до полночи. Окна не зашторены. Вражеские бомбардировщики еще не летали над Тулою, Веневом и Мордвесом. В круговороте дел, когда дорога каждая минута, райком партии нашел время поговорить о жизни с каждым добровольцем, кому суждено было влиться в Тульский коммунистический полк.
Очередь шла медленно.
Александр спокоен и радостен. Жил в замирении с собою и с миром. Но внезапно острая, необъяснимая тревога овладела им. Особых причин не было, и он терялся в догадках: откуда с таким повелительным упорством зреет и нарастает ощущение тревожности, бесприютности и одиночества? Чувство одиночества и чувство тоски еще можно объяснить. Он расстался с родными. И душа не может не страдать. Он и в самом деле теперь один. Один со всем миром. С матерью был вместе. И с братьями тоже. Это родственное единение давало ощущение близости, человеческого уюта на земле. Теперь получилось отсоединение. И, естественно, чувство тоски, бесприютности неизбежно.
И все же тревожность была!
Злая тревожность!
Откуда?
И понял, не все выходили из кабинета секретаря райкома партии, по величию, с радостью, что зачислены в Тульский коммунистический полк. Были и те, кто выходил мрачным, злым, прятал лицо от стыда, смотрел вокруг, как пьяный, неуклюже и нелепо раскачиваясь, не скрывая боли и печали. И зло, наотмашь взмахнув рукою, а то и со слезами, быстро, скорбно, тяжелыми шагами покидал приемную. Становилось ясно, не прошел. Жил без строгого закона в себе. Насобирал полный короб грехов. На исповеди грехи апостолы не отпустили.
Вот откуда шла тревожность! И очень злая тревожность. Не возьмут, точно убьет себя! Не переживет отказ, отречение от битвы, от Руси как ее праведник, жертвенник и заступник!
И как будет жить на деревне?
Каждый будет указывать пальцем, как на прокаженного!
Вот откуда шла немыслимо злая тревожность!
Секретарша Нина Акимовна, стареющая, но еще красивая женщина, ободряюще посмотрела на Башкина:
─ Проходите. Ваша очередь,– и открыла дверь.
Он вошел робко, слегка исподлобья, настороженно окинул взглядом членов бюро райкома. Они сидели за длинным столом, накрытым зеленою скатертью, кто курил, кто перебирал бумаги, кто с любопытством смотрел на юношу.
Первый секретарь Петр Васильевич Пенкин попросил представиться.
─ Башкин Александр Иванович, инспектор банка.
─ Возраст?
─ Восемнадцать лет.
─ На фронт идете добровольно?
─ Так точно!
─ С матерью советовались?
─ Благословила.
─ Знаете, что вас ожидает?
─ Я готов умереть за Родину, товарищ секретарь райкома партии, ─ подтянувшись, отозвался доброволец.
Петр Васильевич поиграл карандашом:
─Умереть за Родину, юноша, ума большого не надо. Сводки Информбюро несут тревожные вести. Русское воинство сдает город за городом, фашист подступает к Смоленску, к Вязьме! Родина ждет от вас остановить врага!
─ Остановим! ─ сжав кулаки, заверил Башкин. ─ Почему и прошусь на фронт!
─ Для фронта вы молоды, ─ не порадовал его секретарь райкома. ─ В армии не служили, искусство воина неведомо. Я вижу, вы умны, сильны духом, несете в себе честь и дисциплину, но одна храбрость вам не поможет.
Александр встрепенулся:
─ Я не был в армии, но готовил себя к защите Отечества! В Досаафе я научился метко стрелять из самозарядной винтовки Токарева, из пулемета Дегтярева. Тир в Мордвесе посещал постоянно. Далеко и метко бросаю гранаты. Имею значок «Ворошиловский стрелок». Им награждаются самые меткие и достойные. Участвовал в марш-броске. Показал завидную выносливость. Прошу зачислить в коммунистический полк, отправить на фронт. Клянусь защищать Отечеств до последней капли крови, не щадя жизни.
Пристально посмотрев на юношу, секретарь райкома с улыбкою вымолвил:
─ Я вижу, вы человек непоклонный! Вас не отговоришь. Что ж, как решат члены бюро! У товарищей есть вопросы?
Взял слово начальник районного отдела государственной безопасности капитан Николай Алексеевич Макаров, он без обвинительного нажима поинтересовался:
─ Среди ваших родственников был кто арестован как враг народа?
Башкин невольно вздрогнул.
─ Вы имеете в виду близких родственников? Отец мой Иван Васильевич Башкин был в Пряхине председателем колхоза. Выстраивая новую жизнь, тянул в четыре жилы, надорвался. Умер в декабре 1940 года. Мать Мария Михайловна знатная колхозница. Братья и сестры репрессированы не были.
Капитан госбезопасности прицельно посмотрел:
─ Яков Захарович Вдовин кем вам приходится?
─ Я плохо разбираюсь в родственной иерархии. Он был братом моего дедушки.
─ По матери?
─ По матери
─ Михаила Захаровича?
─ Совершенно справедливо.
─ То есть родственником?
─ Получается, родственником.
Капитан государственной безопасности утонченно-вежливо поинтересовался;
─ Его раскулачили?
На душе у Башкина стало горько и тоскливо, чекист-Пилат погнал на эшафот, на распятье.
─ Естественно, раскулачили, раз кулак! Добро, нажитое воровски, конфисковали. Сам Яков Вдовин был арестован, осужден по 58 статье. И сослан на Соловки.
─ В таком случае, почему вы скрыли от Советской власти, не указали в анкете, что ваш родственник Яков Захарович Вдовин был мироед и репрессирован? ─ пытливо посмотрел чекист.
─ В анкете сказано, назвать имя близкого родственника? А он какой мне родич?
Капитан госбезопасности со значением взглянул на секретаря райкома партии:
─ При зачислении комсомольца Александра Башкина в Тульский коммунистический полк просил бы вас, Петр Васильевич, учесть факт сокрытия им о кулаке-родственнике, кого возмездием, справедливо достал меч диктатуры пролетариата. Юноша склонен ко лжи.
─ Я бы не стал, Николай Алексеевич, заострять отдаленные родственные связи, ─ смело и неожиданно заступился вождь коммунистов. ─ Деревня особое государство. Крестьяне живут общиною. В какую избу ни загляни, отыщутся свои кровники. Не вижу здесь лжи и обмана.
─ Ваше суждение не лишено смысла, Петр Васильевич ─ неожиданно согласился начальник отделения НКВД Макаров. ─ Люд в деревне и в самом деле живет вместе, как огонь в светце.
Он повернулся к Башкину:
─ Как я понял, вы не отрицаете, что Михаил Захарович Вдовин приходится вам дедом?
─ Не отрекаюсь. Он мой дед.
─ По материнской линии? ─ еще раз пожелал уточнить чекист.
─ Да, моя мама его дочь.
─ Как считаете, он не был кулаком?
─ Насколько мне известно, он был пахарем! ─ защитил его Александр Башкин.
─ Не мироедом? ─ начальник Мордвесского отдела НКВД зло и насмешливо улыбнулся. ─ Ваш дед Михаил Захарович имел самый большой дом, выстроенный из отборного дуба! Держал стада лошадей, коров, овец. Нанимал батраков! По законам революционным и Советской власти, тот, кто наживал добро чужим горбом, считается врагом народа. И ваш дед был кулак. Почему же его не раскулачили?
─ Вы у меня спрашиваете? ─ искренно удивился юноша.
─ А у кого надо? ─ со значением посмотрел чекист.
─ У того, кто имел право раскулачивать. У ЧК, у прокурора. Раз не раскулачили, значит, не было причин. И не могло быть. Мой дед Михаил Захарович превеликий мастеровой. Он тот, на ком Русь держалась. Он сам ходил за плугом, сам был косцом. Сам сгребал сено и возил его на скотный двор, сам ходил за скотиною. Он умел делать все: он и кузнец, и колесник, и тележник, и бондарь, плел из лыка лубяные лукошки, севалки и лапти, мог гончаром, делал кувшины. Он любил Россию, ее старину, ее печали и радости ─ до зависти любил, до молитвенного поклонения.
─ Свою, кулацкую! ─ не удержался зловеще заметить капитан государственной безопасности.
Башкин растерялся. Спорить с чекистом было бессмысленно и опасно.
─ Не знаю, возможно, и кулацкую, ─ в смущении согласился он. ─ Но именно дед Михаил Захарович научил меня любить Отечество, ее древность, ее историю, все, что есть на Руси великой: и березовые рощи, и пашни с колосом ржи, и даже крапиву, растущую на крутогорье в ожерелье росы. Я и на фронт ухожу добровольцем на защиту Отечества, поскольку понял, что такое Русь, и понял именно в его сказании. Я не разумею, за что дедушку надо раскулачивать?
─ Похвально, похвально, юноша, что вы так ретиво заступаетесь за близкого родственника, ─ не скрыл иронии чекист. ─ Но скажите, разве ваш отец не батрачил на кулака Вдовина?
Башкин испытал растерянность; злая, без прощения, наступательность сильного человека, сбивала его с мысли, будила боль.
─ Не знаю, ─ тихо вымолвил он.
─ То есть, как не знаете? Не знаете, работал ли ваш отец на кулака Вдовина или не работал?
─ Он работал на себя.
─ Значит, работал?
─ Да, работал. Но отец не был батраком в классическом смысле. Он крестьянствовал, имел свое поле. Пахал его, засеивал. Но земли было с лошадиное копыто. У отца было три сестры: Евдокия, Маланья и Агафья. На женщин наделы не давали. Семья же сложилась большая, одиннадцать душ. Прибытка не хватало. И отец ходил на заработки к Михаилу Захаровичу, и не только он, по осени на его угодья сбегалась вся округа. Он платил щедро, за сутки ─ пуд зерна! Отец трудом не гнушался, был от сохи, от земли, честен, справедлив! Почему народ и избрал его председателем колхоза.
─ Ваш отец Иван Васильевич коренник земли Русской. Добрая слава о пахаре живет и после смерти, ─ согласился капитан госбезопасности. ─ Но разве мы говорим за отца? Мы говорим за вашего деда! Если он держал батраков, то почему не раскулачен? Загадка! Не знаете ее отгадку?
─ Вы уже спрашивали. Я сказал, не знаю, я только знаю, Михаил Захарович не держал батраков! Люди сами с молитвами, со слезами просились на работу! В силу чего, Советская власть посчитала его другом народа, а не врагом.
─ Не исключено, ─ с сарказмом отозвался чекист. Он отодвинул кожаную фуражку со звездою, бережно достал из планшетки документы. ─ Я случайно нашел в архиве любопытный ордер, подписанный прокурором. Он выписан в тридцатые годы Тульским ВЧК. В ордере сказано: Михаил Захарович Вдовин есть враг народа, ибо имущество нажито трудом батраков, и посему имущество конфисковать, а самого арестовать и судить. И сослать на Соловки! Вот какая печаль, Александр Иванович. Ваш дед ─ кулак! И подлежал раскулачиванию.
Башкин снова возразил:
─ Мой дедушка не был арестован, а, значит, не был кулаком! Только суд может установить, кто кулак на деревне, а кто не кулак? И за что его судить? Михаил Захарович по чести и по совести передал свое имущество трудовому народу! И имение, где было правление колхоза, и лошадей, и коров, и землю, и трактор «Фордзон»!
Капитан госбезопасности задумчиво помолчал:
─ Я вижу, вы человек с умом, юноша! И сумеете осмыслить, Михаил Захарович передал свое имущество колхозу не потому, что в мгновение возлюбил народную власть, а знал, так и так возьмут. Где вы увидели благородство, юноша? Честь и совесть кулака? И была ли когда честь и совесть у кулака?
Он вдумчиво помолчал:
─ Теперь я объясню вам, почему ваш дедушка не был арестован? Почему не был судим? И почему не был сослан на Соловки? От ареста Михаила Захаровича спас ваш отец! Он сумел убедить чекистов в невиновности местного богача. И те изменили мнение о человеке, на котором, как вы говорите, Русь держалась. Ваш отец был председателем колхоза, это и решило исход дела. Ему пошли навстречу, оставили в миру кулака Вдовина под его ответственность. Но осложнения могли возникнуть в любое мгновение. И ваш отец тайною зимнею ночью подогнал вороную тройку к дому Вдовина, тепло приодел и быстро-быстро отвез в санях Михаила Захаровича, его жену и дочь в Приваловку. Так что, как не крути, а получается, милочка, что вы внук кулака!
─ И пора его расстрелять! ─ весело заметил секретарь райкома комсомола.
─ И расстреляем, если потребуется! ─ он грозно сдвинул брови, невольно трогая револьвер в кобуре. ─ Что за шуточки? И последнее. В народе говорят: скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты? Вы согласны?
─ Мудрость неоспоримая, ─ подтянулся Башкин.
─ В таком случае, желаю знать, вы еще водите дружбу с Леонидом Ульяновым?
─ Он мой первый друг.
Капитан госбезопасности горделиво, победоносно осмотрел членов бюро, продолжил допрос:
─ Вы разве не знаете, что его отец Павел Данилович поджег амбары с зерном? И был расстрелян как враг народа в тюрьме на Таганке? Вы со смыслом выбираете так друзей? Или решили погулять в ореоле героя? Выразить любовь к оскорбленному, расстрелянному? Мол, смотрите, вся деревня отвернулась, отреклась от сына врага народа, как от прокаженного, а я не предал! Один! Я человек, во мне живет жертвенная неотреченность! Я знаю правду! Пахарь от земли и плуга не мог поджечь ригу! Зачем ему? Безвинного расстреляли чекисты. Я знаю, а вы, деревня, не знаешь! Вы толпа! Бесстыдная и злая, раз отреклась от человеческой боли. Надо верить в человека, в его боль и правду.
Он помолчал.
─ Поясните, ваша клевета на чекистов, Советскую власть, наконец, храбрость от Бога? Или от безмудрия?
Башкин уже понимал: канаты обрублены, паром устремлен в половодье реки; его не зачислят в коммунистический полк. Печально! Но себя и друга Леонида он в обиду не даст.
─ Вы, товарищ капитан государственной безопасности, красиво изложили мои мысли! Но то ваши мысли, ваши, а не мои! Я совершенно так не думал, и не думал клеветать на чекистов и Советскую власть, и не слышал себя героем, а, скорее, слышал себя человеком, что не предал друга в беде, не разладил дружбу. И не вижу в том ничего порочного, товарищ Сталин сказал: сын за отца не отвечает.
─ Разумно, разумно, ─ серьезно отозвался чекист, невольно подтянувшись, поправляя портупею с кобурою. ─ Мы помним святые слова, сказанные великим товарищем Сталиным. И все же выбирать друзей следует разумнее, если сами не желаете оказаться в тюрьме.
Башкин не сдержал себя:
─ Вы клянете и клянете друга Леонида Ульянова в каждом смертном грехе, а он первым принял удар фашистов в Белоруссии, и теперь отчаянно, под пулями и бомбами, бьется не на жизнь, а на смерть, защищая Русь святую. Он воин Отечества! И я горжусь им. И завидую ему.
Офицер НКВД дал себе волю:
─ Ваш друг Леонид Ульянов, сын врага народа, уже сдал Белоруссию фашистам! Враг подступает к Смоленску, рвется к Москве! ─ лицо его стало жестким, бледным. Глаза смотрели бешено и угрожающе. Сам он обратился в грозу, в камень. Но быстро спохватился, взял себя в руки. Снова стал важным, горделивым.
Повернулся к членам бюро:
─ Не знаю, станет ли важною моя колхозно-кулацкая летопись, но обнажить ее я был обязан по долгу службы.
Возникло угрюмое молчание. Его нарушил председатель райисполкома Юрий Сергеевич Кедров:
─ Да, надо все обдумать. Тульский коммунистический полк ─ военная святыня. В гордую, праведную рать должны влиться люди чистые и честные.
Встал секретарь райкома комсомола Моисеев.
─ Я не понимаю, кого мы судим? Если великий Сталин сказал, что сын за отца не отвечает, то почему должен отвечать внук за деда? Он что, был раскулачен, арестован, судим? Зачем же списывать его во враги народа? Имеем мы право без суда определять степень его вины? Бездоказательно обвинять? Отвергать его житие? Я знаю Михаила Захаровича Вдовина. Был зажиточный мужик, да! Первый книгочей в округе, вольнодумец! Не исключено, и наживался на крестьянском труде! И что он теперь? Несет обиду на Советскую власть? Взял обрез и ушел в банду в леса? Нисколько! Работает конюхом в колхозе в Приваловке, осудил прошлое. И вместе с народом строит коммунистическое общество! Над чем мы должны подумать, Юрий Сергеевич?
─ Ждете ответа?
─ Настаиваю. Платон мне друг, но истина дороже, ─ он галантно поклонился.
─ Сами не можете ее осмыслить? ─ укорил без милости и пощады.
─ Не могу. Мой далекий прапрадед Иван Моисеев был стрельцом. И шел бунтом на государя всея Руси Петра Первого. И был казнен. Как враг народа. Что ж, казните и меня! Я праправнук великого мятежника!
Секретарь райкома партии Петр Пенкин внушительно постучал карандашом.
─ Потише, потише, разошелся. Так бы работал, как ораторствуешь. Дал в добровольцы трех комсомольцев и уже в бубен бьешь, как скоморох на ярмарке.
─ Но зато, какие добровольцы! Три богатыря, с картины Васнецова! Ратниками бились бы за Русь святую на Куликовом поле! ─ неунывающе отозвался Моисеев.
─ Я согласен с вождем комсомола, ─ выразил свое мнение военный комиссар Клинов. ─ Война всему научит, все простит. Мы все граждане одной державы: и наши деды, и мы. Зачем делиться на красных и белых? Тем более, когда Отечество в опасности. Александр Башкин смел и честен. Будет хорошим воином!
Секретарь райкома партии в раздумье произнес, и больше для себя, чем для членов бюро:
─ Юноша рвется на фронт, он полон решимости защищать Отечество, ему бы низко поклониться за желание отстоять его. Или умереть. А мы шлем проклятья его деду. Где логика? Здравый смысл? Никакой любви к своим героям, Родине. Полагаю, было бы неосмотрительно не поддерживать благородные устремления юности. Но, вместе с тем, раз возникли сомнения, надо еще раз все вдумчиво осмыслить. Мы даем путевку в коммунистический полк, а не в гарем к царю Соломону! ─ Он позвонил в колокольчик.
Вошла секретарша.
─ Кто следующий?
─ Василий Сивков. Из деревни Оленьково. Член партии. Тракторист, есть награды.
─ Просите, ─ взглянул на Башкина, не скрыв усталости. ─ Побудьте в приемной. Мы вас вызовем.
Александр посмотрел на багровое пламя лампы, с ровным колебанием горевшее в плену закопченного стекла, на лицо первого, окинул скрытым взглядом членов бюро райкома партии, медленно вышел из кабинета. Вышел растерянный, измученный неожиданными допросами, холодея от мысли ─ не прошел. Ожидание не сулило ничего хорошего, утешительного. Да, не зря он тревожился! Не взяли, отвергли! Обесчестили перед Отечеством! Неужели так и будет?
Его охватил ужас. В сердце зрели гнев, негодование. За что? За какую вину? Куда пойдет, если не возьмут? К реке, к омуту? К петле? Скорее всего, обратно домой. Примут его, униженного, оскорбленного, отверженного? Со стыда сгоришь. Мать уже простилась, свыклась с разлукою, одиночеством. Благословила на битву. На защиту Отечества. И даже на смерть. Как воина. А он заявится согбенный, с жалкою, виноватою улыбкою. Не вздрогнет ее сердце в новом страдании? В оскорбленной печали? Посылала на фронт как человека, а он вернулся бродягою! Всеми презираемый, отверженный! Зачем растила? Для горечи? Мук? Слез? И как он станет жить с матерью? Только непримиримо? Как чужие миры во вселенной? Она не простит! Моли не моли о пощаде. Он обманул ее веру, ее надежду. В сына!
Со временем, возможно, смягчится, измучив себя бедою. Вновь понесет ему любовь и нежность. Но будут ли они от сердца, с прежнею, целомудренною силою? Не станет ли горестной обманности в ее любви? Боль не отпустит ее. Будет жить, в глубине души, в затаенности. И будет мучить, мучить. И сам, как он будет жить? При его гордом характере? Будет он теперь, живя одинаково болью, стыдом, униженностью, будет он теперь гордо и сладостно видеть, как колосится рожь в поле, как светят звезды в небе, задумчиво стоят березки? Как людям станет в глаза смотреть? Любимой? Как, если сам будет жить в страдании и отчаянии? И слышать до могилы в себе стоны, проклятия и печали, и свои, и матери. Смерти запросишь.
Трудно, бесконечно трудно представить себе, что будет, если не возьмут на фронт! Нет ничего страшнее, если Родина отвергнет тебя, своего сына.
Он стоял в коридоре, думал и смотрел в окно. Уже светало. Разгоралась заря. Она несла в мир красоту и благоденствие. В его же глазах стояли слезы.
Плачет он.
Плачет Отечество.
Почему они в горе разделены?
Башкин не заметил, как подошел первый секретарь райкома комсомола, весело пощелкал пальцами:
─ С тебя причитается, Сашок!
─ Не томи, ─ со слезами потребовал Александр.
─ Зачислен в коммунистический полк! Но сам понимаешь, окончательное решение примет обком партии. Все будет хорошо! Ну, сражайся! Славь Мордвес, Родину.
Прощаясь, не разжимая рукопожатия, Николай Моисеев задумчиво произнес:
─ Вот так и живем, братка. Не берут на фронт, плачем, идем на смерть – радуемся. Кто поверит через сто, двести лет, что мы так жили. Но жили именно так. Ибо очень любили Родину.
II
Утром с первым поездом отряд добровольцев из Мордвеса через станцию Узловая отправился в Тулу. С Ряжского вокзала шли строем до центра города под командою офицера военкомата Сергея Воронина. Расположились на площади у обкома партии, на проспекте Ленина, 51. Площадь заполнена людьми до отказа. Здесь рабочие оружейных заводов, горновые домен Косой Горы, машинисты паровоза, шахтеры, слесари депо, офицеры милиции, актеры драматического театра. Все добровольно пришли записаться в Тульский коммунистический полк, готовые ценою жизни защитить страдалицу Россию. Грозовая сеча-битва уже чувствовалось. По дорогам Тулы по печали двигались беженцы, женщины и дети, старики и старухи. Слышался русский, польский, белорусский говор. Ехали на подводе, на велосипеде, шли пешком, несли чемоданы и рюкзаки, катили повозки, загруженные домашним скарбом, все, что могли взять с собою, покидая разбомбленные, разрушенные дома, объятые пожаром.
Подъезжали санитарные автобусы, у госпиталя живо, суетливо выгружали раненых бойцов. Сюда же раненные ехали на телеге. Шли соборно, опираясь на костыли, с трудом поддерживая друг друга. Бинтовые повязки на голове, на груди были красны от крови. Глаза смотрели грустно: прежняя праведная ярость истаяла, ушла в испуг, в недоумение перед жизнью и смертью.
─ Неужели так близко война? ─ удивился Николай Копылов.
─ Как видишь, ─ задумчиво отозвался Башкин.
Они сдружились и теперь были неразлучны.
Мимо проходила пожилая, иссушенная горем женщина, катила перед собою детскую коляску. Копылов остановил беженку.
─ Мать, как там? ─ спросил по боли.
─ Жутко, сынок. Фашист во всю свирепствует в Белоруссии. Убивает, жжет хаты. Дьявольское племя пришло на Русь, беспощадное. У меня дочь убили. Изнасиловали скопом и убили. Обнажили ее и, смеясь, надругивались. При мне, милый. Жутко! Жгли ей груди. Затем распяли на березе и расстреляли. Окаменела я, отяжелела от слез, от страшной, скорбной правды. Ничего не слышу, ни себя, ни земли, ни неба, ни голоса человеческого, ни голоса Божьего. Ты, милый, прости, как призрак передо мною, издали, как с того света говоришь. ─ В коляске заплакал ребенок, она нагнулась, поправила одеяльце. ─ Везу дочку мученицы, внучку свою, к спасению. А где оно? Не ведаю.
─ Как зовут красавицу?
─ Олеся, ─ женщина пошла дальше по проспекту Ленина.
Александр Башкин остановил ее:
─ Подожди, мать. ─ Догнал ее, положил в коляску пироги, сахар, в свертке домашнее сало, что насобирала ему в дорогу Мария Михайловна. ─ Пригодится в дороге.
─ Спасибо, милый, ─ низко поклонилась женщина, с любовью перекрестила. ─ Дай Бог здоровья и долгой жизни!
─ Даст, не отрекусь, ─ он погладил по головке малютку Олесю. ─ На фронт иду, мать, врага бить! Хочу дожить до народной радости! Горько и печально будет, если звезда моя истает в небе раньше.
Женщина вдумчиво посмотрела на Александра. Попросила руку, изучила ее. И дала поцеловать икону святой Богоматери.
─ Переполнен скорбью твой путь, милостивый человек! Но до победы доживешь! И ордена вижу! Колдунья-пророчица я, верь моему слову. Ты не оставил в беде беженку, Бог не оставит в беде тебя, он сам мученик-беженец, кого распяли звери на распятье!
И женщина, была, не была, повезла детскую коляску с Олесею дальше.
Александр в задумчивости постоял. Вернулся к другу:
─ Война только началась, а уже, сколько мечется в диком вихре над землею Русскою человеческого горя!
III
Члены бюро Тульского обкома партии беседовали с добровольцами в здании областного драматического театра имени Максима Горького. Ожидание всегда томительно. Но вот на парадное крыльцо вышли командир стрелкового корпуса Тульского гарнизона Иван Бакунин и секретарь горкома комсомола Евдокия Шишкина. Генерал строго оглядел площадь, вмиг притихшую, замершую от людского говора, смеха и песен, подозвал к себе офицера Воронина:
─ Из Мордвеса?
─ Так точно!
─ Ваша очередь!
Взяв чемоданы и рюкзаки, братва беспорядочно устремилась в здание театра. Члены бюро расположились на сцене. Вызывали по очереди. Александр Башкин шел седьмым по списку.
Он шагнул на сцену, как на эшафот. Тревожность измучивала необоримая; поселилась в душе злою, нежеланною змеею-самозванкою и никак было ее изгнать. Больше всего он боялся, не позвонил ли в Тульское управление НКВД капитан государственной безопасности Николай Макаров, не ссыпал ли горстями лжи в его сторону, не осквернил ли его чистую, целомудренную безвинность, став Пилатом? И не вынесен ли уже приговор? Такое раздумье и тревожило печаль, обреченность, гасило дивную светлынь в сердце; еще не взял винтовку, не поднялся в атаку, а уже печали, печали.
Он даже слышал, стоит у гильотины, с палачом, и ощущает холодное острие топора.
Судьями собралась вся верховная власть: первый секретарь обкома партии В. Г. Жаворонков, второй секретарь А. В. Калиновский, председатель облисполкома Н. И. Чмутов, начальник управления НКВД майор государственной безопасности В. Н. Суходольский, первый секретарь обкома комсомола М. С. Ларионов, военные, седовласые рабочие ─ с Косогорского металлургического завода, с оружейного, от шахт Мосбаса. Соборность превеликая.
Василий Гаврилович Жаворонков одет в офицерскую шевиотовую гимнастерку, подпоясанную широким ремнем, на груди сверкали ордена Ленина и Красного Знамени. Высок и широкоплеч, кость крестьянская, щеки выбриты до синевы. Лицо утомленное, но глаза живые, движения властные, спокойные.
Он вдумчиво посмотрел на юношу:
─ Как прикажете вас величать?
─ Башкин Александр Иванович.
─ Кем работали?
─ Пахарем в колхозе, в Пряхино, затем финансовым инспектором в банке Мордвеса.
─ Какова семья?
─ Мать, братья и сестры.
─ Не потеряют они кормильца?
─ В семье трудятся мать и братья.
─ Идете добровольно? ─ продолжал заинтересованно спрашивать Жаворонков.
─ Так точно, товарищ секретарь обкома партии! ─ подтянулся Александр Башкин.
─ Сколько вам лет?
─ Девятнадцать.
─ Не преувеличиваете возраст?
Башкин покраснел, удивившись его отеческому вниманию, его прозорливости.
─ Скоро будет, ─ поправился он.
─ Так желаете на фронт?
─ Очень желаю, ─ кивнул он.
─ И сумели осмыслить опасность, какая грозит? Ведь война, могут убить.
─ За смерть пока не думал! И зачем? Философы уверяют: когда мы существуем, смерть еще не присутствует, а когда смерть присутствует, мы уже не существуем!
Секретарь обкома улыбнулся:
─ Эпикура читаете?
─ Дедушка был на деревне книгочеем, жизни учил. И любви к Отечеству.
Василий Жаворонков прогулялся:
─ Вам прямо с поезда, с колес, придется вливаться в битвы, сдерживать танковую армию Гудериана, отборные дивизии СС «Тотен Копф». Вашему полку выпало преградить путь крестоносцам-завоевателям к Туле и Москве. Ценою жизни, сынок, жертвенно!
─ Наказ партии выполним! ─ подтянулся Башкин. ─ Все века стоит Тула на страже Русского Отечества! Ужели позволим фашисту топтать Тулу! Русский солдат не позволит, товарищ секретарь обкома! Сами придем в Берлин!
Василий Гаврилович вдумчиво заметил:
─ Хорошо, сынок, очень хорошо, что в вас живет такая убежденность. Я тоже верую в жертвенность русского солдата. И в победу!
Он взглянул на помощника Барчукова:
─ Направление от Мордвесского райкома партии на юношу имеется?
─ Так точно, Василий Гаврилович.
Теперь он с прищуром посмотрел на членов бюро, заглянул в глаза каждому седовласому рабочему:
─ Как, товарищи, доверим юному воину Россию?
Послышались голоса:
─ Доверим.
─ Молодцом смотрится.
─ Вожак комсомола в Мордвесе!
Жаворонков тепло положил руку на плечо Александра:
─ Воюй, сынок. И береги себя. Пусть мать в горе не плачет над твоею могилою.
Сказано было с тихою грустью и со скрытою болью. Секретарь обкома с жестокою ясностью понимал, юношу-воина на гибель. Его и все ополчение. Но другого выхода не было. Просто не было. Они, мальчики, должны были приостановить у Смоленска фашистское воинство. И жертвенно пасть на поле битвы. Во имя России, любви и свободы. Так им выпало. По воле судьбы. По воле рока. По воле богов. Больше было некому остановить танки Гудериана. Только им. Только собою. Армии сражались в окружении. Он бы у каждого, у каждого прилюдно попросил прощение, даже коленопреклоненно, ибо слышал свою вину и свою боль, что посылает на смерть красивую поросль земную. Но расслабляться было нельзя!
IV
Его друг Николай Копылов тоже был зачислен в Тульский добровольческий коммунистический полк. Журналиста газеты Николая Пекина не взяли. Не взяли из-за зрения! Горечь отказа сильно расстроила юношу. Он испытывал откровенную печаль и тоску, его мучило ощущение сиротливости, было горько, было очень горько, что его назвали лишним на пиру битвы за Отечество. И, несомненно, несомненно, слышал себя предателем Отечества! И теперь, прислонившись к тополю, сильно плакал. Александр Башкин, как мог, успокаивал печальника; было жутко видеть, как отчаянно горько плачет мужчина.
Тракторист Вася Сивков, которого тоже не взяли из Мордвеса как добровольца, напротив, был весел и беспечен.
─ Навоюемся еще! Хе, хе, рот в сметане, сам в грехе. Какие наши годы? Была бы оказана власти честь, а в пекло сдуру зачем лезть?
─ Скажи, поджилки затряслись, ─ прямо осудил его Копылов.
─ И затряслись, если честно, ─ не стал скрывать земляк. ─ Видели, толпы и толпы везли из-под Смоленска раненого брата, слезы, печали, стоны, все залиты кровью ─ и в груди заломило. Не моя это работа, война! Я хлебороб и сеятель; солнце всходит, рожь подходит, трактор жать ее выходит, ─ скороговоркою выговорил он, доставая бутылку с самогоном, отпивая несколько глотков.
Налил в стакан Башкину:
─ Угостись первачком, банкир! Я помню, с каким трудом ты мне, комсомольцу, ссуду выбил на строительство дома! Мы доброе не забываем.
─ Не пью, дружба,– вежливо отказался Александр.
─ Ты, земляк? ─ он подал стакан с самогоном Копылову; он тоже принял отречение. ─ Не печалюсь. Переживем. Самому больше достанется.
Он посмотрел на журналиста:
─ Плакальщиц не ценю, им не подаю. Нище говорил, кто по жизни слаб, тот по жизни раб!
Выпил сам:
─ Вижу, сердитесь. Не в чести я у вас, ─ он закусил хлебом и салом. ─ Конечно, вы теперь воины Руси великой, а я кто? Эх, эх, вам хорошо, вы холостые, ножевые, ни супружницы, ни бегунков мал мала меньше. Убьют, кто плакать станет?
─ Мать опечалим, ─ тихо уронил Башкин.
─ Мать, конечно, серьезно! Но мать ─ женщина, она вечно в тревоге, и с сыном, и без сына. Такова ее земная быль! От Бога! Она святая, а мы, ее сыновья, вечные грешники, блуждающие странниками по роковому лабиринту жизни. Нам бы рваться к солнцу, как Икару, где жизнь, а мы, непутевые, все там, где стонущие метели, и смерть, смерть! Как матери не тревожиться? Мы ее плоть. Разрушим себя, разрушим ее.
Он выпил самогона:
─ Признаться, я крови с детства боюсь. Курице не могу голову отрубить. Убегаю, когда сестра берет топор и волочет ее за крыло бесстрашно на пень. Сильно, сильно сострадаю мученице-жертвеннице. Так печалюсь, себя теряю! Больно слышать ее предсмертное кудахтанье, ее мольбу о пощаде! И рассудите, какой из меня вояка? Убийца? Однажды сам возвел курицу на лобное место, а она возьми и вырвись. И долго-долго летала по двору, без головы, пока не упала. Жуткое зрелище! Меня весь вечер водою отливали. Воином, земляки, надо родиться! У каждого на земле свое призвание: тот встал у пушки, этот у пера, как разумно заявил поэт Сергей Есенин! Я, как видите, у сохи! Если я от курицы испытываю, слезы и омрачение, то, как видеть человека с отрубленною головою, что бегает по полю битвы? Крестом на землю упаду, слезами зальюсь в бессилии! Расстреливай, не поднимусь! Какой от меня Родине прок на поле сечи?
На поле битвы за хлеб ─ я там, где надо! Когда я вывожу трактор на пашню, опускаю острый лемех в землю, во мне просыпается молитвенное песнопение! Я землю сердцем чувствую! И колос ржи сердцем слышу, как живую, стонущую плоть! И какое ликование просыпается в душе, как играет заливистая гармоника, когда колос по милости начинает на молотилке отдавать, ссыпать полновесное зерно в суму народную. И потекли, потекли караваи хлеба людям! На этом вживую стоит жизнь, Русь!
А смерть за Родину, что это такое? Поверите, не поверите, а ей, благословенной, совершенно безразлично, убьют Василия Сивкова, не убьют! Благословенная даже не заметит меня убитого, лежащего в пыли и крови, не всплакнет, не зарыдает, не склонит ветки берез на мою могилу. Она безжизненность. Символ. Молчаливая святыня, ─ продолжал философствовать Сивков, не забывая отхлебнуть из бутылки самогонки. ─ Это к красивому слову говорят: Родина-мать, а какая она мне мать? Она что, кричала от мук, когда я проклевывался на свет? Тянулся к солнцу? Мать мне Василиса Ивановна, в ком я и стал завязью, человеком.
─ Стал ли? ─ усомнился Копылов.
─ Сомневаешься? Потрогай. Присутствую на земле. Мать дороже живая, та, которая по правде! Та, которая с чувствами, с молитвами, со слезами. Она за провинность и оглоблею крест-накрест вознесет, уму подучит, а завершится безумие, посмотрит на сына обиженного, плачущего, в жалости обнимет, боль и печаль смирит! Я слышу матерь Человеческую! И матерь Человеческая слышит меня!
Ушел я на битву, убили, кому станет страшно? Родине? Прав вожак комсомола Башкин!
Копылов брезгливо посмотрел:
─ Красиво подвел. Прямо Змея-принцесса! Корону ему, корону на царствие Руси!
И гневно произнес:
─ Скажи прямо, струсил, и нечего с сатаною кадрили на вечерке у реки Мордвес выплясывать!
Философ от Ницше Сивков злобою не вскипел:
─ Дурни вы, я вам о слабости характера, о красоте души, которая не принимает убийств, а вы меня огульно спешите в Иуды списать, без пощады и милосердия.
─ Мы, значит, палачи? Убийцы? ─ продолжал в ярости тревожить себя доброволец.
─ Зачем? Вы тоже не убийцы. Но вы сильнее меня, ─ честно признался он. ─ Я знаю древнюю Русь, и вижу, вы воины! Воины-русичи! Вы явились на Русь с мечом и с гербовым щитом! В вас крепь князя Олега, князя Игоря! Вы вешали щит на стены Царьграда, плыли со Святославом на лодии по Днепру, гнали разгоряченного коня в Дикую степь, бились с половцами, со скифами. С великим князем Владимиром Красное Солнышко крестили Русь; часто, часто по звоннице Киевской Софии, спасали Отечество, а я кто? Вы же знаете, какие были на деревне кулачные бои! Кто был первым в Пряхино в кулачном бою? Александр Башкин! Тонок и гибок, как тростник, а стоек немыслимо, его все ценили за бесстрашие! А я? Вышел на кулачный бой, и с первого удара лечу на землю. И на войне так будет. Ужели вам не жалко слабого человека, а земляки?
Из обкома партии вышел и быстро подошел к добровольцам офицер военкомата Сергей Воронин.
─ Все, други! Документы на вас оформляются. Вы передаетесь командованию Тульского гарнизона. Желаю сдержать фашиста, вернуться живым!
Он каждому добровольцу вдумчиво, отечески пожал руку. И небрежно кивнул Пекину и Сивкову:
─ Вы же, пустоцветы, со мною на вокзал. Полетим обратно в Мордвес сломанными стрелами Робин Гуда.
Друзья посмотрели им вслед,
─ Жалко Колю Пекина. Верую, был бы боец-храбрец, ─ грустно уронил Копылов.
─ Сивкова? ─ тихо спросил Башкин.
─ Он сволочь! Зачем ему Россия? Была бы самогонка да жаркая жена в постели. Еще философию Ницше под свою жизнь Иуды подвел.
─ Как же он в добровольцы записался?
─ Погеройствовал с горячки. Как никак с партийным билетом. Увидел в Туле близкую смерть, дал отступного. Порода такая, скотская! Он и в деревню Оленьково вернется героем. Обвинит обком партии, отпетые чинуши заседают! Фашист бомбит, жжет Россию, страдалица в беде, в печали, я рвусь на битву, Родину защищать, а мне, воину Руси православной ─ отказ. Такая власть! И народ ему изольется слезою, сочувствием! Как же, велико надругались над пахарем и воином Руси! Он к моей сестре Катерине сватался. Печальная личность! Он и в партию вступил, чтобы жить выгодно.
Тульский добровольческий коммунистический полк был создан с 24 по 27-е июня 1941 года. Все, кто прошел чистилище обкома партии, были собраны в зале Оружейного училища, где ополченцев постригли, вымыли в бане, сытно покормили. И отправили колонною с офицерами военкомата на Косую Гору, в полевой лагерь. Всего насчитывалось три тысячи добровольцев. Создано двенадцать рот, в каждой по 250 воинов. Командирами рот были назначены старые большевики, кто воевал в Гражданскую.
В лагере воинам выдали гимнастерки без знаков отличия и польские плотные темно-синие галифе. С зарею начинались занятия, вели преподаватели Тульского оружейного училища. Изучали пулемет Дегтярева, ротный миномет, самозарядную винтовку Токарева, гранаты. Совершали марш-броски на сорок километров. В Туле несли патрульную службу по охране революционного порядка, задерживали з шпионов, провокаторов-сигнальщиков, охраняли военные заводы.
14 июля в расположение лагеря прибыл секретарь Тульского обкома партии Василий Гаврилович Жаворонков.
Он прошел перед строем, внимательно вглядываясь в лица добровольцев, сурово произнес:
─ Воины России! Фашистские орды прорвали фронт южнее Смоленска. Теперь им строго надо окружить и уничтожить древний город, для чего в Ярцево высажен десант с громовыми орудиями и танками. Приказом Государственного Комитета обороны и лично Сталина Тульскому коммунистическому полку предписано ликвидировать десант и тем защитить Смоленск, а, значит, Тулу и Москву. Желаю победы!
В ночь на 15 июля, поднятые по тревоге, добровольцы Коммунистического полка отправились в Тулу на вокзал; шли колоннами, без песен, строго и молчаливо.
Слегка моросил дождь.
Вдали гремел гром, сверкали молнии.
Слышно было, как надрывно, сиротливо гудел на станции паровоз, тревожно и таинственно напоминая о расставании, о разлуке.
С миром любви.
С миром добра.
С миром, где жил праздник жизни.
Глава пятая
ДОРОГА НА ФРОНТ БЫЛА СЛОЖНЕЕ, ЧЕМ ДОРОГА НА ЭШАФОТ. ПЕРВОЕ БОЕВОЕ КРЕЩЕНИЕ. ПЕРВАЯ СМЕРТЬ. ПЕРВЫЕ СЛЕЗЫ
I
На перроне Ряжского вокзала грустно играла гармонь.
Слепой солдат пел:
Начинаются дни золотые
Воровской, непродажной любви.
Крикну, кони мои вороные,
Черны вороны, кони мои.
Рядом стояла девочка-поводырь, худенькая, с двумя косичками, со старою шляпою в руке, и тоненьким, надломленным голосом, трогательно подпевала:
Мы ушли от проклятой погони,
Перестань, моя детка, рыдать.
Нас не выдадут черные кони,
Вороных им уже не догнать.
На вокзале был народ. Проводить добровольцев на фронт пришли седовласые воины, кто ходил на битвы в Германскую, горделиво надев, Георгиевские кресты, кто воевал в Гражданскую, тоже с орденами. Были женщины-россиянки с детьми, строгие юноши.
Из Тулы отправлялся первый поезд в огненное пламя, в загадочную страну смерти! И как было не проводить Юную Знатность на дальнее Куликово поле? Исстари, из века в век, на Тульской земле зазывно, в скорбной тревоге трубили княжьи кликуны в большие турьи рога. И гордые витязи, надев шеломы, вооружившись мечами, луками и копьями, шли на требище помолиться своим языческим богам. Суровому богу Перуну, он был вырублен из дуба, с ликом воина, голову венчал шлем, на поясе меч и тул со стрелами, владычице земли Русской богине Берегине, стояла в венке из цветов, держала на вытянутых руках солнце. И остальным богам.
У святилища уже горели костры, ржали кони, ревели быки-жертвенники. В огненном свете восьми кострищ, под удары в бубен жрецов и волхвов, воины танцевали, молили богов даровать им победу. И дружиною, встав под знамена князя, уходили на битву, в просторы Дикого поля. Туляки бились за Русскую землю против печенегов хана Родмана, с ромеями Византии, с германскими рыцарями Карла Великого, с воинством литовского князя Ягайло, с крымским ханом Девлет-Гиреем, с ордами Чингисхана, с Наполеоном. И все века возвращались с победою. Тула радостно встречала воинов, что гордо шли по улицам под развернутыми знаменами земель Руси. С крепостных стен гремели барабаны, гудели цимбалы, пищали свирели.
Отовсюду праздником неслось:
– Слава вам, воины Тулы! Слава, мужи Руси!
Шествие останавливалось на поляне за Кремлем, где уже горели костры, стояли волхвы. Ревел скот, для забоя и жертвенного приношения небесным богам, кто даровал на мече победу. Воины молились богам, держа щит у плеча. И шли на пир, к реке, где уже стояли столы с богатыми яствами, высились бочки с медом и пивом.
Играли гусли.
Воины, великорадостные, еще не остывшие от битв, еще слыша чародейскую силу, поднимали с князем и воеводами кубки с хмельным медом и наслаждались уютом родного края, молитвенно склоненными березками, сладостным пением разгульных волн. Пили гордо, воинственно пили за себя, что вернулись живыми с битвы, и по-рыцарски грустно за друзей, кому суждено было пасть от меча или копья. И навечно остаться в чужедальной стороне, в высоком братском кургане.
Девушки водили хороводы.
Вскоре и воины, успокоив свою душу, свою совесть, мужественный ум, освободившись от траура, пускались в пляс. Танцевали разудало под гусли и гармонь, вели игрища. Им было чем гордиться! Своими мечами тульские воины принесли Руси великой жизнь и вечность.
II
Теперь, спустя века, на перроне Ряжского вокзала опять стояли гордые воины Руси великой, и опять высился до неба горестный и скорбный плач-стон россиянок.
Страдающе играла гармонь.
И слышалась горькая, надрывная песня девочки:
Эх вы, кони мои вороные,
Разудалые кони мои.
Ратникам из двадцатого века тоже выпала гордая и печальная доля защитить Русь православную, Русь великую от иноземного врага. На Русскую Землю, на землю-страдалицу, снова пришли те, кто уже топтал ее, жег, расстреливал из лука, забивал копьям, мечом, гнал в рабство ─ это воинственные потомки свирепого племени гуннов царя Аттилы. Это воинственные, безжалостные потомки готов, германского короля Германариха, его внука, короля Амала Винитария, того самого, с кем отважно билось воинство Великого князя Руси
Буса Белояра, он же Боже Бус, кого в народе назвали русским Христом. Воинство будет знать победы, но и поражения. В битве, бесконечно израненные, обессиленные, истекающие кровью, будут взяты в плен Великий князь и его верховное воинство. К шатру короля Амала Винитария были доставлены на колеснице. Король предложил пленникам жизнь, если они подпишут документ-договор, где Русь становилась государством-рабом древнего германца! Русичи с достоинством отвергли рабство! И все были распяты на кресте страдания Христа! Были распяты Великий князь Руси Бус Белояр, он же Божа, его сыновья, его братья, 70 русских князей и воевод.
Амал Винитарий будет убит стрелою князем Буримиром, кто был братом Буса Белояра. И кто возглавил русское воинство, изгнал древнего германца с Земли Русской, вернул Руси честь, достоинство и свободу.
И вернул саму Русь в бессмертие!
Теперь Александру Башкину выпала гордая и жертвенная честь, защитить Отечество, дарованное ему бессмертными предками, о ком рассказывал дед Михаил Вдовин.
Просто даже интересно, как совпало: ему придется биться с предками готов, кто пришел изничтожить Русь, казнил его любимого героя Великого князя Руси Буса Белояра, кого в народе назвали русским Христом, кого повеличал в разговоре дед-мудрец от Сократа Михаил Захарович, биться с теми, лицом к лицу, кто заново пришел уничтожить Русь, сжечь ее, истоптать, расстрелять стрелами, а народ обратить в раба!
История повторяется, один к одному!
Как не испытывать гордость и радость, что счастье быть воином-защитником, счастье быть героем, любимая Русь доверила ему, сыну земли Русской! Он будет биться с германцем, как бились с германцами-готами его знатные предки за Русколань, где был Великим князем и королем Бус Белояр, кто остался в народе, как Боже, русский Христос!
Суждено ли им вернуться с поля битвы?
Кто знает? И в том ли суть? Суть в том, что он в одной связке, в одной соборности с Русью древнею и Русью современною. Он воин Руси! Он воин Великого князя Буса Белояра!
Не только Александр, но все, все, с кем он мчит в краснозвездной тачанке на битву, не знают, ─ кому исповедально, в последнем прощании, горько и траурно прозвучит голубая звонница звезд неба и выпадет лечь в могилу, познать таинство смерти? Кому суждено остаться на празднике жизни, выпить чарку водки на пиру победы, по-русски разудало, подбоченясь, позванивая золотом наград, станцевать под гармонь на деревенской вечерке кадриль, обнять любимую девушку, в сладком трепете коснуться ее губ, обнаженной груди? Кому? Кому?
Никто не знал, все желали вернуться.
Никто не хотел умирать.
Но для каждого его Земное Время, его исход в Земной Мавзолей было ─ таинство.
Тем временем на перроне командиры взводов в последний раз сверяли по списку добровольцев:
─ Шмелев Тихон Иванович.
─ Есть!
─ Дюмин Александр Сергеевич.
─ Есть!
─ Башкин Александр Иванович.
─ Есть!
─ Пашуев Иван Васильевич, Добровольский Михаил Николаевич, Абросимов Борис Алексеевич, Никитин Александр Степанович, Потемкин Георгий Федосеевич.
И на каждый зов воины четко отзывались:
─ Есть! Есть! Есть!
У соседнего вагона тоже шла проверка.
─Таубин Яков Борисович, Назаров Михаил Васильевич, Демыкин Георгий Георгиевич, Смирнов Николай Васильевич, Орлов Игорь Митрофанович, Прокофьев Геннадий Владимирович, Михайлов Александр Семенович, Харитонов Николай Иванович, Данилов Петр Сергеевич.
И следом неизменно отзывались:
─ Есть! Есть! Есть!
Ротные доложили командиру полка о полном наличии рядового воинства. И он, сняв фуражку со звездою, пригладив седые волосы, дал команду отправляться.
И вмиг громко и зычно понеслась по перрону суровая и строгая команда:
─ Отправляемся! Воинам зайти в вагоны.
Дежурный по станции ударил в колокол.
Раздался гудок паровоза. И он, выдохнув из легких пар, развешивая на ветру мрачно-угольные космы дыма, стал медленно, раздольно громыча колесами, набирать скорость. Скорбно, во всю печальную силу, слепой гармонист заиграл марш «Прощание славянки». Он брал до сердца! До неба взметнулся плач женщин-горевестниц! Женщин-россиянок! Они бежали за поездом, на ходу поправляли, косынки, сбитые ветром, слепо наталкивались друг на друга, с молитвою, с тоскою выкрикивали:
─ Возвращайтесь живыми, родненькие!
─ Бейте ворога не жалея!
─ Помните матерь Человеческую, любимую девушку!
Совсем еще юные солдаты Отечества, конечно,будут помнить о матери и любимой красавице. И, конечно, станут бить врага не жалея его и себя. И, безусловно, до слез, до боли, до смерти надеяться, что вернутся живыми. Они не должны умереть! По какому праву? По каким законам справедливости? Они еще чисты и непорочны, и жизнь только-только разожглась в сердце чудесным воскресением, в непостижимой, целомудренной красоте. В неповторимой правде. В неотмолимой любви к миру. Они еще только начинают странствовать по земле, как небесные боги. Они еще только сошли по звездам из Вселенной. И молитвенно постигают землю в таинстве. Землю и себя. Правду и себя. Любовь и себя. Они еще не целовались с милою, синеглазою принцессою неземной красоты, не объяснились в любви, не дотронулись в тайном желании и робком очаровании до сладостно-обнаженной ее груди, не вычерпали из себя лунные ночи, пение иволги на рассвете, они еще долго и в радость желали бы пахать землю, они еще не нагляделись на поле с колосьями ржи,
на облака, плывущие в синем бездонном небе,
не наводились коней в ночное, не насиделись у костров,
не находились по разнотравью с косою,
не накупались в грозу,
не насмотрелись на летящих журавлей,
не надышались досыта медовыми и хлебными ветрами Руси.
Как же можно умирать? Но они погибнут все! В Смоленском сражении Тульский коммунистический полк на поле сечи поляжет до последнего воина.
III
Поезд все дальше и дальше уходил от древнего русского города. На край земли, в роковое безмолвие. И вслед ему, поезду, уходящему в смерть, все печалилась и плакала гармонь слепого солдата, разнося над миром, в молитвенной строгости, бесконечно русский и тревожный марш «Прощание славянки». И он тоскующим, разбросанным эхом все несся и несся вслед поезду, тоскующими птицами взметывался в небо и неизменно возвращался на землю остывающей болью, остывающей печалью.
За моросящим дождем смиренно скрылись дома, трубы Косогорского металлургического комбината, оружейного завода, мощная электростанция, колокольня с золотым куполом и христианским крестом Всехсвятской церкви.
Башкин лежал на нарах и смотрел в скромное оконце-бойницу. Русь, не скупясь, открывала свои вечные, целомудренные красоты. Мимо пробегали белоснежные, как совесть святого, березовые рощи, с хмельным пением иволг, с паутиною, зеркально сверкающей каплями дождя в сиянии выглянувшего солнца, промокшие, продрогшие сенные стога. Теперь опять ожившие в гордой красоте, впустив в свои таинственные терема золотистые лучи, безбрежьем проносились хлебные поля, удивляющие своею величественностью и свободою до самого синего неба, сиротливые деревни в окружении речек и леса, с кладбищами разрушенных церквей, полустанками с базарами. Все еще не тронуто погибельною войною. Но поступь ее слышалась. Доносились громовые орудийные выстрелы. Навстречу с тревожным гудением на скорости неслись поезда с красными крестами – везли с поля битвы в Сибирь тяжелораненых.
Вагон без устали покачивало. Колеса выстукивали: на фронт, на фронт, на фронт. Само по себе выпрашивалось: зачем? зачем? зачем? О чем думалось? О худшем? Было и это. Но страха за себя не слышалось. Страх оставался прежний, за мать. Мучило видение: как она сползает по косяку двери, получив траурную похоронку на сына, отданного ею на защиту Отечества. Скорее, не отданного, а оторванного от сердца.
Думалось и о себе. О дереве Пряхино, где прошло детство. Хорошо помнит он себя с шести лет, когда познал и пресыщенную праздную злобность людскую, и гордость. Он очень любил лошадей, любил невыразимо сильно, до жуткого и странного трепета в себе, до сладкой несказанной боли.
Не раз, тайком от отца и матери, пробирался на конюшню, где стояли могучие красавцы Левитан и Бубенчик, и с замиранием сердца смотрел, как они неотразимо мило жевали сено, лениво били по крупу хвостами, отгоняя надоедливых оводов. Он обнимал склоненные шеи, целовал в гриву, любовно гладил их. И долго, ласково шептал в уши, как он любит их. Мать каждый раз пугалась до бесчувствия. Брала в охапку, уносила в горницу. Секла крапивою. Отец доставал ремень, внушительно грозил им. И пытался объяснить: нельзя подходить к лошади, может нечаянно ударить копытом. Башкин сомневался, что лошадь может убить. Неужели и такая красота, такая божественная покорность убивает? Но отцу верил. И стал возникать страх. Но он преодолевал его, крепил характер. В шесть лет. В шесть упрямых лет! И шел, шел к лошадям, испытывая за себя гордость, немыслимую радость, что смел, не боится, если убьют. Однажды мужички, пившие на бревне самогон, в свое праздное удовольствие посадили его на Левитана и сильно стеганули кнутом. Лошадь взвилась от невыносимой боли, с тоскою заржала и понесла юного седока по улицам деревни. Мальчик Шура, оцепенев от ледяного ужаса, мертвою хваткою вцепился в шелковистую гриву лошади и все думал, как бы не свалиться, не упасть на землю. Осознанно или неосознанно он понимал: свалится с лошади, она затопчет копытами. И держался из последних сил. Мужики смеялись, улюлюкали, с оттяжкою и насмешливо хлопали в воздухе кнутом, выбивая громовые удары, не подпуская лошадь к конюшне. И все же она ворвалась на скотный двор, сбросила упрямого седока. И сама, как понимая его боль, склонилась над мальчиком, жалобно заржала, бережно коснулась губами его бледного лица.
Мария Михайловна выбежала из избы как оглашенная. И бурею набросилась на мужиков:
─ Дурни безмозглые, дьяволы из преисподней! Над кем измываетесь? Над дитя!
Мужики лукаво улыбались:
─ Все по уму, Михайловна! Не ратуй сильно, не скорби! Героем растет! Видишь, разбился в кровь, а молчит.
Теперь мать весь гнев перенесла на сына. Она бранилась на всю деревню и без жалости, как обезумев, со слезами на глазах хлестала и хлестала его крапивою. Александр и на этот раз молча сносил боль. Не плакал, когда больно упал с лошади. Сдерживал слезы, когда била мать.
─ С характером у тебя сын! ─ веселились мужики.
Он и в самом деле стал атаманом в слободе Вольной. Водил храбрецов по смертельно вязким болотам, на кулачные бои, сбивал ватаги и лазил по чужим садам за яблоками, чаще всего к богатому родственнику Якову Захаровичу Вдовину, кто огородил сад колючею проволокою, нацепил звенящие консервные банки, спустил злую собаку. Взять такую неприступную крепость, было делом чести и гордости каждого мальчика.
С девяти лет ходил за сохою, пахал землю, бережно постегивая прутиком Левитана.
Водил коней в ночное.
Жег костры.
Любил полежать в траве, посмотреть на звезды и облака. В бездонности неба было дивное очарование. Говорят, именно там, в голубом свете, высится Эдемов сад. Если присмотреться, и в самом деле можно увидеть в бездонности неба райские озера, белого лебедя, горделиво плывущего по сини волн, красивые березы с колокольчиками, как дунул ветер, так они заиграли, запели о сладости вечного бытия; моря с песчаными берегами, вокруг танцуют феи в прозрачном одеянии. Летают птицы, совершенно непуганые, где захотели, та сели. И вокруг царицами в короне разгуливают ─ любовь, добро, милосердие!
Всматриваясь в бездонность неба, думалось, скорее, эта таинственно-чарующая, тревожно-колдовская красота жила на земле! И вмиг покинул ее? Почему? Человек стал ─ изобилие пороков? И красота сбежала на небо! Красота живое существо, чувствует радость, чувствует боль. Или чтобы люди видели ее издали, наполняли себя ею, становились чище, стыдливо-целомудреннее, величественнее? Мальчик Шура, подкладывая хворост в костер, обернувшись на луг, к приятному удивлению замечал, в сиянии звезд вороны кони, что паслись в ночном, становились голубыми, неземными. Сколько было прелести и чародейства в таком превращении! Звезды в небе, костер у реки, ромашки и медуница у изголовья, грустный и заманчивый шелест прибрежных берез, поразительно пахучий, ветровой запах хлеба с полей, голубые кони ─ его детство. Все чисто и радостно было в том ведомом-неведомом царстве, в том звездном мире. Если его не станет, убьют, куда все это денется, в чье перельется сердце? При солнце мир тоже был благостным. Приятно было пахать землю, ходить по жертвенному разнотравью с косою, слушать жаворонка в небе, купаться в грозу, в бушующей волнами реке, смотреть на пролетающих журавлей.
Все теперь вызывало любовь и тоску, грусть разлуки, словно слетел с родных полей одиноким журавлем и непрошенно кружится в чужом, смертельно опасном небе. Не зная, вернется ли, взмахнет ли крыльями, садясь на родное крыльцо. Будет несправедливо, если не вернется. Пришел один раз на землю ─ загадкою и таинством, сумел до безумия, до слез, до страшной, потрясающей правды впитать земную красоту. И исчез.
Он исчез, а красота осталась.
Разве не обидно?
Справедливо?
В школе учился прилежно, с Ломоносовскою тягою к знаниям. В Пряхино была начальная школа, в Мордвесе ─ десятилетка, туда и ходил пешком три километра. Жили бедно. Пальтишко осеннее, нищенское, обувь латаная-перелатаная. В грозу, в снежные вьюги мать не отпускала. Но он сбегал! И она по возвращению наотмашь хлестала его крапивою. Но что было делать? Смирить непоклонность, не смог. Непоклонность ─ его земная правда! Его земная вера! Его земная любовь к жизни и Отечеству! Как себя смирить? Как смирить свое сердце? Как заставить его биться так, как у раба? Или, как у легкого человека? Александр по знаку зодиака ─ козерог, а это дисциплина, заостренность к правде, превеликое чувство ответственности за себя, за матерь Человеческую, за Русь, какая гуляет в венке из ромашек по его лугу в Пряхино! Это уже характер! Его и могила не исправляет!
Была тяга, и встретиться с учителем! Еще напитать себя, каким откровением по жизни!
Вместе с тем, он любил идти по земле именно в грозу, когда устрашающе, как глаза ведьм, сверкают молнии, в гневе раскатывают по небу грома! Мило, очень мило и очень хватко, идти нараспашку, расхристанно, наперекор безумию стихии, себе, миру. Он испытывал дивное очарование, повелительную волю в себе, сознавая свою непокоренность и непоклоность всему сущему и живому на земле! Он бы мог снять обувь и идти босиком сквозь грозу, по ледяной осенней распутице, не ощущая холода, неудобств, бьющего в лицо ливня. Не страшился и снежных бурь, и волков в ночном лесу, и привидений на кладбище.
Так он сложен, выпестован. И не сам по себе. Непокорная сила влилась от предков. Почему и жила в его сердце мучительно-требовательная тайная тяга к тем, кто жил раньше, выстраивал Русь. Александр и землю пахал босиком, идя за сохою, без страха и боли ступая по камням, колкому жнивью, в легкой посконной рубашке в холодные майские ветры, как ходили за сохою его предки-пахари на пашне у Киева, Новгорода. Как его русичи, молился перед пашнею Земле и Солнцу.
Все было хорошо!
И только одна жалость отчаянно мучила сердце: очень мало побыл на земле. Мир так мил и дивен! Жить бы и жить. Но убить его могли в каждое мгновение.
Кто ее придумал, смерть?
И зачем?
IV
Александр Башкин вздрогнул, отрываясь от дум. По вагону тревожно неслось:
─ Воздух! На поезд летят самолеты противника!
─ Воздух! ─ испуганным эхом отозвался молоденький солдатик Алеша Ерофеев. И, бледнея, в паническом страхе спросил: ─ Что же делать?
Что делать, не знал никто. Ни командир роты Русаков, ни политрук Калина, ни сам Бог. На земле еще можно спрятаться от бомбы, какая летит, непременно, на тебя, в лесу, в поле, скатившись в овраг, в половодье реки, укрывшись за льдину, в густой осоке. Даже на кладбище можно схорониться среди могил!
В летящем поезде спрятаться некуда. Он мчался по рельсам, мчался в свою вечность, в свою гибель. И ему не спрятаться в тоннель, не прикрыть себя щитом воина. Он до ужаса, до обреченности, до бесконечности, был предательски обнажен, как на ладони.
Как спасти свою человеческую душу?
Как выстоять в ужасе, тоске, обнаженности?
Там одно пристанище ─ смерть!
Три бомбардировщика с черными крестами на крыльях с оглушительным ревом пронеслись над крышами вагонов, взмыли вверх, в загадочном карнавальном танце покружились над поездом, догнав его, сорвались в крутое пике и стали сбрасывать бомбы. Все вокруг страшно загрохотало, наполнилось огнем и дымом. Бомбы неслись с неба с хищным свистящим воем, потрясали землю, рушили мир. Пожаром занялся лес, в огненном тоннеле которого стремительно мчал поезд, мчал с ужасающею силою, желая поскорее вырваться из дикого, грозного пламени, из необъятности разрывов, со своего эшафота, ведя смертельный поединок с самолетами.
Бомбы падали все прицельнее. Острые и горячие осколки пронзали беззащитные деревянные стены вагонов. Появились раненые, послышались стоны, крики отчаяния. На людей как нашло помрачение. Они растерялись. И покорно ждали смерти. Странно, но никто, совершенно никто не ощущал трагичности ее. Ее таинственности и загадочности. Ее ужас, ее откровенную правду. Ее чудовищность. Они ждали смерти, но не верили, что падет и разрушится их мир. И как поверить в свое умирание, если они вечны? Как постичь слияние жизни и смерти, если война еще не вошла страшною откровенностью в их целомудренно мирные души?
Только изумление вызывало небо, какое без молитвы и пощады, совершенно безнаказанно сбрасывало грозные, огнедышащие бомбы, какие, падая, исступленно выли, как дикая, злобная стая волков. Не меньше тревожила испуганность и сама земля, какая осколочным эхом отзывалась на каждую падающую смерть, ненасытно и повелительно разнося по миру дикие танцы огня и дыма, чудищем, устрашающе бросая в летящие вагоны вздыбленные камни.
Первым пришел в себя политрук Калина.
─ Чего стыдливо потупились, славяне, в гордой покорности жметесь к стенке? Заряжай винтовки! И пли, пли по фашистским извергам!
Он настежь распахнул вагонные двери. Взял у раненого бойца винтовку, вскинул ее и, прицелившись, выстрелил в бомбардировщика, что летел раскаленною стрелою из тетивы неба на поезд.
В мгновение оживились и взводные, подали команду:
─ По воздушной пикирующей цели огонь, огонь!
Затрещали выстрелы, огненно-трассирующими пулями разрядился ввысь пулемет Дегтярева. Дружные винтовочные залпы послышались из соседнего вагона. Башкин тоже, до боли, испытывая бессильную злобу, в ярости стрелял из винтовки, по самолету с черными крестами, упрямо целясь в летчика; он сидел за стеклом кабины в черном шлеме, прямо, как сфинкс, лицо серьезное, бесчувственное, глаза, как у жабы. Ему очень хотелось поразить фашистского стервятника, увидеть, как он ляжет на крыло и всею окаянною тяжестью врежется в горящий лес, потрясая грохотом землю, взметывая гибельный фейерверк огонь безумия до неба, растерзанно опускаясь в вечную гробницу.
В воине сильно-сильно зрела ненависть, жажда отмщения! Ему было больно за себя, за свои страхи, какие стонущим и стыдливым эхом разнеслись в сердце, как он увидел гибельные самолеты с черными крестами, какие грозно, неотступно шли на поезд в крутом пике, а позже услышал, как с оглушительным воем падают огнедышащие бомбы. Он еще не понял, что было в предательском смятении: страх или изумление перед гибелью? Но свою могилу он увидел! Страх смерти сильно-сильно растревожил сердце. И теперь его мужская гордость была уязвлена, оскорблена. И гордость воина тоже.
Совесть бунтовала, кричала: сбей самолет, сбей!
Яви себя воином, каким был!
И неожиданно самолет-крестоносец, в которого он неистово, без устали стрелял, держа постоянно в прицеле, вздрогнул, на мгновение повис в воздухе, странно и тревожно качнул крыльями, и из хвоста вырвалось пламя, потянулся шлейф дыма. «Мессершмиты» дальше не стали испытывать судьбу, открыли створки бомбового люка, высыпали роем бомбы, куда попало, даже не пытаясь в карнавальном кружении догнать поезд; он убегал от смерти с учащенным сердцем, погромыхивая звонкими колесами о стальные рельсы, разметывая по полю черные клубы дыма.
Самолет с черными крестами уже не взмыл ввысь, он несся к земле, все ближе, ближе, и оглушительно рухнул на землю, на свою могилу, взметнув костры огня до неба, осыпав гаснущими искрами лес, рельсы и поезд. «Мессершмитты» не улетали, кружили в небе, выжидали, выпрыгнет летчик с парашютом, не выпрыгнет, желая спасти печальника. Но пуля поразила фашиста в сердце. Друзья сделали круг траура, прощально помахали крыльями над гробницею асса, кому маршал Герман Геринг за Париж вручил высокую награду Третьего рейха ─ крест с дубовыми листьями, и истаяли в голубой бездонности, улетели в сторону Смоленска, на свой аэродром.
В России асс Геринга тоже получил крест. Вкруговую получился крестоносец германского короля Германариха!
Едва улетели самолеты, в вагоне возникло дикое, первобытное ликование.
─ Вот так и надо воевать, ─ приободрил ополченцев политрук Калина. ─ Не то пришли, как в зоопарк и наблюдают, в покорном блаженстве, за зверьем, вражескими самолетами.
─ Растерялись, верно, ─ удрученно признался Алеша Ерофеев, молоденький солдатик. ─ Затмило рассудок. В грохоте падают бомбы, столбы огня, летящие осколки, все как не по правде, не твое, а страшно! Я и про винтовку забыл, ─ нервно, рассмеялся он.
─ Теряться уже нельзя, Ерофеев, ─ строго осудил его трусость политрук. ─ На фронт едешь, а не к теще на блины.
─ Я еще не женат, ─ сумрачно защитил себя солдатик.
─ Тем более. Так будешь воевать, ни жены-красавицы, ни тещи разлюбезной на земле не встретишь.
─ И блинов с мясом не отведаешь, ─ пошутил Башкин, все еще испытывая острое возбуждение от первого боя.
─ И поцелуев слаще меда, ─ весело отозвался Коля Копылов, он тоже решил по-доброму потешиться над робким солдатом.
В вагоне дружно рассмеялись.
Страх сходил.
Во все жилы проникала сладость победы, сладость жизни.
Поезд тоже с победоносным, ликующим гудением продолжал мчать по просторам смоленской земли, туда, где фронт, где шли грохочущие бои.
Башкин, удобно прилег на скамью, на солому, посмотрел на друга:
─ О чем думаешь?
─ О жизни, ─ по покою признался Коля Копылов, поправляя шинельную скатку под головой. ─ Вижу деревню Лукошино, поля с извилисто бегущими тропками. Лес, озеро. Свою пашню на крутогорье. Любил я ночью пахать землю. Вокруг благословенная тишина. Звезды в небе. Колдуном-чародеем стоит лес. На берегу озера любимая девушка Алена жжет костер, варит уху из наловленных карасей. И с перчиком, и с лавровым листом. Выпьешь стакан самогона, примешь кушанье из рук красавицы. И за руль! Вдали, за перевалом, тоже пашут землю тракторы. Их огни, словно изумрудные камешки, в дивной красоте переливаются и переливаются на ладонях полей. И ты с ними пашешь, разгоняешь по ночи свои огни. Красота! Но еще лучше видеть, как всходит над миром солнце, благодатно золотит лучами вспаханную землю, твою царевну у озера в белом прозрачном платье, лес и твою деревню. Дивная жизнь! Я бы жил вечно, березкою, ромашкою, голубым рассветом! ─ Он послушал, как яростно громыхают колеса вагона по рельсовым стыкам, мечтательно продолжил: ─ Добрейшую маму Агафью Тихоновну вспоминаю, сестер, сероглазую, смешливую Катерину, серьезную Марусю. Брата Колю.
Башкин улыбнулся:
─ Два сына у матери и оба Николаи? Родители, небось, о тебе забыли, когда давали младшему имя?
Он отозвался с превеликою грустью:
─ Может, и забыли.
─ Ты стал серьезен. Почему?
─ Опечален небесным пророчеством!
─ В смысле?
─ Видишь ли, коронует человека на именной престол ни мать, ни отец, а Бог! От века попы, заглянув в небесные святцы явленного в мир дитя, давали ему имя. То, какое там читалось! И Господь зажигал его семилучевую звезду, отмерял его земное время. И то, что в семье два Коли, не случайно. В этом я вижу роковое предзнаменование для себя. Мне мало выпало жить. Я умру, буду убит в битве, и как бы еще буду. Понимаешь? В жизни останется еще один Николай Копылов, а я исчезну во тьме гробницы ─ как не жил.
─ Странное пророчество.
─ Думаешь, не от правды?
─ Убить и меня могут, ─ уклончиво ответил Башкин.
─ Конечно, могут. Но ты еще жив надеждами, неизвестностью, а я обречен! Я предчувствую гибель.
─ Не бери в голову. Кем мечтаешь быть?
─ По жизни? Только не воином. Я ненавижу убийства. Отечество в опасности, и я пошел. Взял винтовку. Но лучше бы я взял книги Льва Толстого, Достоевского. Мне нравится звание учителя.
─ Будешь им, ─ твердо заверил друг.
─ Нет, Сашок. Не буду. Я даже боюсь, мы до фронта не доедем. Наше воинство уже выбросили в вечность, без совести и молитвы! Свои! Кто же так возит на фронт героев? Даже не догадались загнать зенитные орудия для защиты поезда и ополченцев! Скот и тот жалеют, когда везут на убой. Сволочи! ─ он сжал кулаки. ─ Думаешь, отстанут самолеты? Откажутся от жертвоприношения? Не отстанут, Сашок! Будут мстить за сбитого летчика! До завершения станут бомбить, пока не обратят поезд в огненную гробницу, а нас в баранье мясо.
─ Война, Коля, ─ не стал возражать Башкин. ─ Что сделаешь? В жизни неправедного через край, горчайшая бесконечность. А там, где смерть, в разгуле злая бессмыслица убийств, кто кому нужен? Сами будем защищать свои жизни! Я же вот сбил наглый самолет!
─ Ты? Любопытно! ─ обжег его глазами Копылов. ─ Может быть, я?
─ Может, и ты, ─ согласился друг. ─ Может, и робкий солдатик Алеша Ерофеев, может, и политрук Калина! Я славою не тешусь. Все стреляли. Важно тебе и мне, как воинам Руси, понять ─ отбились! И еще отобьемся! Страшна не наша гибель! Страшна гибель Отечества! Гибель матери Человеческой, сестры. брата! Если крестоносцы придут на Русь, каждую Земную Русскую Гордость, обратят в раба! Вот что важно! Мы с тобою сильные, гордые, мы из бессмертного племени руссов. Умрем, но не выроним меч из рук! Но кому биться за матерь Человеческую, Коля?
Он помолчал, смиряя волнение:
─ Предлагаю написать прощальные письма матерям! Тебя убьют, я извещу твою маму Агафью Тихоновну, сестер извещу, брата, передам от тебя последнюю весточку, точно укажу, где твоя братская земная гробницы, пусть приезжают, молятся, поминают добром великого воина-жертвенника Руси! Меня убьют, я лягу в земной мавзолей, ты передашь от сына царице-матушке Марии Михайловне последнюю весточку. И непременно известишь, где Русская Земля приняла на века вечные русского воина Александра Башкина, где буду покоиться? Гордо буду! Ибо буду покоиться с вместе с Великим князем Руси Бусом Белояром, он же Боже-Бус, с Великим князем Рюриком, внуком Новгородского князя Гостомысла, с Великими князями Олегом, Игорев, Святославом! Да мало ли курганов на Руси, какие все больше кровоточащие раны, раны и раны Земли Русской!
Он помолчал:
─ Устраивает?
─ Чего? Можно! ─ согласился Копылов.
─ И даже нужно! Фамильные похоронные медальоны не выдали. Мы воины из тьмы, из таинства! Положат в братскую гробницу, и высекут ли еще на печальном каменном надгробье наши имена? Исчезнем в неизвестности, как не жили! И матери не будут знать, у какого холмика о сыне горько поплакать!
─ Горестные вещи говоришь, командир, ─ вздохнул друг. ─ Моя мать умрет, если я погибну.
─ И моя матерь Человеческая не лучше. Что делать? Мы, братка, не на вечерку вышли, где гармонь, красивые россиянки, хороводы, мы вышли с мечом на Куликово поле, и вполне, вполне можем опуститься тоскою-птицею на родное крыльцо терема! И мать, взявшись за сердце, будет жива одним: в какой стороне искать сына? И где же они будут искать сына, если мы с тобою будем, как свет звезды, ─ из неизвестности? Будем земная неразгаданность!
Письма родным земляки-воины писали в вагоне ночью. Света доставало. Фашистские самолеты-разведчики то и дело с безумно-ужасным, диким воем проносились над крышами вагонов, возносились в небо, к звездам, сбрасывали гигантские осветительные ракеты на парашютах. Вселенские костры огня по-звериному ненасытно, хищнически поглощали мрак ночи. Поезд был, беззащитно и жертвенно, виден, как на дуэли. Его обреченная обнаженность, безумно-бешеный бег в неизвестность неумолимо мучил каждого ополченца страшною откровенною правдою гибели. Все жили предчувствием ее, помимо воли, помимо сознания, как бы ни пытались заглушить в себе крики ужаса и страха. Внутри все холодело, цепенело. Они были узниками поезда-смертника! И не могли не слышать кружения гибели. Среди земли и неба они были один на один с вражескими самолетами, со своею жизнью и смертью. Но больше всего страшило: почему фашист не бомбит? Почему только преследует поезд, разжигая и разжигая световые костры в небе? Решил поразвлечься? Еще больше помучить скорбным таинством, неизвестностью? Могильною правдою? Насладиться невольным страхом живого существа? Лучше бы сеял смерть! Лучше бы знать под летящими бомбами: жив ты или нет?
Фашист воистину вел себя благородно. Словно встретился с приятными знакомыми. Самолеты игриво, приветливо покачивали крыльями, спускаясь до самой земли, летчики дружелюбно, в раздолье помахивали рукою в кожаной перчатке, насмешливо слали воздушные поцелуи. Тонкие губы ласково вышептывали:
─ Как себя чувствуешь, рус Иван? Не печалься, все гут, гут.
Все «гут, гут» было потому, что немцы не любили воевать ночью.
Тоска-беда разразилась утром.
Едва взошло солнце, небо вздрогнуло от страшного гуда вражеских самолетов. «Мессершмитты» надвигались на поезд строем. Наблюдатели на крышах вагонов закричали оглушительно, истошно:
─ Во-оздух! На горизонте самолеты противника!
И в мгновение по всем вагонам понеслись команды командиров рот:
─ В ружье! Изготовиться к отражению атаки. Стрелять по цели метко, патроны беречь!
Поезд грозно оброс лесом винтовок.
Бомбардировщики гибельно, неумолимо нависли над воинским эшелоном и вмиг, по команде, отвесно спикировали всем строем. И густо обрушили бомбы. Навстречу понеслись оружейные залпы. Но поединок воинов с самолетами был неравным, заранее обреченным. Бомба попала в паровоз, и он на всем скаку, как разгоряченный конь, вздыбился, поднялся на задние колеса, сверкнул на фасаде красною звездою, ликом Иосифа Сталина. И в ужасном, скорбном грохоте железа чудищем повалился на землю, и стал уродливо, неотвратимо кружиться в пространстве, как искал спасительное прибежище, и, наконец, замер бездыханною грудою железа.
Вагоны обрели страшную зрелищность; они оглушительно столкнулись, сшиблись и неумолимо, в исступленном скрежете, стали налезать друг на друга. Вокруг угнетающе, повелительно закружила смерть! Люди сбились безобразною толпою, побежали к дверям, страшно и дико отталкивали слабого, топтали упавшего раненого, и скорее, скорее спрыгивали на горящую землю, бежали врассыпную. Все от губительного огня и разрывов спасались, где могли: прятались за кустом на опушке леса, за горами битого кирпича, за сложенными шпалами. Бывалые воины спрыгивали в углубленные, еще горящие воронки, там ожидало спасение; бомба с самолета в одно место подряд не угадывает. Многие не добегали до укрытия, падали на землю, в горящее пламя, сраженные пулеметною очередью. И сгорали заживо, задыхаясь от дыма и слез, как жертвенные мученики на фашистском костре, на костре ненависти! Сгорали, чувствуя скорбь и боль, как ее чувствовали Великие Мученики Земли, Джордано Бруно, Жанна д, Арк, все те, кто жил во имя истины и Отечества!
Самолеты-крестоносцы, как безжалостные великаны-ястребы, спускались до земли, стреляли по обезумевшим людям из пулеметов и пушек, били в упор, в раздолье и удовольствие гонялись даже за одним человеком, пока не обращали страдальца в кричащее стонущее пламя. Бомбы находили свои жертвы с поразительною точностью. Это было безжалостное, варварское избиение беззащитного люда, бессмысленное, бесстыдно лютое побоище. Добро бы на поле сечи! Безвинная, безгрешная земля стала эшафотом! И могилою! Во все бесконечное пространство неслись животные крики умирающего, дикие стоны раненого, плакало сердце от бессмысленной смерти. И плач этот безмерною мукою высился над землею. И нечем было его заглушить. Неумолимый, молитвенный плач этот скорбным эхом вознесется и в ту жизнь, где живут матери и сестры. Где живет Вечность! По страшным могилам, по напрасно загубленным жизням, в безмолвном, оглушительном горе, заламывая руки, еще не раз всплакнут их матери, вдовы, дети-сироты. И мало кто будет знать, что погибли бесстрашные русичи не на войне, а бесстыдным жертвоприношением варварам-завоевателям. Узнали бы, заплакали еще горше.
Бомбы с неба все падали и падали. Горячие осколки от разрывов заливали землю, несли гибель и гибель. Вздыбленный огонь прожигал кострами людей. В диком танце, ураганом кружилась сорванная с деревьев листва. Тучами клубился, метался черный дым над потрясенным полем побоища. И, сдавалось, все погибнут, полягут костьми. И неожиданно, в полную непонятность, все увидели странное зрелище ─ по полю среди разрывов, с окровавленною головою, в изорванной гимнастерке, смертельно раненный, шел молоденький солдатик Ерофеев, и неизменно, как обезумев, стрелял и стрелял из винтовки по налетающим самолетам. Совсем обессилев, достал платок, смочил его собственною кровью, навесил на штык. И поднял его высоко над полем. Как знаменосец. Он не мог кричать, но падая в смерть, в небо, в звезды, как бы говорил: не сдавайтесь, русичи! Мы бьемся под красным знаменем! Мы победим!
Рядом разорвалась бомба.
─ Что, взяли, сволочи? ─ был его последний прощальный крик расставания со всем земным.
Александр Башкин тоже ждал смерти. Слезы бессилия невольно катились по его лицу. Он лежал, вжимаясь в землю, и просил, вспомнив мать, у святой девы Марии защиты и спасения. Было по-человечески больно и горько умирать вот так. Даже врага, глаза в глаза, не видел, не поднялся еще в атаку за Родину, не сдавил горло иноземца в прощальной схватке, не поверг его! И быть убитым? Взойти на крест смерти сиротою, без любви Отечества? А бомбы, летящие смертью с неба на землю, казалось, метили только в него. В него! В его сердце. В его жизнь. Он подумал о Николае Копылове, о друге. Обожгла мысль: а как он? Убит? Не убит? Он предчувствовал свою гибель. Был для себя провидцем и пророком. Неужели и правда ее можно предчувствовать? Слышать ее поступь из небытия? Неужели у человека существует тайная связь с будущим? И по ней можно проследить, прочувствовать свою жизнь, свою гибель? Несказанно, неумолимо мучила правда Николая: разве можно посылать на фронт воинский эшелон без самолетного и зенитного прикрытия? Выходит, война сама по себе ─ величайшая неразумность!
Неожиданно, словно в самом себе, он услышал песню, но не лебединую, а гимн, гордый и прекрасно-печальный в неизбывно напевной красоте:
Вставай, проклятьем заклейменный,
Весь мир голодных и рабов.
Ее пел политрук Калина, тяжело поднимаясь с травяного лежбища, опираясь на винтовку; у виска его прошел осколок, струилась кровь и красными ягодами скапывала на командирскую гимнастерку.
─ Живые, встать, ─ во всю силу, грозно скомандовал он. ─ Не лежать, славяне, не лежать обреченными скотами в крови и навозе. Умирать, так стоя, а не на коленях! Ротою, залпом, по фашистским стервятникам ─ огонь, огонь!
Политрук гордо пел гимн и бесстрашно стрелял из винтовки по налетающим самолетам. Было непостижимо странно видеть сиротливо одинокого воина там, где было Земное Безумие, где костром Джордано Бруно горела страдалица-земля, слышались разрывы бомб, отчаянно свистящие пуль, невыносимо страшные стоны раненого. «Мессершмитты»» с радостным воем и ожесточением, ниспадая до самой земли, проносились над обреченно бесстрашным воином, бросали бомбы, били из пушек и пулеметов, а он стоял и стоял, как изваяние. Из камня. Из вечности. Как заговоренный от смерти.
Башкин не выдержал, рывком поднялся с земли. И встал рядом. Спина к спине. Как вставали гладиаторы в римском Колизее, защищаясь от дикого, голодного зверя, по воле Цезаря обреченные на гибель. Он понимал свое безумство, свою гибель, но не встать рядом с политруком, никак не мог. Его крылья по жизни ─ непоклонность и непокоренность, какие не исправить даже в могиле! Жило и бесстрашие, как у политрука. Он слышал его мятеж, праведный зов: умирать, так с музыкою, с честью! И заставил себя подняться с колен.
И тут же вскинул в небо винтовку и гордо запел:
Это есть наш последний и решительный бой,
С «Интернационалом» воспрянет род людской.
Встали над полем битвы еще воины, еще смельчаки, и все, все, как один, открыли огонь из винтовок. Было подбито еще два самолета, какие, возгорев, справедливым пламенем, безвозвратно, с исступленным воем-плачем рухнули на русскую землю, на свою боль-могилу, что искали, то нашли.
Остальные самолеты-крестоносцы поспешно побросали бомбы, куда попало, круто взмыли в небо, и устремилась на аэродром в Смоленск. Фашисты любили избивать беззащитность, но стоило Русичу Вознести Меч, Меч Отмщения, как тут же утрачивали Корону Храбрости!
Небо перестало нести смерть!
Воины ликовали, обнимались. Радовались, что остались живыми. По кругу пошла солдатская фляжка с водкою. Пили по глотку, больше не получалось, после пережитого дико тряслись руки, дрожали выбеленные в страхе губы. Многие ополченцы, едва налетела Стая Гиен, ища спасения, убежали вглубь леса. И теперь покорно, стыдясь себя, панического страха, сходились к гибельному полю-побоищу, к Русскому Эшафоту, к Голгофе, где были распяты Русские Воины велико-скорбными кострами огня, как были распяты готами древние руссы, воины Руси, Великий князь Бус Белояр, в соборности князья и воеводы.
Александр Башкин, вешая на плечо ружье, увидел в толпе, у леса, своего друга, несказанно обрадовался:
─ Колька, жив? Жив, родной? ─ не скрыл он ликования.
─ Жив, Саша. Бог миловал, ─ сумрачно отозвался он.
─ Что предсказывал? Уже свой гроб на ветру раскачивал! Нас просто так не возьмешь. Жили! И будем жить.
─ Получается, ошибался, ─ больше вышепнул бледными губами Копылов; он стыдился себя, как Каина, ибо в панике сбежал в лес.
Они обнялись, ощущая земное, человеческое тепло друг друга, саму жизнь. Обнялись крепко, словно вернулись из долгой разлуки, из вечности, из обители смерти.
Неожиданно Башкин обрел суровость:
─ Посмотри, что Стая Гиен совершила, сколько русского люда загубила!
Копылов в печали оглядел лютое поле-побоище. Смотреть было страшно. Вокруг уставшими богатырями лежали убитые, разлученные с жизнью. Ветер ласково, как с сочувствием, трепал их волосы, стыдливо, бережно взметывал разорванные, окровавленные гимнастерки. Лица их были задумчивые, величественные, несли изумление перед смертью, вечною тайною, которую в последнее, прощальное мгновение разгадали, благостную и трогательную веру в бесконечность бытия, своей жизни, но никак не источали страх и ужас, холодного могильного погребения. Они были прекрасны в своей мирской, царственной простоте. Но будили слезы и сострадание. Губы были сомкнуты. Глаза неподвижно смотрели в небо. Что они видели там? Что услышали в последнее мгновение? Скорбный молитвенный перезвон колоколов давно разрушенной церкви, под которой хоронили их отцов, дедов? Видели свой гроб, свою могилу, безбрежье венков на кладбище, обезумевшие от горя глаза матери и жены? Кто теперь скажет. Каждый свою вечную тайну смерти разгадывает сам. В прощальное мгновение. С землею. И Вселенною. Но было и более зловещее видение. В гробовой теперь тишине неподвижно лежали в сиротливой неприкосновенности обезображенные осколками головы с раскинутым ртом, оскаленными зубами, мертвяще потухшими глазами, отдельно растерзанные тела, валом руки и ноги. По полю ходила похоронная команда, сносила на носилках, один к одному, к братской могиле убитых. В горечи и печали догорали вагоны; огонь в дикой необъяснимой радости как танцевал на крышке гробов.
Копылов вытер слезу:
─ Чего смотреть, Саша? Безвинно погибли! И я бы мог безвинно погибнуть, вот так лежать. Страшно все, страшно!
─ Чего отвернулся? Смотри! ─ властно повелел Башкин. ─ В каждом ликовала жизнь, теперь ликует смерть! К отмщению зову! К святой мести! До могилы фашистов буду помнить! Заледенело сердце, Коля, заледенело. Долго теперь ему не оттеплиться, не отплакаться. Ты слышишь меня? Они убийцы! Безжалостные убийцы! Они пришли обратить Русский Народ в стадо, в рабов, как не раз приходили и гунны царя Аттилы, готы германского короля Германариха! Во все времена, во все времена, паучья стая, все налезает на Русь и налезает! И покоя от Гиен я в себе никак не слышу, повелительно не слышу! Надо так им врезать, дабы на тысячу лет заказали себе смотреть с мечом на Русь святую! Бешеное зверье! Куда его? Куда? Только в гробницы, в гробницы, а еще лучше ─ сжигать Гиен! И прах рассеивать по ветру! Не нужны кладбища Гиен на Русской Земле, не надо ее осквернять! Русская земля суть чистоты, красоты, целомудрия, красоты, величия Хороводное пение россиянок! Пение соловья по маю! Пение пахаря, идущего за плугом! Мы никому, никому не несем на острие меча ─ могилы и могилы, боль Земную, Слезы Земные Человеческие, Жестокое Сердце Палача, почему на Русь святую бросаются и бросаются с мечом, как взбешенные волки? Бить надо, бить взбешенного зверя! Почему и говорю, смотри, смотри лучше на поле-побоище, на Русскую Казнь, на Русскую Голгофу! Все распяты огнем, как воины Великого князя Руси Буса Белояра, Русского Христа! И тревожь, копи в себе гнев, ненависть, мятеж за праведную Русь! Ты слышишь меня?
─ Слышу, Саша. Слышу.
Над просторами страдалицы-Руси вознеслась команда:
─ Повзводно, поротно, побатальонно в колонну становись!
Командир полка обошел строй.
─ Не вижу командира седьмой роты?
Вперед выступил политрук, голова перевязана окровавленным бинтом:
─ Командир роты убит при бомбежке поезда, товарищ майор! Командование ею принял на себя политрук Калина!
─ Вижу, вы ранены?
─ Не смертельно, товарищ командир полка!
─ Сможете командовать ротою в бою?
─ Не приходилось. Стратегию полководца не изучал. Я горновой Косогорского металлургического комбината. Если партия доверит, справлюсь!
─ Командуйте. Приказ напишу на передовой. ─ Майор прошелся вдоль строя. ─ Фашисты прорвали Западный фронт у Смоленска, надо остановить его у Вязьмы и Ярцево. И тем защитить Москву, Россию. Идем марш-броском. Это семьдесят километров. И фронт, война.
Глава шестая
ТУЛЬСКИЙ КОММУНИСТИЧЕСКИЙ ПОЛК ШАГНУЛ ЕЩЕ ДАЛЬШЕ В ОГНЕННУЮ КРУГОВЕРТЬ
I
По земле России безжалостно катила огненная колесница бога войны Ареса. Все складывалось по замыслу канцлера Германии Адольфа Гитлера, его гениального ума. Отборные германские вооруженные силы внезапным ударом разгромили передовые войска Красной Армии, окружили четыре фронта, пленили миллионы солдат и стали развивать наступление на Смоленск.
Древний город был от века Верховною крепостью России. От Смоленска путь на Москву был прямым, как летящая стрела Робин Гуда.
Знаменитое Смоленское сражение началось 10 июля. У Днепра столкнулись две громады: крестоносцы генерала-фельдмаршала Федора фон Бока и воины Западного фронта маршала Семена Константиновича Тимошенко. Обе стороны бились отчаянно. Ценою больших потерь, фашисты проломили нашу оборону, смяли фронт. Танковая армия генерал-полковника Германа Гота устремилась на Вязьму, Ярцево, окружить Смоленск с севера, танковая армия генерал-полковника Хейнца Гудериана повела марш-бросок на Горки, Красное, окружить Смоленск с юга. И им это удалось! 16 июля Смоленск пал. Над древнею Верховною крепостью взметнулся нацистский флаг со свастикою.
Канцлер Германии был доволен. Он уже посчитал себя властелином мира! В замке Бранденбург, в банкетном зале, фюрер в радости известил высшие чины Третьего рейха: «Господа, Смоленск пал! Его не мог взять сам Наполеон, а, значит, не мог победить Россию! Я взял Верховную крепость, и, значит, возьму Москву, Россию! Ликующее, победоносное «Зиг хайль!» оглушило старинный замок.
Иосиф Виссарионович Сталин тяжело переживал вероломное нападение самозваного властелина мира. И казнил себя за то, что не сумел своевременно разглядеть правду разведчиков, какие доносили о скором и непременном нападении Германии. Но боль за Отечество тревожила немыслимо, и не меньше казнила. Оставалось одно ─ работать. И Сталин работал. Титанически много работал! От имени партии, с непреклонною волею, делал возможное и невозможное, чтобы насытить фронт самолетами, танками, ракетным орудием, грамотными командирами и воинами. Он, несомненно, верил, что фашистские орды будут разбиты, и не жалел усилия для победы.
Узнав о падении Смоленска, пришел в неистовство. И в праведном гневе приказал Берии арестовать маршала Тимошенко и казнить на Лубянке как труса и предателя, как был казнен генерал армии, Герой Советского Союза, командующий войсками Западного Особого военного округа Дмитрий Павлов за поражение в июне в битве с врагом. И так бы случилось, но заступился Георгий Жуков. Он назвал маршала талантливым полководцем, кто сумел сдержать наступление вражеского воинства. Большего никто бы не сделал! Войска верят Тимошенко, освобождать его от командования фронтом несправедливо!
Подумав, Сталин согласился:
─ Хорошо, товарищ Жуков! Но вы вместе с маршалом Тимошенко должны вернуть Смоленск. Любою ценою.
Жуков бесстрашно возразил:
─ Говорить о возвращении Верховной крепости, товарищ Сталин, преждевременно. Войска Западного фронта окружены, ведут бои, заливаются кровью. Фельдмаршал фон Бок имеет превосходство по самолетам, танкам в семь раз! Связь с армиями разрушена. Четыре окруженные армии бьются в одиночку. Зачем напрасно губить людей?
Иосиф Виссарионович раскурил трубку, глаза его наполнились тяжелым звериным желтым светом.
Но произнес по покою:
─ Не будем спорить, товарищ Жуков. Считайте вопрос решенным. Позволяю взять свежие силы у Резервного фронта.
Бои за Смоленск развернулись с новою силою. Фронт растянулся на сотни километров от Речицы до Великих Лук. На всем необозримом пространстве шла немыслимая битва титанов, битва богов! Армии бились с фашистами, с отчаянием безумцев, на удивление храбро и жертвенно. В атаки армии водили талантливые полководцы Константин Рокоссовский, Ива Конев, Михаил Лукин, Кузьма Галицкий, но выбить фашистов из крепости не получалось. Враг был сильнее. Небо, дороги Смоленщины гудели от немецких самолетов и танков, от громоподобного топота кованых сапог завоевателей. Наш фронт был сломан, растерзан! Вокруг все спуталось в кровавом, стонущем и ревущем водовороте жизни и смерти. Никто не знал, где немцы, где свои, кто окружен, кто обороняется, кто ведет наступление? Казалось, все гибли в страшном столкновении двух силищ, двух громадин. Гибли в огне пожарищ, под гусеницами танков, под страшным, дьявольским воем падающих с неба бомб, в разрыве мин и снарядов!
Русские воины беспорядочно отступали все ближе к Москве. Отступали и плакали, унося в себе страшную боль и вину за Отечество, которое залилось кровью, стояло в пожарище, и которое не сумели защитить.
В эту огненную круговерть, в величайший хаос и роковую бессмыслицу, в эту дьявольскую смерть и шагнул Тульский коммунистический полк.
II
Ополченцы шли колонною по старой Смоленской дороге. Шли гордо, с песнею, как на параде, и совершенно не думали о близкой опасности. И только когда в небе стали появляться немецкие разведывательные самолеты «Фокке-Вульф», командир полка всерьез встревожился: тем ли безошибочным маршрутом он ведет воинство в Ярцево? Не заведет ли в западню? На соседней автостраде Москва-Минск все больше становится людской поток. Беженцы шли торопливо, задыхаясь от жары, неся чемоданы, рюкзаки, узлы; взяв за руки детей. Многие в паническом страхе оглядывались назад, где отдаленно слышались орудийные залпы и пулеметные очереди, нарастающий гул танковых колонн, где небо почернело от дыма пожарищ, и еще скорее убыстряли шаг. Женщины еще крепче прижимали к груди младенцев. По краю поля, ближе к шоссе, пожилые пастухи, свистяще-звонко пощелкивали кнутовищами, гнали к спасению коровье мычащее стадо.
На всем пути не было контрольных постов, не стояли красноармейцы с красными флажками, регулируя движение. Куда идти? И где они? В своем тылу? Или в тылу врага? Не оказались ли уже в окружении, в плену, где, кроме расстрела, и ждать нечего будет? Чувствуя сплошную загадку жизни, майор остановил полк на перекур, а сам с комиссаром вышел на автостраду Москва-Минск. Спросил у старика, в соломенной шляпе, с грустными глазами; он ехал на повозке в окружении женщин и детей:
─ Отец, откуда вы?
─ Из Смоленска, сынок.
─ Почему бежите?
─ Под немцем жить не желаем, ─ старик натянул вожжи, остановил лошадь. Достал кисет, дрожащими пальцами свернул цигарку, с превеликою жадностью затянулся. ─ Пленен наш славный град, стоящий на семи холмах, вместе с Успенским собором, церквами Михаила Архангела, Петра и Павла на Городнянке. Все осквернит теперь фашист, ─ он печально перекрестился на дальнее небо, скрытое густым пожарищем.
Командир полка с удивлением переспросил:
─ Немец взял Смоленск?!
─ Взял, сынок, взял, ─ сумрачно покивал седою головою старик, затягиваясь цигаркой. ─ От века стоял нетронутым. Ни одному завоевателю не кланялся. Наполеона не пустил! Русские генералы Барклай-де-Толли, Багратион повергли француза, а Гитлер вошел. Обидно, сынок. До слез. До боли в сердце. Бежим, как испуганные зайцы! Сзади немецкие танки! Половодье танков! От Смоленска до Ельни. Догонят, на корню подавят! Лют фашист! А вы куда? ─ поинтересовался беглец-страдалец.
─ На защиту Смоленска, отец! ─ не скрыл растерянности командир полка.
─Э-э, ─ ернически вымолвил словоохотливый старик. ─ Хватились, избавители! Спать надо было меньше с бабою! Теперича буйность ни к чему! В Смоленске, в окружении, еще бьется армия Лукина, но вам туда не пробраться! Вижу, вы без танков и пушек. Налегке на фронт собрались. Эх, эх! Вояки!
Вперед идти не пытайтесь, все под гусеницами немецкого танка костьми поляжете. Здесь оборону занимайте, а то и поближе к Москве. Там, впереди ─ смерть! И только смерть! Армии бегут, сынок, армии, а вас горстка! Эх, жизнь! Не берегут, не берегут русского человека. Только бы жертву Гитлеру принести, а зачем? Еще могильные кресты по русской земле расставить? Эх, эх! ─ Он поплевал на цигарку, затушив, отбросил ее, сильно ударил кнутом по крупу лошади: – Н-но, залетная!
Мимо на скорости пронеслись с красными крестами санитарные автобусы с ранеными бойцами, у многих машин бока прострелены, зияли рваные овальные дыры, на заезженный асфальт в пыль стекала кровь. Следом, в зловещей панике, без сигналов, обгоняя друг друга, мчались грузовики, нагруженные штабными документами и скарбом. Позже на шоссе появилась ревущая, бегущая толпа красноармейцев, с бледными от боя и усталости ликами. Зрелище ужасное! Толпа обезумела, утратила все человеческое, обратилась в бессмысленность, в животное стадо. Ничего не осталось от воинского мужества, отваги, глаза несли только страх гибели! В лютом, диком напоре, в душераздирающем крике, сводящем с ума, она бежала и все опрокидывала, затаптывала на своем пути, горящие повозки, столбы с оборванными проводами, грузовики, расстрелянные из пулемета, и какие теперь мешали бежать по шоссе и полю, до смерти затаптывали раненого, упавшего, ослабевшего.
Один бегущий воин с сумасшедшими глазами нервно, протяжно кричал:
─ Немецкие танки! Слышите, грохочут немецкие танки! Мы уже убиты! Где же кладбище? Наши могилы? Почему мы еще бежим и бежим? Куда? Ужели мы еще живые? О-, мама! ─ дико и страшно разносился стонущим эхом над полем его обезумевший крик.
Раненый боец, с кровавою повязкою на груди, упав у колес опрокинутой взрывом телеги, слезно просил:
─ Братки, куда мчитесь! Пристрелите! Зачем оставляете немцам?
Копылов толкнул в плечо друга Александра:
─ Видишь, как воюют за Родину, за Сталина?
Командир Тульского полка вместе с комиссаром пытались остановить обезумевшую толпу, какая в панике, в роковой неразберихе, втыка штык землю, убегала от немецких танков. Между тем, их громовая, чудовищная поступь, от которой леденело сердце, тревожно и неумолимо приближалась все ближе. Слышно было, как сотрясалась земля. Майор стрелял из пистолета вверх, останавливал бежавшего бойца, тряс за грудки, но он, обезумев, мало что понимал, смотрел глазами идиота, что были переполнены лютым ужасом, тяжело дышал, харкал кровью, пороховою пылью.
Вскоре майор понял, толпу в панике, распятую страхом, не остановить.
Спросил комиссара:
─ Что будем делать, Павел Иванович? Упремся рогами и примем бой с танками?
─ В чистом поле, без вырытых окопов? С винтовками? С удивлением взглянул пожилой комиссар.
─ Война есть война, ─ стоял на своем майор.
─ Умереть успеем, командир! У нас предписание явиться к секретарю Смоленского обкома партии Дмитрию Михайловичу Попову. И двигаться по маршруту: Смоленск, Ярцево! Смоленск пал, остается путь в Ярцево! И там уже подниматься в атаку за Отечество и за Сталина, а губить бессмысленно воина вслепую, зачем?
─ До Ярцева можем не дойти. Или самолеты разбомбят, или танки гусеницами передавят!
Комиссар произнес тихо, но властно:
─ Командир, мы не имеем с тобою права, бросать полк под танки! Посылать необдуманно ополченца на гибель! И без того армии брошены в огненное пекло. Отступают в неизвестность. Вокруг хаос, неразбериха, и смерть, смерть, смерть. Гибнут фронты! Гибнет Россия! И мы еще в безумстве совершим избиение полка? Кому во благо будет бессмысленная жертвенность? Думаешь, одним полком мы остановим танки Гудериана, какие разогнаны по Руси по злу, по ненависти, все сжигать, уничтожать до Москвы? Мы только еще больше выроем могил и оставим крестов на русской земле!
Он строго посмотрел:
─ Вместе с тем, командир, изменить без приказа маршрут, есть измена, предательство, а это, трибунал и смертная казнь!
Командир полка посмотрел в бинокль. Немецкие танки шли колонною с Духовщины, и уже открывали себя в полную лютую ясность. Грозно в движении покачивались орудийные жерла, пулеметы исторгали огонь, сея вокруг смерть. Рев моторов невольно страшил своим бешеным раздольным гулом! В принципе, он согласен с комиссаром! Смерть должна быть со смыслом! В жертвенной битве с танками-крестоносцами ─ смысла не было! В битве с танками им не выдержать и часа, получилось бы безнадежное, бесславное избиение полка.
Он еще раздумывал, принять битву, отступить, когда далеко в небе над Смоленском увидел фашистские самолеты.
Ждать было нечего; он подал команду:
─ Всем в укрытие, в лес! Не медлить! Чего оцепенели? Скорее, скорее, через луг, хлебное поле, ─ кричал командир полка взвинченным голосом.
Воины в небывалом беге топотом сотен ног сотрясали луг, распугивая болотных птиц, проваливаясь в трясины, безжалостно подминая, ломая хлебные колосья, но до опушки, до леса добрались своевременно. Едва укрылись за вековыми вязами, тополями, березами, за сваленными, срубленными деревьями, кто попрыгал в глубокие могильно-черные воронки от бомб и снарядов, как по лесу ударили свинцовые струи дождя. Лес, где перестали петь птицы, «Мессершмитты» бомбили в лютую ярость, безжалостно. Фашисты не жалели ни бомб, ни пуль, плодоносно рассеивали гибель во всю беззащитную глубину леса. Послышались стоны и проклятья раненого, мучительно-тревожные, затихающие эхом предсмертные крики убитого ополченца, а фашисты все лютовали и лютовали. На горьком безвинном побоище полегли еще печальники России. То были рабочие Косогорского завода, студенты. В тихо-грустном безвестном лесу они и были похоронены под троекратные оружейные залпы в братском Земном Мавзолее как герои-мученики, честно погибшие в бою за Отечество.
Когда лик неба просветлел, немецкие бомбардировщики ушли и перестал витать над землею свирепый, гибельный вой моторов, падающих бомб, когда по Смоленской дороге устрашающе прошли на Москву танки со зловеще черными крестами, командир полка приказал развернуть радиостанцию, настроиться на связь со штабом фронта. И сам надел наушники.
Радист неумолимо долго, до боли в сердце, вызывал штаб фронта. Но связь молчала. Командир полка утратил всякую надежду на общение с фронтом, и услышал в себе страшную растерянности, куда идти с полком? Где сражаться? Идти под Смоленск? На Ярцево? И надо же, аппарат запищал азбукою Морзе, запищал, как из глубин Вселенной. У аппарата был начальник связи Западного фронта Николай Демьянович Псурцев.
С необычным волнением, с радостью, командир полка представился, и попросил маршала Тимошенко.
─ Командующий отсутствует. Поговорите с начальником штаба фронта генералом Германом Маландиным.
Узнав в чем дело, генерал заинтересованно спросил:
─ Великую ли силу выставила Тула?
─ Три тысячи штыков. Но пока ехали в поезде на фронт, осталось меньше. Страшно бомбили немецкие самолеты.
─ Танки, артиллерия на вооружении имеются?
Командир полка неунывающе произнес:
─ Добудем в бою, товарищ генерал! Куда прикажете следовать?
Герман Капитонович поскучнел. Чувствовалось, начальник штаба утратил интерес к коммунистическому полку; он ждал в помощь армию из Резервного фронта, обещанную Ставкою, а заполучил горстку необстрелянных ополченцев из Тулы, без танков и артиллерии.
─ Что я вам скажу? ─ наконец выговорил он. ─ Ситуация сложная. Западный фронт разрушен! Фашисты наступают! Вам надо идти в сторону Ярцево. Кольцо окружения вокруг Смоленска сомкнула танковая армия Гудериана, и именно в Ярцево! Надо его разорвать! Если сумеете взять штурмом Ярцево, соединиться с воинством Константина Рокоссовского на реке Вопь, и тем разорвать кольцо окружения, вы спасете армию Лукина, какая жертвенно сражается в окружении в Смоленске!
Ослабите гибельную петлю вокруг Верховной крепости, защитите свою Тулу, Москву. Спасете Россию!
Он по печали помолчал:
─ В Ярцево стоят отборные войска СС, танковая рота Хейнца Гудериана. Там битва будет роковая, жертвенная! И я не вижу, как вы горсткою, без танков, осилите фашиста! Но если осилите, сумеете взять штурмом Ярцево, вашему полку надо будет поставить на Руси золотой памятник! Сюда, в Гнездово, больше не звоните. Штаб фронта эвакуируется. Все поняли?
─ Так точно, товарищ генерал! ─ по-военному строго отозвался командир полка.
Глава седьмая
СРАЖЕНИЕ ЗА ЯРЦЕВО ─ СРАЖЕНИЕ ЗА БЕССМЕРТИЕ
I
Командир полка, согласовав с генералами штаба армии Рокоссовского, с командирами коммунистических добровольческих полков из Москвы, Орла, Рязани и Брянска, принял смелое и разумное военное решение:
– Взять Ярцево психическою атакою!
Все восемь рот, при поддержке артиллерии, должны одновременно подняться на штурм города со всех сторон. И неостановимым живым тараном, с воинскою доблестью, пробиваться к центру, сокрушая врага на крестном пути. И вытеснить его к реке Вопь, под орудия армии генерала Константина Рокоссовского.
Было 20 июля. Раннее утро.
Притаившись на опушке леса, надвинув каски, ополченцы ожидали штурма и внимательно наблюдали за городом. Он, скрытый туманом, казалось, еще мирно спал. Был безлюден, скучен, скорбно уныл. Никак не верилось, что через час, другой он станет вместилищем невероятных схваток и кровавых битв.
Александр Башкин, держа винтовку, прижавшись к земле, слышал в себе жажду битвы. Страх не оживал, не мучил. Душа еще не была сожжена боями. Он был юн, переполнен любовью к жизни, ненавистью к врагу, который пришел завоевать его Россию. И только благородный порыв мести тревожил его чистую душу. Загадка смерти была ему неведома. Перед боем все чувства переливаются в отвагу, ожесточение.
Он посмотрел на Колю Копылова:
─ Волнуешься?
─ Представь себе, окаянно спокоен, ─ задумчиво отозвался друг. ─ Даже страшно от такой беспечности.
─ Почему? ─ тихо поинтересовался Александр.
─ Бессмысленно переживать. Так и так, незваная печальная хозяйка поджидает! По самой сокровенной правде. О чем мои ангелы-хранители извещены. Зачем им меня тревожить?
─ Будешь так думать, конечно, убьют, ─ предостерег его Башкин. ─ Все живое в мире, даже его величество Сатана, боится бесстрашного!
─ Я и живу бесстрашием, желанием подвига. Святою клятвою перед Россией. И не думаю, где закончится моя жизнь. Я презираю самозванку, посланницу звезд.
─ Не печалься, все будет по уму. Держимся вместе. Понял? И на рукопашной. Враг оседлал меня, ты его сшибаешь, тебя ─ я саперною лопатою его глушу от имени вечности. Не одолеть им двоих. Помнишь, как договаривались?
Друг кивнуть не успел. В небо взлетела красная ракета.
Политрук Ипполит Калина в мгновение поднялся, взмахнул пистолетом, и тихо произнес:
─ Пошли, славяне! За Родину, за Сталина!
Со штыками наперевес, ополченцы смиренно, бесшумно пошли в психическую атаку на Ярцево, как в фильме о Чапаеве шла в психическую атаку Белая гвардия молодого генерала Каппеля. Никто е думал о том, что уготовила им судьба, вернутся они живыми из первого боя или не вернутся. Воины жаждали битвы и победы, святой мести. Шли твердо, уверенно, яростно. Но был, жил неуловимый трепет, сжигал и мучил пытливый ум: дойдут ли до города, осилят ли врага в битве, прежде чем разорвет снаряд, обратит в багровое пламя, или танк растерзает гусеницами, выроет могилу и еще живого безжалостно и безвозвратно засыплет сырою и холодною землею.
Город приближался злобным видением.
Роте политрука Калины выпало сложное поле брани – взять железнодорожный вокзал. И идти с боями к центру, к церкви богини. Воины были страшны и величественны в своем шаге. Шли гордо, не пригибаясь, не шепча молитвы о пощаде. Пока прикрытием, защитою был редкий лесок, где росли только что высаженные ели, в рост человека.
Ополченцы политрука Калины уже ступили на окраину города, и дальше шли в рост, не пригибаясь, как проклятые, как окаянные, и фашисты ничего не могли понять, откуда явилась краснозвездная рать? И что за рать? Откуда? С какого края? Почему разведка ничего не сообщила о воинстве Сталина? Скорее, то шли соборно воины из окружения, дабы умереть в бою! Другого пути к свободе не было! Но вскоре была разрушена тревожная таинственность, фашисты опомнились, быстро выкатили из укрытия орудия, самоходные пушки, минометы и стали в упор расстреливать наступающие цепи.
Наступил кромешный ад. Снаряды и мины рвали землю, качали ее. Свинец всюду находил свои жертвы. Воины падали, обливаясь кровью, сжимая сердце, которое в бешеном стуке отмеряло им последнее земное время. Вокруг стоял грохот, кипел ураганный огонь, выли мины, трассирующим разливом неслись пули автоматов и пулеметов, нервно и лихорадочно рвались гранаты; укрыться было негде. Огнеметы жарким пламенем сжигали землю, камень! Сжигали людей, и они гибли, как муравьи в разожженном костре, ─ как великие мученики, с криками боли, с безмолвными стонами. Сгорали заживо, бесследно, унося с собою в вечность сожженную землю, сожженное небо, надежды на праздник жизни, свою любовь к женщине, свои грехи и слезы, печали и радости, накопленные за недолгий срок пребывания на земле, самого себя.
Немыслимо страшно умирать молодым.
Столько оставалось любви и праздников за смертью, в безбрежье жизни.
Столько оставалось неведомого, радостно-таинственного, невостребованного в бездонности чувств.
Оставалось солнце.
Оставались глаза любимой.
Оставалась сладость поцелуя.
Оставались летящие журавли в синеве неба, медовые ветры над сенными стогами, грозы и молнии, изумительные лилии в озере, чистые и гордые, как белые лебеди, целительная для души медуница, разбросанная самим Богом у березок голубыми звездами.
Оставалась Россия.
Все оставалось. Как же можно было умирать?
Но умирать приходилось.
Смерть кружила всюду.
Костром горела земля, стаями гиен летели пули, как голодные, злобные волки, выли мины, падая на израненную, сумасшедшею землю, в костры Джордано Бруно. Летящие снаряды падали так, словно падало небо с раскатами грома, и грома, как явь, как ожившее небесное чудище, катили во всю обезумевшую костровую землю, и, как мечом, сшибали воина на землю Все, все смешалось на пиру смерти, в ее кровавой пляске; без надежды на заступничество, на воскресение.
Рота залегла.
Политрук подал команду:
─ Гранатометчики, ко мне!
Подполз Гаврило Воронцов и семь его гранатометчиков.
─ Противотанковые гранаты есть?
─ Полный подсумок.
─ Слейтесь с землею, станьте невидимками, но доберитесь до фашистов, сразите его артиллерию.
─ Подкуем блоху, товарищ политрук.
В грохоте разрывов Калина не расслышал:
─ Не понял. О чем ты?
─ Говорю, зачем жить и бедовать, не лучше ль девок целовать? ─ весело отозвался Воронцов, пристально всматриваясь в позиции врага, откуда злобно слали раскаленные орудия губительные, огненные стрелы смерча.
Он и его гранатометчики смело и бесстрашно занырнули в густоту дыма, что клубами вился над полем брани, слились с ним и стремительно, вихрем понеслись к вражеской цитадели. Затем по-пластунски быстро подползли к батарее. И во всю глубину забросали ее гранатами. Растерзанные орудия погрузились в огненный хаос, вознеслись вверх, как на гребне штормовой океанской волны, и в громовом грохоте разрывов, в тучах дыма, останками гулко опали на землю, свою могилу, и застыли грудою железа, безобразно и уродливо.
Политрук Калина не скрыл радости:
─ Ой, Гаврил, ты мне мил!
И подал команду:
─ Рота, на штурм города! За Родину, за Сталина!
Он рывком поднялся с земли, и смело, крылатою походкою, шагнул в пламень боя, не кланяясь пулям, не боясь гибели, не оглядываясь на бесстрашном, жертвенно-скорбном пути назад, совершенно не думая, встали или не встали его воины несметною силою, пошли ли гордо и безбоязненно следом.
Рота пошла за командиром. Александр Башкин тоже поднялся навстречу летящим пулям, навстречу гибели, выставив вперед штык, на ходу стреляя из винтовки. Все стреляли ураганным огнем. И все шли вперед, яростно, ожесточенно. Шли возмездием. Ливневый град пуль обходил героев. Обходил Башкина. Он словно был заговоренный, выбит из камня. Из самого, самого упорного, из колдовского. И смерть-печальница миловала его, не жаловала. В огненном хаосе погибнуть ничего не стоило. Обратиться в земной костер, пасть от пули, обливаясь кровью, можно было каждую секунду. Жизнь в мгновение уходила в смерть. Безумие боя, это безумие гибели. Никем не осмысленное, никем не разгаданное. Кто держал человека на земле, какая сила? Звезды ли, которые зажигаются при его рождении? Или в самом деле есть ангелы-хранители, спасающие ему жизнь, получив право от Бога, от высших сил? Или все случайно, и само спасение, и сам жестокий рок?
Земной человеческой мысли неподвластны измерения света жизни и тьмы смерти. Сама правда перехода из света во тьму. Сколько ни осмысливай, все уходит в загадочность. Рядом с Башкиным кострами горели люди, исчезая из мира жертвенно и мучительно. Пламя из огнемета с дикарскою, безжалостною силою катило в его сторону, сжигая на пути землю, камни, траву, один миг, и он без надежды на спасение и воскресение мог бы стать пламенем, уйти в пожар, но огонь замедлял движение, едва входил в его магнитное поле, обтекал его тело, не трогал.
Рядом рвались снаряды, и снова человеческий мир любви, надежд, страданий, наполненный жизнью, безвозвратно разрушался, человек постигал смерть, даже не успев вскрикнуть от боли, а он оставался; поле битвы прожигали мириады пуль, и все были нацелены в человеческое сердце, и достигали его, убитые, убитые, убитые лежали вокруг и рядом, а он только слышал, как падает взорванная земля на каску, протирал глаза от пороховой гари, дыма и пота. И шел в атаку снова и снова.
Не постичь его мир.
Он словно рожден для беспредельности и бессмертия!
Кем рожден? И зачем?
Опять таинство.
Было сильное биополе? Оно отталкивало пули? Если так бывает, если человек может быть сильнее загадочного рока, сильнее себя, войны, Вселенной, значит, так и было.
II
Немцы сильно отревожились, запаниковали. Из города на скорости выскочили танки, обвешанные автоматчиками. И для устрашения дали орудийные залпы, сметая все живое на земле июля. Свинцовые очереди из автоматов и пулеметов забили в упор. Снова вздыбилась земля! Закричала, застонала от боли и печали! И снова безумно тяжело стало на поле брани! Душа наполнилась рыданием! Воины с горящего эшафота, поползли к спасению, оставляя на траве и камне кровавые следы, страдая от бессилия. Живо прятались в черном, неподвижном, пушечном дыму, укрывались в канаве, овраге, за обугленные березы.
Один политрук Калина стоял среди поля бледный и ожесточенный:
─ Бронебойщики, дружно, единым залпом, по танкам огонь, огонь! ─ диким, ледяным голосом подал он команду.
Противотанковые ружья повели ураганный огонь по машинам.
─ Бить метче, славяне, не прятать голову под крыло, не лебеди, осевшие на ночлег в камыше. Не палить в небо, ─ продолжал ошалело и тревожно кричать он, видя, как железная лавина подступает все ближе и ближе, готовая натиском брони, гусеницами растерзать его роту. ─ Остальным не лежать, не лежать брошенными камнями, расстреливать пехоту!
Бронебойщик Фрол Осипов, проходчик угольной шахты из Сталиногорска, белокурый, озорной, подвижный парень, осыпанный мелким пороховым пеплом, смело и быстро пополз с ружьем навстречу первому танку и, поднявшись, в упор расстрелял его с десантом. Жаркий огонь жадно, как упавшая молния, облизнул его броню, растекся по пространству. И охватил пламенем всю машину. Башня накренилась, орудие перестало стрелять.
Политбоец Осипов возликовал:
─ Что, солдафоны-фараоны! Как вам горящая гробница? Отползали на Руси, гады, и не рады? ─ он тяжело поднял ружье, прицелился в очередной танк, но выстрелить не успел. Нежданною, печальною кипенью разорвались на груди пули, выпущенные из немецкого автомата. Герой ощутил, как затеплело на сердце от слез, от крови, как оно досыта наполнилось нежностью и ласкою, желанием еще больше любить мир, в котором жил. Он понял, что покидает его. И все, все, что вокруг, видит в последний раз. Но он еще жил, еще не оборвалась связь с миром, и жизнь несла еще ему свои печали и радости, скорбь расставания со всем земным, человеческие слезы. Он прощальным взглядом посмотрел на небо, на солнце. Но не увидел бездонной голубизны, золотистого сияния. Черный дым над полем боя поднялся так высоко и так густо, что скрыл и солнце, и небо, и плывущие облака, словно все принакрылось еще не саваном, нет, нет, далеко еще не белым прощальным саваном, а женскою траурною вуалью. Сейчас он упадет и больше не встанет. Упадет распятьем на смоленскую землю, в окровавленной гимнастерке, прижав к себе ружье. И смерть соединит его с облаками и солнцем. И летящие пули еще долго будут напевать ему похоронную песнь, ему, умирающему и умершему. И ветер еще долго будет ласкать его белокурые волосы. Ветер будет, а его не будет. Странно! И уже не страшно. Подступающий мрак легко вытесняет из сердца солнце и сияние звезд, которые были там, жили. И все же он не так хотел истаять, исчезнуть из мира. Он желал умереть по-человечески, под иконою, в чистой белой рубашке. И видеть печальные глаза жены Нади, слышать ее прощальный поцелуй. И в последний раз ощутить дыхание сына Дмитрия, ради которого принял смерть.
Умирая, Фрол Осипов увидел жену и сына. Они слетели с облака, как лебеди. И устремились на его Земной Погост! Жена и сын горько и отчаянно взмахивали крыльями, с повелительною надеждою пытались остановить его смерть, заключить в свои объятия, унести в жизнь, в крике несли бесконечную тоску и свое неумолимое одиночество, и все спускались, спускались с небес, но долететь до земли не смогли, не успели. Не успели белоснежными крыльях поднять его ввысь.
И спасти.
Оторвать от могилы.
И сами вдруг обратились в огненные ленты, свились в радугу.
Он пошатнулся и упал. Но успел, вслух ли, про себя вышепнуть:
– Прощай, Россия!
Гибель шахтера из Сталиногорска потрясла Башкина. Он близко знал его. Часто в Туле, на учении в лагере на Косой Горе, они оказывались вместе, и в походе, и на стрельбище. Ели из одного котелка. И много Фрол рассказывал о своей жизни, о святой любви к жене Наде, о сыне Дмитрии, которые пришли проводить его на фронт с Ряжского вокзала. И видел, как жена нежно целовала его на прощание, молила вернуться живым.
Не вернулся.
И не вернется.
Всякая смерть страшна. И всякая вызывает сострадание. Но когда гибнет Вселенная, которую знал, с тоскующим звоном рассыпая по земле свои звезды, гаснущие синим светом, исчезающие в пыли, то боль пронзает немыслимая, необъяснимая.
Жалость переливается в ярость.
Зовет вперед, к отмщению.
Потеряв всякое ощущение гибели, словно обезумев, Башкин, расстреляв все десять патронов из винтовки Токарева, в рывке встал и со связкою гранат пошел на танк, который сразил его товарища. В страшном грохоте движущая крепость стреляла из орудия, била из пулемета в глубину пространства, вела круговой обстрел. Но воин шел, не пригибаясь, как не слышал близкие разрывы, свиста пуль, что пролетали мимо, с глухим звоном бились о каску. И когда расстояние сократилось предельно, в сильном броске кинул связку гранат под танк. И сам, спасаясь от черного омута осколков, метнулся на землю. Взрыв остановил танк. Под машиною взметнулось сильное пламя, она поднялась на дыбы, обнажив пробитое днище и оборванные гусеницы. И всею страшною махиною вернулась обратно, на взгорье, несколько раз тяжело и зловеще подпрыгнув на мшистой мягкости. Башню и люк заклинило. И теперь немцы, заживо сгорая в танке, пытались расстрелять из пулемета смельчака, взять его с собою. Свинцовые пули веером вспахивали землю, неумолимо приближались все ближе и ближе. Башкин понял: еще мгновение и пулеметная очередь крест-накрест перережет его. Приподнявшись, он с силою метнул в горящий, очумелый танк бутылку с зажигательною смесью. Но она соскользнула с ладони, до танка-смертника не долетела. Упала рядом, разлив по траве багровое пламя с рыжеватыми отсветами. Смерть грозно и властно закружила над смелым воином. Он не испугался. Только в покое и покорности подумал: сколько еще осталось побыть на земле? Три секунды? Одну? Но в последний момент машина неожиданно и люто подскочила, снаряд размозжил башню, она сорвалась, покатилась, как кочан капусты. Клубы черного порохового дыма завьюжили над его полем побоища.
Александр Башкин невольно оглянулся. Любопытно было узнать: кто спас ему жизнь, кто его крестник? В бою каждый воюет за себя, а вместе за Отечество. Среди разрывов и огненного полета пуль стоял его друг Коля Копылов, он устало опирался, как на посох, на огромное противотанковое ружье погибшего шахтера. Его потное, черное от гари лицо улыбалось.
Заметив взгляд Башкина, отмахал ему рукою:
─ Жив, братка? Воюй! Наша очередь еще не подошла.
И в мгновение опустился на колено, целясь в танк, который разворачивал жерло орудия в его сторону. Выстрелы раздались одновременно. Снаряды с воем пропели похоронную песнь над бескрайним полем боя, но взорвались, не достигнув цели. Один ожесточенною тучею взметнул землю у танка, выстрел из танка взметнул у вырытого окопа воина. Копылов не стал ждать второго рокового выстрела. Он, согнувшись, короткими перебежками удалился подальше, чтобы сбить прицельную ориентировку немецкого стрелка-наводчика, и снова выстрелил. И снова не попал. Танк-крестоносец, мчась на скорости, подпрыгивая на ухабах, тоже не был очень удачен. Началась смертельная дуэль человека с танком! Теперь Башкин стремился спасти друга. Машина была далеко, и он тревожно, с замиранием сердца, быстро полз с гранатами навстречу ему по-пластунски. И очень боялся, что не успеет. Опоздание страшило больше всего. Он не выдержал и побежал наперерез по полю боя. Как его не убили в половодье пуль, он не помнит, но в танк гранаты бросить успел. Фашистский танк властно закружился на бездорожье, опрокинулся на камни и сильно возгорел пламенем, словно от Бога, с неба ударила громовая молния.
И только теперь Александр Башкин ощутил, как сошло чувство обреченности, сладостно остывало сердце от мятежного напряжения, а в каждую жилочку вливалась ласковая и стыдливая радость.
То же самое испытывал и бесстрашный воин из деревни Лукошино Коля Копылов; они оба выиграли на поединке с танками, и свою жизнь, и жизнь друга.
Не случайно, не случайно первая битва под Ярцевом не стала кладбищем для воинов с неизвестною могилою. Все было от Бога. Но больше от человека.
Они обнялись:
─ Еще повоюем, братка! Еще повоюем! ─ по его лицу текли слезы радости.
Но битва еще шла, целоваться было не ко времени. Злобные пули гибельным веером пронесли мимо над головами. Воины бросились на землю. Стреляли из танка! Надо было снова и снова героями подниматься на крестоносца, но как? И с чем? Гранаты в подсумке кончились. Оставалось отползать назад, в свои окопы, не то танки передавят, как лягушат. Но отползать в свои окопы, бежать с поля битвы, это предать себя, Россию!
Пока Александр горчил себя раздумьем, Коля Копылов тронул его за рукав:
─ Смотри, Саша, отступают танки-крестоносцы! Торопливо, хаосом отступают!
И в самом деле, танки возвращались в город, немцы не любили бессмысленную гибель, ценили воина. И в то же время, признали свое поражение. Но печали для генерала Хейнца Гудериана не завершились. У моста через реку Выпь, гранатометчики Гаврилы Воронцова устроили засаду. Едва приблизились отступающие танки, совсем близко засверкали огнем противотанковые ружья, полетели гранаты. Побоище для самозваного завоевателя оказалось сильным. Ощутимо прогнулась, закачалась земля, упав по боли, распятьем в громовые, тяжелые разрывы. Крестоносцы заметались среди огня и дыма, и в страхе, в панике, беспорядочно отстреливаясь, попятились за каменные дома. Еще пять танков осталось на поле боя. Багровое, жаркое и жадное пламя пожирало броню чудовищ, принакрыв их, как траурною вуалью, густым черным дымом.
Гаврило воронцов без злобы посмотрел вслед резво убегающим пришельцам, с ликованием произнес:
─ Что, бегунки-рогатики, отбегали? Не лучше ли было жен целовать и любить, чем по чужим бабам ходить?
─ Верно, Гаврило, ─ поддержал его гранатометчик Семен Еремеев. ─ Тощему немцу русская баба не княжна на забаву! Как есть, заблудится в ее прелестях.
Воины в радость рассмеялись. И было с чего, ожесточенная схватка двух миров не одарила лаврами крестоносца-завоевателя! Воины-руссы оказались сильнее, ибо несли в себе стоическую жертвенность во имя Руси великой и дух бессмертия.
Тут же присели на обугленные, а где и горевшие бревна, скрутили цигарки и стали блаженно курить, и в сладость, и в радость. У Гаврилы отыскалась фляжка с водкою.
Пир пошел по кругу.
За победу!
III
Политрук Ипполит Калина стоял на краю поля, где шла битва с танками-крестоносцами. Многие, многие ополченцы полегли героями в первый же ратный день. Черное воронье уже кружило с ликованием в дымовом поднебесье, предвкушая в сладость испить человеческой крови. Они лежали русскими богатырями, запекшись в огне и крови, святые и непокорные, а теперь бессмертные, раз отдали Отечеству все, что могли, и даже самое ценное. Они ушли в вечную ночь. Им больше не надо думать о жизни и смерти. Объясняться в любви девушке, водить коней в ночное, разжигать костры на берегу озера. Смотреть на луну, слушать, как поют звезды, как шепчутся влюбленные березы… Все оставили людям, живым. И самый прекрасный мир во Вселенной с синим напевом звезд, золотистым солнцем, дивно-белоснежными яблоневыми садами. Лунным свечением на озере, с лугами, где летают красавцы пчелы, с удивительно нежным подснежником на лесной проталине, с чарующими журавлями в небе, с мятежным ледоходом на реке, и скорбные раздумья о вечном одиночестве человека, о конечности его жизни, его крестного пути, о печальной правде его умирания.
Оставили Ипполиту Калине Александру Башкину, Николаю Копылову, Гавриле Воронцову.
Все оставили им.
И священное поле битвы.
Завоеватели тоже полегли на поле битвы. Им тоже было скорбно вставать необозримыми крестами на чужой земле, какие были увенчаны железными касками, как терновым венком. И тоже им не услышать уже сокровенно-грустные и прощальные слезы матери, жены, любимой; кликов журавлей в небе, как шепчутся ромашки на берегу озера, объясняясь в любви себе и солнцу, земле и ветру.
Зачем же пришли на Русь?
Умереть? И только? С таким смыслом отправляясь на Русь на воинственной колеснице бога войны Ареса?
И как вошли в симфонию смерти? С молитвенною верою в свою правду? Или с проклятьями?
Но к кому?
К себе? К вождю третьего рейха Адольфу Гитлеру, кто пожелал стать властелином мира? К России-страдалице, какая стоит на земле, как Хлебный Колос под солнцем, и будет стоять, как бессмертное Воскресение и Вознесение, ибо несет даже там, где Вселенная, где звезды ─ веру, милосердие, любовь.
Одна грусть смотреть, как во все необозримое пространство лежат на роковом поле битвы ─ убитые, убитые, как спят святым сном, и богатыри-руссы, и воинственные потомки короля Германии Германариха. Еще вчера они видели солнце и звездное небо. Теперь ушли в ночь, вечную, безвозвратную. Так и не узнали, зачем? И в пламени горят на поле-побоище подбитые танки. Горят, как большие поминальные свечи им, завоевателям!
Им теперь кто лежит у разрушенной колесницы бога войны Ареса, очень-очень нужны молитва покаяния и искупления, плач женщины в траурной вуали.
Но то уже будет у Бога.
Пришло утро, жаркое, июльское. Немцы выжидали. Выступать на поле-побоище, с барабанным боем, с песнею-гимном Хорста Весселя, ─ мы завоюем весь мир, не спешили; вести кулачные бои с Русью было сложнее, чем в Париже и Бельгии.
Политрук Калина поднял роту на штурм Ярцева. Идти оставалось метров восемьсот. Вокзал высился сторожевою башней. И наверняка был увешан пулеметными гнездами, с точным радиусом обстрела площади, железнодорожных путей. Легко было попасть под прицельный, кинжальный огонь. И командир приказал Гавриле Воронцову еще раз невидимкою пробраться с двумя гранатометчиками в расположение врага, прячась за вагонами, которые стояли в тупике на станции, выследить доты и уничтожить один к одному, они могут расстрелять, сжечь всю роту в городе.
Теперь тульские ополченцы шли на врага увереннее, бесстрашнее. В бою они узнали и разгадали его, он перестал быть таинством. Страшен неведомый враг─ и храбростью, и коварством, а тот, который отступил, струсил, уже не гибельная вьюга-метелица в чистом поле. Они чувствовали свою силу, веру в себя. И шли мимо подбитого танка, от которого еще исходили черные, зловещие дымы, мимо распластано лежащего фашиста, кого не успели ночью подобрать могильщики, с превеликою гордостью. Шли, как боги, как святые, прекрасные в своей непорочной воинской красоте и отваге, и глаза их сияли невиданно дивным светом, светом веры в свою победу.
Дерзость увлекала вперед!
Сознание, что они идут по Руси, они, ее защитники и печальники, ее сыновья и воины, удесятеряло силы.
И так бы дошли до Берлина.
Но каждому, каждому по небесным святцам, в мрачно-бессолнечных лабиринтах жизни, выпал путь земной покороче.
Грозно и властно заухали орудия. И снова застонала, завздрагивала земля под разрывами снарядов и мин. И снова упругим, необъятным спрутом охватил пламень поле боя. И снова жизнь уходила в мгновение. Немцы били неумолчно, залпами, точно по цели. Огненным валом они стремились сдержать цепи наступающего русского воинства, рассыпать, уничтожить. Не допустить до города-крепости.
Рота залегла.
Политрук звал на битву:
─ Чего залегли? Вперед, славяне! Именем Отечества, приказываю вперед!
Политрук Калина стоял один среди поля, летящих мин и снарядов. Лицо его было рассечено пулею, кровь стекала на посиневшие губы. Он до боли в сердце осознавал: рота гибнет. Надо было встать всем, в одном рывке, в одном неумолимо-неукротимом порыве, смело и отчаянно идти на бастион, сокрушать его.
Но рота лежала. Огонь был сплошным, ураганным. Смельчак, поднявшись над лежбищем, тут же падал под пулями, обливаясь кровью. Не было силы поднять людей. Смерть бушевала всюду. Силы героев слабели. Для усиления огня немцы выкатили на высоту, в яблоневые сады, тяжелые штурмовые самоходные пушки «Артштурм». Ливень огня ударил еще немыслимее. Он перекатывался по полю, как гигантский огненный шар, сжигая все на пути, и камень, и людей. В огненной пляске смерти надеяться на выживание, на спасение было бессмысленно. Всем выпало по роковому жребию обратиться в пламя, в призрачные тени, исчезнуть из бренного мира, унося с собою печаль рокового, бессмысленного и горького умирания, выстраданную в последнее мгновение тоску одиночества, повелительное чувство любви к матери, жене, детям, ко всему, что останется в мире.
Казалось, один политрук осознавал всю смертельную опасность и боль. Он бегал от воина к воину, ударом кулака повелевал подняться, в отчаянье кричал:
─ Братушки, не лежать! Все погибнем! Живые и раненые встать! Именем Отечества, приказываю встать и вперед! Вперед
Поднялись два воина из города Щекино, с хлебопекарни, Вадим Никулин и Георг Ванеев, первые певцы и танцоры в роте, крикнули за Родину, за Сталина
─ и тут же раскрыленно упали, как соколы на лету, сраженные свинцом, по-детски безвольно уткнувшись в горящую траву; каски откатились, кровь, разливаясь по песку, уходила в глубину, запекалась.
Политрук в ярости пустил в небо три красные ракеты, что означало: ситуация тревожная, трагическая, всем, всем немедленно подняться в атаку.
Но рота лежала.
Калина в приступе гнева выругался:
─ Лежите? Уютно пристроились в могиле, бараньи головы? Вояки! Вам бы бабу грудастую щупать по зауглам, а не воевать!
И пошел один, туда, в самое пекло огня и дыма, откуда неслись тысячи смертей, держа в одной руке немецкий трофейный автомат, в другой связку противотанковых гранат. Он шел окровавленный, с расхристанным воротом гимнастерки, изрешеченной осколками. И было странно видеть его, смело идущим по полю брани, среди кипящего, бушующего пламени. Среди снарядов, которые, боясь его бесстрашия, безмерной отчаянной смелости, обходили его, роя с огромною и черною силою совсем рядом скорбные могилы. Он не спрыгивал в могилы-воронки, не прятался, не бросался, спасаясь, на горящее поле-побоище. Шел и шел, не надеясь на милость, на Божье заступничество. Пули тоже облетали его, не касались тела, его сердца, сердца Данко. И, казалось, все притихло в страхе вокруг Калины, ожидая, что будет: притихла в пламени земля, притихло небо, примолкло каркающее воронье, сидящее на обугленной березе. Всех удивляло такое видение. А политрук, в отчаянии расстреливая из автомата немцев, сменяя магазин за магазином, все шел и шел вперед, не кланяясь никому, в мирской простоте возвысив себя над полем битвы, над жизнью и смертью. Он был велик в целомудренной воинской красоте. Весь мир с болями и радостями вобрал он в это мгновение в себя, и мир, тоже покоренный его силою, с покорною радостью излучал свет любви к людям, веру и торжество победы. Его бесстрашное одинокое шествие по смертельному, огненному полю битвы потрясало душу.
Не выдержав, Башкин толкнул друга:
─ Жив?
─ Жив, мать ее! ─ грустно отозвался воин.
─ Тогда пошли!
Копылов скривил улыбку:
─ В соседнюю деревню, на танцы, к девочкам?
─ За политруком!
─ Он обезумел. Куда за ним идти?
─ На битву, Коля, на битву!
─ Не горячись, Саша! Надо всем вставать! Одним вихрем! Посмотри, сколько смельчаков полегло. Тоже мятежные души были.
─ Ну, как знаешь! Живи, а я политрука одного в беде не оставлю.
Башкин в сильном и гордом рывке оттолкнул себя от земли и тоже смело встал над полем битвы, под летящие пули и снаряды. Взмахнул винтовкою, громко крикнул:
─ Славяне, не лежать! Блажен, кто гибнет за Отечество! Вперед!
И бесстрашно пошел в самое огниво, навстречу пуле и смерти, совсем не чувствуя ее. Просто пошел, чтобы догнать бесстрашного политрука и идти вместе, плечо к плечу, и биться жертвенно вместе, защищать свои жизни.
Лежать бы горестным распятьем Александру Башкину с политруком Ипполитом Калиною на поле сечи, но в это время умница Гаврила Воронцов, увидев, как безжалостно немецкая артиллерия избивает ополченцев, гонит в смерть-гробницу, нарушил приказ командира роты. Живо, уверенно вышел с храбрецами-гранатометчиками из засады, и с площади, с близкого расстояния и обрушил на батарею гранатный удар немыслимой силы, вложив всю красоту сердца, весь гнев.
Батарея врага опустилась ночь, без звезд и луны. Ночь, кипящая разрывами гранат, наполнилась безумными стонами, багровым пламенем. Костры прожигали ее до неба.
Вся рота, кто еще оставался живым, поднялась, как один, как буревестники, догнали политрука Ипполита Калину, рядом идущего Александра Башкина, выставили ружья, и смело, сурово пошли на штурм Ярцева.
То была еще одна психическая атака!
И рота ворвалась в первые бастионы города-крепости, никакая сила не могла остановить в атаке русское воинство.
Гитлеровцы растерялись, испытали потрясение, решили в крепости не отсиживаться. Из города вышли красивою воинскою колонною, растянулись цепью по полю. Шли храбрецами, не таясь, уверенно и неторопливо, словно вышли на увеселительную прогулку по городу Берлину с любимыми красавицами и спускаются к Одеру покататься под тугим, белоснежным парусом на легкокрылой яхте. Каски молодечески сдвинуты набекрень, ремешками не пристегнуты. Обвешаны гранатами, как бутылками шнапса. Морды веселые, надменные. Рукава серо-зеленых курток засучены по локоть. Автоматы прижаты к животу, не стреляют. Знаменосцы горделиво несут штандарты «Адольф Гитлер». Значит, отборные войска СС. Страха нет. Они уверены, что победят, сомнут славянское воинство. Их ─ туча, а русского брата ─ две ковылинки в поле.
Они совершенно не понимают русского человека: вышли бы с белым флагом, сдались в плен, сохранили себе жизнь: что есть драгоценнее ее? Жизнь это солнце, любовь, ласки красавицы! Нет, идут под красным флагом! На скорбную смерть. Прав великий фюрер, славяне ─ туземцы, дикие звери. Они не чувствуют смерти! И жизни не чувствуют! Зачем родились? Зачем ─ вознестись жертвенным пламенем в небо? В бессмысленную вечность? Во имя чего? России? Она уже погибла! От страны варваров осталась одна Москва! И там вот-вот промчат по брусчатке Красной площади благословенные Богом и фюрером танки фельдмаршала Гудериана! И народ будет в радости бросать цветы победителям, какие принесли!
Стояла бы Русь, еще можно было бы биться! Но если все проиграно, с каким смыслом гибнуть? Они, воинственные внуки короля Германариха, кто накинул на Русь петлю, обратил ее в рабыню, прошли властелинами мира по всем столицам Европы, а уж берложью, медвежью столицу сам Бог велел поставить на колени!
Но в принципе все хорошо: люди гордые, имеют честь. Бьются храбро! И трудолюбивы. Пахари! Хорошими рабами станут!
Воины политрука Калины тоже не стреляли. Они шли дальше в город, к вокзалу, шли одержимо, жертвенно, не боясь пули, не боясь сближения на рукопашную. Немцы не выдержали дуэли-тарана, открыли огонь на поражение. Гибельным разливом свинца повели огонь и руссы. В ход пошли гранаты.
Дрались люто, отчаянно. Никто не уступал, не молил о пощаде. Кого настигала пуля, умирал без единого стона и крика. Не было времени ощутить боль, не было сил проститься с жизнью. Битва разгоралась все сильнее и сильнее. Враг наседал в немыслимом, мятежном исступлении.
Воинственные громады все больше сближались.
Политрук Калина подал команду:
─ Роте изготовиться к штыковой атаке! Идем врукопашную!
Башкин, уклонившись от летящей гранаты, примкнул штык к винтовке, лихорадочно выкрикнул Копылову:
─ Не забыл, как договаривались? Немец завалится на меня, секи его кинжалом и лопатою, на тебя, ─ я ему хребет ломаю.
─ Подкуем копыта дьяволу, Саша, не живи тревогою, ─ еле разлепил губы его друг, высушенные жарким солнцем и напряжением боя; разжать губы без боли, без крика сердца, нельзя было.
Два вихря, две мятежные, грозовые силы схватились врукопашную. Руссы бились молча, сурово и упрямо, с полною богатырскою удалью, нанося удары штыком, кинжалом и лопатою. Наносили продуманно, верно, без суеты и страха, как не раз бились на кулачном бою на деревенском игровом побоище. Одинаково бесстрашные и храбрые немцы кричали как оглашенные; их пьяный, хоровой рев устрашающе высился над полем брани. Порою, разжигая в себе звериную злобу и ненависть, надменно и горделиво покрикивали, красуясь смелостью: «Рус Иван, вот он я. Иди, иди, не бойся! Зачем воевать, поцелуемся?» Кричали на своем языке, но оскорбительный смысл был ясен сам по себе. Башкин, удивляясь своей невероятной силе, разбуженной яростью боя, в запале бросался в самую гущу врагов, разметывал их штыком и кинжалом, разил, добивая упавшего, но еще живого сильным ударом кирзового сапога в лицо и грудь, и еще успевал бросить гранату в разъяренного немца, набегающего на Копылова. Он внутренним зрением видел все лобное место, его кругозор, его опасности. Видел врага за спиной, сбоку, с занесенным кинжалом с выгравированной на рукояти нацистской свастикой и словами: «С нами Бог!» ─ и в необузданной стихии глушил его, не дожидаясь своей гибели. И кулаком, и кинжалом, и прикладом винтовки. Он чувствовал себя отчаянно храбрым, ничего не боялся. И шел туда, где было в кипевшей кровавой рукопашной наиболее сложно, трудно. Шел как громовержец, между жизнью и смертью, имея ясный ум, завидную выносливость, силу лесного зверя. И бешеную непокорность роковым обстоятельствам. Он не думал о жизни, не думал о смерти, о геройстве. Он думал, как пересилить врага. И выжить самому. И все сущее в нем подчинялось этому строгому закону. Немцы заприметили отважного русского воина. И каждый теперь считал делом чести ─ сразить его наповал. И семь фашистов набросились на него, взяли в окружение. Башкин не испугался, не ослабил волю, он крутился грозовым смерчем и осмысленно, с боксерскою точностью сбил кулаком двоих, рыча от ярости, вонзил кинжал в третьего, но в это время его сбили с ног. Он не успел защититься, отвести удар. Не хватило доли секунды. Слишком высоко он размахнулся кинжалом, желая пронзить сердце врага. Врага, который пришел на Русь его убить.
И лежать бы ему поверженным на смоленской стороне, не видеть больше, в каком величии является солнце над Пряхиным! Не слышать, как сладостно поют иволги на березе у родного дома, как в раздолье играет гармоника на опушке, где даже, кажется, пританцовывают зеленогривые елочки у реки Мордвес. Не видеть добрые глаза матери Человеческой Марии Михайловны, не видеть любимую девочку Капитолину, чью детскую фотографию носит в таинстве в кармане гимнастерки! Жизнь в бою ничего не стоит. Она обесценена запредельно! Тьма пуль, тьма смертей летит в тебя. Какая выберет? Какая твоя? Все ─ твои! Расстаться с солнцем можно в мгновение. В каждое мгновение. Будь у человека тысяча жизней, и те бы отобрали битвы. И снова в облике ангела-хранителя явился его друг, Коля Копылов, богатырь-тракторист из деревни Лукошино.
Александр Башкин временами думал, обычным ли земным человеком был его друг? Не послан ли землю Руси самим Богом, спасать его от смерти? Все в мире таинственно! И человек ─ загадка! И ангел спаситель ─ загадка! Ничего не изучено, и никто не знает, кто мы во Вселенной? И зачем? Мистика и явь жизни ─ часто на земле переплетаются!
Не со смыслом ли?
Здесь и мужское начало, и женское.
Александр Башкин истекал кровью, погибал, и все пытался, собрав последние силы, спружинившись, подняться в последнем гибельном рывке и сбросить со спины насевшего здорового фашиста. И в последнем прощальном миге вонзиться зубами в его глотку, увести с собою; он уже знал, так и будет! Он оба исчезнут в смерти, исчезнут в одно мгновение, ─ он, как воин Пересвет на Куликовом поле, фашист как призрак Челубея. Но хватка врага неожиданно ослабла и он упал на его поверженное тело, с прорубленною головою, заливая всего кровью. В жуткой очередности, попадали рядом еще фашисты, тяжело раскинув руки. И тоже с прорубленными касками.
Башкин в страхе закрыл глаза. Было страшно лежать среди мертвецов. Словно опущен в могилу. Заживо. Все есть, ум и сознание, а сил вырваться из тьмы, из глубины могилы, никак не изыщет! И все лежал, лежал, испытывая безумную покорность, видя свою смерть и не видя ее.
Воин Копылов сосредоточенно вытер от крови лопату о серо-зеленую куртку фашиста, оттащил друга от окровавленного эшафота, подал руку:
─ Чего разлегся, как вампир на кладбище, в могиле? Нравится с мертвецами обниматься? ─ Краем глаза он увидел опасность и удачливо выстрелил в немца, кто набегал с кинжалом.
Башкин встал тяжело, друг побил его по щекам:
─ Ожил? Бери автомат у немца, и за дело!
Жестокая и беспощадная битва, без надежды на спасение и воскресение, продолжалась до сумерек.
Солнце устало, склонилось за лес!
Но люди все бились и бились. И падали на свой эшафот, под штыками, как под ножом гильотины. С хрипами, стонами, криками боли.
Неутомимо бился и политрук Калина. Он пронзил штыком преогромного фашиста, и он, еще живой, обессиленно повис на его острие. Штык попал в кость, засел глубоко и никак не вынимался из поверженного тела. Политрук, рассвирепев, в гневе бросил штык вместе с телом. И теперь бил немцев, которые в ненависти, беркутами, налетали на него, рукоятью пистолета. И при этом каждый раз ухал, как лесник, рубящий толстое поваленное дерево.
Трупы немцев горами лежали друг на друге, окровавленные, проколотые штыками, кинжалами, разрубленные саперными лопатами.
Но они стоически держались.
Не уступали.
Завоевателя было много. Тьма и тьма. И еще спешили из города пехотные силы.
Тульским ополченцам ждать помощи было неоткуда.
Они были смертниками.
И бились героями.
Они не могли отступить, сдать позиции. Битву за город вели еще роты, стремясь взять в кольцо. И тоже вели битву жестокую, кровопролитную, все больше стягивая роковую петлю вокруг города-крепости. Отступив, они совершат предательство перед товарищами, которые в невиданном сражении отстаивают каждую пядь смоленской земли, поливая ее кровью. И не отступили ни на шаг. До роты фашистов было насажено на штыки и кинжалы. И они пришли в замешательство, еще раз испытав неслыханную силу русского воина. И в панике побежали, объятые страхом, шепча молитву о спасении, обратно в город, в свою крепость, спеша укрыться за каменные стены.
─ Победа! Победа! ─ неслось неостановимым сладостным ликованием над полем битвы.
Гордость и отвага переполнили сердца смертников,
сердца героев.
Слезы радости за себя и Россию подступали к горлу!
Выстояли! Выжили!
И люди плакали, не стыдясь своей слабости, снимая боль с души, нервное перенапряжение, сладостно вслушиваясь, как в наступившей тишине неизъяснимо мирно ожили и застрекотали кузнечики, забили крыльями ночные птицы и бабочки, белея кружащимся снегом над полем битвы, какой выпадает только раз в деревне, в ночь на Рождество.
Еще живя боем, Башкин с тоскою посмотрел на трусливо убегающую толпу немцев, высказал пожелание:
─ Чего фрица отпускать, товарищ политрук? Настичь и настругать крестов, пока остра сталь булата.
Бледный, окровавленный, с иссиня запекшимися губами, бесконечно обессиленный Калина с напряжением, испытующе посмотрел на воина, непоколебимо выговорил:
─ Пусть уходят с миром! Никуда не денутся! Все наши будут! ─ И неожиданно лукаво добавил: ─ Воры в законе говорят, жадность фраера губит.
Ополченцы дружно рассмеялись.
Политрук разрешил короткую передышку. По кругу пошла фляжка с водкой. Пили солдатские сто грамм. Коля Копылов бережно налил водку в кружку, подал другу.
─ Благословись, Саша. Первая чарка на пиру за павшего героя! Смотри, сколько полегло богатырями! Спят, как святые праведники! Не слышно ни одного стона. Все бились, пока была сила, пока была жизнь.
Он осмотрел поле сечи:
─ Смотри, в землю воткнут штандарт со свастикою. И красиво выписано: «Адольф Гитлер». Чувствуешь, с кем дрались врукопашную? С отборными эсэсовскими войсками! И осилили. И не верится! Право, не верится!
Он помолчал, вглядываясь в поле битвы, где уже кружило воронье:
─ Не знаю, как ты, Саша, а мне грустно. Убил немца, а жалко. Честное, жалко! Тоже люди были! И тоже матери Человеческие будут плакать по убиенному сыну. До креста будут сниться те, кого вблизи сразил штыком, пронзил кинжалом. Понимаю, они враги, пришли убить меня и покорить мою Россию. Их надо убивать, убивать, а грустно! Ну, пей, Саша! За себя, за друга, за Отечество!
Александр Башкин, набрав смелости, выпил.
И долго ласкал бороду:
─ Горькая, сволочь!
IV
Политрук внимательно, с напряжением посмотрел в сторону Ярцева, там уже зажигались огни. Он обождал, когда ординарец Вадим Шитов перевяжет ему тугим бинтом грудь, израненную осколками, где там и там запеклась кровь, смочил в водке платок, обтер им от гари лицо, подал роте команду:
─ Отдыхаем до рассвета!
Утром, едва показалось солнце, запели птицы, ополченцы были подняты по тревоге.
Политрук Калина с тоскою оглядел воинство, истинная горстка, где уж там брать штурмом город? Многие, многие, без молитвы и без скорби, истаяли в битве холодным светом звезды, ушли в вечную усыпальницу. Любовь к павшим героям бесконечна! Но никого, никого уже не вернуть в первозданный мир красоты и радости!
Будем воевать с тем, что осталось!
Политрук тихо произнес:
─ Славяне, за Отечество коммунистический полк бился смело, жертвенно! Мы вышли на окраину сторожевого бастиона! Теперь надо взять штурмом город! И мы возьмем его! Это будет наш последний и решительный бой!
Он погладил на груди бинт, пропитанный кровью:
─ Пошли, славяне! За Родину, за Сталина! ─ и гордо зашагал по полю, обходя глубокие воронки от разрывов мин и снарядов. Кое-где еще лежали убитые, ─ и немцы, и русские; санитарная команда тоже дралась за город, и вся полегла, некому было похоронить воина-героя. Все отложили до победы, до Красного знамени на башне в Ярцево. Убитые лежали в крови, в пыли, с незакрытыми, остекленевшими глазами. И все смотрели в небо, в свою вечную голубую бездонность, как познавали свою загадку гибели, скорбною отлетевшею душою общаясь с Богом. Они были отторгнуты от жизни насильственно и несправедливо, их больше не было на земле, она для каждого утратила ценность, обратилась в ложь и бессмыслицу, они, умершие, давно уже блуждали в строго-таинственном звездном мире. Но каждому воину, что шел на штурм города-крепости, так и казалось, что они все, все упрямо смотрят в его сердце! Одни как бы спрашивали: почему мы умерли, принесли великую жертву России, а ты нет, ты еще жив; другие в скорбном безбрежье спрашивали: за что ты убил нас, политрук? Мы так еще хотели побыть загадкою на земле!
Было тяжело идти по страшному кладбищу мертвых остекленевших глаз, среди изуродованных тел, горького дыма. Мучило чувство собственной вины. Откуда она пришло, из какой безумной дали и почему? Ответить себе никто не мог! Но вина жгла нестерпимо. И еще жалость. Александр Башкин слышал в себе эту жалость! И даже слышал слезы.
Но понять, чем он виноват, чем виноват, осмыслить не мог!
И очень стыдился себя, слез, и терпеливо выжидал, когда они иссякнут, освободят сердце.
Рота с ходу вступила в бой; штурмом взяла станцию, и, прячась за вагонами, по рельсам, устремилась к вокзалу; там уже с наседающим врагом отважно бился Гаврило Воронцов с гранатометчиками. Без устали били противотанковые ружья, слышались громовые грохоты гранат, неумолчно строчили немецкие пулеметы. Политрук Калина понимал, горстка гранатометчиков сражается с врагом на последнем пределе сил, скорее, скорее побежало к вокзалу. Здание горело. В ярком свете огня было видно, как на площади взрывались гранаты, в злобном хаосе метались немцы, падали, как спотыкаясь о камень.
Рота Ипполита Калины, стреляя из автоматов и винтовок, в сумасшедшем натиске пробежала по перрону, лавиною вылилась на площадь. И остановилась, замерла. Вокруг стояла тишина, немыслимая, необъяснимая. У постамента с бюстом Сталина безбоязненно сидел Гаврило Воронцов, лицо его озаряло пламя с вокзала, а сам он устало курил цигарку. Глаза смотрели грустно, в пространство. Увидев командира роты, пытался встать, доложить о результате боя, но Калина опустил руку на его плечо:
─ Сиди, сиди, кузнец! Все сами видим. Сыграли им собачью свадьбу! ─ он оглядел площадь, она была вся усеяна убитыми немцами.
Тихо, с надеждою спросил:
─ Где остальные? Почему один?
─ Все, остальные, пали героями! ─ с печалью вымолвил командир взвода гранатометчиков.
Воины в трауре помолчали. Политрук Калина прислушался, он отдаленно услышал громовые орудийные раскаты, выстрелы из пулеметов и винтовок; на город-крепость вели наступление коммунистические полки из Орла, Рязани, Москвы, какие своевременно пришли на выручку. И в мгновение подал команду: в ружье, на штурм! И рота бросилась в каменные улицы города. Враг сопротивлялся отчаянно. Он выкатывал на улицы пушки, многоствольные минометы, и те били по русскому воинству в упор, прямою наводкою, заливая свинцом все пространство. С крыш домов, из окон кинжальным огнем разили воинов неумолчные пулеметы. Немцы храбро, с волчьей свирепостью поднимались в контратаки, идя вслед за танками, устрашающе оглашая поле битвы животными, дикарскими криками. Не боясь, шли на сближение, бросались в рукопашные схватки.
Битва кипела кровавая. Город горел; с гибельным гудом рушились здания. В грохоте падали кирпичные стены, взвивались красною пылью, которая забивала легкие. Вихри пепла, взметываясь, кружились и опадали на лица и улицы густым черным снегом. Невыносимо въедливый дым мучил, душил, погружал город в ночь. В небе отчаянно выплясывали ракеты. Отовсюду стремительно неслись гибельные пули, кострами возгорали вспышки орудийных выстрелов, разрывы гранат.
Снаряды, как смерч, сметали с земли все живое. Весь воздух был пронизан свистящим железом.
Смерть кружила над землею.
Над обреченным русским воинством.
Казалось, в огненной круговерти обе стороны должны были погибнуть в безумной схватке.
Но воины коммунистического полка залегали, выжидали время, когда приостановятся гибельные, огненные, ненасытные лавины пуль, и снова поднимались на битву, как Илья Муромец с соловьями-разбойниками, как чудодейственная рать. И шли упрямо на злобного врага, в натиске взламывали оборону, брали приступом орудия, проникали в подвалы, на этажи здания, выбивали захватчика пулею и гранатою, выковыривали штыками. там, где было совсем сложно, по улице перемещались перекатами: одни шли в атаку, другие прикрывали огнем. Гаврилов Воронцов, прячась за дома, в упор расстреливал из противотанкового ружья танки-крестоносцы. В городе они беззащитны, можно вскочить на танк и расстрелять в смотровую щель водителя-танкиста; танк страшен на расстоянии, пустит два снаряда и вся рота может обратиться в смертельный крик. Воин изучил его повадки, и все получалось ладно! Выбить танк с позиции, это продвинуться еще на одну улицу.
Так, в соборности, выручая друг другу, и вершили подвиг ополченцы!
Ничто не могло остановить их движения.
Храбрецы кричали немцам с отвоеванного бастиона:
─ Как тебе собачья свадьба, фриц? Уходи из Ярцева! Возьмем его! Слышишь?
Вместе со всеми шел на штурм города и Александр Башкин, плечо к плечу со своим другом. И тоже сражался храбро. В первые мгновения битвы было страшно ─ гибельно, обреченно мучила скорбно-печальная мысль: убьют, убьют. Но потом пообвык. Стало не так страшно. Тысячи смертей пронеслось мимо, и пока ничего, живет. Бог милует. И в то же время в горьком раздумье понимал, что не выживет! Никто не выживет! Немцы ─ смертники, и руссы ─ смертники. Одним начальство приказало, отстоять город-крепость Ярцево, откуда должны на Москву двинуться колонною танки Гудериана. От Ярцева до Москвы двести километров! Три марш-броска, и танки Гудериана будут расстреливать Кремль. Кто же отдаст такую военно-стратегическую позицию?
Руссам начальство приказало ─ взять город-крепость любою ценою. И руссы тоже будут биться до последнего! Поле-побоище под Ярцевым, несомненно, станет братскою могилою и внукам короля Германариха, и руссам, внукам Великого князя Рюрика!
Ужели кому мыслимо выбраться живым из окаянства, из заварушки?
Но что теперь? Упасть раскрыленно, расслабленно на землю и горько рыдать о напрасно прожитой жизни, пока фашист не пристрелит? Не из той породы был создан Башкин. Он шел в первой цепи наступающего воинства, прицельно стрелял из винтовки, бросал гранаты и верил, что победит. Он знал, за что воюет. За Родину и Сталина, за маму свою, Марию Михайловну, за сестер и братьев, за русскую землю! Он смертно бился за свое.
И победил!
Весь полк победил.
V
Город Ярцево был взят и зачищен от немцев. Улицы осиротели от выстрелов, разрывов снарядов и гранат, от страшного лязга гусениц танков, от всего оглушительного грохота боя. Сражение закончилось. Бронированные танки, артиллерия, доты и амбразуры ─ все было смято, разбито под страшным натиском коммунистического полка. Ничто не устояло перед храбростью русского воина.
Над зданием городского Совета взвился красный флаг.
Воины Тулы собрались на площади, усталые и счастливые, крепко обнимались друг с другом, радуясь, что выстояли, остались живы. Вверх бросали каски, с удалым подсвистом кричали «ура». Воины седьмой роты бережно раскачивали на руках политрука Калину, опасаясь, как бы из ран не хлынула потоком кровь. И в то же время хотелось выразить ему солдатское уважение за честь, за смелость, за любовь к России.
Задымились походные кухни. Пристроившись у костров, воины под чарку водки ели из котелков щи с мясными консервами, перловую кашу.
Неугомонный весельчак и балагур Гаврило Воронцов уже складывал прибаутки, неторопливо свертывая щедрую цигарку обгорелыми пальцами:
─ Выпьешь винца, и дар, как у жеребца! Выпьешь водки, захочешь молодки, а выпьешь медовухи, без молодухи, умрешь от голодухи.
Уравновешенный и строгий заместитель директора Тульского торга Тихон Шмелев осудительно заметил:
─ Ну, Божий раб, как перекур, так про баб! Как тебя, жеребца, жена терпела?
─ Сладко целовал ее, сладко хмелела, потому и терпела, ─ разгладил усы кузнец.
─ И полынные прибаутки сносила?
─ Еще просила, и все было мило! Я ей за великую бабью жертвенность семь сыновей-лебедей в белый свет выпустил. Умру, а буду жить! В каждом! И с каждым буду взлетать над голубою землею, и все видеть, что смерть похитит ─ и Тулу свою, и кузню огнедышащую, как доброе чудище, и домик с березками на берегу рек в Алексино, и жинку Варвареньку, на поцелуи сладенькую. Почему и не боюсь смерти, поскольку бессмертие несу, как Русь!
Он глубоко затянулся крепким самосадом, и глаза зажглись необычным свечением, словно он уже переместился из Ярцево в Тулу и через века, через века, летел вместе с сыном-лебедем над благодатною русскою землею, и видел с высоты все, чего желал увидеть, и даже увидел свою гробницу на кладбище в Алексине! Гробница одарила величием больше всего, значит, еще повоет за Россию, раз не вдали от маленькой родины положат в братскую могилу! С предками будет лежать, с родичами, кто еще во времена, когда правил на Руси Великий князь Бус Белояр, стояли ратниками за Отечество руссов!
Благостно растрогав себя, воин-кузнец услышал в себе слезы радости, втихую, отвернувшись, смахнул слезу.
Бравые ребята принесли рояль из разрушенного дома. Божественно красивый, женственный, с томными синими глазами, актер Тульского драматического театра Вадим Иконников моментально подсел к роялю, грациозно взмахнул руками и легкими, утонченными пальцами заиграл вальс Штрауса. Ополченцы закружились в танце. Не устояли перед музыкою и друзья, Башкин с Копыловым. Обнявшись, они кружились, как вихрь, по площади. Затем выплясывали русского, и вприсядку, и с озорными частушками; все было, как раньше. Исступленно гибельная, безжалостная битва не обратила русича в гиену огненную, он остался человеком красоты и величия! На музыку скромно потянулись девушки, местные красавицы, пошли знакомства, жить стало еще веселее.
Тем временем политрук Калина, выставив боевое охранение, отправился на доклад к командиру полка. В просторном кабинете председателя горисполкома горела керосиновая лампа-семилинейка. Командир полка был не один, в застолье, в его окружении сидели три полковника и генерал, то были командиры коммунистического полка из Москвы, Орла, Курска, Брянска; чьи полки тоже в соборности с Тулою жертвенно штурмовали город-крепость Ярцево. И потому, отмечая радость победы, с полным правом пили из рюмок коньяк.
Ипполит Калина растерялся: он не знал, как быть, к кому обращался. Выручил командир полка Николай Васильевич Энгель. Он извинился перед друзьями-побратимами и отвел политрука в соседнюю комнату.
─ Как настроение? ─ поинтересовался майор.
─ Боевое, товарищ командир полка!
─ Велики потери?
─ Велики, товарищ майор! ─ политрук из чемодана бережно выложил на стол стопками партийные билеты, залитые кровью, пробитые пулями и осколками.
Майор медленно пододвинул к себе одну стопку, стал просматривать каждый билет. Он всматривался в молодые лица, полные жизни, и невольно глаза его печалились, выступали чистые слезы. На всех билетах стояла лаконичная, скорбная надпись политрука Калины: «Пал смертью храбрых при штурме Ярцева. Вечная память герою!».
Дорогие, бесценные партийные билеты жгли сердце. Командир полка испытал боль и печаль и отодвинул от себя скорбные билеты коммунистов и комсомольцев.
В трауре помолчал:
─ Раненые есть? Собственно, безусловно, есть, ─ поправил он сам себя. ─ Много ли?
─ Ни одного, товарищ майор! Раненые в строю. И таковыми себя не считают. Они поклялись перед боем: оставлять оружие только убитыми. Они коммунисты, ─тихо уронил политрук.
Командир полка помолчал:
─ Сам сколько раз ранен?
─ Не подсчитывал, товарищ майор. Без счета. Все тело изранено осколками. Но все не смертельные. Ординарец перебинтует, и мчим на тачанке по полю-побоищу под красным флагом! Без Цезаря роту к солнцу не поднять, закружит в хаосе, в водовороте!
Командир полка душевно произнес:
─ Я разговаривал по рации с командующим армии Константином Рокоссовским, он пришлет санитарные автобусы. Надо каждого раненого отправить в госпиталь, в Ясную Поляну Льва Толстого. И о себе позаботьтесь, политрук. Калина отказался:
─ Не время бежать с поля битвы! Вы представляете, что творится в штабе генерала-фельдмаршала Федора фон Бока? Мы не дали танкам Гудериана закрыть на севере в Ярцево окружение, армия Михаила Лукина, какая бьется в Смоленске, как гладиатор Спартак на роковом римском Колизее, может, обессилев, выйти на путь спасения. Там молнии мечет сам фюрер, кто обещал народу провести на 7 ноября парад немецких войск на Красной площади в Москве! Танкам Гудериана оставалось три марш-броска до Москвы! И что теперь? Задержка! Накопление сил; а в плане «Барбаросса» все рассчитано по часам!
Вскоре на Ярцево пошлют такую силу, что сладко не покажется! Как же я могу покинуть роту, товарищ майор, это будет предательство перед воинами! И перед собою! И перед Русью!
Командир не согласился:
─ Не геройствуйте! Вы еле сидите. Ваш лик бледен, вы истекли кровью. Ослабли. Сможете вы полноценно командовать ротою? ─ Он подсел поближе, тепло произнес: ─ Я вам по-отечески. Вы еще молоды. Вам жить и жить. Женаты?
─ Не успел. Но Венера, богиня любви, ожидает.
Тем более. Зачем девушке скорбные плачи над могилою гладиатора, иссеченного мечом? Живите! Любите! Смотрите на солнце! Повоюете еще, как подлечитесь. Мы останемся! Мы свое прожили. Мне не страшно умирать. В гражданскую я воевал пулеметчиком на тачанке у самого Василия Ивановича Чапаева! Там было страшно. Был молод. И на каторгу идти было страшно по суровому сибирскому тракту, звеня кандалами и цепями, под заунывную песню ─ как пели скорбную молитву смерти. Я за народ, за его счастье, три раза был приговорен к смертной казни. Выжил. Не погиб. Теперь подошла очередь. Город будем защищать до последнего воина! Только по нашим окровавленным сердцам прокатит огненная колесница бога войны Ареса! Вы живите, Ипполит! Со временем отомстите за каждого воина коммунистического полка!
Политрук сдвинул скулы:
─ Тот, кто ранен, по согласию, отправлю. Сам останусь с ребятами!
Он вышел на площадь. Стояла ночь. Воины отдыхали, и в одиночку, и сгрудившись с друзьями. Все устали до изнеможения.
Вадим Иконников играл на рояли и пел:
Шумел, горел пожар московский,
Дым расстилался по реке,
А на стенах вдали кремлевских
Стоял он в сером сюртуке.
Ему, сидя на шинельной скатке, подпевал Гаврило Воронцов. Воин Башкин с друзьями внимательно слушал песню о Наполеоне. Коля Копылов прогуливался по аллее с милою девицею.
Политрук подошел к роялю, послушал пение, и тоже рискнул подпеть. Голос у политрука красиво-душевный, и песня, взлетев в два крыла, с сострадательною болью повела сказание о бессилии властелина, кто повелевал миром, жизнями и смертями тысяч людей, а теперь жил печалями, покаянием:
Зачем я шел к тебе, Россия,
Европу всю держа в руке?
Теперь с поникшей головою
Стою на крепостной стене.
Все войско, собранное мною,
Погибнет здесь среди снегов.
В полях истлеют наши кости
Без погребенья, без гробов.
Воин Башкин не выдержал:
─ Мудро предвидел, владыка мира! Почему Гитлер не прислушался к его загробным стонам? Тоже пошел на Русь? Что, Бог лишает разума и великого убийцу?
─ Он не пошел, а поплыл по реке вечности. В своем гробу, ─ живо заметил политрук.
Подошли Коля Копылов с девушкою:
─ Маэстро, моя любовь, Лена-Леночка-Алена, желает сплясать краковяк? Не уважите, как с вальсом Штрауса?
Влюбленная пара дала класс, на потеху воинам!
─ Сила! Кузнечная ковка, ─ с добротою оценил Гаврило Воронцов.
Политрук Калина присмотрелся к воину:
─ Вы ранены, Копылов? Болит рука?
─ Как не болеть? Дрались врукопашную с тучею фашистов. Бык взревет от ярости и боли.
─ С рассветом из штаба армии Константина Рокоссовского прибудут санитарные автобусы. Готовьтесь для отправки в тыл.
─ Ничего обедня! ─ взвился Копылов. ─ Я добровольцем пришел на роковое поле-побоище! И прошу считаться с моим желанием, а рана, что рана? Поболит, перестанет!
Калина грустно уронил:
─ Беспутные вы люди. Одни печали с вами! Вас, боец Копылов, надо бы отдать на суд трибунала, за неисполнение приказа. Но я милостив. Воюйте! Бог вам судья. Признаться, я люблю вас, ослушников! Вас, Копылов, и вас, Башкин, я представил к награде. За вашу отвагу, за любовь к Отечеству. Выживете в огненной метелице, станете воевать с орденом Красного Знамени.
─ Выживем, политрук! И еще свадьбу сыграем! Так, Леночка, Алена?
Девушка смиренно потупилась, но краем глаза посмотрела на воина.
VI
Неделя прошла в тревоге. Командир Тульского полка находился на командном пункте на колокольне Троицкого собора и, прильнув глазами к стереотрубе, внимательно всматривался в шоссе Москва-Минск, по которому со стороны Духовщины колонною шли танки Гудериана, упрямые, грузные тягачи тянули орудия, с песнею Хорста Весселя о Германии, какая уже владеет миром, шли гитлеровские батальоны. И пришел день, когда на город тьмою, как дикая стая гиен, налетели «Мессершмитты» с черными крестами.
Началось беззащитное избиение города. Три зенитные батареи были только у московского коммунистического полка, но что он могли изменить? Тяжелые взрывы и страшные багровые костры стали воскресать смертью по улицам Ярцево, все улицы погрузились в багрово-жаркое пламя, задохнулись в черном смрадном дыме. Страшны были пожары на хлопчатобумажном комбинате, на литейном заводе, на фабрике пианино, где расположились воины и госпиталь. Самолеты не знали усталости и передышки, непрестанно заходили в крутое пике и звеньями, прицельно, сбрасывали воющие бомбы на позиции ополченцев. Казалось, на все времена завис этот ужасающий грохот над красавцем городом, разрушая и увеча его. Самолеты налетали безжалостно-гибельными волнами; не успела отбомбиться одна армада, как с аэродрома из Смоленска налетала еще армада, еще армада. И, чувствовалось, избивали русское воинство по лютости, по ненасытности, по ненависти без молитвы и всепрощения; избивали, как наказывали упрямую Русь, Русь рабов, какая посмела встать на пути немца-господина и к Москве, и к мировому господству, и мстили, мстили, бросая бомбы, за свое поражение.
Весь город стал одним пожаром, пожаром страдальца и мученика Джордано Бруно!
Но на этом наказание не закончилось. По городу ударила артиллерия, не менее гибельная и разрушительная. И вскоре, в одно мгновение наступила оглушительная тишина, какая до гибели наполнила уши звоном-проклятьем, где все в тебе кричало до смертного крика. Но жить в хаосе чувств долго не пришлось, на поле-побоище устрашающе выкатили танки с черными крестами, с грозно нависшими орудиями, за танками пошло на штурм города отборное воинство СС; фашисты были уже не так самоуверенны, надменны, но все еще несли превеликую гордость, неумолимое превосходство ─ они господа мира, а все остальные рабы. И шли по земле Руси, как хозяева, валом, накатом, всесметающим половодьем, дико оглашая пространство пьяным, хоровым ревом, на ходу, от живота, стреляя из автоматов.
Воины роты Ипполита Калины с напряжением с волнением ожидали штурма, затаившись в глубокой траншее, отвоеванной у немцев. На бруствере ─ гранаты, бутылки с зажигательною смесью, противотанковые ружья, пулеметы. Все было готово для отражения атаки, чтобы жечь танки. Рота политрука на поле-побоище выдвинута вперед, на самое острие штурма. Роте везло на сложности. Сам политрук залег у пулемета, выставил каску на бруствер; пусть позабавятся снайперы, выявят себя.
Как началось сражение, он подал команду:
─ К бою, друзья! Умрем, но Ярцево не сдадим!
Фашистские танки издали стали бешено бить по русскому воинству, желая сокрушить, смести на тернистом пути атаки все живое. Снаряды ложились по земле, как смерч, раскидывая вокруг воющее, свистящее, убивающее железо. Воины роты разразились ураганным огнем. Поле боя взметнулось стонами людей, закипело от свиста пуль, рева пулеметов, воя мин, разрыва гранат. Русичи не стали отсиживаться в траншее, тоже бросились в атаку. Сошлись в рукопашною. И бились смертно! Поле битвы напоминало Куликово поле. Только там, где в битве были горячие, разъяренные лошадей, слышались неугомонные звоны меча, теперь были невыносимо устрашающие танки, орудия, огнеметы. Но одинаково гордо и упрямо сошлись, сбились в битве две силы ─ Добра и Зла, пришельцы-завоеватели и защитники Отечества. Немцев было несметное полчище, ополченцев Руси становилось все меньше и меньше. Но силою духа те воины были неиссякаемы! Родная земля давала ее, как сыновьям Антея, и давала, как благословенность и благостность. И ратная, исцеляющая, чудодейственная сила эта поднимала с колен, с земли раненого русского воина, и вела в атаку! Русского воина было мало иссечь мечами, надо еще толкнуть мечом на землю, ибо так он не падал, стоял несокрушимо, как само бессмертие, несмотря на то, что сердце уже не билось, а душа была на суде у Бога.
Такая сила удивляла врага, немыслимо пугала.
Первая атака захлебнулась.
Враг дрогнул, отступил, панически побросав свои знамена со свастикою. Но передышка была недолгою, успели искурить только одну самокрутку. И снова битва вернулась на круги своя. Снова орудийные залпы взметнули землю, насытили, наполнили ее огнем, воем мин и снарядов, какие рыли и рыли на поле битвы могилы, могилы, могилы, где так и виделись вокруг женщины в трауре, и слышался хор плакальщиц и хор горевестниц, а из самого сердца Руси ─ плач Ярославны.
Как только орудия перестали, как могильщики, раскапывать на земле Руси могилы, немцы пошли во вторую атаку. Ее тоже отбили! Враг в злобе пошел в третью, в бесконечную! И в страшном натиске прорвал оборону! Теперь русские воины отбивались в окружении, обливаясь кровью. Они чувствовали свою гибель, но никто не испытывал страха, тревоги. Бились героями. Командир взвода гранатометчиков Гаврило Воронцов оказался в окружении восьми танков, и смело вступил в последнюю, неравную битву. Он не суетился, ждал, когда танк продвинется до точки прицела, и бил без промаха. Увидев на танке костер пламени над бронею, благостно расправлял прокуренные усы, опускался на дно окопа, спасаясь от взрывов снарядов и гибельного росчерка пулемета, неторопливо скручивал цигарку, сладостно и вдумчиво курил. И снова осторожно выглядывал, поправляя каску, наблюдал за танками. Они шли прямо на героя, страшно грохоча гусеницами. Он в страхе цепенел, но стрелял метко. Еще четыре танка вошли в костер!
Но вот в окопе разорвался снаряд. Глаза героя залило кровью, засыпало землей. Он шевельнул руками, рук не было. Гранатомет грудою железа лежал в стороне. Но дуэль еще не была окончена. Выждав, когда танк-первенец приблизится совсем близко, Гаврило Воронцов, собрав последние силы, отслонился от окопа, с усилием обнял обрубками рук противотанковые гранаты. И, встав на бруствер, смело пошел навстречу стреляющему чудовищу. Пули не задевали его, а если и задевали, то он уже ничего не слышал, не чувствовал ни боли, ни страха смерти. Он шел по земле воином Отечества, по своей земле, родной, милой, русской, шел в последний раз, а возможно, уже взлетал белым лебедем в поднебесье, и искры угасающего сознания жили одним: дойти до танка, сжечь его. Даже еще, кажется, жил страх: успеет ли, дойдет ли? Танк все ближе и ближе. Воин Руси видел глаза водителя, они смотрели из щели с откровенным страхом! Фашист никак не мог осмыслить, он выпустил сотни пули, и все, несомненно, все попали в сердце Русского Воина, пронзили его, рота бы упала под его пулями, а человек с обрубками рук, в обгорелой гимнастерке, все идет и идет на его танк! Идет непреклонно, непоклонно! То ли дьявол, то ли человек!
Танкист-водитель в жутком страхе пожелал скорее, скорее отвернуть в сторону, но было уже поздно. Было слишком поздно! Воин-кузнец Воронцов бросился под машину, раздался страшный грохот, и она со стоном закружилась на месте, и вмиг смертельное пламя огня охватило ее!
Весь полк видел подвиг Гаврилы Воронцова. Воины наполнились новою чудодейственною силою и молча, без команды, всеми ротами пошли в атаку.
Бились не на жизнь, а на смерть.
Но отступить, сдать город пришлось.
Грустно, больно! Но что было делать? Русское воинство истекало кровью.
И все же ближе к ночи, собравшись с силами, опять пошли на штурм Ярцева. И вернули его! Четыре дня шла немыслимая, кровавая, безжалостная битва за город-мученик. Он много раз переходил из рук в руки. То над зданием городского Совета взметывался красный флаг, то стяг со свастикою. Шло повальное истребление друг друга. Упорство врага было невероятным. Наше упорство было еще невероятнее. Все поле битвы было устлано погибшими и немцами, и ополченцами. Никто героев не убирал, не хоронил, Вокруг кружилось воронье. Они пили человеческую кровь, и взлетали, тяжело насытившись, когда начиналось новое сражение. Было страшно видеть кладбище без могил, без христианских крестов, без обелисков со звездою.
Смерть перестала мучить правдою, загадкою.
Из душ исчезало все человеческое.
Даже любовь к страшному миру.
Даже ненависть.
Все ждали падения в пустоту, в ее звездную беспредельность.
В свое вечное молчание.
Мучительно было думать о жизни. И зачем? Все предчувствовали свою гибель.
Город горел. В пожаре стояло поле сечи.
Горело сердце.
Тяжело было жить наедине со своими мыслями. Никто не шутил, не смеялся. Лица воинов суровы, строги. Ночь истекла, и они, залегши в лесу, где были боевые позиции, ожидали с рассветом взлета красной ракеты, чтобы начать новый штурм, новое сражение за Ярцево. Думы о себе уже не мучили, не тревожили. Но гордые думы за Отечество выгореть в обугленном сердце не успели! И не смогли бы. Они умирали на поле битвы как раз за свою загадочную Россию. И жертвенная обреченность была им во славу. Они слышали благословенную молитву матери, смех радости девочки-россиянки, благостное движение трактора на пашне, солнечное пение хлебного колоса, прохладное течение реки, где купались и удили рыбу, свист иволг на березе, грозы и зори над деревнею, над Тулою. И во всем, во всем было знатное русское Отечество. Они слышали слезы матери Человеческой, какие благословили сына на битву и смерть, но ждали возвращения! И молились за возвращение!
Воины перестали слышать свою жизнь, свою гибель, но не перестали слышать слезы матери! И боль Отечества! И эта боль была неотторжима. Она держала на земле, тревожила гордость и смелость, гнев и радость, все, чем живет человек.
Именно такими раздумьями тревожили себя жертвенники и печальники России.
Именно такими думами тревожил себя воин Александр Башин, кто в атаке был ранен в грудь, но все оказалось легче, чем изначально подумалось, когда надломился от пули и распластано упал на горевшую страдалицу-землю. Отлежался быстро, подоспел Коля Копылов, перевязал рану, и теперь он несказанно и неизменно радовался, что смерть обошла стороною, он жив и здоров, и может снова биться за Русь. И с ласкою думать о матери Человеческой Марии Михайловне. Она на деревне пророчица-колдунья, умеет слышать сына на расстоянии, и значит, теперь живет по покою, ибо знает, ее сын жив! И снова ─ воин!
Коля Копылов был не в себе. Он лежал рядом, в окопе, на соломенном лежбище и с тоскою всматривался в город-пожарище, где суетились, как хозяева, фашисты.
Неожиданно напел:
Не горюй, родная, на ступеньке,
Укроти печаль свою и грусть.
Я в свою родную деревеньку
Непременно соколом вернусь.
Башкин осудил его:
─ Не надоел еще плач? Сменил бы пластинку!
─ Сменил бы, Саша, да вижу самозванку! И вижу. Больно умирать, больно!
─ С чего так решил?
─ От полка осталась горстка, а возвращать в штурме Ярцево снова придется! Все поляжем, братка!
Воин был близок к правде.
По замыслу комитета Государственной обороны во главе с Иосифом Сталиным, в городе Рославль, Белый и Ярцево должны быть собраны крупные военные силы, какие окружают армии генерала-фельдмаршала Федора фон Бока. И в неожиданном штурме всего Западного фронта уничтожают гитлеровские армии у Смоленска.
23 июля из Рославля гордо и бесстрашно пошла в освободительный поход на Смоленск армия генерала Василия Качалова, 24 июля ─ армия генерал-полковника Федора Кузнецова, 25 июля должна идти с обнаженным мечом на Смоленск из Ярцева армия генерала Константина Рокоссовского, но она не имела наступательного плацдарма: город Ярцево был у фашистов, на шоссе Москва-Смоленск не пробиться. Армия оказалась в западне. Шло под откос все Смоленское сражение.
Командующий Западным фронтом маршал Семен Тимошенко повелел ополченцам:
─ Лечь костьми, но Ярцево вернуть!
И все командиры полков повели воинов на штурм города, как было в гражданскую войну, бесстрашно шагая впереди, держа пистолет в поднятой руке. По хрипящему зову командиров рот поднялся в последнюю атаку измученный, растерзанный, обессиленный коммунистический полк из Тулы, казалось, уже уничтоженный. Поднялся, словно сказочная рать, вызванная силою богов. Словно мертвые встали наравне с живыми и бросились в атаку на врага.
Поле битвы огласили орудийные залпы. Застучали пулеметы. Из города, навстречу воинам, чудовищною лавиною выкатили танки-крестоносцы. Все потонуло в огне, разрыве снарядов, свисте пуль. Последние и гордые воины Великой Отечественной шли, как их отцы-командиры, не сгибаясь, не кланяясь пулям. Шли богатырями на свое Куликово поле. Падали, срезанные пулеметною очередью, осколками снарядов, раненые не соглашались со смертью, пытались встать, сначала на колени, потом в полный рост, но обессилено падали на горевшую, стонущую землю, еще поднимались, с тоскою смотрели вслед отважно идущему воинству, и с печалью, со слезами, обреченно все же уходили в смерть.
Живые шли. Они знали, они тоже исчезнут, но надо прежде победить!
Ночь осветится звездами.
Они осветятся вечностью.
Омоют кровью землю. Но не отдадут ее фашисту.
Она, Русь, своя, родная. Ее, страдалицу, отдать в полон и рабство Черному Воронью никак нельзя!
На окраине Ярцева, где уже завязались бои, где было трудно сломить напор фашиста, политрук Ипполит Калина запел революционный гимн. Ополченцы его поддержали. И во всю беспредельную ширь понеслась над полем смерти:
Это есть наш последний
И решительный бой.
С «Интернационалом»
Воспрянет род людской.
Воины с пением гимна ощутили в себе превеликую, непобедимую силу, силу богов неба. И дрались за Отечество с полным отречением от смерти, смело бросали себя под танки, неся связку гранат обожженными руками, сходились врукопашную, били врага штыком, каскою, кулаком, ненавистью ─ и осилили фашиста, и не могли не осилить, не изгнать из Ярцева. Александр Башкин шел по улице города, держа на весу автомат, с еще горячим, неостывшим дулом, потирал раненую грудь, какая в битве молчала, как умница-разумница, а теперь расплакалась в разлив, в стон. И дивился, дивился, все улицы были завалены немецкими захватчиками!
Воин, тяжело разжимая спекшиеся, высушенные жарою губы, повернулся к другу:
─ Хорошо покосили! Запомнят, сволочи, Русь! Да и нашего брата полегло щедро.
Но Копылова рядом не оказалось. Сердце обожгла боль. Неужели убит?
Он быстро пошел по улице, где они наступали, и осматривал каждого убитого, похожего на друга, всматривался в лицо. И шел дальше. Он разыскал друга на поле-побоище. Копылов сидел у обгоревшего танка и держался за сердце; сквозь пальцы сочилась кровь.
─ Колька? Жив? ─ обрадовался Башкин. ─ Я это, Сашка! Ты слышишь меня?
Воин Копылов поднял страшно печальные глаза, но друга не увидел. Во взоре жила затуманенность; он плакал.
Башкин быстро разорвал гимнастерку, белую рубашку в густой крови и увидел на груди, против сердца, рану навылет. Бережно перевязал ее бинтом, остановил кровь.
Спустя время, к другу вернулось сознание, взгляд уже не блуждал, как сумасшедшего, а глаза перестали сочить слезы.
─ Саша, ты? ─ он пытался приподняться.
─ Сиди, сиди. Как произошло?
─ С танками бились. Стая налетела! Политрук Калина пополз к танку со связкою гранат. Подорвал его, а крестоносец, он шел следом, дал гибельную очередь из пулемета. Я не успел спасти политрука Калину, закрыть его собою. Он умирал на моих руках, молчал, смотрел в небо, затем мило улыбнулся. И взмыл в вечную обитель. Я вошел в безумие, утратил себя, и с безумия, двинулся прямиком на гневные чудища, стреляя из противотанкового ружья. Раздался взрыв, взметнулось пламя. И все. Дальше не помню.
Воин Башкин невольно оглянулся на поле отгремевшего боя. Оно тонуло в огне, валил, растекался черный зловещий дым. Горели танки, орудия. Повсюду, как усталые богатыри, лежали ополченцы, и в одиночку, и в гуще, где валом лежали убитые немцы. На растерзанном теле политрука Калины стоял танк с черным крестом.
Копылов сплюнул кровь:
─ Кончаюсь я, братка!
─ Еще поживем! Не торопись в рай, ─ возразил Башкин, а сам прикидывал, не смертельно ли будет отнести друга в госпиталь? Или дождаться санитаров, которые вдали подбирали раненого воина на поле-побоище?
Коля Копылов слышал близкую смерть:
─ Кончаюсь, ─ грустно повторил он. ─ Небесную самозванку не обманешь. Жалко! Так хочется жить! Подними меня. Прислони к березке.
Он долго смотрел вдаль:
─ Здесь, где мы с тобою, Саша, самая-самая древняя земля. Ее топтали кони княжеских дружин Олега, Святослава, Игоря, печенеги и половцы. Смоленск вечно горел в огне. Битвы шли в чистом поле. Где мы с тобою, Сашок. Все века здесь первыми защищали Отечество! Сколько падало за Русь воинов, что были разрублены до седла мечами, пронзенные копьями и стрелами. Вся смоленская земля усеяна их костьми. Теперь вот и я, я рассечен мечом! Жалко! ─ Глаза его наполнились слезами. ─ Посмотри, как красива земля, как безбрежны и загадочны ее просторы. Как застенчивы и певучи хлебные колосья, луга, ожидающие сенокоса. Слышишь, как они пахнут клевером, полынью, медуницею? Во всем наша Русь, Саша! В луче солнца, в блеске росы на штыке, в стоге сена, в каждой травинке, что жертвенно упала под косою, в гудении шмеля и пчел. В ласково целующем тебя ветре. Русь даже в муравье, который убыстренно ползет с соломинкою. Мы оба из деревни, Саша! И оба обостренно чувствуем Русь, ее красоту. Я совершенно, совершенно не слышу печали смерти. Но ведь я умираю, брат! ─ неожиданно, в страшной скорби вскричал воин.─ Умираю! Почему? Почему ты остался, а я умираю? Почему? Спаси, Саша! Спаси! Оставь на земле! Оставь!
Коля Копылов обессилено склонил голову, откинулся в жаркую, пыльную траву. И замер в горькой неподвижности. Башкин пощупал пульс. Он не бился. Снял каску, обнажил голову, закрыл глаза другу. И в трауре помолчал.
Он не сразу разобрал страшный крик, что взметнулся над горящим городом и полем битвы, где бесконечно лежали убитые, застыв в виноватом, молитвенном смирении, в трауре. Не разобрал, о чем кричали? И кто нарушил тишину? Он жил печалью к другу, и страдал, сильно страдал за безвинно загубленную человеческую жизнь.
Наконец он пришел в себя. И отчетливо услышал голоса командира полка:
─ Танки противника на шоссе Москва-Смоленск! Занять огневые позиции! Раненым взять оружие!
Башкин опрометью бросился к шоссе, засел в окоп, выложил из подсумка противотанковые гранаты, приготовился к битве. Но тревога оказалась напрасною. С восточного берега реки Вопь, через Ярцева на Смоленск долгожданным, освободительным походом шла с танками армия генерала Константина Рокоссовского! Путь на Смоленск им открыл и Тульский коммунистический полк! Воины вышли из окопов, приветливо махали касками, ликующе кричали победную здравицу. Александр Башкин живо вернулся на то место, где оставил друга, прощально поцеловал в холодные губы; надо было изыскать памятные сувениры для матери Агафьи Тихоновны, брата Коли, сестер Маши и Кати.
Но воина не было. Там, где он лежал, была только могильно примятая трава, смоченная кровью. Башкин заметался. Он пытался узнать у начальника похоронной команды, где, в какой братской могиле будет похоронен воин Копылов? Надо было по целомудренной правде выверить прощальное земное прибежище русского воина, чтобы мать, приехав на могилу сына, могла попечалиться, уронить горькую слезу, повести таинственное общение с родною кровью. Так было бы справедливее, человечнее перед собой и Богом!
Конечно, матерь России есть мать всех сыновей. О каждом умершем тоска ее безмерна. Перед каждым матерь готова стоять в горьком трауре, коленопреклоненно и шептать молитву, обращенную к Господу, чтобы отпустил грехи и дал по великой справедливости жизнь в вечности, без мук и страданий, как жертвеннику земли Русской, великомученику, что взошел насильственно, без покаяния и всепрощения, на крест смерти. Ради людей и Отечества.
И все же родной сын ─ родной сын!
Тучный, страдающий одышкою начальник похоронной команды переспросил:
─ Копылов? Где будет похоронен? Вы шутите, батенька? Как же я могу об этом знать? Будет поставлен обелиск, там и узнаете, прочтете его фамилию.
─ Но его нет в морге, где убитые. Я не нашел, ─ поправился Башкин.
─ Чем же я могу быть полезен? ─ вежливо осведомился начальник.
─ Может быть, подскажете, куда он отправлен? В какой партии? На каком катафалке?
Тучный человек невзрачно посмотрел:
─ Батенька, оглянитесь. Горы, златые горы вокруг! Как же я могу угадать, где ваш однополчанин? Вы к писарю Шмелеву обращались?
─ В похоронном списке он не значится.
─ Значит, живой!
─ Как же он живой, если умер при мне? ─ горячо возразил Башкин. ─ Я сам ему глаза закрывал.
─ Не знаю, батенька, не знаю, ─ грустно уронил начальник похоронной команды. ─ Поищите сами. В лесу, по городу. Может, кого не подобрали. И такое случается. Я помочь ничем не могу. На балу с приведениями не танцую. Извольте простить.
Опечалившись, Башкин пожелал еще раз осмотреть в морге каждого погибшего в бою за Ярцево, но героев-жертвенников было так много, что искать друга было бессмысленно. Он пошел к лесу, куда свозили на катафалке героев и где бородатые, крепко пьяные солдаты-похоронщики рыли братские могилы, грустно и надсадно стуча лопатами о землю, иссушенную солнцем. Он попытался, было, наладить с угрюмыми ребятами общение, но остановил себя. Ребята старательно, в могильном безмолвии, делали свое скорбное дело, а все остальное, земное, мало кого касалось. И не им писать на краснозвездном обелиске фамилию павшего героя.
Что ж! Останется жить, после победы непременно навестит Ярцево, разыщет братскую могилу, поклонится. Выпьет чарку, помянет. Если, конечно, на обелиске высекут его имя, а то будет числиться в без вести пропавших.
Писать о его смерти в Лукошино матери Человеческой Агафье Тихоновне не будет; друг исчез, как невидимка, как загадка земная, был у танка и исчез. Словно ангелы на крыльях унесли в небо! Но унесли ли?
Сообщи о смерти, а он явится! Только безвинно матерь загонишь в тоскующее половодье. Как сподобится, сам навестить ее в деревне.
Жди, родная. Жди, любимая! Ждите, сестры Маруся и Катерина.
VII
Битва за Смоленск развернулась с новою силою. На грозном поле-побоище столкнулись, лоб в лоб, громада в громаду, Русские армии и Германские армии: Иосиф Сталин повелел, освободить Смоленск и строго наказал редактору газеты «Правда» Льву Мехлису не давать в сводки падение и пленение Смоленска, а канцлер Германии Адольф Гитлер повелел, разгромить армии Василия Качалова, Федора Кузнецова и Константина Рокоссовского, какие подошли к Смоленску, дабы спасти от петли, а танкам Гудериана мчать на Москву!
Для чего надо было освободить шоссе Москва-Минск, а город Ярцево обратить в кладбище. Только в таком случае можно будет без задержки повести таковое воинство к Москве, пленить и разгромить Россию. Именно генералу СС Иоганну фон Вальтенштерну «выпала честь» обратить Ярцево во вселенское кладбище, без крестов и человеческой памяти. На пути отборного эсэсовского воинства встали ополченцы из Тулы, а именно.
Тульский коммунистический полк, обескровленный, измученный битвами, поскольку волею случая оказался на первом рубеже обороны. Началась битва. Германское воинство шло с грохочущими танками-крестоносцами по шоссе из Смоленска и тут же вливалось в битву, желая любою ценою пленить и уничтожить Ярцево. Ополченцы в свою очередь понимали, они защищают Москву, Россию! И снова бились с врагом героями, отчаянно. Вместе с горсткою храбрецов оборонял сторожевую крепость и Александр Башкин. Дрались в неравной, смертельной схватке сутками.
Немец зверел. Тысячеязыким ревом самолетов и танков осыпал город бомбами и снарядами, обратил его в костер, в кладбище. Воины задыхались в черном дыму. Стены домов, улицы были залиты кровью. Покоя не было и ночью. Пляска ракет, пляска огней в небе мучила до рассвета. Все отвыкли от звезд. Огромное воинство штурмовало крепость под бешеный огонь артиллерии, минометов и пулеметов. Сурово-губительный рев танковых моторов и самолетов не прекращался ни на минуту. Люди устали невероятно, измученные боями, валились с ног. Но вершили свой изумительный подвиг.
Враг не прошел.
Не взял Ярцево.
Ополченцы сумели отбить всего его атаки. Воинство генерала СС Вальтенштерна отошло за реку Вопь, где закрепилось. Как раз там, где располагался немецкий аэродром, откуда взлетали штурмовики и бомбардировщики, и расстреливали наши войска, какие сражались за Смоленск.
Вместе с тем, враг постоянно и губительно простреливал Ярцево из артиллерии, губил русское воинство. На соборном Совете командиры полков решили в штурме выбить фрица с последнего рубежа, снять угрозу Смоленску и Москве.
Русичи в таинстве подошли к реке. Река была полноводная, текла властно, грозно. Переплыть ее было не так просто; стихия неприрученная, не скована, как земля, вечным молчанием. Она в движении, в разливе. Тяжело воевать на земле, но можно. Можно, упав в атаке, подняться за березу, как за посох. Если жив, земля-милосердница в беде не оставит. Не предаст. Не опустит в могилу. Река живет с вольными чувствами, будешь ранен, затянет в омут. И плывешь не один, с пулеметами, с ружьями, какие бьют по танкам, с железными коробками патронов. И все тянет на дно, как панцирь великого покорителя Сибири Ермака Тимофеевича на Иртыше.
Тянул и затянул.
И надо было реку одолеть.
Александр Башкин строго перекинул автомат из руки в руку, с улыбкою произнес:
─ Жара несносная! Почему бы не искупаться? Правда, друзья?
И первым вошел в воду. Смельчаки были на середине реки, когда сильно, неожиданно забили орудия, из дотов понеслись свистящие пули. Река закипела от взрывов, закружила омутами, со стоном рванулась водными столбами в небо. Смерть закружила страшная. Раненые воины тонули, как жертвенники, молча, без крика о проклятье и спасении. Остальные плыли в окружении пуль жарко, жадно загребая руками воду, плыли как Василий Иванович Чапаев по реке Урал, желая остаться живым, добраться до берега.
Воин Башкин первым доплыл до берега, и, никого не ожидая, высоко поднял автомат, яростно вскричал:
─ За Родину! За Сталина!
И побежал под огнем по полю-побоищу, навстречу пулям, огню, судьбе и смерти. Тут же командиры и комиссары поднимали свои полки в атаку. Ополченцы бились смело и гордо, сумели ворваться на позиции врага. Воин Башкин помнит, как ворвался на аэродром, брошенными гранатами поджег два самолета с черными крестами, в прицел попали в панике бегущие летчики, но не помнит, стрелял, не стрелял, достала врага поля, не достала, ─ Его Земля сильно качнулась, поднялась на дыбы. Тело стало скорбным, тяжелым. Правая нога стала играючи заплетаться, в сапоге густо и неприятно захлюпала кровь. Но сознание еще было ясным. Он понимал, если упадет, то упадет в смерть. И держался, сколько мог. В глазах все больше темнело. Все больше клонило к земле. Он призвал всю силу воли, чтобы остановить свое падение, как можно дольше продержаться в свободном пространстве. воин боялся упасть и исчезнуть из мира. Но устоять не смог. В глаза ударило набегом солнце, обожгло пламенем. И он упал, как хлебный колос, без милосердия подрезанный серпом. Он упал, и в это время над его головою пулеметною очередью пронеслась его гибель. Напев ее был слышен отчетливо, как летящая стрела Робин Гуда! Еще подумалось: не упади, не уткнись лицом в горелую траву, горячие и меткие пули врага безжалостно бы вошли в грудь.
Александр Башкин долго лежал неподвижно. И, возможно, солнце бы ушло из жизни. Он бы умер, истек кровью. Но буйство жизни, гордо, мятежно жившее в душе-вселенной, растревожило таинственные силы воина. Он очнулся, как выполз из могилы, ее бездонности, и первая мысль, какая обожгла, была проста и обычна: он неуютно лежит на земле, какая залита мазутом, и жидкая вязь все капает и капает из бака самолета. Он повернул голову, увидел автомат. Опираясь на оружие, как на посох, с превеликим трудом встал на колени, поднялся в рост. Стоять трудно. Сильно качало, словно его кружила буря над землею. И не желала вернуть обратно. Огляделся, было сумрачно. С ветки березы каплет дождь. Дождь? Откуда? Посмотрел на небо. Его закрыли дымы. Но туч не было. Падал не дождь, капали слезы. Его слезы. И плакал именно он, и пока не разберешь, то ли о радости, то ли от горя! Вдали слышались выстрелы, взрывы гранат, там еще шла битва! По крутому взгорью к реке Вопь лежали убитые, кто держал в руке винтовку, кто гранату. Река окрашена кровью, и о берег бьются алые волны. Оттуда, где еще не умолкла битва, плыли по течению, в молитвенном безмолвии, погибшие, плыли без отсева, свои и чужие. Все нашли наконец вечное примирение, плыли, соединившись вместе, неразлучно, отрешенно от мира, не чувствуя боли, земного одиночества, извечной вражды человека к человеку. Отжив в одиночестве свое, земное, они теперь вместе отправились в безмолвие вечности.
Он спросил себя, а сам он жив? По правде ли все видит? Не во сне ли? Не в раю ли? Получалось, что еще на земле. Слышно было, как стучало сердце, оживали мысли. Он был в жизни! Пробилась естественно-пытливая, суровая скорбь, Только та, что перевязана бинтом. смертельно ли ранен? И сколько еще будет в жизни? Ощупал себя. Крови на лице, ран на теле не было. Шевельнул ногою, она не послушалась, только ощутил кровь в сапоге, она была теплая, липкая. И все текла, до верха наполняя голенище. Он попытался шагнуть. И пойти. К своим, в Ярцево, откуда отвезут в госпиталь в Вязьму. Скорее, скорее, пока еще слышит себя. Пока еще может спасти себя. Неизвестно откуда, из какого таинства забилась, забеспокоилась мысль: не один ли он лежит на поле битвы? Каждого раненого подобрали, а его оставили, посчитали убитым? Вполне так могло быть. И так, скорее всего, было. Не может быть, чтобы все, кто шел в атаку, были убиты. В каждом бою есть раненые, а вокруг был ─ морг, или кладбище без могил. Ни шевеления, ни стона. Значит, он один живой! И надо идти. Спасать себя! Похоронная братия может явиться с опозданием, где будут собирать на катафалк Земную Печаль, и нечаянно могут изыскать его, еще живого! И спасти! Нет, нет, все это надежда на чудо! Надо идти! Идти! Он шагнул и страшно вскрикнул. Боль резанула дикая, невыносимая! Сердце оборвалось. В глаза ударило солнечное пламя. Он упал, боясь гибели. И потерял сознание.
Дуэль со смертью завершилась.
Не в пользу человека.
Он лежал один среди земли и неба, среди Вселенной и был совершенно беззащитен перед гибелью и вечностью.
VIII
Смоленское сражение ослабило германские армии, Черные Пауки сами же запутались в паутине-саване, какую усиленно ткали для Руси. Канцлер Германии Адольф Гитлер с тяжелым сердцем отдал приказ генералу-фельдмаршалу Федору фон Боку, его армиям приостановить наступление. И 31 июля перейти к обороне.
Молниеносный захват России по варварскому плану «Барбаросса» был гибельно и безвозвратно провален.
Александр Башкин, вознеся над Русью меч, сдержал вражеские полчища, огненную колесницу бога войны Ареса, разогнанную фюрером.
Не один. С русским воинством.
И тем защитил Москву.
Спас Россию.
В Смоленском сражении Тульский коммунистический полк показал чудеса героизма и храбрости, удержал Ярцево, не пустил фашиста в город-крепость, не дал танкам Гудериана совершить на то время марш-бросок на Москву, но все досталось превеликою ценою. Весь полк жертвенно, до последнего воина, взошел на костер!
Три тысячи воинов!
Остались только раненые. Его бессмертный подвиг во славу Отечества не забыт. В июне 1958 года исполком Ярцевского городского Совета депутатов трудящихся принял решение: «Об увековечении памяти воинов Тульского добровольческого коммунистического полка, павших смертью храбрых при обороне Ярцева в июле – октябре 1941 года». Самая красивая улица города названа именем Тульских ополченцев, на здании кинотеатра «Россия» установлена мемориальная доска, а в поселке Яковлево вознесен дивный и вечный памятник коммунистическому полку.
В Смоленском сражении одинаково храбро и жертвенно бились с врагом коммунистические полки из Москвы, Питера, Орла, Курска, Рязани, Брянска. Но только Тульский полк был удостоен такой чести.
И тем шагнул с поля битвы в бессмертие.
В нашу память.
В память России.
Подлинные имена и фамилии воинов полка взяты в архиве, в Центре новейшей истории Тульской области.
Имена политрука Ипполита Калины и командира взвода гранатометчиков Гаврилы Воронцова, даны по памяти. И могут быть не столько реальными, сколько собирательными героями.
Глава восьмая
У МОГИЛЫ ЛЬВА ТОЛСТОГО
В ЯСНОЙ ПОЛЯНЕ ХОРОШО ДУМАЕТСЯ
О ЖИЗНИ И СМЕРТИ
I
Александр Башкин открыл глаза. Стояла ночь. Но уже при прощании. Тьма опадала. Золотисто-призрачный свет восходящего солнца робко и любознательно пробивался сквозь окно, узорные тюлевые занавески, все явственнее, повелительнее освобождали от мрака загадочное пространство.
Он попытался осмыслить, где находится? И не мог. Не мог и в волю шевельнуться. Едва попытался выпрямиться всласть, как страшная боль пронзила грудь, от боли перехватило дыхание, перед глазами вразбег побежали огненные хороводы, закручиваясь слепящею метелью. Больше тревожить боль не стал. Она улеглась. Только в ноге еще густела, кричала, билась. И никак не желала исчезать. В смиренном покорстве он стал невольно прислушиваться к порывам ветра за окном: он мучил своим непостоянством, то гиб, то воскресал, и, казалось, плакал и плакал, тревожа человеческую душу, тоже плачем, обидою, безбрежною тоскою. Беспомощно билась о стекло шоколаднокрылая бабочка, растревоженная лучами солнца, все пыталась взлететь, подняться в синее небо, и не могла, не доставало сил и чутья добраться до открытой форточки, и тоже, как он, на последнем отчаянии, смиренно и обреченно замирала, плотно складывала крылья. И так же, как он, жалко и неподвижно, жила в печали и покорстве долгое время.
Где же он? Еще на поле битвы? Лежит один, оставленный всеми на вечное одиночество, на гибель? Конечно, на поле, в пространстве, у вырытой могилы. Где еще так холодно, с тоскою и плачем, дуют ветры, без радости, как отпевают, поют птицы, в смертельной печали и боли, в отчаянной тревожности мечутся бабочки? И солнце горит слабо, как церковная свеча на иконе неба. Получается, его хоронят? Живого? Тогда откуда простыни, нежные, ласковые, приятно пахнущие то ли мылом, то ли ландышами? Откуда, откуда? Из своего забытья. Все ему видится в горячечном бреду, все обманчиво живет только в его последнем, угасающем земном сознании, и сами простыни, и сползающее одеяло. Это не простыни, это его саван. И саван тоже есть воскресение его предсмертного сознания.
Но, возможно, его вынесли с поля боя. И он лежит не на траве, не на камнях, не среди убитых, а дома, в своем Пряхине. И все ему не чудится. Все есть правда. Но тогда где мама? Почему она в печали не сидит у его изголовья, не гладит задумчиво, в любви его непослушную руку, его волосы? Он заслужил ее любовь, ее жалость. Он столько испытал в восемнадцать лет, столько видел смертей, столько принял в сердце и память страдания, что может рассчитывать не только на любовь матери, но и на любовь Бога! И слез он вобрал в себя столько, что хватит ими омыть всю землю! Как половодьем! Они будут мучить сердце всю жизнь. Только сколько ее осталось, жизни?
Он понял, что плачет. И прикрыл глаза. Растревожилась сильная жалость к себе, от которой не было спасения, кроме как забыться. Но забыться не получилось. Он попал искрою в солнечное кружение, вознесясь над землею, оказавшись совершенно один в небесной жаркой бездонности. Там, где был разогнан кроваво-багровый вихрь, и он все затягивал и затягивал его с неумолимою правдою в невидимые, неведомые дали, и вот сейчас, сейчас он сгорит разогнанною искоркою, исчезнет из жизни. Стало страшно.
Он закричал:
─ Мама, спаси меня!
И через мгновение ощутил ее ласковую руку. Она легко и прохладно легла на лоб, прикоснулась к запястью, где стучал утомленный пульс. Он слышал ее родное, грустное дыхание. Еще услышал, как без боли на миг вонзилась в тело острая игла, глухо звякнула о таз безжизненная ампула. Головокружение прекратилось, стуки сердца перестали разрывать грудь, дыхание стало тихим, без рыдания, без стона. И сам он наполнился силою исцеления, радостью и любовью к жизни. Он открыл глаза, желая вышепнуть молитву благодарности матери Человеческой, поцеловать ее исцеляющую, милосердную руку, стыдливо прижать к щеке. Но матери не увидел, не увидел родного существа. У его изголовья стояла молодая красивая женщина в белом халате и белой шапочке с красным крестом. Увидев его пробуждение, мило улыбнулась:
─ Ожил, солдатик? ─ спросила с необыкновенною нежностью.– Все, будешь жить. Безнадежен был. Ранение не опасное, но кровью истек сильно. Еще бы полежал на поле боя в одиночестве и беспамятстве, не подобрали сестры милосердия, и закончилось бы твое время земное. Жалко! Мальчишка еще. Теперь все. Через месяц поставлю на ноги. На прощание станцуем «барыню». Принимаешь приглашение?
Башкин стыдливо кивнул.
─ Вот и хорошо! Пока лежите, не вставайте. Могут случиться глубокие обмороки. У вас не только две раны, у вас все тело осыпано осколками, вы были закованы, как в броню! Как только терпели боль? Скорее, сгоряча, не слышали ее! Лекарства принимать все, солдатик! Договорились? ─ врач положила на подушку маленькую шоколадку, заботливо укрыла воина одеялом. И с тем же солнечным настроением подошла к очередному раненому.
II
Военный госпиталь, где находился на излечении Александр Башкин, располагался в Ясной Поляне, в шахтерском санатории. В палате четыре кровати, установлены вдоль стен, рядом тумбочка. Проход узкий, могут разминуться двое. В палате лежали тяжелораненые, поэтому дверь в коридор полуоткрыта.
Виден столик, шкаф с красным крестом; горит настольная лампа. В критические срывы сестра милосердия должна оказать помощь в мгновение.
Все раненые вынесены с поля битвы за Смоленск, Ярцево. Такие же молодые, как Башкин. Подружились быстро, играли в шахматы, шашки. Разговоры вели о любви.
Самый разудалый Степан Персиянцев, горновой с Тульского металлургического комбината, тоже ополченец полка, каждое утро начинал с застольной русской песни, которую пели отступники в старину:
Плетью изувечены,
Биты кистенем.
Мечены, мечены
Каторжным клеймом.
─ Чего, солдат, пригрустил? Девок любишь?
Башкин отвечал компанейски:
─ Люблю.
─ Они тебя? Поди, еще гуляешь в короне нецелованного? Вот так и живем! В атаки ходим, врукопашную бьемся, под танки ложимся, а сами еще не мужи. За женскую грудь не держались. Сколько нашего брата полегло на Смоленском поле-побоище, и все молодая поросль, все нецелованные, недолюбившие! Я сам чудом выжил! Очумел в бою, взял связку гранат. И пошел на танк с черным крестом! Он на меня, а я танку. Так и идем, любуясь друг другом, среди россыпи пуль и снарядов. Фриц знает, я смертник! На небо не взлечу, ибо не ангел, и на земле не растворюсь, ибо не дьявол! Он и решил позабавиться! Поближе подпустить. Чего бояться? Фашистов тьма, а я один!
Я и возьмись за сердце. Постоял, покачался и упал. Убит! Покатилась буйная головушка с плахи царской! Фриц со зла даже плюнул, не дали с жертвою повеселиться! И, естественно, утратил ко мне интерес! Гонит своим путем, скребет землю гусеницами. Я и бросил ему связку гранат, в самую пасть. Возгорел, в полное благословение. Второй танк в меня из пулемета. В упор! В грудь! Насквозь! Как вернула к жизни врач Лия Викторовна, не осилить разумом! След бы ее по земле Руси целовал, он взялся за грудь, стал, задыхаясь, долго кашлять, сотрясаясь всем телом. ─ От, сволота! До крови выкашливается!
─ Зачем куришь? Бросил бы, ─ посоветовал Башкин.
─ Бросил бы, да не могу. Слышишь, в Смоленске, фашисты уже не стреляют? Иссяк дух Черного Паука! Кто его победил? Я, Персиянцев, и ты, Башкин! И ваш политрук Ипполит Калина, кто погиб героем! Памятник в Туле ему нужен!
Он помолчал:
─ Несомненно, ополченцы спасли державу! Но вы еще не знаете, что мы спасли? Адольф Гитлер на Седьмое ноября в Москве, с трибуны мавзолея Ленина должен принимать парад своего воинства; уже были пошиты мундиры с княжескими эполетами, поделаны ордена «За взятие Москвы». Названы рестораны, где должны пировать потомки гуннов царя Аттилы, а, спустя время, Москва должна быть затоплена половодьем с Москвы-реки! И исчезла бы, как загадочная Атлантида!
─ Откуда знаешь? ─ не поверил раненый у окна.
─ Брат служит связистом в штабе армии у Константина Рокоссовского, по-немецки понимает. Они, офицеры, откровенно слушает, о чем Гитлер глаголет в безумии, в истерике о Руси? Он открыто генералам повелел: Москву и Ленинград сравнять с землею, дабы не кормить население этих городов!
Он посмотрел на Башкина:
─ Москву видел?
─ Отец показывал, поднимал за уши!
─ Понял, ─улыбнулся Степан. ─Я зрел. Красотища! Трудно представить Россию без Москвы, Красной площади, Кремля, храма Василия Блаженного. Даже невозможно. Какая бы сиротливость опустилась на Русь, не стань ее и северного града Петра. Какая бы легла на Русскую землю печаль! И беспросветность. Захотелось бы жить? Зачем? С каким смыслом? Не осилить умом такую страшную правду!
Но, верую, Москва была бы затоплена! Гитлер, он смел и решителен! И все бы свершилось, могло свершиться, не будь меня и тебя, Саша! Русского народного ополчения! Мы остановили огненную колесницу бога войны Ареса, воткнули меч в колесо! Заелозил фриц по Русской земле, как корова на льду! И что в результате? Гитлер пребывает в распаде чувств, блицкриг сорван! Теперь уже добраться до столицы, ума недостанет. И силенок. Кто сбился в метель с дороги, тому тяжело вернуться на круги своя!
Снова возразил раненый у окна:
─ Ты все ордена и венки славы, венки Цезаря собрал в одну шкатулку! Наши армии, что, не воевали?
─ Почему не воевали? Конечно, воевали! И как бились, героически! Кто принижает величие русского солдата. Но ты у генерала Михаила Лукина воевал в Смоленске! Что там? Все армии маршала Семена Тимошенко попали в окружение! Кати, захватчик, в Москву, вглубь России! Путь тебе открыт! Все русские армии пленены! И танки Гудериана уже марш-броском помчались на Москву!
Зачем бы Сталин востребовал народное ополчение? Встать на пути фашиста! Больше некому! Некому! Слышишь, страдалец у окна? Некому! И мы, воины коммунистического полка, встали на пути! И жизнями своими, жизнями остановили танки Гудериана в Ярцево, не дали ему разбег! И страшно, какою ценою остановили? Все ополченцы из Тулы полегли до одного! Один я остался, да Александр Башкин, и то тяжелораненые, еле живые. Все поля-побоища собою усеяли! Но остановили! Завяз Черный Паук в святой русской крови! Все века густо она лилась! И теперь все льется, все Паучья Стая никак не бросит Топор Палача, дабы не казнить святую и безвинную Русскую землюэ
Он лихо смахнул слезы:
─ Вы говорите, не кури! Эх, ─ ополченец свернул великанью самокрутку, в глубоком раздумье прижег ее спичкою. И долго, со всеми печалями, курил у окна, подгоняя ладонью дым в форточку, на волю, где самозабвенно пели птицы и сладостно светило солнце.
III
Находясь в госпитале, все больше выздоравливая, Александр Башкин как человек, кто любил читать книги, умел понимать красоту жизни, не мог не чувствовать близости родового имения Льва Толстого в Ясной Поляне. Великий писатель рядом! Невероятно! Здесь он жил, любил, писал романы, и в уютном кабинете барского дома, и в избушке, которую выстроил сам в дубовом лесу, где можно было уединиться, устав от домашней суеты; высаживал с садовником Кузьмою цветы, размышляя о себе, о жизни и вечности, в задумчивости гулял по липовым аллеям,/ встречался с крестьянами. Сюда приезжали Фет, Тургенев, вся писательская знать. И волею-неволею хотелось еще и еще перечитать его великие романы «Война и мир», «Анна Каренина», «Воскресение».
И Александр читал романы с необыкновенною любовью, с новым осмыслением, еще больше постигал в несказанной красоте жизнь героев, бесконечное пространство их сердец, их любовь и боль, печаль и радость, саму жизнь и смерть. И свой мир, личный, тоже наполнялся красотою, ощущением силы, силы от милосердия, от чистоты, какая облагораживает, дарит гармонию чувств, когда хочется жить по правде и любви к человеку, еще больше служить России, когда ложь и обман кажутся юродством. Остро, до боли! Нельзя не думать о жизни, пока живешь. О человеке. О смерти. О вечности. Надо, непременно, жить со смыслом в мире, где мимолетно пребываешь!
Александра тянула к себе могила Толстого. И он не раз, накинув поверх больничной пижамы шинель, добытую у сердобольной кладовщицы бабы Кати, кому, взаимно, в уважение, помогал писать письма сыну на фронт, отправлялся к вечному холмику, опираясь на костыль, сильно тревожа еще не зажившую раненую ногу. И долго стоял на аллее у могилы, испытывая невольные добрые страхи и сладостный трепет перед его великостью, необъятностью как человека и мыслителя. Странно, но именно у могилы, где горевестницею поселилась человеческая смерть, близко и с душевной светлостью виделась вся красота России, где он жил. Виделась своя деревня Пряхино, родной дом, который он покинул, кто знает насколько, на время или навечно, с загадочным свечением лампадки в углу горницы под иконою святой Богоматери, с извечною и благословенною суетою матери у печи, с ликом, озаренным пламенем от бойко горящих поленьев. С дивным и звонко-веселым топотом по избе сестер, от которых, как от маленьких солнц, постоянно исходил свет тепла, ласковости, любви, исходила шумная, необузданная радость жизни. Виделся яблоневый сад, стоящий и в мае, в цвету, и взятый тоскою осени, омытый дождями, засыпанный опавшими листьями, с горестно черными деревьями, с загадочными узорами ветвей, и в зимнюю, неземную, чудодейственную тишину, какая ранила сердце одиночеством и безмолвием, где он ходил по тропам, сидел на косогоре, смотрел на полноводную речку, на синее-пресинее небо, печалясь и радуясь жизни. Виделось, как с крестьянскими ребятами пас ночью коней, грелся у костра, где велись нескончаемые разговоры о приведениях, о русалках и прочие жуткие бывальщины и небыли; вставало в памяти и кладбище в Стомне, где похоронен его отец Иван Васильевич, и где смиренно лежали в могиле-усыпальнице его деды, пахари от Бога и земли, от века державшие крестьянский мир за рогатины плуга.
Хорошо думалось о жизни и смерти на могиле Льва Толстого, ближе становилась Россия, понятнее, кто ты в загадочном вихре бытия, с его беспредельным пространством, чему должен служить как человек, пахарь и воин, где без любви к Отечеству и людям твоя жизнь бессмыслена. И смерть тоже. Думы тревожили светлое в душе. Дарили гармонию с миром. Песенный же лад чувств был необходим. Все последние дни его стали мучить сильные кошмары. Стоило закрыть глаза, погрузиться в сон, как вставали во всю необъятную землю пожарища Смоленского сражения, вокруг лежат убитые, озаренные багровым огнем, а он идет один по полю боя, среди мертвого безмолвия, опираясь на автомат, и четко, зримо видит вдали крестьянскую повозку, с флажком. На флажке красный крест. Он понимает, это сестры милосердия из полевого госпиталя подбирают каждого раненого на поле-побоище. Он тоже ранен, но они его не видят, оставляют на погибель. Неужели нет спасения? Он усиленно машет им рукою, в отчаянье кричит, люди, я же умираю, я же больше не увижу, как плывет белоснежная кувшинка по реке, с Дюймовочкою, как взлетает с цветка мать-мачеха, в величии расправляя крылья, божья коровка, не подержу на ладони росы и небесные зори! Спасите! Но его снова не слышат! И он уже сам на нерве, на последнем усилии, прыгает, прыгает, как зеленый кузнечик, туда, где суетятся царицы луга с красными крестами.
И вдруг на пути, из могилы, встает человек с простреленною грудью, окровавленный, с глазами, в которых боль и тоска. И бесприютность. Он осуждающе спрашивает: говоришь, выжил? Один? Почему? Почему убит я, а не ты? Ответь! Мы же вместе шли в бой, дружили, жили в одной землянке, делили на двоих скудный хлебный паек. Вместе записались добровольцами в коммунистический полк, ехали в телячьем вагоне из Мордвеса, из Тулы под Смоленск. Бок о бок дрались врукопашную, защищали друг друга от фашистского штыка, от пули. У тебя есть мать. И у меня есть мать. У тебя есть сестры. И у меня есть сестры. Ты любил жизнь. И я любил жизнь. И мечтал быть учителем. Почему же я убит, а ты не убит? Почему? Ответь!
Башкин просыпался в холодном поту, его до края измучивала нервная, гробовая лихорадка. Сердце стучало на последнем излете. Тот человек, что вставал Палачом и Пилатом из могилы, окровавленный, с тоскующими, бесприютными глазами был Коля Копылов, его друг. Хорошо, что он просыпался, не опускался в полную бездонность страдания во сне, не уходил весь в свое неотмолимое горе, в свои неотмолимые слезы, так бы уже давно разорвалось сердце, и он бы жил в вечности, рядом с его могилою. Он не мог ответить ему, он не знал, почему выжил, остался жить, а друг убит? Жалко было его до слез, до страшного крика в себе, до безумного стона, от которого впору задохнуться, исчезнуть из мира. Но как ответить? Как? И ему? И себе? Нет его вины, нет! Но память теперь не отпустит, никогда-никогда, будет жить болью и страданием. Пока есть земля и небо, пока есть он. Такой выпал ему самосуд чувств, такая выпала по жизни самоказнь.
Предсмертное письмо Николая, которое он писал в вагоне, когда они ехали на фронт, он хранит в кармане гимнастерки. И помнит его наизусть. Он писал матери: «Незабвенная моя матушка, Лукерья Ивановна, сладковестница раздумья моего! Когда Сашка принесет тебе это письмо, меня уже не будет на земле живым. Тяжелую весть о потере друга он тебе сообщит, не суди его, не брани. Он только исполняет мою волю. Перенеси мужественно гибель сына. Что делать? Он выжил, а я не выжил. Не остался на земле. Такая моя судьба! И в том, что он выжил, вины его нет. Я погиб за Отечество на поле битвы. Как буревестник, взлетел и исчез. Я буду похоронен под Вязьмою или под Ярцевом в братской могиле под оружейные салютные залпы своего боевого товарищества.
Приезжай на мою могилу с любимыми сестрами Марусею и Катериною, возложите цветы, мои любимые васильки и ромашки, посидите, погрустите. Вспомните, что я был, жил на земле, любил пашню и солнце, вас, моих родных. Кто меня еще вспомнит? Плакать не надо. Зачем? Я сам не понял, что со мною случилось. Был. И не стал. Ушел в вашу печаль, в ваше горе, и в свое вечное одиночество.
ПОЧЕМУ ТЫ ЖИВ, А МЫ ПОГИБЛИ?
О чем скорблю, матушка моя Лукерья Ивановна? Мало тебя любил. Мало! Стеснялся выражать свои чувства. Горько мне, горько, что я больше не увижу твои ласковые глаза, твои нежные руки больше не погладят мою вихрастую голову, что я больше не погреюсь у твоего доброго сердца. Меня уже нет. Нет! Как это страшно сознавать, пока еще живешь, пока еще пишешь эти горестные и печальные строки. Не знаю почему, но я предчувствую свою гибель. Вижу ее. Мы с Сашкою договорились перед фронтом написать письма своим матерям. Убьют его, я принесу в страдании его траурное послание высокочтимой Марии Михайловне в Пряхино, убьют меня, он принесет в Студенец траурную весточку тебе. Но я чувствую, что буду убит я! Из нас двоих именно я! Так и случилось. Видишь, какой я был, оказывается, пророк и провидец? Теперь он с тобою, а я в загадочной вечности. Милая мама, ты дала мне жизнь, веру в любовь и доброту. Я помню, как ты работала в колхозе от зари до зари, чтобы прокормить нас, одеть, вывести в люди. Ты уставала. Но я никогда не слышал от тебя жалоб и слез. Ты все отдавала детям. Ты великая русская крестьянка! Я люблю тебя. И целую, целую! Раньше о любви и нежности не говорил. Стеснялся! Несу тебе покаяние за глупую мальчишескую гордость свою, за вину свою. Не сердитесь на мои невольные прегрешения, не печальтесь. Тяжело умирать в девятнадцать лет. Но что делать? Война не бывает без жертв! Одно утешает, я погиб за Русь, какую любил несказанно. И, значит, слился с Русью на все века! Такая смерть не так уж страшна! Любите и помните. Ваш Николай».
Печальное письмо друга из вечности обжигало сердце. Страшно было носить его в кармане гимнастерки. И постоянно слышать его страдальческие, скорбно-повелительные крики прощания с правдою земли, с правдою неба, с правдою жизни, с ее мучительно-молитвенно-изумительными красотами, крики любви и боли, крики прощания уже оттуда, из страшной пустоты, из звездной беспредельности, из таинства вечности. Но еще страшнее было передать письмо Лукерье Ивановне, его матери. Не трудно представить, какую великую боль и скорбь принесет он ей, став невольным горевестником. И как будет мучительно тяжело смотреть в ее глаза, наполненные слезами и страданием. Утрата невосполнима. Как ее осмыслить? Как осмыслить, почему именно ее коснулась беда? За что? За какую вину? Чем провинилась перед Господом? Мало молилась за сына? Мало любила? Мало тревожилась? Так не скажешь. Не скажешь. Неотступно, неотрывно держала в сердце. И произошло разъединение. Насовсем. На веки вечные. Почему? Почему сложилось так? Был сын, а осталась только горчайшая правда печали!
Тяжело смотреть в глаза матери Человеческой, какая потеряла сына. Но еще страшнее, непостижимее стать ее злым горевестником, ее палачом.
И затаить послание было нельзя! Посмертная воля Человека Земли, кто шагнул в боль и в бессмертие, есть святость.
И как было без страшной правды и откровенности соединить в душе матери вечную жизнь и вечную смерть, сказать невозможно.
IV
Александр Башкин и свою мать страшился огорчать. Он тоже не знал, как быть? Сообщать или не сообщать, что ранен, лежит в госпитале? Все матери одинаковы! Все живут для плоти, какую явили в мир! И та связка бессмертна! там одно желание, одарить сына и дочь радостью, верою в любовь, в жизнь. И никто, ни одна матерь Человеческая не желает, дабы дети из жизни уходили в загадочную вечность. Сердце ее переполнено любовью к своему творению.
Бог создал Вселенную. Мать наполняет ее человеческими жизнями, красотою, правдою. Пока есть мать, жизнь неостановима. И на земле. И там, где звезды. И там, где бесконечность! Никто так не боится смерти, как мать! Напиши, ранен, еле живого вынесли с поля битвы ─ и какая, какая всколыхнется в ее сердце скорбь, закрутится дикая боль-печаль!
И повидаться с матерью хотелось, узнать, чем живо родное Пряхино? Сам не доберется, сильно тревожила раненая нога.
И он рискнул, написал матери письмо.
Мария Михайловна собралась в путь немедленно. Поезда не ходили. Из деревни Пряхино до Тулы добралась, где на подводе, где пешком, где на машине с военными. крестьянскими дарами. Привезла сыну в госпиталь пирог с яблоками, сало, яйца, соленые огурцы, краюху хлеба. По тем временам богатство несказанное.
Встреча была и с радостью, и со слезами. Мать долго его рассматривала, строго, как судия, произнесла:
─ Никак не разберу, то ли сердце ушло в тоску, то ли мысли ушли в младенчество, ─ кто ты? Сын мне аль не сын? Пишешь в письме, был на фронте, сражался за Русскую землю, а сидишь пред матерью как каторжанин! Писатель Федор Достоевский с каторги вернулся, как яблочко наливное, а тебя, что, в подземелье на цепи держали за особые провинности и не кормили, как раба на невольничьем рынке! Худ, одна прозрачность и призрачность! Весь светишься, как в луче солнца. Глаза впали, лицо бледное, руки силою не вьются. Я такого воина отродясь не видела. Где они водятся? В тюрьме, что ли, сидел?
─ Строга ты, мать, строга! Федор Достоевский с каторги вернулся, а я был в аду! Горел на костре, как Джордано Бруно! Все мы горели, весь полк горел, как Джордано Бруно! Города Ярцева не было, был один костер до неба! Все разрушено и сожжено! И хлеб сожжен! И сахар сожжен! Только одну горелость ветер разносил! У убитого немца брали галеты и ели! Сидели на убитом и ели.
Он успокоил себя:
─ Воевал, мать. Воевал. И радуюсь, что от гибели ушел. И еще могу посчитаться с фашистом за опаленную страдалицу-Русь! Один остался. Весь коммунистический полк полег, а я остался. И еще раненые. Последним с поля битвы сестры милосердия вынесли! И то чудом! Уже в братскую могилу везли, да могильщик услышал, как я застонал! Так и оказался в госпитале в Туле.
Он строго помолчал:
─ Насмерть бились, мама! Четырнадцать дней, и с танками, и врукопашную. Откуда с лица буду красен? Во мне смерть, смерть и смерть! Знаешь, сколько? Три тысячи! И все в сердце разместились. Три тысячи гробов! Легко с такою тяжестью по земле ходить? И из Мордвеса все полегли. Коля Копылов, друг, тоже героем погиб! Попрощался с героем, на руке-качалке держал, когда кончался, при ласке держал, при горе. Печаль, мать, одна печаль.
Мария Михайловна потеребила черную шаль с узорами, накинутую на плечи:
─ Жалко Николая. Серьезность жила в человеке, жизнелюбие и святость, как от Бога! Пахарем на землю пришел и никем с ее лика сошел. Как не печалиться?
─ Воином ушел, ─ не согласился сын.
Мать тоже проявила непокорство.
─ Лучше бы пахарем ушел! Без таких, как Коля Копылов, земля осиротеет и погибнет. На родной стороне тоже не сладко. Николая Плекина помнишь?
─ Милая, о чем ты спрашиваешь? ─ с излишнею горячностью удивился Александр. ─ Мы вместе записались добровольцами в коммунистический полк. Вместе были на бюро обкома партиии. Его отчислили. Он и горевал и радовался: жив остался!
─ Не остался, ─ с печалью выговорила Мария Михайловна. ─ Его забрали окопы рыть на Оке. Попал под фашистскую бомбу. Он и Вася Сивков из Оленьково. Оба! Волоса с головы не осталось.
Сын в трауре помолчал. Мать продолжала:
─ Привезла еще печальную весть. Пришла похоронка на Леонида Ульянова. Комиссаром написано: погиб в Бресте в смертью героя за советское Отечество. Вступил в битву с пятью танками. Посмертно награжден орденом Красного Знамени.
─ Ленька? Погиб? ─ с болью переспросил сын.
Александр отошел к окну, слезы давили сердце.
Ленька, Ленька погиб! Господи, да есть ли на земле правда? Есть ли справедливость? Это как убили его детство, его юность! Они любили друг друга. Светлее человека он еще не встречал в жизни. И смелого, и изумительно душевного. С Леонидом они испытывали свою храбрость, ходили за деревнею по болотам, по краю жизни и смерти. Вместе водили ватаги ребят на кулачные бои; две слободы ─ Волчиха и Михайловка, исстари любили померяться силою. Водили коней в ночное, лазали по садам.
Приятно было бывать у Леонида дома на Волчихе. Подружился с его братом горбатеньким Никитою, был он умен немыслимо, и совершенно не зол, не нес миру и человеку Яд Змеи, Яд Сальери, за свою неполноценность. Любил играть с сестрами Настею и Машею. Чтил его отца Павла Даниловича, он был не местным, ссыльным, да так и остался на Волчихе, был он умен, любил правду, был Совестью на деревне, мужики любили посудачить с местным Сократом за житие-бытие. Но совесть и правда во все времена были остры, как Топор Палача! Павла Даниловича обвинили в поджоге риги. И расстреляли как врага народа в тюрьме на Таганке. Старожилы говорили, с того времени к избе Акима Савельева, кто донес на правдолюбца, стала прибегать Белая Собака, смиренно скулить, проситься в избу, словно неизменно желала спросить: за что ты меня убил, Аким? Аким покинул деревню, но люди не видели, что по тропе к околице, в лунном свечении, шел Аким, шла Ненависть и зябко ежилась.
Отправляясь на службу в Красную армию, Леонид Ульянов при расставании признался:
─ Прощаюсь, и слезы, Шура! Сиротою буду себя слышать. Без тебя. Ты человек. Твоя любовь к правде и совести, велика, как молитва. Она, право, право, исцеляет гибнущую душу. От сердца говорю. Устами Бога. Откуда моя исповедь? Я ухожу на смерть, Шура! Видимся в последний раз! Поверь! Я не хочу уносить любовь к тебе с собою в могилу! Пусть она живет с тобою! Живет на земле! Думаешь, можно забыть, как везли моего отца в розвальнях, в кандалах, в Москву. На казнь. И расстреляли! Все отвернулись, а ты не ушел в рабство, в отречение от человека! И земной правды. Один! И тем спас мою душу, исцелил ее. Во мне кипело зло! Я был готов повесить дядю Акима! И себя! Ты спас!
Теперь обедня закончена! Теперь пришло время ─ одним жить, другим умирать! Тебе, Шура, выпало жить и царствовать, а я мчусь на границу в Брест. Германец уже бряцает у Березины оружием. Так что мчусь на убой!
Александр строго осудил:
─ Некрасиво говоришь. Ты воин Отечества! И если судьба сложится не так, ты погибнешь как воин Отечества!
Леонид Ульянов посмеялся, и в смехе напоминал сумасшедшего:
─ Я погибну воином? Помолчи! Ты разве забыл, что я сын врага народа? Кто меня, отверженного, изгоя России, в братской могиле похоронит? Думаешь, чекисты забудут, что отца Павла Даниловича, безвинного, в тюрьме расстреляли? Всю жизнь будут преследовать! И казнить, пока с земли не исчезну. Но обиды, брат, на Советскую власть не держу. Буду жертвенно стоять за православную Русь! Веришь?
─ Не верил бы, не дружил, ─ просто отозвался друг.
Александр Башкин все никак не мог повернуться к матери.
Слезы боли, обиды и жалости неотступно прожигали сердце. В бою с фашистами погиб не только его друг Леонид Ульянов. Было расстреляно все, что было с другом связано: святилище его детства, костры над рекою, пасущиеся кони в голубом свете луны, дивная река, где ловили рыбу и раков. Поля с колосьями ржи и пашни, которые он вспахивал мальчиком на Левитане, медовые стога на лугу, какие он вершил еще с отцом и дедом Михаилом Захаровичем. Светлыми солнечными бликами на реке возносилась и радость: все же его друг погиб героем за Отечество! И зря капитан государственной безопасности Николай Макаров упрекал его за дружбу с Леонидом Ульяновым! Россия праведная и милосердная, в трауре склонила перед его нежеланно-раннею могилою, молчаливые ветки березы. Как перед сыном. И воином!
Наконец он повернулся. Тихо произнес:
─ Я вижу, мать, у тебя одни горестные вести. Повеселее ничего не привезла? Как живет Пряхино? Как ты? Здорова ли? Как сестры и братья?
На лицо Марии Михайловны легли сумерки:
─ Чего о себе обсказывать? Осиротела деревня без мужиков. И пашня стоит в земном одиночестве. Все сами делаем, бабы. И пашем, и сеем, и рожь убираем.
Она загадочно помолчала.
─ Есть и радостное. Капитолину Доронину помнишь?
Щеки Башкина обжег пожар. Он ответил смущенно:
─ Как не помнить? Напротив дома живет, через речку, окно к окну. Не раз видел, как она к колодцу за водою шествует, коромыслом играет. На вечерку прибегала, под гармонь у березы выплясывала. Отдельно. Сама по себе. В хоровод ее не брали. Пигалица еще, тринадцать лет. А что она?
─ Ничего, ─ лукаво посмотрела Мария Михайловна. ─ Как, полагаю, влюбилась в тебя. Частенько заходит, то за солью, то за керосином для лампы. И рас
спрашивает, тоже смущаясь, как ты: пишет ли дядя Саша? Как он воюет? Платок вот тебе вышила как воину Красной армии. Возьмешь, аль не возьмешь? ─ она развязала узелок и бережно подала платок от девочки.
─ Возьму. Чего не взять? ─ еще больше смущаясь, отозвался Башкин, нарочито небрежно рассматривая вышивку.
─ Вот и я говорю, чего не взять, коли дарят, ─ поддержала его желание Мария Михайловна. ─ Дар от сердца, от любви! И ты ее любишь. От матери ничего не скроешь. По своим святцам не раз гадала, будет тебе возвращение с фронта. И выпадет свадьба с Капитолиною.
─ Вернусь ли? ─ усомнился сын.
─ Ты чего, басурман, родной матери не веришь? ─ осердилась женщина. И встрепенулась. ─ Да, чуть не забыла тебе на прощание сон обсказать. Сон мне приснился, и страшный, и необыкновенный. Будто сплю я на сеновале. И, крадучись, заходит человек, в черной шляпе, в черном плаще, с черными усиками. Напугалась, тяну на себя одеяло, прикрываюсь им, спрашиваю: «Ты кто, человечек? Зачем пожаловал?»
Он страшно огневился, царственно притопнул, из глаз высек молнии. И грозою отвечает на иноземном языке, через переводчика: «Я Гитлер! Император Германии! Ты чего, русская баба, совсем белены объелась? Своего господина не узнаешь? Мне министры и генералы доложили, что твой сын несет огниво, чтобы поджечь костер, на котором я должен сгореть. Где он? Разыщи! Я ему в обмен на огниво пол королевства отпишу. Не согласится, убью! У избы оставлю свою карету. Разыщешь, вместе приезжайте в Германию. И тебя награжу, в золоте ходить будешь!» Я и отвечаю ему по-женски честно и простодушно, страх уже прошел: «Господин Гитлер, я о шалостях сына ни сном ни духом! Да и не послушает. Был мал, крапивою секла. Теперь стал молодцем, как я с им управлюсь? Вы уж сами разбирайтесь. Увижу, отскажу: негоже огневом костры разжигать. И людей жечь! Но образумлю ли? И потом, может ваши генералы ошиблись? У кого он мог научиться такому баловству? У матери? Не мог. Я всего и зажигаю свечи у лика святой Богоматери, за мужа помолиться, за новопреставленного Ивана Васильевича, за рано умершего сына Коленьку. И золотого одеяния мне не надо. Зачем? Разве я дворянка? Столбовая крестьянка! И весь чин, а он сын крестьянки. Пахарь! Зачем ему на стороне королевство, ежели он живет в своем вольном царстве? На земле, кто прежде родился? Царь или пахарь? Осмыслите! Пахарь! Сын мой и есть император всея Русской земли! Зачем ему чужие земли? Вы с мечом пришли на его землю, не он к вам. Вы хотите его земли забрать, не он! Не отдаст, поверьте. И огниво не отдаст».
Гляжу, мой странный гость насупился, обиженно взмахнул плащом, по матери выругался. И исчез. Зловещим коршуном. Открыла я глаза, вышла из избы на золоченую карету посмотреть. Вдруг и правда стоит? И кони вороные копытом бьют? Все бы по деревне на пастбище прокатилась. Людям на удивление. Где там! Ничего не оказалось, как у Золушки в полночь: ни кареты, ни лошадей, ни кучера, а сон был, приложился к сердцу.
Матерь поправила шаль, облизнула высохшие губы.
─ Забеспокоился Гитлер. О своей жизни. Его армия стоит у Москвы, а уверенность в себе утратил. Осилите вы его, русские воины! Осознал, басурман? С такою верою и возноси меч! Еще ранят в бою, в плен попадешь. Не печалься! Все осилишь. И живым вернешься. По молитве матери! Гитлеру же по молитве матери выпало ─ сгореть на костре, вместе с Евою опустится в траурное песнопение. Несешь ему огниво и неси! Зачем я тебя стану от доброго дела отговаривать! Сам Зло затеял, сам пусть и расплачивается.
Мария Михайловна пробыла в Туле два дня. Но очень уж повелительно исцелила от скорби и печали солдатское сердце, и как великая матерь Человеческая, по благословению дала сильную и гордую веру в победу.
V
Теперь, во имя истины, необходимо нарушить Время и гармонию повествования, дорассказать о судьбе воина Николая Копылова. Его фронтовой друг Александр Башкин не раз приезжал в деревню Студенец к Лукерье Ивановне, к его сестрам Марусе и Кате, и все пытался поведать им страшную историю, как погиб смертью героя в бою под Ярцевом Николай. И не мог. Не мог передать женщине и прощальное послание от сына. Слишком велика была страшная правда. Слишком великое горе нес он человеку.
Лукерье Ивановне все было интересно знать о сыне: как ехал в поезде, пел ли песни, как воевал. И неизменно с болью спрашивала:
─ Где же вы расстались?
─ В атаке. Бились с танками, его перерезала пулеметная очередь.
─ Смертельно?
Башкин пожимал плечами.
─ Не знаю.
─ Не мог остановиться? Узнать, что и как? ─ со слезами осудила гостя-воина любящая матерь.
─ В атаке раненые падают, как колосья под косою. К каждому не нагнешься. Даже к другу. Надо неостановимо бежать по полю-побоищу и стрелять, стрелять по окопу врага. Перестанешь стрелять, в мгновение обнажит себя и начнет косить русское воинство из пулемета!
В крестьянской избе надолго повисало тягостное молчание. Лукерья Ивановна не выдерживала, с тоскою и верою произносила:
─ Жив Коля! Не может его взять погибель. Живым, живым он является в мои сны!
─ Был бы жив, письмо написал, ─ тихо и неизменно роняла дочь Мария.
─ Был бы убит, похоронку прислали, ─ каждый раз вставала на сторону матери дочь Екатерина. ─ Нет горевестницы, значит, брат жив!
Александр Башкин приезжал в Студенец часто. Как родной сын. К родной матери. Чем еще можно было смирить боль женщины? Только одним: заменить сына. Пусть на время, пусть мысленно, но все получалось по чувству.
И все же, как ни странно, Коля Копылов оказался жив. Святое предчувствие не обмануло матерь Человеческую. Его, раненого, подобрали на поле битвы санитары, отвезли в госпиталь в Вязьму. Фашистские самолеты разбомбили Дом милосердия под красным крестом. Но воин опять выжил, только случилось превеликое несчастье, ─ взрывом бомбы ему оторвало руки и ноги. Так его «самоваром» и отвезли в тыловой госпиталь в Башкирии, в Уфу. Теперь было понятно, почему.
Лукерья Ивановна не получила похоронку на сына. Сам же Коля-Николаша стыдился своего ранения. Человек, у кого святая душа, обостренная совесть, и помыслить не мог, чтобы стать обузою, страданием, окаянностью в родном доме. Конечно, хотелось увидеть мать, сестер, сердце его плакало, он в печали познавал, как тяжело чувствовать сиротливость в мире, но пересилить себя не мог. Человечность была сильнее его. И он молчал, не решаясь написать письмо в Студенец.
Сестры Маруся и Катерина разыскали его по военным архивам. Привезли из Уфы. Семья воссоединилась, любящие люди обрели красоту и уютность в душе, наполненность жизни. Но сам Коля-Николаша жил с трауром в сердце. Тяжело было пахарю сидеть у окна без рук и без ног. И смотреть, как в нежно-изумительно-сладостной красоте, в ночи, словно изумрудные огни-камешки переливаются на ладони поля, где пашет землю трактор, и как загадочно и дивно колосится хлебным колосом крестьянское поле. Возникала и мучила такая печаль, такая окаянная грусть, что думалось, лучше бы убили! Он плакал и жил. Жил и плакал. Но жил!
Все же быть в мире лучше, чем не быть.
Глава девятая
БЕЗУМНЫЙ ПОБЕГ ИЗ НЕВОЛИ НА ЛОБНОЕ МЕСТО, ПОД ГИЛЬОТИНУ
I
Александр Башкин не был воином от Бога. Он был пахарем, как его деды. Но любовь к России заставила взять оружие, он не мог оставить ее в беде, ибо слышал в себе неумолимую тревожность за Русскую землю. И теперь мятежная душа его просила битвы. Боярские хоромы госпиталя, белоснежная постель, сияющие солнцем глаза сестер милосердия, смех и веселье на танцах, бесцельные прогулки по извилистым тропам в лесочке, было не его. Чуждое ему. Обманчивое! И будило скорее странную печаль, чем радость. Хотелось скорее на фронт, в окопы, в свою жизнь. Ему было стыдно, мучительно стыдно, люди воюют, а он живет в благополучии, как слежалая солома в овине. Если уж владыкою на Русь пришла беда, то пусть и будет на всех полынь и лебеда.
Он неотступно следовал за главным врачом, молитвенно просил выписать его, услышать его крик души, его желание попасть на фронт.
Служитель Гиппократа неизменно отвечал:
─ Молодой человек, для вас ничего не изменится, если я выпишу вас из госпиталя раньше времени! Вас не возьмут в армию, откажут, вам только восемнадцать лет! И, подумать, чего вы так неумолимо рветесь под пули, в пожарища? Вы хорошо воевали. Остановили у врат Москвы озверелого врага! Остались живы, на радость себе и матери! Радуйтесь, что остались живым! Долг перед Отечеством исполнили. С доброю совестью возвращайтесь в Пряхино. Работайте! В декабре, в день Вашего Благоденствия, военкомат вручит повестку, призовет на фронт. И воюйте! О чем вы печалитесь?
Башкин испытал потрясение.
С тем, при выписке медицинская комиссия признала воина непригодным для строевой службы. Рана была не такая сложная, но чувствуя свою безнадежность, печаль и горе, Башкин не выдержал и написал письмо на имя командующего пятидесятой армией генерал-майора Ермакова и начальника политотдела старшего батальонного комиссара Богданова, в котором рассказал о себе, о Смоленском сражении, где воевал и был представлен за мужество к ордену. Только не знает, сохранился ли наградной лист, поскольку и командир роты политрук Калина, и командир полка пали смертью храбрых. Он опять желал бы послужить Отечеству.
II
Александр Башкин направляется в Тесницкие лагеря, где формируется воинское соединение для фронта и обороны Тулы. Военному искусству обучают курсанты артиллерийского училища, которые совершенно не знают правды о войне. И до изнеможения заставляют маршировать по плацу, колоть штыком соломенное чучело.
Воин восстает против бессмыслицы. И мало-помалу начинает возникать строгая неприязнь к старшине роты Игорю Чижевскому. Был он надменен. Людей не чтил. Любил в невежестве потешить себя властью командира. Александр Башкин в коммунистическом полку познал Великое Братство, единение сердец командира и воина, видел, как они, рискуя жизнью, выносили из огня раненого военачальника; его друг Коля Копылов, спасая командира роты Ипполита Калину, попал под пулеметную очередь. И, понятно, прислониться душою к новоявленному генералу-Бонапарту не мог. И ничего, кроме ненависти, к карликову начальству не испытывал.
И они столкнулись.
Во время обучения пехотному строю Башкин вышел и сел на скамью, стал потирать ногу.
Чижевский налетел смерчем:
─ Эт-то что-о? Почему вышли без разрешения командира из строя?
─ Устал! У меня нога рана! ─ спокойно объяснил Александр.
─ Вста-ать! В атаку! Бегом! Колоть штыком условного врага! ─ и он указующим перстом показал на соломенные чучела.
─ Не буду, ─ характер пошел на характер, меч на меч.
─ Будете, боец Башкин! ─ свирепея, пообещал старшина роты. ─ В штрафной батальон захотели? Я вам покажу, где начинается Ватерлоо! Иссполня-ять команду!
Башкин обрушился с гневом:
─ Вы воевали? Видели там соломенные чучела? Там танки! Кого колоть штыком? Танки? Мы на танки ходили со связкою гранат, бросались и погибали. Земными кострами! И сами немцы? Думаете, они чучела, из соломы? Они из железа! И закованы в железо, как германские псы-рыцари во времена нашествия на Русь при Великом князе Александра Невском! Штык ломается, когда бьешься врукопашную. И кинжал не достает, стонет от бессилия! И ваша бессмысленная муштра по плацу до изнеможения, до солдатского и человеческого унижения совершенно никому не нужна! Или вы, как безумцы, под бомбами и снарядами, идя в земные костры, в смерть, вознамерились носок тянуть. Вперед! Назад! Командиры, мать вашу.
Башкин ушел в казарму.
Старшина роты о чрезвычайном происшествии по начальству докладывать не стал, себе в убыток. Но обиду затаил. Бунтарь стал заклятым врагом. Дни потянулись мучительные, угнетающие. Взводный развернулся в полную мстительную силу. Издеваясь, он гонял Башкина по плацу с ружьем часами, в одиночку, пока тот не растирал до крови и лютой боли раненую ногу, будил ночами и заставлял чистить уличные туалеты, подбирать окурки у здания, вне очереди чистить картошку на кухне, по целому чану.
Жизнь в казарме для мятежного солдата становилась все невыносимее. Самобунт доводил до безумия. Сердце плакало и наливалось ненавистью к самодуру. Оставалось только убить глумливого, надменного командира. И он бы не устоял в гневе! Юноша был с характером. Обиды не прощал! Жил по любви и справедливости! Не выносил над собою насилия, не терпел негодяя! И смело бы взошел на эшафот, как Стенька Разин! Руби, повинную голову, палач!
От характера он и выжил в Смоленском сражении. Сам тонок и гибок, как тростинка, но сила духа сложилась в душе невероятная!
Теперь жизнь была другая. Казнить нельзя, только миловать! Судьи Военного трибунала могут вынести приговор как врагу народа, изменнику Родины, и повести на плаху, на каторгу, совсем безвинно, и матерь Человеческую Марию Михайловну, и братьев, и сестер.
Такие мысли, мысли от милосердия, останавливали от безумного шага. Но жизнь в Тисницком лагере не шла к смирению, старшина роты Чижевский изыскивал все новые и новые , как унизить воина, заставлял воина часами ползать по-пластунски, заставлял ползать ужом по земле!
Дальше сносить надругательства, жить невольником, быть узником негодяя, воин от бунта, от справедливости больше не становилось все невыносимее. Сколько не терпи, бесконечно невозможно.
Дальше сносить изуверские насмешки ,
Сердце заливалось кровью.
Жить в неволе, быть и быть узником злобного, безжалостного человека, Александр Башкин не смог.
Сколько не терпи, а любое терпение кончается.
И воин решился на побег.
На фронт.
Каждый день в лагере приносил боль и страдание, отчужденность к бессмысленной муштре. Жить невольником, быть узником сволочного человека, Башкин больше не мог.
И обстановка на фронте складывалась сложная. Александр знал ее, постоянно отслеживал. Читал газеты, слушал по радио сводки Совинформбюро. Сердцем он жил там, в стане воинов Руси, какие бились с лютыми врагами за Россию. За август и сентябрь, фашистские полчища пленили Киев, взяли штурмом Орел, и теперь танковая армия Хейнца Гудериана все ближе придвигались к Туле. Ее уже бомбили фашистские бомбардировщики.
Конечно, в такое время бывалому воину, воину России, колоть до одури трехгранным штыком туда-сюда соломенное чучело было верхом унижения и бессмысленности!
Но, вместе с тем, он хорошо понимал, на какой крестный путь обрекает себя, решаясь на побег из училища. Документы не взять. Они останутся в канцелярии: и красноармейская книжка, где записан орден Красного знамени, и выписка из госпиталя, и направление на фронт от обкома партии. Он окажется один на один с законами военного времени. Изгоем! Человеком без роду и племени. Он сам себя объявит вне закона, пошлет на смерть. Благословит ли удача? Не станет ли злою мачехою? Как угадать? Каждый патруль сможет остановить его, потребовать увольнительную, удостоверение личности. Время напряженное. В Туле уже появились диверсанты, которые ночью наполняют небо красными ракетами, указывая фашистским бомбардировщикам, какие заводы бомбить в первую очередь. Чекисты ведут охоту! Все естественно. Его тоже могут обложить, загнать за красные флажки, как волка. Безвинного! И подвести под Военный трибунал. Кто станет тщательно разбираться в стихии бытия, кто он и откуда? Без документов? Значит, шпион!
Могут и расстрелять на месте, в соседнем дворе. Без суда и следствия. Именем России! Такая власть вверена патрулям.
Город на военном положении!
Защитился, ─ я не предатель! Я свой! Солдат Отечества! Но греховен, греховен, ─ самовольно ушел из воинского соединения. И мигом вопрос-выстрел: и куда, любопытно, беглец-солдатик? К мамке под подол? Обнимать толстенные груди бабы в стоге сена? А кто станет Родину защищать? Знаешь ли, солдат Башкин, что, оставив воинскую часть на два часа, ты уже дезертир, вне закона! И судьи Военного трибунала, с чистою совестью вынесут смертный приговор. Смертный, Александр! Прощать врагов народа нельзя! Вынесут приговор именем Отечества. И от его имени назовут предателем! Куда еще позорнее смерть? Мать отречется, братья отрекутся, сестры. Россия в гневе отречется, березы отрекутся и никогда-никогда не склонят в молитвенной благости и скорби свои ветки на его могилу.
Не одну ночь еще боролся с собою Башкин, измучивал себя, ожидая, что победит: разум или ярость? Совесть или ненависть? Победила любовь к Отечеству!
На фронт, только на фронт! Добраться до передовой ничего не стоит. Сел на Ряжском вокзале в воинский эшелон, в теплушку, подпел песню под гармонь, станцевал; выгрузились. Пристроился к маршевой роте. И он на фронте. Бьет врага. Укрощает в себе святую ненависть.
Вечером, взяв рюкзак, где лежали солдатские котелок с ложкою и вилкою, буханка хлеба, бритвенный прибор, хромовые перчатки, он неторопливо, без суеты прошел по коридору казармы, мимо дневального. Постоял на каменном крыльце, воровато огляделся, еще поразмыслил и решительно пересек плац с прибитою солдатскими сапогами пылью, обогнул клумбы с хризантемами и, набравшись смелости, вышел через контрольно-пропускной пункт на улицу.
III
Дул ледяной ветер, мела поземка. Башкин шел по шоссе на Тулу. До города двадцать пять километров. Мимо катили вереницами грузовики, крытые брезентом, с антеннами, прицепными кухнями. В кабине рядом с шофером сидел сержант или офицер. Машины были с военным грузом, под охраною НКВД, голосовать бессмысленно и опасно. Заезженная «полуторка» остановилась сама.
─ Далеко, служивый? ─ приоткрыл дверцу шофер с округлым, приятно румяным лицом.
─ До Ряжского вокзала. Оттуда на фронт.
За разговорами доехали быстро.
Тулы было не узнать. Она выглядела по-военному сурово; на площади стояли зенитные орудия. На улице Коммунаров возводились баррикады. Всюду высились ежи, сваренные перекрестьем из рельсов. По улицам Демонстрации и Революции могильно зияли воронки от сброшенных бомб. У клумбы валялась детская коляска, с оторванными колесами, рядом ─ тряпичная кукла, залитая кровью. Витрины магазинов до половины обшиты досками. Здание гостиницы по улице Советской занято под госпиталь, у входа развивался флаг с красным крестом. Пешеходов мало, чаще встречались военные, грозные, строгие патрули. Кладбищенская тишина потрясала, мучила тоскою.
Александр Башкин со сторону Заречья, перешел по мосту через Упу, направился одинокою улицею к Ряжскому вокзалу. Шел, словно путь открывали боги Руси ─ вдали светились зеленые огни светофоров. Воинские эшелоны не задерживались, спешили на запад. Везли танки и орудия на платформе, какие плотно накрыты брезентом. Забраться в теплушку, к солдатам, где играла то грустно, то весело гармонь, оказалось неожиданно сложно. Даже невозможно. Эшелон на станции стоял меньше часа, столько, сколько требовалось набрать воды паровозу. У каждого вагона расхаживали часовые. Попытался пройти в вагон наскоком, преградили путь штыком. Оставалось провожать эшелон за эшелоном с долгою грустью.
Беглец оказался в узком промежутке, и не знал, что делать? Куда теперь идти? Назад, в Тесницкие лагеря, пути обрублены. Времени прошло четыре часа. Уже два раза можно отдавать на суд Военного трибунала. Самоволку расценят как дезертирство! Тем более, побег совершен с вещами! И наверняка поступили запросы в областное управление НКВД, вплоть до отдела госбезопасности в Мордвесе, объявлен его розыск как фашистского лазутчика! Даже если нет паники-круговерти за его исчезновение, если еще имеется возможность, явиться с повинною и покаянием, ─ тоже ничего не изменит! Наверняка, наверняка, не ходи к пророчице Кассандре, старшина роты Чижевский по злобе загонит воина на суд Военного трибунала! И сам расстреляет перед строем как труса! В назидание остальным.
Злобный человек! Войну не переживет. Свои застрелят. И постараются загнать пулю в спину, в самое сердце. Бежал с поля битвы, и принял позорную смерть. Поди докажи, что убили не немцы. Да и кому надо разбираться? Исчез человек, и исчез. Сколько их после боя положили в святорусские курганы.
Башкин шел по Туле, испуганно, нервно, как зверь на отстреле. Он оказался в гибнущем водовороте, а небо Тулы стало ему саваном! Идти сложно. Город погружен в темноту. То там, то здесь вспыхивают фонарики, ─ Патруль проверяет документы. Едва вспыхивает свет фонаря, беглец прячется в подъезде. Куда идет, не знает! Надо отыскать ночлег. Но где? Где успокоение? Постучать в первую дверь? Но кто пустят? Нечаянно оказался на рынке, у Дома колхозника. Ночлег не дали, нужен паспорт, а паспорта не оказалось. Устроился в подвале соседнего дома, укрывшись лохмотьями.
Утро радости не принесло. От нервного напряжения невыносимо заболело сердце, забили тревогу раны. И такую боль вознесли, какую он еще не испытывал, Словно набросилась волчья стая, сбила дыхание, и стала злобными клыками рвать тело. Закружилась голова, и он стал падать в пропасть. Но не упал, успел уткнуться лбом в холодный камень здания. И так стоял, пока не остыла, не сошла боль. Только теперь Александр Башкин понял, какую совершил роковую, непростительную ошибку. Он теперь по суровой правде жил, как волк-одиночка, кого умело, обдуманно бесы Мефистофеля загнали за красные флажки. И сознавал, ─ он обречен! И ждал выстрела, гибели каждое мгновение! Стал бояться улицы, солнца, звездной ночи1 Стал бояться себя! Вздыбленные нервы, измученные тоскою, толкали в петлю, ибо так и так, куда не шагни ─ петля! Так уж взять, и разом!
И тут же осуждал себя! Русь твоя матерь Человеческая в беду, в горе, в надломленности, а ты, воин ее, о чем думаешь? Нельзя, нельзя предавать Русь! Нельзя, нельзя предавать себя! Надо успокоиться! Чего теперь раскаиваться? Взвалил на себя крест, неси до Голгофы ли, до света в тоннеле. Выстрела еще не прозвучало! Успокоившись, он понял, как быть! В Туле создаются добровольческие рабочие полки, он готов сражаться с врагом и на родной земле! В Смоленском сражении он научился поджигать танки, стрелять из пулемета, биться врукопашную!
Башкин пришел в Садовый переулок, к зданию НКВД; он уже представил себе, что скажет: вышел из окружения, документы уничтожил в пути. Кто он, пусть позвонят секретарю обкома партии Василию Жаворонкову, кто дал ему путевку в коммунистический полк. Ранен, представлен к ордену! Просит записать его добровольцем в истребительные батальоны.
Логика раздумья была проста, как молитва. И вполне разумна. Но двери НКВД оказались забиты, чекисты переехали. Куда? Обыватель не знает, а патруль поинтересуется: а зачем вам, солдат? Документы имеете?
В последнем отчаянии Александр Башкин подумал: не махнуть ли с горя в Пряхино, к матери. И жить-бедовать, добра наживать, пока не получит повестку из военкомата.
Но там, скорее всего, ждали чекисты с наручниками!
Возвращаться в Тулу не в Тесницкие лагеря, а в тюрьму и на «воронке», да под конвоем чекистов, такого желания он не испытывал.
В тюрьме воина ждал Военный трибунал!
Смертная казнь!
И расстрел!
Круг замкнулся.
IV
Оставалось одно, пробираться на фронт! Пешком по рельсам, с попутными машинами, на поезде, но только, скорее, туда, где шла битва! На поле-побоище будет не сладко. Убьют, исчезнет в безвестности! Воевать станет без имени, без похоронки. И мать не узнает, где пал смертью героя. Ни солдатского могильного медальона, ни документов, ничего нет. Полная сиротливость в мире.
Всем чужой, и себе тоже.
Башкин пошел на главпочтамт, написал письмо матери, в котором по святому обману известил: милая мама, я снова воин Руси! Наши полки отправили на битву под Орел и Вязьму под марш «Прощание славянки», какая зажигает сердце до боли и солнца. Обещаю вернуться живым! Я люблю тебя, люблю, и как мне не вернуться живым? Я горд, что мне выпала честь биться за Россию, безвинную страдалицу, что я не укрыл себя крылом, как лебедь укрывается крылом от холода в ночи!
Опустив письмо в ящик, с отчаянием безумца побежал на Ряжский вокзал. Ему повезло. У перрона стоял пассажирский поезд: Ряжск ─ Калуга. Народу было тьма тьмущая, Толпы с мешками и чемоданами, с ревущими свиньями в корзине штурмовали вагоны. Он без раздумья бросился в зловеще стонущий водоворот. Никого не отталкивал, не бился за место под солнцем, толпа сама вознесла его в вагон. Полная, проворная баба, разгорячено дыша, даже подвинулась к окну, выгадав место для молоденького солдатика. Вагоны набиты битком.
Ехали на крыше. До Калуги расстояние в пять часов.
Можно со светлыми думами побыть наедине с собою, немножко успокоиться, вывести себя из состояния тревожности и одичания.
Подъехав к Калуге, Башкин выглянул в одно. И сердце оборвалось. Вдоль всего перрона стояла цепь милиционеров. Повелительно-строго ходили военные патрули. Со страхом подумалось, не на волка ли из мордвесского леса вышли с облавою? Зачем так много? Хватило бы и одного выстрела! Он понял, попал в западню! Спина и руки похолодели. Решил не выходить из вагона. Пусть берут здесь. Идти преступником, звеня кандалами, там, где люди, было стыдно.
Беда не задержалась, сошла неожиданно. По безлюдному перрону шел быстро, целеустремленно плотного сложения генерал. Сзади адъютант в чине полковника, еле поспевал, сгибаясь под тяжестью чемодана. Александр мысленно перекрестился. Боги услышали его мольбу о спасении и милосердии. Но душа неумолимо страдала. Он медленно снимал ее с распятья. Страх, оказывается, не ушел. Страх еще жил. Опять жизнь опустила в грозную и угрюмую бездну тревожности. Приходилось бояться собственной тени.
На привокзальной площади солдат совсем неожиданно встретил Клаву Алешину, с кем учился в школе в Мордвесе. Каким несказанно дивным светом озарилась душа, каким сладостным оттеплением дохнуло из детства. Слезы пробились. Не было ничего роднее на этот миг. Она явилась, как молоденькая, стройная березка с пряхинского поля. Поклоном с родной земли. Мир Зла отступил. Исчезли тоска и одиночество, ожидание выстрела из засад каменного города. Но он не мог по ласке обнять ее, излить несказанную радость за встречу. Он жил в таинстве, жил изгоем, загнанным зверем. Неосторожно обнаружь себя, и будешь на другой день слушать молитвенные песни псаломщика; добрая леди, вернувшись в Мордвес, не устоит поведать о встрече; и чекисты в мгновение возьмут след!
Башкина вновь обступила мучительная тревожность. Господи, за что такая мука? Едешь на фронт, защищать Русь, и боишься, доедешь ли? Не снимут ли с поезда? Не расстреляют ли? Тут как раз близко оказался патруль, офицер козырнул долговязому очкарику: ваши документы?
Беглец поспешил в вестибюль вокзала; чекисты живо, как овчарки, чувствуют свою жертву. Юноша еле дождался поезда на Вязьму и готов был расцеловать старичка, начальника станции в форменной фуражке, который заученно важно объявил об отправке состава и повелительно ударил в колокол. Гудок паровоза пропел, как флейта, даже пар выпустил с певучею сладостью. Народу было мало. Ехали на короткие расстояния, выходили на полустанке. Фронт был рядом! Слышалась, как громогласно были фашистские орудия, вдали небо горело лютым пожарищем. Александр испытал несказанную радость! Кончалась его лютая тоска-тревожность! Он теперь не беглец, он воин Руси! Он необдуманно принес сам себе на пытку, но теперь все кончено!
Еще шаг, и он помчится, как Василий Чапаев на вороном коне на врага Челебея, обнажив меч инока Пересвета!
Он ликовал, я снова с тобою, Русь моя! Как хорошо слышать с тобою единение! Исчезает сиротливость, и не надо в отчаянии нести крест на Голгофу, казнить себя!
На душе чистота несказанная!
Радость земная несказанная!
Он, как волшебник от Бога, вернул в себя первозданный мир красоты и радости!
Одна теперь печаль, как остановить в себе исступленную радость?
Но в Вязьме воину Башкину не удалость выйти. Едва поезд прибыл на станцию Вязьма, как коршунами налетели фашистские самолеты, стали бомбить. В вагоне поднялась паника. Люди в страхе, толпясь, убого толкая друг друга, устремились к дверям, разбивали стекла, выпрыгивали в окна, в ночь, под разрывы бомб. Башкин сидел, как сидел, не ворвался зверем в толпу. Он не мог обидеть человека! Даже невольно! Даже, если видит перед собою смерть! Так сложилась его душа, какая еще в детстве светилась человечностью.
И куда бежать? Если выпала вечность, то бомба сразит и в вагоне и у колес поезда. Он совершенно не испытывал страха. В его сердце все еще густилась светлая радость и превеликая надежда, добраться до фронта. И он доберется! Кончится бомбежка, по покою спрыгнет на землю, и станет высматривать на шоссе маршевую роту! Маршевые роты, полки шли вереницами в самое пекло битвы; автомат или пулемет добудет в бою.
Неожиданно паровоз взревел тревожным гудком, резко тронулся, сбивая в железном грохоте пустые вагоны, и стал быстро, быстро выбираться из-под бомбежки. Его «Мессершмитты» не трогали, не преследовали. На станции скученно стояли на железнодорожном пути санитарные поезда с ранеными, под флагом с красным крестом. По госпиталю и наносили изуверы-крестоносцы бомбовые удары, где жила безвинность, где жило милосердие.
Поезд разогнал себя, воин уже не мог выпрыгнуть из вагона. И отдал себя мачехе-судьбе. Поезд остановился далеко от Вязьмы, на глухом полустанке. Башкин оглянулся ─ он в вагоне один; окна выбиты. Дул северный ветер. Вокруг окружала глухая тьма. Он вышел из вагона. Поразила тишина, безлюдность. Поезд тоже погружен во тьму, как ушел из жизни в заброшенность, на погост. Вдали блеснул огонек. Скорее всего, там было вокзальное здание.
Беглец торопливо пошел вдоль вагонов поезда. Стояла тишина, но он неумолимо, необъяснимо слышал в себе тревожную музыку!
К чему бы? К беде?
Он замедлил шаги. Стало страшно. Он как почувствовал, что шагает в свою смерть.
Но жить неизвестностью, где он? какая станция? ─ тоже был не резон. Надо скорее выбираться ближе к фронту.
Здание вокзала каменное. Стояло в березовой роще. Дверь полуоткрыта, оттуда и исходил свет. Он вошел в помещение. Горела керосиновая лампа. На скамейке тихо-смирно сидели дедушка с внучкою. Он обнимал ее, отогревая от лютого холода.
─Дедуль, где я? На какой станции? ─ поинтересовался Башкин.
─ На станции Темкино, сынок.
─ Далеко отсюда до Вязьмы?
─ Сорок километров. Обожди утра, может пассажирский поезд пойдет? Или воинский?
─ Он останавливается?
─ Случается. Паровоз на водокачке заправляется.
Александр в благословение подумал, было бы хорошо, сесть на поезд, где воины ехали на защиту Отечеств! Все бы узлы дьявольские развязал, и был бы уже в бою, а то все невольник и невольник судьбы-мачехи.
Разговорились. Оказалось, дедушка Федор едет к дочери. Она работает учительницею в Туле. На лето привезла Леночку погостить, а тут война. Бабка наказала, отвезти. Вот и собрался в опасную дорогу.
Патруль появился в полночь. Пассажиры дремали. Проверив документы у деда, офицер обратился к Башкину:
─ Далеко едешь, солдат?
─ На фронт, товарищ лейтенант! ─ подтянувшись, четко ответил Башкин, осознавая, что его Ноев ковчег завершил кругосветное путешествие.
─ Откуда?
─ Из госпиталя. Из Тулы.
─ Документы имеете?
─ Имею. Но предъявить не могу. Украли на вокзале.
Глаза начальника патруля наполняются тревожным светом.
Он коротко командует:
─ Следуйте за патрулем!
Глава десятая
БЕГЛЕЦ ПРИНИМАЕТ НЕСКАЗАННЫЕ МУКИ В КОНТРРАЗВЕДКЕ «СМЕРШ». ОН АРЕСТОВАН КАК АГЕНТ АБВЕРА, ВОЕННОЙ РАЗВЕДКИ КАНАРИСА
I
В Темкинском отделе НКВД задержанному дают отдохнуть. Утром вызывают на допрос.
Следователь в звании капитана, малиновые петлицы украшают четыре шпалы. Лицо смуглое, по-мужски красивое. Волосы седые, подстрижены коротко. Глаза серьезные, вдумчивые.
Он представляется:
─ Я офицер контрразведки «СМЕРШ». Фамилия Ворожба. Зовут Илья Петрович. Буду вести ваше уголовное дело.
─ Уголовное? ─ не удержался, встрепенулся Башкин.
─ Вы обвиняетесь в измене Родине по статье 58 Уголовного кодекса. Будете судимы Военным трибуна лом и, скорее всего, вас приговорят к смертной казни. Только чистосердечное признание спасет вашу жизнь. Надеюсь, я понятно объяснил?
─ Остается объяснить, в чем я обвиняюсь? ─ с печалью выговорил узник тюрьмы.
Следователь посмотрел с неприличною брезгливостью, ничего не ответил. Неторопливо пододвинул к себе белые листы с титульным золотым оттиском: Главное управление государственной безопасности НКВД СССР.
Деловито спросил:
─ Ваше имя, фамилия?
─ Башкин Александр Иванович.
─ Социальное происхождение?
─ Из крестьян.
─ Образование?
─ Закончил восемь классов в средней школе в Мордвесе.
─ Кем служили в армии?
─ Ополченцем Тульского добровольческого коммунистического полка.
─ Где и когда были завербованы германскою разведкою?
─ Я? Завербован? Разведкою? ─ узник испытал потрясение. ─ Безумная ложь!
─ Отпираться бессмысленно. Говори правду. Мы знаем, ты агент Канариса, фашистский лазутчик. Три дня назад в полночь с аэродрома под Рославлем вылетел двухмоторный самолет без опознавательных знаков. Пересек линию фронта и взял курс на Вязьму ─ Темкино ─ Ржев. На его борту было три пассажира с парашютами. Вы все были одеты в форму бойцов Красной армии. Гауптман имел радиостанцию. Вы все обучались в школе разведчиков в Орле, ее пестует генерал-фельдмаршал Гудериан. Разведчики абвера расчищают путь немецкому наступлению, взрывают аэродромы, перерезают телефонную связь, убивают командиров, узнают, насколько велика артиллерия в обороне? Где «Катюши»? Политика иезуитская! Твой шеф адмирал Канарис за тайные чудовищные злодеяния получил от Гитлера железный крест с лавровым венком, высшую награду третьего рейха.
Он внимательно посмотрел:
─ Ты сам, кто? Фашист? Русский?
Башкин уронил угрюмо:
─ Русский. Из деревни Пряхино Тульской губернии.
─ Из Пряхино? ─ желчно удивился капитан. ─ Как так? Ты вчера на допросе у начальника НКВД ведал, что из деревни Знаменка? Забыл? Ты, скорее, из деревни «Пауль-цвай» в Лотарингии? Чего молчишь? Как видишь, мы все знаем! Командир группы гауптман Людвиг Клаузевиц выбросился на парашюте близ Вязьмы, ты, Башкин или Соколов, как там тебя, спустился на зелено-коричневом парашюте, на пшеничное поле близ станции Темкино. Где мы тебя и изловили! Где должна приземлиться третья гиена фашистская? С толом и взрывчаткою?
─ Я не знаю, ─ безвинный мученик в ужасе закрыл лицо руками; только теперь он понял, в какую летит бездонную пропасть.
─ Что ж, не знаешь, значит, не знаешь. Разведчик заброшен в тыл Красной армии со взрывчаткою! Тоже не знаешь, зачем? Хорошо! Говори за себя! С каким заданием ты заброшен на Русь? Говори! Не молчи! Я с тобою пока, как с человеком!
Он пощелкал плетью по столу:
─ Что ж, молчи! Скорее тебя пристрелим, фашистскую гадюку! Мы сами знаем, зачем? Темкино есть святая, таинственная цитадель Кремля! В деревне Пяткино расположена ставка командующего Резервным фронтом маршала Семена Буденного? Под Вязьмою формируются танковые дивизии, грозою стоят «Катюши», дабы отразить вражеское воинство, где вы намерены наступать под кодовым названием «Тайфун»?
Вокруг Темкино расположены аэродромы! Здесь ставка генерала армии Георгия Жукова! Кому товарищ Сталин вверил командовать Западным фронтом!
Капитан-чекист зловеще посмотрел:
─ И вы разведчик самого адмирала Канариса о том совершенно не знаете? И залетели в святые края, чисто невинно! За Иванушку-дурака Русь считаете? Контрразведка «СМЕРШ» знает, зачем вас салютами сбрасывают? Убить Жукова, Буденного, взорвать аэродромы. Изыскать, где стоят «Катюши», и разбомбить! Так? Яви правду, сажи. где будет покушение на Жукова, где начнут врывать аэродромы? Насколько рассекречены ракетные установки «Катюша»? Поможешь, подарим жизнь! Не поможешь, ─ вручим корону от самозванки!
Следователь, наконец, взорвался:
─ Отвечать, фашистская сволочь, ─ и он сильно ударил плетью по столу.
Воин Башкин, как ни держался, но невольно вздрогнул. Только услышал не свист плети, не глухой, зловещий удар по столу, а удар колокола. Его блуждающие звуки понеслись эхом по Руси и в пространство и осыпались его слезами над деревнею Пряхино, над родным домом. Услышь, Мария Михайловна, как твоего сына ведут на расстрел. Если не ведут, то выведут. Спасения нет. И не будет. Откуда спасение? Не расстреляют, забьют в темнице.
Облизнув сухие губы, ответил:
─ Я все изложил письменно начальнику отдела НКВД. Пошел на фронт добровольно. Был зачислен в Тульский коммунистический полк. Сражался за Смоленск, не раз ранен. Был на излечении в госпитале в Ясной Поляне. Готовил себя в солдаты в Тесницком лагере. Не выдержал бессмысленной муштры, сбежал на фронт. Без документов. Был задержан патрулем. Мои документы остались в училище. Можете востребовать, проверить. Я говорю правду.
Следователь Ворожба дико рассмеялся:
─ Сбежал на фронт! Ты чего, фриц, белены объелся? И в самом деле, принимаешь меня за Иванушку-дурачка? Ничего, придумал себе легенду! Да, русское воинство бьется за Русь героями, жертвенно! Но есть и те, кто бежит с фронта! Толпами! Не успеваем расстреливать, выносить приговоры, есть и самострелы, ранят себя, дабы улизнуть с фронта, а ты побежал ─ на фронт, как кузнечик по лугу, прыг-скок! Ну, рассмешил, фриц!
Он поиграл плетью:
─ Хватит крутить. Я вижу, ты не ариец! Воевал в Смоленском сражении. Был ранен. Попал в плен! Так? Кто тебя завербовал? Его чин! Фамилия! Гауптман Людвиг Клаузевиц, с кем летел в самолете? Где укрыли радиостанцию? Каким путем должны вернуться в штаб армии Гудериана? В каком месте? По какому паролю? Назови его! Быстро. Почему молчишь? Хочешь издохнуть, как фашистская сучка?
─ Не хочу, ─ тихо отозвался Башкин.
─ Признавайся! Какое получил задание лично? Пробраться в Вязьму, разведать, где укрылись «Катюши»? Или ты ракетчик, станешь подавать светосигналы в ночное время летчикам Германа Геринга, дабы они прицельно бросали бомбы на наши танки, на воинство?
─ Не шпион я! ─ с тоскою, со слезами вымолвил печальник от безвинности.
─ Не лги. Попался, надо отвечать. Признаешься, запишу явку с повинною. Отсидишь десятку! И живи! Зачем умирать? Ты еще юн. И пойдешь в распыл. За кого? За фюрера? Ну, я пишу ─ Я, Башкин Александр Иванович, в бою попал в плен. Был завербован германскою разведкою, в чем раскаиваюсь.
Башкин тихо произнес:
─ Мне не в чем раскаиваться.
Следователь побагровел:
─ Фашистский выродок! Долго ты еще намерен испытывать мое терпение?
Он подает знак.
II
Чекист, что стоял сзади, сильным ударом ноги вышибает табурет. Башкина сбивают наземь, принимаются избивать. Бьют наотмашь, с наслаждением, сноровисто и ловко. Бьют долго, пока он не потеряет сознание. Уходя в тишину, в крик, он еще слышит голос следователя: «Тише, тише, костоломы. Следов не оставлять!» Его обливают из шланга холодною водою. Он подает признаки жизни. Палач за шиворот гимнастерки поднимает его. Из тьмы, из боли, из кровавого тумана доносится коротко, резко: «Одумался? Вспомнил? Будешь сознаваться?» Он молчит. Его с силою ударяют кулаком в скулу. Качнувшись в сторону, он падает на другого чекиста. И получает еще сильнее удар в лицо. Его избивают по кругу, пока он не падает на пол, не теряет сознание. Надзиратели оттаскивают его за ноги в камеру.
В одиночной камере лютый холод. Ее как нарочно выстудили. Пол каменный, ледяной. Из щелей зарешеченного окна без устали дует ветер. Стены покрыты инеем. Башкин приходит в себя. Сколько прошло времени, неизвестно. Касается руками щек, они в крови. И в слезах. Плачет надруганная душа. Все болит. По деснам языком не провести, они вспухли от боли. Дума одна: только бы подольше оставили в покое, не вызывали на допрос. Еще раз пережить такие кошмарные ужасы будет невмоготу. Тяжело жить в предсмертном кровавом вихре. Лучше бы убили. Забылся бы. И отмучился.
Но страдания еще только начинались. Едва тело, словно обожженное на костре, стало приходить в себя, остывать от боли, как снова в двери заскрежетал ключ, они распахнулись, и надзиратель коротко бросил:
─ Башкин, к следователю.
Он поднялся сам. Оттолкнул палача. Сначала встал на колени, опираясь руками о пол, затем поднялся в рост. И, шатаясь, но человеком, вышел. Он шел по коридору и грустно думал: смерти не избежать. Не убьют они, Военный трибунал вынесет смертный приговор. Убить могут в любую минуту. Поистязают, надоест, и пустят пулю. Начальству доложат: убит при попытке к бегству. Это разрешено. Даже благодарность вынесут за убиение: честно исполнил долг чекиста. Не дал врагу спастись, вершить новые злодеяния. Возмездием получил пулю. Или накинут петлю, удушат. И скажут: измучила совесть, и в нервном срыве покончил жизнь самоубийством.
Самое дикое, что ты в мрачном застенке совершенно беззащитен. Совершенно! Делай с тобою что хочешь. Пытай, вбивай гвозди в ладони на кресте, жги, забивай сапогами, глуши резиновыми дубинками по печени, по голым пяткам, убивай! Никто тебя не хватится, не востребует. Ты враг. И сам выбрал себе эшафот. В кровавом вихре человеческая жизнь ничего не стоит. Следователь Ворожба даже на миг не сомневался, что он, Башкин, враг народа, фашистский лазутчик. И надо вырвать признание. Какой ценою? Важно ли?
Что надо уяснить для себя? В каждом человеке живут стойкая сила и слабость, мужество и страх, гордая чистота души, и предательская униженность перед палачами. Что он должен выбрать перед гибелью? Жить, как осиновый лист, дрожать на промозглом ветру, или убить в себе бессилие, слабость и гордо смотреть в лицо палачам, в лицо смерти? Востребовать в себе все человеческое! Он из мира любви, из мира борьбы. Он не нуждается в жалости. Пусть источают свою ненасытную злобу. Он человек! Он сам повелевает жизнью и смертью. Он властелин земли и солнца, горя и радости, боли и безумия. Печально, много раз печально умирать врагом народа, изменником Родины. Но для себя он не враг. Не враг! Он чист перед Отечеством, матерью, братьями и сестрами. И справедливость, ее величество справедливость, если она есть во Вселенной, в вечности, поклонится ему, помолится за его жизнь и смерть.
Он теперь один на весь свет. Он и Вселенная. Больше никого. Как он умрет, будет знать только он! Униженно, ползая на коленях перед палачами, вымаливая себе прощение, жизнь, а с нею землю и солнце ─ так он не умрет. Не должен так умереть. Это надо ему. Короткою оказалась его жизнь, короток разбег в звезды. Но он уже знает, как закружиться прощальною птицею в поднебесье. И спасибо, Отечество, что ты есть. И было. Что даешь силы для гибели по чести.
Рассматривая Башкина, следователь тяжело сгущает брови, смотрит с сочувствием, но в остальном глаза выражают к узнику и жертвеннику все то же презрение, гадливость. Ему неприятно видеть фашистскую мерзость, да еще такого непоклонного, мятежного.
─ Будем признаваться?─ деловито спрашивает он, играя плетью.
─ В чем? ─ Башкин смотрит бесстрашно. Он осмыслил свою безысходность и чувствует в себе гордые и красивые силы. Он не намерен больше шептать униженно-оскорбительные молитвы, как на исповеди, коленопреклоненно прося: владыка, не казни, без вины я. Владыка так и так казнит.
─ Не знаешь в чем?
─ Я солдат. Свой. Я говорю правду. Но она вам не нужна. В чем мне еще сознаваться?
Следователь показывает парашют:
─ Твой?
─ Опечалю. Не мой.
─ Верно, ─ неожиданно быстро соглашается Ворожба. ─ Видишь, разбираешься, не твой парашют! Отрекаешься, не парашютист! Не выброшен с самолета! В чем тебя упрекать, если правду говоришь? Где твой? В каком лесу его спрятал?
─ Я ничего не прятал в лесу.
─ Опять верно. Ты его спрятал в соломе, у избушки лесника. Недалеко от места приземления! Не так? Ты его спрятал, а мы нашли! Поверь, мы хорошие сыщики. Не зря хлеб едим. Ты думаешь, мы зачем? Тебя мучить? Ошибаешься! Мы не злодеи! Не псаломщики! Нам твои стоны над собственным гробом радости не несут, даже омрачают души, вытесняют красоту. У тебя есть мать! И у меня есть мать! Мы все живые люди. Поверь, неприятно разговаривать с теми, кто уже теснится на погосте, кругом могилы вырыты, гробы высятся, а надо. Такая служба! Родина призвала выявлять предателей и изменников! Знаешь, как это сложно? В человеке столько таинств, лжи и мерзости, пора убивать изначально! Явился в мир, посмотрел в его глаза, смотрит хитро, Кощеем, сразу на гильотину, под топор! Знаешь, сколько бы изменников уменьшилось! С такими, как ты, фриц-мерзавец, поговоришь, ─ и жить не хочется. Знаешь, сколько времени душу отмываешь? Я же по любви к тебе, как человек! Скажешь правду, я, возможно, спасу от гибели Георгия Жукова, армию, Россию! Он по уму, как полководец, равен Цезарю, кто завоевал мир, и Жуков завоюет мир. Цезарь завоевал его для Рима, а Жуков завоюют мир для России! Вникаешь, как все глубоко? Почему и надо разрешить все миром! Ты даруешь жизнь Георгию Жукову, а я дарую жизнь тебе, пусть ты и фриц-мерзавец! Видишь, какая во мне человечность? Я для тебя, кто? Палач! Палач, ─ и дарует тебе свободу, солнце, поцелуи фрейлин, пиршество жизни! Полное, гут, гут! Ужели и теперь не сговоримся?
─ Я не предатель! ─ с достоинством произнес Башкин.
─ Верно, ─ опять легко согласился следователь. Ты дал присягу фюреру и стоически держишься! Он может гордиться тобою. Вернешься, вручит железный крест! Не вернешься, мы вручим. Деревянный! Извини, браток, у нас только такие, неуютные! Но и этот крест надо заслужить! Чем? Честным признанием! Будешь водить чекистов в хороводе лжи, выбросим в поле, на съедение коршунам! Ни могилы не будет, ни креста, а матерь твоя из Лотарингии во все времена не разыщет, где сын, коршуны расклюют!
Он прогулялся вокруг узника-печальника:
─ Крепок, сволочь! На фрица не похож! Фриц бы уже ужом ползал, сапоги целовал, дабы жизнь оставили! ─ Он положил ему руку на плечо. ─ Не пойму, браток, ты фашист? Русский?
Широкоскулый чекист, что стоял у стены, скрестив руки, ожидая команды избивать безвинного юношу, в ком давно исчезло солнечное свечение, с ухмылкою заметил:
─ Фашист, товарищ капитан! Чего пытаете? Русские, они рослые, в теле, как Илья Муромец, а этот червяк на ветке бузины! Немцы они, больше тонкие, прозрачные! И рожа арийская, глаза надменные, смотрит по ненависти. Рать на землю явилась мерзостная, порочная! Дали бы власть, я бы каждого положил в черный гроб с паучьей свастикою! Будет еще ломаться, вогнать живым в землю, а язык оставить. Признается, куда денется!
Башкин не выдержал издевательств:
─ Русский я, изверги, ─ выкрикнул он, не скрыв печали.
Следователь Ворожба как раз и ждал крика души, в мгновение преобразился, прицельно спросил:
─ Русский, говоришь?
─ Русский, ваше благородие, от Бога русчич!
─ Русский? И умрешь за Гитлера?! Ты ─ что, выродок? Где родился?
─ В деревне Пряхино.
─ Там и поставим тебе памятник, как выродку! ─ на полом серьезе отозвался следователь Ворожба. ─ Пусть люди плюют на твою душу-гроб, во все века, как предателю земли Русской! Во все века люди будут сторониться тебя! Ты станешь земле, как Лара! Читал Горького? Ни один человек не помолится тебе, не поклонится! Не придет возложить цветы! Тебя даже молнии будут стыдиться, как порочность, и не станут величать синим свечением, благословенно одарять грозою.
Он строго произнес:
─ И так будет! Будет тебе Памятник как Выродку в Пряхино! Только ты на первом допросе показывал, что матерь тебя явила в деревне Кузнецовка! Чего ты, фриц-мерзавец, все крутишь и крутишь, как змея вокруг тела красавицы Клеопатры! Ну, хорошо! Где она расположена? В Баварии? Под Берлином?
─ Под Москвою.
─ Кто отец? Полковник вермахта?
─ Крестьянин. Пахарь на русском поле.
─ Жив? ─ в быстром, ошеломительном натиске допрашивал Ворожба.
─ Умер. Перед войною.
─ Кто остался дома? Отвечать! Быстро, быстро.
─ Матерь, братья Иван и Алеша, сестры Евдокия, Нина и Аннушка.
─ Как зовут матерь? Ганриэта Оттовна Роттенберг? Живо отвечать! Живо! Не думать! Отвечать, как на духу!
Александр Башкин отозвался по покою, не поторопил себя:
─ Мария Михайловна.
─ Кто такой Генрих Гиммлер?
─ Не знаю. Не просвещали.
Следователь Ворожба посмотрел без гнева:
─ Умница! Стоик! Держишься красиво! Чту и ценю храбрость, веру в фюрера! Остается просветить. Рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер пишет: битва с Русью не есть обычная битва. Это битва на уничтожение славянской расы, племени обезьян! Ты понял? Они тебя считают гориллою, недочеловеком! Если ты, конечно, русич, а ты хочешь умереть за Гитлера и Гиммлера! Не осмысливаешь? Те палачи глумятся над тобою, унижают честь и достоинство, ─ как русича и человека! Великого землянина! ─ Он гневно и с презрением сверкнул глазами. ─ Если ты не выродок, то безумец! Они, фашисты, если завоюют Россию, убьют твою матерь Человеческую, сестер и братьев. Оставят тридцать миллионов славян! Остальные будут сожжены в лагере в печи крематория на Урале. И сгорят без чести и гордости За Свое Человеческое, как сгорел на костре великий мученик Джордано Бруно, сгорят, как черви на ветке бузины! Кто останется, будет рабом, станет униженно лизать сапоги господам немцам! Твоя сестра Аннушка, синеглазая гордая россиянка, с русою косою, если ее не убьют, отдадут в Дом любви, где она будет снимать свои панталоны по первому желанию господина! Ты этого хочешь? Ты затем продался фашистам? Затем выбрасываешь руку в небо, кричишь «Зиг хайль»?
Он силою ударил по сапогу плетью:
─ Я жду, с каким заданием ты летел на фашистском самолете с гауптманом Людвигом Клаузевиц? Тебя сбросили на парашюте под Темкино, разобрались! Он, где спрыгнул? У Вязьмы или у деревни Пяткино, где Верховная ставка маршала Семена Буденного? Во что одет? Назови его приметы! Говори! Почему молчишь?
Узник-печальник взмолился:
─ Господи, поверьте, я не шпион.
Следователь Ворожба тяжело вздохнул:
─ Слушай, фриц-мерзавец, я с тобою устал.
III
С Башкина срывают одежду. Избивают голого. Удары следуют один за другим. Бьют, шалея от его лютого упрямства, от собственного самолюбования. Бьют по-разбойничьи подло, в голову, в глаза, в подбородок, в грудь, между ног; отшибая кулаки, добродушно улыбаясь. Но кости не ломают, и упасть не дают. Он стоит среди комнаты, где одни палачи, страшный и окровавленный. Он уже не слышит боли, могильного ужаса, только свирепое дыхание, тяжелые, дикие удары. Он утратил себя и не знает, кто он: человек, зверь, птица? И живое ли еще существо? Его мир обрушился, небо раскололось, звезды осыпались камнями, они громоподобно катятся с небесной горы, сближаясь, бьют его по ногам, по груди. Заваливают всего, как в гробнице, а он все стоит и стоит. Стоит и слышит, как камни остриями вонзаются в сердце ─ грозно и хищно, до слез и до боли, до смерти. Но смерти все нет! Даже смерть боится мученика! Даже смерти страшно брать в свою поминальную соборность такого избитого, окровавленного мученика!
Широкоскулый чекист, разбежавшись, ловко подпрыгнув, бьет коваными сапогами с невероятно страшною силою в грудь. Там рана! Знает, не знает палач о ране, скорее, знает, почему и бьет сапогами с ужасною силою. Рана рвется! С груди кровь пошла потоком. Узник падает. Поднять невозможно! Кровь течет из раны неостановимо. Но казнь не останавливается! Теперь его избивают дубинками по обнаженному телу. Дубинки резиновые. Удары ими по пяткам вызывают нестерпимую боль. Возвращается ясность мысли. Осознание себя как живого существа. Боль разрывает сердце. Он кричит до изнеможения.
Следователь заводит патефон. Громко звучит песня Лидии Руслановой: «Окрасился месяц багрянцем» Палачи должны работать молча. Крики мучеников, кого истязают, раздражают начальника отдела НКВД, старшего майора государственной безопасности.
Избитого Башкина отволакивают в карцер. Он лежит на каменном полу раздетый догола. Лежит обессилено, обливаясь кровью. Но он ничего не слышит: ни лютой боли, ни страшного холода. Душа его умерла. Но вскоре жизнь возвращается. Медленно, по капельке. С болью, стонами. И лучше бы не возвращалась. Голова горит огнем, тело как брошено в костер. Губы не разжать, они избиты, вспухли, нельзя дотронуться ни рукою, ни языком. Едва прикоснешься, по всему телу пробегает смертельно болевая судорога; во рту сухота, горечь, хочется пить, до бешеного крика, до ощущения смерти, но пить не дадут, сколько не кричи, не проси; станут пересыхать жилы, будет биться в последнем стуке сердце – обольют ледяною водою. Успеешь попить, попьешь, и то если обольют голову. Не успеешь, все. Сам до лужицы не доползешь, не достанет сил. Достанет, ударят сапогом в лицо. В жуткой ненависти, в бесчеловечности. И еще бросят оскорбительное: ты, иуда, Россию предал, а тянешься испить чистую родниковую воду с русской земли. И еще раз сапогом в лицо. Но уже для порядка, чтобы не забывал о том, что ты иуда. Опять сожмешься в ежика, в тающую снежинку. Опять будешь страдать от жажды до безумия, до потери себя.
Студеная вода будит память о доме. Он видит реку Мордвес, скрытую туманом, на утреннем восходе солнца. Грустные ивы на берегу. Березки со стыдливыми сережками, с иволгами в ветвях. Сколько красоты несут на крутосклоне в цветущем разливе иван-да-марья, медуница, васильки, даже куриная слепота. Необозримые поля с радостным разгулом хлебных колосьев теперь опустели, залубенели от ветра. Рожь убрали, смололи. И в каждой пряхинской избе пекут душистые хлеба, неприхотливо варят самогон на праздники. И в небе уже летят журавли. Один раз при перелете они присели на сиротливые, лубяные поля, подкормиться зерном. И взмыли красивым клином в синеву неба. Вся деревня сбежалась проводить в дальний путь гордых, загадочных птиц. И все зачарованно махали, пока стая не исчезла бесследно.
Милая моя родина! Милая моя мама! Вижу тебя, вижу дымы над избами, как пасутся в ночном небе, в блеске костра, как величаво идет женщина на солнце, неся на коромысле полные ведра с водою. Слышу, как во ржи поют перепела, высвистывают в небе жаворонки, затейливо, неунывающе изливается в бурьяне овсянка, слышу, как пахнет в яблоневом саду полынь и конопля, стог сена ─ с терпкою, сладковатою горечью, обитатель кузнечиков. Слышу, как опадают капли дождя с ветвей березы, как натянуто звенит на ветру паутинка.
Вижу, мама, как ты стоишь у колодца, прислонив коромысло к тополю. Ведра поставила, воду не набираешь. Теребишь шаль и задумчиво смотришь вдаль. Сердце твое чувствует: сын в темнице. И обречен. Ты в печали и скорби.
Мне тоже тяжело на сердце, мама! Оно в слезах и в крови. Близится моя смерть. Меня убивают на каждом допросе. И убьют. Как ни горько, ни скорбно себе представить, но нам суждено расстаться. Я очень хотел, чтобы ты гордилась своим сыном. Я добровольно, в восемнадцать лет, взял оружие, желая защитить оскорбленное Отечество. Я верою и правдою служил державе руссов! Был велико храбр в бою, без боязни принял на свою грудь ─ огонь и железо. И готов был дальше служить с честью, чистою совестью. Но выпал мне роковой жребий. Моя вина, конечно! Моя вина! Горько! Но чего каяться? Предстану перед Богом, на исповеди покаюсь. Простит, не простит, а я себя не прощу. Даже там. Был солдат Отечества, а теперь разбойник Кудеяра, закованный в кандалы.
Чекисты уверены, что я враг России, иуда земли Русской, продал державу за тридцать сребреников. И теперь нет твоему сыну места на любимой земле. Будут избивать безвинного и беззащитного кулаками по лицу, сапогами, резиновыми дубинками столько, сколько захочется, пока, потеряв сознание, не упаду в печали и раз, и другой, и третий на каменный пол, обливаясь слезами и кровью. О себе не думаю. Моя жизнь закончена. Думаю, что будет с тобою, с родными? Сам подгоняю смерть. Скорее бы, скорее! Но, мама, как тяжело умирать предателем! Как тяжело. Ни одна душа заплачет! Ты, конечно, отречешься, пошлешь проклятья. И себя проклянешь: выпустила в мир, в страданиях и муках родовых, в мир, освященный солнцем и голубым сиянием звезд, выродка. И, конечно, не приедешь на мою могилу с цветами, молитвою, траурно-благословенным, материнским прощением и плачем! Да и будет ли могила? Я не знаю, как хоронят изменников Отечества, скорее всего без могилы. Свалят в ров, как осеннюю, закоченевшую от мороза листву, засыплют известью, чтобы затхлый дух не растекался по земле русской, наскоро забросают сырою землею, утрамбуют гусеницами трактора – и был Сашка Башкин на белом свете. И не был. Даже похоронку не пошлют, не выстрадал ее в жизни, а как хотелось вернуться домой с победою и сказать: «Здравствуй, мама. Вот и я! Ты печалилась, горевала обо мне, боялась, что убьют, молилась Богу, чтобы защитил от пуль. Не знаю, не знаю, возможно, и ты спасла меня, твоя молитва. Но я вернулся, вернулся с поля брани. Одолел иноземца, как одолевали его в битвах наши славные предки-русичи тысячи лет. Я теперь кровно повязан с дедами, с Русью. Пора играть свадьбу и растить внуков! Посмотри, как покрасивела, как воскресилась в девичестве моя любимая, желанная Капитолина, еще вчера бегавшая по пряхинской земле озорною девочкою с двумя косичками; непорочная, нецелованная! И по красоте россиянка от звезд и неба, от вольных половецких степей, от сладко-медовых ветров Руси. Благословляешь на женитьбу, на любовь, на чарку водки за свадебным столом?»
Не вернулся!
Не будет он знать сладости и колдовства девственного поцелуя.
Не будет играть гармонь на его свадьбе!
Вернется, но эхом.
Прощальным.
От выстрела в сердце.
Но весь не истаю, мама, как молния, как гроза, в тюремном дворе, у расстрельной стены. Вознесусь в небо. И прилечу. Постучу в окно, веткою ли березы, дождинкою ли грозы. Одно печалит: выйдешь на крыльцо – и не увидишь меня. Истаю я. В последнем, прощальном плаче. В скорбном миге. Не успеешь услышать последний стук сердца. Слишком далеко было лететь до дома. В последнем усилии истаял. В пустоту. В вечность. В твою память.
Все, родная. Прощай! Слышу в коридоре тюрьмы шаги надзирателя. Это за мною. Опять на допрос. Останусь жив, еще напишу письмо. Мысленно. Я чувствую на расстоянии связь с тобою. Кровную связь. Вечную. Мне легко с тобою. И умирать будет легко, думая о тебе. Прощай!
IV
Тюремщик вошел в камеру навеселе, развязно. Увидев, что Башкин лежит неподвижно в луже крови, сильно ударил его сапогом в бок:
─ Вставай, фрицевская свинья! На допрос! Разлегся, как принц на перине в Баварии.
На этот раз следователь сесть не предложил. Оставил пленника стоять в кругу чекистов, как обреченного гладиатора на арене римского Колизея в окружении диких зверей. Башкин выпрямился, стоял с достоинством. Он знал, его снова будут бить, но страха уже не испытывал. Хмель боли слышен при первом ударе. Дальше наступает безразличие, уход в безумие. С какими муками катаешься по полу, как пытаешься прикрыть лицо руками, кричишь, стонешь, плачешь, как изнемогаешь ─ все по ту сторону звездного пространства.
Он сам в деревне ходил на кулачные бои, слобода на слободу: его били, он бил. Теперь тот же кулачный поединок. Но с разницею, бьют его одного ─ самодовольные, крепкие палачи, бьют изуверски, без совести и милосердия. Бьют безвинно! Бьют еще неокрепшего юношу-мальчика, защитника Родины! Вот что оскорбительно. Вот что больно. И им ничего. Что ж! На то они и палачи.
Ворожба благодушно спрашивает:
─ Ну, вспомнил?
─ Вспомнил, ─ переступил с ноги на ногу узник.
─ Правда? Ну, вот видишь, ─ возликовал следователь. ─ Начинаешь восхождение к жизни. И что же ты вспомнил, просвети!
─ Стихи Пастернака:
Мело, мело по всей земле,
Во все пределы.
Свеча горела на столе,
Свеча горела.
Башкин знал, в мгновение зверье обрушится с ударами. Вызов получился сам по себе, заранее его не обдумывал. Но раз вышло, значит, вышло. Скорее начнут, скорее кончат.
Но следователь Ворожба только улыбнулся. Он разгадал хитрость обреченного. Наивный фриц. Убить его ничего не стоит. Только кому нужна его гадливая гибель? Нужны признания. Результат! Надо загнать в сети каждого выродка, каждую мерзость, кто осквернил себя трусостью и изменою и кто еще в таинстве бродит по тылам Красной армии, сеет панику, взрывает мосты, военные заводы, убивает командиров.
─ Решил позабавиться, фриц чертов, ─ в радость поиграл плетью следователь Ворожба, ─ а себя выдал! Какой сын крестьянина знает ублюдка Пастернака? Даже если бы знал, помалкивал бы в тряпочку! В России этого еврея за клевету на Советскую власть, загнали в лагерь! Прочти его стих в России, и тебя тут же расстреляют, как врага народа!
Еврея, его стихи, может знать только фашист, ибо канцлер Германии Адольф Гитлер, кто увидел смысл жизни в том, дабы очистить землю от евреев, повелел воинству, уничтожить, сжечь, смести с земли каждого еврея, как самую убогую и гадливую скверну земную! Был бы ты русским, прочитал бы Сергея Есенина, а не еврея!
Следователь Ворожба помолчал:
─ Ты понял, о чем я сказал? Будь ты русским, я уже могу тебя расстрелять за любовь к Пастернаку! Но могу проявить и милость, отдать на суд Военного трибунала, где тебе дадут двадцатку за агитацию! Это жизнь! Что выбираем, расстрел или жизнь?
Башкин глухо уронил:
─ Я не виновен!
─ Значит, выбираем расстрел? Ты был в Калуге?
─ Проездом, ─ не стал скрывать пленник.
─ Зачем?
─ Что, зачем?
─ Был проездом? С каким заданием? Ты знаешь, что фашистские самолеты удачно разбомбили военный завод и управление НКВД в Калуге? Ты навел? Ты стрелял из ракетницы ночью?
─ Что я, идиот?
─ Выходит, мы идиоты? Мучим безвинного человека, ведем его от бунта к дыбе, держим за решеткой, душу томим, а он не раскольник! Он в обличье праведника! Взойдет на лобное место, нимб мученика возгорит над челом! Сними, народ, шапки, встань на колени, отмаливай грехи! Бунтуйте в скорби колокола церквей Руси великой. Ну, фашистская сволочь! Ты меня до судороги доведешь.
─ Я не стрелял из ракетницы, ─ продолжал защищаться узник.
─ Как же не стрелял, если стрелял! Красные ракеты подавали с поезда! Все, кто сошел с поезда, подозрение не вызвали! Только ваша честь вызвала подозрение! Думаешь, мы не видели тебя в Калуге, как ты сидел, затаившись, один в вагоне? Думаешь, проводник, который подметал рядом с тобою пол, подметал его просто так? Думаешь, на площади патруль проверил документы у студента-очкарика, просто так проверил? Мы высчитывали, ты ускользнешь, не ускользнешь? Ускользнул!
Наконец, дедуля, кто сидел с внучкою на ночном вокзале в Темкине, тоже не просто так сидел. Тебя ждали! Дедуля ─ наш агент, имел передатчик. И подал сигнал. И явился патруль! Видишь, откуда мы тебя ведем! Будешь сознаваться? Говори, сволочь! Еще юшкою умоешься! Мы и девку твою в Калуге забрали, с какою ты в Калуге переспал! Дева тоже агент германской разведки?
Сердце мученика охолодело. Неужели он неосторожным, влюбленным взглядом выдал чекистам Клаву Алешину? И ее теперь тоже пытают в разведке, избивают, поднимают на дыбу, добиваются правды. Совершенно безвинную. Совершенно! Еще и на очную ставку доставят в «воронке» под конвоем. Слезы, слезы человеческие.
Александр небрежно повел плечами.
─ Не знаю, о ком спрашиваете.
─ Ничего, узнаешь, как пропустим ее через роту солдат. А то и на дыбу вздернем! Твой фюрер ввез в Германию гильотины. Цивилизованная казнь! Гуманная, а мы ─ варвары, мы все еще на дыбу поднимаем, жжем огнем и бьем плетьми, как в Тайной палате Малюты Скуратова. Так что не взыщи, если ее распнут на цепи и огнем пытать станут! Как думаешь, ее сладкие груди выдержат огонь? Обождешь очной ставки? Или так признаешься?
Башкин смело посмотрел:
─ То, что вы говорите, чистая чушь! Я еще юноша от Христа, и в Калуге не мог ни с кем переспать!
─ Но глазки красавице в таинстве строил, и такие посылал ласковые, влюбленные сигналы, сама бы богиня любви Афродита не устояла! Бросила бы своего любовника, бога войны Ареса!
Башкин стоял на своем:
─ Я ехал на фронт! Я муж, почему не мог посмотреть на красивость?
─ Упрямая сволочь, ─ следователь Ворожба ударил в злобе плетью по столу.
─Я не сволочь. Я солдат России.
─ Не оскверняй это имя, фашист! Своими руками задушу! И перед этим лишу потомства! На яйца сапогом наступлю и раздавлю твоих птенцов-злодеев вместе с крылышками! ─ взревел капитан государственной безопасности. ─ Он ехал на фронт! Вот сучка! Ты знаешь, где он?
─ Около Вязьмы.
─ Верно. До передовой один марш-бросок. Зачем же ты из Вязьмы на том же поезде поехал в Темкино, в обратную сторону? Подальше от фронта?
─ Поезд бомбили. Я нечаянно уснул. Проснулся, попытался выпрыгнуть на ходу, но побоялся. Поезд шел на скорости. Могло всего переломать.
Следователь все никак не мог остыть:
─ Чего ты все крутишь, сучка! Только поезд пришел из Калуги в Темкино, как, спустя время, на станцию налетели фашистские самолеты и стали изуверски, без милосердия бомбить санитарные поезда с русскими ранеными! И эшелоны с солдатами России, какие прибыли на фронт? И нова красные ракеты взмыли в ночь из поезда, где ехала ваша честь! Знаешь, сколько ты убил русского люда, душа твоя продажная, изуверская!
─ Я никого не убивал.
─ Как же не убивал, если убивал! Где ты, там налетают фашистские самолеты! И в Калуге, и в Темкино! Это просто так? От случая? И еще заметь, только налетели на станцию фашистские самолеты, как поезд, скорее, скорее, помчался обратно в Калугу, повез тебя одного, во спасение, от страшного избиения Русского воинства! Тебя спасал, гада! Опять не вникаешь?
Следователь зло посмотрел:
─ Он не мог спрыгнуть с поезда! Вот сучка! Ты пытался?
Башкин сел на табурет:
─ Я устал. Расстреляйте меня!
Следователь в зверином крике:
─ Вста-а-ать! Ты давно уже висишь в петле, мразь! Лишите его жизни, ему надоело общаться с чекистами, ему захотелось пообщаться с ангелами, побегать, полетать шоколадною бабочкою по райскому саду Эдем!
В тылу Красной армии странствует гауптман Клаузевиц, еще бандит, с кем ты летел в самолете! Где они? С каким заданием летели?
Пленник настоял на своем:
─ Убейте! Мне стыдно вас слушать! Я ничего не знаю.
Капитан государственной безопасности выложил на стол ракетницу:
─ Твоя?
─ Впервые вижу.
─ Впервые видишь? Какое непорочное дитя! Впервые видит огнестрельную игрушку. Она лежала на земле у вагона, в котором ты ехал и подавал сигналы. Опять не так?
─ На рукояти ракетницы наверняка остались отпечатки пальцев. Вы сняли мои. Сверьте. И будет понятно, кто хозяин ракетницы? И враг ли я?
Ворожба улыбнулся:
─ Грамотный фриц! Зачем бы ты стрелял из ракетницы без перчаток, если по азбуке Морзе знаешь про отпечатки пальцев? Подойди ближе. Твои перчатки из хрома?
Узник внимательно посмотрел:
─ Да, мои.
─ Перчатки твои, заумный фриц, далеко не солдатские. Они с двумя пальцами, дабы удобно нажимать на курок. На указательном пальце имеются оттиски от курка. Можно это объяснить?
─ Безусловно. На полигоне в Тесницком лагере я стрелял по мишени из винтовки в перчатке. Было холодно.
─ Фриц-скоморох! ─ строго заметил следователь. ─ Был бы ты русским воином, ты бы знал, в Красной армии не только солдаты, но и командиры не носят перчатки с двумя пальцами! Твои начальники из Школы Разведчиков в Орле просто остолопы! Они тебя подставили. И вырядили, как на карнавал. Форма одежды командирская, а звание солдатское. На каком военнопленном они видели такую форму? Тебя закинули на Русь, как бомжа! Вникаешь? Ты же глаголешь, ты воин страны Советов!
Узник робко вставил:
─ То была форма ополченца! Свой я, гражданин начальник. Свой! Русский солдат!
─ Слушай, фриц, ты долго еще будешь лгать и изворачиваться? ─ вошел в гнев капитан государственной безопасности Ворожба. ─ Говори, где бродят твои бандиты? Где спрятал радиостанцию? Но я вижу, ты внове желаешь пострадать за фюрера и свой обманутый народ!
─ Не желаю, ─ смиренно произнес пленник.
─ Как же не желаешь, если желаешь! Не желал бы, не крутился, как блоха на яйце у страуса?
Первый удар наносится беззлобно, для разведки: устоит, не устоит? И сколько продержится? В мягкости удара даже слышится виноватое: «Не обессудь, парень!» Но вскоре чередою посыпались удары кулаками и дубинками. Были исступленно, расчетливо, гоняя в удовольствие по кругу, по кругу боли, крови и смерти. Под конец все больше сатанели и били куда попало. И чем угодно. Увернуться было нельзя, защититься тоже. Узник и не пытался, покорно и смиренно давал себя бить. Когда падал, его добивали коваными сапогами. И снова обливали из шланга ледяною водою, приводя в чувство. И снова истязали.
Пока мысли Башкина были чисты, он читал про себя стихи Есенина:
И пускай я на рыхлую выбель
Упаду и зароюсь в снегу.
Все же песню отмщенья за гибель
Пропоют мне на том берегу.
Они отвлекали от боли, от кровавого кошмара, от роковой реальности. Но в еще большую приятность было то, когда он терял сознание. В то время плачущая душа блуждала сама по себе по безбрежным лабиринтам Вселенной, не ожидая ни радости, ни ласк, но где уже не так были слышны бесконечные удары, не так слышалась жестокая беспощадность палача. Было просто горе, были просто человеческие слезы, а то и совсем наступала покойность, дивное благословение.
В такие мгновения, когда оживала мысль, он молил богов Руси не возвращать его на землю. Пусть еще и еще поживет там, где звезды и небо. Но его возвращали! И снова били, били. В этот раз его вызывали на допрос одиннадцать раз.
V
Потом еще пытали четверо суток. Каждое утро вывозили в лес. Спрашивали:
─Твой парашют?
─ Нет, не мой.
─ Где твой? Этот? Говори, падла фашистская.
Временами узник ронял с укором:
─ Чего издеваетесь? Я воевал в Ярцево, видел, на таком парашюте фашисты сбрасывают осветительные ракеты, а не диверсантов.
Чекисты смеялись:
─ Знает, сука! ─ разворот, и удар в челюсть. ─ Скоро начнешь говорить, куда спрятал свой парашют?
─ Я не шпион. Свой я!
Опять удар в лицо, чем сильнее, тем веселее.
─ Признаешься, фриц! Куда денешься! ─ все больше свирепеют контрразведчики. ─ Не вспомнишь, обольем ледяною водою, и будешь стоять в лесу зеленою елочкою. Снегурочка стояла, и ты постоишь, пока на солнце не истаешь. И не рухнешь падалью в валежник. Сожрут муравьи и кабаны, и никто не узнает, где могилка твоя! Прощальное письмо не хочешь фрейлейн Ганриэтте в Баварию написать? Все бы знала, где тебя прикончили, сволочь фашистскую! И поплакала бы на могиле. Признаешься, уважим! Пусть послание и с горестною вестью, но это лучше, чем исчезнуть из мира невидимкою.
Башкин молчит. Он уже понял: объяснять свою правду бессмысленно. Чекисты уверовали в его предательство. И теперь слезами залейся, солнце достань с неба, разбей голову о ночные звезды, доказывая свою правоту, все едино не поверят, будут бить до бесчувствия, до остановки сердца. Им нужны признания, а как он может себя оболгать?
Не дождавшись ответа, следователь Ворожба беззлобно роняет:
─ Что ж! Сам себя вини, парень.
Новый удар в челюсть. Пока везут в кузове грузовика в отдел НКВД, бьют, как забавляются. Больше, дабы согреться, не скучать. Выпьют водки и на закуску больно и страшно ударят между глаз; еще раз умойся юшкою, иуда, будешь знать, как незваным гостем спускаться на парашюте в тылы Красной армии.
С приездом в отдел, могут ласково поиздеваться:
─ Чего, фриц, еще не разыскал корону разума? Снова станешь крестный ход по тюрьме совершать? Чудотворную икону принести? Какую? С ликом святой Богородицы или с ликом фюрера?
И снова бьют, пока обреченный узник, потеряв сознание, не падает распятьем на каменный пол, пока не раздается брезгливая команда следователя: «Унести падаль!» Уносят избитого, окровавленного в ледяной карцер. Утром снова везут в лес, загоняют в избушку лесника.
Спрашивают, показывая на стол:
─ Твоя рация?
─ Нет, не моя.
Удар в челюсть.
─ Куда спрятал свою? Где твой резидент? Кто учит в шпионско-диверсионной школе под Орлом разведке, немцы, русские? Их фамилии? Кто с тобою учился? Назови имена! Псевдонимы! Молчишь? Не знаешь? Скажешь! Не таким языки развязывали! Решил умереть в безвестности, но героем? Умрешь! Сам себе эшафот выбрал, фриц заклятый! Как падаль сгниешь! Ну, сколько еще ждать? Где твой резидент? Где спрятал рацию?
И снова бьют смертным боем.
Только на пятые сутки прекратились истязания. Башкина вызвали на допрос и без угроз, избиения предложили ознакомиться с протоколами, подписать. Собственно, и бить там было уже некого. Все тело, страшно синее от побоев, невероятно распухло, кровоточило. Могучее молодое сердце стучало с перебоями, то затихало, как догорающее пламя костра, то пускалось вразбег, как река в половодье. И рукою было трудно сдержать его страшные прощальные стуки. И держаться на ногах не мог. Его, неумолимо измученного, поддерживали два чекиста в стоячем положении.
Узник равнодушно взглянул на протокольные листы допроса и перевел взгляд отрешенного, умирающего человека на плакат в луче осеннего солнца. На плакате был красноармеец с высоко поднятою винтовкою у самого Кремля, внизу, зовом военного горна, надпись: «Отстоим Москву!» Мученик Александр услышал, как в горе сжалось сердце! Господи, ужели враг уже у Москвы, а он все пленник и пленник.
Грозовая молния, плетью, ударила по глазам.
Сердце его остановилось.
Следователь вызвал врача. Белокурая женщина с накрашенными губами, с родинкою на щеке, послушала гаснущие удары сердца, быстро сделала укол. И повелела немедленно положить узника в тюремный лазарет. И больше не трогать. Не то до вечера не доживет.
Прошло трое суток. Все это время Александр Башкин находился на излечении, лежал на мягком кожаном диване в палате, какая приятно пахла лекарствами. Лежал, как на катафалке. И тот катафалк на месте не стоял, то ведьмы катили его к погосту, к могиле, под хор плакальщиц и горевестниц, то опять возвращали в жизнь. То снова везли к погосту. Он сам видел, как в небе, заслоняя солнце, жестоко бились Белые птицы и черные коршуны, и бились, скорее, за его жизнь. Какие птицы победят, такие и будут решать его судьбу.
Победили Птицы Жизни!
Едва узник Александр услышал себя, как услышал и свою горькую боль. Шевелиться было тяжело. Все, до чего не дотронешься, болело. Но мало-помалу избитое тело, смазанное целебными мазями, стало заживать. Обретать крепость. Сходила свирепая, кроваво-синяя опухоль. Вскоре узника опять перевели в тюремную камеру, куда принесли и протоколы допроса. Александр внимательно изучил допросные листы, нашел, что можно подписать. Они не изобличали его как немецкого шпиона! Сошлись на том, что он дезертир, покинул без разрешения воинскую часть. Теперь прокурор буде решит, что делать с пленником? Отправить в Вяземскую тюрьму на суд Военного трибунала, где его будут судить, как дезертира, по законам военного времени! Или, явив милость, дать путевку на фронт, дабы беглец-воин кровью искупил свою вину. Для контрразведки «СМЕРШ» безвинный страдалец больше интереса не представляет.
Двадцатого сентября плененного солдата вывели из камеры, связали ремнем руки. И усадили в кузов машины спиною к кабине, на скамью, между двумя охранниками с карабинами. И повезли по пути на Вязьму. Погода была бесшабашная: то светило солнце, то задувал промозглый ветер и моросил дождь. Дорога вилась по лесу, по хлебному, колосистому, еще не убранному полю, мимо станции Темкино, где его забрали. Станция была разбомблена, разрушенною гробницей, сиротливо и жалостливо, чернело здание, с острыми срезами стен, рядом неуютно лежала на взгорье шпал сгорбленная крыша, она еще горела и дымилась. Ближе к рельсам, упавшая с пьедестала, скорбно и порочно валялась каменная голова Сталина, иссеченная осколками. Разбитые железнодорожные пути восстановлены. По ним шли поезда.
Фашистские самолеты неизменно пиратствовали в небе. Пока грузовик на большой скорости мчался по большаку на Вязьму, его бомбили, обстреливали несколько раз. Охранники и водитель прятались в придорожную канаву, в лесу, вытаскивали с собою Башкина, но он отказывался. И оставался в машине; он боялся Военного трибунала, и знал, его, как беглеца-дезертира, приговорят к сметной казни! Пусть уж убьют по дороге на эшафот! Погибнет как воин! Или ─ как человек, а не Каин Руси, не предатель Руси! Его еще не осудили судьи Военного трибунала, и он еще чист ─ как праведник Христа!
Охранники особо не старались, желает погибнуть под бомбами, пусть желает Спорить, избивать узника не было времени. Да уже и желания! Жертвенника бросали. Спасти бы свою жизнь, она дороже.
Но самолеты-крестоносцы пролетали все мимо и мимо; изменились немцы, раньше за одним мальчиком-пастушком на лугу гонялось три-четыре самолета, пока не расстреляют безвинную поросль Руси, а теперь и князя в карете не замечают!
Едва кончалась бомбежка, улетали фашистские самолеты, насытив горем и ненавистью Русское безвинное приволье, машина нервно выруливала на шоссе, и спешно, нервно, мчалась на Вязьму.
Охранники молча поглядывали на пленника, пленник молча, исподлобья, посматривал на охранников. Ехать было страшно, скорее умирать было страшно! Куда его везли, он не знал! Слышал, в Вязьму, к прокурору? Но в Вязьму ли? И к прокурору? Он, узник ─ полная беззащитность! Беззащитен перед смертью, как муравушка, что ползет по тропе с дичью, на застолье детям. Наступил нечаянно человек, и нет муравья! Даже не узнает, жил ли?
Его вполне могут завести в лес ─ и расстрелять! Чего везти его в Вязьму, под самолетами, под кипенью бомб? Велика радость, гибнуть за Каина России! Но, скорее, его и так везут подальше в лес; капитан государственной безопасности отдал княжеское повеление, расстрелять как падаль. При попытке к бегству! И сбросить в яму, засыпать хворостом; кто будет искать земное иудово окаянство?
Жалко будет пули, зарыть живьем в землю!
Сержант-охранник все курит, и смотрит, смотрит изучающе в глаза пленника! Что там увидел? Тоску? Любовь к жизни? Страх, что испытает, когда будут расстреливать?
Тяжело ехать в машине и ждать, ждать каждое мгновение смерть!
Тяжело!
Тяжело слышать свою беззащитность!
И безвинность!
Не смерть страшна, страшна ─ безымянная могила!
Кружат, хороводом кружат в небе черные коршуны-мысли. И все в траурном одеянии, в траурном одеянии! И вот уже думаешь, во спасение, нее вырвать ли карабин у охранника? Не расстрелять ли сволочь, с малинными петлицами, какая без Бога в душе мучила пять суток? Болью прожгли на миллионы лет! Но потом куда бежать?
VI
Вяземская прокуратура располагалась в старинном дворянском особняке. У парадного крыльца стоял часовой. Прокурора на месте не оказалось. Контрразведчики из Темкино ждать его не пожелали, сослались на срочные государственные дела. И передали Башкина, вместе с документами, под расписку, охране.
Ему развязали руки, провели на второй этаж и усадили в коридоре на скамью. Приставили часового, матроса в кожаной тужурке, с револьвером в деревянной кобуре, какие носили еще в Гражданскую. Ждать пришлось долго. Уже наступила ночь. Были плотно зашторены высокие окна. Враг стоял у Вязьмы. Фашистские самолеты бомбили город днем и ночью.
В первые мгновения Александр Башкин сидел отрешенно от жизни, словно на погосте, у выкопанной могилы. И слышал в себе скорбную обреченность. Глаза несли обостренную жалость к себе и молитву к Богу; Бог живет в каждой русской душе. Но вскоре тревожность сошла, душа успокоилась. Он услышал себя свободным человеком, и даже испытал сладость, что живет, что есть на земле! И совсем-совсем не горькая земная правда! Живет при солнце, при добре; никто не вызывает на допрос, не бьет сапогом в лицо, не прожигает сердце злобою и ненавистью палача Пилата! И мало-помалу, узник уснул. И спал по покою, по сладости, как в колыбели, под ласкою мамы.
Матрос толкнул его без злобы:
─ К прокурору!
В скромном уютном кабинете, за письменным столом, под портретом Берии сидел молодой человек в форме юриста. Он пил чай, ел хлеб с воблою. Вежливо попросил матроса в тужурке положить документы задержанного на стол и обождать в коридоре.
Предложил Башкину сесть.
─ Звонил прокурор. Велел с вами разобраться. Выписать ордер для ареста, дабы отправить в Вяземскую тюрьму. Сам он прибудет позже, ─ деловито сообщил юрист, складывая в ящик стола вечернюю трапезу.
У Башкина пугающе дико закружилась голова, комната разбежалась в веселом карнавале. Он ужаснулся, как так? Воблу в стол? Хлеб и сахар в стол? Только усилием воли он сохранил равновесие, не позволил себе упасть со стула.
Помощник прокурора заметил боль юноши:
─ Что с вами?
─ Дайте хлебушка, ─ попросил узник и протянул руку, словно стоял нищим у церкви.
─ Разве вас в НКВД не кормили? Вы голодны?
─ Кормили. Дубинками и коваными сапогами. Все тело измучено, двинусь, и все больно.
Хозяин кабинета позвонил и наказал секретарше быстро принести кружку крепко заваренного чая. Выложил на стол паек. Башкин съел воблу в один момент, проглотил хлеб, не успев разжевать его. Жадно выпил чай, обжигая кипятком горло. И только теперь устыдился торопливости. Виновато посмотрел на юриста.
Он, тем временем, изучил протоколы допросов, вежливо предложил:
─ Расскажите о себе. Кто вы? Откуда? Кто мать? Отец? Почему оказались в НКВД? Почему вам предъявлено обвинение в шпионаже в пользу фашистского зверья?
─ Разве оно не снято? ─ с необычною тревожностью встрепенулся пленный воин.
─ В протоколе указано: бежал из воинского соединения, дезертир. Арестован контрразведкой «СМЕРШ» как шпион. Доказательств вины, предательства не собрано. Сам задержанный вину отрицает. Так что, вам нечего беспокоиться, Александр Иванович! Вам и ─ как шпиону, судьи Военного трибунала вынесут приговор о расстреле, и как ─ омыленному беглецу-дезертиру, вынесут приговор о расстреле!
Для вас надежда на спасение ─ прокурор! Он может отправить вас в Вяземскую тюрьму на суд Военного трибунала, может отправить в штрафную роту! Где тоже не сладко, в первую же атаку гибнет вся рота! Все во власти командира!
─ Спасибо за разъяснение, ─ склонил голову узник от обреченности. ─ И по чести поведал всю свою жизнь.
Помощник прокурора долго молчал, словно слушал про себя полонез Огинского.
Наконец представился:
─ Меня зовут Василий Васильевич Васильев. Вы повторяете мою юность. Я тоже увидел свет в деревне. Отец председатель колхоза. Мальчиком пахал землю, видел вокруг горькую человеческую боль, униженность. И решил стать адвокатом, защитником, а попал в прокуроры, в обвинители.
─ Есть разница?
─ Великая, солдат! На суде обвиняют детину в убиении отца и матери! Прокурор требует смертную казнь! Что говорит адвокат? «Он сирота! Какая ему смертная казнь! Господа, это немыслимая жестокость!»
Юрист весело посмеялся, узник улыбнулся; ему порадоваться было нельзя, все болело; губы были криком ужаса и боли.
Став серьезным, он произнес:
─ Если вам верить, Александр, вы хорошо воевали. Героем! Я наслышан о Тульском коммунистическом полку. Он за Смоленск, за Ярцево полег костьми весь. Смерть есть зло. Но смерть за Отечество облагораживает ее. Ваша гибель ─ от бессмыслицы, от загадочного рока. Зачем же было так самонадеянно себя вести? Вы умрете даже не как животное, олень там или медведь, а как разбойник без роду и племени. Без похорон! Без захоронения в святорусском кургане, без плача россиянки, матери. И Отечества. Где, где причины вашего побега?
Юрист поиграл кнопкою настольной лампы.
─ Признаться, мне жалко вас. Вы еще не жили, и умирать! Неужели вы не знали Указ Президиума Верховного Совета СССР от 6 июля 1940 года «Об усилении ответственности за самовольные отлучки и дезертирство»? Дезертирство, измена Родине ─ родные сестры. Они богини мщения!. Не знали?
Воин честно признал:
─ Конечно, просвещали.
─ Зачем бежали? С каким смыслом?
─ Остро хотел на фронт. И теперь хочу! Хочу! Фашисты окружили столицу! Танки Гудериана прошли к Москве только через Мордвес, через Пряхино! Тревога живет, тревога! Там же матерь Человеческая, братья, сестры, россиянка Капитолина! Там же теперь немец, где моя маленькая родина, а я плену! В плену, словно у фашистов? Я бить врага хочу! Во мне сила Ильи Муромца! Я бить врага хочу! Слышите, а вы меня, воина, на распыл! На расстрел! Безвинного!
Помощник прокурора возразил:
─ Как же вы безвинны, если нарушили воинскую присягу!
─ Так и безвинен, что я присягу не нарушал! Отечество не предавал! Я чист перед Русью! Да, я совершил побег из училища, да, это глупость, это мальчишество! Я осуждаю себя! Каюсь! Что ж! Стреляйте, расстреливайте, бросайте в безвестную могилу и засыпайте смоленскою землею, которую я полил кровью. Все будет справедливо и человечно!
Он вошел в гнев:
─ За глупость воина Руси ведете на эшафот, на расстрел, роскошно живете, господа! Я куда бежал от самодура-командира, которого и надо расстрелять за издевательство над молодым воинством? Скажите, куда бежал? В Пряхино, на чердак дома? В мордвесские леса? Я бежал на фронт! И до фронта остался один марш-бросок! Я добровольцем пошел воевать за Русь! И если живу, то чудом! И что получается, у фашиста выжил, ─Тысяча и Одна Смерть шла на меня, а у вас, у руссов, получается, выжить не придется! Слезы горевые, человеческие! Слезы!
Помощник прокурора дал ему по покою поплакать:
─ Девушка у вас есть?
─ Есть, Капитолина. Ребенок она еще. Никто не всплакнет, кроме матери. Еще Русь всплакнет! Верую, склонят березы поминально ветки на мою могилу.
Прокурор приехал ближе к рассвету. Не один, с генералом и полковником. И был очень долго занят. Василий Васильев едва дождался, когда он освободится. И быстро поднялся на третий этаж по ковровой дорожке мраморной лестницы.
Кабинет военного прокурора обустроен более элегантно. Он светел и просторен. На стене, под стеклом, большой портрет Сталина. На овальном письменном столе горела настольная лампа под голубым абажуром, стояли канделябр, изображал три женские грации с факелами в руке, часы с сигналом, отлиты летящим над Русью белым лебедем. Ломберный столик с наборною столешницею. Мраморный камин. Кресла из красного дерева, обитые кожею. Высокое зеркало в простенке. Паркетный пол устлан ворсистым ковром. Сам прокурор Андрей Ильич Доронин, с красивым, барски холеным лицом, сидел в золотом пенсне и быстро, размашисто подписывал бумаги, которые подавала секретарша в белой кофточке, зябко кутаясь в шаль.
Освободившись, неторопливо, величественно посмотрел на помощника:
─Разобрались, милейший? Не вижу ордера на арест. Нашли, что он не отщепенец? Задержан контрразведкою «СМЕРШ» несправедливо?
Молодой юрист ответил четко:
─ Солдат Александр Башкин задержан карательными органами строго по Закону военного времени, Андрей Ильич! Он бежал из воинского соединения. И подлежит наказанию как дезертир, изменник Родины по 194 статье Уголовного кодекса Российской Федерации.
─ В чем же дело? Почему не подготовили направление в Вяземскую тюрьму? Я не разберу, что вас мучает?
─ Смерть безвинного человека.
─ Безвинного? Почему? Разве он не сбежал из Красной армии? И не есть дезертир?
─ Сбежал. Но он сбежал на фронт.
─ Вы уверены?
─Абсолютно, Андрей Ильич! Он не враг! Я прошу проявить милосердие. Не отправлять его в тюрьму. Вы же знаете, Военный трибунал вынесет смертный приговор. И солдата расстреляют. Он еще совсем юноша. Чист душою, как Христос! Пошел добровольцем биться с ордами Гитлера! Воевал в Тульском коммунистическом полку, защищал Вязьму, Ярцево. Вы же знаете, полк погиб весь, но не отдал город врагу. И сам он воевал храбро, представлен к награде. Чудом остался жив. Был ранен, и это спасло его! Справедливо ли убивать безвинно отважного воина, кто еще может пригодиться Отечеству?
─ Почему же ваш храбрец, ─ усомнился прокурор,─ посмел дезертировать из армии?
─ По глупости. Юношеская бесшабашность! Не заладилось с командиром. Оставалось одно, бежать на фронт! Солдата Башкина контрразведка «СМЕРШ», смею заметить, задержала у Вязьмы, у линии фронта, а не в деревне Пряхино, на чердаке дома!
Военный прокурор был непреклонен:
─ Полагаю, трибунал учтет роковые обстоятельства, исследует причины побега. И вынесет щадящий приговор. Почему вы, мой молодой коллега, считаете, что его расстреляют? Солдата могут отправить на Соловки, на урановые рудники. Наконец, в штрафной батальон! Что заслужил, то и получит.
Юрист Васильев не сдавался:
─ Кто там станет разбираться, Андрей Ильич? Вяземская тюрьма переполнена преступниками! Там сидят командиры и солдаты, кто трусом бежал с поля битвы, прятался в лесу, переодевшись в гражданское, бессовестно бросил партийные билеты в костры-пожарища. Они ублюдки, они Каины Руси, они бросили Родину в беде, предали свою матерь Человеческую в самое тревожное время, и святым именем Отечества должны быть беспощадно караемы!
И вот на эшафот Военного трибунала, где уже стоит палач с обнаженным мечом, вступает юноша от Христа! Праведник жизни, праведник Руси, кому страшно видеть в огне-пожарище свое Отечество! Воин живет в Отечестве; боль Отечества, его боль, горе и страдание Отечества, его горе и страдание! Он уже бился за страдалицу-Русь! Он воин! И снова готов биться с мечом против Челебея на своем Куликов поле!
И что судьи? Судьи читают, нарушил присягу, предал Родину! Все, смертная казнь! Все, все из Вяземской тюрьмы поступают на эшафот Военного трибунала с одним обвинением, Андрей Ильич! Кому из судей взбредет в голову разбираться в причине о невольного, неосмысленного дезертирства воина Александра Башкина, кто уже густо оросил кровью Русскую землю, кому обещан орден Красного Знамени!
Он внимательно посмотрел на прокурора:
─ Я прошу вас, Андрей Ильич, проявить человечность и отправить солдата Башкина в Вяземский добровольческий полк. У врат города Вязьмы стоит фашист! Скоро начнутся его штурм! Защитники нужны! Если воину Башкину выпало умереть, то умрет с честью. На поле брани, за Русь святую.
─ Эх, эх, мой юный коллега, ─ осудительно произнес прокурор. Чему вас только учили в институте?
─ Нас учили, что наказываться должно только осмысленное злодеяние, ─ без вызова произнес юрист.
─ Мы законники! Для нас интересы государства превыше всего! Говоря о жалости, о снисхождении к нарушителю воинского долга, вы, Василий Васильевич, совершенно забыли, что находитесь не в богоугодном заведении, ─ глаза прокурора за пенсне налились праведным гневом, он размашисто, напористо подписал ордер. ─ Немедленно отправить задержанного дезертира в Вяземскую тюрьму, на суд Военного трибунала!
Он подумал:
─ Если уж вы, Василий Васильевич, повинуясь милосердию, так обеспокоились за судьбу воина-дезертира Башкина, я вам разрешаю, лично осуществлять контроль за ходом его уголовного дела.
Глава одиннадцатая
ВОЕННЫЙ ТРИБУНАЛ ПРИГОВАРИВАЕТ ВОИНА К СМЕРТНОЙ КАЗНИ. ПОСЛЕДНЯЯ НОЧЬ ПЕРЕД РАССТРЕЛОМ
I
Была глубокая, угрюмая ночь, когда Башкина посадили в крытый брезентом, простреленный грузовик. И отвезли в тюрьму. Она располагалась в лесу. Вокруг густо стояли ели, пихты, сосны. Само здание обнесено высоким каменным забором, сверху тянулась рядами колючая проволока. В два угла стояли охранные вышки, где прогуливались часовые, стояли пулеметы, огромные прожектора.
После сверки документов, арестованного Башкина препроводили в камеру 21. Камера забита заключенными до отказа. Нар нет. Все спали на полу, вповалку, кто на ком. Все измучены. Кто рыдает во сне, кто дико храпит, кто бессвязно выкрикивает: «Командир, танки! Зеленые драконы ползут. Тьма! Где гранаты, сучьи комбаты? Баб жмете, а нам не даете? Вперед за Сталина!» Из другого угла с плачем неслось: «Зачем родила мужиком, мама? Был бы я девкою, всю бы жизнь ласкали и целовали, от фронта оберегали!»
Лампочки горят синие. Камера, как морг. И странно, что по камере-моргу двигаются живые люди; синие лампочки меняют цвет лица, все лица бледные, призрачно-таинственные. Не убавишь, не прибавишь, ты воистину странствует в первом круге ада по Данте. Только, кем? Данте с Лаурою? Или привидением от загадки? Духота страшная, до забытья. Башкин попытался было пробраться к окну, поближе к свежему воздуху, но пробраться сквозь хаос, столпотворение тел, какие измученно переплелись друг с другом, как сиамские близнецы, было бессмысленно.
Узник прилег у двери, у параши, и в мгновение погрузился в сладостный сон, уткнувшись в крестовину рук, как в подушку. Снились ему хлебные нивы в родном Пряхине, речка Мордвес с мужиками, ловившими сетями рыбу, яблоневый сад в белоснежном цветении, бегущая по лугу девочка-россиянка с двумя косичками, скорее всего, Капитолина, льнущий толстыми, влажными губами конь Левитан; он пасся в ночном, у костра. Конь обрадовался свиданию с юным хозяином, кто, временами с ладони кормил его сахаром, и теперь в радости пытался поцеловать человека с доброю душою. И Башкин желал обнять и поцеловать друга, но неведомая, таинственная сила отторгала его от коня, никак не величала его благородное желание, сколько, ни пытался в бессилии протянуть руки, обнять его шелковистую гриву.
Конь упрямо, зловеще бил копытом, рыл землю. И вскоре образовалась могила. Исчезала дивная светлынь, и в мир ворвался плач женщины в траурной вуали, и плач тот был страшен, ибо нес в себе бесконечную тревожность и волчью надрывность. Конь Левитан смотрел на человека повинно, кротко и виновато. И бил и бил копытом. И все больше засыпал ее землею.
С живым человеком!
Вокруг стояли люди, его, пряхинские, и на казнь живого человека смотрели с отчаянием, в тоске, но тут вдали зазвонили колокола церкви. И люди с хором плакальщиц, все птицы, все звери, вся земля закричали в едином устремлении ─ пощады безвинному, милость безвинному!
Но никто не мог спасти Башкина. Конь все больше засыпал его землею, он задыхался, глаза остывали, смотрели укором в пространство. И даже резкое, повелительное желание вырваться из могилы, из земли, не давали результата. Сила истаяла! Одно солнце не оставило безвинность. Спрыгнуло в могилу. И погасло! И наступила тьма. Вечная.
И снова с гибельною тревожностью, с несказанною тоскою зазвонили колокола. Где? Откуда? Вокруг не было ни одной церкви. Была церковь в Пряхино, и та разрушена! И только открыв глаза, Александр Башкин понял, ─ по этажам тюрьмы звенели колокола громкого боя. И надзиратели, звеня ключами, оглашенно кричали:
─ Подъем, сукины дети! Выходи из камер на построение! Живо, живо, бесье племя!
Заключенные двадцать первой камеры тоже торопились в коридор. И в беге, со сна, спотыкались о лежащего Башкина, наступали сапогами на живот, на грудь. Староста камеры Султан Султанов в злобе кричал надзирателю, полагая, что человек мертв:
─ Сволочи, вы чего « жмурика» в камеру с живыми людьми затолкали! Мы еще люди, опричники проклятые! Вам это не интересно?
Башкин с трудом выбрался из-под ног орущей, бегущей толпы. Так бы забили, затоптали сапогами до смерти. Когда открылось недоразумение и солдат-узник с тихим, траурным стоном, с болевыми толчками в сердце, застегнув разорванную гимнастерку, встал в строй, никто не извинился, не покаялся, не посмотрел ободряюще. Никого не потрясла мысль, что могли затоптать человека, своего же, обреченного, одинаково вымученного страданием.
Напротив, шутили, злословили:
─ Обнял парашу, как тетю Машу! Силен солдат, и в тюрьме красотке рад!
─ Не растерялся, да чуть в раю не оказался!
─ Могли и затоптать! Воскрес из мертвых. Счастливчик! Будет жить! Судьи Военного трибунала приговор на расстрел не вынесут. Кто воевал, знает, два снаряда в одну воронку не попадают! Какая статья грозит, служивый?
Башкин пожал плечами. В это время из канцелярии вышел корпусной надзиратель, зычно скомандовал:
─ Отставить разговоры в строю, вражье племя! У всех у вас одна статья 58, измена Родине! И у каждого из тюремного чистилища два выхода ─ штрафной батальон или казнь у расстрельной стены.
После переклички, арестованные сдают белье в прожарку, получают мыло. шествуют в баню.
После банного целительного омовения Башкин, узник поневоле, почувствовал себя лучше, облегченнее. Его тело, измученное побоями, вновь наливалось живительною силою, праздником жизни. Он даже совершенно не чувствует боли, когда надзиратель, в иезуитскую радость, больно подкалывает его штыком, ведя по коридору в другое здание, и затем с силою, в последнюю себе усладу, бьет узника прикладом, вталкивая в камеру за номером 53 ─ слуги дьявола любят унижать беззащитность.
На беду подвернулась раненая нога. И Башкин больно, распластанно падает на каменный пол. В камере весело смеются. Какое-никакое, а развлечение! К распятому узнику, кто мучается от боли, смело подходит коренастый парень, помогает встать, ведет в свой угол, ближе к зарешеченному окну, из щели которого дуют легкие морозные ветры.
Парень с тоскою смотрит на Башкина. Дает ему хлеб и сало:
─ Подкрепись, солдат. Как зовут?
─ Сашка, ─ он с трудом надкусывает свинину.
─ Статья расстрельная?
─ Дезертирство. Невольное.
─ Это вышка. Но будем верить в лучшее. Так? В тюрьме нельзя унывать! Будем дружить; желаешь? Меня зовут Петр Котов. Жил в Ярославле. Рыли окопы у Вязьмы! И танки с крестами. Тьма! Мы все врассыпную. Не с лопатами же воевать. Чекисты отловили, дали срок. За побег и отречение от трудовой повинности! Бежал из тюрьмы НКВД. Снова перехватили. Так что я дважды дезертир. Но воинскую присягу не принимал. Вышку не дадут.
Ты держись меня, вижу, ослаб. Заступлюсь. Я не люблю, если слабого унижают. На нож иду. И бит ворьем. И сам бил. И рана есть от ножа возле сердца, а все не успокоюсь. И в тюрьме надо оставаться человеком. Верно? Даже перед расстрелом. Для себя. Перед совестью. Не умирать же сволочью.
Это я тебя от гибели спас в двадцать первой камере. Щитом встал поперек толпы. Так бы затоптали. Ты чего, сдался?
Солдат-узник собрал хлебные крошки, положил в рот, пожевал:
─ Не сдался! Ослаб! Пять суток били в контрразведке «СМЕРШ», выстоял! Никому не взять Сашку Башкина!
─ Это уже муж, ─ похвалил узника Петр Котов. ─ В тебе сила неиссякаемая! Ты русс! И вижу, силен духом!
И он запел песню с легким блатным надрывом:
С одесского кичмана бежали два уркана,
Бежали два уркана в дальний путь.
На вяземской малине они остановились,
Они остановились отдохнуть.
II
Начались допросы. Они были беглые, скороспелые. И надеяться на человечность совершенно не приходилось.
Следователь не скрывал, узнику-воину Александру Башкину вменялась Пятьдесят восьмая статья Уголовно-процессуального кодекса, измена Родине, какая предусматривает расстрел.
Суд Военного трибунала без защиты!
Чего ожидать?
Возвращаясь с допроса, он старался побыть наедине с собою, и если это удавалось, тревожные звуки тюрьмы переставали существовать. На крыльях памяти он снова и снова опускался в Пряхино. И садился рядом с матерью; только Мария Михайловна давала ему душевное успокоение, утоляла слезы.
Общение было, как у бога Антея с землею!
С русскою землею!
Милая, мама! Вот и снова с тобою я, Сашка, басурман. Я далеко, в Вяземской тюрьме. Но мыслями с тобою. Я вижу тебя, каждую морщинку вижу на лице. Вижу сквозь тюремную решетку. И в бессилии чувствую твою печаль. Мне очень тяжело, мама! Полная обреченность. Полная! Заканчивается земной путь. Палачи сколачивают мне эшафот. И завязывают петлю. Не так я хотел умереть. Я хотел умереть за правду и свободу. За свою Россию. Героем, а умру иудою! Я только что вернулся с допроса. В тюрьме не бьют. Не пытают. Уже дивно жить! Да и чего избивать обреченного на расстрел? Какая радость? Он уже погас ─ как Вселенная. И все звезды-чувства тоже остыли. Бей не бей, боли уже не знает! Жизнь ушла из человека. Но могут и бить! Могут! Это люди с ледяным сердцем, мама! После избиения в «СМЕРШе» боли во мне живут ужасные. Лицо распухло, руки не согнуть в локте. Я не успевал вытирать кровь, она лилась и лилась. Зачем так бить? Без милосердия?
С того я и понял, живым из тюрьмы мне уже не вернуться! Я обречен на страшное бесправное судилище. Не только я, все, кто попал в темницу. На волю никого не отпускают. Виноват, не виноват, раз попал ─ каторга или расстрел! Такая разбойничья жестокость оскорбляет чувства каждого пленника, мама! Мы еще не судимы, но уже лишены гражданских прав. И самое страшное, права на защиту! Мы изгои, мы чужие в своем Отечестве. Нас просто гонят в могилу! Надменные палачи живы одним: побольше, побольше расстрелять. Без милосердия и пощады!
И кого, мама? Воинов России! Гордость и святость ее! Да, да, мама, все, кто в тюрьме, все воины России! Веселые, неунывающие, острые на шутку, словно и не в тюрьме, не перед казнью! Руссы одним словом, руссы! Было! Ошиблись! Но прости воина! Безумие, одно безумие! Правдою горя фашист стоит у врат Москвы, мы готовы сражаться в штрафном батальоне, а чекисты убивают воинов, которые должны отогнать заморское чудище. Кто же предает Россию?
Больно, мама. Больно!
Со страхом жду суда Военного трибунала!
Знаю, вынесут расстрел, но надеюсь на спасение! Почему надеюсь, не знаю? Надежда ─ вечная лгунья! Но я надеюсь. Почему? Почему? Так устроен человек, мама! Да и страшно умирать в восемнадцать лет.
III
29 сентября солдат-узник был вызван на суд военного трибунала. Зал заседания невелик. Удлиненный стол накрыт красною скатертью. На стене портрет Дзержинского. Как притихшие утята, стоят венские стулья. Высокие окна на улицу зашторены. Судьи ─ начальник областного Смоленского управления НКВД, в ранге комиссара государственной безопасности третьего ранга, секретарь Вяземского горкома партии, три юриста в ранге полковника.
Председатель трибунала властно спрашивает:
─ Ваши фамилия, имя, отчество? Когда родились? Где?
В ночь перед судом воин Александр крепил себя, желал выйти на суд-эшафот, как инок Пересвет на Куликовом поле, держа на весу меч-копье для Челебея, дабы судьи не увидели его униженным, человеком без чести и совести, кто готов ползать перед палачом-Пилатом, как скользкая змея по полу, целовать сапоги, дабы оставили жизнь. Да и для себя надо оставаться человеком с достоинством! И себя не надо унижать страхом! Он есть суть Христа! И суть солнца! И суть великого князя Руси Буса Белояра, кто храбро сражался с германцами и теперь стоит перед королем, ожидает казни! И кого распнут на кресте! И кого в народе назовут Русским Христом! Он суть каждого русса, кто храбро бился за Отечество, но кого тоже с воеводами идолище поганое повело на распятье!
Никто не стал предателем Руси!
Никто не стал Каином для себя!
Он тоже стоит у распятья! Почему он, праправнук предков-героев, должен стать Каином для себя?
Но быть Пересветом не получается. Его мир еще живет по боли, по скорби! Растревожить любовь и целомудрие к себе и жизни не получается. Встает и встает пред ликом Палач из контрразведки, кто избивал безжалостно безвинность и беззащитность, и на Суд Размышления тут же, в мгновение являются Боль и Скорбь. И начинает Боль сжимать все тело скользкими змеями!
Александр Башкин старается выпрямиться, но не может Он стоит сутуло, лицо бледное, осунулось, глаза впали. Он храбрится, но себя на эшафоте слышит, видит Палача, и слышит свое мученичество. Еще он слышит выстрел в себя, и как только слышит выстрел в себя, с дикою силою охватывает тоска! Но он держится. Хранить достоинство. На все вопросы он отвечает твердо, обстоятельно.
Председатель трибунала спрашивает заученно:
─ Вам известно, что вы обвиняетесь в тягчайшем преступлении, в измене Родине?
─ Да, известно. Следователь в тюрьме Марк Давыдов, кто вел мое дело, ознакомил с обвинительным заключением.
─ Вы подписали его?
─ Да, подписал.
─ Значит, согласны с обвинением?
─ Не в полную силу, ─ с достоинством отвечает Башкин. ─ Мне было 18 лет, когда я ушел добровольцем сражаться за русское Отечество! Был не раз ранен. Политрук роты Ипполит Калина сообщил о награде! Вы считаете, там, в Смоленском сражении храбро, не жалея жизни, мог сражаться предатель и Каин Родины? Да, я самовольно покинув воинскую часть. Да, я поступил необдуманно, по глупости! Но в моем преступлении не имеется злого умысла. Я бежал на фронт!
Председатель трибунала выдает легкую усмешку, намеренно извращает смысл сказанного:
─ Вы бежали на фронт, но необдуманно и по глупости! Так вас надо понимать?
Башкин слышит, как омрачилась душа. Даже захотелось себя пожалеть. Все чувства ушли в грусть. Суд ─ игра с бесами! Не суд, а тайное судилище. И приговор уже вынесен, оттиснут на гербовом бланке черными буквами. Есть ли смысл на таком судилище доказывать свою невиновность? Что ты не враг народа? Боги Руси даже капельку-ягодку от милосердия, от человечности не уронили в чашу судилища, в человеческие души.
Одна скрытая холодность!
Одно скрытое равнодушие!
Вкруговую, один человек-палач, один человек-казнь!
Александр Башкин испытывает в себе бунт:
─ Вы правы, гражданин председатель Военного трибунала, я бежал на фронт и необдуманно, и по глупости! Знал бы, что попаду на суд к вам, не бежал бы!
Председатель суда вызов принял. Но разгонять шары не стал. Получилось все по уму, получилось ─ дерзость на дерзость! И что ценно, в дерзости узника была запрятана истинная правда, ─ не бежал бы по глупости на фронт, не попал бы на суд Военного трибунала. Все верно! На что обижаться? Поразил два зайца,─ и себя не дал унизить, и поставил на место генерала-чекиста,
Но суд надо продолжать:
─ Значит, вы не считаете себя дезертиром?
─ Сами поразмыслите, гражданин председатель Военного трибунала, как я могу быть дезертиром, Каином Родины, если я бежал на фронт, где смерть и пожарище, где пожарище и смерь, дабы сражаться за Родину!
Башкин смело посмотрел:
─ Я не могу быть дезертиром!
Председатель суда спросил строго:
─ Вы, получается, и присягу не принимали?
─ Почему? Принимал!
─ Я вами доволен, что вы тут не лжете, не изворачиваетесь, как змея под рогатиною, ─ похвалил его генерал-чекист. ─ К присяге прикладывается Указ Президиума Верховного Совета СССР от 6 июля 1940 года «Об усилении ответственности за самовольные отлучки и дезертирство»? Вы совершили самовольную отлучку, нарушили присягу! И значит, есть Каин Отечества! Не согласны?
Башкин глухо уронил:
─ Ваша правда. Во мне живет обостренная справедливость! Я не выдержал издевательств старшины! Останься я в Тесницком лагере, я бы избил зверя! Я не мог принять каторгу! Я воин, воин от чести, от совести, от русского горя! И видел себя там, где руссы сражаются за свое Отечество! И во мне взорвалось бунтарское чувство.
─ Готовы ли вы покаяться в своем грехопадении?
─ Да, я каюсь.
─ Можно ли ваше раскаяние понимать так, что вы осознаете свое преступление, свою вину?
Башкин кивнул:
─ Да, я осознаю свою вину.
─ Вам предоставляется последнее слово.
─ Что я могу сказать? ─ пригладил стриженую голову обреченный солдат. ─ Мне нечего сказать в оправдание. Я знаю, что меня ожидает. Смертный приговор. И расстрел. Но, поверьте, перед вашим судом я стою как человек с чистою совестью. Я не предавал Родину. Я желаю ей только добра. И скорой победы! Я не заслуживаю сурового наказания. Смерти от имени России! И прошу отправить на фронт в штрафные батальоны. Я кровью искуплю свою вину, о которой до конца не ведаю.
Я признаю, да, я совершил ошибку, нарушил воинскую присягу. Но я не враг народа, не предатель, не дезертир. Я сбежал из артиллерийского училища на фронт. Поверьте! И готов там оказаться! Разве моя Родина выиграет, если я буду убит у вас, как враг народа, в тюрьме? Какой смысл убивать живую человеческую душу, если я проклинаю себя за побег? И очень раскаиваюсь! И еще раз винюсь перед вами, моими судьями, судьями моей жизни и смерти. Я умоляю вас, пусть будет приговор с отсрочкою. Пусть меня расстреляют после победы! Мне больно умирать врагом народа! Дайте умереть в бою, воином Руси!
Накоротке посовещавшись, председатель Военного трибунала встал. Его волевое и красивое лицо, подернулось дымкою строгости.
Он стал заученно читать:
─ На основе проведенного в Вяземской тюрьме судебного разбирательства, Военный трибунал установил полную вину Александра Ивановича Башкина. Именем Российской Советской Федеративной Социалистической Республики, с учетом военного времени, за проявленную трусость, за дезертирство, порочащие звание воина Красной армии, он приговаривается к высшей мере социальной защиты ─ расстрелу. Приговор окончательный и обжалованию не подлежит. Исполнить его должно за сутки.
Грозный судия внимательно и, казалось, с сочувствием посмотрел на осужденного:
─ Имеются ли у вас вопросы к военному трибуналу?
Александр Башкин пожал плечами. Он еще не осознал в
полную меру, что произошло.
─ Вроде все ясно, ─ он смахнул слезу.
─ Есть ли последняя просьба?
─ Да, имеется. Когда я буду расстрелян как враг народа, я бы хотел, чтобы были защищены от преследования мои мать, братья и сестры.
─ Товарищ Сталин сказал: сын за отца не отвечает. Как и мать за сына. Вам достаточны гарантии великого вождя?
─ Да, естественно.
─ Кого желаете известить о своей смерти?
─ Мать, конечно.
─ Военный трибунал, учитывая вашу молодость, разрешает вам написать прощальное письмо матери Человеческой.
Башкин подумал.
─ Мне страшно ей писать. Нельзя ли выслать похоронку в Пряхино, что ее сын погиб в бою? Мама ляжет живою в гроб, если узнает о моем расстреле в тюрьме.
Председатель трибунала важно захлопнул гербовую красную папку с материалами приговора:
─ Ваша мать, Мария Михайловна, не узнает о вашем расстреле в Вяземской тюрьме. Мы не отмаливаем чужие грехи. То есть, не сообщаем родственникам о смерти приговоренного, где он похоронен. Вы изменник Родины. И, значит, вне закона. Вас уже нет в соборном списке граждан СССР.
Он подозвал к себе старшего конвоя:
─ Сопроводите приговоренного в камеру смертников.
Офицер с малиновыми петлицами подтянулся:
─ Слушаюсь, товарищ комиссар государственной безопасности третьего ранга! ─ И, повернувшись к Башкину, беззлобно произнес:
─ Пошли, солдат.
IV
В камере смертников находились два человека. Молодой солдат, с округлым лицом, с широкими, татарскими скулами, он совершенно обезумел от нашествия страха. Зрелище было угнетающее. Воин обратился в истоптанную траву на лугу, иссушенную солнцем. Сидел на полу, гимнастерка расстегнута до пояса, голова опущена, как на плаху, ─ руби, палач! Полное смирение. И покорность. Глаза пустые, там давно-давно погасло солнце. Да и земля исчезла. Во всю землю одна загадочная странность ─ вырытая могила! Все уже было чуждо ему: сама камера, мысли о казни, шаркающие стуки сапог надзирателя в коридоре, осенняя дивная промерзлость за зарешеченным окном, багряные листья берез, освещенные закатным солнцем. Смертник только дышал. И даже не дышал, а, скорее, засасывал воздух, заглатывал его, как заглатывают умирающие люди в последнее мгновение.
Другой человек, приговоренный к казни, вел себя мужественно. Он без устали ходил по камере. В тишине было слышно, как страшно, прощально поскрипывали его хромовые сапоги. Изредка узник-мученик сжимал горло ладонью, сжимал до тоскующего крика, словно старался ощутить, что такое смерть? Как является? И больно ли будет падать на землю с пулею в сердце? Бинтовая повязка на голове в это время еще больше густела кровью. Александр Башкин знал полковника. Они вместе сидели в камере 53. Он храбро воевал с врагом на Духовщине. Дивизия была окружена, с боем выходили из огненной круговерти. Осталась горстка. Вокруг фашисты. Осмысленно переоделись в гражданское платье, зарыли в землю документы, знамя дивизии. Жили одним: спастись и дальше бить фашиста! Но Военный трибунал посчитал воинов трусами, приговорил к смертной казни. Нельзя закапывать в землю Знамя дивизии! Конечно, нельзя! Не спрятал бы, скорее застрелили!
Где логика?
Где ценность человеческой жизни?
Пожелал спастись для Руси, ─ получи пулю в самое сердце!
Полковник Павел Павлович Розанов вел себя с честью и в тюремной камере. Она была набита ворами, блатными. И ранеными офицерами. Воры держали власть. Полковник мятежно восстал против унижения, власти насилия. Один из воров был сильно оскорблен непослушанием, бросился с ножом на гордого офицера. Но получил удар такой силы, что отлетел к параше с проломанною челюстью. И больше не встал. Так и лежал неподвижно на каменном полу всю ночь, тихо и печально постанывая. Больше смелого не нашлось. Камера стала жить по законам человечности.
Теперь полковник в гробовом молчании, с холодными глазами, мятежно и властно ходил, как отсчитывал шагами свое последнее земное время. Но вот он остановился, посмотрел в пространство, с болью сказал:
─ Неужели Сталин ничего не знает? Не знает, как жестоко мучают боевого офицера, безвинно убивают?
Башкин ничего не ответил, он не знал, надо ли отвечать? В камере обреченные слышали себя сумасшедшими и общались с собою и Богом. Он прилег к окну; ему постоянно не хватало воздуха. Было тяжело дышать. В контрразведке, скорее, отбили легкие. Мало-помалу, осмотрелся. Камера смертников маленькая и холодная. Окно зарешеченное, ткет паутину паук ─ живое существо, с кем еще можно услышать человеческую правду жизни, где не узнаешь боли, слез, крови, саму смерть.
Странно, но Александр Башкин не чувствовал гибели. Он знал, она придет, неистощимая повелительница каждого человека, придет с рассветом! Неизбежно прозвучит выстрел! И его не станет. Страшно? Конечно, страшно! Но мысли о казни не мучили. Даже пробивалась радость, наконец, отмучился. И желал одного, скорее бы расстреляли! Смерть виделась как неизбежность. Одна ночь отделяла от казни. Одна ночь! Одна прощальная ночь. Появится солнце, озарит любопытными лучами чудо-землю, выведут во двор тюрьмы ─ и пуля палача пронзит сердце. И все, исчезнет тайна жизни!
Странно и любопытно, кто придумал убивать людей на рассвете, когда восходит солнце? Когда начинают петь иволги? Есть ли кощунственнее выдумка? Мерзок человек, мерзок! Приходит смерть, самое страшное, что есть, и непременно надо, чтобы человек, в кого стреляют, видел, как прекрасна жизнь! И с красотою в сердце умирал.
Гибель неизбежна. Смертный приговор вынесен. Он обжалованию не подлежит. Зачем же мучить себя философскими вопросами, существует смерть, не существует? Игра окончена! Он вознес мученический крест на свою Голгофу. Палачу остается только распять его. И вбить гвозди. И выбросить в могилу, в неизвестность. Без покаяния. Без плача женщины в траурной вуали! Без цветов. Без вознесения в память человеческую. О чем сожалеть? О жизни? Ее еще не было, а какая будет, уже не узнает. Никогда, никогда! Больно, что умирает не в бою. И жалко, что не Христос, не может воскреснуть!
Очень-очень хочется жить!
И увидеть свободное солнце над Русью!
Мысли сами по себе, полетели черными лебедями в родное Пряхино.
Милая мама! Прощай, прощай! Я приговорен к расстрелу! Я в камере смертников. Живу последнюю ночь. И исповедь моя перед тобой последняя, мама. Прощальная! С кем мне еще попрощаться на земле? Только с тобою. Одна ты живешь во мне неотлучно. Как правда. И красота земная. Вот и шлю я тебе мысленно письма, шлю и шлю. И не так чувствую себя одиноко и сиротливо в последние мгновения прощания с землею и солнцем.
Я знаю, родная, знаю, как много ты прольешь слез, вспоминая обо мне. Не торопи себя во власть печали. Был ли я на земле? Да, был. И не стал. И вся правда. Что теперь можно вернуть? Убитую жизнь? Как ее вернуть? Из могил не возвращаются. Воскресают только боги. Я не бог. Я всего лишь твой сын. Это много, это тоже много. Ты подарила мне солнце, жизнь. Но я не сумел этим воспользоваться. Не сумел! Я проиграл свою жизнь. Допустил преступную небрежность. Горько! Жалко! Мука невыносимая! Но я сам принес себя в жертву смерти. Сам! Кого винить? Одно печалит, что я не бог, а смертный. И не смогу воскреснуть. Я бы жил более разумно и вдумчиво.
Милая мама, не мучь себя страданием. Ничего не вернуть. Верь, я жил болью моего народа. И очень любил Отечество. Эту любовь подарила ты. И совестью увенчала мое сердце тоже ты. Потому я пошел защищать от врага свою Россию. И был уверен, что буду сражаться до последнего мгновения жизни, чтобы она всегда жила свободно и радостно. Но видишь, как все обернулось. Мне вынесли приговор как предателю Родины, народа. И себя. Я на пути к успокоению. На самом краю. Но разум никак не желает осознавать, что на рассвете меня не станет, что на рассвете меня расстреляют. Что после рассвета меня уже не будет совсем-совсем. Да и как поверить в такую чудовищную правду? Был. И не стал.
Немыслимо.
Просто немыслимо.
Как так?
В небе будет светить солнце, в деревне Пряхино, нарядные парни и девушки будут водить хороводы, выплясывать радость под гармонь! Будут колоситься рожью крестьянские поля, чувственно, мило и нежно петь иволги в березах, стрекотать кузнечики в стогах сена, сиротливо-трогательно падать на землю листья тополя, сорванные осенним ветром, цвести несказанною красотою медуницы, ромашки, иван-да-марьи, пастись кони в ночном, гореть костры у реки Мордвес! Все останется, а меня не будет! Как в это поверить? Странно все. И страшно! Но более странно, что я не чувствую смерти. Не чувствую никакого потрясения. Живу так, как жил, так, будто ничего не произошло. Даже в душе незнакомая, еще неведомая мне легкость. Откуда она? Почему? Не осознаю. Возможно, так устроен человек. Беспечно устроен. Отсюда нет уныния и страха. И крепнет удивительная сила духа. Презрение к вечности! Но безысходность чувствую. И даже представляю, как выведут на расстрел, поставят у стены, как раздастся команда: «По изменнику Родины ─ пли!»
Но как будут стрелять, не представляю. И куда будут стрелять, тоже не знаю. В грудь ли? Или поставят на колени? И выстрелят в затылок? Завяжут глаза или не завяжут? И что я сделаю, гордо ли сброшу повязку с глаз, как мой любимый герой Овод, чтобы в последнее мгновение посмотреть в глаза палачам, или покорно и смиренно встану на колени? Я еще не подготовился. Но умру я с достоинством. Как солдат Отечества. Я все же послужил ему, воевал за его свободу.
Милая мама! Я не знаю, придется ли тебе положить цветы на мою могилу, поплакать в трауре у надгробной плиты. Погоревать в любви и тоске о своем непутевом сыне? Поскольку не знаю, будет ли она? Изменникам Родины могил не роют. И памятники не ставят, даже с распятьем, даже безвинному. Нам даже не даруют попрощаться с любимою женщиною, молитвенно поцеловать ее, в удовольствие выкурить трубку. Мы вне закона. Вне любви своего Отечества. Родная, я постоянно, постоянно думаю о тебе. И сильно печалюсь, что мало целовал тебя, ласкал. Дарил радости. Стеснялся, видишь ли. Как бы хотелось сейчас на прощание поцеловать тебя, прижаться к щеке, чтобы ты в полную силу ощутила сыновнюю любовь, какую я нес по жизни и бережно хранил в себе.
Не верь, что я убит, что ушел в вечную разлуку.
Верь, что вернусь.
Кем? Не знаю. Но вернусь! Твоею слезою ли, облаком над Пряхином, хлебным ли колосом, ромашкою ли у родного крыльца? Ты выйдешь. И посмотришь на меня.
Только не срывай ее. Пусть я буду расти в Отечестве, у родного дома вечно!
Скорблю о каждом, кого знал, с кем виделся в жизни, с кем выпало жить на земле в одно время! Но думать буду о тебе, когда поведут на казнь. Печалюсь, выдержишь ли траурное известие о моей гибели? Не упадешь ли с разорванным сердцем? Не будет ли два гроба? Посылаю поцелуи сына. Прощайте!
ПОСЛЕДНЯЯ НОЧЬ ПЕРЕД РАССТРЕЛОМ
V
Неожиданно Башкин услышал:
─ Что, солдат, страшно умирать?
─ Не знаю. Не понял еще. Расстреляют, разберусь, ─ тихо отозвалась безвинная обреченность.
─ Чего же плачешь?
─ С матерью прощался.
─ Безвинно страдаешь?
─ За мятеж. В сердце. Не поладил с командиром, сбежал на фронт. Изловили. Приговорили к смерти.
Полковник подышал на озябшие руки:
─ Крепись, солдат. Ты, конечно, поступил сумасбродно. И казни не заслуживаешь. Но у кого просить пощады? У прокурора? У Сталина? В такое, брат, печальное время мы родились. Родились впервые за миллионы лет! И так неудачно. Скорбь, скорбь человеческая. Печаль земная. И неземная. Сколько уже безвинных прошло через сталинские камеры пыток, лагерей смерти! Я тоже страдаю без вины виноватый! В первую мировую я воевал с самим Брусиловым, полный Георгиевский кавалер; добровольно перешел к большевикам. Имею два ордена Красной Звезды.
Фашисты напали внезапно! Я храбро бился у Бреста! Был ранен. Попал в плен. Колоннами гнали фашисты в плен Русского Воина по смоленской дороге. Миллионы загнали за колючую проволоку, а я бежал, дабы сражаться Отечеству. Оказывается, зря бежал! Усомнились! И загнали в темницу. И теперь расстреляют. Как предателя. Врага народа.
Почему усомнились? Я царский офицер, дворянин! И могу быть только Каином Руси! И, значит, подлежу уничтожению! Такова справедливость!
Он сжал кулаки. И ударил ими о стену:
─ И поделом мне! Поделом! Я Иуда! Иуда русского народа! Я проклинать себя, что предал народ Руси, отдал талант полководца большевикам. Я думал ─ они за народ! Но так оказались одни евреи! Господи, зачем им народ Руси? Только грабить и грабить!
И кому он нужен, беспутный народ?
И раз я иуда, значит, и должно Палачам Неба и Палачам Руси меня убить! В этом и состоит вселенская справедливость!
Предал народ, не имеешь права жить! Я с честью принимаю наказание, ибо то наказание от Бога! За предательство России. И ее доброго, верноподданного люда!
Он неожиданно смахнул слезу.
─ Сорок бочек арестантов! Кажется, я плачу.
Башкин не знал, как себя вести. Осуждать ли смертника, сострадать ли ему? Он уходил из жизни. Уходил с обидою на себя, на время, которое его обмануло. Полковник выстрадал свою боль. И теперь облегчал ее откровением. Что ж! И перед смертью надо любить добро, правду, людей.
Помолчав, Башкин сказал:
─ И мне жалко свою жизнь. Больно, что мой побег оказался роковым. Но что мы? Не погибла бы Россия.
Полковник добродушно посмотрел:
─ Любопытно, что вас волнует перед расстрелом, юный солдат! Не скорбите. Разгадывайте великую тайну смерти спокойно! Россия не погибнет. Немцу ее не взять. Сила у Отечества, как у Ильи Муромца. Она погибнет от ненависти друг к другу, от лени и бескультурья! Печально другое, после самозваного 17 года на Руси исчез народ, кто бы соединил в себе мудрость власти, величие духа, любовь и человечность! Русь с невиданными богатствами ─ сирота, какую будут грабить чужеземцы-евреи до истощения! И грабить от имени Ленина, лютого лжепророка, кто объявил: мы в 17 году они пришли на Русь строить коммунизм!
Все вывезут из Руси!
Все!
В России уже остались палачи и жертвы. Вся система правосудия выстроена с 17 года, ─ убивать, убивать, убивать! Раньше палач на Руси был изгоем, отверженным. Его назначали осужденного за тяжелые преступления. Они и жили в тюрьме. Им стыдно было показываться на людях. Теперь их ─ тысячи! Они уже не парии общества, они уже его элита! Гордятся своим палачеством! Как же! Убивают безоружного врага народа! Безоружного и без защиты! Рабы и те бились на арене Римского Колизея за свою жизнь, защищая себя и щитом, и мечом! Там, рабы, повторяю, рабы, и те слышали в себе ценность жизни, а теперь, полная, полная обесцененность жизни!
Куда скатилась великая Русь?
Куда мчится?
Не только в жизни, но в смерти обесценена человеческая жизнь! Погас человек, погасла Вселенная! Слышите, юноша, Вселенная погасла, и то не символ, то истина! Все погасло для человека! ─ и сама земля с поющими иволгами, и березка у озера, и небо, осыпанное звездами! Все погасло! Это же было земное творение! Творение от Бога!
Живое творение от Бога! И что? За гробом нет ни священника, ни матери Человеческой в траурной вуали, с цветами, ни хора плакальщиц, с причитаниями, ни колокольного благовеста, ни даже могилы с распятьем! Человек же, по сути, тоже как страдалиц взошел на распятье, как Христос! Пусть только за свои грехи! Не за все человеческие. Но принял смерть, как Христос, на распятье!
Почему должна быть только дьявольская звезда?
Раньше человек, п─ри том же царе, шел на казнь, и слышал свое последнее мгновение. Он мог в сладость на ступеньке эшафота выкурить трубку, выпить бокал вина, даже в прощальную ночь с любимою женщиною. И это ─ право жертвенника! Страдальца-жертвенника, Право на последнее желание. И его отобрали!
Полковник посмотрел в окно, на звезды в небе.
─ Стыдно за Русь! И не стыдно ее покидать. Вы так не считаете, солдат?
Не дождавшись ответа, напел:
Вот умру я, умру я,
Похоронят меня.
И родные не узнают,
Где могилка моя.
Грустная песня тронула душу Башкина. Так и сложится после его гибели. Там, где будет могила, будет только одиноко светить луна и петь весною соловьи. И никто не узнает, где могилка его. Так и станет лежать во все времена без цветов и молитвы.
Он тихо произнес:
─ Лучше было бы умереть так, чтобы похоронили на кладбище.
─ Зачем? ─ удивился полковник.
─ Все память будет человеческая.
─ О чем вы печалитесь, коллега по несчастью? В Париже на кладбище Сент-Женевьев-де-Буа нашли благословенное пристанище русские люди, кого Палач-Дворянин заставил обреченно покинуть свою Родину; они будут лежать в гробнице тысячи лет! И никто не потревожит их вечный покой. А ваше русское, христианское кладбище рано или поздно затопят половодьем или перепашут с землею!
На Руси, юноша, с 17 года не чтут ни живого русича, ни мертвого.
VI
В двери скрежетнул ключ. Вошли надзиратель, конвойные с винтовками, женщина-врач в белом халате и саквояжем с красным крестом.
Старший тюремщик прочитал по бумаге:
─ Павел Павлович Розанов, бывший командир Красной армии. Кто будет?
─ Я, ваше благородие, ─ полковник вышел вперед.
─ Изготовиться к казни.
─ Давно готов!
Тюремщик продолжал читать:
─ Виктор Семенович Ерофеев, бывший рядовой Красной армии. Кто будет? Вы? ─ он посмотрел на Башкина.
Узник из Пряхина вздрогнул. Его обдало могильным холодом. Тоска смерти приблизилась вплотную. Он ушел в камень. В молитву. В страх. В пустоту. И ничего не мог ответить, он ли это? Или не он? И пошел вместе с полковником на казнь. И мог бы в полузабытье, дойти до эшафота! И вполне мог бы встать у расстрельной стены, получить пулю в сердце. Там расстреливают соборно, тьмою. И полковник жил в забытье. И думал за свою жизнь и смерть, и вполне мог не обратить внимание на невольного жертвенника.
И далее, если следить по судьбе, он вполне мог и не беспокоиться за жизнь Башкина. Трое в камере смертников, трое и идут на эшафот, на расстрел! И третьим могли вызвать по списку Александра Башкина.
Но когда увидел, на эшафот повели только его и безвинного Башкина, остановился.
С усмешкою посмотрел на тюремщика:
─ Ваше благородие, вы ведете на казнь не того!
─ Как не того, ─ возмутился тюремщик? ─ По списку Военного трибунала, Виктор Семенович Ерофеев!
─ Виктор Ерофеев испуганно, обреченно сжался в углу, ваше благородие.
Деловито спрятав в карман мундира список с фамилиями смертников, тюремщик подошел к солдату, ласково выговорил:
─ Ты чего испугался, дурень? Это не так страшно. Закрыл глаза, подумал о Боге и взлетел журавлем в небо! Ни боли, ни мучения! Одна душевная благодать. Вставай, вставай!
Но обреченность еще дальше забилась в угол. Солдат не желал умирать. На каждого человека, кто был в камере, смотрел дико и испуганно. Из глаз текли слезы. Подошла врач, натерла уши нашатырным спиртом. Вернула ему осмысленность жизни. И теперь он в каждом увидел палача, палача! Просветление принесло еще большую муку.
─ Я не хочу на расстрел. Не хочу! ─ громко закричал мученик, цепко, взявшись за решетку окна.
Конвойные попытались его оторвать. Но это оказалось делом нелегким. Тогда они с лютым остервенением стали бить прикладами винтовок по его побелевшим пальцам. И только когда пальцы разбили в кровь, на кости, обезумевшего человека вывели под руки на казнь.
Муки обреченного на смерть потрясли Башкина. Он неосознанно пошел следом. Он тоже был в череде мучеников. И тоже стоял в очереди за смертью. И вполне справедливо считал, теперь должны назвать его фамилию по списку Военного трибунала ─ и шагнул туда, где стояли обреченные.
Но тюремщик жестом остановил воина:
─ Ваша, как фамилия?
─ Башкин Александр Иванович!
Тюремщик внимательно просмотрел список:
─ Вы не означены. Вас, скорее, расстреляют во вторую святую неделю. Еще поживите! И куда вы все торопитесь, ─ он не скрыл раздражения. ─ Благо бы к любовнице.
И у двери не остыл:
─ Храбрые воины, а ведут себя, как утопленники! Ее, смерти, не существует!
Храбрость это храбрость, а смерть это смерть! И в том, как не суди, было, превеликое расстояние. Выстрелы в полковника русской армии Павла Розанова были не слышны за стенами тюрьмы, но смертник Александр услышал те выстрелы. Услышал, ─ как выстрелы в собственное сердце. И теперь, в раздумье, оказалось, ─ смерть не страшна, страшнее ждать и ждать казни, ждать, когда выведут на расстрел, ждать своего убиения! В чем страшность? Начинают иуды-мысли обманчиво и коварно тревожить сердце о спасении, о надежде! Вдруг и отступит гибель? И он не исчезнет из бытия! Останется жить! Останется видеть солнце, мать Человеческую, ласковые глаза Капиталины, еще девочки, но уже солнышко в темнице. Будет слышать песенный шелест колосьев на поле, самозабвенные песни иволг, раздольную, с колокольчиками, гармонь у реки Мордвес, как горделиво и величественно скачут вороные кони в ночное.
Наконец мысли утомили воина. Тюремщик сказал, что его расстреляют во вторую святую неделю. Что ж, время есть! И надо выспаться по-человечески! Именно так он подумал в последние мгновения жизни, подумал не о смерти, а о том, дабы выспаться! И так было! Это святая правда, правда от совести, от Бога! Он беззаботно пристроился в углу, где лежал обреченный солдат, и где еще хранилось его благодатное тепло. Да, да, выспаться! И только бы не тревожили!
Но выспаться воину-смертнику не дали! Едва явилось в небо солнце, золотистые лучи стали пробиваться в камеру смертника сквозь зарешеченное окно, вошел тюремщик в чине капитана, строго спросил:
─ Александр Башкин?
─ Так точно!
─ Приговорены к расстрелу по статье 58 «а» судом Военного трибунала?
─ Так точно, ─ эхом отзывался смертник.
Тюремщик повелел:
─ На выход с вещами!
─ Совсем? ─ просто, без интереса спросил он.
─ Совсем, совсем! ─ строго отозвался тюремщик, без намека на милосердие.
О чем подумалось воину? Ни о чем. Вышел из камеры без страха и ужаса, без ощущения того, что в светлицу постучалась горевестница вечности! Словно вышел из дома с другом Леонидом Ульяновым на вечерку, приодевшись в костюм отца, услышав веселую, зазывную гармонь, раздольное, заливистое веселье девушек. Но ощущение, что повели на расстрел, возникло! И в мгновение во всю землю ударили скорбно-могильные перезвоны церквей Руси. И он услышал вдали, вдали хор плакальщиц и горевестниц, увидел толпу женщин, увидел свою матерь Человеческую Марию Михайловну, она шла впереди и несла на груди его портрет, как носят на груди икону Христа.
Он тихо вымолвил, отмучился, мама, отмучился! Прости, родная! И ты, Россия, прости! И прощайте!
Он свободно, по покою шел по коридору тюрьмы на расстрел, следом шли расстрельщики, но странно, но странно, никто даже в удовольствие, в усладу не кольнул штыком в израненное тело. И не с того ли в душе появилась песня. Кажется, о Стеньке Разине, но о том, как по Волге плыли струги расписные, пелось недолго. Совсем неожиданно в сердце вошла такая страшная тоска, такая печаль и скорбь, что он растерялся, приостановился. И заплакал. Ноги перестали слушаться, не шли. Все сущее в нем закричало: жить! Хочу жить! Зачем? Зачем умирать? Кто придумал убивать человека? Кто? Он услышал в себе стон и скорбь любви к жизни, какую еще не слышал! Как же можно просто так покидать мир красоты и целомудрия? Уходить без вины в холодную вечность?
В пустоту?
В бессмысленность?
За что, люди? Скажите!
Страшно умирать. Предельно страшно! Страх переполняет сердце воина, переливается в безумие, в беспамятство, в слезы. Мучительно жалко и себя, и солнце, и всю землю с журавлями в небе, с хороводами берез.
Жалко! Жалко!
Напрасно загублена жизнь!
Странно, но тюремные стрелки не торопили смертника, не стала силою выталкивать его острыми штыками к эшафоту, к расстрелу, дали возможность мгновение постоять, побыть наедине с собою, со слезами, с печалью.
Сколько мог, он приостановил в себе боль, страшную тоску расставания со всем земным и вечным. Его без гнева толкнули. Он послушно пошел дальше. Долго, долог путь на эшафот! Когда же он кончится? И завершится ли? Возможно, все снится? Все не в жизни? В сказе дедушки Михаила Захаровича о Великом князе Руси Боже-Белояре, кого тоже вели на распятье. Он слушает сказание о Бусе-Белояре, а думает за себя! Нет, все по правде, зримо слышен кованый топот сапог стрелков, нечаянные стуки ружья о каменный пол . Вновь подступившая тоска и боль вывернули сердце, захотелось во всю тюрьму, на всю землю крикнуть: «Товарищи, меня ведут палачи на расстрел! Ведут без вины! Отомстите! Слава великому Сталину!» И он, наверное, крикнул. Но ничего не услышал. Крик оборвался у горла, где густо стояли слезы.
Он уже представлял себе, как умрет, как жаркие пули вонзятся в сердце. Но совсем неожиданно его повели не во двор тюрьмы, не к расстрельной стене, а по светлому коридору в зал заседания Военного трибунала. Председатель суда посмотрел с чувством, доброжелательно. Пояснил, что на имя Александра Ивановича Башкина пришли документы из Тульского обкома партии, из управления НКВД, какие выслали положительные характеристики на ополченца Тульского коммунистического полка, высоко оценивают его воинское мужество, какие воин проявленное в битве с фашистскими захватчиками на Смоленской земле. Вместе с тем, поступило прошение о помиловании Вяземского отдела прокуратуры, в силу чего Военный трибунал отменил приговор о смертной казни ополченцу Александру Башкину. И вынес новый приговор: за самовольную отлучку из Тесницого лагеря, приговорить его к десяти годам лишения свободы. Под стражу не брать, отправить на фронт в штрафные батальоны. Приговор утрачивает силу, если воин будет ранен или убит.
Воин Башкин не выдержал и заплакал. Слезы лились долго, неумолимо, с нервными рыданиями, словно в одно мгновение он до самого края понял, что такое Вселенная, какую великую любовь несет к жизни, какую великую тоску несет к смерти.
Успокоившись, он низко поклонился комиссару государственной безопасности третьего ранга.
Председатель трибунала благодарности не принял.
─ Извольте поклониться истинным заступникам, ─ сухо заявил генерал-чекист и степенно вышел из зала заседания.
Александр Башкин только теперь увидел на скамье помощника прокурора Василия Васильева и незнакомого человека в форме майора государственной безопасности.
Юрист подошел, пожал руку:
─ Как вижу, мы тебя прямо у эшафота остановили. Еще бы задержались документы на сутки, и вас бы расстреляли. Но все хорошо, что хорошо кончается. Не так ли?
Обреченный на жизнь, прислонил руку к сердцу.
─ Чем отблагодарить, не знаю?
─ Не трудитесь, ─ скромно отозвался помощник прокурора. ─ Я исполнил долг, защищал невинность, справедливость! Помог секретарь парткома Смоленского управления НКВД Евгений Ильич Фадеев; обе фамилии подлинные.
Защищая город-крепость Ярцево, вы защищали его семью, отца, матерь, жену Ларису. Было бы глубоко не красиво, не ответить добром на добро.
Александр Башкин поклонился спасителю:
─ Получится выжить, детям накажу, дабы помнили вас, ангела-спасителя! Мне повезло больше, чем Христу, вы сняли меня с распятья! Я очень хочу жить! И очень хочу сражаться за русское Отечество!
Фадеев пожал ему руку:
─ Воюй, солдат! Фашисты перешли в наступление! Я назначен комиссаром полка в Вязьме! Вместе будем биться за Москву и Россию.
Глава двенадцатая
ШТРАФНИКИ РОКОССОВСКОГО СДЕРЖИВАЮТ ТАНКИ ГУДЕРИАНА НА ПОДСТУПАХ К СТОЛИЦЕ
I
30 сентября Верховный правитель Германии Адольфа Гитлер повелел своим генералам взять Москву. По всему фронту началось крупное наступление под кодовым названием «Тайфун». Уже третьего октября танковая армия генерала-фельдмаршала Гудериана с боями пленила Орел. Фашистские самолеты-крестоносцы стали усиленно бомбить Тулу.
Танки Гудериана стояли у ворот Вязьмы, когда ночью из тюрьмы на волю выехал крытый брезентом грузовик, на борту которого находилось тридцать четыре воина-штрафника. В тряском кузове на скамье сидел Александр Башкин, кто, несомненно, помилован от Бога, ибо рассрелять его могли с полковником Павлом Розановым, о чем свидетельствуют архивные документы: в том, роковом, расстрельном списке значилась фамилия Башкина, но в последнее мгновение председатель Военного трибунала против фамилии поставил знак вопроса. Рядом, плечо к плечу, сидел его нечаянный друг по тюрьме Петр Котов, ему за побег с трудового фронта дали десять лет. Штрафников везли в армию генерала Константина Рокоссовского, в сопровождении офицера-чекиста Вадима Белоус. Им выдали винтовки без патронов; патроны и гранаты осужденным выдаются только перед боем.
Старый, не раз простреленный грузовик, живо промчался по затемненным и безлюдным улицам Вязьмы, выехал на проселочную дорогу, миновал деревню Горнево, речушку Жереспею и устремился по старому смоленскому тракту в сторону Духовщины, ближе к городам Витебск, Демидово, где держала оборону армия генерала Рокоссовского.
Фронт был рядом. Бои не прекращались ни днем, ни ночью. Густо, жарко, долгими кострами горели в небе вспышки от орудийных выстрелов, близко слышались воющие свисты мин и снарядов. Черным пушечным дымом заполнилась вся земля.
Осветительные ракеты с трудом прорезали клубящуюся мглу. То вблизи, то вдали несли смерть пулеметные и автоматные очереди. Мимо по шоссе на скорости проносились колонны танков «Т-34» с десантом на борту, машины с прицепными орудиями.
Грузовик на заледенелой дороге кидало из стороны в сторону. Тугой встречный ветер с оглушительною силою рвал брезент, проникал в пулевые отверстия, пронизывал до костей. Ежась от холода, Котов дрожащими пальцами свернул цигарку.
─ Подъезжаем к фронту. Как себя чувствуешь?
─ Прекрасно, ─ сжал винтовку Башкин.
─ Странно! ─ удивился друг. ─ Тебя везут на тот же расстрел, только путь длиннее.
─ Я устал бояться смерти. В застенке я изведал все: страх гибели и красоту жизни, равнодушие к себе и отчаяние, тоску по каждому живущему, с кем выпало быть на земле в одно время и вымученную печаль к матери. Я услышал в себе колокола любви к девочке-снегурочке, и опять же, страх, успею ли я погулять с россиянкою по лугам, где стога и иволги, или солнце истает ее раньше?
Меня теперь всю жизнь будет мучить одиночество! Ощущение, что я нахожусь в камере смертника! И жду выстрела в свое сердце. Тоска отошла, гибель отошла. Явилась богиня спасения! Но душа остается поруганною, братка! И так будет долго! Желаю, скорее обрести равновесие. Обрести веру в человека, какою жил. Обрести правду, какую слышал в себе! Это будет сложно! Сложно, ибо не исчезнет из памяти тюрьма! Понимаешь? На всю жизнь останусь печальником! Но лучше воевать, чем в могиле быть! Никто не осмыслит, не ты, не Сократ, если только философ Сенека, кто был за бунт приговорен императором Нероном к смерти, ─ как тяжело слышать гибель! Еще бы мгновение, и прозвучал выстрел. В мое сердце. В мое! И я бы исчез! Был бы никем! Только печалью земною. И то для матери! Теперь я воин России! Воин, братка! Пусть гибель, но это будет благородная гибель! Со смыслом! За Россию! За матерь! За девочку Капиталину!
Котов жадно покурил.
─ Какие мы воины. Мы камикадзе, Саша. Прикажут взять напролом высоту, и каждого положат на ее склоне. Мы изгои! Штрафники! Нас везут на убой! Понимаешь?
Башкин отозвался по печали:
─ Все понимаю, Петро. Конечно, страшно умирать, особенно не в радость, не в удовольствие ─ изгоем! Как зверье! И все же, и все же в тюрьме выбора не было. Знал, что с рассветом тебя расстреляют. И никто, ни одна живая душа в мире тебя уже не спасет. О чем скорбеть? Горюй не горюй, излейся тоскою, обратись в птицу-тоску, а выстрел прозвучит! И молния с небес сорвется.
Теперь я свободен, пусть и на пути к обреченности. Не поверишь, несмотря на свою изможденность, я слышу в себе столько силы, энергии, столько любви к жизни, столько во мне растревожилось чувств от красоты и величия, что нисколько не буду чувствовать себя изгоем, если даже уду воевать в штрафном батальоне! Поверь, когда душа проходит через смерть, она достигает звездных высот Вселенной! Человек становится выше! Он равен богу! И как бог ─ любит жизнь! До стона любит, до боли, до мучения, ты радуешься каждое мгновение, ─ ты есть, ты живешь! И сам себя спрашиваешь, неужели правда, ты живешь? Ты есть? Неужели тебе вернули жизнь? Ты остался на земле! Остался человеком. Нет, такое счастье не выразить словами, Петро! Недосказанность останется! Я штрафник, да, но я иду воевать несломленным, непобежденным, еще более непримиримым к врагам Отечества! Что делать, коли так сложилось? Не бежать же в лес от себя! И убежишь ли?
Он не договорил. Раздался оглушительный взрыв, под колесами взорвалась мина, взметнув в небо сильное пламя. Машину легко оторвало от земли. Она перевернулась в воздухе, с лету упала боком на промерзлые камни. Штрафник Башкин с трудом выбрался из логова скрученного железа, осмотрел поле неожиданного побоища. Офицер-чекист выпал из кабины, сидел на взгорке, обхватив живот руками. Между пальцев лилась кровь. Боль испепеляла его. Губы все больше бледнели. Он издал жуткий, звериный стон и откинулся на изморозь осенней травы, устремив в небо стеклянные глаза. У дороги, ближе к опушке, лежали еще раненые люди, кто смиренно лежал на спине, кто силился встать, слышались стоны, мучительные, истеричные всхлипывания. После взрыва тишина казалась особенно странною, безмятежною.
Он подполз к Котову, тронул его:
─ Братка, жив?
Штрафник встряхнул головою, ощупал себя:
─ Похоже, существую.
─ Говоришь, смертники! Еще поживем! ─ не скрыл радости Башкин. И громко крикнул: – Живые есть? Выходи!
Из леса, хромая, вышел хохол-старшина; с лица стекала кровь, потирал ушибленное бедро.
Расправив длинные усы, сверкнув зелеными глазами, он строго осадил Башкина:
─ Чего орешь как оглашенный? Немцы вокруг! Уцелел, так пулю получить хочешь?
И, прихрамывая, обошел каждого убитого, вынимая из кармана гимнастерки документы. Остановился у офицера-чекиста, пощупал пульс, его не было, расстегнул китель, взял документы!
Штрафников с печалями снесли в воронку от мины, в братскую могилу, наспех забросали мерзлою землею, сверху засыпали хворостом. Долго решали, чем увенчать список: звездою или крестом? Решили христианским распятьем. Как святым, безвинным великомученикам. Взяли обугленную доску от борта грузовика, прибили перекрестье, написали имена каждого погибшего.
Старшина произвел из пистолета прощальный салют. Сняв голубую фуражку, тихо вымолвил:
─ Земля вам пухом, безвинные мученики!
Только штрафники отправились к линии фронта, вышли на Московское шоссе, как увидели превеликую, разношерстную толпу женщин; они торопливо, испуганно шли по дороге с лопатами и кирками, и постоянно в панике оглядывались, и все больше прибавляли шаг.
Старшина спросил:
─ Далеко спешите, бабоньки? К мужикам на печь, на сладкие пироги?
─ Вы куда? ─ настороженно спросили бегущие, придирчиво осматривая веселого, плечистого чекиста.
─ Мы на Духовщину, к городу Белому. Врага бить.
─ К городу не пробраться. Он окружен. Мы окопы рыли на берегу Угры. И танки! Слышите, как мчат, земля трясется! Бежим, торопимся в свои угодья, фашист русскую бабу не жалует!
Старшина-чекист прислушался. Верно, не надо ухо прикладывать к земле, к Москве вольно, размашисто шла таковая армия Гудериана!
Пока он раздумывал, Александр Башкин шепнул другу:
─ На поле-побоище, кажется, остались гранаты.
Он живо вернулся на погост-траур, заглянул в изломанный кузов, в кабину. И заметил ящик из стали, он был наполнен гранатами.
Едва Башкин привез гранаты, старшина зашел в кипень:
─ Эт-то еще, что? Кто разрешил брать гранаты?
─ Так впереди танки, товарищ старшина!
─ И что?
─ Будем биться!
─ С кем, с танками? ─ чекист посмотрел на штрафника, как на сумасшедшего.
─ С кем еще? ─ гнул свою линию воин Башкин. ─ Окопы женщины вырыли, там наверняка остались противотанковые ружья, вот гранаты!
Старшина взвился черным коршуном:
─ Ты чего, очумел? Там танковая армия Гудериана! Сила немыслимая! С кем ты взялся биться?
─ Подумаешь, армия! И что? ─ небрежно отозвался Башкин. ─ Я уже бился с танками Гудериана! И знаю, как бить!
Старшина в злобе достал пистолет:
─ Верни на место гранаты! Живо! На суд Военного трибунала отдам! Сам расстреляю!
Из толпы штрафников вышел вразвалочку рослый детина с золотым зубом, положил руку на плечо чекиста:
─ Спрячь, игрушку. И успокойся, не то сами успокоим!
Он повернулся к толпе:
─ Фраера, я вор в законе Салават Буслаев, считаю, верно, малец глаголет. Будем отступать, так и так догонят на дороге, передавят, как щенят, вокруг степи, пальнут из орудия, снова все поляжем! Ну что, урки, постоим за Русь святую!
Толпа отозвалась в разноголосье. лениво:
─ Постоим!
─ Какая разница, где ждать пулю!
Рослый детина, в довольстве сверкнув золотым зубом, повернулся к Башкину:
─ Веди в окопы, атаман! Блатные пойдут за тобою.
Как раз в это время на берег реки Угры вышли танки; смотреть на танки было страшно, воистину это были ─ Земное Творение для Смерти; длинные орудия, как живые, грозно, уверенно покачивались на весу; один залп ─ и вся горстка штрафников в братской могиле.
Воины-штрафники живо разбирали гранаты и, пригибаясь, с оглядкою, бежали в окопы.
Первый танк-крестоносец уверенно съехал с моста. Засады не ждали. На переднем танке офицер открыл люк, вдумчиво курил трубку и с интересом рассматривал бесконечные русские поля. В лике ─ одна несокрушимость.
Александр Башкин попросил штрафников –добровольцев забрасывать танки гранатами, поджигать бензобаки, как только он обратит в пламя Первый Танк и колонна остановится. Петра Котова попросил бить из ружья по смотровым щелям, дабы ослепить водителя. И сам, прячась в примороженные ковыли, пополз к колонне танков. И как только оказался рядом с танком командира, бросил под гусеницы, где был бензобак, связку гранат.
Раздался взрыв, танк вспыхнул пожаром! Штрафники в мгновение стали забрасывать танки гранами и бутылками с зажигательною смесью, какие разыскались в окопе. Когда добросить до танка гранату не получалось, штрафники выбегали под пули и бросали гранаты в упор, по бензобаку. Танки Гудериана остановились, как ошалевшее стадо, после волевого удара пастушьего кнута. Сбить засаду было нельзя, танк силен издали, а вблизи он совершенно беспомощен. Фашистские танки избивали вблизи, там и там горели костры. И они поспешили покинуть речку Угру. Генералы чтили жизнь солдата.
Толпа ликовала.
Башкин повернулся к старшине:
─ Товарищ старшина, путь открыт. Надо срочно идти к линии фронта. Вскоре налетят самолеты-крестоносцы, и так пропашут бомбами крепость, останется одно пепелище.
Старшина расправил усы, ревниво, и даже брезгливо посмотрел на штрафника; давала себя знать, оскорбленная честь чекиста. И подал команду, строиться.
Александр Башкин шел с другом. Битва с танками не встревожила его чувства, красоту гордости, красоту величия; он теперь воин Пересвет, кто вышел с копьем на Куликово поле. Воззвали на битву, вышел на поединок, чему удивляться? Будет живым, одну ли битву еще примет за Русь святую?
Раздумье шло от траура о каждом штрафнике, кто погиб по случаю от палача-мины и был наскоро зарыт в братскую могилу на обочине шоссе, с неизвестным адресом? Разыскать без адреса земной Мавзолей будет невозможно. Получается, исчезли, как невидимки, были на земле, и не были. Какая матерь Человеческая явится и поплачет, какая сестра, какая любимая россиянка? И само по себе, начиналось невольное раздумье за свою Земную Сущность, вполне и он бы мог безвозвратно лежать обугленным землянином в гробнице-воронке!
Почему, почему и на этот гибельный раз он выжил? И в битве с танками, опять же, выжил! Кто, какие силы и зачем берегут его на земле?
Дорога по степи завершилась. Штрафники вошли в лес, и только миновали илистое болото, как оказались в окружении офицера и воинов с автоматами.
Офицер строго повелел:
─ Всем стоять, не шевелиться! Стреляем на поражение!
Он посмотрел на старшину:
─ Кто такие? Предъявить документы!
Старшина-чекист подал документы, объяснил, кто они? Спросил, как добраться до армии Рокоссовского?
─ Войска Рокоссовского сражаются у Юхнова. Там ищите. Вечером в ту сторону, на Рыляки, отправляем машину за горючим. Могут вас забрать. Желаете?
Старшина немедленно согласился:
─ Да, естественно.
К полуночи добрались до штаба армии, старшина сдал штрафников под расписку и отбыл по месту службы в Вяземскую тюрьму. В штабе Александр Башкин, Петр Котов, еще осужденные получили направление в штрафную роту капитана Ивана Молодцова.
II
Александра Башкина вызвали для знакомства с начальством четвертым. Он показал часовому вызов и, пригнувшись, вошел в землянку. И замер от неожиданности. Стол был заставлен винами и закусками, развязно сидели подвыпившие мужчины и полуобнаженная женщина. Было накурено. На туалетном столике, под зеркалом, стояла керосиновая лампа, которая с трудом освещала помещение.
Плотный мужчина с золотым зубом, с блатною челкою играл на аккордеоне «Мурку». И залихватски пел:
Чтоб не шухариться, мы решили смыться,
Но за это Мурке отомстить.
Одному из урок, Косте-хулигану,
Приказали сучку мы убить.
Командир роты, белокурый красавец, с холеным лицом, с широкими, покатыми плечами, увидел штрафника, но даже не пошевелился. Только дослушав лагерную песню, соизволил перевести кроткие, синие глаза на вошедшего.
Воин быстро подтянулся:
─ Рядовой Башкин прибыл для несения воинской службы во вверенную вам роту!
─ Откуда? ─ внимательно оглядел его командир.
─ Из Вяземской тюрьмы.
─ Блатарь? Бобер?
─ В смысле? ─ не разобрался Башкин.
─ Ты куда пришел, боец-удалец? Не вникаешь? ─ посмеялся хозяин землянки.
─ К командиру роты капитану Молодцову! Вы им будете?
─ Не видишь, фраер? ─ кивнул он на роскошное трофейное кресло, на котором висел китель капитана.
Осужденный перетерпел унижение:
─ Значит, к вам!
─ Не к вам, солдатик-педарастик, а в штрафную роту! Теперь врубился? Я и спрашиваю тебя, как Иван Грозный родного сына: кто ты? Блатарь? Политический? У меня всякая масть. Фраера, убийцы, домушники, воры в законе. Мне тебя, новоприбывшего, на довольствие ставить. Урка, вор ─ будешь поближе к котлу. Фраер от политики, будешь задницу лизать, когда захочу. И царевне Клеопатре, если она молодого язычка пожелает.
Мужики за столом дружно рассмеялись:
─ Клеопатра пожелает!
─ Мальчики-фарт ласкали!
─ Слышал, какая тебе царь-дева достается? Одна зависть! И одна сладость! Знаешь, за что Наполеон любил Жозефину, какая давала себя целовать каждому генералу? За крутую задницу! Увидь он мою богиню, он бы в гробу перевернулся. Встань, дева! Покажи свою красоту.
─ Перестань, Иван. Ты пьян, ─ тихо попросила женщина. ─ Он еще мальчик. Ему стыдно. И мне стыдно. Зачем ты так? Что он о командире подумает?
Командир роты зашелся в смехе:
─ О чем ты, краса-девица, вавилонская блудница? Он воевать пришел! Исполнять мои приказы! О чем он может думать? Только о голой бабе, и то перед сном, под одеялом. Я его завтра под танк погоню. Ослушается, пулю в лоб пущу. Перед строем. Как трусу! Я ему ─ бог и царь. Он политическая шлюха! Враг народа. Иуда земли Русской. Так?
Башкин невольно сжал кулаки:
─ Не так, товарищ капитан, ─ ответил по покою.
─ Не так? Я лгу? ─ взревел офицер. ─ Дай документы и направление. ─ Взял, ознакомился. ─ Как в святцы заглянул. 58-я статья! Приговорен Военным трибуналом за измену Родине к смертной казни! Задержан контрразведкою «СМЕРШ» как шпион фашистской Германии! Расстрел заменен десятью годами тюремного заключения. Направлен как штрафник на фронт, дабы кровью искупил вину. Его в кровавом корыте можно крестить. Без попа! Целый букет насобирал! Чего же ты мне туфту толкаешь?
Башкин настоял на своем:
─ Я не политическая шлюха. Задержан органами НКВД по ошибке. Был отпущен! Как свободный человек. Военный трибунал не стал разбираться, по справедливости! Я сбежал на фронт, а меня посчитали трусом! И вся вина.
─ Ну, фраер, ─ покачал головою Молодцов. ─ Ты думаешь, что говоришь? Ты же клевещешь на доблестную гвардию чекистов! На Советскую власть! На Сталина! Тебя уже за такие тяжкие прегрешения можно расстреливать перед строем! Может быть вас, политическую шушеру и на Лубянке зря в распыл пускают? И в лагеря смерти зря отправляют? Смотри, как стали повелительно разговаривать враги народа!
Тебе на колени надо встать перед Советскою властью, молиться, как на икону, земные поклоны до самого гроба отбивать, что даровала жизнь по милосердие, а он безвинною овечкою прикидывается! Яд Сальери тут разливает с невинным, смиренным ликом! Просто так его в ЧК забрали, с кондачка! Советские органы НКВД не ошибаются! Понял, политическая шлюха! Не понял, под ружье поставлю на сутки!
Женщина не выдержала, заступилась.
─ Перестань, Иван, юродствовать. Разумно ли при первом свидании, еще не объяснившись в любви, портить настроение ему? Мне? Себе? Всем? С цепи сорвался? Будто не знаешь, сколько чекисты расстреляли безвинного люда! И еще сколько расстреляют! По русской земле ходить тяжело. В крови по колено вязнешь. Мне ли тебе объяснять? Сам там работал.
─ Когда война, мы звери! ─ со злобою защитил свое мнение командир роты.
─ И когда на земле мир, тоже звери! Только спрятанные в себе. Для простофиль, ─ рассмеялся уголовник-аккордеонист.
Женщина тоже посмеялась. Но свое не сдала.
─ Все сложно, Иван. Жизнь ─ лживая блудница! Зачем обижать человека? Мучить его? Военный трибунал вынес смертный приговор. И что? Почему ему надо верить? Почему не рассудить по справедливости? Человек сбежал на фронт, а его приговорили, как безвинного Христа к распятью! И распяли! Совесть его распяли, не только жизнь! Красоту жизни распяли! Веру в человека распяли! Веру в Советскую власть распяли!
Он теперь ─Земная Боль! Почему? В такое время живем! В беззащитное. И все же он чище тебя, целомудреннее! И мыслями, и сердцем. В камере смертника он пережил острое таинство смертного часа. И теперь ему острее открылись все горечи и радости мира. Он пересоздал в себе мир! Смерть, которую он миновал, чувство ее, близкое ощущение ее, как ни странно, было ему дороже всего, дороже земных красот, которые видел в юности. Свершилось преображение души, он стал еще сильнее, свободнее, влюбленнее в свою землю. Во тьме могилы его пронзили более чистые, целомудренные лучи солнечного света. Он еще больше почувствовал связь с Русью, красоту пахарского поля, как милы и нежны березы в роще, как красиво поет иволга.
В душе его не истребилось чистое! Да, она надругана прикосновением человека. Человека-палача! Она сильно ударилась о камни, разбила себя до крови. Ее ужаснула страшная роковая правда. Но благоденствие красоты осталось. Ее бессмысленно, жутко отторгали от привычной жизни. Но не убили. Только еще больше наполнили красотами мира, вернули тайную связь с людьми и миром. Я права, солдатик?
Александр Башкин смиренно посмотрел на командира роты, он в гневе, в окаянстве раскатывал тонкими пальцами пианиста по столу граненый стакан, лицо его все больше бледнело. И воин отмолчался. Но подружка капитана, похоже, не боялась его. Небрежно плеснув себе в стакан водки, она выпила, закусила шпротами. И тихо, с женским милосердием, продолжила:
─ Теперь, после тюрьмы, ему надо подняться к свету и чистоте. И он поднимется, никто не помешает! Так ощущал жизнь отец, генерал царской армии, кто был приговорен к смертной казни в тридцать седьмом. И, печально признать, безвинно, совсем безвинно! Просто люди-звери оклеветали его. Другие люди-звери убили» Он смиренно взошел на эшафот! И умер за свободную Россию! Меня за фамильное золото допустили на прощальное свидание на Лубянке. Вскоре я тоже оказалась на Лубянке! И тоже ждала расстрела. Велика ли вина? Мой отец был воином, воевал вместе с Его Императорским Высочеством Великим князем Константином Романовым, почему при власти иудеев-большевиков и стал врагом народа! Кто в результате, оказалась я? Дочь врага народа, и еще столбовая дворянка! И вся вина! Но все едино, сиди в тюрьме и жди пулю в русское, благородное сердце!
Она помолчала:
─ Моя исповедь есть боль и слезы, и все от собственного переживания. Чем я провинилась перед властью? Не скажешь, Иван? Чем провинился штрафник перед тобою? Стоит ли казнить человека, который вышел живым из могильного склепа и весь переполнен болью, страданием? С каким смыслом? Ты не сломишь его! Он сильнее тебя! Унизишь, да! Надругаешься, да! Но не больше. Он видел смерть. И близко. У самого сердца. Чем ты еще можешь его напугать?
─ Заткнись, баба! ─ не выдержал ее исповеди от молитвы и милосердия командир роты. ─ Твоего ли все ума дела? Жаль, что и тебя не поставили к расстрельной стене! За Россию! Задаром отдали в полон Великую Земную Красавицу, с рощами берез, с синими озерами. с белыми лебедями. с красивыми людьми, с несметными богатствами Дракону-хаму, Дракону-еврею на разграбление, на убиение Русского Люда, где не человек, там Илья Муромец, а теперь заливаетесь горючими слезами ─ безвинно расстреливают!
Как же безвинно, радость моя? Корниловы и Колчаки, гордая русская знать, гибельно и жертвенно бились за Русь святую, желая поднять Дракона-еврея на мечи, а вы скоро, живо. отреклись от Отечества, сели в роскошные кареты и помчались на привольное житие в Берлин и Париж! Вы, дворяне, и есть самые-самые враги народа! Как вас не расстреливать? От имени совести? От имени России? От имени Ее Величества Истории?
И льешь еще тут слезы за штрафника, за врага народа! Еще так расстроишь, пущу пулю в лоб!
─ Если успеешь! ─ зло сверкнула красивыми глазами женщина и крутанула на туалетном столике дамский браунинг.
─ Шучу, моя Клеопатра. Шучу! Ты уж в мятеж, ─ капитан налил коньяк из бутылки с длинным горлом, с немецким гербом и медалями. ─ Все сложно, согласен! Но враг народа есть враг Отечества! Стоит ли говорить о красоте души отступника? Откуда она у русского быдла? Душа его в навозе! Откуда там солнце? Выпьем лучше за Родину! И за Сталина! Выпьем, и снова нальем! Выпей и ты, солдат! За свое воскресение. Я зачисляю тебя в роту.
─ Я не пью, ─ виновато произнес Башкин.
Командир роты взбеленился:
─ Все слышали? Эта политическая шлюха отказывается выпить за великого Сталина! И за командира роты Ивана Молодцова, кто коронует его в знатное воинство и предлагает мировую клятвоотступнику, а он отказывается!
Он повысил голос:
─ И еще глаголет, он не враг народа! Каждый враг Сталину, есть враг народа!
Штрафник Башкин растер на щеке слезу:
─ Я не враг Сталину, я правда не пью. Извините, ─ он виновато подтянулся.
Но командир роты не принял извинения:
─ Пошел вон, свинья!
На выходе его остановила красавица:
─Задержись, солдат! Пригуби! Женщина просит. Докажи, что ты мужчина.
Взяв фужер, Башкин подтянулся.
─ Ваше здоровье, товарищ капитан!
Выпив до последней капли, с разрешения покинул землянку. Едва он ушел, дама обняла капитана:
─ Что случилось, Иван? Почему так себя ведешь? Может, к себе в госпиталь положить?
Командир роты неожиданно обмяк.
─ Не знаю. Не знаю, моя Клеопатра! От штрафника исходят магические круги ненависти. Берут в полон, нервируют, вызывают бунт. Такое ощущение, он пришел меня убить.
─ За что?
─ Не знаю. За свою безвинность. Он же солнышко над Русью, а его скорбно-обреченно направили в штрафное воинство!
─ Почему солнышко над Русью?
─ 18 лет, а уже за Смоленское сражение имеет орден Красного Знамени, по документам! Воин Александра Македонского, от таланта, от Бога, а его, Живую Совесть, Совесть Руси, с петлею на шею, как труса, ведут на расстрел! И теперь скинули, как шлюху, в штрафную роту! И там удар пастушьим кнутом по сердцу, и теперь удар хлыстом по сердцу! Как не услышать свое оскорбление, свое безвинное оскорбление? И как жить во все времена с безвинным унижением и оскорблением? В добром веке, я бы вызвал судью Военного трибунала на дуэль!
Теперь, я бы застрелился! Я бы не мог нести в себе столько Человеческого Зла!
─ Ему тоже надо застрелиться?
─ Ты в исповеди милосердия, изволила заметить, он сильнее меня!
─ Никак тебе не в осуждение.
─ Ты врач, я не могу пресекать твое солнечное свечение от молитвы! Ты права, он сильнее, раз не застрелился! Но он теперь всем Мститель, за свою безвинность, за свое оскорбление, он есть Стрела Робин Гуда, которая летит в мою сторону! Остается ставить штрафника на самые опасные позиции, пусть Мстительность изольется на врага!
─ Так его скорее убьют?
─ Верно, так его скорее убьют, ─ охотно согласился командир роты.
─ И ты того хочешь?
─ Хочу. Но его не убьют! Он воин, моя Клеопатра! Его спасут боги Руси!
Угадав его настроение, аккордеонист лихо заиграл:
В нашу гавань заходили корабли, корабли,
Большие корабли из океана.
В таверне веселились моряки
И пили за здоровье капитана.
Выйдя из землянки, Александр Башкин еле дошел до сосны, обнял ее, прижался щекою и скорее, скорее пытался насытить себя чистым, свежим воздухом. Еще раз оскорбленная, надруганная душа его плакала. Подошел Котов, спросил, почему такое настроение?
─ С командиром роты знакомился. Сволочь. И на фашиста смахивает, чистое лицо арийца. Убил бы.
─ И убьем! Раз фашист, ─ легко согласился Котов. ─ Как сам по себе, строг, добр? За тобою иду на исповедь.
─ И строг, и добр. И самодур!
Петро Котов перекрестился, и смело стал спускаться в землянку командира роты.
Александр Башкин еще постоял, посмотрел на звезды. И ощутил, как вживую закружились каруселью земля и небо. Он собрал волю, и, пьяно шатаясь, отправился в пристанище, в барак. С житием еще не отладили, и штрафники спали, кто как, кто властелином лег на нары, кто бомжем-изгоем спал на полу. Башкин поставил винтовку в козлы, бросил охапку сена на земляной пол, положил под голову вещевой мешок, укрылся шинелью и ушел в сладкий сон, отринув себя от мерзости земной жизни. Проснулся от страшного крика командира роты, который резко отдавался эхом в лесу:
─ В ружье, волки позорные! Чего попрятались по землянкам? Занять огневой рубеж!
III
Танковая армия Гудериана повелительно рвалась к Москве. Защищать с неумолимою храбростью и жертвенностью, с кровопролитными боями приходилось каждый город. Удержать врага на сутки, считалось подвигом, ибо расстояние до столицы сокращалось и сокращалось до боли, до обреченности! Полки Константина Рокоссовского, где сражался Александр Башкин, защищали город Юхнов, расположившись на правом берегу реки Рессы, у деревень Рыляки и Емельяново.
Пятого октября, с самого утра, по защитникам города, с неумолимою силою ударила тяжелая артиллерия. В небе тьмою повисли самолеты-крестоносцы, сбрасывая со свистящим страшным воем бомбы. В бесконечном грохоте разрывов ощутимо дрожала земля. Высокими столбами клубились черные дымы. Они смыкался с облаками. В разливе грохота и огня ввысь взлетали в лесу сосны, вырванные из земли с корнем, огромные камни, словно выброшенные из огненного вулкана, растерзанные человеческие тела. Нескончаемо, изорванные бомбами и снарядами, стонали на поле-побоище раненые, сгорающие люди. Воины, кого еще не обняла смерть, бежали, пригибаясь, к траншеям. Вместе со всеми на поле боя бежали и штрафники Александр Башкин, Петр Котов.
Два часа шло избиение русского воинства. И только возникла оглушительная тишина, как танки-крестоносцы с десантом на борту, пошли в атаку на Юхнов, с полным, зловещим желанием перепахать гусеницами все живое, смешать с землею и кровью; и вознести на здании Совета победный флаг со свастикою. Грозная сила катила по полю широко и властно, оглашая пространство зловещим гулом моторов. Едва танки зловеще приблизились, по ним прицельно ударила наша артиллерия. Могучие орудия исступленно, с жутким ревом выбрасывали снаряды, мстительно поджигали вражеские машины, сметали с брони десант. Смерть косила немцев. Но танки-крестоносцы упрямо, повелительно шли вперед, не сбиваясь с направления, все больше вжимаясь в оборону, сближаясь с защитниками города.
Сражение ожесточалось.
Штрафные батальоны занимали передние траншеи. Бились мужественно. Воина Башкина командир роты выдвинул стрелою еще дальше на поле-побоище, под самые пули, под самые танки, и ему поневоле первому принимать на себя всю броневую силу. Он бился в окопе с Петром Котовым. Бился люто. Он давно отложил винтовку в сторону, взял противотанковое ружье у соседа-бронебойщика, кого сразил танк-крестоносец. И бил прицельно по первым машинам, стараясь попасть в борт башни, где зловещим пауком красовался черный крест, или в бензобак; он знал уязвимые места танка, из битв под Ярцевом.
Подбитые немецкие танки не считал. Ни законные воины Руси, ни штрафники! На каждого было одно великое, святое поле битвы.
Командир роты капитан Молодцов умело командовал боем. Но в пламя огня не лез. По рации, через порученца, приказывал взводным, на какую позицию выкатить орудие, какие танки окружить огнем и выбить в первую очередь, если требовалось, не жалея, посылал штрафников в атаки.
Сражение нарастало. Обе стороны бились люто. Неистово бесстрашные немецкие танки сумели сломить русскую оборону.
Танки и пехота с хоровым, пьяным ревом, вал за валом вкатывалась на последний редут. Штрафники дрались как обреченные. Часто вступали врукопашную, кололи фашиста кинжалом, штыком. Танки неостановимым тараном пробивались к Юхнову.
От колонны Три машины, зловеще гудя моторами, издали ринулись на окоп, в глубине которого находились Башкин и Котов, отбиваясь от яростно наседавшего врага гранатою.
Котов не выдержал:
─ Саша, по нашу душу. Избранно! Видишь, как мы им поднасолили. Надо отступить! Сомнут, как степную былинку.
─ Куда отступать? Молодцов пристрелит! Не пристрелит, отдаст на суд Военного трибунала? Лучше поборемся!
─ Саша, о чем ты печалишься? Нас командир роты Молодцов уже отдал на суд Военного трибунала! Ужели не видишь, где мы воюем? Он тебя выдвинул под самые пули, под самые танки!
Башкин повернул лицо, прокопченное от порохового дыма, жарко, нервно прокричал:
─ Я без приказа не отступлю! Смотри, все штрафники бьются! Отсеки пехоту от танков! И прикрой меня. Я отгоню танки! Они же в город Юхнов мчат!
─ Не доберешься! Собьет танк!
Но Башкин был разгорячен боем, и уже ничего не слышал. Он быстро вынул из окопной ниши гранаты, сложил в подсумок, и смело, в ожесточении побежал по извилистой траншее навстречу танкам. Они заметили невероятно храброго воина и открыли огонь. Но машины были так близко, что пушечные снаряды пролетали над головою и только опаляли жарким дыханием, разрывались за окопами. Очереди из пулеметов в упор были -страшнее, они могли убить каждую секунду. Котов в это время бешено палил из миномета, снимая немецкую пехоту с брони, отсекая ее от танков.
У края траншеи Башкин залег, оцепенел, притворившись убитым. И стал оттуда с напряжением, очень осторожно наблюдать за движением машин. Они шли прямо на воина, осыпая пулями. Подпустив передний танк к самому рубежу, он глубоко надвинул каску, распрямился и бросил шесть гранат. Танк потонул в рыжем, свирепом огне, из башни повалил черный дым. «Один, да мой, чистый», ─ с удовольствием отметил Александр. На второй танк гранат недостало. Три брошенные разорвались рядом, но машина не вспыхнула в пламени, а с разорванными гусеницами закружилась на месте. Орудие ее и пулеметы гибельным огнем поливали наши окопы. Башкин сгоряча вскочил на ее броню, вежливо постучал по люку. И когда он приоткрылся, бросил в живую, человеческую глубину последнюю гранату. И быстро спрыгнул в траншею, пережидая взрыв.
Только ночь прервала неравный поединок. Штрафные батальоны выиграли его, остановили танки Гудериана, не пустили врага в Юхнов.
Но фашисты не думали сдаваться. Воля фюрера, взять Москву на Седьмое ноября, была непреклонною. Только-только солнце озолотило в несказанной красоте землю, как по позициям Западного фронта ударила вражеская артиллерия. И тут же налетели несметною тучею самолеты-крестоносцы. Бомбили с предельным ожесточением, как отмщением за проигранное сражение. В сплошном гибельном урагане летели снаряды и бомбы, стонала, содрогалась земля, осыпались окопы и траншеи. Люди умирали, не издав крика, не почувствовав смерти, разорванные снарядами, сожженные в огне, заживо засыпанные землею. Штрафник Башкин еще жил и с тревогою втягивался глубже в окоп, то и дело поправлял каску, какая бесконечно и обреченно осыпалась горячими осколками, прижимая к себе тяжелые связки гранат. Он жил ожиданием страшной битвы, где все должны были погибнуть, вознестись и исчезнуть искрами пожара в родную русскую землю, горестно целуя ее в последний раз.
Враг приговорил русское воинство. И смерть отплясывала над окопами зловещий танец.
Вскоре с неумолимою силою пошли в атаку немецкие танки с пехотою. Натиск был страшен, в битве пали села Слободка, Климов Завод, Беляево. И по мосту через реку Угру танковая армия ворвалась в Юхнов, как не бились героями русские воины.
Возникла угроза окружения!
Дабы сберечь силы, поступил приказ отступить.
Вместе со всеми отступал к Москве и пехотинец-штрафник Александр Башкин. На душе было прескверно. Он знал, что враг не победил. И не победит. Пока он берет превосходством, диким числом. Но было обидно. Обидно! Столько выиграно битв, столько кружила метель-смерть, столько омыта кровью земля Русская, и во всю Русь, во всю Русь страшные братские могилы, братские могилы, как болевые, кровавые раны земли, и что? Все напрасно? Есть еще слезы матери Человеческой, слезы молодой вдовы-россиянки, что сползла в безумии по косяку двери с похоронкою в руке, есть еще слезы ребенка, что остался сиротою!
И что? Тоже все напрасно?
Александр Башкин слышит себя, слышит свое сердце! Он воин Руси! Защитник Руси! Он не может не слышать русское сердце, русскую боль, русское горе!
Все Земные Русские Печали не заглушить и в себе!
Он тоже человеческая сущность от матери Человеческой, от сестры, от брата, от каждого человека, что живет на земле!
И человеческая сущность от Руси, какое заполнено-переполнено болью и плачем; в плаче восходит на русской земле солнце, загораются звезды, в плаче цветут яблоневые сады и хлебные колосья, в плаче поет иволга на березе, ромашки и медуница покрываются на заре росою. И снова отступаем, отступаем! Сдали Юхнов! Еще на один город фашистские орды приблизились к столице! Страшно признать, до Москвы 212 километров! Танковая армия Гудериана может проскочить это расстояние за четыре часа, и бей, сколько тебе надо, из пушек по Кремлю!
Чем, чем же укротить мученическую тоску души?
Тяжкое время. Страшное время!
IV
Отступающая рота Ивана Молодцова сделала привал в тихом, сумрачном лесу, как раз перед Медынью. Командир роты поселился в брошенной землянке с накатами вместе с врачом Диною Трубецкою и приближенными уголовниками, рота жила на воле, в лесу, где разожгла костры, грела тушенку, ужинала, курила, балагурила.
В офицерском пьяно-песенном пристанище без устали пили коньяк, аккордеонист Сеня Выходцев с воровскою кличкою Князь, в разгул пел блатные песни. Никто печали не ожидал, но печаль явилась. Радист подал командиру Ивану Молодцову радиограмму из штаба армии Константина Рокоссовского. Прочитав ее, он нервно зажал е в кулаке, во зло произнес:
─ Сволочи, сволочи
Дина Трубецкая обняла его:
─ Что случилось, Иван? Роту окружили танки с черными крестами?
Он налил в стакан коньяк, нервно выпил:
─ Еще не окружили. Но окружат! ─ И в злобе добавил: ─ Идиоты! Безмозглые идиоты! Фронт рухнул! Смерть черным коршуном кружит над русским воинством! Не знаешь, где немецкие танки, где свои! Прострелы звучат, как хор плакальщиц, во всю Русскую землю! Не знаешь, как выжить, добраться к своим, а мне приказывают занять оборону под Медынью, и сутки, сдерживать танки Гудериана на пути к Москве! Армии разбиты, окружены, а мы, горстка штрафников, должны вершить подвиг от бессмыслицы, от обреченности! Не идиотизм?
─ Все рассчитано, Иван, ─с усмешкою отозвался уголовник-аккордеонист. ─ Чудом остались живыми под Юхново, надо добить под Медынью! Смертники, что сделаешь!
Вскоре рота была поднята по тревоге. Выстроена на опушке леса. Не сгибаясь от холодного ветра, командир Молодцов бодро прошелся перед строем, всматриваясь синими, добрыми глазами в напряженные лица, поднялся на возвышение.
─ Господа фраера! ─ громко произнес он. ─ Нам всем уготована смерть необыкновенная! По рации получена радиограмма за подписью генерала армии Константина Рокоссовского, с приказом оставить заслон! Пал Юхнов, путь на Москву фашисту открыт! Генералы срочно выстраивают новую оборону, в связке Волоколамск ─ Можайск ─ Малоярославец ─ Калуга. И самое дикое, господа фраера, от Юхнова до Москвы ни одного воина с ружьем! Кати до Москвы, как на свадебной тройке, играй в гармонь, на балалайке, и песни пой удалые!
Почему и требуется на сутки задержать отборные эсэсовские танки «Великая Германия» под началом генерала Хейнца Гудериана, дабы мало-мало выстроили рубеж у Москвы!
Он строго посмотрел:
─ Гибнет Россия, господа-фраера! Кто желает добровольно пострадать за Отечество?
Башкин смело шагнул вперед, но, увидев, что вся рота даже не шевельнулась, стояла как каменная, вернулся обратно.
─ Не торопись к батьке в пекло, ─ осадил его Котов, придерживая за рукав шинели. ─ Рота должна остаться вся в заслоне. Или никто! Осмыслил настроение братвы? Рвешься, сам не знаешь куда.
Командир роты повысил голос:
─ Что притихли, урки без роду и племени? И воровать вы умеете, и воевать. Героями бились под Юхново! Что же, храбрецов не осталось? Пусть теперь фашист гуляет по Русской земле? ─ Он проницательно посмотрел на солдат; они, усталые, изнуренные, тяжело дышали, спешили отвести взгляд. ─ Я понимаю вас, господа волки позорные! Понимаю. Это приказ идиота! Но если советские генералы есть идиоты, то какие у горе-вояк могут быть еще приказы? Понимаю, мы штрафники, и мы свыклись ─ красиво и мне, и каждому погибнуть за Отечество в честном бою! Нас же выбрасывают на косьбу, на сечу, как дурную траву.
Не страшна смерть!
Страшно презрение к штрафникам!
Как можем мы, сорок окороков, сдержать танки Гудериана? Кто скажет? Нас перемешают с землею и кровью так, что даже имени не останется! Но что делать, господа фраера? Советские генералы, самозванцы безмозглые, довоевались, как видим, до сумы! Но они ─ генералы. И приказ надо выполнять. Еще спрашиваю, есть добровольцы? Шаг вперед!
─ Или все, или никто, командир! подал голос Петр Котов.
─ Разумный глас народа. Это дурни-отцы в 17 пели: «И как один умрем в борьбе за это!» За что за это? За женское междуножье? За лобки в томатном соусе? Но это было дело отцов! Каждый умирает в одиночку! И как хочет!. Он от Бога наделен таким правом!. Мы должны выжить. Верно?
По строю прокатилось согласие. Башкин опять было попытался сделать шаг вперед, но Котов за рукав шинели остановил его.
─ Подожди. Посмотрим, что будет дальше. Не нравится мне командир роты.
─ Почему? ─ тихо спросил фронтовой друг.
─ Не знаю. Не внушает доверия. Сам офицер, и свою же братию называет прилюдно безмозглыми шавками!
─ Пьян он, ─ по справедливости отозвался Башкин.
─ Кто пьян да умен, два угодья в нем. Он фашист! Сердцем чую. И, похоже, был бы не против, если бы танки Гудериана прошли к Москве!
Услышав перешепот, капитан Молодцов строго потребовал:
─ Прекратить разговоры в строю! В кровавом корыте искупать, как свиней! ─ И мягче продолжил: ─ Но всем выжить, господа фраера, не удастся! Над нашею ротою опустилась ночь без звезд. Война есть война! Она без жертв не бывает. Будем сами искать добровольцев. Под дулом пистолета.
Командир подошел к рослому солдату, он стоял развязно, шинель расстегнута нараспашку.
Строго спросил:
─ Фамилия?
─ Иосиф Пересвист.
─ Профессия?
─ Вор в законе.
Подумав, командир роты подошел к соседу:
─Твоя фамилия?
─ Ньютон! Кличка, начальник. Дальше не помню. Родился в тряпье, от проститутки и вора, на Хитровом рынке в Москве. Как звали отца, не знаю. И у матери я фамилию не спрашивал. Она, небось, и сама не знала. Но звали ее Нюрка. Хорошо с блатными танцевала чарльстон. Так и нарекли по воровским святцам ─Ньютон.
─ Гениально! Прелестно! ─ сдержанно побил его по щеке капитан. ─ Те урки не были лишены остроумия. Но прежде ты солдат! Сын Отечества! Не хочешь добровольно умереть на поле битвы, дабы вечно жила твоя Россия?
─ Я не шестерка, начальник. Я вор. Зачислен в штрафную роту по принуждению. На хрена мне эти завитушки? Если все, то и я! Всем миром, согласен.
Капитан Молодцов призадумался:
─ Одни воры. Некого в заслоне оставить.
Сеня уголовник, он шел следом, тихо подсказал:
─ Бери за рога врага народа, суку политическую, кто по пятьдесят восьмой. И вся недолга. Им сам товарищ Сталин наказал: умереть в бою с честью. Оставишь воров в заслоне, сбегут. Голову на отсечение. Эти как бы честные. Живут по совести. Куда денутся?
Оказавшись рядом с Башкиным, командир роты в упор, брезгливо спросил:
─ Ты, кажется, политический? Враг народа?
Башкина задело. Он сбросил поводья:
─ Я солдат России, а не враг народа.
Офицер посмеялся.
─ Ты чего на меня злишься, солдат России? Разве я тебя в политические суки списал? Судил по расстрельной пятьдесят восьмой статье? В камере смертника держал? Чуть не расстрелял?
─ Я не сука, а воин России, ─ с отчаянием пошел наперекор Башкин, чувствуя, как от обиды разжигаются черные молнии в сердце, а сам он переполняется гневом и ненавистью. ─ И не тычь мне «политическою сукою». Я с тобою свиней не пас.
Командир роты взбеленился:
─ Что-о? Перечить офицеру? Пристрелю, вражеская сволочь! Армию мне разлагаешь? ─ Он вынул из кобуры пистолет. ─ Шаг вперед! Автомат на землю. К вековому дубу бего-ом марш!
─ Остановись, командир, ─ потребовал Котов. ─ Ужели не за грош жизнь хочешь загубить? Он в бою под Юхново подбил четыре танка, пехоты накосил немыслимо сколько. Пусть опять с танками повоюет. Умрет хоть с честью, героем! Все для себя приятнее.
─ Отставить разговорчики в строю! Тоже хочешь в кровавое корыто? Затолкаю, как недорезанную свинью! Живьем в собственной крови захлебнешься! Смотрите, анархию развели. Вы где, в армии или в воровском притоне?
При виде нацеленного пистолета у Башкина в мгновение вызрело желание в броске, перед смертью, пронзить гадину штыком, так и так погибать, но быстро просчитал: момент упущен и теперь не успеет. Командир роты застрелит. Да и его ординарец-уголовник нацелил автомат, держит палец на курке. Он смиренно положил автомат на мерзлую землю и пошел к дубу, на казнь, на свой эшафот, горестно раздумывая, что опять умереть суждено за упрямство, за недомыслие, за свой сложный характер.
Но пресмыкаться, жить животным он не умел. И не мог мириться, когда унижают, оскорбляют его честь и достоинство. К смерти он уже настолько привык, что не страшился ее. Как говорится, чему быть, того не миновать. В тюрьме не отвели на расстрел, хотя должны бы. Спасся чудом! Но, видимо, жизнь всерьез решила его уничтожить. За какие вот только грехи? За бескорыстное служение России? Сколько раз она спасала в бою. Дарила отвагу. Наполняла сердце гордостью. И богатырской силою. И он сокрушал немца. Был непобедим. Почему же вне ратного поля одни сокрушающие, убивающие превратности судьбы? И опять он подумал о матери: узнает ли она, где будет его могила, и будет ли? Бросят, как падаль, на съедение зверью, а сами сбегут, скроются в лесной чаще! И когда прозвучат победные залпы салюта, начнут втискиваться в благородную память народа. И мы спасали Отечество от черной беды! И как он умрет? Страшно подумать. Умрет трусом, политическою сукою. Внутри все холодело. Кто знал, что так окончится жизнь? Что чувствовали декабристы с Сенатской площади, те, приговоренные к повешенью, когда веревка на эшафоте обрывалась. И они вновь возвращались к жизни. И снова шли на казнь. На смерть. О, как дико и страшно там умирать! Он тоже идет на казнь, на эшафот, с оборванною петлею. И опять не знает, умрет или выживет? Оборвется еще раз веревка или не оборвется? Разве за тем он пошел добровольцем на фронт? Он пошел защищать Отечество. И принять смерть за его величие. А как принимает ее? Как умирает? Господи! Прозри мою маму, измученную предчувствием и гибельною тоскою о сыне. Помоги ей. Куда я попал? Куда? В штрафбат. К ворам и убийцам. К командиру-самодуру.
Башкин остановился у камня. Посмотрел на небо. Оно было голубым. Тихо и мирно плыли белые облака, словно не было войны, горя людского. Вдали кружились смолисто-черные вороны, зловеще каркали. Ясно о чем. О его гибели. Обсуждали человеческую смерть на своем языке. Интересно, по злобе? Или сострадали?
─ Встань спиною, ─ услышал он, как свистящие пули, выкрик командира роты.
─Так стреляй, сатана!
─ Повернись спиною, ─ взревел командир роты.
─ Так стреляй! В сердце. Я хочу видеть свою смерть. И палача Пилата, ─ в страшном гневе прокричал воин.
─ Встань на колени. И проси прощения.
─ Услышишь, сука, от меня прощение! Петро, матери отпиши. Погиб как надо! Как человек! По чести и совести! Тула, Мордвес, Мария Башкина, ─ только и успел крикнуть юноша от обреченности. И уловил над головою до боли и слез знакомые пересвисты пуль. Все, что он подумал в прощальное мгновение, было, ─ наконец отмучился!
Эти горестные, простые слова разорвались в сердце. Вместе с сердцем. И в одну секунду, в одно мгновение прокрутилось все его земное житие. Первою он увидел матерь Человеческую, она стояла на крыльце, в тоске тянула руки. Во всю Русь. Как Ярославна к мужу Игорю, попавшему в полон к половецкому хану. И упала, закружилась в черном вихре.
Потом всплыла его деревня, его маленькая родина, его крестьянское отечество. И тоже все быстро закружилось в пляске, в хороводе: березы с иволгами, речка с карасями, табун лошадей в ночном, звездное небо, облака, могила отца на кладбище в Стомне, его могила рядом. Без креста и звезды. И все стремительно исчезло. Ушло в снег. Под саван. Но жизнь еще не кончилась. Воочию, близко-близко встали сестры Нина и Аннушка, белокурые малолеточки. Они плакали, тянули тонкие ладони, с болью спрашивали: «Сашенька, братик, родненький, ты опять уходишь? Как в тюрьме, в камере смертников? Зачем? За что тебя убивают? К нам все чаще приходит домой твоя любимая Капитолина. Хитро, бесстрастно, но спрашивает о тебе. Зачем ты хочешь оставить ее сиротою? Вас небесные боги отдарили любовью на всю жизнь, на всю вечность! Как же любовь будет жить без тебя? Не уходи, родненький, не исчезай, братка!» Затем он увидел братьев Ивана и Алексея. Иван воевал и бежал по полю сражения в атаку. Алексей степенно вел под уздцы его любимого Левитана по пыльной проселочной дороге. Скорее всего, в ночное, в луговые дали с кострами, с премилым течением реки, сиянием звезд и месяца, в его пленительное и таинственное детство.
И все. Течение жизни остановилось. Но, странное дело, воин-штрафник Александр Башкин все слышал и слышал, как мимо проносились пули. Еще, затем еще. Пули летели, как пчелы, с тонким, но грозным свистом. А он все стоял и стоял, не падал в свое вечное святилище. Словно был сделан из камня, из вечности. И даже не был ранен. Ибо не было ни боли, ни крови, ни испуга, ничего.
Было только одно удивление, которое все больше возрастало, мучило. Убит или не убит? В чем дело? Если слышит жизнь, значит, не убит. Почему? Разве и так бывает? Столько пуль пронеслось мимо, все летели в его сердце, в его сердце, и пистолет командира роты черным дулом смотрит на обреченного, озаряясь при выстреле пламенем, а он все не убит. Почему? Или уже убит? Только не слышит себя. Свою смерть. Странно все. Странно!
Понятно, он исчез. Его давно уже нет. Откуда он может жить, если его расстреляли? Он сошел с земли, ушел в вечность. Конечно, ушел. Давно-давно! Но должна быть тьма! Там, в могиле, в вечности ─ тьма! Почему же глаза излучают и излучают голубые рассветы? Почему так исступленно, так повелительно перекликаются и перекликаются в мире ─ свет жизни и тьма смерти, свет жизни и тьма смерти! И почему он слышит себя? Размышляет? Почему слышит крики птиц в поднебесье? Они что, там, где тьма, тоже есть? Бабушка говорила, там Эдемов сад! Там они взлетают жар-птицами!
Наконец он понимает, все ─ посмертная агония? Но откуда доносится смех? Смех командира роты! Тоже с того света? Не сошел ли он с ума? Или сходит!? От страха смерти? От страха расстрела? Но если он еще не убит, значит, остались силы открыть глаза и увидеть развеселого самодура? Он рукою протер глаза и в радужном свете увидел, как разудало, переламываясь, смеется командир роты, как с веселою бесшабашностью смеются все штрафники.
Теперь он нервно ощутил, как на плечо легла тяжелая ладонь капитана Ивана Молодцова, услышал его неожиданно добрые слова:
─ Все видели, какого отважного сына воскресила советская Россия? Я его, бунтовщика, именем России, за пререкание с командиром, приговорил к высшей мере социальной защиты ─ расстрелу. Но воин, ни одной пуле не поклонился, не встал на колени, не попросил пощады! Пошел на смерть, честно и жертвенно! Так и надо жить! По чести, по справедливости! Провинился, погибни! Проиграл себя в карты, убей себя! Проиграл в карты начальника лагеря, убей начальника! Ценю! Это и есть солдат России! Ее гордость, ее слава, ее бессмертие.
Только теперь воин Башкин понял, что к чему. Он жив, командир роты просто решил поглумиться; они испытывали друг к другу затаенную ненависть.
Офицер обнял воина:
─ Извини, братишка. Так было надо! В заградительном отряде должны остаться герои, которые не побегут в страхе перед танками-крестоносцами! Ты, как солдат Руси, от таланта, от Бога, выдержал испытание! ─ Он поцеловал его и незаметно сплюнул. ─ Я оставлю тебя в заслоне, ибо уверен и надеюсь, ты остановишь танки Гудериана! На кого еще надеяться? На господ фраеров? Сбегут, предадут! Иуды! Иуды!
Он внимательно, издали посмотрел на Башкина, произнес по величию:
─ И, право, горько, обидно, такого героя Советская власть списывает во враги народа!
─ Я не враг народа! ─ снова не согласился воин.
─ Гут, гут, как говорят фрицы. То есть хорошо, ─ быстро согласился капитан. Ты только политический.
─ Я не политический. Я защитник Отечества!
Командир роты опять взбеленился.
─Ты чего меня злишь, мужик? Я же тебя сейчас не за понюх табака в землю зарою, тварь ты вражья! Поиграть со смертью решил?
─Я комсомолец, а не тварь вражья! ─ с достоинством отозвался Башкин. ─ Был воспитанником Ленинского комсомола, им и останусь! Им и погибну!
Опять схватка вызревала на пистолетах. Но командир роты не стал, не рискнул еще поглумиться над непокорным воином, настроение штрафников было на стороне человека с мятежною душою.
Он неожиданно громко рассмеялся:
─ Видишь, комсомолец! Как же ты не штрафник от политики? Завтра вступишь в партию большевиков! Выходит, моя правда?
Боец Котов шагнул вперед.
─ Чего тебе?
─ Я с ним, ─ кивнул он на Башкина. ─Тоже добровольцем! Вместе будем танки сдерживать.
Командир кивнул:
─ Ценю! Похвально! Зачисляю в истребители танков!
Шагнули вперед еще штрафники.
─ Пиши и нас, командир, ─ отозвался штрафник с золотым зубом. ─ Мы тоже добровольно идем в заслон, в смертники!
Командир роты низко поклонился им:
─ Спасибо, друзья! Я всегда верил в силу русского духа. Почему и выпросился к вам в командиры! Но больше не надо, братишки! Все и так на честном слове! Чем отбиваться, осмыслите? На роту остались две гаубицы, противотанковые ружья. И по связке гранат на брата. Громада же катит несокрушимая, танки Гудериана растянулись по дороге Руси на 25 километров! Как ее сдержать? Армии не сдержали, оказались в окружении, фронт! ─ грозно напомнил он. ─ Мы же, сорок окороков, сдержим! Дураку понятно, от нас отрекаются, бросают на гибель, дабы не оскорбляли своим присутствием Русскую землю! Но мы не дадимся! Кому нужны погибшие, сраженные? Родине? Не Родине, а воронам, пожирателям падали! И безымянным кладбищам! Мы еще докажем свою правду! Я вас поведу к спасению. Доберемся до Подольска, где выстраивают крепость, вооружимся, ─ и будем бить танки Гудериана у Москвы! Все согласны?
Штрафники смотрели сумрачно, исподлобья, отозвались в разноголосье:
─Ты командир, как решишь, так и будет!
─ Жалко ребят на гибель оставлять. Сиротливо будет умирать. Вместе бы веселее.
─ На миру и смерть красна!
Вышел вперед штрафник щуплого кроя, поправил каску:
─ Господа, что же получается? Если мы все сбежим с поля битвы, то путь на Москву будет открыт! Войск-то на всем пути нет! Кати на свадебной тройке, целуй невесту-россиянку! Кто же умоет фашиста кровавыми слезами?
Командир роты сдвинул брови:
─ Кто такой?
─ Штрафник Бахновский! Статья 58-я.
─ Государственно мыслишь, ─ похвалил его капитан. ─ Останешься тоже в заслоне. Передать героям противотанковые ружья, ящики с гранатами. За командира оставляю Башкина.
Он строго помолчал:
─ Что хочу сказать на прощание, вам, герои? Вы поднимаете себя на распятье, на Голгофу, как Христос ─ по воле сердца, жертвенно, во имя человека и России! Ваш подвиг не будет забыт! Вам надо продержаться сутки! Останетесь живы, доложите в штаб генерала Рокоссовского, приказ выполнен. Рота капитана НКВД Ивана Молодцова полегла смертью героя! Кто избежал сафари, пробирается к Москве, бить фашиста! И спешите догнать роту. Мы идем лесами на Малоярославец. Я толково объяснил?
Башкин не испытывал желание общаться с командиром. Его неотвратимо мучили гнев и ненависть за то унижение, за то глумление с расстрелом, какое себе позволил капитан НКВД; скользкий он был, как змея. Не лежала душа к командиру, никак не лежала.
Но он подтянулся, по-военному четко ответил:
─ Так точно!
Глава тринадцатая
В ЗАСЛОНЕ НА ГИБЕЛЬ ОСТАЮТСЯ ТОЛЬКО ПЕЧАЛЬНИКИ РОССИИ
I
Обождав, когда рота скроется в густом лесу, Котов по печали напел:
Товарищ, товарищ, за что же мы сражались?
За что же проливали свою кровь?
Они же там воруют, они же там пируют
И водят пышных девок на любовь.
Пока есть время, не смыться ли и нам красиво в чародейские смоленские леса?
Переломив сухую ветку, Башкин тихо возразил:
─ Наше земное время истекло. Остается красиво умереть.
─ Все так, ─ тяжело вздохнул друг. ─ Но кто вернет матери живого сына?
─ Может, еще выживем, ─ отозвался третий штрафник. ─ Зачем заранее затевать погребальные мелодии? Кол-пидрэ по-еврейски.
─ Как величают, добровольно обреченный? ─ вежливо поинтересовался Петр. ─ Все приятнее со знакомыми, с достойными мира сего, подниматься в небо журавлями!
─ Савва Бахновский, смею представиться, ─ приложил он руку к груди. ─ Проще сказать, Себастьян Бах. Да, да, тот самый, великий композитор. Я им был. Жил двести лет назад. Естественно, умер. И был с великою народною скорбью, вознесен на небо, облачен в мраморный саркофаг, и собирался смиренно покоиться в своем бессмертии, слушать в усладу, как белокрылые ангелы играют на арфе мои произведения. И совершенно не думал о воскресении, о возвращении на землю.
Но дьявол шепнул мне, что на земле я признан гением. Я не поверил. Решил убедиться. И заявил себя в мир заново. Но оказался не Бахом, а сыном священника, кто служил в Москве в храме Василия Блаженного. И попал как раз в то время, когда над Русью кружили скорбные и гибельные коршуны революции! Мой родитель неурочно оказался не тем классом! Его, как безвинную русскую совесть, с первым пароходом еще при Ленине сослали на Соловки и расстреляли. Проще сказать, получилось все, как с Данко. Он, проповедник Христа, по чести, по милосердию вел народ Руси к свету, а народ от бунта, вырвал сердце из его груди и затоптал до последней искорки.
Мать Сима от горя сошла с ума. И умерла как блаженная, не чувствуя смерти! Я пошел воровать. Был удал и удачлив. Но повязался с иностранцем, понравилось его портмоне с загадочными долларами. Так я оказался на Лубянке, затем на рынке рабов, на знаменитой краснопресненской пересылке, а вскоре и в лагерь в Ховрине под Москвою. Начальником его был Резгин Мамулов, родной брат которого работал в секретариате НКВД у самого Лаврентия Берии.
Это был хороший палач. В лагере мы делали минометы и мины. Если бригада, чем провинится, расстреливал сам. Особенно любил убивать обнаженную женщину! Пока вертухаи выстраивали страдалиц на эшафоте, пока те раздевались, усиленно, в удовольствие разглаживал черные усы. И очень-очень напоминал дьявола.
Просыпался утром со слезами, в скорбном настроении, его палача, несказанно мучила лютая совесть, что он спьяну, ─ не стрелял, как Робин Гуд; не попадал метко в сердце, заглядевшись на пышную грудь. И Земную Радость, едва присыпанную во рву известью, приходилось дотаптывать трактором, чтобы не стонали и не шевелились. Спросите, а что я? Я играл палачу-печальнику на скрипке Баха, успокаивал его печаль. Он любил классическую музыку! И лезгинку! В награду я получал стакан водки, яблоко. И удара коленом.
Естественно, я пожелал его убить! Такая я сущность, неуживчивая! Не ужился в небесном раю, не ужился и в земном раю. Но, похоже, он, Мамулов, и был тот самый дьявол, который шепнул мне на небе ─ что я гений. И он по своим черным святцам, разгадал мою задумку! И жизнь пошла по святцам: больше работы, меньше еды. И холодные карцеры, карцеры, где можешь стать льдиною и уплыть в море-океан. Я подал заявление на фронт: лучше умереть в штрафном батальоне, как свободному зверю в лесу, чем рабом в карцере-гробнице! Так мне показалось лучше, душевнее.
Спросите, что Мамулов? Он на прощание просил трое суток играть на скрипке Баха и Бетховена. И я играл, играл! И он, растрогавшись, даже поцеловал. И со слезами просил: если не убьют на фронте, вернуться в лагерь досиживать срок. И снова играть музыку Баха. Уж очень он полюбил ее земное звучание. Похоже, в аду она звучала не так.
Савва помолчал:
─ Но я, скорее, не вернусь. Вернусь на небо! В свое бессмертие. Так что смерти я не боюсь. Танка-крестоносца тоже. Вас не предам! Ты это хотел узнать, любопытствующий отрок?
─ Наверное, да, ─ весело отозвался Котов, закуривая, пряча цигарку в рукав шинели. ─ Коли ты Себастьян Бах, то я апостол Петр, а этот фраер, ─ он кивнул на Башкина, ─ Александр Македонский. Любопытно, как все трое встретились в одном веке? И где? Под Медынью! Одни знаменитости! Даже умирать расхотелось.
Башкин осудил друга:
─ Не надоело печалить сердце, все о смерти, о смерти?
─ Не она страшна, Саша, не ее таинственность. Сам я себе страшен. Кем умру, и не знаю! Кто я? Уголовный преступник? Защитник Отечества? Или убийца, который не чувствует вины, что убивает на земле людей, таких, как я, и считает себя вершителем добра и справедливости! На какой черте я завершаю свое бытие? Кем? Вот о чем печаль. Но мы жили! И уже хорошо! Ты, Савва, не спеши в Божьи ратники записываться! Сыграешь над моею могилою музыку Баха. Я люблю такие приятности.
Ночь была красивая. Всходила все выше к Млечному пути огромная луна, раскидывая таинственный свет над лесом, тревожа думы о мирной жизни, о далеком доме. Несказанно уютною казалась тишина. И очень напоминала матерь Человеческую, какая по милосердию спрятала все боли земные, военные пожарища, зловещие завывания бомб и разрывы снарядов, стоны раненого и стоны умирающего воина Руси на поле битвы, кто шел в атаку, а ушел в вечность. Вобрала в свое скорбное сердце и затаила на все времена, дабы никто не слышал страдания над Русью.
Башкин встал, предложил:
─ Надо осмотреть место поединка.
Они прошли по шоссе, осмотрели глубину поля, сам лес, крутые взгорки.
─ Чего его осматривать? ─ грустно возразил Котов. ─ Спать я хочу, как зимний барсук. Выспаться бы хорошо, и изготовить себя на подвиг и жертву. Сдается, больше часа не продержимся.
─ Больше продержимся, если выберем выгодные рубежи, ─ уверенно заверил Башкин.
И неожиданно с силою толкнул друга:
─ Смотри, Петро, смотри, да тут на радость гладиаторам русского Колизея, вырыты окопы, траншея! Похоже, русское воинство выстраивало заградительные укрепления перед Медынью, а немецкие самолеты согнали! Смотри, вокруг могилы-взрывы, могилы-взрывы!
Он спрыгнул в траншею, посмотрел сквозь прицел винтовки на поле:
─ Сектор прицела классический. И траншея вырыта подковою. Разумно, как западня для танка!
─ Западня? Любопытно! Поясни, ─ попросил Котов.
─ Танки Гудериана стрелою мчат через Юхново, по мосту через Угру, его стерегут фашисты, и выскакивают на Варшавское шоссе и мчат в град-столицу! И что хорошо, они уверены: Красная армия, выходя из окружения, отступила за Медынь. И будут мчать тяжелой броней по шоссе в абсолютном покое.
Мы цепляем толовые шашки к вековым соснам, вовремя взрываем и глубоко преграждаем путь танкам! Куда свернут танки? В лес не свернут, там полная непроходимость! В голую степь, где торфяные болота, тоже не свернут, там все в болоте увязнут, потонут! Дабы миновать преграду и снова выбраться на шоссе, путь один ─ идти в мерзлое, скользкое поле, как раз в подкову траншеи! В наши объятия! Поле в кочках и кустарнике.
Маневренность их будет ослаблена. И мы бьем желанные танки с близкого расстояния! На месте не стоим, передвигаемся от гранатомета до гранатомета. Выстрелил, беги, ты знаешь, туда летят снаряды из танка! Теперь бей из противотанкового ружья!
─ Своеобразная игра в кошки-мышки? ─ довольно улыбнулся штрафник Сава.
─ Игра только в мышки, ─ остудил его радость Петр. ─ Слишком сильны кошки. Они не выпустят свою добычу!
─ Как будем воевать, ─ резонно заметил Башкин. ─ Если играючи, выживем! Если в сердце услышим страх, проиграем!
В битве каждый час, каждое мгновение могут быть последними! Есть ли защита от летящих пуль? Да, есть. И единственная! Это сильная воля, желание выжить, выжить во что бы то ни стало! Слабые погибают, как солома в огне! Опускается на дно кровавой, бездонной ямы! Ясно? Таковы святые неразгаданные таинства битвы! Человек от храбрости, от мужеств как заколдован от пуль! Тот, кто постоянно думает: вот-вот убьют, того и настигает снаряд! Словно он живой и знает, кто его боится. Туда и летит! И бессильны ему помочь даже ангелы-хранители, которые есть у каждого человека.
─Ты зажег во мне пламень веры! ─ иронично произнес Котов. ─ Но загадка смерти, наверное, существует и в твоем таинстве! Согласен, братка.
─ Существует, брат! ─ не стал скрывать воин Башкин. ─ Но я уверен, сутки продержимся! Но надо забыть о себе, надо биться и биться! Танк Гудериана собьются в стадо, как обезумевшие звери! Мы бьем с близкого расстояния! Только с близкого! Не сразил танк с первого выстрела, больше не пытайся. Не получится. Зальет свинцом. Беги в укрытие, к другому заряженному гранатомету. Сразил, бей того, кто идет на тебя следом. И вся военная наука!
Вблизи они слепы, как щенята! Танк страшен грозным величием! Бьют только пулеметы! Я сколько ходил на танки, все было один к одному!
Котов потянул себя за ухо:
─ Слушай, талантливо. Ты воин от Бога! Жалко, что мы продержимся только сутки! Как считаешь, Себастьян Бах? Мальчишка восемнадцати лет, а как рассуждает! Стратег! Выжил бы, стал военачальником, полководцем! Башка варит, ум по фамилии! Жалко Родина жертвенников не оценит! Так, Себастьян?
Штрафник стал серьезным.
─ Родина, которая убила отца? Которая заковала меня в цепи за то, что я сын проповедника Христа? Нет, я не знаю ее, Родины. Я умираю как свободный человек! Как человек земли, сын ее! Таким образом, не учи меня, как погибнуть, дай мне погибнуть, как я хочу!
Александру Башкину не понравился разговор; воин гибнет только за Русь, почему и сливается с Русью на все бессмертие.
Он повелел:
─ Спать, господа, спать!
Сам он в первые дни войны хотел спать до потери сознания и спал, где придется, между боями. Спал на траве в холодном лесу, уткнувшись лицом в шинельную скатку; спал, прислонившись спиною к стене разрушенного горящего дома. Ничто не могло поколебать его благословенного сна ни рев немецкого бомбардировщика в небе, ни волчьи завывания бомб, ни страшные, свирепые раскаты орудия.
Но после безжалостного избивания контрразведчиками СМЕРШа, после Вяземской тюрьмы с могильною камерою смертника, вынесения приговора о расстреле, до слез и боли несправедливого, сон исчез. Оставил его. Он мог не спать бесконечно и оставаться живым, думающим. Но, естественно, нервы это подтачивало, чего в юности еще не ощущалось. В душе сохранялся покой, думы были чисты.
Он у крепости остался часовым! Побыть наедине с ночью, с живым существом, было тоже чарующим явлением. Он слышал, как синие звезды ласкали его, то ли звали ввысь, к богам Руси, то ли вливали силу и энергию в его сердце для битвы.
Временами звезды звенели, как бубенцы под дугою свадебной тройки.
И тогда сладко думалось о Капитолине!
О девочке-россиянке в родном Пряхине.
О любви думалось, о жизни, но не о смерти!
II
Едва заголубел рассвет, как с аэродрома Юхнова взмыли в небо с могучим ревом немецкие бомбардировщики. И полетели, как злобная стая коршунов, бомбить Москву. Затаенную в лесу крепость, не удосужили даже мимолетным вниманием. Вскоре на Варшавском шоссе показались танковая армия Гудериана.
Командир крохотного гарнизона громко известил:
─ Танки, друзья! Танки! Изготовиться к бою. Не сжимать себя в нерве! Сердцем чувствовать поле битвы! Страх изжить! Воззвать смелость, и только смелость! Ударил по танку, раз, два, смени позицию. Туда тьмою полетят снаряды!
Воинство залегло за противотанковые ружья.
Фашистские танки приближались быстро, колонною. В каждом жили сила и несокрушимость. Линия фронта у Москвы; и была ли она эта линия фронта в классическом смысле? Наше русское воинство сражалось в окружении. И, естественно, немцы и отдаленно не помышляли по пути к столице Сталина, наткнуться на сопротивление. На переднем командирском танке красивый лощеный офицер, он приоткрыл люк и с высоты башни самодовольно рассматривал в бинокль бесконечную дорогу, густые, высокие ели в лесу, и, скорее, забыв об опасности, по ласке вспоминал родную Баварию.
Башкин подорвал шашки. Могучие сосны упали на шоссе, преградили путь колонне. Офицер замер, рука его, державшая бинокль, вздрогнула. Он приказал не задерживаться, быстро съезжать на поле и продолжать движение. Танки съехали со скользкой обочины в поле, и как раз колонною зашли в западню, в саму подкову, какая сжималась траншеями. Рев их моторов оглушал. Оставалось сто метров, тридцать. Башкин выстрелил по танку из гаубицы первым, следом, из противотанкового ружья ударил Котов. Из гранатомета залп за залпом позволил себе штрафник Савва. Меткие залпы в упор достигли цели, ни один снаряд не пропал даром. На поле боя неподвижно замерло четыре танка, источая клубы черного жирного дыма, возгорая крутым, рыжим пламенем. Слышно было, как с грохотом рвались боеприпасы.
Как и предсказывал Александр Башкин, танки скучились, сбились в стадо. Командиры не знали, как быть дальше: то ли отступать, то ли принимать бой? Но с кем? Где войско, где истребители танков? Паралич длился мгновение. Выйдя из оцепенения, вражеские машины всю огневую силу обрушили на лес, на окопы, откуда ударили гибельные и таинственные залпы. В небо взлетели разбитые гаубицы, столетние сосны, вырванные с корнем. От пушечных снарядов огненным смерчем покрылась вся земля, разрывы подняли ее на дыбы. Танки тараном пошли на бастион в лесу, немыслимо терзая русскую землю стальными гусеницами, и били, били из орудия по лесу, обращая его в костер Джордано Бруно.
Но гарнизон крепости давно покинул тот бастион-могилу, он знал, казнь того бастиона, непременно, свершится и переползли, переместили себя в траншеи. Танки оказались, как на ладони! И сами, того не желая, завлекательно подставили бока с черными крестами под выстрелы. И воины открыли огонь из гранатометов! Они удачно и метко пробивали легкоранимую боковую броню, бензобаки. Еще танки вознеслись на поле-побоище горящими факелами.
Кажется, со стоном, танки развернулись и от леса в злобном бессилии стали заливать свинцом траншеи. Но воины, невидимые в густом черном дыму, по-пластунски быстро перебрались в окопы, где стояли наготове противотанковые ружья, и стали из нового укрытия разить врага, угодившего в капкан, под огненную метель. Танки же не видели храбрецов, лезли напролом, кружились, сталкивались и мешали друг другу. Ближние танки закидывали гранатами, поджигая машину за машиною. Немецкая колонна танков была рассечена, раскрошена, сбита с маршрута. Враг в недоумении отступил к Юхнову.
Котов, черный от копоти, еле-еле пересиливая в себе усталость, не выдержал, крикнул по радости во всю землю:
─ Что, суки, побежали? Взяли русского солдата? Как мы умыли фрица, а? По мордасам, по мордасам березовым веником! Не ходи к девочкам-россиянкам в баню без разрешения! Ты гений, Сашка! Умно все рассчитал! Вблизи танки, слепые щенята! Быть тебе полковником! Такую громаду расстреляли! Себастьян, подсчитай, сколько намолотили?
Штрафник Савва был настолько изможден битвою, что лежал на земле без движения, обессилено раскинув руки, и задумчиво смотрел в небо, на плывущие облака.
Отозвался лениво:
─ Я тебе шестерка? Сам грамоте не обучен?
─ Откуда грамота, милок? ─ балагурил Котов. ─ Закончил два коридора церковно-приходской школы! Дальше не пустили! На Руси, сказали, и одного Ломоносова достаточно! Это вы, Себастьяны Бахи и священники из церкви Василия Блаженного обучаетесь в Париже, а мы в то время плугом скребем русскую пашню под ласковым дождем!
─ Странно! Пашешь русскую землю под ласковым дождем, а разум все не умыт!
Котов качнул головою:
─ Осерчал! ─ развернул к себе. ─ Не осуди. Настроение такое, близкое к истерике. Стараюсь согнать измученность, вновь распрямиться, как аленький цветок, попав в грозу!
Он посчитал горевшие танки:
─ Эба мама! Шесть утесов свалили! Чего со страха не сделаешь? Саша, за это Героя дают!
─ Героя дают посмертно, а мы живы!
─ Тоже верно. Лучше жить, чем быть героем! Но еще лучше, и жить, и быть героем! Явился бы я в свою Старую Руссу с золотою звездочкою, все бы девочки мои были. Охоч я до красавиц, особенно пышнотелые волновали. Вволю бы поцарствовал. Как Иван Грозный! Он дюже девочек любил! И люто изливался гневом и ненавистью, когда отказывали. Он такую отказницу приказывал распять на кресте в своей избе, над столом, где обедали, дабы мать и отец смотрели на обреченность и тревожили, тревожили в себе колокола совести, какую негодницу явили на свет ─ царскому желанию в отказ зашла.
Так и висела призраком в видимой могиле, пока он милостью не исходил, не давал похоронить ее по христианскому обычаю. Девицы на Руси стыдливые, целомудрие, и стали от похотливого царя прятаться! Так что надумал злодей! Слышишь, Себастьян? Повелел одним разом удавить по Москве каждую россиянку, за строгость и целомудрие! Отмщением удавить! И уже отдал приказ Малюте Скуратову, своему палачу. Едва бояре отговорили. Вот так и живем все века на Руси. Перевернуто.
─ Тебе ли, русичу, судить царя! ─ беззлобно отозвался сын священника. ─ Тебе цари, начиная с Великого князя Рюрика, внука Новгородского князя Гостомысла, выстроили такую Великую Русь, все флаги в гости! При царе Иване Грозном народу прибавилось 50 миллионов! И Русь стала на Сибирь больше; а это еще Русь! Все иноземцы кланялись Руси за ладную, красивую и богатую жизнь! И тебе, заблудшему отроку, надо бы кланяться за царскую Русь, не будь ее, и тебя бы не было, а ты могильные песнопения, с хором плакальщиц, в ее честь распеваешь! Устыдись, отрок!
Башкин довольно отозвался:
─ Пристыдил он тебя.
─ Пристыдил, ─ эхом Котов.
Он собрался, было, в отмщение, в гневе, выпустить все стрелы Робин Гуда в сына священника, дабы утолить свою обиду, но Александр Башкин сильно дернул его за рукав:
─ Ложись, живо!
Гарнизон притаился.
Со стороны Юхнова вылетел немецкий самолет-разведчик и стал усиленно кружить над загадочным редутом. «Рама» низко-пренизко опустилась к земле и стала зорко изучать и фотографировать каждый метр ее. Скорее всего, летчик недоумевал: траншеи пусты, движения никакого. Даже загадочные призраки не разгуливают по полю-побоищу, какое больше похоже на гробницу! Где же русское воинство, какое преградило путь на Москву танкам Гудериана?
Ушло в землю, как небесная молния? Варшавское шоссе пустынно, лес горит пожаром. Танки могла сдержать только рота! Где она? Не могли же истребители танков в сто человек так искусно замаскироваться? Не показалось ли все спьяну боевому генералу?
Но о чем раздумывать? Пусть бомбят крепость, обратят ее в камни! Он вызвал по рации бомбардировщиков. Всесильные «Юнкерсы» заходя на позицию шестерками, выстроившись в круг, кружа каруселью, затем срываясь в крутое пике, стали отчаянно бомбить каждую пядь картофельного поля, ближнего леса. От взрывов вздрогнула и вздыбилась земля. Горячие упругие волны густо и могильно осыпали укрытого воина взорванною землею, заваливали вырванными, изломанными, исковерканными деревьями. Все вокруг горело в огне, обратилось в пепелище. Свершив безнаказанно злобное дело, бомбардировщики удалились.
Один за другим выбирались штрафники из своего укрытия, старательно отряхиваясь от заснеженной земли, хвои.
─ Кажется, опять живем, ─ радостно произнес Котов, сворачивая цигарку. ─ Удивительно! Но как на поле битвы пляшет огонь! Всмотрись, Себастьян. Музыка! Смотри, как танцуют молнии! Красота! Вот о чем надо сочинить. Вселенская была бы музыка! Земля в сплошном пламени огня, а как он красив, огонь? Даже ветер притих, любуется! Пламя несет смерть и тянется к небу, солнцу и звездам! Куда еще? Только вдаль, в бесконечность! Еще мгновение, и мы обратимся в пламя, в танец молний! Слышишь, полководец Александр? Такая картина твою душу не потрясает? Может быть, не будем оставлять земную обитель?
─ В смысле? ─ нахмурился Башкин.
─ Мы свое дело сделали. Змеиное логовище раз дразнили. Теперь тьмою поползут! Сдержать ли троим вражеские полчища? Повоевали, пусть другие поиграют в пушки-танки? Перед кем мы ответственны?
─ Перед собою, ─ тихо уронил Башкин.
─ Господи! ─ Котов молитвенно вскинул руки к небу. ─ Прозри блуждающего во тьме.
─ Ты можешь идти. Никто не держит! И никто не станет расстреливать за измену русскому Отечеству, ─ повысил голос командир. ─ Я получил приказ держать Варшавское шоссе под прицелом сутки! И буду держать, чего бы мне ни стоило. Утром подадут три зеленые ракеты, сигнал для отхода. И я покину редут. С честью. С честью исполнив долг воина. Понял?
Котов взвинтился.
─ Кто его даст, Саша? Командир роты Молодцов, кто сбежал с уголовниками и дворянкою Диною в загадочные дали и жертвенно бросил наш гарнизон под пули врага? Маршал Буденный? Генерал Жуков? Знают они о заслоне? Если знают, где помощь? Наша битва слышна на десятки километров!
Башкин проявил упрямство:
─ Мне безразличен Молодцов! Он живет по мне, как скользкая змея! И я его в гробу видел! И приказы в гробу видел! Я служу России! И есть воин России, по чести, по совести, по молитве! Я вижу, как огненное свечение опадает с неба на землю, и вижу, словно в свете Данко стоит страдалица Россия! Стоит по молитве, по обреченности, по зову, спасти ее, матерь Человеческую! И что, я брошу ее?
Штрафник Савва поддержал командира:
─ Он прав, в любом случае, прав. Покинем рубеж без приказа, отдадут под трибунал. От гибели сбежим к гибели! Что выиграем? Я хочу умереть в чистом поле, умереть диким, но свободным зверем, а не рабом власти, на варварском эшафоте тюрьмы!
─ Какие трибуналы? Кто будет искать? В лесу блуждают тьмою солдаты и офицеры, думая, как вырваться из окружения, перескочить линию фронта. О каком наказании, о каком возмездии вы говорите?
─ Иди, Петро! Не страдай; от тебя одни слезы в сердце, ─ требовательно повелел Башкин.
─ Христа предал апостол Иуда, нас предает апостол Петр,– задумчиво уронил штрафник Савва. ─ Вечны печали на земле! Ничего не меняется! Все человечество есть, сатана от предательства! И зачем я только дал уговорить себя дьяволу? Жил бы и жил на небе, гулял бы по райскому саду Авраама, любовался бы обнаженностью, чистотою жизни, чистотою девственного тела, нет, надо еще раз явить себя в мир! И угадать в то же человечество! Пою, пою себе и миру погребальную мелодию!
Петро Котов сдался:
─ Пошутить нельзя! Куда я от тебя, Савва, к смерти за Отца, приговоренного, от пуль заговоренного, денусь?
Командир гарнизона вдумчиво произнес:
─ Ты прав, Петр, разумно заявив, ─ кто о нас знает? Надо оставить памятную записку детям и внукам, замуровать ее в гильзу, а саму вбить в дерево. Она и станет гарнизону надгробною плитою. Текст не знатен, просто: «Здесь, на Варшавском шоссе, под Медынью, держали рубеж три штрафника из армии Рокоссовского: Петр Васильевич Котов из Старой Руссы», ─ посмотрел на Савву. ─ Как родителя звали? ─ спросил он.
На глаза Саввы выступили слезы:
─ Я отрекся от отца. На Лубянке заставили! Чекисты! Так бы расстреляли. Так что я отцеубийца! Казнюсь. Каюсь. Звали его в миру Лев, в священном сане ─ отец Никон.
Башкин кивнул.
─ Так и пишем: «Савва Львович Бахновский из Москвы и Александр Иванович Башкин из Тулы, из деревни Пряхино. Мы преградили путь фашистским войскам под Медынью.
Держались героически. В первом сражении подбили шесть танков. Живем ожиданием еще битвы. Враг готовит танковую атаку! Мы все погибнем, но задержим фашиста у Москвы!
Пусть на сутки! Теперь дорог даже час! Дорога на Москву открыта! Расстоянием в 200 километров, ни одного воина на пути, ни одного танка, ни одного орудия! Армии бьются в окружении! Страшно такое принимать сердцем! В Подольске строят укрепление! Клянемся родному Отечеству, мы задержим танки Гудериана еще на сутки! И это будет во спасение Москвы и России! Прощайте, товарищи!»
На военном посмертном документе написали дату: 10 октября 1941 год.
Воины-жертвенники поставили подписи.
Александр Башкин сказал:
─ Я слышал под Юхново, где мы сражаемся, бился с Наполеоном отряд Дениса Давыдова! Близ села Слободка насыпан курган, где лежат русские воины! Получается, будем соседями! Как, друзья?
Штрафники отмолчались.
В догорающем лесу изыскали столетнее дубовое дерево и замуровали гильзу от пушечного снаряда в дупло, подобрали на поле битвы автоматы, множество гранат. В недогоревшем танке с черными крестами нашли галеты, мясные консервы, рейнское вино. Хорошо пообедали.
Закурив, Котов беспечально сказал:
─ Запаздывают крестоносцы. Пора бы быть. Как, Себастьян, считаешь, могут они сменить маршрут? Дорог на Руси много и все ведут в Москву. Зачем им на баррикады лезть? Германия свой люд бережет, не то, что мы! Красивый, целомудренный народ, а без гордости, без смысла, без содержания! И совсем-совсем себе не нужен! Правят Русью то царица-немка Екатерина из княжества в лошадиное копыто, то евреи с лжепророком Ульяновым, то грузины. И после себя оставляют могилы, могилы, а мы всю жизнь ─ как вздыбленные кони, в узде, в ярме и в дерьме. Еще сыты не были.
Савва, подумав, ответил:
─ Немцы живут, как миры Вселенной, строго по законам природы. Пришел обед, будут трапезничать. И им совершенно безразлично, что творится рядом: рушится ли небо вместе с солнцем, ждут ли с покаянием апостолы Христа! Непременно полакомятся курицею с жаровни, не отрекутся и от женщины, если явится таинством, угостятся шнапсом и благословенно поплывут черными лебедями в райские сады Эдема!
Без раздумья!
Куда скажет генерал! Генерал повелит, под Зиг Хайль, двигаться на Москву!
─ Соображаешь, ─ в раздумье произнес Котов.
─ Еще скажу. В радиограмме из штаба армии генерала Рокоссовского, я нечаянно подслушал, сообщалось, роте Ивана Молодцова, какая останется в заслоне, придет помощь! Начальник парашютно-десантной службы Западного фронта капитан Иван Старчак собирает воинство, десант будет выброшен ближе к Юхнову, дабы сдержать танковую армию Гудериана к Москве! Но командир не сказал о том роте, дабы легче было уговорить ее, отступить в загадочные края! Он трус, его ждет трибунал и расстрел!
Нас же, гарнизон крепости, ждет радость! Десантники Ивана Старчака не будет лишним! Так что, не будем спешить умирать! Так, Александр Македонский?
Штрафники-жертвенники не успели порадоваться. Петр Котов, всмотревшись в дорогу, нервно вскрикнул:
─ Танки, братцы, танки!
Гарнизон поспешил в укрытие.
III
На этот раз немецкие танки двигались по шоссе с предельною осторожностью, нацеленные на поле-побоище орудия были готовы в любое мгновение высечь смертельные залпы. Шли клином, неустрашимо на боевые позиции смельчаков.
Башкин подпустил танки близко. Очень близко. Смертельно близко. На бросок гранаты.
Он был спокоен. Но сердце колотилось бешено. Он чувствовал ответственность за исход битвы, за жизнь друзей. Когда расстояние сократилось до предела, воин выстрелил из гранатомета по танку командира. Он был близко, и вмиг возгорел костром. Воин молниеносно бросил еще по близким машинам гранаты. Загорелась еще одна машина. И в это время пушка танка-соседа озарилась беспрерывными вспышками. И снаряды один за другим, в реве огня пронеслись над головою Башкина. Он пригнулся, и в страхе замер, сжался до мгновения, ─ в траншею тоже угадал снаряд! ил снаряд! Воин ждал взрыва, ждал смерти! Ее было уже не избежать! Он боялся шевельнуться! Но секунды шли, и он рискнул повернуть голову. И увидел свое спасение: снаряд не взорвался, ушел в песчаную глубь. И только чудом, чудом не убило героя! Но снаряд мог взорваться в любое время. Башкин скорее-скорее пополз по траншее к спасительному болоту, до крови и боли натирая колени о мерзлую землю. Отлежался, унял страх, увидел связку гранат, и снова повел битву с танками.
Мужественно сражался и его гарнизон, забрасывая танки с близкого расстояния коктейлем Молотова.
Фашистов охватило фанатическое бешенство. Высунувшись из люка, они на ломаном русском языке кричали, пересиливая рев моторов, пушечные раскаты выстрелов:
─ Рус, сдавайся! Вы окружены! Гарантируем достойную жизнь!
Но бросок гранаты, грохот взрыва заглушал крик самозваного трибуна, он исчезал в пламени огня, в чадящем дыме, и уже слышались не слабеющие крики, а злобное змеиное шипение.
Тяжелая битва шла до вечера. Солнце уже склонилось к горизонту, опустились синие сумерки, а вражеские машины все осыпали и осыпали снарядами огневую позицию, стремясь в безумстве поразить невидимого врага, смять его, уничтожить. Но ничего не получалось.
Русские были как ванька-встаньки! Русского воина мало убить, надо еще штыком свалить на землю!
Казалось бы танки с черными крестами безжалостно сравняли крепость с землею, разбили снарядами траншею, сожгли лес, уже не могло остаться живого человека, но стоило танкам Гудериана проскочить поле-побоище, выскочить на желанное Варшавское шоссе, как невидимая чудодейственная сила снова поднималась из траншеи, поднималась, как Илья Муромец, и снова в близкие танки летели гибельные гранаты. Словно танки поджигали не люди, а небесные боги, разжигая в небе молнии и сбрасывая молнии на танки.
Ночь заволокла все вокруг, а грохот боя все не утихал. Александр Башкин увидел, как штрафник Савва, разозленный тем, что никак не может попасть в танк, выбежал из траншеи и со страшною силою бросил связку гранат под гусеницы танка. Раздался взрыв, пламя взметнулось до неба. Но убежать в окоп, в спасение, Савва уже не успел. Его перерезала пулеметная очередь из танка. Башкин выбежал из укрытия, склонился над поверженным, послушал сердце, дабы затащить его в траншею, спасти, но сердце не билось. Сын священника был убит.
Александр Башкин выпрямился и в откровенном страхе прямо перед собою увидел танк с черными крестами, он страшно и победоносно двигался в его сторону. Танк был выкрашен пятнисто-зеленою краскою и походил на огромную жабу. Длинный ствол его орудия надменно колыхался и, словно живой человек, злобно и люто смотрел в глаза воина. Башкин оторопел, на миг замешкался. На миг обожгло сознание: почему не стреляет? Из пушки уже не выстрелить, снаряд перелетит его. Но можно сразить пулеметною очередью! И тут понял, командир-водитель хочет в отмщение за униженность, за муки, которые он принес танковому воинству, с наслаждением раздавить его гусеницами как мерзость. У фашиста тоже есть своя гордость, ненависть, жажда возмездия. И если он оскорблен, унижен, то и убивать этого человека, или недочеловека, должен с особою любовью.
Башкин понял, явилась смерть. Он знал, от танка не убежишь. И будешь, естественно, раздавлен его гусеницами. Как ему показалось, еще оставалось время бросить связку гранат. И взлететь пламенем вместе с танком в звездное небо. Но оставалось ли? Не оставалось. Он был, как на расстреле, вокруг пулеметы, пулеметы. Малейшее движение, и сотни пуль вонзятся в сердце. Ну и пусть, горько подумал он. Какая разница, как умирать, под гусеницами или от пули? От пули даже приятнее. Но он бы не был воином Башкиным, если бы сдался, уступил смерти. Он вихрем метнулся в сторону, заполз за борт танка. И ухитрился с груды железа запрыгнуть на его броню. Зачем, он не знал! И что делать дальше, тоже. Он повиновался чувству спасения. Теперь, взнуздав железного коня, он был в безопасности. Ни пулемет, ни пушка его не достанут. Откроет фашист на башне люк, бросит в логово гранату. И танк в мгновение станет огненною гробницею. Все сгорят заживо.
Опасность, несомненно, угрожает! Его без жалости могут расстрелять из пулемета другого танка. Надо выверить, где этот танк, где опасность? Башкин оглянулся на поле-побоище. И его обдало ненасытною радостью, он ощутил в сердце светлынь, и даже услышал себя Повелителем Земли и Солнца ─ танки-крестоносцы покидали поле битвы! Вдали чадили черным дымом догорающие, подбитые машины. Костры чудовищно и загадочно прожигали ночь. И в эту ночь загадочно, благословенно вливалась тишина, тишина! Только жить и слушать, как стрекочут кузнечики! Видимо, в штабе армии умного генерала Гудериана решили дальше не испытывать судьбу, обойти загадочную, упрямую крепость, не терять больше танки. Немецкие генералы умели ценить воинов.
Значит, русичу всего и оставалось выиграть дуэль-поединок с последним танком-крестоносцем, с танком-палачом, кто на поле битвы безжалостно в упор расстрелял из пулемета Савву Бахновского.
Башкин постучал в люк, весело крикнул:
─ Фриц, пора сдаваться! Москва ист гешлессен! Закрыта! Любимая фрейлен ждет возвращения! Соскучилась по любви и ласке! Гут?
В танке остроумие оценили. Немцы дружно рассмеялись. И машина, покружившись на месте, неожиданно, на бешеной скорости, рванулась вперед, вздыбилась, круто наехала на взгорье, желая сбросить под гусеницы смелого седока. Но не получалось! Александр крепко, до дикой боли, держался за скобу люка. Неожиданно башня под его телом стала стремительно поворачиваться, он кружился, как на карусели. Даже вспомнил ярмарку в Дьяконове, где был мальчишкою с отцом, саму карусель. Слететь с верха башни было просто. Улучив момент, он, изогнувшись, вложил ствол автомата в смотровую щель и, сколько было возможно, пальнул очередями. В танке послышались тревожные крики, стон.
Башкин быстро спрыгнул, отбежал, бросил связку гранат. И юркнул в глубокую воронку. Раздался оглушительный взрыв. Танк загорелся, но гусеницы не были перебиты и еще работал мотор. Он, горящим костром, густо чадя дымом, развернулся и пошел в последнем усилии на воронку, на воина, желая на прощальное мгновение с жизнью все же добить, раздавить гусеницами смельчака! Он двигался яростно, исступленно, закрыв гигантским костром все ночное небо. Бежать из убежища было бессмысленно. И русич Башкин, чувствуя неотвратимую, подступающую гибель, бросал гранату за гранатою, стремясь поразить гусеницы, остановить страшную машину. Но она была как завороженная, как заколдованная от гибели, шла и шла.
В последнем броске гранаты Башкин угадал в самый мотор, ниже черного креста в белом нимбе. Танк дернулся, зачадил еще сильнее, но не остановился. Двигался и двигался напористо, скорее по разгону, по инерции. И сумел тяжелою громадою заползти на воронку, развернуться, осмысленно засыпать землею смельчака, похоронить его заживо в могиле.
IV
В это самое время, 10 октября, по повелению Сталина, генерал армии Георгий Константинович Жуков принимал командование Западным фронтом. Генерал Иван Степанович Конев впал в немилость, подлежал казни на Лубянке. Жуков спас генерала. Оставил своим заместителем. И теперь в штабе фронта в Красновидово, принимая дела, то и дело прислушивался к битве на Варшавском шоссе:
─ Ничего не разберу, ─ в раздумье произнес он. ─ Смоленск пал, Вязьма пала, Юхнов пал, воинства, дабы прикрыть путь на Москву, никакого! В таком случае, кто же прикрывает дорогу от Юхнова под Медынью?
─ Затрудняюсь ответить, товарищ генерал армии, ─ пожал плечами Конев. ─ Местные власти Медынь покинули. Генерал Рокоссовский повелел роте капитана НКВД Ивана Молодцова, какая на то время вышла из окружения, встать заслоном под Медынью, продержаться сутки! Но они убили политрука, распяли на березе начальника особого отдела. И скрылись.
Жуков строго произнес:
─ Вы меня удивляете, генерал! Неизвестные русские смельчаки вторые сутки сдерживают армию Гудериана, а мы не знаем ─ кто! Они спасают Москву, Россию, а вы не знаете, кто? Стыдно, генерал!
Генерал Конев повинно произнес.
─ Стыдно, Георгий Константинович!
─ Разузнать и каждого, за бесстрашие русского духа, представить к награде!
─ Слушаюсь!
Тем временем, под Медынью долгим-предолгим эхом стали гаснуть последние выстрелы битвы.
─ Кажется, бои стихают, ─ грустно вымолвил генерал.
─ Значит, посмертно! И всем Героя! ─ повелел Жуков. ─ Какие еще остались резервы? Надо помочь героям! Там, скорее, бьется стрелковая рота! В битве не могли полечь вся рота, черт возьми! Это было бы несправедливо, ─ он смахнул нечаянную слезу. ─ Русское воинство должно успеть выстроить крепость в Подольске, у Москвы! Надо еще и еще задержать танки Гудериана!
─ По моему приказу, на штабном аэродроме в самолеты загружается десант капитана Ивана Старчака. 430 бойцов. Все чекисты, пограничники! Поле битвы десанта от Юхново до Медыни! Героев разыщут, встретятся!
─ Добро, ─ кивнул генерал Жуков.
Воины-десантники капитана Ивана Старчака взорвали мост на реке Угре, перекрыли Варшавское шоссе. Они вершили подвиг, вели бои семь суток; на жестоком, траурном поле-эшафоте смертью героя погиб весь полк, все 430 человек, но своим жертвоприношением не дали фашистам прорваться к Москве!
Штрафники-жертвенники Александра Башкина тоже живут в том подвиге, как спасители Москвы и Росси.
V
Сам воин опять чудом остался жив. Воронка от авиабомбы оказалась глубокою, и танк, сам умирая, в последнем роковом усилии не мог стать полноценным могильщиком, сколько бы еще ни оставалось у командира-фашиста злобы и ненависти к смельчаку. Он утратил верткость, подвижность, сила движения все больше ослабевала. И плотно засыпать сырою землею героя, утрамбовать ее гусеницами не удалось, не получилось.
Придя в себя, Башкин долго не мог понять, где он, ужель в могиле? Сознание еще не стало владыкою, неутомимо кружилось в огненном свечении, разрушая мир красоты и правды. И разрушая его самого. Он никак не мог осмыслить, кто он? И что? Он был для себя и для мира ─ полная неизвестность. Когда перестали кружиться перед глазами огненные шары, истаяло оцепенение, и он увидел вокруг себя тьму. И ощутил, что не может шевельнуться, больно и туго сжат землею. Было полное бессилие, но дышать он мог. Воздух сквозь рассыпчатые комья земли проникал. Сверху беззвучно стекали капли воды, пахнущие мазутом. Танк, догорая, оттаивал осеннюю изморозь. Мало-помалу он стал выбираться из могилы. Откопавшись, сильно стукнулся головою о днище танка, как о крышку гроба.
Выбравшись, он присел на бруствер окопа и долго, с наслаждением дышал свежим морозным воздухом, все больше осмысливая, он есть, он снова присутствует в мире, что верь не верь, а выбрался из девятого круга ада по Данте, из вечности. Сладостно было вбирать в себя жизнь, которая явилась заново, ее хмельную радость, ее окаянную правду, ее звездную бесконечность. Даже луна, казалось, светила ему одному. А кому еще? Боевые друзья погибли, ушли в страну загадок. Он остался один на земле. Совершенно один. И надо вырыть жертвенникам за Русь братскую могилу, и похоронить, как героев, с воинскими почестями. И тревожными, загадочными лесами пробираться к русскому воинству, как одичавшему волку.
Где лежит на поле-побоище штрафник Савва, он знал, надо было разыскать могилу-усыпальницу Петра Котова.
На кладбище танков, среди ночи, среди костров, он заглядывал и опускался в каждую воронку, ощупывал руками могильные взгорки и боялся до звериного крика в себе увидеть безжизненное тело. И все же поторапливал себя в поиске. Ночь была полна таинств. И кто знает, не держит ли его на прицеле фашист? Котова он разыскал в густом орешнике. Петр лежал неуютно, сильно сгорбившись, уткнувшись лицом в мерзлую землю. Раскинутые руки цепко держали вырванную мерзлую траву. Шинель обгорела, пробита осколками. При бледном свете луны, она смотрелась как саван.
Башкин быстро развернул его, осмотрел. Крови на теле не было. Он пощупал пульс. И в радости замер: сердце билось. Жив, дружище! Бог услышал молитву о милосердии, ─ он снова не одинок! Друга только контузило. Рядом разорвался снаряд, прикинул Башкин, и смельчака взрывною волною выбросило из окопа! И хорошо в лес, в густоту орешника! Так бы немецкие танки не раз прошлись гусеницами. Ничего бы не осталось. Даже пуговицы от шинели. Он кинжалом разжал ему зубы, влил в рот водку.
Котов застонал, открыл глаза:
─ Сашка, ты? Или привидение? ─ он едва разлепил бескровные губы, лицо осветилось легкою улыбкою.
Он уже разобрался, что лежит не в саркофаге, а на родной земле, какая по милосердию приятно пахнет стылыми орехами, дивными, сладкими грибами, снежною изморозью, горьким дымом с поля битвы. Он слышит, как сердце наполняется силою жизни. Тело, только что летающее в небе белою паутинкою, послушно и покорно возвращается в праздник бытия.
Петр оживленно приподнялся. Но в страхе ухватился за ветви орешника. В сердце как ударила молния, оно залилось кровью, все тело пронзила страшная боль.
Башкин поддержав друга, не дал упасть:
─ Спеши медленно, учили древние греки! Еще не отлежался. Пригуби еще водки.
Котов выпил.
─ Ужасно! ─ с грустью пожаловался он. ─ Сам оглох, ничего не слышу, а голова разрывается от гуда, словно там летит тысяча самолетов. И еще по тебе скребут танки и рвут, рвут гусеницами.
─ Все образуется, ─ успокоил друг. ─ Со мною так было не раз.
Савву Бахновского, сына священника, похоронили с воинскими почестями, дали над могилою три залпа из автомата. Вместе с другом выпили по рюмке, дабы земля была ему пухом, и оба попечалились за красивого человека, кому выпало явиться в мир в неурочное время и стать безвинно классовым врагом, печальником земли Русской! Но умер с достоинством, жертвенно, на поле битвы, у врат храма по имени Отечество! Вернее сказать, ушел в бессмертие героем-мучеником, оставив людям Веру в любовь и доброту, в праздник бытия, где должна быть только светлынь в душе человека, и где не было бы ужаса перед палачом!
Воины встали, еще раз окинули прощальным взглядом поле сражения, могилу героя-мученика в сиротливом окопе и, вскинув на плечо автоматы, пошли на Тулу, где было русское воинство, а сам город стоял крепостью для танков Гудериана на пути к Москве! Где можно было снова насытить себя радостью битвы! Шли по лесу, рядом с шоссе, чутко приглядываясь к каждому кусту, предельно вслушиваясь в нечаянные, подозрительные шорохи.
Глава четырнадцатая
ПОТОМКИ ГУННОВ ЦАРЯ АТТИЛЫ ГОНЯТ РУСИЧА В РАБСТВО
I
Идти по Руси было сложно. Во всю Русскую землю слышалась гортанная, каркающая немецкая речь. Всюду подстерегал гибельный выстрел. Всюду подстерегал плен! Шли, как по чужой земле, шли крадучись, рассекая немыслимую густоту леса, напрягая слух, не столько надеясь на мужество, сколько на змеиную хитрость и увертливость; все во имя того, дабы снова принять на свою грудь огонь и железо, спасти страдалицу Россию от черной беды.
Было холодно. Ветер упруго дул в лицо, вышибал слезы. В ночи друзья то и дело спотыкались, то о корягу, то о пень или упавшее дерево. Петр Котов, ушибаясь, сильно стонал. И постоянно падал, терял равновесие. В сердце сидела неукротимая змея-контузия, отсасывала силы. Полная рассогласованность разума с миром доводила до бешенства, до слез и отчаяния.
В кромешной тьме нечаянно споткнулся о корневище и Александр Башкин, как раз растревожил раненую ногу. Боль пронзила несказанная. Он дико вскрикнул от боли и печали!
От его сильного, болевого вскрика испуганно взлетели на лугу болотные птицы.
Петр осудил друга:
─ Надо терпеть, Саша! Взревел, как медведь. Ты сузил мир до выстрела! Окажись рядом фашисты, мы бы не выстояли! Вступать в схватку бессмысленно! Захватчиков тьма, а на арене русского Колизея двое, ты и я! В упор бы расстреляли, а что еще страшнее, попали бы в плен! В плен желаешь?
─ Не желаю ─ повинно отозвался страдалец.
Башкин умел превозмогать боль. Теперь он шел, стараясь привыкнуть к боли, не тревожить ее горькими раздумьями. Но беда не приходит одна. Началось кровотечение. Он слышал, как в сапоге мерзко хлюпала кровь, теплила в липкой мокроте ногу. Идти стало еще сложнее. Теперь его стал коварно и обреченно тревожить страх, а сумеет ли он идти дальше, пусть и с трудом? Проще сказать, не пришла ли смерть? С ногою шутить нельзя! Никакое волевое усилие не поможет. Виснуть на Котове, кто и так пробирается через ночь и лес с превеликим трудом, он не станет. Бессмысленно! Ему не осилить его тяжести. Что останется? Благословить друга в прощальный путь одного; зачем две смерти? Заупирается, изгнать! Самому остаться и принять последнюю битву с фашистами!
Петр Котов как услышал горькое раздумье друга:
─ Садись, ─ повелел он.
─ Чего? ─ не разобрал Башкин.
─ Говорю, садись на пень, уставшая лень!
Котов достал кинжал, разрезал сапог, крепко-накрепко перебинтовать рану.
Только друзья собрались в путь, как неожиданно в сумрачно-рассветном небе вспыхнула белая ракета и с шипением распалась на ослепительные огни, озаряя все вокруг молочным светом. Воины-беглецы вжались в землю. И услышали страшное, пугающее гудение. По шоссе с чугунным скрежетом шли танки, грузовики с высоким кузовом, крытые брезентом, скорее везли снаряды, тягачи с длинноствольными орудиями, грузовые машины с немцами, они курили, лениво переговаривались.
Башкин приподнялся, желая внимательнее рассмотреть колонну, и в мгновение застрочил пулемет и жарко, огненно пронеслись над головою трассирующие пули. Он едва успел спрятаться за сваленное дерево. Еще одна очередь злобно ударила по высохшей коре, расщепила ее и вся врезалась в ствол. Никто с грузовика не спрыгнул, не бросился их преследовать в сосновое урочище. Стреляли, скорее всего, без умысла, не по цели. Услышали, хрустнула ветка, увидели силуэт-призрак, и сотрясли рассвет тревожною пулеметною очередью.
Едва колонна исчезла, Котов с тревогою спросил:
Танковая дивизия СС «Викинг Жив?
─ Бог миловал.
─ Чего под пули полез?
─ Шла на Москву танковая дивизия СС «Викинг». Доберемся до Тулы, поведаем разведчикам, вдруг и пригодится?
Котов печально уронил:
─ Не доберемся мы с тобою до Тулы!
─ Почему?
─ Сложно с тобою. Одна беспокойность! Расстреляют по пути! И не верю я, что мы выстоим! Силища катит немыслимая! Возьмут Москву! Россия на краю гибели. И к пророчице Кассандре идти не надо.
─ Может, и возьмут, ─ согласился Башкин. ─ Только всю Россию не взять. Россия есть девочка россиянка с чистою душою, суть красоты и милосердия, суть земного бессмертия.
II
Над русскою землею-пленницею взошло солнце. Окруженцы решили не рисковать, переночевать в стоге сена, в поле, подальше от деревни. Спали, тесно прижавшись друг к другу. Так бы замерзли. В поле кружил ветер, шел мокрый снег. Как только завечерело, друзья двинулись в путь, туда, где слышались орудийные раскаты, а небо озарялось пожарищем. Башкин выстругал из березы посох, и теперь идти стало легче. Рана уже не отзывалась болью на каждое движение. Они не знали свою судьбу, не знали, выживут или погибнут от пули, в плену? И шли наугад, надеясь выжить, вернуться к своим. Идти по лесу становилось все опаснее. Леса кишели фашистами. Все чаще попадались их ночные пристанища: вместительные палатки, стоящие рядом орудия, тяжелые пароконные повозки с высокими бортами. Приходилось удлинять путь, далеко обходить опасные урочища.
И все же они беды не избежали. Прячась в непроглядной тьме, друзья зашли в сосновую рощу и неожиданно услышали окрик:
─ Стоять! Кто идет? ─ дорогу преградил человек с автоматом.
Услышав русскую речь, Башкин обрадовался:
─ Петро, свои! Свои!
─ Ба! Враги народа, ─ тоже выразил удивление уголовник-аккордеонист из штрафной роты капитана Ивана Молодцова.– Кого имею честь видеть! Как разыскали? По следу шли, как овчарки?
─ Мы вас не искали. Нечаянно в стаю угадали, ─ охотно пояснил Котов. ─ Идем из окружения в Тулу, сами по себе.
─ Непостижимо, ─ еще раз удивился лесной призрак. ─ Вас надо представить командиру! Порадовать пахана!
Они дошли до заброшенной бани, которая еле-еле разгадывалась в черноте ночи своим силуэтом. Рядом высился колодец, стояло ведро с привязанною цепью. Боец-уголовник открыл скрипучую дверь, и все трое вошли в просторную горницу, где было сильно накурено, у печи была рассыпана зола, пахло березовыми вениками. Вокруг стола сидело человек девять, командир роты Иван Молодцов сидел в расстегнутом кителе, и очень напоминал народного бунтаря Стеньку Разина, он вольно, горделиво обнимал любовницу Дину Трубецкую, обнимал, как персидскую княжну. Шло веселое застолье. Вокруг керосиновой лампы густо грудились бутылки с самогоном, свиная вареная колбаса, деревенское сало, открытые консервные банки с тушенкою и килькою, крынка с медом, ржаной хлеб.
─ Прошу прощения, господин капитан, ─ пристукнул каблуками сапог штрафник-уголовник. ─ Посмотрите, кого привел!
Молодцов поднял голову, откинул со лба белую прядь волос, узнал штрафников, и живо вышел навстречу:
─ Вы ли, господа фраера, затерянные в вихре скорбного бытия? войны? Выбрались из преисподней? Герои! Мы к своим пробиваемся. Да подзастряли. Вокруг немчура! Он жестом хозяина пригласил к столу:
─ Садитесь, угоститесь. Поделитесь, как выжили? Наслышаны про вас, наслышаны! Немцы без устали говорят по рации открытым текстом о крепости-загадке под Медынью. Пришлось ее обойти. Одиннадцать танков оставили на поле сражения! Неужели это вы? Невероятно! Да вас расстрелять мало, сволочей, за такую удачливость, ─ весело сбалагурил он. ─ Хвалю! Горжусь. Завидую. Герои! Вам теперь и в плен попасть не страшно. Сам генерал Гудериан может наградить железным крестом с пальмовою ветвью. И водить вас перед строем ассов германии, приговаривая: вот как надо воевать! Они ценят героев! Невероятно! Кто поверит? Неужели так было?
─ Было, держали танки, ─ скромно кивнул Башкин, пригубив самогон, взяв хлеб и сало. ─ Он силен, да не умен! Для боя пригоден, а вблизи совершенно слепы, как щенята! Мы и секли их, как врукопашную! Чего теперь вспоминать? Выжили. И дай Бог.
Воин умолк. Он слышал себя неуютно. Командир роты изливался ласковостью к гостям, радовался, что им удалось вырваться из страшного, безумного мира, но чувства не были от правды. Создавалось ощущение, что он или люто завидует героям, или несет, лютую ненависть за безымянный подвиг. И не скрывает боли, печали, что штрафники выжили, сдержали на двое суток танковую армию Гудериана! Лучше бы смертники-заслонщики погибли! И погибли бы в первую атаку, раздавленные гусеницами танков. Но нет, выжили! И тем очень сильно омрачили его сердце! Там упрямо, неумолимо густела сумрачность. Глаза несли злую силу, где то гас, то воскресал огонь дьявола. Иудою несло от капитана! На петлице виделись не ромбы, а паучья свастика! Загадкою он был, этот Иван Молодцов.
Капитан долил в кружку Котова самогон:
─ Надеюсь, в штаб фронта сообщили о подвиге роты?
─ Не смогли, ─ отозвался Котов.
─ Почему?
─ Танки разбили рацию.
─ Печально, ─ пожалел командир роты. ─ Но ничего, передадим! Да, Бахновского не вижу. Сбежал?
─ Пал смертью героя! ─ сумрачно пояснил Котов; он тоже чувствовал себя неуютно в компании уголовников.
─ Не может быть, ─ выразил удивление Молодцов. ─ Он так боялся смерти-погубительницы. Плакал, что явился в мир сыном священника, и что его убьют, если не свои, так чужие. Между двух костров жил. И отовсюду пламя. Отмучился! Уже ни мук, ни страдания! Не надо ждать пули, смерти, плена! Летит теперь душа белым лебедем в небесные звездные выси и ни о чем не печалится! Все скорби жизни нам оставил. Что ж, выпьем за героя!
Выходить из окружения стало легче. Обычно Башкин и Котов шли по густому лесу, держались ближе к болотам, избегали дорог и деревень, то теперь шли открыто, ничего не боясь. Командир роты владел немецким языком и при случае, когда на пути попадалась деревня, где надо было переночевать, но прежде узнать, есть ли там немцы, он надевал черную форму офицера СС, брал уголовников, нацепив им белые повязки полицаев. И они решительно, не ведая опасности, заходили в селение, в избы, все вызнавали и по покою возвращались. Молодцов объявлял, сверкая орлиными очами, что фрицев нет, можно располагаться на ночлег.
В роковую ночь на 13 октября симфония о ночлеге писалась по тем же нотам. Деревня показалась за березовою рощею. Люди прошли пятнадцать километров, выбились из сил, и надо было переночевать. Командир роты пошел на разведку, вернувшись, известил: фрицы были, но ушли на Москву.
В избы заходить не стали. Немец потом жестоко карал крестьян, кто по милосердию пускал на ночлег воина Руси; поджигали дома, вешали на площади всю семью. Обустроились на окраине деревни, на скотном дворе. Кто забрался на сеновал амбара, кто на чердак дровяного сарая, кто занырнул в стог сена, у изгороди, с раскидистой грушею. Спали, укрывшись с головою плащ-палаткою, желая побольше надышать тепла, и им же согреться. Смертельно-обессиленные штрафники-окруженцы в мгновение провалились в сладостные сны.
Только один Котов ворочался, не мог уснуть.
─ Чего ты все мучаешься, как карась на сковороде, ─ осудил его Башкин, стараясь теплее укрыться от холодного ветра.
─ Тревожно, Саша. Немцы в деревне.
─ Почему так решил?
─ Слышишь, какая тишина? Чуткая, настороженная! И собаки не лают! Фрицы, когда в деревне, первым делом повелевают зверюг вешать. Они, собаки, не разумеют, что на Русь явились новые господа! Облаивают, а то и за задницу вцепятся. Понравится надменным пришельцам?
Башкин прислушался к тишине, услышал, как ветер, словно на скрипке, играл замершими веточками груши:
─ Не чудится тебе? Командир же все разведал.
─ Не верю я ему. Фашист он. Полагаю, он нам деревню-эшафот выстроил, и сдал палачам-немцам!
─ За что?
─ За немецкие танки, какие мы сожгли! Ты не слышал, а я слышал, как он сказал, вас подлецов, что выжили, расстрелять мало! В шутку произнес, балагуря, но я глаза его видел, фашистские глаза!
Башкин по печали уронил:
─ Одни чудеса, и те в решете!
Котов раздумчиво заявил:
─ Он, скорее, фашист-разведчик в русском тылу! Уголовники о том не ведают! Они его шавки! Мы кто? Мы гордые и откровенные воины Руси! И несем ему откровенную опасность! Нужны мы командиру роты Молодцову, если он загадка?
Башкин не скрыл тревожности:
─ Что предлагаешь? Сбежать в поле? И там замерзнуть? Костер не разведешь, как зайцев отстрелят! Да и куда сбежим, если Иван Молодцов есть твоя разгадка? Где хочешь, пристрелят! Доберемся до Тулы, явим все чекистам! Пусть разбираются.
Друзья еще посудачили, растревоженные нехорошим предчувствием, и мало-помалу уснули.
Но выспаться им не довелось.
Едва над Русью взошла богиня Аврора, как звонко и совершенно неожиданно раздались автоматные очереди.
Послышалась повелительная команда:
─ Хенде хох, господа!
Встрепенувшись, Александр Башкин с изумлением увидел с чердака в окно солдат СС, какие были одеты в черные шинели, на каске виделись маленькие рога. Они окружили скотный двор, нацелив автоматы на сараи. Он знал, что пока они страдальцами-странниками идут по Земле Русской, так может быть каждое мгновение, но теперь с трудом, с трудом постигал правду плена! Он еще раздумывал, не собираясь сдаваться в плен, краем глаза косил за угол сарая, нельзя ли в дерзком прыжке отпрыгнуть, откатиться за его угол, сбежать. Лес был недалеко, а там, в поле, как повезет: настигнет пуля, значит, настигнет на вольном просторе, под грустную песню ветра, где и станет на все времена его скорбно-обреченная гробница. Повезет, не настигнет, то родные березы, сами замерзшие, сами одинокие, сами страдающие от нашествия самозваного пришельца, сумеют защитить его, спасти.
Он увидел, как штрафник-уголовник с золотым зубом, с кем он держал танки у реки Угры, когда ехали из Вяземской тюрьмы, с криком, не взять вам, фашисты русского воина, вскинул автомат, но выстрелить не успел. Разрывные пули, проносясь огненною трассою, вмиг пронзили тело смельчака. Он взялся за сердце и, не издав стона, обливаясь кровью, ткнулся головою в мерзлую землю. И все поняли, втягиваться в спасительную битву совершенно бессмысленно. Стоило сделать одно движение к оружию, и все были бы расстреляны. Солдаты-беглецы подняли руки, вышли во двор. Башкин тоже вышел на двор-эшафот, бросил автомат и два диска с патронами. То ли от волнения, то ли от боли и обиды плена, он услышал, как отяжелела раненая нога, совершенно перестала слушаться. И он упал. И тут же пытался скорее встать, опираясь руками о землю. Но встать не получалось, и фашист, во зло, в гневе сильно ударил мученика прикладом автомата в спину, свалил на бок. И еще, в жестокость, ударил лежавшего Башкина кованым сапогом в лицо:
─ Встать! Шнель! Застрелю, руссише швайн! ─ все больше распалял себя завоеватель и дал очередь из автомата.
Красноватые вспышки нимбом легли вокруг головы. Еще очереди из автомата Башкин ждать не стал, без покаяния было ясно: она благословит в вечность. Он собрал в себе последние силы, напрягся, оттолкнулся от земли, и, было, встал на ноги, но эсэсовец снова ударил его кованым сапогом в лицо. И воин снова обессилено, со слезами, ударился о русскую землю. Пленники на роковое избиение смотрели с болью. Все понимали, штрафник приговорен фашистом к смерти, и теперь, во издевательство, затеял с обессиленным воином игру в кошки-мышки. Пленники есть рабы, и должны работать на великую Германию, а слабые мухоморы, зачем Германии? Неполноценная раса славян должна быть уничтожена, так повелел фюрер! Он направил автомат на Башкина, но выстрелить не успел. Из толпы выбежал Петр Котов, живо взял под руки друга, затащил в толпу пленников, в самую глубину. Фашист, свирепея, дал очередь из автомата, устремился следом, но пленники сомкнули ряды.
Как раз в это время подъехала легковая машина, сверкая черным лаком, вышел офицер СС, резко, отрывисто прокаркал, ─ и пленников под усиленным конвоем повели в крупное селение Ильинка, где располагалась военная комендатура. Здесь уже были пленные красноармейцы. Они сидели у каменного двухэтажного здания, где висел флаг со свастикою; на площади с фонтаном и разрушенным, простреленным бюстом Сталина. У костров грелись истощенные, исхудавшие, оборванные, жалкие в своем бессилии воины. У кого перебинтована голова, у кого грудь. Превеликое множество! И все раненые, раненые. Все попали в плен с поля битвы! Глаза у каждого пленника заполнены страданием, ощущением близкой смерти.
Все ждали очереди, допроса в комендатуре, после которого мучеников уводили в Дом пыток, где расстреливали, сильного, выносливого раба-пленника становили в колонну, отправляли в Германию.
Башкин и Котов тоже грелись у костра; он подобрал на площади бинт и крепко-накрепко перевязал другу ногу, боль смирила себя, явилась сила, можно было двигаться.
─ Мы с тобою, Саша, имеем два выбора, попасть в Дом пыток или попасть рабом-пленником в Германию! ─ философски заметил он. ─ В Доме пыток мучают пленного красноармейца прежестоко! Спрашивают, где воинская часть? Кто командир? Сколько в полку танков? Есть ли самолеты, аэродром? Чего, бедолаги-мученики могут знать, если с лета идут из окружения? Нет, зверски мучают, жгут каленым железом, забивают сапогами и плетьми. У Дома пыток распяли раненого воина. Видел? Раздели догола, отрезали половой член, нос, уши и прибили на ворота, написав на груди: «Юде»! То есть, Иуда!
Он помолчал:
─ То есть, Дом пыток, это смерть!
─ Так и так смерть неотвратима, ─ по печали уронил Башкин. ─ Мы в плену, слышишь, в плену! Я каждое мгновение вжимаюсь в злую, ненасытную боль! Я боль! Я гнев! Я исступленность! Зачем мне жить? С каким смыслом? Меня кружит и кружит ненависть к врагу половодьем! И к себе одинаковая ненависть, что попал в плен! Тяжело, Петро, тяжело!
─ И мне не легче. Пошли, ляжем в гроб, а как Русь? Как твоя страдалица Русь? Пусть тоже будет в плен?
Башкин помолчал:
─ Прав ты, прав! Но как быть? Как не дать закружить себя половодьем ненависти к себе?
─ Прежде, надо удачно пройти сквозь чистилище! Мы с тобою воины-штрафники! И надо на допросе прикинуться Ванькою, без родства! И нас не сожгут на костре заживо, как Джордано Бруно, за убеждения. По пути на каторгу, сбежим! Пригонят в Германию, сбежим из Германии! Чего ты разгоняешь хор плакальщиц над Русью?
Башкин согласился:
─ Все разумно! Хор плакальщиц разгоняю от совести! Быть в тягость тебе не желаю! Бежать из плена с раненою ногою, далеко ли убежишь? Один ты, скорее, обретешь спасение!
─ И оба обретем спасение, ─ заверил Петр Котов. ─ Важно, убежать из плена!
III
Александр Башкин попал на допрос к молодому унтерштурмфюреру СС. Нацист-Люцифер облачен в черный мундир, с черепом на рукаве, с зигзагообразными молниями в петлице, совсем не походил на палача. Не тревожил страх и нервозность. Белые волосы, выпуклый лоб, добродушное лицо; во всем, во всем сама благожелательность. Но глаза несли, несли затаенную волчью ненависть. И славян убивал хорошо. На груди блистали железные кресты с мечами и бриллиантовою пальмовою веткою. На пальце носил серебряное кольцо с изображением мертвой головы, на поясе ─ кинжал чести для дуэли, которая разрешались только эсэсовской элите.
За старинною пишущею машинкою сидела в белой кофточке русская женщина.
Офицер поинтересовался с прусскою вежливостью, но отчужденно, холодно:
─ Позвольте узнать ваше имя?
─ Александр.
─ Фамилия?
─ Башкин, ─ четко отвечал он.
─ В каком воинском соединении служили, в каком звании?
─ В штрафной роте. Пехотинец.
─ Кто был командир ее?
─ Капитан НКВД Иван Молодцов, ─ пленник невольно посмотрел в глаза немецкого офицера. На его лице не дрогнул ни один мускул.
─ Имя командира батальона, полка, дивизии? И где, на ваш взгляд, они могут теперь находиться?
─ Не знаю, господин офицер, ─ искренне произнес Башкин. ─ В Вяземской тюрьме я был приговорен к расстрелу. Казнь заменили отправкою на фронт, дабы искупил вину кровью. В первом же бою ваши бесстрашные танки разгромили русские позиции! Мы попали в окружение, спасались бегством. За короткое время я не смог познакомиться с командирами! Где они теперь, знает только Бог. Мы, штрафники, были в армии генерала Константина Рокоссовского. Командовал Западным фронтом генерал Иван Конев.
─ За что вас приговорили к расстрелу?
─ За любовь к Советской власти.
Иносказательность эсэсовский офицер, похоже, не понял, опасно поиграл стеком.
Башкин в мгновение осмыслил свою оплошность,
доверительно пояснил:
─ Меня судил Военный трибунал, за побег из воинского соединения! Я не желал воевать. Я сын крестьянина, мое дело пахать землю, а не убивать людей.
─ Почему же стали солдатом?
─ Призвали. Насильно.
─ Но разве не священный долг каждого гражданина защищать свою Родину?
─ В России правят евреи и комиссары. Правят, как деспоты! Власть ничего не сделала для народа! Мои соотечественники живут беднее, чем жили в Русской империи. Чего же защищать? Нищенство? Власть евреев?
Признание понравились гестаповцу. Он тоже жил таким настроением; власть евреев есть гибель для человечества, ибо несет только разврат! И верил, что народ на Руси ждет его и великого фюрера! Ждет как освободителя от ига большевиков. Так ему внушили. Он слышал то, чего желал услышать. Но допрос вел без снисхождения, по строгости:
─ Где воевали?
─ Под Юхново.
─ Сколько немцев убили?
─ Я был ранен в первом бою. И еще, я не создан убивать. Я хожу в церковь, верую в Христа.
Гестаповец проницательно посмотрел:
─ Как попали в плен, добровольно?
─ Взяли силою.
─ Почему не сдались?
─ Боялся, ─ воин посмотрел простодушно. ─ Запугивали евреи-комиссары, говорили, попадем в плен, немедленно расстреляют.
─ И дальше что говорили?
─ Дабы не попасть в плен, красноармеец должен застрелиться.
─ Почему не застрелились?
─ Не успел. И теперь не жалею. Кто хочет умирать? Лучше жить.
Офицер поиграл хлыстом:
─ Куда вы шли? В Москву, снова сражаться?
─ Избави Бог. Шел в Тульскую губернию, в родную деревеньку Пряхино.
─ Хорошо! ─ гестаповец долго всматривался в пленника; он его устраивал. ─ Я вам предлагаю на выбор: должность начальника полиции в деревне Ястребовка или отправиться на работу в великую Германию, строить танки.
─ Помягче ничего нет? ─ со скрытою иронией спросил Башкин.
─ Ничего, ─сухо ответил гестаповец.
─ В таком случае, с вашего разрешения, господин офицер, я выбираю Германию. Я никого не хочу убивать.
Эсэсовский офицер сузил волчьи глаза, сжал губы, постучал по начищенному до блеска сапогу стеком:
─ Хорошо! ─ он взял у машинистки протокол допроса, поставил свою резолюцию и подпись. Приложил военные документы Башкина. ─ С вами будут обращаться человеколюбиво. Гаагская конвенция от 1899 года, какую подписали Германия и Россия, записала в свое меморандуме: «Военнопленные теряют свою свободу, но не теряют право на жизнь». Вы не враг фюреру, вы, я бы сказал, Земная Ошибка! ─ Он в довольство от собственного остроумия, поиграл стеком. ─ И посему для вас военный плен есть акт милосердия со стороны победителя! Но предупреждаю, всякая попытка совершить побег наказывается расстрелом.
НЕМЕЦ-ФЕЛЬДФЕБЕЛЬ СПАСАЕТ РУССКОГО ПЛЕННИКА
Колонна пленников-страдальцев растянулась на многие километры. Ее гонят по наезженному тракту подальше от линии фронта, в сторону Медыни, Юхнова, где недавно шли бои, а теперь властвуют немцы, гонят до уцелевшего железнодорожного вокзала, дабы погрузить в скотские вагоны и отправить в рабство, в Германию.
Крестный путь в неволю тяжел и безотраден. Люди измучены, истощены. Смотрят на все с безмолвною тоскою, страдальчески. Лица строгие, как иконописные лики. Каждый чувствует свою обреченность. И каждый живет в себе, в своем одиночестве. Наедине со своею бедою. Обессиленного от ран никто не поддерживает. Если только друг. Все на дороге смерти выживают в одиночку. Это не предательство! Все слышат в себе человеческую жизнь. И понимают холод ужаса перед гибелью, могильное безмолвие. Но нет сил поддержать молящего о милости. Тот, кто упал еще долго, с мольбою, в страшном молчании ползет и ползет в свою могилу вслед колонне, цепляется за холодные камни, обреченно тянет иссиня-обмороженные руки, униженно и бессильно, со слезами на глазах просит о чуде воскресения, о возвращении в жизнь. Но гибнущего страдальца-мученика стыдливо обтекают, понимая его и свою безысходность, а то и затаптывают без покаяния, двигаясь страшною неостановимою толпою.
Безвинно обреченный мученик со своим отчаянием и безумством остается на ледяном одре, позади колонны. Он еще дышит, смотрит в небо, заигрывает с летящим снегом, ловит на ладонь снежинки, он еще не верит, что жизнь обманула, к кому нес великую любовь. Раздается автоматная очередь, близко возгорает солнце, крутится в вихре, и все. Ни крика, ни стона. Снег его укрывает, как саваном.
Страшно оглянуться назад: убитые, убитые, убитые. Лежат жутко и одиноко! Среди земли, среди Вселенной! Лежат обреченно, как святые мученики земли Русской, с умными, еще открытыми глазами, с искаженными печалью ликами. Головы разбиты разрывными пулями, облиты кровью. Каким-то образом они искупили позор плена! Ушли в вечные земные Мавзолеи! И теперь только ветер, кружась, в красоте и печали смиренно поет им траурные песни.
Но все едино было жутко и жалостно видеть безвинного страдальца. Башкин отворачивался, страдал, он не мог видеть так близко человеческую муку, эти зверские убиения. Сам он тоже шел в колонне не героем-Гераклом, шел, испытывая стыд от неволи, рабского унижения, от горя и правды омерзительного бытия. Гордость его страдала. Обнажала слезы. Понятно, как натура сильная, мятежная, смириться с неволею он не мог. Быть рабом на чужбине? Работать на немцев? Предать свою Россию? Неужели можно себе такое представить? Надо бежать. Бежать немедленно. Чем скорее, тем лучше. Пока еще слышна орудийная канонада, близка линия фронта. Оттащут на петле до поезда, там уже из траурной кареты не выпрыгнешь, из Германии не убежишь. Там кандалы и цепи, ненасытные плети, чужая земля. Чужие люди. Сострадания не жди, краюхи хлеба тоже. На Руси ты, каждому светлынь! Юродивый ли, калека, нищий ли ты странник, или одинокий беглец из плена, ставший скорбным плачем, тебе помогут. И хлебом, и ночлегом. И женскою жалостью.
─ Как, Петро, еще не пора? Тяжело, тяжело нести крест на Голгофу в плену!
─ Ждем сумерки, Саша! О чем плач? Бежим, конечно! Убьют, значит, убьют!
Александр шел тяжело по булыжной дороге. Ноги были обвязаны тряпками. Теперь они размотались. Остановиться, нагнуться, навести порядок, было нельзя. Тут бы пристрелили, посчитав, что ослаб, обессилел, дальше идти не может. Нагнулся в гибельном поклоне, упал, ─ посылается автоматная очередь. Фашисты откровенно почитают славян животными, жизнь его не имеет ценности. И Башкину приходилось идти босиком по льду, снегу, острым камням. Ступни стали одною кровавою раною. Но он не замечал боли, какая обжигала, как пламень. Испытывал радость. Он не раб! Он человек! Раз живет мыслями о воле! Эти мысли вытесняли страх смерти, нестерпимо-обильную боль, дарили мир любви, веры и добра, в котором он еще жил.
Наступили сумерки. Дошли до деревни Дубровка. Конвойные объявили о привале, о ночлеге. Но не в самой деревне. Колонну оставили у околицы, на лугу, где были сенокосные угодья; венцами стояли снопы. За лозняком, сиротливо текла речушка. Погода, хуже не придумаешь, ветер, мокрый снег и морозец. Разрешили разжечь костры. Немцы, тоже замерзшие, снарядили команды в лес за хворостом. Башкин вызвался первым. Надо было прояснить обстановку для побега. Собирая валежник, он внимательно изучил лес, проезжую дорогу с глубокою тележною колеею, ямками лошадиных копыт, убегающие меж деревьев тропки. Ему, крестьянину, не трудно догадаться: раз есть лесная проезжая дорога и тропки, значит, за лесом, должна быть еще деревня. Первая мысль пришла бежать ─ глубокою ночью, как все уснут, спрятаться в лесу под сваленными деревьями, прикрыться хворостом. Дождаться, когда колонна истает на печальном пути, и двигаться в Тулу. Безусловно, риск был. Если хватятся, то конвойные и псы-волкодавы непременно отыщут. Если спустят с поводка, загрызут до смерти! Значит, надо бежать как можно дальше. Попросить хлеба в деревне. И снова бежать, бежать по замерзшим болотистым выгонам, непролазным ольшаникам, густым хвойным лесам. Петр Котов нашел задумку удачною, согласился на ночной побег.
Как раз в это время на немецкой кухне, в чане, в котором готовили корм свиньям, варили картофель в мундире. Каждому пленному полагалось на ужин по две картошки. Башкин, думая о побеге, встал еще в очередь. Но немец-повар запомнил его. И стал беспощадно избивать тяжелою скалкою, приговаривая излюбленное: «Руссише швайн! Шнель отсюда, к сучьей матери! Шнель! Будет капут!»
Башкин, побледнев от страха, сумел ловко увернуться, спрятаться в толпе.
Не то бы озверевший фашист убил его.
За две картофелины.
Не успел пленник унять исступленную нервную дрожь, смирить испуг и унижение, вернуть себе человеческое, как услышал пьяный, отрывистый окрик:
─ Рус золдат! Ком, ком!
Башкин оглянулся, его ли зовут?
Звали его.
Он с опаскою подошел к костру, вокруг которого сидели веселые конвойные немцы, пили шнапс.
Навстречу поднялся богатырского сложения, с багровым лицом фельдфебель.
И стал весело, требовательно говорить, путая русские и немецкие слова:
─ Ты, рус Иван, чего не поладил с поваром? Картофелину пожалел? Какая скряга! Будешь бороться с воином Маннергейма! С финном! Он поклялся, что положит на лопатки любого русского зольдата!
─ Почему я? ─ с грустью возразил Башкин.
Пьяный немец больно и требовательно постучал кулаком в его грудь:
─ Ты, зольдат! Ты, ты! Как самый молодой, красивый! ─ он заливисто рассмеялся. ─ Выиграешь, я дам тебе не картофелину, а хлеб-шнапс-сало! Защити себя. И свою честь. Я так желаю! Ты, зольдат, ты!
Дикая, холодная тревога охватила пленника. Он встал у края могилы. Борьба несла смерть. И только смерть. Стоит ему побороть финна ─ и победителя немедленно расстреляю!. Он не простит обиды. Не примет унижение на публике. Забава получалась кровавою.
Финн уже скинул шинель, разминался. Вокруг собиралась любопытные. Все пленные были на стороне Башкина. Они, обреченные вдали от России стать рабочим скотом, на издевательства и унижения, и теперь живя страшною, скорбною жизнью, они, печальные в своей кротости и покорности, просто нуждались в маленьком празднике для души. Откуда еще ждать светлости, радости им, идущим к своим могилам? Распять на земле завоевателя, пусть и в игровой борьбе, увидеть его, владыку, униженным, побежденным, что еще может больше укротить в тебе отчаяние, разбудить человеческое, вновь приблизить к России?
Воин Башкин тоже понимал необычность поединка, его святую ценность, его правду, как дарованную Отечеством и Богом. Он защищал не только свою честь и достоинство. Он защищал честь и достоинство каждого военнопленного, каждого униженного и оскорбленного, честь и величие России.
Но его сковал страх. Страшно воевать. Еще страшнее ходить на сближение, врукопашную. Но там враг. Там кто кого. Там защищаешь свою жизнь. Здесь же победа несет могилу! Как раз перед побегом, когда свобода уже близка. Он даже чувствует, как благословенно греют его лучи солнца. И как раз когда уже держишь солнце в руке, надо опускаться в могилу.
Так умирать тяжело!
Спасение жизни будит свою неумолимую правду.
Простите, люди! Не могу я взлететь черным журавлем в небо, когда над Русью грохочет гроза, и по земле ее мчит скорбно-взбешенная колесница бога войны Ареса! Меч из ножен вынут, надо биться за Россию! Там мое сердце, люди, ощутите мою правду!
Он не пошел на битву Пересветом, не пошел человеком, кто может сдержать с неба падающие молнии, он по милосердию обнял финна, покружил его, как на карусели, смиряя в себе презрение и гнев, сурово помучил. И дал себя повалить.
Победитель наступил на его грудь кованым сапогом и в гордо-величественной позе цезаря, с превосходством посмотрел на немцев и на пленную челядь. Фельдфебель взвился в бешенстве, его не устроила такая обманная дуэль, он закаркал загорланил, словно над рощею поднялась стая галок. Подбежал к Башкину и стал длинным, костлявым пальцем тыкать в его плечо:
─ Ты рус зольдат или трус? ─ с откровенною злобностью вскричал он. ─ Надо четно поединок! Не то я тебя бух-бух. И мама твоя в траурной вуали будет горько плакать!
Он не думал о матери, он думал о своем спасении, дабы вырваться на волю и мстить, мстить зверю-завоевателю за разрушенные и сожженные города и деревни! За унижения и убиения русского люда, за слезы девочки-россиянки на груди убитой матери, за русское солнце, убитое над Отечеством, какое ушло в молитву и траур, скрытое бесконечными дымами от костров Джордано Бруно на земле Руси!
Но едва фашист назвал матерь Человеческую, Александр близко-близко увидел Марию Михайловну, и почему-то увидел, как стоит она в подвенечном платье в траурной вуали у его могилы, и шепчет молитву о спасении его, о воскресении его, хотя знает, что сын ее не Христос! И воскресения ему не будет, но молит о воскресении, ибо желает сказать сыну, ─ почему ты не вступил в последнюю схватку за себя, за девочку-россиянку за Капитолину, за матерь свою, за Русь святую? Почему легко дал убить себя фельдфебелю? Ты же мой сын, воин Руси, ты ушел воевать добровольно, жертвенно! Так будь воином!
Александр знал свою матерь и знал, что она непременно так спросит в строгости! Матерь его суть Руси, строга, как злая крапива, мила, величественна, как березка! Ее род тянется из времен Рюрика. Матерь, несомненно, узнает, как он погиб через злую пророчицу Кассандру!
Воин Башкин посмотрел на фельдфебеля, он стоял цезарем, держал в руке бутылку шнапса и смотрел волком; да, он убьет.
Выбора не было!
И там смерть, и та смерть!
Он должен победить! Он должен спасти честь воина Руси, а там, что будет? В любом случае, будет благородная смерть во имя Отечества!
И во имя униженного русского пленника!
Да, ставки сделаны. Прощай, Россия! На шутовском карнавале жертвою выбрали его! Фашистам надоело убивать просто так, серо и буднично. Такая смерть уже не тревожит кровь. Поиграть с человеком, позабавиться и расстрелять! Уже восторг и ликование, фейерверк чувств!
Башкин помолился и с бешеною яростью бросился на врага, как и просило сердце. Пощады он ему теперь не давал. Повалил раз на землю, распял на лопатки, второй. Толпа ликовала. Военнопленные, утратив смирение и отчаяние, приплясывали в хороводе, подсвистывали, не скрывая радости, доброго настроения.
Немцы тоже гоготали над неудачливым борцом, выкрикивали обидные оскорбления. Финн, поверженный, осмеянный, стоял, сгорбившись. Смотрел угрюмо, исподлобья, дрожа от ненависти к русскому солдату. И требовал бороться еще и еще. Но Башкин уже вошел в характер, в свое половодье непоклонности и не давал врагу победить себя. В таинстве души жило и требовательно просилось: уступи, сдайся на последний раз. Дай возликовать финну, освободи его от унижения, горького позора перед немцами! Смотри, как перекошен, искривлен в дикой злобе его рот, каким суровым и холодным безумием налились его глаза. Он не простит. Уступишь, изольется милосердием, всепрощением! Будешь жить! Еще есть шанс спасти себя!
Но он отвергал разумные зовы души!
Раз уж взялся, отступать не будет. Не в характере елозить ужом перед захватчиком! Пусть знает, как умеет гордо умирать русский воин! Он не скот, он человек! И им останется до смерти.
Финн выбился из сил. И отошел. Фельдфебель, довольно улыбаясь, ─ похоже, он выиграл пари, ─ добродушно похлопал Башкина по плечу.
─Гут, гут, рус зольдат! ─с ликованием проворковал он и пригласил победителя к костру, угостил шнапсом. И завернул в бумагу хлеб и сало.
Башкин не отказался, выпил, закусил ветчиною. И не отказался от дара! Передал его Петру Котову.
И стал не без страха ожидать, что будет дальше? Как закрутятся мельничные жернова? Скорбное чувство неминуемой гибели сжимало сердце. Думы не отпускали, поведут на расстрел, не поведут за оскорбление финна? Ждать пришлось недолго. Едва ему разрешили покинуть застолье, как из тьмы, из ночи подкрался финн, повалил Башкина, придавил коленом. И в злобе выстрелил в затылок. Но пуля яркою вспышкою взвихрила землю рядом, звонко пролетев около уха. Фельдфебель-немец выбил пистолет у разгневанного конвойного.
─Найн, капут найн, ─ погрозил он пальцем финну. ─Так будет нечестно, несправедливо!
Но он все рвался и рвался пристрелить Башкина, истекая злобою и безумием. Его еле оттащили.
Пришло смирение, но было ясно, что враг в покое не оставит. Башкин и Котов не спали всю ночь, следили за финном. Он неусыпно наблюдал за воином. Когда конвойные уснули, а по луговой лощине ходили только часовые с огромными псами-волкодавами, он подошел к Башкину, больно ударил сапогом в бок, направил автомат и злобно повелел встать, идти за хворостом для костра. Но повел его не в лес, а к речке.
Русский солдат все понял, гибель приблизилась. По самой правде. Теперь ее уже не избежать. И откуда ждать чуда? Спасения? Своего воскресения? Закричишь, финн тут же пустит автоматную очередь. И к кому взывать? Только к Господу! Ему можно только донести правду страдания! И то мысленно, по молитве. Опять все виделось как в страшном, тяжелом сне.
Конечно, святотатственно, конечно, ужасно и непостижимо убивать того, кто с такою безмерною радостью, с таким колдовским изумлением любит жизнь. Где правда? Где справедливость, убивать безвинность?
Последнее, о чем подумал Александр Башкин, стоя на обрыве, ожидая выстрела, было самое будничное: как называется река, не Дубровка ли? И куда она впадает, не в Оку ли? Было бы так хорошо, если в Оку. Могли бы волны пригнать его мятежный челн к Туле, а то и к деревне Пряхино. Оказывается, нет на земле ничего сладостнее, как умереть и быть похороненным в родном краю, вместе с предками-руссами. И вечно лежать. И чувствовать Россию.
Есть, есть смысл, в кладбищенском единении!
Башкин услышал, как финн передернул затвор автомата, подогнал пули к стволу.
Но выстрела не прозвучало.
Смерть опять, в который раз, миновала страдальца-воина.
Безмерно страдая, в последнем отчаянии, Котов разбудил справедливого фельдфебеля, встал на колени, и стал со слезами просить спасти друга. Пьяный немецкий чин долго не мог разобраться, о чем его просит раб, это животное существо. Но Котов все тревожил и тревожил, показывал на овраг, на реку. Наконец, фельдфебель осмыслил, о чем его просят, посмотрел вдаль, увидел два силуэта на звездном небе, лениво вскинул автомат, и трассирующие пули пронеслись над головою финна. И громко крикнул: «Наин!» После чего пододвинулся к костру и в мгновение ушел в благостные сновидения.
Но жестокое слово «нет» еще долго громким, спасительным эхом разносилось над Русскою землею.
Убийца все понял.
Дважды повторять было не надо.
Он в злости ударил Башкина сапогом и прикладом автомата, затем еще, стараясь попасть в лицо, ударить больнее. И когда получилось, отпустил обреченного.
Но союзник, воин Маннергейма, президента Финляндии, и не думал отступать. Невыносимая злоба мучила без прощения! Он не мог смириться с обидою, публичным унижением. И решил, в отмщение, все же убить Башкина! Молить его о милости, о пощаде было бессмысленно. Не мог бы, и принять извинения от пленного, рабочего скота, который был в его власти. Раб молит о милости, раб, который оскорбил господина и хочет остаться жить, есть ли что еще оскорбительнее?
Когда колонна вышла в путь, безразлично оставив на луговом ночлеге-привале взгорья и взгорья замерзших воинов России, финн ни на миг не отходил от обидчика! Шел рядом, по обочине большака, и при каждом удобном случае, по окаянству, поторапливая, зловеще бил его прикладом автомата, бил так дабы упал! После чего, можно было с чистою совестью расстрелять! Но Башкина не так просто было вышибить из седла. Он выдерживал самые сильные удары, покорно переносил пронзительную боль, быстро выпрямлялся, не давая в спутанном беге себе упасть. Он не меньше фашиста понимал, упадет, больше не встанет! В роковой игре: жизнь ─ смерть ему помогал Котов. Он как бы нечаянно забегал вперед, и Башкин при новом жестоком ударе наталкивался, как на преграду, на его спину. И разогнать пленника до падения не получалось. Финн все больше зверел, лютовал, и чем бы все закончилось, сказать трудно. Конечно, Башкин бы проиграл свою жизнь! Но его на скорбном эшафоте спасали сами немцы, постоянно отгоняли ошалевшего в злобе и ненависти финна. И чаще всего грозою окрикивал его, удерживал от выстрела богатырь фельдфебель.
IV
На очередном привале в деревне Пешково, военнопленные были размещены на ночлег в свинарнике. Он был сложен из бревен, крыша венцом крыта соломою. Красноармейцы улеглись вповалку на полу во всю узкую глубину. Входные ворота закрыли накрепко кольями.
Ночью свинарник загорелся. Кто его поджег и зачем, осталось загадкою, но исступленно гудящее пламя быстро охватило все помещение.
Раздался панический голос:
─ Братцы, нас загнали в гробницу, хотят сжечь живьем! Чего удумали, суки! Бежим во спасение к воротам! Разоружаем конвойную сволочность!
Началась оглушительная паника. Все в диком ужасе, с криками гнева, обреченно ринулись к воротам. Но открыть ворота долго не получалось, они не поддавались силе. Люди превратились в стадо. Они люто, как безумцы, расталкивали друг друга, пробиваясь к спасению, сбивали слабого с ног, безжалостно затаптывали упавшего. И свирепыми хищниками рвались далее ─ по еще умирающим, стонущим, окровавленным, сами охваченные огнем, наполняя горящее помещение еще большим хаосом, смертельным ревом, нервным хохотом. Все ушло в смятение, в смерть. Всюду, куда ни шагни, кружилось пламя, растекались густые черные дымы, которые обжигали, обугливали легкие; несчастные задыхались и тоже гибли, выкатывая стеклянные глаза.
Немцы на выходе пытались навести порядок, строчили из автоматов и вверх, и в толпу, но она, обезумев, уже не слышала, ни себя, ни вещего, спасительного голоса с небес самого Господа. Несли друг друга толпою! Немногим удалось выползти на волю из черного, огненного гроба.
Башкин и Котов оказались в самом углу горящего костра Джордано Бруно, и даже не пытались пробраться сквозь обезумевшее столпотворение и пламя к распахнутым воротам. Это было так же бессмысленно, как подпрыгнуть с земли до неба и уцепиться за звезду. Мигом бы столкнули в пламя, затоптали без стыда, в гневе, обратили в обугленность. На свое спасение и изумление, Петр Котов совсем рядом разглядел узкое, как бойница, накрепко забитое досками окошечко. Стали живо, живо, до крови раня пальцы, отдирать доски. Им это удалось. И, надо сказать, вовремя: пламя уже подступало, грозило гибелью, а черные дымы, что клубились лютыми змеями, ненасытно забивали грудь, дыхание.
В панической сутолоке не обратили внимание на осколки стекол в раме, на выступающие гвозди и, протискиваясь с превеликим трудом через уродливое, узкое отверстие, сильно обрезали лицо и руки. Оказавшись на земле, быстро откатились от пылающего свинарника и неожиданно оказались в овраге, одни, далеко от конвоя. В полной темноте. Недалеко был лес. Мысль о побеге вызрела в мгновение. Оба, не сговариваясь, устремились в лесное укрытие. Бежали, не разбирая дороги, сквозь густоту деревьев, по замерзшему болотистому выгону, по озимому клину, вдоль речки и снова по лесу, бежали без остановки, передышки, как олени, напуганные выстрелом. И когда лес кончился, и впереди, за полем, показалась деревня, они остановились. И долго не могли отдышаться, обессиленно упав под березы, катаясь по жухлой траве, желая укротить, смирить разбушевавшееся сердце, которое ─ еще миг, и могло разорваться.
Успокоившись, Котов сладостно произнес:
─ Вырвались! Свобода!
─ Повезло, ─ согласился Башкин.
─ Умно смылись. Как фраера! Ни погони, ни очереди из
автомата, ни собачьего лая. И не хватятся, заметь! Подумают, сгорели в огне. Заживо. Не будут же на пепелище обугленные трупы пересчитывать. Так что, канули, как в вечность, в царствие небесное.
В поле стояли неубранные снопы конопли, желто светились початки кукурузы. Котов собрал дары. Они вкусно поели. И даже попили досыта из лесного родника свежую воду, которая до боли сладости пахла домом и деревнею.
Морозная осенняя ночь со звездопадом кончалась. Предрассветье привело густые туманы. Надо было двигаться дальше, к линии фронта. К своим. Радость избавления от плена не могла быть вечною. Думы вновь отяжелели: к своим, к своим. Звучало как заклинание. Но куда? И как? Всюду немцы. Дороги ветвятся. Где он, свет в тоннеле? Петр предложил втихую забежать в деревню и все выведать. И после продолжать движение.
Но Башкин возразил:
─ Опять загребут немцы!
─ Как быть? Сколько, Саша, не бедовать, а деревни не миновать! Посмотри на себя. Идешь босиком, ноги в сукровице. Грязные тряпки присохли к ранам. Я тоже странствую босым отшельником. Обезножим, и все. И опочим. Предзимье уже. Там какое-никакое, а тряпье дадут, приоденемся, подлечимся! И в добрый путь, на новые муки и страдания.
К деревне подошли осторожно, ближе к вечеру. У развилки большака неожиданно наткнулись на расстрелянные немецкие мотоциклы с коляскою. Позвало любопытство, заглянули. На кожаном сиденье лежали губная гармошка, бритвенный прибор, абрикосовые кубики в упаковке, мыло. Думали, взять или не взять? В дороге пригодится! Запас карман не тянет. Но Петр отказался. Побрезговал. Александру Башкину, на свое горе, очень уж понравилось мыло ─ вытянутое церковной свечою, голубоватое, пахнущее морскою водою и розами. Он взял, сработала крестьянская жадность.
Им повезло. Немцев в деревне не оказалось. Они постучали в первую избу и попросились на ночлег. Объяснили, они воины Красной армии, идут из окружения к своим, в Тулу. Измучились, истощены. Открылись раны. Долго не задержатся. С рассветом покинут деревню. Хозяйкою дома была молодая женщина. Жила с девочкою. Как потом выяснилось, звали ее Мария Васильевна. Фамилия Колесникова. Оказалась землячкою, из Алексина. Муж убит. Получила похоронку. Но в смерть не верит. Ждет мужа. Вдова, долго раздумывала, пустить беглецов на ночлег, не пустить?
─ Боюсь я, ─ честно призналась она. ─ Немец сильно лютуют. Могут сжечь избу, повесить, если узнают, что приютила чужого человека без разрешения бургомистра. Но раз пришли, чего делать с вами? Не гнать же в поле, на мороз. Вы оба ели стоите! Упадете в поле, замерзнете!
В избе густело благословенное тепло. В крестьянской печке еще потрескивали поленья дров, и беглецы первым делом прижались к спасительнице, обняли ее, как самую любимую красавицу на свете. И тут же, прямо на полу, уснули. Спустя время хозяйка пригласила воинов к столу, к ужину. Беглецы, обжигаясь, жадно ели картошку в мундире, похлебку из репы. Были на столе хлеб, соленые помидоры, грибы. И даже пили чай с сахарином. Боже мой, да не будь они в плену, окруженцами, разве бы когда еще узнали, что на свете существуют такие царские яства!
На рассвете, едва пропели третьи петухи, Башкин и Котов засобирались в путь. Было еще сумрачно, за окном холодно кружил ветер. Идти в путь-дорогу, в безвестность, страшно не хотелось. Но подводить хозяйку было нельзя. Мария Васильевна дала им одежду мужа, предложила переодеться. Все будет идти по лесу безопаснее. Скажите, мы деревенские, пришли на вырубки. Возьмете еще топор. Башкину досталось сносное осеннее пальто, всего и потертое на левом рукаве, худые ботинки, неумело прошитые дратвою по подошве. Раны он подлечил, женщина смазала их гусиным жиром, ботинки вошли тепло и уютно, и теперь была не страшна лесная и болотная жизнь.
Хозяйка собрала на дорогу узелок с едою.
У порога Котов остановился, низко поклонился:
─ Спасибо, Мария, за дары и приют. Вашею добротою будем долго живы. Пусть поможет вам Бог в любви и возвращении мужа!
Прощание получилось, как молитва. Женщина неожиданно расплакалась, присела на скамью. Беглецы замешкались. Покидать женщину в горе, женщину-мать, было не по чести. По желанию хозяйки, согласились еще остаться на сутки, дабы поднабраться сил. Это было не лишне. Еще мучило скорбное бессилие, кружилась голова.
Беглецы остались, утратив всякую осторожность!
Утром, по закону подлости, в деревню нежданно нагрянули немцы. Скорее, передвижное воинство. Вся улица была запружена танками, военными мотоциклами с пулеметами, грузовыми машинами.
Хозяйка дома осталась спокойною, но сильно побледнела. Пока ревели за окном моторы, она без суеты достала из сундука икону Варвары-великомученицы, и по милосердию навесила ее на шею Александра Башкина:
─ Спасает от насильственной смерти, ─ пояснила она. И перекрестила его, как матерь Человеческая, благословляющая сына на труд и на праздник и на возможную гибель.
Петр Котов тоже не остался в обиде, ему достался крест с распятьем Христа. И тоже прочитала молитву. Попросила у Господа и его избавить от огня и меча. Сама надела черный платок, горестно присела на скамью у окна, обняла дочь.
Помолчав, сказала:
─ Придут немцы, скажите, вы мои сыновья!
Друзья переглянулись между собою. Они больше, чем эта сильная русская женщина, которая смиренно и жертвенно приготовилась к смерти, без слез, мук и страдания, знали, что такое завоеватель! Его не проведет и сам дьявол. Проверят паспорт, в гневе спросят, а где запись, что дети? Вызовут бургомистра, устроят оную ставку. И тут же, оскорбленные ложью, станут избивать безвинную женщину и пленников плетьми! Кровью зальется ее сердце! И, пред ликом солнца и неба, отведут на расстрел всю троицу! Обратят в лунное свечение! Будет девочка плакать, молить о пощаде за маму, цепляться за сапоги завоевателя, в гневе, в наслаждение пристрелят и ее.
Не сговариваясь, спасая женщину и юное невинное создание, друзья быстро и скрытно убежали в овин, зарылись в навоз, под солому.
Но, похоже, продажные деревенские соглядатаи навели фашистов на след. Они ворвались в избу с автоматами, грозно спросили, где рус зольдаты? Женщина пожала плечами, ее обожгли плетью. И устремились к овину. Дали очередь из автомата. Пули с жуткою гулкостью впились в бревно, расщепили его на труху.
─ Рус, сдавайся! Не то бах-бах. И капут!
Еще раз Башкин и Котов вынужденно и, конечно, со стыдом, со слезами, подняли руки, сдались в плен. Они еще не знали, выживут ли, но с болью и горечью сказали себе: опять взяла твоя, фриц! Но не осилить тебе, не сломить русского солдата! Сто раз возьмешь, сто раз сбежим, но будем в Туле, ляжет за пулеметы в крепости!
Надежда на спасение была. Они не беглецы, они военнопленные. Снова закрутится в гестапо та же карусель, оформят новые документы и втолкнут в колонну обреченного русского люда, погонят в Германию, в рабство. Страшнее были бы те немцы, где цезарем-императором колонны был Фельдфебель!
Тогда бы расстрел!
За побег!
Но, скорее, затравили бы собаками! Так приятнее убивать! Больше боли испытает человек-страдалец!
АЛЕКСАНДРА БАШКИНА СНОВА ВЕДУТ НА КАЗНЬ ЗА ОБИДУ, КАКУЮ НАНЕС ФАШИСТАМ
Обида не так велика. Гестаповцы обыскали воина-беглеца, и нашли немецкое мыло, какое он ненароком взял на сиденье расстрелянного мотоцикла. Боже, какое стенание они подняли, кричали в обиде, зловеще, как воронье, слетев на отшумевшее поле битвы испить черной крови.
Эсэсовский офицер вперехлест ударил стеком по его лицу, оставив багровые рубцы.
─ Партизан! Мародер! Расстрелять! ─ кричал он в страшном гневе, выкатывая глаза хищника, и сам уже устал от угроз и ругательств, а все не мог успокоиться, словно его в безумии, неумолимо, щекотали и насиловали бесы.
Нашлись еще пленные, которые, пробираясь к линии фронта, тоже позарились на дармовое фрицевское добро. Все подлежали расстрелу! Но офицер по благодушию придумал казнь необыкновенную, несомненно, для забавы! Решили несчастного пропустить сквозь строй, как в царской армии через шпицрутены, и бить прогоняемого кольями. Упадет под избиением ─ одним скотом меньше. Велика ли печаль? И без обиды! Сам себя в гроб положил. Выживет, будет славен молитвами Господа! Молодец! Силен, вынослив. Такие рабы в Германии как раз и нужны. Получалось, пленному давали надежду на жизнь!
Александр был на очереди третьим. И надежд не выстраивал. Знал, это конец, забьют до смерти. Поглумятся, повеселятся, потешатся и в безжалостно-радостном равнодушии погасят солнце великой человеческой жизни.
Первым погнали на экзекуцию раненого, ослабевшего солдатика, совсем еще мальчика. Он был бледен, как покойник, и, встав на колени, плакал, просил прощения, просил не убивать его, дома останется одна больная матушка. Он нечаянно взял красивую, золотистую расческу, привлекла необычностью, фигурою девушки-русалки. Он больше до гроба не позарится на немецкие игрушки, не губите! Его пнули сапогом в лицо, приказали встать. Он покорно встал и продолжал с мольбою смотреть на мучителей.
Страх сковал его!
Разбудилась до страшного мучения, до страшной боли всесильная любовь к жизни.
И он никак не хотел идти в лабиринт смерти.
Его затолкали. И забили в мгновение. Он еще долго кричал, извивался на земле, пытался встать, но его лишь с радостным хохотом глушили и глушили суковатыми кольями по голове. Пока он, весь окровавленный, но еще живой, стонущий, не упал совсем. И смиренно не замер. Его вытащили из строя, чтобы не мешал на проходе очередной жертве. И хладнокровно, в пиршество чувств, прострелили затылок разрывною пулею.
Обреченный сержант-танкист повел себя храбрецом. Он попросил стакан шнапса. Ему подали. Он попросил сигарету. Ему снова не отказали. Он спокойно ее выкурил и с гордо поднятою головою презрительно посмотрел на палачей, неторопливо пошел по коридору гибели. Его били с оттяжкою, на полную силу, но танкист как не слышал ударов. Ни разу не согнулся, не защитился. И даже, казалось, не вздрагивала спина, с изорванною на лохмотья кожею, горевшая рубцами и кровью, которая, как слезинки, ало-ало скапывала на землю. Он гордо, непоклонно дошел до последнего фашиста. И тот оглушил его ударом такой силы, что хрустнул позвоночник. Танкист упал как колос, что был подкошен серпом. Его тоже оттащили в сторону, пробили затылок разрывною пулею.
Башкин пожалел его. Храбрец мог бы выжить, выиграть смертельную дуэль. Уж слишком гордо повел себя. Дал фашистам позабавиться, порадоваться. Долго убивать жертву намного привлекательнее, которая не боится смерти и познает ее в гордой царственности. Какой интерес убивать загнанную лошадь? У волка интерес волка! Чего перед хищниками выкобеливаться?
Все учел мудрый воин. И с жизнью попрощался, когда подошла его очередь. И все же сказал себе: надо выжить. Он поцеловал иконку Варвары-великомученицы, висевшую на цепочке на голом теле, и смело шагнул в лабиринт смерти. И промчался по нему как вихрь. Ни один немец, как ни злобился, не смог ударить его в полную убивающую силу. И только на самом краю немец-экзекутор нанес невыносимо сильный удар, от которого разорвалась в ужасной боли спина. Устоять было невозможно. Башкин закачался, словно на его плечи непосильно нагрузили мешки с мукою. Тяжесть придавила. Но он держался и держался, стараясь сохранить равновесие, не упасть. И не упал. Гестаповцы заголосили, как взбалмошные бабы на пожаре, требуя повторения! Кровавая забава получилась неинтересною, не устроила палача. Башкин не стал дожидаться, что решат на сатанинском шабаше фашисты. Была ночь, и он, не раздумывая, занырнул ласточкою в подвальное окно кирпичного здания, где располагалась тюрьма и содержались пленные. Тут же был Петр. Он быстро отдал одежду Башкину, приодел его. И затолкал под нары, к спящим.
Эсэсовский офицер разгневанно ворвался в камеру с двумя автоматчиками.
─ Где беглец? ─ в бешенстве спросил он.
Пленные молчали. Никто не выдал. Предателя не нашлось. Он посветил фонариком в лицо одному, другому, поднял с пола Башкина, долго всматривался, ожидая, когда он изольется страхом, мольбою о пощаде, но воин совершенно не думал с повинною вставать на колени. Фашист брезгливо, наотмашь, оттолкнул его, не узнал. Но, скорее, подвела фашистская надменность: не может презренный славянин-русс, животное, которого могли только что забить насмерть, хранить немыслимое хладнокровие, быть великим артистом.
Еще покричав, как стая ворон на березе, пригрозив расстрелять каждого третьего, если не выдадут приговоренного к справедливой экзекуции, гестаповский чин с надеждою посмотрел маленькими колючими глазами на угрюмо притихшую толпу. И, не дождавшись, с завидною злобою стал хлестать стеком по лицу пленного, в ненависти ругая их русскими свиньями. Насладившись чужою болью, успокоившись, круто развернулся. И вышел. За офицером живо последовали автоматчики.
Пленные облегченно вздохнули.
V
Нацистский концлагерь вблизи города Холм-Жирковского был известен тем, что здесь в сопровождении доктора Шульца, сотрудника Главного управления имперской безопасности, находился Яков Джугашвили, сын Сталина. Он попал в плен под Лясново в Смоленском сражении, затем переправлен в лагерь Заксенхаузен. Полевой лагерь огорожен тремя рядами колючей проволоки, сквозь которые пропущен ток высокого напряжения. Близко стояли наблюдательные деревянные вышки с часовыми, с хорошею обзорностью. На площадке установлены пулеметы, мощные прожектора, которые немедленно зажигались, едва темнело. Комендант штурмбанфюрер СС Ганс Сатор жил в двухэтажном доме, начальство поменьше, в уютном домике, под окнами каждого, непременно, росли розы и хризантемы. Не палачи, а благодушные респектабельные буржуа. Для пленного люда выстроены бараки.
Сюда и прибыли зимовать-умирать военнопленные Александр Башкин и Петр Котов. И тут же стали присматриваться, можно ли убежать из лагеря смерти? Убежать было нельзя! Каждый шаг заключенного под неусыпным наблюдением! Но Башкина это не останавливало. Он готовился к побегу. Жить в неволе было невыносимо. И как воину, и как человеку. Невыносимо было видеть людское горе и страдание, людское падение. Эсэсовцы издевались, развлекались, как могли. Подкараулив, сталкивали узника в выгребную яму, когда он оправлялся, и смеялись, наблюдая, как он захлебывался в клоаке. Под настроение могли избить бесправного пленника дубинкою, раздеть и обливать на морозе водою, пока страдалец не обратится в сосульку, толкнуть на колючую проволоку и в забаву посмотреть, как он обреченно, плача от ужаса и боли, извивается, словно змея под рогатиною, и замирает в трауре, как упавшая молния!
Издевательства, наказания, не были просто так, несли смысл, разумность ─ надо сломить волю пленника, расчеловечить до края, дабы никто не думал о побеге, никто не думал о бунте! Разобраться, пленные были, как лошади, и, как лошади, не слышали свою силу. Услышь пленные свою силу, тысячная толпа смела бы в мгновение скорбную плаху лагеря и гестаповцев с отточенною секирою палача, как слон, наступив на муравья.
И палачам удавалось до ненасытности убить в человеке солнечное свечение. Узники утрачивали интерес к жизни. В бараке, где жили Башкин и Котов, каждую ночь умирало тьма-тьмущая народу. Трупами застилали лужи и по ним, голым, словно по настилу ходили по зову на площадь лагеря. Ходили и по живым, еще только умирающим. Видели, как он тяжело дышит, горько, в печали открывает рот, с желанием жить и жить, длительно, в бессильном отчаянии хватает воздух, какого все больше не достает, значит, все, уходит в траур, в молитву. Несчастного раздевают, безразлично, без боли и сострадания сталкивают в сплошную чавкающую грязь и мостят им землю. Не тонуть же в болотной жиже; а мать, конечно, ждет сына с фронта, сидя у иконы, у окна, шепчет в надежде боли и печали спасительную молитву. Сын уже в гробу, где остановилось не только его дыхание, но и душистое, сладостное дыхание луга с иволгами, со стрекотом кузнечиков в стоге сена, дыхание неба и солнца.
И в гробу самом страшном, ибо умер не сам по себе, не по целомудрию от Бога, а в равнодушии, в ненасытности был затоптан, как червь, своими же страдальцами-узниками, своими же братьями-узниками!
Живой ужас!
И одно изумление, что может быть с Сыном Земли и Солнца, когда он разлагается, кончается как человек.
Александр Башкин все это видел. И берег себя. Свое сердце. Не позволял себе опускаться. Расслабить волю. Ему трудно было видеть умирающего, он жалел его, ибо умел слышать чужую боль. сострадал им. И не соглашался идти в похоронную команде, как бы староста барака не заставлял его, не бил, не грозил убить. Знал, раз отвезет на тачке земную бесценность в котлован, еще раз. И наступит охлаждение к собственной жизни. И выпрашивался делать для эсэсовцев уютные дорожки, выкладывать плиткою. Но был себе на уме. Думая, как убежать, наблюдал за часовыми, которые ходили между рядами колючей проволоки. Прикидывал для себя, До первого ограждения было метров тридцать! Если удастся незаметно для часового на вышке проскочить под освещением прожектора это гибельное пространство, которое простреливалось из пулемета трассирующими пулями, не убьют в упор, то можно залечь под проволоку, в рытвину. До третьего ряда ─ семнадцать метров! Перебежать их тяжело. В междурядьях прогуливаются часовые. Каждый шаг может кончиться смертью. Увидев за колючею проволокою человека, эсэсовцы немедленно откроют огонь на уничтожение. Надо пробежать под смертью семнадцать метров! Многовато! Но надо.
Башкин изучает, где встречаются часовые, где поворачиваются, как удаляются? И на какое время? При разводе местность не освещают, хранят ритуал таинства! Движение можно угадать только по призраку, по тени. Часовые меняются через каждые три часа. Секунда в секунду. Как раз в это время, на мгновение, гаснут прожектора! Это самое мгновение ─ и есть путь к свободе! И к гробнице! Куда угадаешь?
Все, просчитав, даже время по голосистому петуху в деревне, друг предлагает другу бежать.
Петр Котов не скрыл улыбку:
─ Куда? В усыпальницу?
Но соглашается. Котов умница, сильная натура, он слышит жизнь, как люди слушаю симфонию Бетховена. Любовь к жизни неистощима! Лагерь иссушает душу гневом и ненавистью к себе! Плен это смерть, рано или поздно, свобода ─ это светлынь!
Друзья бежали перед самым рассветом, когда всходило солнце и лучи его били в глаза часовым. И мигом исчезли в лесу.
Они ошалело мчались по скользкой тропе, сколько могли. На привале, едва отдышавшись, испытывая мятежную радость, Котов довольно воскликнул:
─ Обхитрили! Ауф фидер зеен, господа фрицы!
Но быть на воле беглецам пришлось недолго. Все завершилось неудачею, страшными муками.
Все учли беглецы, не учли национальное немецкое достоинство!
Отпустить раба на волю, обречь себя на вечную боль и вечное презрение к себе!
Это изменить Германии!
Фюреру!
В лагере утром при проверке, быстро выяснилось, не достает двух узников. Во все пространство взвыла горько-тревожная сирена! Эсэсовцы-охранники с собаками на поводках бросились в погоню. Догнали беглецов скоро. Обессиленные, истощенные, часто впадающие в голодные обмороки, они не могли далеко убежать. На Башкина и Котова спустили овчарок. Они с одержимым ликованием, злобным рычанием рвали острыми зубами их тела. Мучительная боль прожигала насквозь. Несчастные в крике, в стоне катались по земле, в овражке, неосознанно прикрывали лицо руками с уже прокусанными, окровавленными пальцами; злобные укусы овчарок остались на теле Башкина на всю жизнь.
В лагере беглецов, жестоко избивая, приволокли к начальству. Штурмбанфюрер СС Ганс Сатор долго, с необычным вниманием, рассматривал смельчаков, какие рискнули варварски нарушить заповеди его империи, вырваться из плена. Он больше жил изумлением, чем ненавистью: откуда у доходяг, у рабов такая любовь к свободе и жизни? Бежали под прицелом сотен автоматов! Невероятно! Такое еще никому не удавалось. Эсэсовец брезгливо скривил губы и наотмашь ударил кожаною перчаткою по щеке Башкина и Котова.
─ Казнить на рассвете. Публично! Под веселую русскую песню «Калинка», ─ надменно повелел он.
Еще одна причудливость. Так будет больнее. Душа наполнится скорбным зовом Руси, мучительнее отзовется песнями и хороводом девушек на лугу, летящими свадебными тройками, гармоникою. По-сумасшедшему обдаст падающим снегом, малиновым солнцем, перед глазами встанет мать с молитвою у иконы и горящею свечою, и в этот миг все оборвется, когда в полную скорбную силу будут растревожены слезы и тоска, когда умирать особенно тяжело.
Но умирать было еще рано! Еще в роскошь! Беглецов отволокли в гестапо. И в бетонной камере свора эсэсовцев еще долго била их резиновыми дубинками и сапогами. Отливали из шланга холодною водою, приводили в чувство и снова били. Тоже, казалось бы, зачем? Зачем эти издевательства? Властитель лагеря вынес приговор. С рассветом беглецы-узники отправятся в бессмертие. Позвольте побыть человеку с самим собою! Подумать о жизни, проститься с матерью Человеческою, с любимою. Ведь вот-вот свершится великая земная печаль, великое жертвенное приношение богам смерти! Возможно, на прощание человек сумеет измерить любовью и тоскою правду жизни и правду смерти, понять смысл своего явления на земле, осмыслить свою загадочность, человеческое в себе. Как бы после легко и светло было подниматься белым лебедем в звездные бесконечные выси, в свою вечность! Нет, бьют и бьют!
Все одинаково и в НКВД, и в гестапо. Откуда эта ненависть к человеческому роду?
На восходе солнца Башкина и Котова подвергли еще более страшному наказанию. Заломили руки за спину, надели кандалы и за эти кандалы подвесили к деревянному кресту. На грудь нацепили табличку: «Юде-комиссары».
К казни было все готово. На площади стояли бесконечною тьмою-толпою. На лобном месте высились две виселицы, рядом были палачи в красном кафтане, как при Малюте Скуратове во времена царствования Ивана Грозного, хор плакальщиц-женщин, все одеты в русские сарафаны, на голове кокошники, и духовой оркестр из узников. Строгим полукольцом замерли эсэсовцы с автоматами. Начальник лагеря одет в шинель с бобровым воротником.
Ему оставалось прочитать смертный приговор и взмахнуть платком.
Приговор зачитан.
Как раз в это время к гестаповцу подбежал радист, воздел руку в нацистском приветствии и подал срочную телеграмму. Она была личного характера. Фрау Мильда сообщала о рождении сына, наследника, которого назвала в честь фюрера его именем! Гестаповца обуяла радость. Он вспомнил завещание Сивиллы Дельфийской, греческой прорицательницы: родится сын, сотвори доброе дело, если не хочешь, чтобы он вырос змеею, слабоумным. Фашист был суеверным. И он, подумав, решил помиловать обреченных на казнь, справедливо посчитав, что это ему Господом зачтется! В земном же смысле: одним убитым узником больше, одним меньше, было без разницы. Эти животные мрут без зазрения совести. Гестаповец-Люцифер, находясь в аду, другого доброго дела придумать не мог.
Штурмбанфюрер СС отменил казнь и повелел развязать беглецов, снять с креста и поместить в больничном блоке. Окружению сказал:
─ В моем лагере только живые и мертвые. Больного животного не бывает, больница есть временная передышка на пути к крематорию. Но эти русские солдаты за смелость пусть будут исключением.
Подлечившись, Башкин и Котов бежали снова.
Они шли неутомимо по лесам. Уже выпал снег. Ничего не ели. Только ягоду чернику и грибы, которые жарили на ветке на костерке. Были сильно истощены, но в деревни заходить опасались. Шли на Тулу вдоль берега реки Угры, мимо сел и деревень Мятлево, Старки, Датчино, Барятино, Жуковка. От голода двигаться дальше становилось невмоготу. Сознание мутилось. Мучили обмороки. С часу на час они могли упасть и больше не встать. Вместе с тем, боялись и себя! Было ласково и тепло лежать на снегу, укрывшись ветками. Так бы и лежал всю жизнь, смотрел на солнце, слушал, как поют иволги! Но в такие обманчивые мгновения и было легче всего исчезнуть из мира! Сладостно-приятное забытье наступало быстро. Не пересилил себя, и ты уже снежинка, кружишься на ветру в хороводе вместе с белыми сестрами. Полная невесомость. Полный покой. Ни смертельного испуга, ни страха.
РАСПЯТЬЕ В ПЛЕНУ
На пути попалась деревня Желовижи. Башкин не выдержал:
─ Пойду, разведую. Силы кончились. Пропадем.
Котов засомневался:
─ Стоит ли? Вдруг немцы?
─ Так и так гибель.
─ Что ж, двигаем вместе, ─ выразил желание друг. ─ Каждый живет и умирает в одиночку! Только не мы. Под пули вместе, и в побеге, и в братской могиле. Или ты считаешь, я могу тебя отпустить одного к фрицам?
Едва они вышли на опушку, к ним приблудился еще красноармеец. Тоже был обессилен. Назвался Сергеем. Пулеметчик. С опаскою двигается с Вязьмы. Все трое перелезли через ограду и поползли по огороду к избе, где светились окна, из трубы шел дым. Наткнулись на капустные листья на грядке. Кочаны были срезаны, а листья остались. Стали их жадно, в исступлении, срывать дрожащими руками, ненасытно, торопливо есть, желая скорее, скорее унять мучительную боль голода. Листья мороженые, сладкие, и хрустели, как леденцы. Такого яства не ведали и цари.
Густели сумерки. Во дворе странная и страшная тишина. Неожиданно из избы донеслась немецкая песня.
Котов выругался:
─ Куда не ступишь, все в навоз.
Они спрятались в овин. Куда еще? Возвращаться в лес, в заснеженное поле с гибельным, метельным ветром, было уже не по силам. И бессмысленно, для жизни! Истощенность запредельная. Можно только обратиться в ледяные глыбы. В овине жили овцы. С ними они и притаились, согрелись. Ночью на крыльцо вышла хозяйка, увидев убранную у овина жердь, с придавленным дыханием спросила:
─ Кто в хлеву? Свои? Воры?
─ Свои, мать, ─ отозвался Котов. ─ Солдаты мы. Окруженцы. Помогите нам хлебом, одеждою.
─ Уходите немедленно, ─ запричитала женщина. ─ В деревне полно фрицев! Увидят, расстреляют. И меня с вами. Детей сиротами оставите. Убирайтесь, ─ со слезами выкрикнула она.
─ Не беспокойтесь, вас не расстреляют, ─ заверил Башкин.– Вы нас не видели! Мы скажем фашистам, сами зашли, силою, обманом! Не гоните, просим вас. Мы мокрые, изможденные. Замерзнем на ветру. Покормите, по молитве произнес воин.
В свете луны женщина увидела его лицо, бледное, скорбное, глаза, заплывшие от жестокого избиения, несли взгляд мученика; юноша еще, а седая борода. Он напоминал святого печальника, умирающего в пустыне голодною смертью. Не лучше смотрелись и его друзья.
Сжалившись, она сказала:
─ Хорошо. Я вас покормлю.
Ждать пришлось долго. Закралась тревога. Не приведет ли немцев?
─ Чего ждем? Пули? Не лучше ли вовремя смыться? ─ предложил Котов.
Башкин устало уронил:
─ Я жду пули! Надоело бегать по лесу, словно проклят Русью, как разбойник Кудеяр!
Но женщина явилась одна, без немцев. Принесла чугунок с похлебкою. И одежду. Позже пришла еще.
─ Фрицы съехали. Идите в избу, погрейтесь на печке. Замерзнете в хлеву, ─ произнесла с женскою жалостью.
В доме спросила:
─ Есть еще будете?
─ Во век будем благодарны, хозяюшка, ─ выразил общее настроение Котов.
─ Только много не ешьте, ─ высказала опасение русская женщина. ─ Голод утоляется медленно.
Но беглецы не вняли разумному опасению. Поели, как надо.
Забрались на крестьянскую печку, и стали тревожно перешептываться: не слишком ли ласкова и добра с хитрыми глазами баба? Не сдаст ли немцам? Без хлопот тепленькими возьмут! Но сколько, ни силились перебороть сон, не смогли. Смертельная усталость взяла свое. Петр проснулся с петухами. Вышел на крыльцо. Его мутило, крутило. Живот разрывался от боли.
Выбежала бледная, испуганная хозяйка:
─ Солдатик, на печи твои умерли! Что делать? Убивицею на деревне сочтут!
Мучаясь от боли, Котов вздрогнул:
─ Как умерли? Оба?
─ Мертвецами оба лежат. Замерши! Наставляла, не ешьте бестолково!
Приблудный солдат Сергей был уже холодным. Башкин еще дышал, но был на последнем излете. Лицо мертвенно побледнело, глаза грустно и неподвижно смотрели в пространство, губы синие. Руки скрюченно держат подушку. Лежит страдальцем! Его тоже мучили боли в животе, страшно ломали и крутили. Он зверски терпел, кусал губы, старался укротить судороги, равные по силе падающим молниям!
Петр Котов не знал, что делать? Как спасти от боли и смерти друга? Смерь же уже властелиншею вошла в его сердце, усилия за жизнь ослабли, прекратились. Котов в испуге, с силою влил ему кружку воды с касторкою и стал безжалостно мять живот. Вскоре обреченный закашлялся, изо рта тугою струею вырвались зеленые капустные листья. Началось кровотечение.
Александр Башкин ушел в забытье, а, может быть, и дальше, как мученик-жертвенник, в красоты рая, в Эдемов сад!
Но все обошлось. Башкин отлежался.
Молодость взяла свое.
Смерть отступила.
В который раз, в который раз!
Никак не ладили Госпожа смерть и Господин человек! Жили врозь. И врозь.
Пулеметчика Сергея отвезли за околицу и похоронили в окопе. Закрыли глаза, засыпали землею. К матери, к России он придет из битвы не умершим сыном, он станет неизвестным солдатом, кому разожгут в Москве у Красной площади Вечный огонь. И кому во все времена будут нести и подножию Жертвенного Огня цветы, цветы и цветы.
Друзья поклонились:
─ Прощай, воин и мученик!
Постояв у могилы невольного попутчика, Башкин и Котов продолжили крестный путь Христа на Голгофу.
VI
Идти становилось все труднее. Чем ближе к Москве и Туле, тем строже гитлеровские власти устанавливали новый порядок. Уже под страхом смерти запрещалось деревенским пускать беглецов на ночлег и кормить. С отступниками уже не миловались, не выясняли, почему ночуют чужие люди в избе, вешали всю семью, сжигали избу. Непоклонные воины холодными ночами забирались в лесные сторожки, в нетопленные бани на околице, ночевали в чистом поле, забираясь в стог сена, тесно прижимались друг к другу, дабы не замерзнуть, не окоченеть. И, дрожа от холода, в растрепанно-нищенском пальтишке упрямо, одержимо шли дальше, усилием воли заставляя себя идти, но все чаще падали на снег, лежали в полном бессилии, теряли сознание. Все чаще отступала явь, наступало беспамятство, при котором сладостно, неуловимо сладостно было перебраться в вечность.
Такие земные страдания были под силу только необычным людям, по-своему великим, чья судьба по небесным звездам увенчана мукою, а дорога вымощена суровою скорбью, но в чьи души вложена Божья милость! И кому в тяжелые мгновения виден путеводный крест в небе, он был сложен из звезд и не давал заблудиться в жизни, погибнуть. В лесу у деревни Гурьево, когда беглецы перешли реку Таруса, Александр Башкин обреченно упал в снег. И больше не мог подняться. Приближалось неизбежное. Петр Котов тоже понимал, что его настигала гибель. Все силы были отданы борьбе за выживание. Все, до последней капельки. Он был в беспамятстве. Лежал неподвижно. От холода свело руки и ноги. Из горла шла кровь. Он все больше коченел на морозе. И нечем было его укрыть, согреть. Не было и спичек развести костер. В лесу и поле мело, вокруг крутил поземкою ветер. И когда он схлынул, Котов увидел, как на краю деревни, в избе зажегся огонек. И смело, не таясь, по полю, огородами побежал на свет надежды. Но в избу не вошел, не достало сил, упал в беспамятстве на крыльце. Хозяин Дома Иван Сидорович Поляков приютил лесного странника, занесли в избу и замерзающего Башкина. Он, несомненно, ведал о расплате, но вошел в положение. Думать о том, кто он, друг или предатель, когда стоишь на краю могилы, не приходилось. О себе пояснил, работал в колхозе кладовщиком, имеет семью, выстроил добротную избу. В горнице стояли мешки с зерном, прикрытые рогожею. При отступлении свои не успели вывезти. Прячет от захватчиков, как умеет.
За десять дней Башкин и Котов вновь почувствовали силу, любовь к жизни. Они не отлеживались. Пилили и кололи дрова, переложили печь, постелили полы в бане и овине. Печаль отболела. Душа ожила. Но жили на нервном пределе! Боялись, как явятся самозваные господа! И неумолимо, неумолимо звала скорбная дорога, но каждый раз хозяин отговаривал:
─ Слабы еще. Поживите! До Алексина тридцать, километров. Как доберетесь по зимнему лесу, если у вас еще обмороки и ночами стонете в горячечном бреду?
Хозяин был прав. Сдали они сильно. Но смерть отступила, потерянная жизнь вернулась. И теперь им сам Бог велел пересилить, перехитрить проклятую дорогу, выстоять в бесконечном морозном поле! И даже можно побороться с волками, которые стаями последнее время преследовали беглецов в лесу.
Немцы пришли под вечер. Семья ужинала. Петр курил у печки. Увидев юношей, направили автоматы, строго спросили:
─ Кто такие?
─ Мои сыновья, ─ по покою отозвался хозяин. ─ Зи зинд майне киндер.
Незваные гости не поверили:
─ Мы знаем твоего сына, он в полиции служит! Эти, кто? Паспорт! Приписное свидетельство от бургомистра!
Оказавшись в сложном положении, где до смерти оставался один шаг ─ хозяину дома и воинам-беглецам, Иван Сидорович не растерялся, пригласил немцев в кладовую и отдал две забитые свиньи. И в придачу бутыль самогона. Те довольно загукали: гут, гут. Загрузили добро в розвальни, стеганули лошадь и скрылись в снежную метель.
Дальше раздумывать было нечего.
Башкин быстро оделся, то же самое посоветовал другу:
─ Уходим! Немедленно! Еще нагрянут! Будет конец!
Хозяин возражать не стал, на дорогу зарубил гуся. Дал спичек, табаку. На прощание обнял каждого, как родного сына и невинно попросил замолвить слово, если власть поинтересуется за его жизнь. Время сложное, люди злы.
Замирить доброе слово воины обещали.
И в мгновение зашли в лес. Затаились. По трассе Воскресенское ─ Никольское в сторону Тулы шли тяжелые танки с черными крестами, тягачи тащили десятиствольные минометы. Пришлось подальше углубиться в лес. Вечером разложили костер и стали готовить гуся. И даже не затаились, словно забыли, что живут на Руси, как загнанные волки! Пламя костра привлекло внимание. Близко раздались автоматные очереди. Появились немцы.
─ Партизаны! Хенде хох! Сталин капут!
─ Сплошное невезение, ─ горько уронил Котов.
И во зло набросился на немца:
─ Чего раскричался, Хонде хох, Хонде хох! Какие мы партизаны? Мы дровосеки! Дрова рубим, печку топить! Фрейлин греть! И дитя делать! Кричишь, поужинать не даешь!
Гестаповец, скорее, ничего не понял, но повелел:
─ Молчать! Застрелю, ─ и дал очередь из автомата.
Беглецов избили прикладами автоматов, ради развлечения, дабы согреться, отобрали топор, гуся, подержав его на весу, пощелкав языком: гут, гут, ─ и отвели в лагерь у деревни Аристова.
На этот раз друзьям выпал не лагерь, а райское блаженство! Он стоял в поле, на ветру, бараков не было, пленные жили в землянке. Лагерь огорожен колючею проволокою, Была одна сторожевая вышка с охраною, прожектором, пулеметом. Еще часовые ходили за колючею проволокою. Это был, скорее, загон для скота.
Кормили раз в день похлебкою из мороженого картофеля. Голодная смерть ─ та же казнь.
Русские женщины, как могли, спасали солдат. Они толпами приходили к лагерю, приносили узелки с хлебом, солеными помидорами, салом, поношенную одежду. Охрана отгоняла страдалиц, била прикладами. Но вскоре смирилась: умирало слишком много. Начальник лагеря оберштурмфюрер СС даже разрешил славянке забирать пленного мужа, если он отыщется.
Мужья нашлись немедленно. Многие женщины спасли воинов России! Александр Башкин к колючей проволоке не лез, себя на торг не выставлял. На вечерке в Пряхине было боязливо к девушке подойти, останавливала мужская стыдливость, безбожно краснел, если приходилось с кем в паре танцевать краковяк, а уж напроситься женщине, какая бы взяла в мужья, здесь целомудрие и вовсе протестовало. Неумолимо, нестерпимо жег стыд! И его никто не выбирал. Молод! Восемнадцать лет. И гнется на ветру, как былинка. Какой из него пахарь?
Петру повезло больше. С ним заиграла молодица, сверкая васильковыми глазами. Звала под венец. Он отказался, кивнул на друга, не может одного оставить.
Деревенская красавица погладила косу, с сожалением вымолвила:
─ Два мужа по Евангелию не положено иметь, гордец! ─ и улыбнулась с такою красотою, ласковостью, что у Котова в безумной пляске зашлось сердце. И навернулись слезы.
Убежать из лагеря оказалось нетрудно. Утром снаряжались на поле бригады по выкопке бесхозного картофеля для лагерного котла. Сборщиков охраняли слабо, без овчарок. Фашисты ─ уже хозяева! Россия завоевана, куда и зачем бежать пленному? Этим и воспользовались Башкин и Котов.
Побег удался.
И снова пошли к своим.
Для битвы.
Они не знали, дойдут или не дойдут? Но шли и шли, проклиная мучительную дорогу, изжигая себя тоскою и слезами, еле передвигая задубенелыми ногами, порою со скорбною ясностью осознавая, что делают последние шаги на земле, живут последними мыслями, последними муками. Не будь на пути русского селения, они давно бы гибельно-неслышно замерзли, лежали под снежным саваном. Но правда жизни еще мучила воинов, мучила надеждою, заставляла идти и идти. Пусть даже на Голгофу.
На околице деревни увидели коровник. Зашли. Народу валом. Все свои, красноармейцы, выходящие из окружения. Лежали на полу, на сене. Человек девятнадцать. Все с угрюмыми, изможденными лицами, со страшно впалыми глазами, с большими синими кругами. Жарко горела печь. Башкину гнездовье не понравилось, придут немцы, каждого расстреляют; а немцы явят себя! В деревне видели оживление, а Каину жить, пока живо человечество!
Он поделился своим опасением! Но друг уже пригрелся теплу и беспечно махнул рукою: чему быть, того не миновать.
Немцы пришли с рассветом. Затаенно подступив, открыли из автоматов огонь на поражение. Били через стены, окна.
Затем последовала команда:
─ Рус, сдавай-с! Ви окружен!
Сдаваться было некому. Коровник переполнен убитыми, стонущими ранеными. Вышли трое. Увидев смуглого человека в командирской шинели, с черными курчавыми волосами, офицер ткнул в его грудь пальцем:
─ Юде?
Пленный разразился страшным криком:
─ Я русский! Рус! Рус Иван!
─ Юде! ─ непреклонно произнес гестаповец. И поднял перчатку. Автоматные очереди сразили несчастного.
Фашисты вошли в помещение, пристрелили раненых. Офицер осмотрел чердак, крикнул:
─ Кто спрятался в сене? Выходи!
Башкин не шевельнулся. Затаился.
─ Подожжем!
И подожгли, бросили факел. Огонь жадно набросился на высушенные бревна, сухое сено. И все ближе подступал к воину Башкину. На миг он решил: лучше сгореть, чем опять в плен. Пламя уже обжигало лицо, ресницы. Еще мгновение, и он весь безвозвратно, безвозвратно перекочует в огонь, в костер. Станет пламенем. Башкин увидел плачущую мать. Увидел себя обугленным творением. И с силою выбил доску в крыше, выпрыгнул из огня. Котов выпрыгнул следом.
Друзья незаметно ускользнули в лес. И бежали от проклятого места по жгуче-морозному снегу так долго, пока не упали и не потеряли сознание.
Первым пришел в себя Котов. Долго силился понять, где он? Тело не слушалось. Щека примерзла к снегу. С трудом поднявшись, он бесчувственными пальцами нащупал в кармане осеннего пальто самогон, растер им задубелую щеку, руки. Выпил. И постепенно теплота охватила промерзшее тело. Теперь он стал врачевать Башкина. И тоже вернул его к жизни.
Обреченность ушла.
Роковая ночь отступила.
Надо было двигаться.
Промерзшими льдинками они все же добрались до поселка Ферзиково, откуда до Алексина было рукою подать. Друзья живо пошли к полноводной реве Оке, дабы под таинством ночи перебраться на тульский берег! Вышли к селению Трубецкое, спустились еще ниже, к деревне Пашково. Пока шли по лесу, присоединились еще красноармейцы, выходящие из окружения. Собралось двадцать один человек. Туляки из Ефремова, Щекино, Сталиногорска.
Стали вместе думать, как переплыть Оку, перебраться к своим? Вплавь ее не взять, плыть пришлось бы в одежде, а люди обессилены. Все бы ушли в глубинные воды, как Ермак в тяжелой кольчуге. Решили переплывать на плоту. На вырубке разыскали метровые бревна, сложенные в штабеля. Разобрали, связали плоты. Лед уже сцепил воды у берега. Поленьями разбили, разогнали льдинки. И спустили свои струги. Отчалили тихо, с предельною осторожностью. На той стороне могли оказаться пограничные немецкие посты. Плыли одни в огромной вселенной. Ночь выручала. Гребли и прислушивались к каждому шороху, звуку.
У родного берега тоже оказался лед. Подплывая, плоты решительно и обреченно вошли в тугую мерзлую звонницу. Ломаясь, лед в тишине загремел, как небесные громы. Сея смерть, застрочили пулеметы. Крики и стоны поднялись над рекою печали и скорби. Обратно, спасаясь от пуль, плыл кто на чем: на плоту, держался за бревно, за утопающего. Течение было сильное, и несчастного пловца, сурово и бесшабашно, оттаскивало от спасительного берега, затягивало в омут. Башкин был хорошим пловцом, волевым человеком. И, похоже, был заговорен от пуль. Имел сильного ангела-хранителя. Он выплыл. И помог Котову. Все остальные ушли в смерть.
Мокрые, дрожа от холода и пережитого страха, друзья кинулись в лес, подальше от Оки, от западни. Им было больно. Они не думали, что все окончится неудачею. Дом был рядом, манил надеждою. И она круто обманула.
─ Что теперь предлагаешь? ─ спросил Котов, разбивая о разлапистую ель оледенелое пальто. ─ Мы живем, как в прозрачном ледяном склепе! Долго протянем?
─ Пока предлагаю, просушить оленьи шкуры!
Они зашли в деревню Сугоново, всюду топились печи, сладко пахло испеченным хлебом. Постучали в первую избу. В окно с опаскою выглянула женщина в черном платке и старик с седою боярскою бородою. После переговоров хозяева впустили беглецов, накормили картошкою и солеными грибами.
И тут же повелели:
─ Теперь уходите! Погрелись, и довольно.
─ Нам бы одежду просушить, мы в реке Оке искупались! В поле ветер, в сосульку обратимся, погибнем! ─ попытался ее умилостивить ее Котов.
─ Не погибнете, ─ не согласилась женщина. ─ Морозец еще не знатный. За деревнею стоит баня. Там печка. Там и согреетесь. Дровишек выдам. И картошек пожалую. Больше ничего не могу. Христом Богом прошу! Уходите!
Ее неожиданно и во зло поддержал старик с иконописным ликом, с длинною седою бородою:
─ Замерзнете, туда вам и дорога, сучьи дети! Довоевались! Россию пришельцам отдали. Мы ее веками выстраивали, а вы ее зараз в прорубь спустили. В неволю, в рабство теперь поведут нашу кормилицу, матушку Рассею. Не стыдно вам людям в глаза смотреть? Хлеба вам, картошек, полати княжеские! Пошли вон, побирушки!
Деревенская баня стояла на берегу реки. В светлые времена, скорее, добрые молодцы и добрые молодицы, попарившись, бежали зимою в разгульную веселость к реке, ныряли в прорубь; Русь и стояла на том, на веселье и здравии! Почему и труд был в радость и целомудрие! Рядом высился колодец, где женщины брали воду, поили скот. Друзья, устав бояться, смело зашли в баню. Не гибнуть же на ветру и стуже. И в радость увидели полный набор для омовения: раздевалка, мыльный зал, парилка. На скамье деревянные бадьи. Печь, вмазан котел. Поленница дров. Волшебство, и только.
─ Удача! ─ возликовал Котов. ─ Бог увидел, не обидел.
Наносили воды. Натопили баню. Разделись догола. Хорошо попарились. И увидели в окно немцев.
─ Теперь уж точно от смерти не спастись, ─ с удалою веселостью произнес Башкин, совсем не испугавшись, словно тронулся умом.
Котов тоже с грустью уронил:
─ Саша, скажи, где я? В каком Отечестве? Может быть, мы с тобою в Баварию попали? Куда не шагнешь, все немцы и немцы!
Но и в этот раз вороные, разлетные, не выдали, вынесли с плахи-эшафота на спасительное крутогорье! Снова в свою радость запела Русь под гармонь и под гусли!
Немцы были при казенном деле, везли своим воякам связки кур и уток под саваном-брезентом; они смиренно напоили рослую лошадь, выпили по глотку из фляжки шнапса, в сладость покурили, и по покою покатили по заснеженной дороге.
Котов призадумался:
─ Саша, если по уму, надо убираться в лес!
─ Так и сделаем, как просушим одежду!
Друзья закрыли дверь, разделись догола, одежду для просушки положили на лист железа, где так же желали выжечь самозваного злого гостя. Спать не думали, но уснули. Не выстояли! Распарившись, залезли на полку и уснули сном святого праведника.
И могли больше не проснуться!
Уйти без хора плакальщиц и хора горевестниц, без прощального поцелуя матери, ─ в молитву, в траур!
На все времена!
Спасла горемык русская женщина по имени Дарья. Она пришла утром с ведрами к колодцу за водою и увидела, как из бани клубятся черные едкие дымы. Белье на горячем листе железа воспламенилось. И все погорело. Угар в бане стоял тяжелее, чем гибель. Дева разбудила и обреченно спящего с краю Александра Башкина, затем Петра Котова, окатила холодною водою. И стала выгонять на улицу. Парни были голые ─ и отчаянно сопротивлялись. Но вышли. Из деревни явились еще женщины с ведрами, стали весело смеяться. Разогнав греховодниц, Дарья сбегала в свою избу, принесла одежду. И в чугунке картошки с салом.
Прощаясь со спасительницею, Петр Котов, как джентльмен поцеловал руку русской мадонне. И произнес ласковые, вещие слова:
─ Я всю жизнь тоскую о любви, о любви от чистоты и красоты! Во мне пиршество любви! Клянусь, останусь жив, зашлю сватов! Такую сладкую правду понесу до победы!
Александр Башкин стоял молча, стыдливо. Его впервые по-мужски обнаженным видела молодица.
VII
Друзья еще долго блудили по лесу, искали проходы к линии фронта. Но всюду натыкались на немцев, на автоматные очереди. И вконец обессилели.
Башкин ослеп от истощения, видел только белое и черное.
Котов оглох от истощения.
Теперь они шли хороводом, как единое целое. Котов шел впереди, Башкин следом. Оба держались за палку. Зрячий, увидев опасность, дергал за палку, они останавливались, замирали. Если фашисты ушли, беда миновала, то дергал за палку тот, кто слышал; слух у Александра был развит невероятно. Слышал опасность, как рысь.
Дошли до поселка Полотняный Завод. Пустил ночевать старичок библейского возраста, с красивою седою бородою на расчес. Покормил, узнал, кто такие, куда идут? Окруженцы таиться не стали, исповедовались по правде.
Хозяина дома звали Савелий Карлович. Он воевал в гражданскую на тачанке. Прямо сказал:
─ Не выжить вам. Деревни живут в страхе. Полно полицаев. Сосед предает соседа! Еще поблудите в лесу, и волки настигнут. Держите путь на комендатуру. Объясните, идете домой, в Западную Белоруссию. Выпишут пропуск. И будете на Руси не чужестранцами. В деревне староста на ночлег устроит. Мы ─ западники! Пожалуйста, наша виза.
Городская управа располагалась в старинном богатом особняке. Двери тяжелые, резные. Медные ручки блестят. Часовой, узнав, в чем дело, щелкает каблуками сапог. В фойе зеркала, вверх по лестнице ковры. По стенам мягкие кресла, красивые домашние цветы в кадке. Все очень солидно, на все времена! Гитлеровские и русские чиновники опрятны, чутко внимательные. Русские девицы носят черные короткие юбки, белые блузы, губы накрашены ─ ярмарка невест! Печатают на машинке, грациозно разносят документы по кабинетам.
Котов спросил у седого пожилого мужчины, который убирался в коридоре.
─ Отец, где можно получить пропуск в Западную Белоруссию?
─ В седьмом кабинете. Вы кто?
─ Окруженцы. Там родители живут.
─ Кто надоумил?
Объяснили.
─ Э, дурни, ─ он по жалости взглянул на молодость. ─ Немца хотели обхитрить! Неужели он воина Руси живым на родину отпустит, водку пить и баб губить? Ловушка это! Дабы вас по лесам не отлавливать! Соберут, повезут в карьер, таскать камни, а там расстреляют. Несметные толпы уже прошло русаков, с жалким умом, через кровавое чистилище. Скажите, в полицаи пришли наниматься! Беженцы, западники! Может, и спасетесь.
Друзья так и сделали. Пропуск, направление на работу им выписали на немецком языке.
─ Не владеешь им? ─ с тревогою поинтересовался Котов. ─ Явимся к старосте, а там написано: расстрелять. И отволокут за чуб за околицу, загонят пулю!
Так думать основания были. Фашист коварен. Зашли в дом на окраине. Случайно напали на учительницу французского языка. Со словарем перевели. Все сходилось по чести! Обмана не было. С веселым настроением разорвали направление на работу в полицейское управление, сожгли, с наслаждением пепел втоптали в снег и опять пошли безбрежною, скорбною дорогою по плененной земле Руси искать выход из лабиринта.
Добрались до станции Темкино.
─ Куда дальше? ─ грустно спросил Котов. ─ Казни, но я больше не желаю странствовать от могилы до могилы! Были на Руси карнавал и пастбище, а осталось кладбище.
Александр Башкин в радости заверил:
─ Больше и не надо, Петро, ходить от выстрела к выстрелу! Вороные кони встали, как вкопанные! Мы у вокзала Темкино! Тула в два прогона! Сел на поезд, и в Туле! Чего еще искать?
─ Сел на поезд, и в Туле? Любопытно! ─ усомнился Петр. ─ Туда идут поезда только с немецкими танками, и все под нацистским флагом! Возьмешь гармошку и будешь в поезде распевать немцам песни ─ «Дорогая моя столица, Золотая моя Москва»?
─ Не буду. Пристроюсь кочегаром.
─ Думаешь, возьмут фашисты?
─ Придется, поискать ─ дорогу к храму!
Петр понял, что предстоит разлука:
─ Люб ты мне, Саша! Зову на свою родину, в Старую Руссу. Скорее доберемся.
─ Не могу, Петр! Немцы штурмуют Тулу! За долгие скорбные путешествия от смерти к смерти, я переполнил, перенасытил себя болями и ненавистью за Русь! Я воин Руси, я Пересвет! Я хочу биться с врагом! Мое место на Куликом поле, рядом с Дмитрием Донским!
Петро помолчал:
─ Что ж, смотри! Ты воин Пересвет, не скрою, и можешь быть полководцем, как ты умно разложил поле битвы под Медынью, а я больше странник-печальник на Руси, был пахарем, не пошло, сменил плуг на оружие, не пошло! Я живу с Христом! И не желаю быть палачом! Призовут, буду биться! И, может, еще свидимся на Куликовом поле! Прощай!
Друзья по-мужицки круто обнялись, долго стояли так, не в силах отсоединиться, испытывая безумную печаль, жалость и скорбь, чувствуя, как неостановимо льются слезы. Юноши не стыдились слабости и не сдерживали слез. Они пережили вместе столько мук, столько раз спасались от смерти, что волею-неволею воссоединились в любви на всю жизнь, на все бессмертие. Когда волевой, неунывающий Петр ушел, Башкин еще долго стоял на развилке дорог, смотрел вслед, все больше ощущая земную ненасытную тоску, вселенскую сиротливость.
Дабы воплотить задумку в жизнь, Александр Башкин выбрал деревню Медведково, какая стояла у станции Темкино. Проще было наладить связь с машинистами поездов, которые, не исключено, могли быть из Алексина или Щекино. Он вошел в избу к старосте смело, как вольный человек, что обласкан немецкою властью. Не пряча лицо в воротник осеннего пальто, не отворачивая блудливые глаза, предъявил документы, пояснил, он западник, просит на время устроить на житие. Староста– старичок по-русски приятный, сытый, гладко причесанный на пробор долго изучал бумаги, напечатанные на машинке на немецком языке, с гербовою свастикою вверху. Пристально рассмотрел на свет керосиновой лампы печать. Вернул и, ни слова не говоря, оделся, скрюченным пальцем пригласил следовать за собою.
Постучав, вошел в дом на окраине. Непреклонно, но ласково попросил:
─ Приюти постояльца, Настасья Сергеевна. Муж у тебя на фронте, был уважаемым человеком, председателем сельпо. Семья, е детишек без края, есть живность, поросенок, овцы, куры, корова на отеле. Работник в доме сгодится! Документы в порядке, возвращается в Западную Белоруссию, с кем немец не воюет! Правда, я по-фрицевски не шпарю, но с виду человек от чести и порядка!
Башкин пришелся ко двору. Его вмиг окружили дети хозяйки. Познакомились. Ребятишек было шестеро. Звали Толя, Коля, Вася, Виктор, и девочки Лена и Катя. Он быстро поладил с детством. Играл в разные игры. Выстроил балалайку, приладил к банке фанерку-гриф, натянул струны. Вечерами пели частушки, русские народные песни. Голос у Башкина великолепен, как у Федора Шаляпина, в голосе слышна мятежная сила бурлака на Волге, изысканная бархатность, когда пел, очень радовал детскую империю. Александр с детства любил рисовать. И карандашом, и акварельными красками. Открыл школу живописи.
─ Вы, Саша, явились, как волшебник из сказки, ─ радовалась Настасья Сергеевна. ─ Ребята не слушаются, бегают по улице. Немцы, проезжая мимо по деревне, стреляют. Ради развлечения. Во Власово три мальчика были убиты, нечаянно скатились с горки на фашиста! Теперь я уверена, мои лебеди останутся живы.
Александр Башкин не привык жить иждивенцем. Он ходил по деревням, складывал печки, ставил бани, выправлял оседающие полы и потолки в избе. В свой ковчег возвращался всегда с дарами. В одно время, обнаружил на риге не обмолоченные снопы ржи. Рядом стояла веялка. Намолотил два мешка зерна и повез на мельницу, на размолот. Познакомился с мельником Лукою Ивановичем. Разговорились. Он был связным партизанского отряда. Со временем, приглядевшись, предложил юноше повоевать за Советскую власть. Башкин согласился. И не мог не согласиться. Он постоянно думал о страдалице-России.
Шел ноябрь. Фашисты были у Москвы. Завоеватели на каждом перекрестке трубили: Москва пала, Россия завоевана! Деревня стонала в горе, люди пали духом! Ужели придется жить без России, под немцем? Стон боли и сиротливости стоял во все Отечество!
Во Власове в доме священника жил монах от Христа. Скорее, тоже был в подполье. Из Москвы ему присылали церковные книги, где были листовки, какие несли правду о Москве! Ее и разносил по деревням Башкин! Люди сходились на сходы с превеликою опаскою, в каждом боялись увидеть Каина! Окажись Каин ─ каждому виселица! Александр Башкин говорил горячо, исповедально ─ лгут фашисты о Москве! Лгут! Москва не сдалась, и никогда ее фашист не пленит, не покорит! И никогда церковные колокола храма Василия Блаженного не вознесут благовест во славу Гитлера и его крестоносцев! Германца били изначально на Руси во времена Великого князя Буса Белояра, кого в народе назвали Русским Христом, во времена Великого князя Александра Невского на Чудском озере! Били германца в Грюнвальдскую битву, где рыцари Тевтонского ордена бежали, как трусы с поля битвы! И снова разобьем германца! Не править ему Русью! Верьте в это люди, Верьте! Русь непобедима, она суть бессмертия!
Юноша от сердца нес людям надежду в русского воина, в Сталина, и они, несомненно, неумолимо, преображались душою, светлели верою, изгоняли скорбь и печаль.
Узнав правду о Москве, россияне плакали, оживали.
Как выходили из гроба, из могилы.
В звезды. В Русь. Во Вселенную.
Случалось и сложное задание. Был во Власово Иван Зимин. Не человек, страшное горе. Изнасиловал свою дочь девяти лет. Оскорбленная и гордая девочка ушла из жизни, перерезала бритвою вены. Насильнику дали десять лет. Отсидев в тюрьме, вернулся в деревню. И устроился в управе полицаем. Был невероятно жесток, насиловал солдаток, жег избы. Его и приговорили партизаны к смертной казни за зверские злодеяния. Народным мстителем выбрали юношу-комсомольца!
Он поджег его избу. Полицаю спастись не удалось.
По своему Вселенскому исполнению ─ мир устроен справедливо! Человеческие Чувства ему, не Судья и не Господин-властелин! Сам Мир и Человеческие Чувства это совершенно разные империи! Если даже человек как мститель наказал изменника Родины, он все едино не может жить, как ангел с белыми крылышками. Его может настичь расплата.
Расплата могла настичь и Александра Башкина. Но он о своем роковом часе даже не догадывался. Он пошел на мельницу доложить о исполнении приговора предателю. И содрогнулся от горя и печали ─ на дубе у плотины были повешены мельник Лука и мельничиха Прасковья! Он быстро и своевременно сообразил: в засаде немцы. Надо спасаться! Но как? Он в поле, виден, как на дуэли! Они ждут, знают, партизаны придут на мельницу. И теперь держат нечаянного гостя под прицелом. Им убивать его не велено, только при побеге. Приказано взять живьем. И на дыбе, на пытке, под шомполами выведать о командире отряда и где он скрывается.
Смерть обступила всерьез. Живым они его, конечно, не возьмут. Пусть не надеются! Он круто развернулся и быстро, быстро, как падающая с неба молния, на последнем стуке сердца, побежал по открытому снежному полю, петляя, как заяц, падал, катился по снегу бревном, и все бежал, бежал ближе к лесу, где было спасение. Палачи густо открыли огонь из автоматов. Трассирующие разрывные пули рвали землю, взметывали снег, окружили его сплошным огнем, но ни одна не достала его, не испробовала солдатской крови.
В такое спасение просто не поверить!
Но так случилось.
Еще одним чудом. Еще одною загадкою.
Башкин скатился в овраг и побежал по глубокой лощине, утопая в снегу, в неизвестные дали.
В дом к тете Насте он больше не вернулся. Поселился в землянке, за огородом, у леса. Натаскал сена и сделал лежбище. Уже зашла зима. Гуляли метели. Он совершенно коченел на морозе. Жить одному становилось все труднее. Зрение то возвращалось, то исчезало. Все чаще стало пропадать сознание, мучил страх гибели. Он уже так и полагал, впадет в беспамятство, обморозится, незаметно, неслышно исчезнет. Такая тревожность водила хороводы. Естественная любовь к жизни крепко мучила его в роковом мире.
Настасья Сергеевна не раз звала в избу. Немцы давно прекратили охоту. Будешь жить на печке, за трубою, терпеливо и по милости уговаривала женщина. Чего отшельничать? Мало ли что может случиться с ослабленным человеком! Кто поможет?
Но Александр и на краю могилы не мог обидеть человека! Могли придти гестаповцы, выяснить, кто он? И отвести на виселицу! Несомненно, неумолимо, отвели бы на виселицу и Настасью Сергеевну, могли сжечь избу! Где бы жили дети сироты?
Как раз дети Настасьи Сергеевны и спасли его; совершенно обмороженного, без признаков жизни, привезли из землянки в избу, спрятали на печке. И забросали старою одеждою от любопытного взгляда, чем и отогрели!
Судьба, или боги Руси, еще раз помиловали воина пред ликом солнца и неба, пред ликом Христа!
И, несомненно, несомненно, причина одна ─ в Александре Башкине жила немыслимая, неиссякаемая сила духа! Он и в 80 лет мог встать у орудия и бить по танкам Гудериана!
Воистину, смелого смерть боится!
И не просто боится, а люто боится!
Силою духа движется все на земле, вся жизнь человеческая, честь и справедливость, любовь и целомудрие, боль к чужой боли и радость к чужой радости; силою духа движутся звезды в небесном пространстве, и даже сгорая, звезды движутся, движутся миллиарды лет ─ силою духа!
И Вселенная все больше обретает пространство только силою духа!
В марте стало теплее. И Александр пошел на железнодорожную станцию в Темкино, дабы уехать в Тулу. Любою ценою! Мела пурга. И неожиданно он увидел, как по заснеженному полю неслись кони. Зрелище было необычное, колдовское. Бешеная скачка, разметавшиеся гривы, всадники в белом. Юноша страшно испугался, он понял, что впадает в беспамятство! Вокруг пурга перестала быть пургою, во все русское пространство загадочно заиграли гусли, какие понесли, понесли, как гуси-лебеди над землею, тревожное могильное песнопение, как на могиле умершего. Все было ясно, хоровод его жизни кончался! Его Земное Время перетекало в гусли, в гусли, какие и тревожили мир хором плакальщиц и хором гревестниц!
На прощание с жизнью он увидел коней из детства, из юности, тех самых голубых коней, которых водил в ночное на сочные пряхинские луга, на берега реки Мордвес. Где разжигал костры и впитывал в себя утренние чародейские зори.
Только почему они стали белые?
Укрылись саваном? Явились привидением, прощанием?
Перед его тревожным падением в снег, в вечную
бесконечность?
Но кони приближались, а он все не падал.
И вскоре он понял ─ кони это явью. Это оказался кавалерийский корпус генерала Павла Белова, кто от Москвы теснил танковую армию Гудериана, освободил от врага Мордвес, его деревню Пряхино, Венев, снял угрозу городу Туле! И теперь шел грозною силою по фашистским тылам на Вязьму и Смоленск.
Командиры спешились, отряхнули бурки от снега, спросили, правильно ли они раскачивают седла-люльки в направлении Темкино ─ Засецкое ─ Исаково?
Александр Башкин сладостно закивал.
И, не выдержав, испытывая безумную радость от нежданного свидания с русскими воинами, обнял кавалериста, поцеловал! И стал долго, неостановимо плакать на его плече, на его заснеженной бурке, с болью, нервными рыданиями, забыв о гордости, чувствуя, что кончилась его мучительная, безумно-скорбная, скитальческая одиссея. И теперь исчезнет весь ужас, которым он жил, отступят боль и страдание, которыми оскорбил сердце, и, кажется, невосполнимо, на всю жизнь, на всю вечность.
И он, уже умирающий, один-преодин в огромной вселенной, вновь возвратился в таинство жизни, в праздник ее, из поверженности, из жуткой униженности, из безумия мук и отчаяния. И вновь обретет в себе человеческое. Свою веру и правду, твердь земли, ту силу, которая жертвенно поднимет его на новые подвиги, какие он теперь будет вершить и вершить, как Геракл, но не от мифа, а от жизни, для чего они и избран милостью Бога на Русскую Землю!
И меч его, меч Русского Воина, защитит Русь от ворога! И вновь красавица Русь наполнится радостным ликованием женщины-россиянки при рождении сына и разудалым пением под гармонику на веселом пиршестве жизни!
Ему поднесли солдатскую чарку, накормили мясным гуляшом с кухни. И вновь исчезли в снежную метель, как таинственные призраки, как были и не были. Но в его душе уже взошло солнце. Вернувшись во Власово, он взял свои скромные пожитки в землянке и пришел попрощаться с хозяйкою:
─ Ухожу, тетя Настя. Кончились мои скитания, армия генерала Белова прорубила коридор к Туле, Мордвесу. Спешу на родину, спешу на битву! Низкий земной поклон тебе за приют, хлеб-соль. И за любовь. Человеческую. Неумирающую.
Настасья Сергеевна отговаривать не стала. Они грустно и одиноко посидели, поплакали. Хозяйка покормила его. Дала на дорогу шерстяные носки, варежки, связанные ею. Положила в котомку хлеба, баранью лодыжку. Башкин воспротивился, пусть дети подкормятся.
Но женщина настояла.
─ Пойдешь один и в голоде! Дорога дальняя.
Они поцеловались. Затем воин по очереди обнял и поцеловал ее детишек, какие нежно и ласково прижимались к гордому человеку, смотрели влюбленно, просили не забывать, навещать, если представятся случаи.
Башкин встал на ребячьи лыжи. Помахал рукавицею.
И скрылся в снежной вьюге.
Спустя время, уже Героем Советского Союза навестит Настасью Сергеевну, свою спасительницу и вторую матерь Человеческую. Пока будут такие русские женщины на Руси, Русь будет бессмертна. И можно будет видеть мир красоты и радости, где можно насладиться сладостью любви, ласками земли и неба. нежным свечением звезд в бесконечном пространстве.
Дети ее подросли. И все обрели смысл жизни, чувство любви к России, как объяснила Настасья Сергеевна, благодаря Александру, кто своею душою от милосердия, красотою любви к жизни, России, сумел невольно, неумолимо наполнить, насытить правильным и красивым содержанием детские души.
Сын Виктор не выжил. Стал связным партизанского отряда, понес людям правду о жизни, о битве с фашистами, каким был Александр. Гестаповцы напали на след, арестовали пятнадцатилетнего мальчика, долго пытали, но ничего не добились. Измученного, окровавленного, вывели на окраину деревни Власово, расстреляли.
Узнав о том, Александр Башкин понес в себе траур.
И чувство вины.






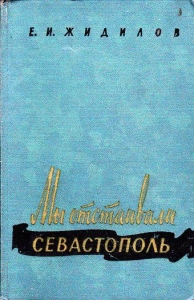



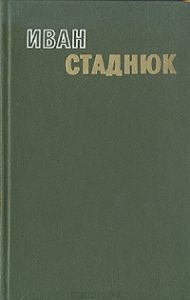

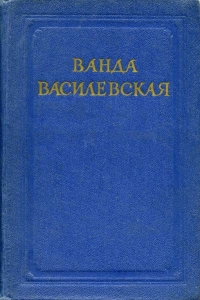

Комментарии к книге «Прощание славянки. Книга 1», Олег Павлович Свешников
Всего 0 комментариев