Аркадий Макаров Господин Президент, верните Ваню Найдёнова
Господин Президент, верните Ваню Найдёнова
Часть 1
Бывали хуже времена,
Но не было подлей.
НекрасовГвозди бы делать из этих людей…
Николай Тихонов1
Тамбовская психиатрическая лечебница, больше известная в народе как Писарницкая, находится в живописном месте города, на улице Московская.
Писарницкой она зовётся и до сих пор, по имени Агнии Моисеевны Писарницкой, отдавшей всю жизнь этому заведению, где она работала более тридцати лет главным врачом.
Легендарная личность! Маленькая еврейская женщина, больше похожая на куличка, когда-то, говорят, комиссарила у Котовского в отряде. Теперь, работая в лечебнице, помня своё большевистское предназначение, она отказалась от зарплаты в пользу больных, и сама жила и питалась там же, скудным казённым пайком для обитателей этого дома ужасов.
Погибла, как и подобает старой большевичке, от руки классового врага. Однажды частный предприниматель слесарь-сантехник, работая по найму в больнице, поссорившись с главным врачом, пробил её горячее комиссарское сердце ржавым напильником.
Агнии Моисеевне было в то время далеко за восемьдесят.
Такие вот дела прячут старые кирпичные стены.
Когда-то это был край города, въезжая в который путник сразу попадал на московский тракт. Теперь сквозной проезд на Москву закрыли новостройки, и как таковой, в полном смысле, Московской улицы уже не существует, но по старой памяти обрывок улицы и до сих пор зовётся Московской.
Психиатрическая лечебница – одно из самых старых заведений города, и существует под своим именем уже более 200 лет. Здесь когда-то для излечения и на приварок были организованы для душевнобольных разные мастерские: сапожные, столярные, слесарные, но в основном пациенты занимались огородничеством. Товар продавался тут же в магазинах, и лечебница процветала. На излишек денег в лечебницу даже приглашали учителей по искоренению безграмотности.
Тогда дома скорби ещё не поджигали, освобождая для себя жизненное пространство. Страна, как могла, заботилась о несчастных, которые потеряли жизненный ориентир, рассыпаясь мыслью, как рваный мешок семечками.
Меня сюда привело не любопытство и не вспоминание старины, а странная судьба моего давнего товарища, Найдёнова Ивана Ивановича, начальника, у которого я когда-то работал электросварщиком в цехе по производству металлоконструкций.
Работали мы не за страх, а за совесть, план перевыполняли, получали премиальные, иногда сходились вместе на Октябрьские праздники, пели песни, одним словом, жили обычной жизнью, пока предатели и казнокрады не разрушили то, без чего мы жить не могли. Судьба нас развела в разные стороны.
Как сюда попал Иван Иванович, и до сих пор для меня является загадкой. Вполне разумный человек, мыслящий хоть и критически, но здраво.
Его соседка по квартире, когда я пришёл проведать старого товарища, подозрительно посмотрев на меня, сказала, что "Ваня" в больнице, болеет несчастный, хворый он…
Узнав про больницу, я прихватил с собой пару яблок и помчался проведать бывшего шефа. "Надо же, – твердил я про себя, – Иван Иванович – и в психбольнице?"
Там с начала девяностых годов санитаркой работала наша общая знакомая, Маргарита Николаевна Землянская, когда-то, до катастройки, ведущий инженер-нормировщик нашего цеха.
Зайду, узнаю, как угораздило моего Ивана Ивановича попасть в сумасшедший дом?
Маргарита Николаевна, ничуть не смущаясь своего достаточно старого тёмно-синего рабочего халата, встретила меня, как родного:
– Э, вот и тебя седина достала, а ведь какой ухажористый был! Всех женщин в заводоуправлении обхаживал, к праздникам цветы дарил. С женой-то теперь живёшь?
– Виноват, Маргарита Николаевна, живу!
– А наш, Иван Иванович, как жена от него ушла, совсем нехороший стал. Говорил: «У меня в голове ядерный заряд разорвался. Распад мозговой материи». В какую-то секту попал, всякое старьё со свалки к себе тащил. Говорил: "Время возвращаю! Книги какие-то собирал, календари разные, будильники страсть как любил. Принесёт будильник – и хвалится. «Я, мол, Маргарита Николаевна, время вернул, советское, Чистопольский часовой завод! Мы тогда умели даже часы делать, а теперь лопаты совковые снег чистить – и те не наши». Ещё он любил подшивки старых газет. Всё листает, листает – и вздохнёт тяжело.
Новая власть за ненадобностью стала библиотеки закрывать – зачем совкам книги? Больно умными будут! В Тамбове одной из первых закрыли областную юношескую библиотеку. Неделю КамАЗами книги на свалку вывозили. Так он вместе с бомжами мешками оттуда книги к себе носил. Все углы ими завалил. Я ведь с ним в одном доме квартиру получала, рядом жили. Починит будильник и соседям отдаст: "Нате – Советское время! Не спи! Вставай, проклятьем заклеймённый!»
Весь наш дом будильниками снабдил, где он их только брал?
– Маргарита Николаевна, – спрашиваю я, – а как он сюда, в психушку, попал?
– Пойдём, покажу! – ведёт меня наш бывший инженер-нормировщик в приёмный покой. – Сам с ним поговоришь. Я его сейчас позову. Он у нас в палате за старшего, Посиди тут! – усадила меня на протёртый в нескольких местах дерматиновый диван, а сама пошла по длинному коридору в палату.
Но поговорить с Иваном мне так и не пришлось.
– Не хочет Ваня с тобой разговаривать. "Прогони его! Прогони! Его ФСБ подослало! – кричит. – Он хочет мне в уши тараканов поселить с молотками, мозговые извилины править. Выпрямитель хренов, – говорит. – Не пускай его сюда!"!
Я не то, чтобы обиделся, но стало как-то жутко от этих слов. Иван и вправду – сумасшедший. Невероятно!
Видя мою растерянность, Маргарита Николаевна принесла от врача его историю болезни:
– На вот, посмотри!
Картонная мятая папка была перевязана замусоленными тесёмками в форме бантика.
Вот она, вся наша жизнь, в одну папку с кальсонными тесёмками уместилась!
Посмотрев скудные выписки, рецепты и цифры, я наткнулся на любопытную бумагу, пожелтевшую, ставшую историей.
Сверху крупным летучим почерком, вероятно, лечащего врача, написано: "СДВИГОВ НИКАКИХ", и мелкими буквами ниже: "опыт психопатического образа"
"Мною, глубоко неуважаемый господин президент, обращаюсь к вам, (обращение написано с незаглавной, со строченой буквы. Всё логично, если не уважаешь человека, то и обращение таково). Мною, глубоко неуважаемый господин президент, обращаюсь к вам, как к провозглашённому обманутым народом гаранту Конституции, защитите моё право на собственные суждения…
Время дискретно, оно делится на часы, минуты, секунды и миллисекунды, вот в чём загвоздка! Если вы и вправду учились где-нибудь, и не путаете Гоголя с Жванецким, то мои научные выкладки поймёте. Начнём с того, что договоримся о символах. Обозначим по классическому варианту время латинской буквой t, где буквой n, тоже латинской, обозначим количество миллисекунд. Теперь возьмём отрезок времени в секундах t со значком n, где n стремиться к бесконечности. От времени Tn до времени Tn+1 есть зазор, там зависает время, ну, как зависает компьютер, наподобие того, то есть – абсолютный временной ноль! Вот в чём моё открытие! Попадая в зависшее время, объект может двигаться в противоположном направлении. Извините за пошлый вопрос: Вы когда-нибудь смотрелись в зеркало? Посмотрите, там, где правая рука у вас с часами, в зеркале будет правильное расположение часов уже на левой руке. Там нет искривления пространства-совести-времени.
Взгляните, и вам станет всё ясно!
Я могу вернуть время, где вам, очевидно, не будет места. Это вы уж извините-подвиньтесь! Там светло и окна страны никто не застит…
Чтобы мысль человека-президента беспокойно не свербела в голове, шевеля извилины, перемешивая слежавшуюся мозговую массу, эту кашицу, возомнившую себя властелином Вселенной, оговорюсь заранее, об чём разговор.
Дело в том, что несколько лет назад, когда в окнах только брезжил рассвет перестройки, отстраняя средневековую тьму тоталитаризма, у меня дома начались странные явления, которые даже метафизикой не всегда объяснишь. Спецслужбы подсунули мне упаковку итальянских макарон под названием «спагетти», и я доверчиво решил их отварить, как они того стоили, а затем хорошо отобедать, потому что в наше время трудно достигнуть чувства сытости. Откинув под холодной водой сих заморских штуковин, я с вожделением, свойственным более подходящих моментов, стал поглощать содержимое кастрюльки. После двух-трёх проглоченных порций я ощутил странное чувство возни в области солнечного сплетения, где сходятся все меридианы и параллели человеческого "я". Не успев подхватить четвертую порцию, я с ужасом обнаружил, как из моих ноздрей и ушных отверстий стали выползать белые черви, которые затем, клубясь и переплетаясь, как змеи в период свадебных ритуалов, у меня на глазах распадались на пары и норовили использовать любую щель для зарубежного проникновения в наш быт, чтобы затем, оттуда, из половой щели, сообщать своим разведкам влияние перестроечного момента на русского обывателя.
Скажу более того – в банке с вареньем, приготовленным моей неверной супругой-изменщицей, я обнаружил микродозы яда, которым зарядили банки с помощью моей жены соответствующие службы. По этому поводу некоторое время назад я отнёс в опорный пункт милиции заявление, на что мне было отвечено: в наших правоохранительных органах слабая материальная база, и лаборатория не может произвести соответствующие анализы. Если бы вышестоящие органы знали о положении дел в милиции, они, наверное, выделили бы средства преимущественно в русских рублях (так как американские доллары тоже пропитаны ядом вседозволенности и злодейства) для приобретения приборов и веществ, нужных лаборатории, стране, пережившей коммунизм и напрочь разрушившей основополагающие законы Жизни. Замечая бездеятельность милиции, я обратился к председателю комиссии по правам человека при областной администрации, но он потребовал от меня после нашего разговора представить хоть какой-нибудь документ, показывающий, что я обращался в первичную инстанцию, что моё заявление рассматривалось. По странным обстоятельствам, милиция такого документа мне не написала. В феврале месяце сего года я обратился с устным заявлением в прокуратуру Октябрьского района. Там мне посоветовали посетить управление милиции Октябрьского района.
Вот моё заявление:
Мне 57 лет. Я ни в чём не виноват. Никогда не находился под наблюдением психоневрологического диспансера. Но, несмотря на это, спецслужбы по отношению ко мне осуществляют террор нескольких видов. У меня нет сил и сотрудников, чтобы разоблачить преступления их.
I. Они постоянно в моё отсутствие заходят в квартиру и добавляют микродозы ядов в продукты.
2. Постоянно с помощью технических средств записывают мои слова и слова моих собеседников, в какой бы точке города я ни находился. С помощью другого прибора фиксируют мимику и пантомимику. Откуда я знаю? С помощью третьего прибора они передают мне содержание бесед почти круглосуточно, то есть осуществляют звуковой террор. Не дают спать, прерывают сон, отдых.
3. Совсем недавно с помощью им одним известного приёма они стали группировать молекулы пламени в моей печи таким образом, что через некоторое время, как я разожгу очаг, из пламени возникает птица Феникс, она беспомощно бьётся крыльями, разбрасывая вокруг себя искры в тщетной попытке взлететь. А они, усиливая гравитационное поле у меня в подполе, не позволяют ей подняться, и она, то ли от тоски, а то ли от голода, начинает собирать клювом горячие угли и глотать их, не опасаясь изжоги, поэтому в моем очаге к утру остаётся лишь серый пепел её облетевших перьев.
4. Кроме всего прочего осуществляется психический террор. Например, я ставлю себе завтрак, а они говорят: "Соль отравлена! Сахар отравлен! Масло, хлеб прошморголены.(?) На мой вопрос: «На основании какой статьи Закона вы меня пытаете и мучаете, за какие провинности?». Они отвечают: «Мы преступники. Нас заставляют». Я спрашиваю: «Кто?». Они отвечают: «Мы!».
5. Каким-то образом они трансплантировали в мой мозг тончайшие серебряные нити, используя их как антенны. Эти нити замаскированы под мои седые волосы и теперь осуществляют преступный замысел через моё учащённое сердцебиение с помощью звуков и образов, создавая иллюзию танца «канкан» с обнажёнными девицами в одних налобных повязках.
Всё, что я говорю, а я творческая личность, они заснимают на плёнку, то есть занимаются плагиатом моих идей, замыслов и предложений – моей интеллектуальной собственности, которая открыла дискретность времени – и манипуляцией им в глобальных целях. Разрушая мой организм ядерным распадом, звуками и голографическими непристойными картинками, они грабят казну, бюджет, задерживая выплаты учителям, врачам и пенсионерам. Тем самым создают социальную напряжённость, смеются над Основным Законом государства – Конституцией, над правоохранительными учреждениями всех ступеней в Российской Федерации. Захлопывают перед самым носом двери реформам, которые уже перезрели и загнивают на самом корню.
Теперь о себе. Я бывший инженерно-технический работник Найдёнов Иван Иванович, воспитанный Советской властью, самый законопослушный гражданин своей страны. И я, как никто другой, понимал и понимаю те политические, экономические, социальные процессы, которые регрессируют в нашем Отечестве. В настоящий момент разрабатываю принципы действия интегратора времени. Если собрать критическую массу импульсов секундной стрелки будильника Чистопольского часового завода, затем корпускулярно разложить на деференциаторе и начать считывать корпускулы с конца, то время может пятиться в обратном направлении по своей координате.
Прошу разоблачить и обезвредить преступников, окопавшихся в правительстве, а меня реабельтировать, иначе соответствующее письмо будет направлено в Организацию Объединённых Наций о нарушении нашей дерьмократической властью прав человека, каким я и являюсь. Я – Человек-Совесть Иван Найдёнов, сын своего времени.
И ниже – жирная витиеватая подпись.
Бумага говорила о многом. Да, действительно, Ивану Ивановичу, моему другу Ване, своё умище некуда пристроить.
Вспомнилась моя с ним последняя встреча в забегаловке напротив биржи труда того времени…
2
В молодости он себя называл Ваней; когда возмужал, его стали называть уважительно Иван Иванович.
Ваня родился в рубашке. Всё-то ему везло, всё-то у него получалось…
Но, как ни раскидывай руки во все стороны – война…
Когда матери пришло время выпростать его на свет Божий, и больше тянуть было уже невмочь, на эшелон с эвакуируемым населением налетела немецкая авиация и вдребезги разбомбила состав, хотя на крыше каждого вагона был распластан красный крест милосердия.
Но какое дело немецким стервятникам до того, что в эшелоне под красным крестом родовыми схватками мучается русская женщина, готовясь родить ещё одного русского.
Ох, эти русские! Всегда всё у них не вовремя! Вот теперь и мечется в разрывах бомб и пламени непокорное племя. Надо их проучить!
И хлынули, и налетели с огненными хлыстами штурмовики, и давай охлёстывать бегущих в разные стороны людей красными бичами. Крики, стоны, вопль – кто? что? куда? Зачем?
Один огненный шнур прошёлся по бегущей неизвестно куда женщине, обеими руками поддерживающей свой тяжёлый и объёмный живот, словно там, в животе, уместился весь земной шар.
Женщина враз осела, потом запрокинув голову туда, где переплетались горячие красные шнуры, повалилась навзничь и захлебнулась кровавой пеной, ползущей и ползущей из широко раскрытого рта, а весь земной шар, который она придерживала руками, уместился в крохотном комочке, беззвучно разевающем рот в сползшей с одного плеча рубашке, мокрой и тоже кровавой.
Могучий инстинкт разбудил голод и заставил человеческого детёныша двигаться, искать тепло и материнское молоко, этот сладкий сок жизни.
Ему повезло: послед, рубашка, в которой он родился, как могла, защитила от ночного холода, сохранила то первоначальное жизненное тепло, переданное ему матерью при последнем вздохе, поэтому кто-то из похоронной команды и заметил кровавый сгусток, цепляющийся коготками за холодные груди погибшей женщины.
Завернули мальца в солдатскую портянку и передали кому надо. А те, кому надо, назвали его русским именем Иван, с фамилией Найдёнов и отчеством тоже Иванович – русский человек – Иван сын Ивана, завели на него бумагу и увезли в тыл, где таких "Найдёновых" не сосчитать.
Вот отсюда и начинается его биография, отправная точка в жизни…
Советская власть не дала Ивану Найдёнову загнуться, погибнуть усыновлённому чужедальним народом. Сталин детьми не торговал. Страна отдавала сиротам всё, чем располагала. Любое воровство, подобное сегодняшнему дню, не могло быть по определению. Своя голова дороже.
Вот и вырос Иван, возмужал, окончил школу и был вполне счастлив гулять на этом свете.
О своём происхождении он никаких вопросов не задавал, да и его ровесники тоже особо этим не маялись. Время живое, деятельное. Сундучное право ещё не определяло суть великого государства, с которым свысока никто не смел разговаривать, страна знала себе цену. Под красным стягом каждому даровано быть тем, кем он хочет.
Иван учился не то, чтобы хорошо, но знания получил такие, которые вполне позволили ему, как сироте, на льготных условиях поступить в инженерный институт и там учиться наравне со всеми. Зачёты и курсовые не покупались, деньги имели ту стоимость, которую заслуживали. Никто не зацикливался на потребительстве, хотя и не были бессребрениками. Жили…
Незаметно как, институт остался позади. Доброе время! Стройотряды давали возможность посмотреть страну, её большие стройки, да и денежки зарабатывались неплохие. Приложи к стипендии – средняя зарплата инженера будет, поэтому студенческое житье теперь вспоминается с улыбкой. Погуляли, покормили девочек мороженым, и себе по рюмочке тоже не забыли…
Ваня задумываться о будущем не умел. Чего голову ломать, когда диплом инженера лежит в заводском отделе кадров? Оклад небольшой, но твёрдый, как студенческая стипендия – студентам-сиротам страна платила исправно и всегда первого числа каждого месяца.
Как молодому специалисту, Ване выделили отдельную комнату в нашем общежитии.
Не горюй, парень! Комната твоя, води девок на примерку, может, какая и в жёны как раз будет!
Работает Иван Найдёнов, спорит с нормировщиками за каждый рубль для рабочих, ругается с рабочими за выполнение плана – обычная заводская жизнь: бьём, колотим, обед торопим, едим, не давимся, никак не поправимся.
Вот написал это – и сладко шелохнулось сердце. Эх, молодость моя рабочая! Где ты? Где та девочка-выпускница, которую, как вор на стрёме, после заводской дневной смены высматривал, выглядывал возле школы, где она училась. Кунал голову в её ладони, пил из них, пробовал на вкус нежную девичью кожу, сатанел от неожиданного чувства, и жалел, и жалел… для другого человека.
Но этого знать мне было не дано. Закрутила жизнь по-своему… Перешёл, чёрной кошкой перебежал дорогу мой заводской руководитель, мастер сварочных работ Иван Найдёнов, с которым меня связывал не только план, но и товарищеские отношения. Жизнь в одном общежитии диктовала свои правила…
Потеряв голову, по волосам не плачут.
3
Я работал и учился в институте химического машиностроения. Тоже хотел стать инженером, и стал им.
На заводе металлоконструкция инженерной должности не оказалось, и мне пришлось перейти мастером производственного обучения в Строительное ПТУ. Пока платили – ходил на работу, учил недорослей кувалду с молотком в руках держать. А как подобные заведения стали не нужны, я, не думая, перешёл в трест, с громким названием «Волгостальмонтаж».
Монтажники народ хоть и летучий по профессии, где сорваться вниз с верхотуры – как два пальца об асфальт, – но ребячливый, по своим поступкам и мышлению. Хотя в некоторых моментах не так прост, в чём мне не раз пришлось убедиться.
Работа новая, но по старой моей, ещё доармейской, выучке несколько знакомая. Только, может быть, пили тогда поменьше, да работали побольше. Сталинские законы ещё безотказно действовали, хотя их основатель и был развенчан самым преданным последователем на поприще "культа личности", хотя личностью был неоднозначной. Но это – историкам…
После школы я с упорством, которое надо было бы применить в другой сфере, постигал обучение в монтажной бригаде "Ух", где каждый второй проходил воспитательные лагеря: кто по "дурочке", а кто и по идейным соображениям. Монтажное дело опасное, но не сложное – главное, чтобы привычка укоренилась. Орудовать гаечным ключом любой может, а вот головой пусть бригадир да прораб работают…
Возводили в городе анилинокрасочный завод, объект Большой Химии. Тогда всё было большое: Большие сроки, Большие стройки, Большая целина, Большая Политика, Большие люди.
От мастера до главного инженера и директора – начальство было в почтительном уважении. Рабочие обращались на "Вы", советовались по каждому техническому и даже житейскому вопросу. Каждый свою работу старался выполнять добросовестно: забывали проклятое прошлое и надеялись на обещанное счастливое будущее.
Все верили во всё…
Наивная жизнь, наивные люди!
Сварному делу меня учил сварщик с характерной кличкой "Колыма". Он считался в бригаде монтажником высокой, самой высокой квалификации, От звонка до звонка "оттрубил" положенные 25 лет. За это время ему пришлось участвовать во всех Великих стройках страны, постигая науку выживания в экстремальных, как бы теперь сказали, условиях. Поэтому он имел неоспоримое преимущество перед остальными моими напарниками, которым не так повезло в жизни. Ну, что там какие-то пять-шесть лет по хулиганке! Разве это срок! Вот политическая статья – это да! Перед ней, статьёй этой, даже воры в законе пасовали…
Но на политика Колыма совсем не тянул. Маленький, щупловатый, он скорее походил на карманника или форточника, чем на политика.
Несмотря на столь богатую биографию, сварщик Колыма был самым тихим в бригаде. Даже тогда, когда напивался в "кодекс", как он выражался, то становился вроде малого ребёнка: беззубый рот – вставные челюсти он обычно терял тут же в траве, где пили – шамкал бессвязные, мне непонятные слова, а на глазах наворачивались светлые слёзы неизвестного происхождения.
Челюсти на другой день я ему находил, за что всегда получал благодарность и дружеское рукопожатие. Рука у него была маленькая, детская, но жёсткая, как рашпиль.
Трезвый он никогда не вспоминал подробности своей жизни, да вроде и не сетовал на неё, на жизнь свою, прошедшую по баракам и пересылкам под лай сторожевых собак и волчий волок.
В обычное время Колыма, прикрывшись сварочным щитком, молча висел где-нибудь под перекрестием стальных конструкций и крепко держал за хвост жар-птицу, которая сыпала и сыпала золотые зёрна в прозрачный воздух.
Если поднять голову туда, то можно явственно увидеть огненный хвост волшебной птицы и маленькую головку ослепительной голубизны.
Работа сварщика-высотника мне нравилась, и я с воодушевлением, присущим только молодости, постигал науку быть гегемоном своей страны. А гегемон этот, вон он, в ежовых рукавицах и брезентовой робе, отпустив звёздную жар-птицу, уже спускается с высоты, чтобы показать мне приём сварки потолочного шва на брошенном обрезке трубы.
По моему несовершеннолетию на высоту более трёх метров меня не пускали, и я тогда, страшно завидуя наставнику, клевал и клевал электродом никому не нужную трубу, чтобы на ней, на этой трубе, "набить руку".
Колыма подходил, присаживался рядом, медленно закручивал неизменную самокрутку, и на пальцах растолковывал мне, неразумному, хитрые приёмы мастерства сварщика. Иногда он брал мою руку с электродержателем и терпеливо пытался моей же рукой положить ровную строчку-ёлочку на стальном стыке.
Отношения со мной, малолеткой, у него были вполне дружеские. Но когда я, минуя бригадира, однажды полез наверх к своему учителю и, склонившись над парапетом, сплюнул вниз, то за это получил от него обидный чувствительный подзатыльник.
Он потом не раз втолковывал мне: мол, работая на высоте, никогда не плюй вниз. Это плохая примета: когда-нибудь сорвёшься…
У нас на участке стоял небольшой кузнечный горн для нестандартных поковок, и мой наставник, показав мне очередной приём сварки, доставал из-под верстака прокопчённую алюминиевую кружку, засыпал туда пачку индийского чая, заливал холодной водой и ставил на краешек горящего горна, где поменее жара, и, подрёмывая, заставлял меня следить, чтобы чефир не выплёскивался, а медленно вскипал. Когда появлялась желтовато-грязная пена, тогда моей обязанностью было на несколько секунд оторвать кружку от жарких углей, дать бурой пене успокоиться, и – снова кружка на огне, и снова я должен её убирать с огня, успокаивая варево. И так раз десять.
Когда чефир остывал, он превращался в дегтярного цвета настой, густой и крепкий, как сдобренный матом анекдотец или крутая монтажная поговорка про ту же работу.
Воровской глоток-другой чефира, пока посапывает учитель, делали меня резвым и возбудимым на всякие шалости. Постепенно и мне стала нравиться горько-вязкая смесь невозможной энергетической силы.
Всему научишься сам, чему не надо бы и учиться…
Это я понял позже, когда пришёл из Армии, и надо было определяться в собственной дальнейшей жизни.
Учёба в вечернем техническом институте прошла настолько быстро, что я и не заметил, как получил диплом инженера.
Друзья-однокурсники перетащили меня на работу в профтехучилище, где я, теперь уже сам, передавал науку монтажного дела таким же оболтусам, каким был и сам когда-то.
Но вот настали времена так называемой перестройки. Потом рухнула держава. Потом рухнули все скрепы, и мне пришлось искать другое место работы. Стоял 1991 год.
Пятнадцать лет теоретических дисциплин в стенах школы оторвали меня от настоящей практики, и когда я перешёл прорабом в монтажное управление, то понял, что мне надо снова учиться постигать науку общения с рабочим классом.
Главный инженер "Монтажки" – предприятия, куда я устраивался, мне был хорошо знаком, и переход на новое место оказался более простым, чем я думал. Бутылка коньяка легко закрепила мою трудовую книжку в отделе кадров управления.
– Ты с ребятами поаккуратней! Они теперь все грамотеи, не как мы с тобой в своё время. Промашку сделаешь – на шею забугрятся! У тебя на участке из тридцати монтажников двенадцать человек с высшим образованием. Почему-то все из учительского института. Педагоги! Мать их так! Лишний раз под балку плечо не подставят: технику давай! Да и ты вот тоже из "учителей". Набрались на мою голову!
На другой день, после обязательной планёрки, мой новый начальник участка, старший прораб, незабвенный Михаил Николаевич Гришанин, позже при невыясненных обстоятельствах погибший на монтажной площадке под упавшим с высоты стальным обрезком балки, повёз меня на объект, который я должен сдать генеральному подрядчику уже через неделю.
Что и как сдавать, не имея никакого опыта, я не знал, и заранее был готов на всяческие подвохи со стороны моего непосредственного начальника, знавшего, что я всего лишь «учительствовал» в ПТУ и практического опыта у меня нет.
– Позовёшь меня процентовку подписывать! – Гришанин так ловко сплюнул сквозь зубы, что дымящийся на земле окурок зашипел и перестал чадить; когда я ему настойчиво напоминал, что работы на объекте не вёл, и во всех вопросах вряд ли разберусь. – Не ссы! – он присвистнул привычную расхожую фразу, приглашая меня в серебристого цвета, но уже побитую "Волгу".
"Волга" его личная, но, судя по внешнему виду, наверное, не раз употреблялась для перевозки на строящиеся объекты необходимых деталей и небольших монтажных узлов.
Мэрии ещё не было. Ещё власть в городе принадлежала горисполкому, в котором председательствовал близкий родственник Гришанина, создавший богатый кооператив "Дятел". Поэтому мой старший прораб, как знающий инженер, дополнительно возглавлял ещё и этот кооператив, значит, деньги, и немалые, у него водились.
По тому, как он лихо выворачивал баранку на поворотах и резко тормозил, было видно, что "Волгу" Гришанин не жалел.
Ехали молча, но каждый думал о своём: я – о предстоящей работе, а мой начальник, судя по характерному перегоревшему запаху – о чём угодно, но только не о работе. Я по своей наивности даже растерялся: на службе – и под мухой? Может, вчера у него день рожденья был?..
Автомобиль, вспахивая брюхом жидкую грязь и строительный мусор, еле-еле выбрался на сухое место и прерывистым гудком обозначил себя на монтажной площадке. Но ни одного рабочего на сигнал начальника участка не отозвалось.
– Пойдём в бытовку! – лениво вытащив ключ зажигания, сказал Гришанин. – Они теперь водяру жрут! Чего улыбаешься? – обернулся он ко мне. – Привыкай! Это тебе не школа ПТУ! Здесь другая школа! Школа жизни!
Я действительно был удивлён тому, с каким спокойствием начальник участка относится к употреблению спиртных напитков монтажниками на рабочем месте.
Перепрыгивая с балки на балку, с кирпича на кирпич, обходя наплывы свежего бетона, добрались кое-как до монтажной будки. Сердито заскрипела железом дверь, в нос шибануло застоявшимся прогорклым воздухом вперемешку с испарениями мокрой брезентовой спецодежды, пропитанной настоем ржавчины и машинного масла. За длинным столом, сбитым из необструганных досок, сидели, не обращая на вошедших внимание, с десяток рабочих в ожидании чего-то манящего. Лица были сосредоточены на литровой стеклянной банке с кипящей и плюющей на доски жидкостью, пенистой и ржавой.
Запах металла, мокрых спецовок, запах этой самой кипящей жидкости, пробудили во мне сладостные чувства ушедшей молодости, отвязной и лихой монтажной удали парня рабочей окраины. Вот и сам я уже среди этих людей сижу в ожидании преющего под самодельным кипятильником чефира, густого и такого терпкого, что язык вяжет узлом. Ах, молодость, молодость!
Ничего более банального и грустного не скажешь…
– Бригадир где? – не здороваясь, спрашивает провожающий.
– Где бригадир? Где? – шутовски заюлил в ногах у Гришанина маленький человечек, лысенький, со сморщенным лицом стареющего скопца.
– Чего орёшь, Жаля? – из-за железного шкафа с инструментом, там, где сушилась рабочая одежда над электрическим "козлом" увитым красным огненным шнуром, распрямился крепкий мужик с обожжённым и обветренным лицом, какое обычно бывает у рыбаков и охотников. – А, начальство прибыло! – спокойно подошёл он к нам, протягивая руку Гришанину, потом мне. Пожатие было болезненным, словно в ладонь вцепились большие пассатижи. – А это, видать, наш прораб? – отпустив руку, показал он на меня.
– На одного рАба – два прораба! – кто-то без удовольствия произнёс за столом.
– Принимай, Поляпа, пейдагога! – коверкая слово, довольно хмыкнул провожающий, передавая меня бригадиру. – Почему не работаем? Где Чекаля? Я ему электроды привёз. Финские! – уточнил Гришанин. – Пусть кто-нибудь разгрузит багажник! – Было видно, что здесь у Михаила Николаевича сложились с монтажниками полуприятельские отношения.
– Митара, – обратился Поляпа-бригадир к одному монтажнику, который уже дул в просмолённую в чёрных подтёках кружку, – кончай чефирить! Иди, машину разгрузи!
Позже я привык, что на участке почти у каждого монтажника была кличка, по причине краткости и шаговой доступности. "Митара" – в переводе на обыденный язык – Гитара, человек с музыкальным прошлым, бывший металлист-рокер, "Жаля" – жалкий, убогий, "Поляпа" – белорус польского происхождения, "Чекаля" – от слова "ЧК", отставной милиционер, выгнанный из органов за драку со старшим по званию. И так далее…
Да и к начальству клички прилипали однова и навсегда. Вот и Гришанина здесь называли – "Наливайко". Кличка хорошая, в самую точку. Наливай и пей! В чём я тут же убедился.
Дверь широко распахнулась, и в теплушку ввалился некто в подшлемнике и брезентовой робе. Конечно, тот самый сварщик Чекаля. ЧК. Не обращая никакого внимания на меня и начальника участка, Чекаля спокойно выпростал из карманов две бутылки водки и с таким усердием поставил их на стол, что звякнула посуда.
– Вота! На весёлое дело сходил!
Я был неприятно удивлён тем, с какой наглостью действовал Чекаля, но ещё больше удивился, когда Гришанин вместо того, чтобы остановить наглеца, спокойно сказал:
– Ты, как Макар Нагульнов в "Поднятой целине" Шолохова, только нагана не хватает.
– А у меня гранаты! – широким жестом вытащил Чекаля из-за пазухи ещё пару бутылок. – Противотанковые!
Вот уже забулькало по стаканам. Вот уже по столу прошло весёлое оживление. Вот уже два стакана в руках Поляпы протянуты нам. Один тут же оказался в моей руке.
– Новенький прораб не заложит? – указал Поляпа глазами на меня.
– А закладывать некому! – Стряхнув невидимых тараканов с руки, ловко подхватил щерблёный стакан мой начальник. – Большой бугор в яме. Он, как приватизировал нашу шарашку, так вторую неделю не просыхает – лагерная привычка! Вор в законе, это как маршал. Вот и пьёт за победу!
– За нашу победу! – Поляпа налил третий стакан.
– За нашу победу Ельцин в Кремле коньяком подмывается после встречи с Клинтоном. Тот после Моники совсем неразборчивый стал. Всех иметь хочет! – Гришанин, кинув в рот содержимое стакана, протянул его в чьи-то нетерпеливые руки.
Я от изумления так и остался стоять столбом со своим стаканом, не зная, что делать? Показать себя непьющим? Не поверят. Ещё смеяться будут. Выпить? Выпил бы, да ведь на работе я…
– Пей, прораб! С почином тебя! – Поляпа прислонил стакан к моему. – А то – не приживёшься!
Гришанин самодовольно взглянул на меня. Мол – не боись! Смотри, как у нас, монтажников, новеньких встречают! Пей, чего ты! Со мной можно.
Зная убойную силу рабочей коллективной насмешки, я, подражая своему начальнику, резко опрокинул в себя стакан.
Мне показалось, что весь стол облегчённо выдохнул: – Ухх… – Задвигались, заворочались, заговорили все разом, перекидываясь короткими матерками:
– Наш человек, гребит-разгребит! Монтажник! Нам, что водка, что пулемёт, лишь бы с ног сшибало!
– Васильч, – пододвинул мне самодельный железный стул Поляпа, – ты не думай, что мы здесь алкоголики. – Бригадир уже знал, как меня зовут. – Вчера получка была. Первая за полгода. Расплюев (того, кто купил "Монтажку" носил ласковую, любовную фамилию – Расцелуев) распорядился долги выплатить. Лучше вор в законе, чем коммуняки! У воров хоть понятие есть. (Ещё не знал, не знал Поляпа-бригадир, чем обернётся жизнь "по понятиям" для всей страны! Не знал и я, шумно голосовавший за предателей русского народа!)
Водка на меня, отвыкшего от частого употребления алкоголя, подействовала оглушительно. Такими дозами я со времён своей хлопотной молодости не пил. Стало валить куда-то в сторону, вбок. Пространство монтажной бытовки загустело ватным одеялом…
– Э! Прораб! – потрогал меня за рукав Гришанин. – Иди домой, монтажник! – Его слова меня так разозлили и обидели, что я, не прощаясь, хлопнул дверью и, чавкая ногами в наплывах бетона, ушёл с объекта.
Другой день для меня уже был полностью рабочим, но начинался трагично.
– Гришанин, Наливайко наш, разбился, – ошеломил меня по дороге на объект бригадир. – С десятой отметки сорвался. Полез по стремянке сварной стык посмотреть и сорвался. Я ему говорил: "Не лезь!" Полез, а сам уже хороший был… На бетон упал. Мы его – поднимать, а он не дышит. Жалко… Мужик хороший был. Наш, монтажник! "Скорая" увезла…
Эта весть меня вогнала в панику. ЧП на объекте! Несчастный случай со смертельным исходом! И в мой первый день на работе!
В бытовке рабочие уже совещались, по сколько скидываться на похороны начальника. Наверное, он действительно был свой человек среди рабочего класса. Уж очень монтажники горевали и никак не хотели приступать к работе. Надо было вести монтаж воздуховодов, а они всё качали головами и вздыхали.
Мне ничего не оставалось делать, как вместе с бригадиром лезть на отметку, определяя место срыва опытного инженера с высоты, и заодно посмотреть объём предстоящих работ.
Каково же было наше с бригадиром удивление, когда мы увидели в бытовке, в окружении шумной компании рабочих, начальник участка – живого и невредимого.
– Зуф фолит… – как ни в чём не бывало пожаловался Гришанин бригадиру, придерживая щеку.
– Зуб? – весело хмыкнул Поляпа. – Это мы – враз! – Он, перегнувшись, достал из самодельного сейфа бутылку и блестящие, из нержавейки, пассатижи. – На, прополоскай рот, чтоб заражения не было! Хотя пассатижи из нержавейки, но бережёного Бог бережёт! – Поляпа плеснул немного водки в стакан. – Полощи!
Гришанин осторожно, пристанывая, вылил содержимое в рот и стал шумно полоскать.
Я, обрадованный таким положением вещей, с интересом стал наблюдать за дальнейшими действиями бригадира. Гришанин, косо поглядывая на меня, шумно выпустил на пол розоватую от крови струю.
– Так! Открой рот и не дёргайся! – Поляпа внимательно оглядел ушибленную челюсть своего старшего прораба, засунул туда стальной клюв пассатижей и резко дёрнул на себя. Гришанин шумно ойкнул, схватился за челюсть, но через минуту, повеселев, приказал налить ещё водки.
– Теперь мо-жно! – добродушно протянул Поляпа, пряча пассатижи снова в сейф. Налил начальнику полный стакан и засмеялся: – А мы тебя уже похоронить собрались. Вон ребята деньгами скинулись.
– Не дождётесь! – Гришанин медленно выцедил весь стакан до дна и поставил на стол. – Работай, прораб! – положил ладонь мне на плечо. – А я спать пойду. Вчера, как со "Скорой помощи" соскакивал на ходу, чуть челюсть не сломал. Всю ночь мучился. – Действуй! – и весело оглядел бытовку: – Пойду я!
– Иди! Иди! – проводил его Поляпа-бригадир. – Мы с новым прорабом сами управимся.
Так несуразно и весело началась моя работа.
Позже, когда Расцелуев-Расплюев утвердился окончательно на своей должности генерального директора, всё повернулось другой стороной. Стало резче и круче.
Начиналась новая капиталистическая реальность.
Часть 2
1
– Иван, – говорю я ему, когда мы вместе с Найдёновым оказались после девяносто первого года без работы, – что, помогли тебе твои ляхи? Ты 19 августа, как Гаврош, стоял на баррикадах, горло драл, двигая к власти Ельцина. А что мы теперь имеем?
– Не мы имеем, а нас имеют! – Иван Иванович протянул руку за сигаретой, когда я только-только полез в карман за дешёвой пачкой "Примы". – Дай закурить!
Мы стоим, курим возле биржи труда, куда пришли за мизерным пособием по безработице: и он, и я. Народу тьма. Шумят, матерятся, проклинают и коммунистов и этого борова, предавшего страну, за которого рвал рубаху теперь уже начальник цеха Найдёнов. Должность получил, а работать не пришлось. Государство опустили, как уголовники в зонах опускают самых честных, самых безобидных. Союз нерушимый рухнул от агентов закулисы Горбачёва и Ельцина, подточенный ими, как черви подтачивают дерево. Завод закрыли. "Глотайте!" – сказал боров. Откуда-то враз выскочили бравые плечистые ребята с бейсбольными битами, загнали через ворота тягачи и вывезли всё вместе с оборудованием. Спрашивать некому. В Прибалтике металл дорогой, оттуда прямая дорога на запад. Там жить нашим внукам. А здесь прибежище негодяев. Патриоты, мать их так!
Сверху от борова пришло распоряжение правоохранительным органам: не вмешиваться! Надо всё отнять и между собой поделить. А мы им удочку дадим. Пусть в гнилом болоте удачу ловят, совки позорные!
…Холодно. На улице колотун-мороз, ветер, ноги зябнут, стучимся в двери, чтобы пустили погреться. Но впускают только тех, чья очередь подошла, и то по три человека. Охранник в дверях смурной, заспанный, что-то бурчит и вновь закрывает дверь. Там тепло, чисто, деньги…
Мы с Иван Иванычем, подняв воротники, жмёмся за углом, травим себя дымом. Вдруг по очереди прошёл слух: на всех денег не хватит. Очередь сразу сжалась, собралась в гармошку; каждый норовит протиснуться поближе к двери. Снова ругань, проклятья, матерщина.
Мы снова встали в очередь на свои места, с вожделенной надеждой получить эти жалкие крохи. Дома ждут добытчика: вот уже больше месяца кроме слипшихся макарон с постным маслом ничего нет, у жены от недоедания в библиотеке, где она полгода не получала зарплату, случился голодный обморок, теперь она с надеждой ждёт от мужа денег. Уходя, обещал…
Ивану Ивановичу хорошо: он теперь один, жена, та моя юная любовь, которая без труда досталась ему, устав от бескормицы, ушла к удачливому челночнику, к барышнику и перекупщику турецкого секонд-хенда. Вот ведь новояз какой! Даже компьютер подчёркивает красной чертой это поганое слово. Секонд-хенд! Вторая рука! Жалко, что нет третьей руки…
Иван Иванович пережил жизненный удар, по-моему, стойко, только голова стала держаться как-то высоко и гордо, а глаза вспыхивать неземным жаром. Может, от радости. Баба с возу… Теперь вот я ему завидую. Ни печали ему, ни воздыханий.
Денег, действительно, на всех не хватило. Для меня это сообщение, как обухом по голове! Уходил из дому с надеждой, а как возвращаться пустому, как смотреть в недоумевающие глаза ребёнку, как выслушивать горькие стенанья жены? Будьте вы прокляты, "реформаторы" говённые – Чубайсы, Гайдары, Азефы всякие, кому собственная страна – подстилка!
Иван Иванович, слушая мою сокрушительную аргументацию, взял меня под руку:
– Ножки зябнут, ручки зябнут. Не пора ли нам дерябнуть?
– Да я пуст, как ощенившаяся сука! – откуда-то вырвалась крылатая метафоричность, с голодухи, что ли! – Одна мелочёвка, – говорю, – осталась в кармане! Тебе хорошо! Один…
– Ну, вот. А ты на меня ножи точил…
– Дурак был!
– Пойдём, пойдём! Я угощаю!
В забегаловке, недавно открывшейся прямо напротив "биржи труда", наверное, для того, чтобы копеечное пособие легче пристроить – всё равно на эти деньги семью не прокормить, – народу никого. На витрине "бутерброды" – ломтик заветренного ржаного хлеба и пара ржавых килек на нём, винегрет из квашеной капусты, лука и красной свёклы: всё это сразу просит посетителя выпить. Без выпивки такой закуске пропадать.
Буфетчица – с большим красным лицом женщина – сразу оживилась, увидев свежих посетителей: одна рука потянулась к стакану, другая к алюминиевому чайнику. С недавних пор водку разрешили продавать разливную, привозили с местного спиртоводочного завода молочные фляги с неизвестно какого разлива алкоголем, и реализовывали здесь же, по самой низкой цене. Мужики пили, травились редко, значит, эта жидкость точно – водка.
Сели за круглый накрытый потёртой клеёнкой стол. На клеёнке большая, выточенная из бронзовой болванки солонка, в которой насыпана крупная соль вперемешку с красным перцем, для гурманов – выпил, бросил щепотку адской смеси в рот и! – настоящий вкус жизни.
Ещё не успели ничего заказать, как мордатая с мужскими ухватками женщина поставила перед нами два гранёных стакана водки, прикрытых ломтиками хлеба с килькой. У буфетчицы глаз намётанный: точно определила, что надо такого вида клиентам.
Иван Иванович достал из кармана несколько рублей и смущённо развёл руками, показывая, что денег на оплату такого количества водки не хватает и надо бы отлить по половинке. Женщина достала пачку сигарет из объёмистого кармана фартука, не спеша закурила, положила курево обратно и вытащила замусоленный блокнотик с карандашом:
– Ничего, пейте, я разницу запишу, потом принесёте!
По всему видно, что здесь пили в долг. Посетители в большинстве своём люди пьющие, и этот святой долг обязательно отдадут, иначе другого раза не будет. А как же без другого раза? Никак нельзя!
– Пей! – пододвинул ко мне стакан Иван Иванович. – Винополька, однако!
В забегаловке хоть и холодно, дверной косяк отошёл от стены и в щель дует, но всё же теплее, чем снаружи.
Холодно, зато водка тёплая: чайник стоял прямо на газовой плите, правда, с выключенной горелкой. Заботливая буфетчица пеклась о здоровье подопечных – какой клиент, если у него ангина будет?
После водки вся мерзость наших "реформ" встала в своей подлой наготе.
– Ваня, – говорю я. На правах старого приятеля я иногда называю его Ваней. – Ваня, а ты замечаешь, что наше правительство оккупационное?
– А ты что, только узнал?
– Тогда чего мы с тобой здесь сидим, водку глотаем? Надо за вилы браться!
– Они у тебя есть?
– Тогда за автоматы.
– Кто бы тебе их дал?
– Вон сосед из Чечни целых два привёз – себе и брательнику.
– Давай, гони в Чечню! Только там ведь шутить не любят. Там люди серьёзные. Голову вмиг оттяпают. Читал Хаджи-Мурата? – Иван Иванович встал, подхватил опорожненные стаканы и поставил перед буфетчицей.
Та понимающе усмехнулась, сняла с плиты чайник и налила в посудины теперь по половинке, и прикрыла ломтиками хлеба с прогорклой балтийской килькой:
– Хватит! – сказала она, отодвинув от себя стаканы. – Завтра приходи, добавлю!
– До завтра я, может, не доживу…
– Доживёшь, куда ты денешься!
Иван с чувством победителя посмотрел на меня, мол, смотри, как я умею: денег нет, а водка – вот она!
Понимаю, что унизительно пить дармовую водку, но что делать? Водка тем и хороша, что, если выпил, то пить хочется ещё больше.
Как в былые победные времена, подняли стаканы. Враз куда-то смыло семью, заботу о деньгах, свою невостребованность и унижение. Грудь парусом.
– Давай!
– Держи!
Водка – вкуса волчих ягод с уксусом. Впопыхах ухватил щепотку из солонки и бросил в рот – вот она, где судьба наша!
– Иван Иванович, ты институт кончал, растолкуй мне непонятливому: куда мы катимся?
– Да ты вроде тоже учился.
– Я учился на рабфаке, чему-нибудь да как-нибудь.
– Тогда слушай: катимся в американскую выгребную яму, вот куда! Окунёшься, тогда поймёшь, где ты.
– Но я не хочу в говно! Я, кроме инженера, ещё и классный сварщик, гегемон, на мне страна держится!
Иван расхохотался так, что остатки хлеба прыснули прямо на клеёнку:
– Твоя страна держится за яйца кремлёвского кагала. Россия, как последняя блудь, торгует собой на международных панелях. Больше торговать нечем. Остаются на распродажу – земля, нефть, руда, морские просторы: вся её сущность. Я вот вчера соседа хоронил, кинулись гроб забивать, а гвоздей нет. Побежал в ларёк, а там гвозди китайские, своих не делаем. Пока крышку забивал, все пальцы поссадил – китайские гвозди в русскую сосну не лезут, гнутся. А ты говоришь – Россия! Шлюха не может вызывать уважение!
– Иван, опомнись! Что ты молотишь? Это ведь твоя родина!
– Она, может, и твоя, хотя я в этом сомневаюсь, но точно – не моя! Я такой страны не знаю… Помнишь, в песне о Родине: "Я другой такой страны не знаю…" Моя Родина – Советский Союз! Прислушайся к звукам: "Со-вет-ский Со-юз". Это же трубный звук Эпохи! – Глаза его дико запылали, округлились так, что мне стало не по себе. Он, оглянувшись на дверь, лихорадочно прошептал: – Милый мой, Россия не для нас. Её уже поделили между собой Чубайсы и Абрамовичи. Плюнь на всё! Вали в Китай! Вот где такие специалисты, как ты, нужны, чтобы гвозди не гнулись. Я бы отвалил, да делать ничего не умею, а у тебя руки золотые… Хотя инженер ты тоже никудышный. Давай ещё выпьем за нашу Победу!
– На какие шиши? У меня только на автобус!
Иван, тяжело поднялся, с сожалением посмотрел на пустой стакан, и, согнувшись по-стариковски, как мне показалось, прошепелявил:
– Ну, тохда пошшли!
2
Конечно, в Китай я не поехал, трезво рассудив, что там и без меня людей хватает, но, чтобы пережить тощие года перестройки и спастись от бескормицы, я с семьёй переехал к родителям жены, на воронежские просторы.
Переехать – это на словах хорошо, а на деле…
Тарелки, ложки, кастрюли мы брать не стали: было бы из чего готовить, а посуда найдётся. Мне к деревенской жизни особенно не привыкать. Я сам из районного посёлка Бондари, Тамбовской области, где бондарей настоящих, тех, кто делает бочки, кадушки и другую подобную тару, отродясь не было. Название кроется за дальностью лет, а мы не такие дальнозоркие, чтобы через века высматривать. Бондари, значит, Бондари. Так и живут мои сельчане, не задаваясь вопросами: что? где? когда?
Теперь, возвращаясь к моей поездке на Воронежскую землю: приехал, посмотрел и сердце моё "уязвило стало", как говорил один классик. Село Конь-Колодезь, конечно не пень-колода, большое село, славное адмиралом Сенявиным, у которого здесь сохранилась усадьба с дворцом и замечательным парком прямо на берегу батьки Дона. Часть села и до сих пор называется Сенявка, где почему-то родятся одни мальчишки белобрысые и ныркие, как донские окуньки.
Синявин более двухсот лет, как ушёл, а приплод его до сих пор остался цветом и обликом в адмирала.
Родители жены – интеллигенты, преподаватели в местном техникуме, к земле, как и мы с женой, не совсем привычные, а теперь, в их возрасте, и вовсе от дел отошли.
– Ты картошку уважаешь, когда с сольцой? – спрашивает, улыбаясь, тесть.
– Особенно, когда её хорошо помять, – в тон ему отвечаю.
– Тогда вот тебе лопата, а вот огород. Копай землю под картошку.
– Так осень ещё! Ты что, думаешь картошку под зиму сажать?
– Копай! По весне легче будет.
Вот, думаю, старый совсем спятил: кто же копает огород под зиму? Его всё равно снегом заметёт.
Огород несколько лет не использовался, зарос бурьяном, цепким, как колючая проволока, как мексиканский кактус.
Что делать? Копаю. Без привычки на ладонях кровяные мозоли от дубового черенка. Крошу, чтоб земля, как пух, была. Надо показать своё трудолюбие: за стол вместе сядем.
Подошёл тесть:
– Э! Кто же так копает? Дай сюда лопату!
Отложил в сторону костыль, с которым расстаётся только в постели. Воткнул лопату, наступил всей тяжестью тела, а он под сто кило весом, лопата ушла в землю под самые бортики, вывернул глыбу:
– Вот так надо копать под зиму, а то осенние дожди всю землю притопчут так, что по весне долотом ковырять придётся. А ты в мае месяце с лопатой пробежишься трусцой по огороду – вот и сажать картошку можно!
За пару дней одолел землю, мозоли в карман прячу.
– Молодец! Рано отделался. Сходи на ферму, коровяка натаскай.
– Кто ж меня на ферму пустит. Там скотина… Санитарная служба…
– Какая служба? Всех коров давно под нож пустили. Теперь там это добро одно осталось. Иди! – и прикатил мне тачку на четырёх кованых колёсах.
Сжал зубы, покатил…
На ферме ни души. Навозу горы. Эх, лопату забыл! Пришлось коровяки руками на тачку накладывать. Наворотил, чтобы второй раз не ехать. Тьфу ты, чёрт! И руки помыть негде!
Насилу с тачкой дотащился до дома. Даже перекуривать забыл.
– Вот молодец! – нахваливает тесть. – Ты до вечера ещё пару тачек привезёшь.
– А что, одной тачки не хватит? – злюсь.
– Хватить-то хватит, а по весне картошку надо каждую неделю настоем коровяка поливать. Маловато будет.
– Дед, – выхожу из себя, – до весны ещё дожить надо!
– А ты что, помирать собрался? Нет, вези ещё пару тачек пока, а там посмотрим.
Ссориться с пожилым человеком, да ещё с тестем – себе дороже. Жена смеётся. Рада мне отомстить за все прошлые прегрешения.
Подался снова на ферму. Навозил навозу горы.
– Вот молодец! Вот молодец! – подхваливает тесть. – Теперь навозец по всему огороду потруси. Летом картошка с твою голову будет.
Что делать? Спотыкаясь о комья, вилами раскидываю коровье добро. К обеду управился. Сижу на порожке, покуриваю. Подсаживается тесть:
– Дай-ка подымить!
Даю сигарету. Сидим, курим.
– Ты вот что, навозцу ещё пяток тачек привези, а то до весны всё расхватают. А мы с тобой летом в кадушке навоз замочим, он перебродит, и ты под каждый куст по кружке нальёшь. Картошка бу-дет…
Всё. Моему терпению конец. Зачем только приехал? Лучше под мостом с ножом!..
Встал, ушёл в дом. Говорю жене: «Всё! Едем обратно! Я лучше в бандиты подамся. Их по телевизору каждый день показывают. Романтика! Герой нашего времени!»
Не знаю, чем бы дело кончилось, но тут позвонила дочь. Она замужем за капитаном. Живут под Хабаровском, в одном закрытом городке. Въезд туда даже родителям запрещён – государственная тайна!
– На вот трубку послушай!
Дочь умоляет приехать к ним. С внучкой посидеть. Она снова выходит на работу, зять, капитан, уже полгода зарплату не получает. Приезжай, я тебе работу нашла, по сменам ходить будешь, заодно и за внучкой приглядишь. Всё равно бездельничаешь!
Кричу в трубку:
– У вас городок секретный, кто ж меня туда пустит?
Дочь в трубке смеётся:
– Какие секреты, отец! Рыжий Толян, Чубайс этот, все военные тайны, как Мальчиш-Плохиш, буржуинам выдал. У нас из хранилищ атомные заряды вывозят, иностранцы понаехали, Гринпис… Говорят, в Америку на хранение ядерные головки повезут. Теперь никаких тайн нет. Договор такой. Так что не раздумывай: приезжай!
Ну, слава Богу! От каторги спасся. Конечно, к дочери поеду.
Жена собрала меня в дорогу, перекрестила:
– С Богом!
3
На востоке страны солнце поднимается так же, как и в центральной России… Ночь отмахнул, не моргнув глазом. Настроение ностальгическое. Хочется домой, но работа и крикливая внучка за грудки держат.
Раннее осеннее утро. Заблудившийся спросонок ветер, на ощупь зябко перебирает сухие, насквозь проржавевшие листья. Свет электрических фонарей кажется нелепым и расточительным в наши времена перманентного кризиса. Из старой пятиэтажки позапрошлого времени с облупленной местами штукатуркой вышел молодой человек, оглянулся на ещё тёмные окна, подхватил двухосную тачку и заспешил туда, где, громыхая железом о железо, сталкивались, скользили и ворочались составы товарных поездов.
Пассажирские здесь не ходят.
Городок отличается небольшим размером узких улиц, каждая из которых оканчивается или лесом, или станцией грузовых перевозок.
Таких городков по России множество. Вырубалась тайга, мощные землеройные машины срезали сопки, осушались болота, обводнялись пустыни – и всё для того, чтобы в одно время привезти сюда будущих насельников с домочадцами и заполнить пятиэтажки из силикатного кирпича молодыми голосами и детским ором.
Городки такие имели приставку "моно', то есть один. Один – и всё тут!
Большие люди за кремлёвскими стенами знали, что делают. На один рубль затраченных средств приходилось девять рублей комфортной жизни государства без военной бойни и катаклизмов. Заокеанские ястребы не осмеливались точить когти, свысока посматривая на тучную добычу. Как в русской пословице: хоть видит око, да зуб неймёт.
Такие городки жили тихо, особо не высовывались, на карте обозначены не были, вроде их и вовсе нет. Тишина жизни не значила, что люди здесь ничего не делали и разговаривали только шёпотом: кузнечным грохотом железом по железу в три смены гремели заводы; в тишине лабораторий, сопрягая интегралы, дифференциалы, синусы и косинусы, ломали голову люди в очках; в конструкторских бюро у кульманов выводили на ватманской бумаге углы, овалы, стрелки, пунктирные и жирные линии молодые, склонные к самоиронии люди.
Шла обычная напряжённая жизнь во имя Государства, во имя будущего своих детей, свободных от власти денег, стяжательства, казнокрадства.
Один вид стяжательства признавался здесь – стяжательство духа.
Но, как известно, дьявол живёт в мелочах. Комары задрали неуклюжего государственного медведя. Гнус с арбатских двориков маленькими хоботками прокусывали шкуру великану и сосали, и сосали живую кровь, пока государственный медведь не рухнул. "Берите, сколько проглотите!" густо зудел над тушей самый старший гнус, пахан арбатской дворни. И хватали, и жрали, и не давились…
Вместе с Государством стали ветшать, осыпаться прахом его мускулистые силы – моногородки.
Люди в очках, забыв о математических символах, подались в обслугу к своим младшим научным сотрудникам, комарикам, которые не брезговали поступаться принципами, и от общего стола урывали столько, что сытный тук вылезал из ноздрей их и даже просачивался чрез ушные перепонки.
Предприятия банкротили, людей отпускали в бессрочный отпуск без сохранения содержания.
Всё ценное было растащено на залоговых аукционах. Драгметалл и редкоземельные сплавы ушли за границу. Заводское оборудование на товарняках увозили, как металлолом, в Прибалтику. Лаборатории за ненадобностью разрушили. Прах, пустота, разъедает все скрепы.
Городки стали опустошаться.
Вот в одном таком городке по стечению жизненных обстоятельств я с семьёй дочери перебиваюсь с киселя на воду.
В городке этом одним из детей Арбата был срочно образован приват-банк, ну, не банк в прямом смысле слова, а банчок, если так можно выразиться, с уставным капиталом в несколько тысяч, способным разве только выплатить стоимость судебных издержек.
Но порядок есть порядок.
Банку требовались охранники. Имея за спиной некоторые навыки охранной службы и газовый револьвер, переделанный под боевые патроны, я после непродолжительной беседы с учредителем банка Рафаилом Ефимчем Ивановым, был принят на временную работу по охране нового капиталистического заведения.
Капитал живёт, где хочет. А я вынужден жить там, где капитал.
Рафик, так все называли хозяина пока тот не испарился в один прекрасный день, был человек демократичный, с улицы, и вёл себя с работниками банка тоже демократично: разрешал брать мелкие кредиты, но под большие проценты, в самый разгар рабочего дня мог рассказать забористый анекдотец, со всеми вместе попить чайку, побалагурить. У него была одна очень приметная привычка: всколупнуть у сотрудника, пока тот ищет сахар, хлебный мякиш, и долго мять его между пальцами, пока свежий мякиш не превратится в настоящий пластилин.
Каждый раз из его горсти выпрыгивали на стол чёртики. Всегда только чёртики.
Эту привычку я когда-то в далёкой юности, работая в монтажной бригаде, не раз замечал у своего прораба.
Время давнее, послесталинская амнистия, прораб только вернулся с мест весьма отдалённых, и тоже лепил в обеденный перерыв, отщипнув у какого-нибудь монтажника мякиш, тоже до бесконечности мял между пальцами, и выпускал чёртиков, которые на вольном воздухе быстро каменели и украшали наш скудный стол, сваренный из тавровой балки и листового железа.
Теперь вот этот наш Рафик…
Рафик на работу своих сотрудников смотрел сквозь пальцы, охранная служба не имела чёткой инструкции, каждый работал не за совесть, а в прямом смысле за жизнь. Убийства из-за денег были обычным делом, и Рафик хорошо знал, что без инструкций и особого догляда охрана будет бдить лучше любого пса.
Работали – ничего себе. Рафик платил исправно до той поры, пока наш президент не дал указания службам "не кошмарить бизнес проверками".
Каким-то образом Рафик в Центральном банке получил кредит в несколько миллиардов на развитие "инноваций", и недолго собирал вещи. Теперь он не на южном берегу Ледовитого океана, как того требует закон, а на северной окраине Лондона лепит своих чёртиков и за ненадобностью бросает их в Темзу.
Но это случится гораздо позже, а пока сотрудники банка слушают весёлые анекдоты и радуются за такой демократичный подход к работе.
Вот и я тоже – пока сижу, вспоминаю анекдоты хозяина и строго оцениваю обстановку: что, если что? Ведь недавно прямо в подъезде был застрелен полковник, только что вышедший на пенсию. Он возвращался на машине из штаба округа, где ему должны были уладить квартирный вопрос. Время позднее. Кто-то полковника поджидал, думал, что тот поехал за пенсией – деньжищ уйма! А полковник был пустой, пенсию обещали выплатить в конце года. Какие вопросы? "Отдыхай, полковник, на гражданке, а нам служить ещё, как медным котелкам! – сказали в штабе. – Мы сами без соли…" "А, – сказал полковник! – Я бы вас в Афгане, как горных козлов по ущельям погонял. Сидите, геморрой мнёте, служаки!" – и ушёл с таком. Ни с чем, значит. А полковник – душа человек! Слуга отчизне, отец солдатам!
Обманулся бандит. Кроме медалей, у полковника ничего не было. Пробовал искать, все карманы наружу вывернул – ничего! "Ах, бес попутал! Прости, полковник! И нам ведь жить надо…"
Следаки теперь стали нелюбопытные. Ну, грохнули одного! Что ж тут такого? Бандит, он и есть бандит. А вот на днях девочку-выпускницу изнасиловали прямо в квартире. Следаки пожали плечами: "Сама виновата! Зачем дала? Созрела, значит!"
Новая власть в МВД своих не оставляет без пайки. Зарплату повысили вдвое, да ещё уголовщина им от своего фарта отстёгивает. Живут, зачем им в грязи возиться? Они сами из грязи – в князи. Э-хе-хе! Вот коммунизм чем обернулся! Рановато затеяли его марксисты. Сначала дотянулись бы до настоящего капитализма, а уж потом…
Смотрю, в начинающих проясняться рассветных далях со стороны котельной женщина идёт с тазом, вроде белье полоскала. Где тут полоскать? Реки нет. Идёт, оглядывается. Пригляделся, в тазу уголь. Котельная ещё с позапрошлого года разморожена. А уголь сторожат. Его пока ещё не пропили. Начальник котельной бдит. Обещал: кто будет воровать – вы…бу! А уголь всегда требуется. Холода не за горами, брр! Пятиэтажка, откуда только что вышел человек, обросла снизу до верху коленчатыми трубами, словно из форточек жильцы руками голосуют за своего президента, который обещает положить голову на рельсы и смотреть вслед уходящему поезду.
Кстати – о рельсах. Половину запасных путей уже растащили. Легированная сталь в Прибалтике дорогая. Рельсы режут прямо на месте автогеном. У кого нет автогена, режут ножовкой по металлу. Это не так трудно, как кажется: надрезают на одну треть "яблоко", верхнюю часть рельса, потом резким ударом кузнечной кувалды бьют по стыку – и хрупкая сталь со звоном распадается.
Лесок за станцией своё дело делать не мешает, а ночью на тележке можно хоть тонну до своего сарая дотянуть. Сарайчики за пятиэтажкой ладные. Из кирпича. Командование разрешало. Люди строили на века. Думали – детям пригодиться!
Эти трубы, это утро, эта согбенная женщина с тазом на фоне бледно-серого неба: немыслимой печали картина импрессионистов нашего поколения, вызывающая в душе грустную мелодию распада. Сплошная безнадёга.
Господи, когда это закончится?
4
Но закончилась только моя работа.
У банка оказались огромные долги, а взять их оказалось не с кого. Пришли ушлые люди, и тот финансовый фетиш для нынешнего очумелого от жажды потребления российского народа враз превратился в густое пахнущее дорогим коньяком и свежим апельсиновым соком неуловимое облачко, исходящее от временного управляющего.
Помещение приспособили под склад алкогольной продукции, где к охране допустили только доверенных лиц, и я оказался лишним. Пришлось оставаться сиделкой у неугомонной внучки. Занятие для здорового мужика не очень подходящее. Но что делать? Зять-капитан зачастил по длительным командировкам, из которых приезжал с ворохом подарков и с тем же запахом дорогого коньяка и апельсинового сока. В то же время я знал, что в их когда-то сверхсекретной части уже полгода как не платят зарплату.
Странные были командировки. Уезжая, он никогда не надевал офицерской формы: великолепный красный пиджак с фирменными джинсами, на шее литого золота цепь, на которую можно сажать средних размеров пса.
Я как-то поинтересовался у дочери, почему он не носит форму, ведь офицер же. "Так надо! – сказала дочь. У них в части многие так уезжают в командировки…"
Надо же! Денег нет, а золото на шее!
В то время новые власти науськивали народ против армии, в телевизоре офицеров поднимали на смех, предлагали физическое насилие над ними: избивать, забрасывать камнями. В это трудно поверить, но криминальные власти явно опасались военного переворота. Был, при не совсем ясных обстоятельствах, убит в своей постели неугодный режиму боевой генерал Рохлин, поэтому с офицерами всякое могло случиться.
На том я и успокоился: бережёного Бог бережёт, а не бережёного кулак стережёт, как говорили мои монтажники.
Однажды зять долго отсутствовал. Моя дочь пошла в часть, спросить о муже, но там добиться чего-то вразумительного ей не удалось – военная тайна!
Через полгода, в сумеречное осеннее время, наш капитан прибыл из "боевого" задания. Красный пиджак порядком потрёпан, рукав у плеча красовался оранжевой шёлковой подкладкой, на шее вместо золотой цепи бугрился багровый след, но глаза весёлые, и тот возбуждающий запах коньяка; но теперь в воздухе витал не апельсиновый сок, а ещё и хороший крепкий кофе.
На вопрос: "Где пропадал?", зять, расстегнув пиджак, вытащил на свет Божий короткоствольный, с небольшим раструбом на стволе, автомат Калашникова, молча отстегнул рожок с патронами и положил "калаш" на чистую белую скатерть обеденного стола, звякнув откидным прикладом.
– Вот! – сказал он, подкинув в ладони ребристый окатыш пехотной гранаты. – Дела задержали!
Я с испугом увидел, как, побледнев, дочь хотела подняться со стула, но, ухватившись за спинку, стала медленно сползать на пол, да и у меня тоже по спине побежали мурашки.
– Ты что, с ума сошёл? Откуда? – я указал на стол.
– Оттуда! – неопределённо махнул рукой зять. – Башли делал! Вот! – он расстегнул на широком поясе пузатую кожаную барсетку и вывалил на стол рядом с автоматом пухлую пачку зелёных бумажек, видеть которые мне приходилось не часто.
«Доллары! Бандит!» мелькнуло в голове.
– Всё путём! Зелень чистая! Не боись! – он победно взглянул на стол и вытащил из армейского рюкзака желтоватую бутылку виски, несколько палок сухой колбасы, пару больших плиток шоколада, и несколько лимонов.
– Вот! – снова сказал он и притянул испуганную жену, мою единственную дочь, к себе: – Не волнуйся, я был на работе! Там женщин нет, там мужики, японские тачки из порта Ванино через тайгу перегоняют. Без оружия никак нельзя…
Дочь, всхлипывая, прижалась к его плечу.
– Ужинать давай! Добытчик с войны вернулся!
Уже за столом, уже переодевшись в домашнее, зять поднял стакан:
– Давай, дед, озеленим проталины! – и прислонил свой стакан к моему.
Его некоторая развязность: "дед", "озеленим проталины", "башли" – не могли меня не покоробить. Зять – обычный деревенский парень, мой земляк, из хорошей трудовой семьи… А тут – что-то на него не похоже. Испортился малый…
"Я помню тот Ванинский порт…" – попытался было затянуть обмякший капитан, но дочь быстро увела его спать:
– "Завтра допоёшь!"
А завтра была другая песня…
В кармане у капитана обнаружилась злосчастная фотография, где мой зять балдеет возле стойки бара, обнявшись с какой-то блондинкой, весёлый и, судя по выражению лица – никакой. В придачу ко всему такому он подцепил, как говорят, "птичью болезнь" – три пера.
– Едем домой! – успокоил я плачущую дочь. – С нами пока поживёшь. – Ничего, не ты первая, и не последняя!
5
Вот что делает рыночная демократия! Была служба в Советской Армии, офицерское звание, семья, а всё превратилось в облачко коньячного запаха, проклятые «баксы» и грязную болезнь. Эх, капитан, капитан… Сельский парень из хорошей семьи…
Позже как-то я прочитал в центральной печати, что мой капитан и ещё несколько офицеров во главе с командиром части занимались, прикрываясь службой в Вооружённых Силах России, перегоном и сбытом подержанных японских машин на рынках Дальнего Востока. Машины перегонялись через тайгу, кишащую бандами, поэтому офицеры, отправляясь в портовые города за машинами, всегда были вооружены до зубов; где однажды в разборках и погиб наш славный капитан.
Плачь жена, плачь мать, плачь Родина о бестолково загубленной жизни. А ведь каким он парнем был!..
Вот оно – сучье сундучное право! "Маркетинг, туды его в качель!" – как говорил один литературный герой.
…Воронеж меня встретил приветливо. Дочь устроилась на хорошую работу, вышла замуж, родила мне внука, с которым я иногда воюю, заставляя его постигать азы жизни. Жена ушла на пенсию, да и мне подоспело время по моей монтажной работе в особых условиях досрочно получить мало-мальские деньги "на дожитие".
На эту сумму дожить, конечно, доживёшь, но нормально жить никак невозможно, и писательская братия устроила меня сторожить особняк под одиноким вязом на улице Никитинская, 22, где я и пишу эти строки.
Счастливый особняк, филиал литературного музея. В этом доме когда-то проживала семья Тюриных, близких родственников известного поэта Никитина, а теперь располагается Дом Писателя и одновременно писательская организация, к которой я подошёл, как патрон к патроннику. Слава Богу, и нашему Председателю!
Осенние ночи длинные, передумаешь и перетасуешь свою жизнь основательно. А вроде и не жил вовсе… И ничего-то в стране не меняется. Иногда до того дойдёшь, что так и подмывает написать душевное письмо в kremlin.ru. "Господин Президент, посодействуйте отпустить моего друга Ваню Найдёнова из тамбовского сумасшедшего дома! Он наш. Из него можно гвозди делать. Он подарит мне часы Чистопольского завода, и я, используя промежуток времени между Tn и Tn+1, где n стремится к бесконечности, смогу протиснуться в тот минимальный зазор и вернуть своё время, чтобы уже не допустить барыг и казнокрадов к управлению государством. В этом я Вам ручаюсь. И у Вас часы там будут на правильной левой руке, И всё будет правильно".
Тамбов, Хабаровск, Воронеж 1993–2013 гг.
Совсем короткая повесть
Памяти Володькина Олега
1
На теперь уже такой далёкой Афганской, как и на любой другой войне, были и есть свои герои, но и свои палачи тоже. На таких обычно война и держится. Хотя не всё так однозначно, как всегда бывает в жизни.
«Служили два товарища в одном и том полке…» – слова этой давней солдатской песни как нельзя лучше подходят к героям этого повествования. Один был из жаркого Краснодара, а другой – из морозного Красноярска. Вроде города разные, а суть одна, и умещается она в первой части названия – «красно», то есть, – хорошо, любо, красиво, и жить удобно до самой старости.
Вот какие места сохранились ещё в России!
Ребята были отчаянные и смелые, таких обычно любят война и девушки. Война ведь тоже женского рода, только рожать не умеет, хотя мужскую силу высасывает жадно.
Сослуживцы звали одного, из Красноярска, Гогой, а другого, из Краснодара – Магогой.
Клички такие у них были…
И мы будем звать ребят так же, по солдатским понятиям: пусть один будет Гога, а другой – Магога, чтобы до конца соответствовать образу.
Гога воюет, и Магога воюет – плечом к плечу, спине к спине, отбивая атаки воинов Аллаха.
Сами атакуют кишлаки, зачищая от живучих, как священные суры Корана, душманов.
Стреляй, солдат первым, вторым тебе нажать курок уже не придётся!
Поймали одного такого ловкого «духа», архара, козла горного, которому долгое время удавалось стрелять первым.
Вон они лежат, те, которые не успели, с застывшими в крике перекошенными детскими ртами. Ягоды русских полей…
Гога тоже стрелял первым и тоже был удачлив. Телефонным проводом связал руки тому, кто не смог сегодня обогнать время.
2
Гога, Магога, и ещё один парень, назовём его Ваня – вот и всё, что осталось от взвода, входившего в десантную роту, которая на сегодняшний день выполняла боевую задачу защиты братьев по классу от пособников империализма, тех самых душманов, которые недавно были тоже братьями по классу.
Недавняя перестрелка, затяжная, как зубная боль, перешедшая в настоящую бойню, оставила трёх русских парней живыми, но с оголёнными проводами нервов, по которым ещё пульсировал ток высокого напряжения боя.
Эти несколько часов, проведённые под чёрным крылом Азраила, опрокинули навзничь все представления о жизни, как таковой.
Уход человека из этого мира оказался настолько стремительным и неожиданным, насколько стремительна и неожиданна сама пуля, и это как раз больше всего вызывало ярость сопротивления. Животный инстинкт опережал мысль, заставляя уходить от смерти. И побеждал, конечно, он, первобытный, рациональный и безжалостный к врагу.
Закон войны неумолим, он не знает пощады и чужд всякого сентиментального чувства к противнику. Но это – в бою. А теперь – вот он, лежит, тот, который всего за несколько минут до этого, оскалив зубы, всаживал и всаживал в тебя, как гвозди, очередь за очередью свинцовых окатышей, любой из которых потяжелее самого Гиндукуша.
Закон войны навязывает под страхом трибунала относиться снисходительно к пленённому врагу и уважать его человеческое достоинство, хотя не всегда пленённого врага можно назвать человеком, но закон обязывает…
– Давай пристрелим эту суку душманскую! – говорит Магога.
– Не! – говорит Гога, – мы эту блудь в штаб доставим, пускай они ему там сами язык развяжут, а нам, которым сегодня повезло, отпуск дадут. Правда, Ваня?
– Ах-га! – как ржавая деревенская калитка, проскрипел сухим ртом Ваня, который хоть и не стрелял первым, но вытащил, вытащил свою козырную карту, неожиданно сорвав банк, имя которому – жизнь.
«Афганец» – безжалостный ветер пустынь, назойливый и зудящий, как таёжный гнус, мелкой песчаной пылью забивал надорванную боевыми криками гортань. Зубы перетирали эту пыль, и язык иссохший, как наждачная бумага, кровоточил и не помещался в исковерканном судорогой рту.
– Ах-га! – выдохнули обожжённые глотки, шаря по карманам курево.
Мелкая дрожь в суетливых пальцах, нашаривающих спасительные сигареты, говорила о том, что если сейчас не сделать несколько табачных затяжек, то нужно упасть на эту чужую неприкаянную землю, и, кроша зубы, грызть её каменья от обиды и боли за погибших товарищей, и за свои, теперь уже навек загубленные жизни.
3
Война, чужая и непонятная, пропахав по их ещё не раскрытым детским судьбам, уже запеклась кровавым сгустком возле самого сердца, и стала своей, как становиться своей тяжёлая непоправимая болезнь.
Закури, солдат, отдышись, посиди на обожжённом горячими ветрами чужедальнем камне, стисни голову руками и успокойся…
Но, как всегда бывает, того, чего очень хочется, никогда не оказывается на месте. Последние сигареты были выкурены с лихорадочной быстротой в короткие промежутки между огневыми атаками.
– Эх, затяжку бы одну! – Магога пнул сидящего рядом на корточках душмана.
Тот, безучастно задрав бородатое лицо, испещрённое пороховым нагаром к небу, что-то бормотал, то ли в приступе отчаяния, то ли вымаливая у неба лёгкой смерти, отлично сознавая, что в таких войнах пленников не бывает.
Бородатый от неожиданности вскинулся злобным взглядом на русского солдата. Но потом, поняв, что от него требуется, закивал головой, показывая на карман своей кожаной куртки, надетой поверх длинной, навыпуск, белой холщовой рубахи.
В кармане бородача оказалась плотная упаковка из скользкой лощёной бумаги, с изумрудно-зелёным характерным рубчатым трилистником растения, похожего на только что зацветшую коноплю. Так обычно метят наркотические продукты конопли высокого качества – гашиша, марихуаны, а проще – плана, если в русском варианте.
План, или анаша – обычный экстракт травки, которым на южном подбрюшье могучего Союза часто балуются за неимением спиртного доблестные солдаты, охраняющее покой своих тюркских братьев-дехкан.
– Америка! – восхищённо проронил Ваня.
Ване сегодня посчастливилось выжить, но не потому, что он умел стрелять первым, а потому, что хорошо хоронился за лысым валуном, выпустив в «молоко» в первые же минуты боя все шесть магазинных рожков, а после, закрыв голову ладонями, лежал, припаянный к земле так, что боялся собственного биения сердца, и не потому, что был трус, а потому что бесконтрольно сработал инстинкт самосохранения.
Если кто думает по-другому, пусть попробует оказаться на его месте за тем лысым лобастым горячим от пороховой гари камнем в долине Гиндукуша в то же самое время.
А-а? То-то и оно-то!
…Магога грязным обломанным ногтём стал отковыривать золотую фольгу обёртки, высвобождая единственно оставшийся у моджахеда маслянистый жёлто-зелёный закуржавевший брикетик прошлогоднего сена.
– Не нашенский табак, твою мать! – смело выругался тот же солдатик, которого только что привёл в восторг золотистый цвет самой упаковки. – Я думал, у него «Кэмел», а это самосад какой-то! – вытягивал он тонкую шею, такую тонкую, которую одним привычным взмахом ножа мог бы пересечь этот сидящий у ног бородач, попадись солдат минуту назад ему в руки
– Дурак ты, Ваня! Это совсем как настоящий гашиш! Заправка для кальяна. Кайфовая штука! Бумажки на косячок дай! Ты ж у нас писарь, мамки домой соплями стишата пишешь. Сочинитель!
Солдатик похлопал себя по карманам:
– Нет ничего!
– А это что? – Магога вытянул у Вани из нагрудного кармана гимнастёрки тетрадочный лист бумаги, по которому были рассыпаны неуклюжие буквы, написанные непривычной к этому занятию рукой. – Мамка писала?
– Ах-га! Дай сюда! – солдатик попытался выхватить у Магоги, дорогое ему письмо из дома, где уже не будет покоя, пока Ваня, сынок дорогой, не вернётся в родное гнездо ясным соколом.
– Дал бы я тебе в хлебальник, да весь кулак об этого махмуда размолотил! – Магога ударил кованым армейским сапогом продолжавшего бормотать священные суры душмана, который тут же повалился набок, уткнувшись разбитым лицом в сухую горячую пыль, похожую на цементный порошок, да так и остался лежать в цементной перхоти.
Действительно, дорога в горы, перетёртая за тысячелетия людьми, верблюдами и повозками, под жгучим солнцем представляла собой унылое и тягостное зрелище – вроде шёл бесконечный верблюжий караван ещё до столпотворения языков, и сыпал из прохудившихся мешков строительный цемент, предназначенный для воздвижения Вавилонской башни.
4
Магога, забыв о тяжёлом железе автомата, помогал вязать «махмуда», предварительно размолотив кулаки о высохший под азиатским солнцем его череп до того, что костяшки пальцев теперь запеклись почерневшими кровавыми ссадинами. Тряхнув несколько раз кистями рук, он стал мастерить самокрутку под столь знаменитый «табачок».
Таких «мастырок» хватило бы на весь взвод, если бы не полёг он здесь, в той же забившей мальчишеские рты горячей перхоти, под мрачными глинобитными дувалами брызжущего со всех сторон свинцовыми окатышами небольшого кишлака, обойди который стороной – и не висеть бы теперь юному лейтенанту, распятому на ветвистой арче, полоская на знойном ветру обрывками содранной кое-как, наспех, ещё с живого, кожи.
Но Магога об этом ещё не знал, не знал об этом и Гога, и Ваня тоже не знал. Они перекрывали отход засевших в кишлаке моджахедов, отрезая им путь в спасительные горы, где один аллах хозяин.
И по этой дороге никто не прошёл. Лишь пузырились разбухшие под солнцем мёртвые верблюды, и в длинных, по-бабьи прикрывающих колени рубахах, бородатые нечистые люди.
Но вот теперь, в залитой солнечным маревом долине, кишлак мирно молчал, и трудно было поверить, что всего с полчаса назад, там, на зелёной арче, мучительно расставался с жизнью их по-мальчишески нетребовательный командир. И на далёких русских просторах в девичьем сне больно торкнется в сердце какой-нибудь выпускнице ею не зачатый ребёнок – и снова канет в космическую бездну. Не порадует Русь светловолосый мальчик своим появлением, не увеличит счёт её достойных сынов…
И у Магоги могли бы быть тоже дети. И у Гоги могли быть дети. И даже у Вани мог родиться светлоглазый, русый и во всём достойный сын России. И мой школьный товарищ Валёк мог бы горячо приобнять своего сына, и разжалованный за развал воспитательной работы во вверенном подразделении майор-десантник, по кличке Халдыбек, тоже, но этого не произошло по разным причинам, о чём и разговор…
5
Магога замастырил неуклюжую закрутку и пытался раскурить косячок, но у него никак не получалось – то ли от недостатка опыта, то ли потому, что гашишная смолка никак не хотела без табачной примеси гореть и тут же рассыпалась в пыльцу. Горел только школьный тетрадочный лист, от которого, кроме катара гортани, никакого кайфа не поймаешь.
– Дай сюда! – Гога взял у приятеля маслянистый брикетик, и, подобрав отстрелянную автоматную гильзу, которых здесь не сосчитать, стал усердно набивать её конопляной «дурью».
Потом Гога вытянул из-под ствола Калашникова тонкий стальной шомпол, воткнул в зауженную горловину почерневшей от выстрела гильзы и стал прожаривать содержимое на зыбком пламени газовой зажигалки. Секунд через 10–15 из горловины пошёл смрад горящего растительного масла, смешанного с пороховой гарью.
Гога поднёс к лицу шомпол с гильзой и, зажав большим пальцем ноздрю, другой стал втягивать вонючий сероводородный дым, заклубившийся из латунной горловины.
В ожидании наслаждения – «прихода», как выражаются наркоманы, глаза его прикрылись, и всё существо было готово раствориться в голубой ядовитой дымке иллюзий.
Глотнув несколько раз этого смрада, Гога вдруг перехватил горло руками и стал блевать на лобастые булыжники какой-то тягучей зеленью, несусветно матерясь и царапая горло ногтями.
– Табачку бы теперь подмешать, тогда и мастырку покурить можно, – мечтательно протянул Магога, глядя на страдающего собрата.
– А я чё скажу-то, чё скажу! – затараторил Ваня. – Мы в детстве вместо табака конский навоз курили, и – ничего! Может, навозцу подмешать! Вон их сколько, верблюжьих ошмётков! Сухие все!
Магога почесал в раздумье переносицу. Сосало под ложечкой страшно. Косячок выкурить, а там и помирать можно, коль сегодня смерть обманул.
– Действуй, Ваня, действуй! Может, медаль получишь! – хлопнул Магога здоровенной ручищей Ванюшу по спине. – Мастырь косяк!
Ваня растёр в ладонях щепоть верблюжьего помёта с остатками спрессованного зелья, всё тщательно перемешал, снова растёр, потом набил ловко скрученную цигарку и протянул Магоге:
– На, Толян! У меня всегда цигарки хорошие получаются! У отца учился.
Оказывается, Магога имел собственное имя, и звать его было – Толян, Анатолий то есть.
– А ну-ка, салапет, дыхни сам, а я посмотрю, как у тебя получиться! – поднёс он к мастырке зажигалку. – Слышь, Колян? – толкнул он зачумелого от дурноты друга, – Ванёк думает от верблюжьего навоза кайф словить, приплыть хочет! Приход получить. Давай, давай салага, салапет грёбаный, затягивайся поглубже! Из кулака кури, вместе с воздухом из пригоршни затягивайся! Так вернее будет! Колян, смотри, смотри!
Гога тоже имел своё собственное крещёное имя, и звать его было – Никола «У меня ни двора, ни кола, потому и зовут меня Николай» – любил повторять Гога, хотя и то, и другое такому малому вовсе и не нужно. Всё равно – или пропьёт, или потеряет.
В жарком испепеляющем воздухе потянуло знакомым запахом кизячного дыма с примесью жареных семечек.
После двух-трёх затяжек Ванюша не закашлялся, не стал на корячки, как Гога задыхаться в блевотине. Лицо его, недавно искажённое недоумением происходящего, теперь помягчело, распустилось в какой-то блаженной истоме – так распускается под тёплым дождём всякое растение после утомительной засухи. Выражение стало по-детски глуповатым и наивным, как у любого деревенского паренька, впервые попавшего в цирк или в большой город.
Всё это никак не вязалось ни с ним, ни с боевым окружением, ни с ужасом смерти.
Ваня делал затяжку за затяжкой так увлечённо, что даже тогда, когда Магога вырвал у него из рук чадящую скрутку, Ваня продолжал чмокать губами и чему-то, одному ему ведомому, внимать.
Теперь Магога, сомкнув в пригоршню ладони, как ловят бабочку, зажал с внешней стороны Ванин чинарик, и стал жадно высасывать дым сквозь щель между большими пальцами. Щёки его то опадали, то снова раздувались, глаза наливались непроглядной чернью, в которую лучше не заглядывать, чтобы не разочаровываться в человечестве.
По мере того, как убавлялась наркотическая скрутка, Магога всё больше и больше чернел не только глазами, но и лицом. Потный его кадык, выпирающий кулаком из отворота гимнастёрки, от затяжки к затяжке двигался всё чаще и чаще. Ноздри раздувались, как у загнанного тяжеловоза. Он зло и натужно засопел.
Гога, отплёвываясь, вытянул шею, с опаской посматривая, как убавляется чинарик с конопляной «дурью»:
– Оставь, Толян, подлечиться, а то у меня от патронных окислов желудок наизнанку вывернуло! Толян, оставь…
Но Толян всё сосал и сосал, всё наливался и наливался дурной чернью, как наливается громоздкая туча, чтобы потом кинуть в пространство горсть ледяных градин, ломая ветки, сшибая и калеча по садам не успевшие дозреть плоды.
– Дай, Толян! Толян, дай! – крутился возле Магоги его непременный спутник Гога.
Но Толян уже ничего не видел, кроме одной точки, засевшей в его мозгу, как шляпка наглухо вбитого гвоздя и точка эта никак не отпускала его внимания, как будто он сам поселился у себя самого в черепной коробке и теперь жмурится от сияния такого, выжигающего все мысли, маленького солнца.
– Оставь, Толян!..
Но скрутка, догорев до самых створок сомкнутых ладоней, распахнулась, рассыпав на камни сотни дымящихся искр. Вся смолка, вся пыльца собранная где-нибудь на тайных плантациях Гиндукуша, отдала свои колдовские чары, оставив дымящиеся крошки сухих верблюжьих испражнений.
– Ах ты, сука такая! – крутился Гога-Колян возле не замечающего его Магоги, собирая рассыпавшийся навоз с остатками конопляного зелья. Но собранного было столь мало, что Гога подобрал ту, стреляную гильзу, выбив шомполом на оставшийся клочок бумаги её рвотное содержимое.
Новая мастырка задымилась, отравляя горячий воздух афганского предгорья.
Гога сосал и сосал навозный кизячный дым, от которого у него стали краснеть глазные яблоки, медленно вылезая из орбит. Его мозг вбирал в себя убийственную смесь окиси углерода, пороховой серы и гашишного чада, как вбирает в себя сухая губка грязную воду, освобождая поверхность от нечистот.
6
Казалось, все забыли про окоченевшего от неподвижности воина Аллаха, готового в любую минуту с радостью отдать свою презренную жизнь во имя священной войны с неверными, предвкушая при этом счастливую встречу с предками, библейскими пророками и даже с самим Магометом, чтобы с честью держать ответ за земные поступки.
Руки и ноги пленного душмана, а проще «духа», как называли их советские солдаты, были крепко связаны телефонным проводом и стянуты за спиной в один узел, так что ни перевернуться, ни пошевелиться он не мог. И если его оставить здесь на тропе одного под раскалённым солнцем, он наверняка через несколько часов встретится – не знаю как с Аллахом, но со своими предками – это уж точно. На таком солнцепёке даже тарантул, и тот стремится найти спасительную норку и переждать там до тех пор, пока каменная гряда не заслонит палящий сияющий диск непроницаемой громадой.
Так и лежал он, отчаянный воин древнего Востока, перепоясанный путами неверных, выворачивая сизые белки глаз то ли в состоянии припадка, то ли в последней молитве белёсому опалённому небу своей родины.
А Ваня, сеятель и жнец тамбовских полей, чернозёмной земли пахарь, сегодняшний солдат-первогодок, заброшенный волею случая и штабных бумаг в пекло, откуда, назойливо жужжа, вылетали свинцовые шмели и смертельно жалили всех, кто оказывался на их пути, сидел, недоумённо перетирал руками безжизненную сухую пыль, плохо соображая, зачем он здесь и где его чернозёмы. Широко раскрытыми глазами с длинными выгоревшими под афганским небом ресницами он озирался кругом в блаженном наркотическом отсутствии реалий страшной мясорубки войны.
Рассеянный блуждающий взгляд его нечаянно остановился на пленённом афганском повстанце, и Ване до слёз стало жалко одетого в бабью рубаху человека, почему-то лежащего в пыли и спутанного по рукам и ногам жёстким проводом.
– Щас я тебя развяжу… Щас… – бормотал Иван, на четвереньках подползая к пленному.
Вот и нет, не все забыли того несчастного воина Аллаха, хотя понятие «несчастный» ну никак не подходило к тому, что окружало со всех сторон его и троих советских солдат, не по своей воле оказавшихся здесь, и в тоже время.
Гога лежал, опрокинувшись навзничь, и внимательно, сосредоточенно смотрел в небо, туда, где из прохладной водной синевы выходили голенастые голые девы и каждая манила его к себе, призывно распахивая крутые и белые, как сливки, бёдра. Гоге было хорошо, так хорошо, что лучше и не бывает.
И только Магога, истинный пёс войны, тяжело ворочал языком, перетирая во рту настрявший песок, остервенело дышал и, вперяясь глазами в лежащий рядом валун, говорил ему что-то отрывисто и зло, как говорят последнее слово врагу. Казалось, вот-вот он вцепиться в камень зубами и будет выгрызать его внутренности, пока до корней не раскрошатся зубы, а если и зубы раскрошатся, то он будет рвать дёснами вражескую плоть и выплёвывать кровавые ошмётки в горячую чахоточную пыль и топтать эту плоть ногами.
7
Вот уже Ваня подполз, бормоча всяческие утешения, к пленнику. Вот уже ухватил зубами жёсткий проволочный узел, который никак не мог развязать. Вот уже стал перекусывать молодыми крепкими, как сахар-рафинад, зубами, скользкую медь провода, как вдруг откинулся назад, простроченный наискосок автоматной очередью. Словно толстой иглой по солдатской гимнастёрке прошлась гигантская швейная машина, продёргивая сквозь крупные отверстия красный шёлк ниток.
Магога, не поднимаясь, от живота, так и не задев ни одной пулей пленного, полоснул по Ване, потом, тупо уставясь на автомат, отбросил его в сторону.
Сразу стало тихо и пусто. И только воин Аллаха весело скалил зубы, что-то гортанно выкрикивал, дёргаясь в своих путах.
– Толян, это же Ваня! Разуй шары, Толян! – сразу же всполошился Гога.
После автоматной дроби, на сияющем небе обнажённые девы, всполошённо закричали пронзительными голосами, пряча свои потаённые прелести под чёрными перепончатыми зонтами, превратившись в стаю то ли больших летучих мышей, то ли крылатых первобытных ящеров. Потом и вовсе растворились в кипящем воздухе.
К Гоге мгновенно вернулось сознание:
– Толян, тебя же трибунал под вышку подведёт! Ты на боевом задании сослуживца преднамеренно грохнул!
Магога продолжал гневно буравить глазами лобастый валун, зло, процеживая сквозь зубы грязные ругательства. Наркота ещё держала его в безотчётном состоянии сомнамбулы, когда действует только подсознание, а мозг находится в полном параличе.
Гога знал, что делать в таких случаях. Он достал из подсумка пластиковый, наподобие портсигара, санитарный пенальчик, прихватил маленький заправленный атропином шприц, сдёрнул защитный чехольчик и быстро всадил иглу одурманенному другу прямо через рубчатую ткань гимнастёрки в мускулистое предплечье и выдавил из пластикового мешочка всё содержимое.
Атропин подействовал не сразу. Но через некоторое время Магога стал шарить возле себя руками, боязливо поглядывая на Гогу. Вероятно, до него стал доходить весь ужас содеянного.
– Толян, посмотри, это же Ваня! За что ты его так?
Магога молча поднял с земли автомат, отстегнул магазин и, убедившись, что он пуст, отбросил в сторону и вставил в освободившееся гнездо новый укладистый полный рожок с патронами.
– Пошли в кишлак! Развяжи ноги этому гаду, пусть на своих двоих, сука, топает. Мы его прямо и доставим взводному. Нам отпуск после этого полагается. А Ивана чего вспоминать? Он всё равно бы в следующем бою лоб под пулю подставил. Доложим лейтенанту о героической смерти Ивана Дробышева, и его посмертно наградят орденом, и со всеми почестями в цинковом гробу похоронят на родине. Он уже отделался, а нам с тобой ещё воевать предстоит. И не узнаешь, где нас догонит пуля или нож такой же вот падлы! – Магога ударил коротким кованым десантным сапогом скалящего зубы моджахеда, и сам распутал у него на ногах провод. – Вставай, чего разлёгся?
Пленный, кувыркнувшись несколько раз в пыли, неловко, с трудом, поднялся и, покачиваясь, встал на затёкшие ноги.
– Ладно, – сказал Гога, – назад пятками не ходят! Рядовой Ваня Дробышев погиб смертью храбрых, выполняя свой интернациональный долг. Лучше этого не скажешь! Пошли! – он сунул ствол автомата воину Аллаха в спину. – Топай, давай!
8
По каменистой обрывистой горной дороге, под невыносимым слепящим афганским солнцем, перетирая на зубах тысячелетнюю песчаную пыль востока, шли трое кровных братьев-близнецов, рождённых одной распутной женщиной, имя которой – Война. Изжёванные сосцы мерзкой бабы источали не молоко, а кровь, поэтому назвать этих детей Войны молочными братьями – значит впасть в грех святотатства.
После ярого, как утренний намаз, боя, кишлак в зелёной долине вновь продолжал жить своей жизнью.
Мыкающиеся по горным тропам остатки прежде разбитого каравана, шедшего с оружием от самой пакистанской границы, измученные жаждой и голодом свернули в мирный кишлак, где и напоролись на взвод советских интернационалистов, и были, как позже скажут в сводках, уничтожены.
И вот уже вновь голосисто призывал на полуденную молитву с невысокого минарета мулла, словно ничего не случилось под равнодушным небом. Словно только что не кричал советский мальчик, распятый на развесистой арче, обливая кровью её узловатые корни, и не лежали под дувалами с распахнутыми ртами примирённые и успокоенные общей смертью яростные враги.
Мальчишки с восточной предприимчивостью уже обшаривали мёртвых, выискивая всё, что может пригодиться в хозяйстве. И только оружие, разбросанное здесь и там, за исключением автоматных рожков с патронами, не привлекало их внимания: этого добра у них по захоронкам было, хоть отбавляй.
Между убитыми ходили молчаливые тощие коровы, подбирая узкими тонкими губами, вместе с колючками, пропитанные оружейным маслом плотные клочья пергамента от боекомплектов, и спокойно пережёвывали за неимением другого корма.
Старики, выползая на солнечный свет, мудро щурились, пропуская меж костистых пальцев седые узкие бороды, и молили Аллаха о милосердии.
– Топай, давай! – то и дело совал в бок пленённому короткий ствол автомата Гога, торопя передать пойманного «духа» своему командиру, тому лейтенанту, который уже никогда не будет не то чтобы генералом, но и старшим лейтенантом точно не станет.
Магога шёл рядом, прочуханный и трезвый, с ненавистью поглядывая в спину афганца, из-за которого так глупо погиб Ваня, солдат-первогодок, которому до смерти ещё жить бы да жить, строгая конопатых губастых, как и он, детей, на радость жене и заботу своей отчизне.
Но в разбитый кувшин воды не нальёшь. Что есть, – то есть, что было, – то было. И он мог бы так же оказаться под скорой рукой обкурившегося Гоги, не обнаружь тот в белёсых от жары небесах соблазнительных голых красоток, выставляющих напоказ своё откровенное женское естество, имеющее невозможную притягательную силу, да такую, что лица не отвернуть.
Ранее крикливые и вёрткие афганские мальчишки, сноровисто обиравшие погибших бойцов – как своих, так и советских – догадливо рассыпались по глинобитным норам, как только увидели в идущих солдатах затаённую угрозу и смерть.
Сразу стало так тихо, что было слышно, как сухо шуршит бумагой одинокая тощая корова, пасущаяся на каменистом пустыре под развесистой арчой, где в страшном оскале безгубого рта застыл последний крик лейтенанта, зовущего на помощь далёкую русскую мать.
9
Возле этого странного дерева, на котором вместо листьев топорщились пахучие густые и мягкие, как у можжевельника или сибирской лиственницы, зелёные щётки иголок, высокомерно задрав орудийный ствол, стоял с развороченной башней дочерна выгоревший советский танк без гусеничных траков.
Из высоколегированной стали этих траков предприимчивые восточные умельцы делали великолепные пуштунские ножи специальной закалки, которыми можно запросто рубить гвозди.
Судя по всему, танк выгорел от прямого попадания реактивного гранатомётного снаряда ещё в давнее время, – корпус покрылся густым слоем мелкого песка, из-под которого, несмотря на копоть, проглядывали ржавые проплешины.
Как попал сюда танк, никто из жителей не знал. Только выглянув из своих глинобитных нор наружу после оглушительного взрыва, они увидели высокое коптящее пламя и разбегающихся в разные стороны людей в чёрной одежде.
После этих людей они больше не встречали.
Теперь возле танка под скопищем больших зелёных мух лежали несколько моджахедов с развороченными внутренностями. Прицельная работа уже советского гранатомётчика из погибшего здесь взвода.
Магога, посмотрев на трупы, пустил несколько очередей в сторону кишлака, то ли для острастки, то ли для того, чтобы объявить оставшимся в живых однополчанам о своём присутствии.
Но после дробного частокола выстрелов стало ещё тише, только тщедушная скотина, больше похожая на большую поджарую и рыжую собаку, видимо, привыкшая к подобным звукам, коротко мыкнула, продолжая перебирать губами шуршащие бумажные клочья.
Гога тоже, вскинув одной рукой автомат, другой, придерживая пленника, пустил в сторону арчи очередь и тут же оборвал её, увидев на дереве своего лейтенанта.
– Толян, смотри, что сделали с командиром, сволочи! – Гога указал стволом на арчу.
– Ах, волки позорные! – переходя на язык уличной городской братвы, проскрипел его грозный товарищ, полоснув глазами связанного пленника. – Распутай этой сволочи руки, мы его рядом на телефонном проводе вздёрнем!
Афганец, почувствовав непонятную для себя угрозу, только оскалил мелкие, по-кошачьи острые белые зубы, закурлыкав горлом непонятные и чуждые русскому уху словосочетания.
Гога молча распутал длинный в пластиковом покрытии гибкий и скользкий провод, деловито обрезал ножом один конец и передал другу:
– Не погань арчу! Ему танковый ствол впору будет!
Другим концом он умело стягивал обречённому выше колен ноги.
Магога, не выпуская из рук автомата, ловко взобрался на броню, потрогал для уверенности массивную свёрнутую набекрень башню, которую можно было и не трогать: башню заклинило намертво. Толстостенная литая труба орудийного ствола в прочности сомнений не вызывала и могла выдержать не одну тонну.
Магога закинул за спину автомат, посмотрел ещё раз на искромсанного ножами лейтенанта, сложил вдвое провод, захлестнул петлю и стал прилаживать на башенный ствол так ловко, что можно было подумать – он занимался этим по жизни всегда.
– Ну, молись своему Акбару, гад! – Магога спрыгнул на землю.
Суть всех приготовлений советского солдата сразу же дошла до пленника.
Он дико закричал, закружился на месте, пытаясь перекусить на руках вены. Но в молодом теле вены были столь прочны, что выскальзывали от укусов, оставляя на руках только надорванную зубами кожу. Глаза его от отчаяния стали выкатываться из орбит, и жёлтая пена запузырилась на окровавленных губах. Афганец снова и снова рвал на руках кожу, переходя с крика на звериное рычанье.
Умерщвление через повешенье по законам Шариата считается самой страшной и позорной казнью для мусульманина. По исламу душа каждого человека живёт в его крови, и если кровь не пролита, значит, душа не может выйти из теснины правоверного тела и предстать перед Аллахом для покаяния и суда, тогда душа обречена вечно находиться в заточении и мраке ада.
Потому повешенье применяется в исключительных случаях даже для неверных, а единоверцам, приговорённым к смерти, всегда перерезают горло, выпуская вместе с кровью и душу.
10
Гога, стоявший позади обречённого воина Аллаха, сжалившись над ним, резким ударом приклада в шейные позвонки возле основания черепа, переломив их, полностью парализовал конечности. Крики и рычанье мгновенно пресеклось, и афганец обвисшим мешком свалился на землю, и только жёлтая пена продолжала пузыриться и пузыриться в последнем оскале.
– Зря ты его вырубил! Пусть бы поплясал на шнуре. А теперь что с ним делать?
– Как, что? Шея-то у него цела. Пусть покачается на башне для острастки. Давай его в петлю сунем.
– Давай!
Обвисшее тело с мотающейся в разные стороны головой никак не хотело лезть в петлю.
Снова бросив тело на землю, Магога кошкой вспрыгнул на башню, распутал провод и кинул Гоге:
– Затяни петлю на шее, а другой конец давай мне!
Гога быстро, в два раза, прихватив заодно и вздёрнутую броду афганца, затянул петлю, а другой конец передал товарищу.
Магога перекинул провод через башенный ствол и, обмотав проводом свою кисть руки, другой, так же схватившись за провод, повис на нём контргрузом.
Весил Магога килограммов под восемьдесят, и потому щуплый и теперь уже совсем не страшный душман, «дух», оторвавшись от земли, тут же размашисто закачался на короткой трубчатой консоли ствола.
Закрепив провод за остатки трансмиссии танка, Магога для верности подёргал висельника за ноги, обутые в американские кроссовки, но тот не подавал никаких признаков состояния агонии. Гога основательно перешиб ему шейные позвонки, обеспечив тем самым полный паралич конечностей.
Наверное, правоверный уже предстал перед своим Богом, и теперь отчитывается за земные дела, поправляя ошейник из кручёного медного провода советского производства.
11
Любое дело требует завершения. Магога оглянулся по сторонам, неожиданно вспомнив, что их миссия в кишлаке окончена, и надо срочно что-то предпринимать, чтобы выбраться из этого гиблого места, где смерть стоит на часах бдительно и неотступно.
Низкие приземистые саманные дома без окон на улицу похожи скорее на норы каких-то необычных гигантских насекомых, чем на человеческие жилища. Пустая улица уходила в горную расщелину, откуда можно ожидать в любую минуту нападения. Но тишина и мерное шуршание на ветру сухой безжизненной на первый взгляд растительности, больше похожей на оборванные мотки колючей проволоки, говорили о том, что кишлак опустошён и мёртв, и надо каким-то образом этим двум ангелам войны добираться до расположения родной части.
– Витька бросать, что ли? – указал тот, которого звали Гогой, на распятого лейтенанта, в обрывках кожи которого уже возились, высасывая молодую сладкую плоть, большие зелёные мухи, источая невыносимый запах разложения.
Лейтенанта за его молодость и мальчишеские повадки солдаты называли за глаза Витьком, и часто устраивали ему всяческие не всегда безобидные «приколы», а потом веселились над его оплошностью.
Лейтенант же в подчинённых видел не только исполнителей приказов, но и боевых товарищей. Над шутками не обижался, но и сам мог подвести какого-нибудь неумеху и ротозея под смешки его товарищей.
Солдаты любили командира, и теперь эти двое, по счастливой случайности уцелевшие в живых, никак не могли оставить своего «Витька» здесь до того, как сюда прибудут те, кому это положено.
Телефонным проводом связь с расположением части не установишь, а ждать вертолёт небезопасно. Двух солдат просто так, из-за чувства национальной солидарности, здесь мог пристрелить из-за угла любой востроглазый афганёнок. Они на это дело большие мастаки. Автомат для местных мальчишек являлся самой привычной и необходимой вещью ещё с пелёнок, и если какой мальчишка стрелял, то промахивался редко.
Чтобы не попасть под такой шальной выстрел, бойцам надо срочно покидать этот мрачный кишлак, да только на чём? Сотню километров по чужой стране в такую жару не протопаешь, а уходить отсюда надо.
– Витька бросать, что ли? – повторил Гога, показывая на рогатившийся никелем руля возле одного дувала мотоцикл советского производства с коляской.
Это был старый «ИЖ», приспособленный предприимчивым, как большинство азиатов, торговцем для перевозки товаров.
Магога направился туда, поводя Калашниковым в разные стороны, чтобы опередить нападение. Но улица молчала, затаённая в своей ненависти к чужеземцам, хотя те оказались здесь вовсе не по собственной воле, а по воле политической необходимости, хотя и сомнительной. Долг солдата – упасть и не встать, чтобы на его крови был построен новый скотный двор. Новый курятник со своим установившимся порядком: кто выше сидит, тот и гадит на головы тех, кто ниже.
Немного повозившись возле мотоцикла, Магога закоротил напрямую замок зажигания и дёрнул ногой кик-стартер. Мотор зачихал, задымил голубой гарью, и снова заглох.
Откуда-то из норы в тяжёлой саманной стене стали выползать на улицу люди. Видимо, тарахтенье мотоцикла заинтересовало их, и любопытство пересилило страх.
Наверное, это были члены одной семьи – старик седой, с узкой клочковатой бородой в длинной белой рубахе, несколько женщин, закутанных в тряпьё, и пара вёртких пацанов.
Люди стояли поодаль, не решаясь подойти поближе.
Мотоцикл, по всей видимости, был их приобретением. Они что-то говорили между собой, не обращаясь напрямую к солдату, который так бесцеремонно распоряжается их имуществом.
Гога, чтобы поддержать товарища, тоже направился к мотоциклу.
Вдвоём они, не обращая внимания на появившихся людей, выкатили мотоцикл на середину дороги, пробежали с ним метра два-три, и он снова взревел двумя никелированными трубами.
12
Солдаты остановились возле арчи.
– Эх, Витёк-Витёк! – приговаривали они, снимая с дерева своего командира, которому так не повезло в его короткой жизни.
Афганцы, мужчины, в любую погоду часто носят с собой, обычно на плече, свёрнутое байковое одеяло. Оно служит и молитвенным ковриком для намаза, и верхней одеждой, и крышей над головой, если ночь застала в дороге, и скатертью при скудных трапезах. Короче, вещь на все случаи жизни.
Бойцы вытащили из-под одного такого правоверного – который теперь без лишних земных посредников встречается с Богом и молельный коврик ему уже не нужен, тем более не нужны ни крыша, ни скатерть для трапезы – добротное одеяло, да не из бумазейной байки, а из настоящей верблюжьей шерсти.
Удачно словивший советскую пулю, наверное, был командиром, и вместо знаков отличия в полевых условиях носил полагающееся ему по чину одеяло из лучшей ткани. Ведь носили же советские генералы лампасы на брюках и барашковую папаху на высокой голове…
Вот и пригодилось советскому лейтенанту это самое одеяло для прикрытия страшной кровавой наготы своей и последних безобразий смерти …
Его спеленали неумелые мужские руки, но спеленали так, как пеленают русские женщины своих младенцев.
Завёрнутого в шерстяной кокон лейтенанта уложили в мотоциклетную люльку.
В люльке до половины её объёма находилась россыпь золотых пахучих шаров. Апельсинов было столько, что ноги командира в люльке не помещались, и Гога, черпая пригоршнями сочные оранжевые кругляши, насыпал возле мотоцикла целую горку. Почти как у художника Верещагина. Но эта горка была больше похожа на апофеоз мира, апофеоз щедрости мира.
То ли заинтересовавшись происходящим, то ли с намерением что-то сказать, семья во главе со стариком в белой бабьей рубахе, осторожно переступая, словно под ногами рассыпано битое стекло, двинулась к тому месту, где возились непонятные солдаты, где недавно сытно пообедала война, на заедки проглотив и осквернённого неподобающей смертью правоверного, теперь висевшего подмоченной тряпкой на высоком орудийном стволе.
Боясь подойти ближе, процессия остановилась метров за десять от арчи.
Старик, оглаживая бороду ладонями, как перед намазом, стал что-то горячо говорить, жестикулировать руками, прикладывать их к сердцу, поворачивался к домочадцам, снова хватался за сердце, складывал ладони крест-на-крест, и, разъединив, вздымал к небу, как алчущий Бога библейский пророк.
Гога, наклонившись, поднял с земли один из кругляшей и, подкинув в ладони, кинул деду. Тот ловко, по-молодому, поймал оранжевый шарик и передал рядом стоящему мальчику. Мальчик, тут же обливаясь соком, впился зубами в податливую мякоть.
Дети не понимают происходящего, но тонко, на уровне инстинкта, чувствуют напряжение, разлитое в окружающем пространстве. Наверное, поэтому мальчик и стал показывать всем своим видом, как ему нравится апельсин, подаренный чужим страшным дядей.
Гога кинул ещё один апельсин, старик снова поймал его и передал то ли девочке, то ли маленькой женщине закутанной в чёрную мелкоячеистую сеть из-под которой виднелись только одни узкие кисти рук.
Гога кидал и кидал апельсины. Старик ловил их, благодарно улыбался узким щербатым ртом и передавал фрукты кому-нибудь из стоящих рядом.
Но вот, резко повернувшись, Гога сказал что-то быстро своему другу, выхватил из нагрудной опояски чёрный ребристый кругляш чуть поболее оранжевых:
– Лови! Оп-па! – и кинул согнутому в уважительном поклоне аксакалу, который, тут же выпрямившись, изготовился поймать.
Мотоцикл взревел, буксанул задним колесом, выбрасывая из-под себя мелкие камешки, и рванул вниз по склону – прочь из проклятого кишлака, где полегли их товарищи, не дожив до первой настоящей любви.
За спиной, сквозь свист ветра в ушах и тарахтенья мотора сухо громыхнуло – так иногда в солнечный день громыхнёт на безоблачном небе, и ни одной дождевой капли, только оглушительная тишина.
Дороги в Афганистане вымощены самой природой, а природа, как известно, слепа. Под колёса мотоцикла попадали, кажется, самые крупные камни, и люльку подбрасывало так, что находившийся в ней лейтенант всё норовил выскочить на дорогу, и Гоге приходилось одной рукой попридерживать страшный в своей сути мешковатый шерстяной куль.
Каждая дорога в мире где-нибудь да кончается.
Ехали быстро, но долго.
Гнали мотоцикл на всех газах, боясь нарваться на автоматный ливень из засады, или на одиночный выстрел охотника с гранатомётом. Но дорога по обе стороны была просторной и открытой со всех сторон, так что спрятаться в секрете невозможно никакому бородачу.
13
Ехали быстро и влетели в самый что ни на есть тупик.
Военный аэродром и расположенный здесь же, обочь лётного поля, палаточный городок советской части охранялся в два эшелона – по внешнему периметру охрана велась Народной Армией Афганистана, внутренняя же охрана осуществлялась собственными силами десантного полка, в котором и служили два товарища с библейскими прозвищами – Гога и Магога.
Над блокпостом, сооружённым из массивных бетонных брусьев, подбитым крылом, пытаясь отмахнуть от себя сущее пространство, трепыхался чёрно-красно-зелёный государственный флаг Афганистана.
Въезд на охраняемую территорию преграждал сваренный из труб полосатый шлагбаум, за которым перепоясывала дорогу широкая транспортёрная лента, унизанная стальными шипами-заточками, что говорило о строгом пропускном режиме.
Магога чуть не сбил рулевой колонкой кинувшемуся ему навстречу солдата дружеской армии с лицом тёмным, как голенище кирзового сапога, и раскрытыми – то ли для братских объятий, то ли загораживая дорогу – руками.
Двое других, видя на мотоцикле советских бойцов, продолжали стоять за шлагбаумом, спокойно лузгая то ли семечки, то ли калёные на огне земляные орешки арахиса.
– Парол! – крикнул тот, с тёмным лицом и распахнутыми руками труднопроизносимое слово.
– Сим-Сим, твою мать! – злобно оскалясь, соскочил с заднего сидения Гога и сдёрнул шерстяное, в крупную жёлтую клетку одеяло с лица своего командира, лейтенанта советских десантных войск, Витька, мальчишку с тамбовской рабочей окраины.
Охранники, бросив грызть орешки, с любопытством окружили коляску, и заталдыкав о чём-то между собой, засмеялись.
Но смех быстро оборвался.
Огненная метёлка, выскочившая из ствола у Магоги, разом подмела этих смехачей в одну кучу.
Они, наверное, и до сих пор смеются перед престолом Аллаха…
Караульная рота под командованием всё того же Холдыбека, на автоматные очереди поднятая по тревоге, зафиксировала нападение на блокпост охраны аэродрома душманской банды. Банда была отброшена и рассеяна, унося своих погибших и раненых единоверцев в им одним ведомые щели и закоулки.
Вернувшиеся с боевого задания Гога с Магогой были награждены боевыми орденами и ценными подарками за героизм, проявленный при защите мирных дехкан того кишлака, на который сделала нападение зверская орда обкуренных гашишем мародёров.
14
Служить бы ребятам ещё, как медным котелкам, разбивать бы им подошвы солдатских сапог, обучаясь строевому шагу на бетонных плацах военных городков, как их погодки в благословенном тогдашнем Союзе. Да война эта проклятая забрала тело и душу, и воевали они, скобля подошвами, каменистые кручи Гиндукуша, и вычёсывали из чахлой растительности врагов афганского народа, который народ сам не в состоянии постичь – где друг-кунак, а где – шайтан-вражина.
А на войне, как на войне!
И стали забывать командиры о строевой подготовке, и железо воинского устава свободно процеживалось сквозь обожжённые пороховой гарью пальцы.
Даже у майора по кличке «Халдыбек», который после строевого смотра высокого начальства из Москвы сразу стал капитаном, строгий строевой устав тоже, слава Богу, превращался в пластилин, из которого можно слепить всё, что подсказывала боевая обстановка. Штабное начальство далеко, а смерть – вот она, только подними голову!
Горные дороги и тропы извилисты и обманчивы – идёшь вперёд, а оказываешься позади того места, откуда вышел.
Вроде отфильтровали горную гряду, зачистили, кого могли, отшлифовали подошвами кручу, карабкаясь наподобие козлов-архаров по каменьям, и ничего приметного не заметили.
Спускаясь в долину, расслабились. Да невзначай попали в засаду. Хлещут со всех сторон свинцовые струи, а откуда – сразу и не поймёшь.
Хитёр бывший майор Халдыбек, а полевой командир, тот самый – Саббах Мухамеддинов, хитрее и коварнее: – «Аллах Акбар!». Велик Аллах. Велик гнев его…
Рассыпались интернационалисты во главе с Халдыбеком горохом по ущелью, кто ещё на ногах держался. Залегли – как упали. А где упали, там уже не встать…
Гога, отбросив бесполезный Калашников, резко перевернулся на спину; в нём взбунтовалась мускулистая жажда жизни – всаживать и всаживать до скончания веков свинцовые окатыши в кричащие злые морды, бегущие со всех сторон без конца и без края. Вот они уже совсем рядом, чумазые и бородатые, с жёлтыми оскалами зубов.
Последняя… Заветная захоронка… Дорогая, как девичий локон, зашитый у самого сердца в нагрудном кармане гимнастёрки… Вот она, та, которая – на всякий случай… Ребристые бока её хранят тепло молодого тела. Кольцо от себя!.. Прости меня, мама!
Николая Рогова со школьных лет кликали – Гога! Трудно давалась Коле раскатистое «ррр». Вот и называл он всегда свою фамилию вместо «Рогов» никому непонятным – Гогов. Ну, раз ты – Гогов, то кличка «Гога» будет тебе в самый раз. Изволь принимать и не обижайся! Николай Рогов и не обижался. Сам умел припечатывать клички, как штемпеля в паспорте – не отскребёшь…
Разбросало Гогу вперемежку с чумазыми и бородатыми ошмётками по камням, и душа его, освободившись из грудной клетки, унеслась в свободном парении к горнему престолу, туда, где оставлено место для каждого христианина…
Стылым безрадостным утром в морозном Красноярске опрокинется мать навзничь, забьётся, заплещется на полу белорыбицей, и никто не сможет утереть слезы её, кроме Господней ладони… «Твори, Бог, волю свою!»
Анатолий Магнолин, детдомовец и пэтэушник до службы в армии никакой клички не имевший – то ли собратья обидное прозвище ему боялись давать, с опаской поглядывая на его увесистые кулаки, то ли никакие прозвища не хотели к Магнолину лепиться.
Вообще-то у него была кличка на всё время – Магнолин, которая теперь служила фамилией. Завёрнутого в шёлковую косыночку младенца обнаружила сердобольная нянечка под развесистой магнолией в детском интернате. Вот воспитатели и записали его – чей? – Магнолин! Чей же ещё? И дали имя по святцам – Анатолий.
В Армию Толя Магнолин ушёл сразу после выпуска из Краснодарского ПТУ, где учился на монтажника стальных конструкций, в дальнейшем – верхолаза. Все монтажники стальных конструкций выше четвёртого разряда – верхолазы, а Магнолин пока имел только третий разряд. Но мог бы иметь и пятый, и шестой, и даже выучиться на мастера, если бы не Саббах Мухамеддинов, полевой командир пуштунского ополчения, перехитривший его командира, разжалованного до капитана майора Халдыбека.
В армии кличка «Магога» пристала к рядовому Магнолину только благодаря тесной дружбе с Гогой, рядовым Николаем Роговым. Да так прикипела эта библейская кличка, что её не отодрать, как запёкшуюся кровью солдатскую гимнастёрку с рваной раны…
Крепкие нервы у Анатолия Магнолина: расстреляв последний магазин патронов, он, примкнув к автомату штык-нож, пошёл на ревущих моджахедов в рукопашную, но один из бородачей воровским приёмом сзади полоснул отчаянного солдата кривым азиатским ножом по горлу, выпустив его душу вместе с кровавой пеной наружу.
Последнее, что видел Магога в этом мире – позор своего командира, который с поднятыми руками встал из-за освещённого закатным солнцем лысого валуна. «Эх, Холдыбек ты, Холдыбек!» – только и подумал он, как горло невыносимо обожгло крутым кипятком и всё померкло.
Душа Магоги и до сих пор парит над Гиндукушем в ожидании омовения горючими слезами. Но кто оплачет в этом мире сиротскую душу рядового Анатолия Магнолина? Так и кружит русская душа вместе с горными орлами в горячем небе Афганистана.
Эпилог
Офицер Советской Армии с крестьянской фамилией Земцов, ныне инструктор диверсионного взрывного дела в отряде Саббаха Мухамеддинова за свои знания имел нескрываемое уважение самого Саббаха, таджика по национальности и пуштуна по коварности и жестокости.
С кадрами грамотных бойцов в отряде Мухамеддинова было так просторно, что бывший враг всегда мог пригодиться для святого дела борьбы с умными шурави их же оружием.
Саббах знал: хорошо готовят в советских военных академиях, так хорошо, что один из его бойцов, попытавшийся перерезать в запале горло пленённому офицеру, получил удар в зубы от самого Мухамеддинова.
Холдыбек организовал обучение по всем правилам военного искусства, с выходом на полевые практические занятия.
И вот однажды, при получении боеприпасов для сдачи экзамена на подрывника, Холдыбек сам распоряжался, какой вид взрывчатки полагается тому или другому боевику.
В это время в складском помещении находилось около сотня «курсантов», и даже сам Саббах, окружённый всяческими почестями подчинённых, вальяжно пил горячий шербет, развалясь на персидском диване, принесённом сюда специально для него нукерами.
Самое время и место для подрыва. Другого такого случая может и не быть.
Как удалось бывшему майору Советской Армии, теперь инструктору у самого Мухамеддинова, вместе с отрядом головорезов взорвать себя и склад с боеприпасами, ныне никто не узнает. То дела минувших дней, и загадок у новой России появилось больше, чем могло бы быть ответов, поэтому и мучается душа русского героя-офицера и не находит себе покоя.
Мой генерал
Стояло невыносимо жаркое лето.
На праздник родного села из нашего большого счастливого выпуска 1957 года трёх десятых классов были приглашены, как самые достойные сыны Бондарей, только двое: я и мой давний школьный товарищ и приятель по детским играм – Юра Карев по прозвищу «Таня».
Вот так мы все звали его в то весёлое время: Таня да Таня!
На эту позорную женскую кличку он охотно отзывался, хотя в мальчишеской душе такое прозвище, вероятно, лежало тяжёлым камнем, но что поделаешь? Зовут, значит надо откликаться, а то ещё чего-нибудь похлеще прилепят ватажные ребята. Послевоенная улица, куда денешься?
У Юры были две матери: мама Таня и мама Клава; так, по крайней мере, он называл двух ещё совсем нестарых женщин-сестёр военного лихого времени.
Как объявился у двух незамужних женщин сей отпрыск – неизвестно. Тогда забеременеть под чужим глазом незамужней было позорно, но всё равно ухитрялись ловить случай и, затянувши потуже живот, управлялись бедолаги, как могли. Под широкими юбками разве уследит любопытный глаз?
Озабоченные своими тяготами и лишениями соседи особенно и не интересовались, кто же из них двоих принёс младенца. Ну, растёт малый и растёт, что ж тут такого? А что мамкает с ними обеими, так часто в людских семьях бывает: кто по головке гладит, и сопли подолом утирает – тот и мамка!..
Сёстры жили в нашем районном селе вместе, в одном домике из сырого ветхого кирпича, построенного ещё до революции из отходов местного кирпичного завода: печь его вечно дымила, окна слезились влагой и летом и зимой, но зато стены были метровой толщины и, судя по всему, насыпные.
Летом в доме было холодно, как в леднике, зато зимой угарно и душно.
Сына двум счастливым женщинам сделал невзначай, в спешке, один командировочный комиссар, прибывший в Бондари за продовольственным пополнением для Тамбовского военного гарнизона кавалеристов.
Казармы этого гарнизона и до сих пор помнят разгульных казачков со звякающими блестящими шпорами на высоких щеголеватых каблуках.
После войны школу кавалеристов расформировали, и на твёрдой базе готовых казарм и оставшегося военного имущества было организованно финансовое училище для славного министерства обороны.
Училище это, готовившее военных счетоводов, у выпускников нашей школы, даже тогда, когда слово «офицер» сразу, как плотиной, перехватывало дыхание у местных невест, особым успехом не пользовалось – нет романтики! Да и погоны невыразительные, общевойсковые. Кислятина, одним словом, и вечная скука над погремушками счётов, засиженными мухами! Но даже туда поступить было, как теперь говорят, нереально – конкурс тоже зашкаливал.
В Тамбове ещё были: пехотное училище – для самых выносливых бегунов, училище связи – для любителей физики, артиллерийское училище – для математиков, и совсем уж для лентяев и особо отчаянных – училище лётчиков.
Все названные училища были среднетехнические, и только училище лётчиков – высшее. Вот где романтика! Вот где девичьи слёзы любви и восторга! Вот где мужская похвальба и гордость! Золотые птички на голубой тулье фуражки, крылышки на погонах…
Э, да что там говорить! В мечтах, как в соплях, запутаешься, и уснёшь на печке уже осчастливленный.
Это всё от книжек. Начитался до боли в глазах перед керосиновой коптюшкой «Двух капитанов» и заказал себе на будущее быть не абы кем, а лётчиком. Иначе – застрелюсь или брошусь под поезд.
Правда, мимо нашего села никакие поезда не ходили, а стреляться из самодельного поджигача вряд ли будет успешно.
Но, тем не менее, все мои устремления были направлены только на это: если пролечу с поступлением – всё! Кранты!
Я рос в многодетной семье оторвой и уличным человеком, а мой товарищ Юра Карев, по обидному прозвищу «Таня», вырастал один под пристальным вниманием двух женщин.
Всегда опрятный, чистый, пусть и в ветхой, но до подбородка застёгнутой одежонке, он вызывал у нас непристойные презрительные восклицания и насмешки: баба она и есть – баба. «Таня», одним словом…
Если он ходил на речку, которую можно переплыть одним взмахом, его «мамки» сидели на бережку и боязливо ойкали, когда тот подныривал под бережок за ракушками.
Иногда Юра сидел с удочкой на пескариков, тогда его «мамки» усаживались молча рядом и тоже сторожили поклёвку.
Однажды ему удалось поймать небольшого, в ладонь, окунька – вот было восторгов! Его осчастливленные «мамки» с гордостью показывали соседям «рыбацкую удачу» своего отпрыска, что тоже не прибавляло нашего уважения к нему.
Надо признаться, малый он был невредный, хотя и не очень общительный. Там, где надо дать по морде за дразниловку, он только грустно покашливал в нормальный крепкий кулак и отворачивался в сторону. За это его иногда брали с собой в поход на тощие бондарские сады или в игры, не всегда безобидные.
Я с ним близко сошёлся в четвёртом или пятом классе после драки, которую «на интерес» спровоцировали старшие ребята.
Юра дрался со мной мужественно и честно. Он был на голову выше и мог бы запросто сбить меня с ног. Но у меня имелось преимущество: я хорошо работал головой, а на голове у меня сидела лёгкая вечная кожаная на байковой подкладке шапочка для бойцов-десантников, которую мне подарил вернувшийся с войны дядя по матери.
Шапчонку эту я не снимал ни зимой, ни летом. Ловкая хорошая шапка с прострочкой пропеллеров на макушке и кармашками с заклёпками на ушах для телефона.
Ребята обязали нас драться до первой крови, и мы сошлись.
Ставили больше на меня, но от этого мне легче не было.
Как-то извернувшись из его цепких рук, я поднырнул и, резко подпрыгнув, ударил головой ему в лицо. Кровь тут же стала густо капать на снег и драка прекратилась.
Если бы схватка продолжилась, мне бы несдобровать.
«Таня» был крепче и сильнее меня, но в полной мере свою силу не использовал, и мне стало перед ним стыдно. Набрав из-под корочки сугроба в горсть чистого снега, я услужливо подал ему, чтобы остановить кровь, и он кивнул мне: мол, не боись – уговор дороже денег.
Жил он от меня наискосок на одной улице, и встречались мы с ним почти каждый день.
Как-то он позвал меня к себе домой и, расстелив на столе «Пионерскую Правду», показал детальный чертёж летающей модели винтового самолёта. В газете всё было описано подробно: и технология изготовления – что и как делать, и про стабилизатор полёта, и про резиновый моторчик с пропеллером, про элероны и лонжероны, и руль высоты.
Одним словом, настоящий самолёт – оседлай и лети верхом на все четыре стороны! У меня даже дыхание перехватило. Вот бы нам такой сделать и улететь!
Посчитав размеры, мы убедились, что прокатится на нём невозможно, а вот если ночью подвесить к нему электрический фонарик да запустить… Все Бондари от страха окна и двери, крестясь, позакрывают. Подумают, что змей огненный добычу промышляет.
Тогда ходили ужасные слухи, что к одиноким послевоенным бабам по ночам пропавшие на войне мужья прилетают. Только это и не мужья вовсе, а огненный змей из преисподней тоску носит, чтобы горемычную какую за собой унести.
Так бабки рекли: «Свят! Свят! Свят!» – и щепоткой, вроде как из солонки, чтобы чего не было, мелко посыпали себя. Война хоть и давняя уже, более десятка лет как прошла, а вот она, рядом, под самым сердцем…
Во, мы устроим в Бондарях страх и ужас!
Юра тоже в азарте потирал руки:
– Давай на нашей улице запустим! Припугнём этих суеверных старух, чтобы языками не стращали!
Сказано – сделано!
– Давай!
И мы принялись за работу, хотя кроме перочинного ножика у нас из инструментов ничего не было.
Перво-наперво надо изготовить полутораметровую рейку квадратного сечения 10х10мм, на которую будут крепиться все остальные детали: мотор, пропеллер, крылья, стабилизатор – всё, что полагается настоящему самолёту. Рейка – это основа, фюзеляж. От неё надо плясать.
Мой отец как раз в это время прикупил несколько тесин, чтобы украсить дом резными ставнями.
– Ничего, – говорил батя, укладывая тесины на просушку, – я при НЭПе на Белом море шхеры с ребятами строил для рыбаков, а дом наличниками украшу, как Бог черепаху! – И пьяненько смеялся. Это у него такая присказка была – «как Бог черепаху».
Мой батя был с бо-оль-шим юмором человек! Даже когда собирался драть меня за что-нибудь, то, хватаясь за ремень, приговаривал:
– Изуродую тебя, мошенник, как Бог черепаху!
Правда, его угрозы мало способствовали моему послушанию. Например, надо огород прополоть, от сорняков избавить (Что зимой будешь есть, сукин сын!), а меня в это время, как на грех, друзья купаться зовут. Это какое же надо мужество иметь, чтобы устоять?
Ушёл на реку, значит, весь день – свободный!
Пока отца не было дома, я быстренько отчекрыжил ножовкой половину доски и отнёс к товарищу во двор.
Потом отец, когда на ветерке перебирал тесины, всё в раздумье чесал голову, соображая, как же это он вместо целой доски взял половинку?
– Вот мошенники, пили вместе, а меня обмикитили! Может, ты, стервец, отпилил?
– Очень мне нужно!
– Вот теперь ещё искать доску! У меня же всё рассчитано!
– Может, хватит? – вставлял я.
– Я вот щас тебя так хвачу, что сразу умнее будешь…
Я от греха подальше смылся на улицу.
Изладили, извертели тесину – ничего не выходит. Топором кололи – щепа одна. Много щепы, а рейки не получилось.
Прихожу домой, отец с рубанком и долотом возится, всё выпиливает, выстругивает голубков разных на наличники, кружева вяжет. В ногах у него обрези, стружка. Смотрю в стружках узкий продольный краешек тесины, по толщине как раз на рейку хватит.
Поднял обрезок. Кручу в руках.
– Ты чего? – отец занят. Чертит, рисует, строгает.
– Да вот на дротик пойдёт. Играть буду. Можно?
– Можно, можно, только осторожно! – батя доволен. Доску у соседа в долг выпросил. Теперь, небось, хватит…
Я к товарищу:
– Достал! Смотри какая!
Обстругали ножом по размеру. Зачистили наждачной бумагой, которую я потихоньку взял дома. Вот теперь в самый раз!
Подошёл для интереса малый лет пятнадцати, эдакий бондарский известный лоботряс и второгодник Мишка Квакин:
– Чего гондобите, салаги?
– Самолёт! – ответили оба сразу.
– Са-мо-лёт? Ну-ка, ну-ка! – протянул длинную руку Квакин и, подняв рейку над головой, размахнувшись, выпустил из рук.
Рейка тупо шлёпнулась прямо в свежую коровью лепёшку: как раз только что пригнали с пастбища деревенское стадо.
– Самолёт, а не летает? – загыгыкал Квакин, и, потеряв к нам интерес, пошёл по своим делам, наступив ногой на стержневую деталь самолёта, над которой мы целый день трудились до кровяных мозолей.
– Вот гад! – сказал я.
– Да, нехороший человек этот Квакин! – мой удручённый товарищ поднял обломки и вертел их в руках, соображая, как это всё можно склеить, восстановить.
Я говорю:
– Ничего не получится! Давай весь самолёт уменьшим в два раза!
Мы уже проходили в школе масштабные величины, и чтобы применить обломок рейки, я предложил уменьшить на чертеже все детали ровно в два раза.
– Полетит! Точно полетит! – поднял я другой обломок.
– Должна…
Пришлось равнять концы и вымерять длину.
Теперь будущий фюзеляж самолёта стал вдвое короче. Ничего, полетит! В масштабе всё-таки…
Крылья, стабилизатор, руль высоты и лонжероны к ним мы решили, за неимением бамбука, сделать из сухого тростника и гибких лозинок, предварительно выгнув и закрепив нитками по лекалам, как на чертеже. Пропеллер и резину на мотор решили достать позже, когда испытаем модель в планерном полёте. Так было написано в газете.
Ну, кажется всё! Столько затратили труда и выдержки, что самолёт должен непременно полететь.
Лето, которое мы затратили на изготовление модели самолёта, подходило к концу. Скоро в школу. Подарим в Красный Уголок, как экспонат «Сделай сам». А у нас ещё и клей на узлах никак не хочет сохнуть, и папиросной бумаги на оклейку оперения пока нет.
Ну, ничего, это потом!
И вот стоит он, наш красавец, весь опутанный для фиксации соединений нитками на самом солнцепёке. Сушится. Мы счастливы безмерно. Радуемся. Даже плясать начали.
Рядом в пыли и остатках навоза возится огненно-красный петух, перекатывая в горле горошину, скликает к себе за жемчужным зерном безразличную хохлатку.
Вероятно, вскипев гневом, петух, резко хлопнув крыльями, коротко взлетел, и, запутавшись в наших шпангоутах и такелаже, с паническим криком потащил на шпорах почти готовый к пробному полёту самолёт, размочалив его до основания.
Наша крылатая мечта уже почти перед самым взлётом превратилась в щепу, в ничто.
Позже, гораздо позже я убедился, что когда страдаешь невыносимым желанием чего-нибудь получить, это «чего-нибудь» не случается. Закон подлости царит в мире…
Я запустил обломком кирпича в орущую тварь, и точно попал в цель: красавец сразу опрокинулся на спину, заскрёб железом крыльев сухую землю и засучил спутанными паутиной ниток проволочными, в острых шипах, ногами.
На шум выскочила на крыльцо соседка, баба Шура. И, увидев своего огненного куриного ухажёра в печальном положении, начала кричать и материться, что она нам головы оторвёт, если что с петухом случится.
Военные вдовы ругались почти по-мужски, так нас это нисколько не удивляло, а вот за свои головы стоило бояться, и мы убежали под защиту мамок моего товарища.
– Я её подожгу! – сказал я необдуманно.
– Ты что?! – испугался Юра. – Она же рядом живёт, и мы сгорим.
– Не сгорите, – говорю утвердительно, – у вас дом каменный!
– А крыша из соломы! Сгорим, как миленькие!
– Ну, ладно, поджигать не буду! А кочета точно убью, если он сам не окочурится.
Плакать бы нам и выть щенками от безысходной обиды за сломанную мечту, если бы не этот скандал с бабой Шурой.
У неё был праздничная куриная лапша, а у нас, по крайней мере, у меня дома, был допрос с пристрастием: зачем я убил «Шуркиного» кочета? Уши горели…
После этого случая мы как-то разошлись по интересам.
У меня появились другие друзья и забавы. А «Таня» уединился сам в себе. Хотя мы и встречались на улице и в школе, но разговор о нашем самолёте, так и не увидевшим небо, как-то уже не заходил.
Конец школьных лет, как кризис капитализма, подошёл незаметно и сразу. Вот итог, а вот порог! Порог один, а итоги разные. Иди, гуляй куда хочешь. А куда хочешь – там нас не ждали…
В те годы конкурс в учебные заведения был невероятный – выпускников уйма. Перед войной провидение больше заботилось о сохранении нации, а о не комфорте предстоящей жизни.
Но, «Таня», Юра Карев, свободно поступил в финансовое училище.
Нет, не забылись минутные связи бывшим комиссаром по продовольствию, который теперь служил в том же училище, хоть и не в большом чине, но при кухне.
А я в лётное училище так и не поступил. На медицинской комиссии по зрению доктор, придавив мне дощечкой один глаз, другим заставила читать в самой последней строке буквы, которые я с трудом, но угадал. А вот во втором глазе, когда дощечка отпала, мне помешали розовые круги, и я мог прочитать только третью строку сверху.
– Носи очки! – сухо сказала мне врачиха и крикнула следующего кандидата.
Не знаю, что у меня было с глазом, но очки я никогда не носил. Видел нормально.
Трагедия, конечно, была, но броситься под поезд или стреляться мне почему-то расхотелось.
В городе как раз шёл новый фильм «Высота», про монтажников-верхолазов, посмотрев который я снова воспрял духом: вот она, моя жизнь! Вот оно, небо, так близко и без лишних хлопот!
В отделе кадров меня взяли в бригаду монтажников с охотой и дали место в общежитии.
И я загулял…
В то время, когда мой бывший товарищ по детству грыз скучные цифири и осваивал строевую подготовку, я с весёлым народом учился: «плоское катать, круглое – таскать, а что не поддаётся – ломиком!». Учился сквернословить, с размаху выбивать пробку из бутылки, шерстить девок по рабочим общежитиям, и многому другому, которое мне и до сих пор мешает в жизни.
Как служил в армии Юра Карев, я не знаю. Но он купил своим мамкам новый деревянный дом, сам его обустраивал.
Как-то, будучи в Бондарях, я с удивлением увидел его с завёрнутыми штанинами, топчущего босыми ногами глину с размокшей и распаренной соломенной сечкой. На штанинах, как на казачьих брюках, алели лампасы. Я ещё пошутил, что, не генерал ли он?
– На материальном складе подобрал. Там такого добра… – и снова принялся топтать мешанину. – Вот сарайчик для кур решил оштукатурить.
Я предложил ему выпить, благо бутылка лежала тут же в пакете. Он наотрез отказался, сославшись на то, что за всю жизнь выпил только один раз, в Москве, рюмку шампанского при окончании академии. Курить он тоже не курил. И я, потомившись рядом без дела, пошёл искать более сговорчивого земляка.
Время оказалось для меня снисходительным. Несмотря на круговую молодость, мне удалось окончить технический институт, после которого я уже не «болтил гайки» и не «катал плоское», «круглое не таскал», и ломик из рук выпустил навсегда.
Работа на строительных площадках приучила меня к простоте общения, к лёгкости всевозможного приятельства и умения ценить человека, особенно ровесника, наглотавшегося в своей короткой жизни горестей и бед.
Долгие размышления в ночные часы привели меня в писательское сообщество. Я стал, к своему удивлению, членом Союза писателей СССР, сумев напечатать несколько книг стихов и прозы.
Литература была и стала для меня всем…
И вот я, по приглашению новой районной администрации, которая, наверное, где-то что-то слышала обо мне, пришёл прямо с вокзала в районный Дом Культуры, который мы раньше называли просто клубом.
Здесь, кажется, время застыло навсегда. Те же скамейки в зрительном зале, тот же скромный антураж сцены, где мне, наверное, придётся что-то говорить. Ведь зачем-то пригласили.
Народ уже на местах – и ни одного знакомого лица! Я, оглядываясь, стал выискивать, где бы присесть. Возле серьёзного в полевой форме генерала место было свободным и я, спросив разрешения, опустился рядом.
Потом меня в генерале что-то заинтересовало, и я повернулся к нему.
Господи, как мы постарели!
– «Таня», это ты?
– Ты, цыганок!
Угадал! Цыганом меня звали все школьные годы за смуглость кожи и кудреватую причёску.
Вот судьба! Шли разными дорогами, а встретились здесь.
Было видно, что генерала пригласили серьёзные люди. Генерал живёт в Москве. Большой человек! Он, наверное, и в Кремль вхож…
Порядки новые, а привычки старые. Демократы!
Меня, как потом оказалось, пригласили совсем случайно. Кто я и что я, здесь никто не знал, кроме пожилой седенькой библиотекарши, которая меня помнила ещё со школы. Работники администрации теперь, как и все «состоявшиеся» люди, книг не читают. Ценят одну книжечку – тоненькую и с крутыми записями цифр денежных знаков.
За кумачовой, ещё с прошлых времён, трибуной, бубнил председательствующий о том, как хорошо, что мы теперь все освободились от сталинских ужасов, какое благодатное время для предприимчивых людей делать деньги, и ещё что-то в этом роде.
Мы с генералом, объевшиеся такой дьявольской ложью, хлопали друг друга по плечам, обнимались, цокали языками, и не заметили, как нас пригласили на сцену.
Тяжело было стоять в родном клубе, у себя дома, где прошло всё моё нищее детство, и не увидеть ни одного знакомого лица. Горло перехватила спазма, и я, смяв продолжение стихотворения посвящённого родному селу, повернулся к генералу, сказав, что вот он ответит за меня, потому как нервы у него стальные и закалённые перестройкой.
Генерал говорил коротко и толково, посетовав на то, что вот, мол, шумит знамёнами праздник, а пригласили из дальнего времени только нас двоих…
Несмотря на кипящее солнечное марево, стол, накрытый в школьном дворике, был настолько обилен, что генерал, подхватив меня под руку, предложил сходить на речку нашу, Большой Ломовис, и там, в каком-нибудь омутке, накупаться вволю.
– Есть! – по-военному сказал я. – Приказ не обсуждается! – и мы, довольные друг другом, обнявшись, подались на порядком обмелевшую реку.
Генерал, плюхнувшись с берега, объёмистым телом только расплескал воду…
Господи! Вот оно, детство-то наше, оказывается, никуда не ушло!
Ухнув с головой на самое дно, я в блаженстве ощутил холодные подводные струи, пока ещё не затянутого илом родничка. Дыхания хватило только на выкрик: «Хорошо-то как!»
– Ты крути, крути велосипед ногами, чтобы придонную воду поднять! Парное молоко! – недовольно проворчал генерал, накручивая в воде воображаемые педали.
– Чего мучиться? Нырни! – я снова опустился на дно.
– Я бы нырнул, да закон Архимеда не позволяет, – вынырнув, услышал жалобу бывшего товарища.
– Какой? Тело, погруженное в тело, теряет гибкость?
– Да, ну тебя! Ты всегда учился плохо! – он продолжал крутить «велосипед».
Пошатавшись по селу, в сумерках мы вышли к центральной площади, где несоразмерно маленький идол воздетой рукой пытался ухватить Бога за бороду.
Но, судя по всему, это ему не удалось. Возле его подножья, усиленный в сотни раз чудо-техникой, гремел африканский барабан, в ритмах которого извивался настоящий негр, гладкий до глянца. Полуобнажённый, играя вспотевшим антрацитовым телом, он так завёл местных жадных до зрелищ юных особ, что они, выкрикивая нечленораздельные звуки, тоже веселились по-своему.
– «Каждый веселится, как хочет» – говорил чёрт, садясь голой задницей на горячую сковороду, – ухмыльнулся я, видя неистовство сельских красавиц.
– Ну, это в тебе говорит косность. Зачерствел, брат, ты душой. Вспомни, как сам кренделя пёк на школьных вечерах. А?
– Ну, не так же!
Тем временем село погрузилось в ночь.
Чёрный бархат задрапировал окружающее пространство. Ни огонька! И только гигантским кострищем горели подмостки, на которых за большие деньги, выделенные администрацией села, громыхающим поездом, летящим в тар-таррары, бесновалась чумовая эстрада с полуголыми девицами и огромным и крутым, как языческий фаллос, негром в центре.
Праздник удался.
Мы спросили у местного жителя, почему в районном центре не горит электричество.
– Подстанция маломощная! – Мужик оказался дежурным электриком. – Вот они, киловатты горят! – указал он на огнище у памятника Ленину.
– Деньги горят! – со знанием дела поправил мужика мой генерал. – Пошли! – повернулся он ко мне, махнув рукой и на девиц, и на негра. – Нах хауз! Я тебя утром приду на автовокзал проводить.
В темноте мы, матерясь и чертыхаясь, побрели каждый своей дорогой. А дороги у нас все наизнанку. Нутром наружу. То бишь – выбоины и колдобины.
Утром спозаранку я уже на вокзале. Вокзал в конце села. Пока спешил, все кочки пересчитал. Надо ещё успеть взять билет до Тамбова, а там с пересадкой на град Воронеж, где я и обосновался с недавних пор.
Вон и генерал мой, хромая, издалека приветствует меня взмахом руки. Другую руку оттягивает пластиковая большая сумка.
– Ты чего хромаешь-то? Вчера вроде как лось на танцах резвился! – пошутил я над ним.
– Тебе всё шутки, а я вчера чуть ноги не поломал. В темноте палисадник у кого-то повалил. Коленка мозжит…
– А сумка тебе зачем?
– Это не мне, это тебе сумка. Гостинчик с Бондарей. Картошка молодая. Я сегодня чуть свет у бабки Шуры, пока она спала, ведро нахерачил. Тебе вот!
Я хотел было отказаться, да подумал, что нехорошо генерала обижать. Он старался. Заботился.
– Спасибо! – говорю. – А что, бабка Шура ещё не сгорела, я её ведь поджечь обещался?
– Дурак ты! Она бабка золотая. Я у неё каждое лето квартирую. Мои-то, – он так и не назвал своих мамок, – упокоились, я дом и продал. Девяностые голы. Нужда крайняя.
– Какая у тебя нужда? Генерал! На финансах сидишь. Небось, деньгами всю квартиру обклеил.
– Да в отставке я теперь. Пилить бюджет при уральском борове отказался, вот меня и попёрли из армии. Хорошо хоть квартиру под Москвой дали. У меня шесть человек детей и четверо внуков, а всех корми – генерал! Разве на пенсию проживёшь? Домик в Бондарях продал – купил машинёнку. «Газель» называется. Бегает пока! Разные продукты по ларькам развожу. Чего смеёшься? Думаешь, генералу деньги не нужны? Я вот в полевой форме выступать пришёл. Парадную моль проела. Только ордена да медали одни нетронутыми остались. Новую купить не могу. Бери картошку! Чего ты? Всю руку оттянула!
Рядом просигналил автобус. Надо прощаться… Обнялись… Скороспешно чмокнули, ткнувшись друг друга в щетину…
– Бабке Шуре привет! – крикнул я, обернувшись в дверях. – Не говори ей, что я дом поджечь собирался!
– Ладно, не скажу! – устало махнул рукой генерал и захромал по улице.


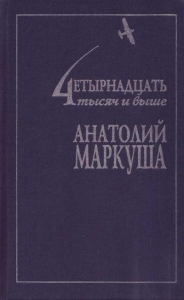
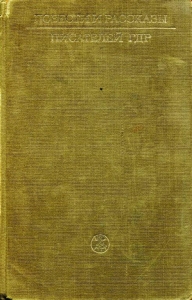
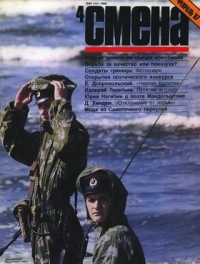
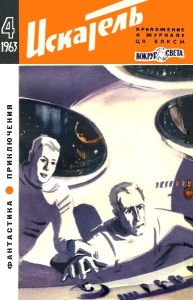




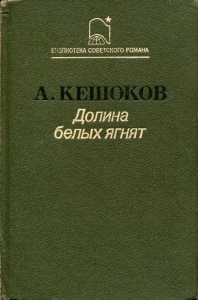


Комментарии к книге «Господин Президент, верните Ваню Найдёнова», Аркадий Васильевич Макаров
Всего 0 комментариев