Хорхе Семпрун
Юным читательницам, веселым и придирчивым,
Фанни Б., Леоноре Д., Сесилии Л.
Коротко об авторе
Хорхе Семпрун в сегодняшней Франции не просто популярный писатель — это человек-легенда. Его книги с завидным постоянством становятся бестселлерами. Его выступления собирают огромную аудиторию. Его мнение ценится поистине на вес золота. Это и понятно. Ведь мало кому из писателей довелось прожить такую незаурядную жизнь и прожить ее так талантливо.
Семпрун родился в Мадриде в 1923-м в семье дипломата. Приход к власти Франко и гражданская война вынудили семью в 1937 году бежать из Испании во Францию, где юный Хорхе закончил школу и поступил в Сорбонну. Однако и здесь в его судьбу вторгается война. С 1941 года Семпрун — участник движения Сопротивления, в 1942-м он вступает в испанскую коммунистическую партию. В 1943-м — арест и депортация в концентрационный лагерь Бухенвальд. В 1945 году, после освобождения, Семпрун возвращается в Париж и по 1952-й работает переводчиком при ЮНЕСКО. Он остается членом коммунистической партии, входит в ее центральный комитет, участвует в борьбе с режимом Франко, а в 1957 году нелегально возвращается в Испанию для работы в подполье. Однако, разочаровавшись в коммунистических идеалах, в 1964 году Семпрун выходит из компартии. С этого времени он полностью посвящает себя литературному труду. Писательский успех пришел к нему еще в 1963 году с романом «Долгий путь», в котором Семпрун возвращается к пережитому в Бухенвальде и делает первую попытку осмыслить этот нелегкий опыт. Сегодня на счету Семпруна больше двух десятков книг, в том числе романы «Вторая смерть Рамона Меркадера», «Нечаев вернулся» (русский перевод «Иностранка», «Б.С.Г. — Пресс», 2002), «Прощай, яркий свет», программное эссе «Писать или жить». Семпрун также много работал в кино, лучшие французские режиссеры считали за честь снимать фильмы по его сценариям. С 1988 по 1991 год он был министром культуры Испании. В 1996-м во Франции избран членом Гонкуровской академии. В настоящее время Хорхе Семпрун живет в Париже. Он признанный классик французской литературы, что еще раз подтвердил успех его последней книги «Подходящий покойник» — своеобразного постскриптума к «Долгому пути».
* * *
ВПЕРВЫЕ в России выходит новая книга знаменитого писателя Хорхе Семпруна. Автор вновь возвращается к главной теме своего творчества, к пережитому в двадцать лет, когда он, молодой участник французского Сопротивления, оказался в концлагере Бухенвальд. Это поразительное свидетельство, дань памяти не только тем, кто погиб за колючей проволокой Бухенвальда, но и тем, выжившим, кому наградой за стойкость станет колючая проволока Гулага.
Писатель и сценарист, лидер испанской компартии и политзаключенный, философ и литературный критик, министр и член Гонкуровской Академии. Испанец по рождению, но до мозга костей француз… Только через полвека Семпрун решился, не прячась за вымышленных героев, рассказать о пережитом.
«Лир»Подходящий покойник
Уверен, что моя смерть напомнит мне о чем-то.
Ролан ДюбийарЧасть первая
— Нашли подходящего покойника! — кричит Каминский.
Огромными скачками он несется ко мне и еще издали трубит радостную весть.
Декабрьское воскресенье, зимнее солнце. Деревья вокруг покрыты инеем. Всюду снег, и кажется, что он лежал здесь всегда. Во всяком случае, он отливал голубоватым светом вечности. Но ветра нет. Обычно на холме Эттерсберг ветер был жестким, ледяным, пронизывающим до костей — но он не добирался до уголка, где приютился сортир Малого лагеря.
На краткий миг, пока выглянуло солнышко и не дул убийственный ветер, можно было бы забыть, где находишься, подумать о чем-нибудь другом. Эта мысль пришла мне в голову по дороге на свидание, назначенное как раз напротив сортира. Сказать себе, что перекличка закончилась и что впереди, как это бывает каждое воскресенье, несколько часов жизни — существенная частичка времени, не принадлежащего СС. Нежась на солнышке, можно было помечтать о том, чем заполнить эти свободные часы — еженедельное чудо.
Выбор не так уж велик — нетрудно догадаться, что наши возможности были строго определены. Но ограничения есть всегда и, вероятно, везде. Для нас, простых смертных, во всяком случае. Однако, пусть и небогатый, выбор тем не менее оставался: только во второй половине дня в воскресенье, но все-таки выбор.
Можно было, например, завалиться спать. Большинство заключенных сразу после воскресной переклички бежали в бараки. Отключиться, забыться, уснуть и видеть сны. Они заваливались на нары, покрытые соломенными тюфяками, и тут же вырубались. После переклички, после воскресного супа — он был всегда с лапшой, самый наваристый за всю неделю, его ждали с нетерпением — необходимость погрузиться в восстанавливающее силы небытие казалась самой насущной.
Можно было пересилить себя, превозмочь недосып и усталость и пойти пообщаться с приятелями. Заново создать общество, а то и общину, так как вместе собирались не просто земляки из одной деревни или участники одного партизанского отряда или движения Сопротивления. Частенько это было еще и политическое или религиозное сообщество, мы стремились к преодолению себя, к трансцендентности, и именно общность идей нам в этом помогала.
Словом, пересилить себя, чтобы себя не потерять.
Обменяться знаками, парой слов, новостями из внешнего мира, дружескими жестами, улыбкой, чинариком махорки, отрывком стихотворения. Да, отныне только осколки, ошметки, разрозненные поэтические куски, потому что память оскудела, истощилась. От самых длинных стихотворений, которые я помнил наизусть, которые уже стали мной — «Пьяный корабль» Рембо, «Морское кладбище» Валери, «Путешествие» Бодлера, — остались лишь несколько беспорядочных четверостиший. Тем большее волнение я испытывал, выуживая их из тумана уничтоженного прошлого.
В это воскресенье новости были как раз хорошими — американцы держались, не сдали ни пяди земли в Бастони.
Но декабрьское солнце оказалось обманчивым. Оно ничего не могло согреть — ни рук, ни лица, ни сердца. Ледяной холод сжимал нутро, обрывал дыхание. Душа от этого болела, съеживалась.
И вот тогда-то примчался счастливый Каминский. Он еще издали выкрикивал радостную новость.
Нашли подходящего покойника. Вот так.
Он остановился передо мной — в массивных сапогах, руки глубоко в карманах синей куртки Lagerschutz[1], подвижное лицо и живые глаза возбужденно блестели.
— Unerhört![2] — воскликнул он. — Невероятно! Ему столько же лет, сколько тебе, почти день в день! Да еще к тому же студент!
Короче говоря, покойник, во всем похожий на меня. Или это я уже стал похож на него?
Мы с Каминским, как обычно, разговаривали на смеси двух языков. Он сражался в Испании — в составе интербригад — и все еще бегло изъяснялся по-испански. Ему нравилось вставлять испанские словечки или целые выражения в наши разговоры по-немецки.
— Unerhört! — восклицал Каминский. — Inaudito![3]
И добавил, наверное, для того, чтобы подчеркнуть в самом деле невероятную ситуацию с подходящим покойником:
— Парижанин, как ты.
Но был ли я действительно парижанином?
Не очень подходящий момент для выяснения этого вопроса, Каминский просто пошлет меня ко всем чертям. И наверное, даже по-русски. В разномастной языковой бухенвальдской смеси, откуда был исключен английский (а жаль, Шекспир и Уильям Блейк пришлись бы как нельзя более кстати), русский был, по-моему, богаче всех выражениями, отсылающими куда подальше.
Каминский грубовато засмеялся:
— Везет тебе, парень!
В последние годы я частенько слышал эту фразу. Многие словно констатировали факт, по-всякому — иногда озлобленно, иногда подозрительно или недоверчиво. Словно я должен был чувствовать себя виноватым в том, что мне повезло, в том, в частности, что я выжил. Но нет у меня чувства вины — хотя оно и плодотворно для литературы.
Мне кажется — и это не перестает меня удивлять, — что необходимо в чем-нибудь повиниться, по крайней мере в том, что совесть твоя нечиста, если хочешь быть настоящим, достойным доверия свидетелем. Выжившим, заслуживающим того, чтоб тебя звали на конференции, посвященные данной проблеме.
Конечно, лучший свидетель, единственный настоящий свидетель на самом деле, по мнению специалистов, — тот, кто не выжил, кто дошел в испытаниях до самого конца и умер. Но ни историки, ни социологи пока не нашли способа решить проблему: как пригласить настоящих, то есть мертвых, свидетелей на свои конференции? Как выслушать их?
Впрочем, этот вопрос скоро благополучно разрешит само время, и не будет больше неудобных свидетелей с их никому не нужной памятью.
И тем не менее мне повезло, бесполезно это отрицать.
Но я не буду сейчас приводить доказательства, это уведет нас в сторону от рассказа про то, как нашли подходящего покойника. И для чего он вообще понадобился, этот покойник, с чего бы это оказалось так кстати именно сегодня.
— Зайдешь сегодня в Revier[4], познакомишься, — добавил Каминский.
Мне не понравилась эта идея.
— Знаешь, нагляделся я на покойников! Я вижу их постоянно, всюду… Этого, своего, я могу себе представить!
Двадцать лет, как и мне, студент из Парижа; да уж, могу себе представить.
Каминский пожал плечами. Вроде как я ничего не понял. Этот покойник, мой покойник (скоро это буду я, потому что мне, вероятно, придется взять его имя) жив. Пока жив, во всяком случае. Еще на каких-нибудь несколько часов. И мне надо с ним познакомиться.
Каминский объяснил, как это произойдет.
Все началось накануне.
В субботу утром, затрудняюсь сказать, в котором часу. Внезапно во сне я услышал глухие настойчивые удары. Сон стянулся к этому шуму: где-то в его глубине, слева, на темной территории забытья, забивали гвозди в крышку гроба.
Я знал, что это сон, что гроб заколачивают во сне. Я знал даже, что скоро проснусь, что усиливающийся стук (молотка по деревянному гробу?) рано или поздно разбудит меня.
И разбудил: рядом со мной в узком проходе, разделяющем нары, стоял Каминский и стучал кулаком по ближней ко мне стойке нар. За ним я различил встревоженного Ньето. Даже спросонья, вынырнув из грубо прерванного сна, я понял, что происходит что-то необычное.
Каминский был не просто приятелем, он был одним из руководителей подпольной военной организации. Что до Ньето, то он был номером один в тройке испанской коммунистической организации. Чтобы Каминский и Ньето вдвоем пожаловали ко мне — такое случалось не каждый день.
Я привстал, насторожившись.
— Одевайся, — бросил Каминский. — Есть разговор.
И чуть позже — в умывальне на втором этаже сорокового блока — они объяснили мне, в чем дело. Я слегка поплескал на лицо ледяной водой. Ватная пелена сна рассеялась.
Умывальня была пуста, все заключенные уже на работе в этот ранний час. Накануне я был в ночной смене в Arbeitsstatistik[5]. В главной картотеке, где я трудился, было не так уж много работы. Именно поэтому Вилли Зайферт, наш капо, ввел ночную смену — Nachtschicht, — чтобы мы могли отдыхать по очереди.
Я довольно быстро разделался с записями о перемещениях рабочей силы, о которых сообщали разные службы. После этого оставалось время поболтать с теми из немецких ветеранов, которые не прочь, — а таких было немного. Собственно говоря, поблизости — только Вальтер.
Остаток ночи я читал. Я закончил роман Фолкнера, который взял в библиотеке как раз на эту неделю ночной работы.
Около шести часов утра, после побудки и выхода команд на работу, я вернулся в сороковой блок. Себастьян Мангляно, мой мадридский друг и сосед по нарам, работал в сборочном цехе завода Густлов.
Так что нары во всю их ширину оказались в моем распоряжении.
Резкий, терпкий привкус дурного прерванного сна рассеялся от ледяной воды из умывальника. Теперь можно и поговорить.
Ситуацию объяснил Каминский.
Сегодня утром пришел запрос из Берлина, из Центрального бюро концентрационных лагерей. Он предназначался для Politische Abteilung, филиала гестапо в Бухенвальде. И дело касалось меня — запрашивали сведения обо мне. Жив ли я еще? Если да, то нахожусь ли по-прежнему в Бухенвальде или же во вспомогательном лагере?[6]
— У нас есть два дня, — добавил Каминский. — Пистер как раз уезжал, очень торопился, запрос будет в Politische Abteilung только в понедельник.
Герман Пистер был старшим офицером СС, начальником Бухенвальда. Оказалось, что он не успел передать запрос из Берлина в лагерное гестапо.
— У нас есть время до понедельника, — повторил Каминский.
Нас с Ньето не удивили осведомленность Каминского и точность его информации. Он не сообщил нам никаких подробностей, просто перечислил факты, но так, словно видел все своими глазами. Например, он сказал, что запрос из Берлина Пистер положил в ящик письменного стола и запер его на ключ. Однако для нас не было секретом, откуда он все это знает.
Мы представляли себе — в общих чертах, разумеется, — как работает система оповещения немецких коммунистов в Бухенвальде.
О полученном из Берлина запросе наверняка сообщил «фиолетовый треугольник» — идейный дезертир, член Bibelforscher.
Bibelforscher, «искателей Библии», или свидетелей Иеговы, к зиме 1944 года в Бухенвальде осталось немного. Их арестовывали за отказ от военной службы по религиозным убеждениям; раньше нацисты измывались над ними, после чего расстреливали. Однако уже давно, с тех самых пор, в частности, как Бухенвальд вошел в орбиту нацистской военной индустрии, выживших Bibelforscher в основном назначали на привилегированные должности слуг, ординарцев или секретарей при эсэсовцах.
Некоторые из них пользовались этим, чтобы помочь сопротивлению, организованному их соотечественниками, немецкими коммунистами, в руках которых были сосредоточены основные рычаги внутренней власти в Бухенвальде.
Таким образом, практически любое важное решение из Берлина, касающееся жизни лагеря, немедленно становилось известным подпольной организации, и она могла подготовиться — чтобы уклониться или смягчить удар.
— Наш информатор, — объяснил Каминский, — смог прочесть только начало запроса из Берлина. Он запомнил твое имя и то, что о тебе требуют сведений. В понедельник, когда документ пойдет в Politische Abteilung, он сможет прочесть остальное. Тогда мы узнаем, кто запрашивает сведения о тебе и почему.
Кто в Берлине еще мог интересоваться моей судьбой? У меня не было на этот счет никаких соображений — нелепость какая-то.
— Подождем до понедельника, — предложил я.
Они не согласились, об этом не могло быть и речи.
Ни Каминский, ни Ньето не разделяли мою точку зрения. Они напомнили мне, что в последние недели многие арестованные во Франции англичане и французы из Сопротивления так же разыскивались Politische Abteilung, их вызывали для проверки и расстреливали. Напомнили об Анри Фраже[7], моем начальнике в «Жан-Мари Аксьон»[8], исчезнувшем именно так: гестаповцы затребовали его из лагеря и расстреляли.
Может, и так, ответил я, но тогда всякий раз речь шла о людях, игравших важную роль в Сопротивлении: об агентах, связывавших информацию и действие[9], о командирах ячеек, о высокопоставленных военных. Я же мелкая сошка, унтер, объяснял я им.
Это Фраже сообщил мне в свое время, что в военных списках Сопротивления я буду числиться в унтер-офицерском чине. А это совсем другое дело! И представить себе не могу, почему бы гестапо еще интересовалось мной — спустя год после ареста. Там наверняка обо мне и думать забыли.
— Вот тебе и доказательство, что нет! — отрезал Каминский. — Они о тебе не забыли, ты все еще их интересуешь!
Я не мог этого отрицать, но во всем этом не было ни малейшего смысла, должно найтись какое-то другое объяснение.
Каминский и Ньето упрямо не желали полагаться на случай и снова и снова задавали вопросы о моем участии в Сопротивлении, пытаясь увязать с этим проявленный ко мне в Берлине интерес. Я в сотый раз рассказывал им о «Рабочих иммигрантах»[10], о «Жан-Мари Аксьон», о сети «Букмастер», подробности моего ареста в Жуаньи.
Но они и так это все знали. По крайней мере Ньето знал. Он уже дотошно выспрашивал меня, вербуя в испанскую коммунистическую организацию, когда я прибыл в шестьдесят второй блок в Малом лагере.
И наконец — после долгих расспросов и препирательств — Ньето заключил:
— Послушай, сегодня еще нечего бояться. Но в понедельник мы должны быть готовы к худшему и действовать по ситуации.
Его взгляд был, как всегда, серьезным, но странным образом стал словно ближе, братским, что ли.
— Партия не хочет тобой рисковать, — добавил он.
Сказано было достаточно официально, но улыбка Ньето сгладила пафос.
Снова вмешался Каминский:
— Сегодня еще точно нечего! Можешь идти спать дальше. Сегодня вечером пойдешь в Arbeitsstatistik, как договаривались, в ночную смену. Но завтра, в воскресенье, после дневной переклички, мы за тебя возьмемся. Придешь в санчасть, там тебе поставят диагноз — найдем какую-нибудь серьезную и внезапную болезнь… Там будет видно какую. Так что к утренней перекличке в понедельник ты уже будешь среди больных в Revier. А дальше смотря по обстоятельствам — или вернешься в лагерь через несколько дней, вроде как после болезни, или исчезнешь. Если этот запрос из Берлина на самом деле что-то серьезное, то надо будет попробовать сделать так, чтобы ты официально числился умершим. Это будет посложнее. Не слишком легко за такой короткий срок найти подходящего покойника, которым ты мог бы стать. А эсэсовцы всегда могут затеять медицинскую проверку! Возможно, если все пройдет гладко, тебе придется убраться отсюда во вспомогательный лагерь, чтобы оборвать связи с Бухенвальдом, где слишком многие знают тебя под твоим настоящим именем.
Не нравилась мне вся эта история.
Меня пугала мысль о том, что придется покинуть Бухенвальд. Надо думать, ко всему человек привыкает. В испанской поговорке «Más vale malo conocido que bueno por conocer» есть своя правда, смиренная и пессимистичная, как любая народная мудрость… Лучше знакомое зло, чем незнакомое добро!
— Новая жизнь под чужим именем в другом месте — не очень мне нравится вся эта затея! — с тоской заметил я.
Тем более что я никак не мог поверить в серьезность угрозы.
— Имя действительно будет чужим, — невозмутимо ответствовал Каминский. — Но жизнь-то — твоя! Настоящая жизнь, несмотря на липовое имя!
Он был прав, но все равно вся эта история мне очень не нравилась.
Самое время вернуться в барак и насладиться нарами во всю ширину. Может быть, удастся вернуться обратно в прерванный сон?
* * *
На следующий день, в воскресенье, в свете обманчивого зимнего солнца Каминский сообщил мне, что они нашли подходящего покойника.
Который, впрочем, еще не был покойником.
Не знаю почему, но от этого меня передернуло, стало не по себе. Я бы предпочел, чтобы юный парижанин, и к тому же студент, уже умер. Но Каминскому я ничего не сказал об этом. Этот толстокожий оптимист только прикрикнул бы на меня.
Мертвый, умирающий — какая разница? Что это меняет?
— Приходи к шести в Revier, — велел он. — Я буду тебя ждать…
Он радостно засмеялся, видимо, его забавляла сама идея облапошить эсэсовцев. И предложил мне сигарету, вероятно, чтоб отпраздновать это событие — немецкая марка восточного табака. Обычно такие курили привилегированные, Prominenten[11]: капо, старосты бараков, люди из Lagerschutz — внутренней полиции, выбранные заключенными-немцами. Вилли Зайферт угостил меня такой же сигаретой, когда вызвал поговорить с глазу на глаз в свой кабинет в Arbeitsstatistik. Русская махорка, завернутая в полоску газеты, была не для них, а для бухенвальдских плебеев. Светило солнце, все было уже сказано, и я затянулся сигаретой для привилегированных.
Во всем, что касалось табака и еды, я, естественно, был плебеем. Курил только едкую махорку, и ту, впрочем, редко — только иногда перепадали мне чудесные окурочки. И питался я исключительно лагерной пайкой.
При побудке, в половине пятого утра, до переклички и сбора команд на работы, Stubendienst — дежурные по баракам, первое звено внутренней администрации, выбранные самими заключенными, — раздавали нам по стаканчику горячей бурой жидкости, именуемой «кофе» — для краткости и чтобы всем было понятно. Вместе с этим мы получали дневную пайку хлеба и маргарина, к которой иногда добавлялся кусочек суррогатной колбасы — похожий на губку, но чрезвычайно аппетитный, в такие утра слюна так и брызгала.
После целого дня работы и возвращения в бараки Stubendienst распределяли порции супа — полупрозрачной баланды, в которой плавали обрезки овощей, в основном капусты и брюквы, и редкие тонюсенькие куски мяса. Только в воскресенье давали сравнительно наваристый суп с лапшой. Настоящее пиршество, без слез не вспомнишь, но об этом я уже говорил.
Каждый распоряжался дневной пайкой по-своему. Некоторые проглатывали ее тотчас же. Иногда даже стоя, если вокруг стола в столовой уже не было мест. И потом до вечернего супа им нечего было есть. Двенадцать часов тяжелой работы плюс в среднем часа два езды и переклички. Так и мучились четырнадцать часов с пустым желудком.
Другие — так старался поступать и я — сберегали часть пайки до полуденного перерыва. Это было непросто. Бывали дни — и частенько, — когда мне это не удавалось. Надо было держать себя в руках, совершать над собой насилие, чтобы не проглотить все сразу же. Потому что мы жили в головокружительном страхе постоянного голода. Надо было забыть на мгновение нынешний неотвязный голод и четко представить себе, что будет в полдень, если ничего не оставить до этого времени. Попытаться уменьшить, сдержать реальный голод мыслью о голоде грядущем, виртуальном, но от этого не менее остром. Каким бы ни был результат этой ежедневной внутренней борьбы, я существовал только на лагерной пайке — по идее, единой для всех заключенных.
Многим, однако (не берусь уточнить скольким, но нескольким сотням заключенных в любом случае), удалось выйти за рамки общих правил.
Я не говорю о привилегированных — капо, старостах блоков, Vorarbeiter (бригадирах), людях из Lagerschutz и так далее. Эти даже не притрагивались к ежедневному супу, они им брезговали, на дух не выносили. У них был свой собственный продуктовый распределитель, о чем эсэсовцы, естественно, прекрасно знали, во всяком случае в общих чертах, — откуда берутся продукты и как их распределяют. И не имели ничего против. Конфликты возникали (и тут же пресекались нацистами), только когда деятельность этого продуктового распределителя угрожала интересам и торговле самих эсэсовцев.
Но я не имею в виду Prominenten.
Я говорю о плебеях Бухенвальда, которые, впрочем, не были однородной, нерасчленимой массой, а скорее, более или менее структурированным сообществом, иерархизированным по определенным критериям: национальной и политической принадлежности, месту на производстве, профессиональной квалификации, владению немецким языком — языком хозяев и трудового кодекса, разговорным и приказным, в общем, языком выживания. А также, естественно — я говорю об этом в последнюю очередь, но это основное, — по состоянию здоровья и физической выносливости.
Все эти объективные условия устанавливали иерархию, совершенно непохожую на классовое расслоение общества за пределами лагеря. Так, например, в Бухенвальде лучше быть квалифицированным слесарем, чем профессором университета или бывшим префектом. А если уж ты студент, то лучше использовать знание немецкого языка, чтобы компенсировать недостаток рабочей специальности, без которой невозможно попасть на работу на фабрику, в сборочный цех завода Густлов, в теплое местечко.
Итак, даже среди бухенвальдских плебеев были сотни заключенных, избежавших общих правил и мизерной нормы. В некоторых командах — особенно во внутреннем руководстве Бухенвальда — случались раздачи добавки супа или дневной пайки хлеба или маргарина. Также было заведено, что на кухне, на складе, в бане и в дезинфекции, в санчасти и при уборке бараков заключенным полагались существенные добавки к суточным порциям.
Но я не входил ни в одну из этих групп. Меня определили в Arbeitsstatistik, там занимались рабочей силой — распределяли ее по разным заводам и командам, организовывали транспорт во вспомогательные лагеря. Место в общем-то престижное и влиятельное. Я мог разговаривать на равных со старостами блоков, с капо. Они знали, что я работаю в Arbeit, видели меня с Зайфертом и с его заместителем Вайдлихом. Они выслушают любую мою просьбу. Не будут обращать внимания на мой номер, свидетельствующий о том, что я новичок, всего лишь год в лагере. Не удивятся, увидев черную букву S, Spanier, испанец, на красном треугольнике на месте сердца. Однако командуют здесь в основном немцы или чехи из протектората Богемии-Моравии.
Но это не важно: несмотря на мои двадцать лет, на мой свежий номер, несмотря на букву S на красном треугольнике, они меня выслушают. И будут внимательны, услужливы, даже вежливы — естественно, насколько им позволяет их природная грубость.
Во-первых, потому, что я разговариваю с ними по-немецки. А во-вторых, потому, что они знают: я из Arbeitsstatistik. То есть что-то вроде чиновника высшего звена.
Но при всем этом никаких продуктовых привилегий у тех, кто работает в Arbeit, нет. Я имею в виду у тех, кто — вроде меня или Даниэля Анкера — работает там, по-настоящему не принадлежа к правящей элите, к «красной» — коммунистической — аристократии, к кругу ветеранов ужасных лет.
— Что ты делаешь? — спросил ошарашенный Каминский.
Это было еще осенью. Рыжий свет заливал лес Эттерсберга. Был полуденный перерыв. Я сидел в задней комнате Arbeitsstatistik.
Идиотский вопрос. Как будто он не видит, что я делаю, — ем.
Утром я не удержался и слопал всю дневную пайку маргарина. Да и черного хлеба мне удалось сохранить от силы половину пайки. Я расположился за столом и медленно поглощал эту самую половину, смакуя каждую крошку.
Каминский оторопело таращился на меня.
— Ну… ем… Ты что, не видишь, что я ем? — раздраженно ответил я.
Я нарезал оставшийся просвечивающий кусок черного хлеба еще на квадратики и закладывал их в рот, один за другим, медленно пережевывая, наслаждаясь комковатым тестом, бодрящей кислинкой черного хлеба. Я проглатывал их, только когда крошечные квадратики превращались в восхитительную кашу.
Но всегда наступал момент, когда последний квадратик проглочен, когда исчезла последняя медленно пережеванная крошка. И нет больше хлеба. На самом деле никогда и не было. Несмотря на все уловки, ухищрения и попытки обмануть самого себя, хлеба всегда было слишком мало, чтобы долго помнить о нем. Вот он закончился, и невозможно представить себе, что он был. Хлеба никогда не бывало столько, чтобы я мог, как говорят по-испански, «сделать о нем память», hacer memoria. Как только я проглатывал последнюю крошку, тотчас же возвращался голод — коварный, неотвязный, как подступающая тошнота.
Невозможно «сделать память», если помнить нечего. Нереальное, воображаемое не может быть основой памяти.
Так что по воскресеньям заключенные собирались, чтобы рассказать друг другу о еде. Мы не могли вспомнить о вчерашнем супе, ни даже о том, что был в тот же день, эти супы исчезали бесследно в недрах истощенного тела, но мы собирались, чтобы послушать, как кто-нибудь в красках и с мельчайшими подробностями описывает ужин на свадьбе чьей-то кузины пять лет тому назад. Мы могли наесться только воспоминаниями.
В общем, я расположился за столом в задней комнате Arbeit, медленно глотая крошечные кусочки черного хлеба. Я подогрел стаканчик пойла, которое и впредь буду называть «кофе», чтобы не сбивать с толку читателей и не отвлекаться от рассказа. В задней комнате Arbeit всегда стоял бидон с кофе. Честно говоря, электрические плитки были запрещены. Но их нелегально делали в одной из лагерных мастерских. Вообще-то пользование такой плиткой рассматривалось СС как саботаж. И раньше строго наказывалось.
Но времена меняются, дисциплина ослабла, и теперь в каптерках старост блоков, в столовых начальников по техобслуживанию, в общем повсюду в лагере можно было увидеть электроплитки, допотопные, но очень полезные. В задней комнате Arbeit у нас их было две или три — коллективная собственность.
«С некоторых пор лагерь стал просто санаторием!» — по поводу и без восклицали ветераны лагеря — немецкие коммунисты.
Поначалу мне казалось, что это уж слишком, что этот юмор «стариков» оскорбителен для нас, новичков. Но по мере того как из их рассказов (не было ничего более увлекательного, чем разговорить старожилов лагеря!) передо мной вставало прошлое Бухенвальда, я начал понимать, что они имели в виду.
Ну хорошо, мы поняли — лагерь стал просто санаторием!
— Вижу, что ешь! — взвился Каминский. — Но почему пустой хлеб?
Он был ошарашен. Потрясен тем, что можно есть пустой хлеб. Для него это было совершенно непостижимо. Мне захотелось послать его ко всем чертям, высказать все, что я о нем думаю, чтобы хоть так вернуть его на землю. Но я увидел его внезапно округлившиеся глаза, застывший взгляд, в котором мелькнул проблеск озарения. Кажется, он вспомнил. Вспомнил то время, когда лагерь еще не был санаторием, вспомнил давно забытый скудный паек черного хлеба, вспомнил тогдашний жидкий супчик.
— Тебе нечего есть, кроме черного хлеба! — воскликнул он.
Именно так. Глупо, но так.
Он спустился с небес на землю и потащил меня за собой.
Мы вышли из барака, где находились Arbeitsstatistik и Schreibstube — секретариат и библиотека. Напротив на краю площади, где проходила перекличка, стоял барак Lagerschutz.
Там пахло чистотой и готовящейся едой.
Каминский подвел меня к своему личному шкафчику. Полки ломились от припасенной снеди. Он схватил брикет маргарина и протянул мне. Рано утром именно от такого кубика маргарина Stubendiest, выделявший нам дневной паек, стальной проволокой отрезал ломтики для нескольких заключенных — восьмерых, когда я только попал в Бухенвальд в январе 1944, и десятерых — в конце лета. Теперь, в середине зимы, уже для двенадцати.
Можно себе представить, во что превратятся те, кто выживут (если таковые будут).
Я зачарованно уставился на шкафчик Каминского, пока он протягивал мне кубик маргарина, точно такой же, какой по утрам делился на двенадцать дневных паек для простых смертных, к числу которых принадлежал и я.
Я уже видел личные шкафчики ветеранов. Наши ячейки были в задней комнате Arbeit. Ячейки ветеранов ломились от припасов. Иногда я даже видел там плесневеющий белый хлеб. И только две ячейки всегда оставались практическими пустыми — Даниэля Анкера и моя.
В наших ячейках, кроме стаканчиков и котелков, обычно не было ничего, только часть дневной пайки, если нам удавалось сохранить ее до полуденного перерыва или — при необходимости — до долгих часов ночной смены. В те дни, когда порция супа заменялась картофельным пюре, мы хранили очистки. Сначала съедали картошку, а затем поджаривали очистки на одной из электрических плиток. Какая же это была вкуснятина!
Случалось, что в наших ячейках не было совсем ничего, только пустые стаканчики и котелки — в те дни, когда нам с Анкером не удалось устоять перед искушением в момент раздачи дневной пайки.
Последний раз я видел Даниэля Анкера в книжном магазине на Сен-Жермен-де-Пре. Я подписывал одну из своих книг. Он, видимо, заметил удивление, мелькнувшее в моих глазах.
— Ну да, Жерар, — воскликнул он. — Я жив!
Он догадался, что я пытаюсь сосчитать, сколько ему может быть лет.
— Не напрягайся, старик! Я только что отметил свой девяносто первый день рождения!
Я изумленно уставился на него. Гладко выбритый, шевелюра, конечно, совершенно белая, но глаза все так же искрятся весельем. У меня, стало быть, еще есть время!
— Не слишком-то зазнавайся! А то скажут, что Бухенвальд был просто санаторием!
Он рассмеялся, мы обнялись. И долго не могли разжать объятий, трясясь от смеха и от наплыва эмоций.
Он отстранился:
— Das Lager ist nur ein Sanatorium, heute!
Анкер прекрасно говорил по-немецки, поэтому он был связным между французской компартией и Arbeit. Он буквально проорал фразу тех времен, любимую фразу сварливых ветеранов. В книжном магазине все обернулись в нашу сторону.
Я мог бы, пользуясь случаем, рассказать о моем друге Даниэле Анкере. Но надо вернуться к Каминскому, в то солнечное декабрьское воскресенье.
* * *
— Явились! — воскликнул он.
Его голос был необычно пронзительным и каким-то раздраженным. Я обернулся, следя за направлением его взгляда.
В самом деле, явились. Приближаются.
Двигаясь маленькими шажками, иногда опираясь друг на друга или на палки и самодельные костыли, теряя башмаки в хлюпающей глине, едва волоча ноги, медленно, но упорно, они приближались.
Вероятно, в это воскресенье они решили погреться на зимнем солнце. Впрочем, они бы все равно пришли в воскресенье, будь то снежная буря или дождь.
Они появлялись каждое воскресенье, в любую погоду, после дневной переклички.
Сортир Малого лагеря был местом их встреч, обмена мнениями, разглагольствований, свободы. Базар воспоминаний и одновременно обменный рынок в зловонных испарениях, поднимающихся от сточных канав. Ни за что на свете, каких бы это ни требовало усилий — во всяком случае, пока они могли сделать усилие, — они бы не пожертвовали этими воскресными днями.
— Чертовы мусульмане приперлись! — брюзжал Каминский.
От него я впервые услышал это название — «мусульмане». Мне было известно, что оно означает — тонкую прослойку лагерных плебеев, маргиналов, сломленных каторгой, доходяг. Но я не знал, пока не услышал его от Каминского, что это слово, происхождение которого туманно и спорно, распространено во всех нацистских лагерях как общий термин.
До того как я узнал термин «мусульманин», я называл заключенных, проявлявших признаки физического истощения или моральной апатии, словами из прошлой жизни, из общества за пределами лагеря — люмпенами или босяками. Я прекрасно понимал, что это обозначение условно, что концлагерь и жизнь по ту сторону колючей проволоки не имеют точек соприкосновения, но этими словами я определял для самого себя то, что видел. В тот день, когда Каминский впервые произнес при мне слово «мусульмане», я понял, что он их не любит.
Но я не совсем точно выразился. На самом деле речь не шла о том, чтобы любить их или не любить. Скорее, мусульмане его раздражали. Самим фактом своего существования они разрушали тот образ концлагеря, который создал для себя Каминский. Они противоречили выбранной им линии поведения, даже отрицали ее. Апатичные, не стремящиеся ни к чему доходяги не принимали дуалистичной логики сопротивления, они давно уже отказались от борьбы за жизнь, за выживание. С ними на идиллическом горизонте Каминского появился элемент неуловимой неуверенности. Жизнь, выживание — эти понятия для них уже не существовали. Все наши усилия, чтобы держаться вместе, чтобы выдержать, вероятно, казались им неуместными. Ничтожными. Зачем? Они были уже не здесь, они медленно погружались в нирвану, в ватное небытие, где никаких ценностей уже не осталось, и только инстинкт, инерция жизни — мерцающий свет мертвой звезды, когда тело и душа уже выжаты, — заставляли их двигаться.
— Чертовы мусульмане приперлись! — брюзжал Каминский.
Я наблюдал за приближением первой группы, высматривая «своего» — молодого француза-мусульманина.
Его не было. Я встревожился: он не показывался уже две недели.
— Me largo, — сообщил Каминский (по-испански «ухожу»). — В шесть в Revier.
Он удалился на три шага, потом обернулся:
— А пока веди себя как обычно… Развлекайся со своим профессором и со своими мусульманами!
В его голосе мешались ирония и раздражение.
«Мой профессор» — это, конечно, Морис Хальбвакс[12]. Несколько месяцев назад я узнал, что он в Бухенвальде, и с тех пор в свободное время по воскресеньям навещал его в пятьдесят шестом блоке — одном из тех, куда сгружали недееспособных стариков и инвалидов.
Хальбвакс делил нары с Масперо[13]. Оба медленно умирали.
Интерес, который я проявлял к своему преподавателю из Сорбонны, Каминский еще мог допустить, если не понять. Он не считал философские разговоры, о которых я ему иногда рассказывал, ни полезными, ни ободряющими, с его точки зрения, они были слишком длинны и запутанны. Но с ними он мирился.
— Лучше бы уж в бордель сходил в воскресенье! — взрывался он, когда речь заходила о моих визитах к Хальбваксу.
Я заметил ему, что бордель существует только для немцев. Да и то не для всех, а только для чистокровных арийцев из Третьего рейха, Reichsdeutsche. Немцы из провинций за пределами рейха, Volksdeutsche, не имели на это права.
— Это для тебя и твоих дружков. Кстати, сам-то ты туда ходишь?
Он покачал головой. Нет, он туда не ходит, так я понял его жест. Это меня не удивило. Немецкая компартия категорически не рекомендовала своим членам получать талоны в бордель из соображений безопасности. А Каминский был дисциплинированным партийцем.
Но я неправильно понял его жест. Он не был немцем Германской империи, вот что это должно было означать. Конечно, он, как и все его соотечественники, носил красный треугольник без всяких букв, обозначающих национальную принадлежность. В административной жизни лагеря его считали немцем. Но в специальном гестаповском списке он был красным испанцем, Rotspanier, потому что сражался в интербригадах.
— А так как раздачу талонов в бордель контролирует гестапо, то я, наверное, никогда не смогу туда пойти, — сказал он.
— Короче, если ты здесь красный испанец, то не имеешь права перепихнуться! — заключил я.
Естественно, по-испански. По-немецки я не знал подходящего жаргонного выражения. Или общепринятого, если хотите.
Каминский прыснул. Испанское выражение «echar un polvo» его рассмешило, напомнило ему о чем-то.
Он любил вспоминать Испанию. Не только про то, как ему удавалось перепихнуться, просто все воспоминания об Испании. Даже самые невинные.
Как бы то ни было, Каминский наконец-то смирился с моими визитами к Морису Хальбваксу. «Не слишком поднимает настроение — проводить свободное время в воскресенье рядом со смертью», — бурчал он, но в конце концов признал, что можно испытывать уважение и благодарную привязанность к старому профессору.
А вот моего интереса к мусульманам он совсем, ну совершенно не понимал.
* * *
«В пяти галереях молчала, как гиблое место, Вифезда. И звуки дождя в безмолвии черном казались мучительным стоном…»
Год назад, первый раз переступив порог огромного сортирного барака в Малом лагере, я сразу подумал об этом произведении Рембо[14].
Я процитировал эти строчки себе под нос. Впрочем, довольно громко, хотя они все равно потонули в гуле этого двора чудес.
Нет, естественно, никаких галерей. Но цитата тем не менее напрашивалась сама собой: это было то самое «гиблое место». Другие строчки Рембо, казалось, описывали то, что я увидел:
«На сходе к воде хромые, слепые сидели, и отсветы адской стихии […] на бельмах незрячих и ткани мерцали, покрывшей культи. О зрелище рвани, убогой оравы! О скотская баня!»
Это был деревянный барак, такой же огромный, как и остальные бараки Бухенвальда. Но пустое пространство не было перегорожено на два одинаковых крыла — спальный отсек, столовая, умывальня, с каждой стороны от входа — как в Большом лагере. Здесь строение почти во всю длину пересекала зацементированная сточная канава с постоянно текущей водой. Широкая необтесанная балка нависала над канавой и служила сиденьем. Две других балки, полегче, закрепленные чуть выше, позволяли сидевшим на корточках опереться спиной — два ряда заключенных задом друг к другу.
Обыкновенно десятки человек испражнялись одновременно в зловонном пару — неотъемлемой атмосфере подобных мест. По периметру вдоль стен висели ряды цинковых умывальников, где постоянно текла холодная вода.
Сюда были вынуждены приходить узники Малого лагеря, так как в их бараках, в отличие от Большого лагеря, туалеты отсутствовали. Только старосты блоков и члены Stubendienst имели свое санитарное оборудование, но для плебеев пользование им было заказано. И заключенные приходили сюда — справить нужду, помыться, постирать вечно грязное белье. Понос был участью двух категорий обитателей Малого лагеря. Те, что только что прибыли (до отправки на работы во вспомогательные лагеря или назначения на постоянную работу в Большой лагерь), становились жертвой желудочных расстройств, к которым неизбежно приводила смена питания и зловонная жижа, которую едва ли можно назвать питьевой водой. Вторая категория, самая низшая каста лагерных плебеев, состояла из нескольких сотен заключенных, негодных к работе, доходяг, инвалидов или тех, кого довели до подобного состояния тяжким, каторжным трудом. Они медленно разлагались в зловонной агонии, разжижавшей и разъедавшей их внутренности.
Но сортирный барак был практически пуст, когда я зашел туда в то воскресенье, после разговора с Каминским. Моего молодого француза-мусульманина не оказалось и там.
Я приметил его уже давно, в одно из воскресений, в начале осени. Примерно в то же время я узнал о прибытии Мориса Хальбвакса, о том, что он находится в пятьдесят шестом блоке для инвалидов. Наверное, в то же воскресенье, когда я навещал профессора, я увидел и его. На солнышке, на пороге сортира, на краю рощицы, которая тянулась до самой санчасти, Revier.
Я обратил внимание сначала на его номер.
Он — если тут, конечно, будет закономерно, или уместно употребление личного местоимения, может быть, более верным и точным будет «это», — он был всего лишь скоплением отвратительного тряпья. Бесформенной массой, осевшей около сортирного барака.
Но его номер был четко виден.
Я едва не подскочил: он отличался от моего всего на несколько единиц.
Можно представить, что в ночь моего прибытия в Бухенвальд восемь месяцев назад это существо — но это всего лишь предположение, что-то вроде пари; если можно предположить, что эта пронумерованная, распластавшаяся, неподвижно осевшая на все еще теплом осеннем солнышке масса с невидимым лицом и втянутой в плечи головой была одушевленной, — так вот, восемь месяцев назад нескончаемой ночью прибытия в Бухенвальд это существо должно было бежать совсем недалеко от меня по подземному коридору, соединяющему здание, где находились дезинфекция и душевая, со складом одежды. Он был совсем голый, как и я. Как и я, он схватил в охапку нелепые разрозненные одежки (гротескная сцена, даже тогда мы это понимали, и мы с ним могли бы вместе над этим посмеяться, окажись он рядом со мной), которые нам кидали, пока мы пробегали перед прилавком Effektenkammer[15].
А потом, голый, выбритый везде, после душа и дезинфекции, ошеломленный, он предстал перед заключенными-немцами, которые заполняли наши личные карточки. Совсем рядом со мной, всего в нескольких номерах, в нескольких метрах от меня.
Внезапно он поднял голову. Вероятно, он был еще жив настолько, чтобы почувствовать мой взгляд. Мой тяжелый, опустошенный, полный ужаса взгляд.
Оказалось, что у этого существа есть не только номер, но и лицо.
Под голым черепом, покрытым гноящейся коркой, лицо превратилось в нечто вроде маски на тонкой шее: сквозь кожу просвечивали кости. Но на этой совершенно прозрачной маске светился странно юношеский взгляд. Невыносимо: живой взгляд на посмертной маске.
Это существо, уже перешагнувшее грань между жизнью и смертью, было примерно моего возраста — лет двадцати. Почему бы смерти не быть двадцатилетней?
Никогда раньше я не чувствовал такой близости, такой сближенности с кем-нибудь.
Здесь было не только случайное совпадение номеров, таких близких, что я смог представить, как мы прибыли в Бухенвальд, ничего не знающие друг о друге, незнакомые, но вместе, связанные почти онтологической общностью судеб, даже если бы мы никогда не встретились в этой жизни.
Но это была не просто случайная встреча, пусть и богатая возможностями.
Наша близость была куда глубже, дело не только в похожих номерах. По правде говоря, я был уверен — может быть, глупо, нерационально, но тем не менее твердо и непоколебимо, — что, сложись все иначе, он разглядывал бы меня с таким же интересом, с той же беспристрастностью, с той же признательностью, с тем же состраданием, с той же братской требовательностью, какие, я чувствовал, зарождаются во мне и отражаются в моем взгляде.
Этот живой труп был моим младшим братом, моим двойником, моим Doppelgänger, другой я или я сам, ставший другим. Таким образом, я словно признавал, что все могло сложиться иначе, признавал экзистенциальную идентичность, возможность быть другим — вот что нас сближало.
Цепочка случайностей, кому-то повезло чуть меньше, кому-то выпала нежданная удача — все это разделило нас в самом начале, сразу после прибытия в Бухенвальд. Но я могу представить себя на его месте, как наверняка и он — себя на моем.
Я присел рядом с этим незнакомцем, моим ровесником.
Я говорил, и казалось, что он меня слушает. Я рассказывал ему о той далекой ночи, когда я прибыл в Бухенвальд, когда мы оба прибыли сюда. Мне хотелось — даже если его возможности слушать, внимать, понимать угасали, притупленные умственным и физическим истощением, — мне хотелось раздуть в нем искру интереса к себе, личной памяти. В нем мог проснуться интерес к окружающему миру, только если бы он заинтересовался собой, своей собственной судьбой.
Я говорил долго, он слушал меня. Но слышал ли?
Иногда мне казалось, что он реагирует: дрожание век, попытка улыбки, неожиданный взгляд, пытающийся поймать мой, вместо того чтобы затеряться где-то там вдали, в бесконечности.
Но тогда, в тот первый день, он ничего не сказал, ни одного слова.
Он ограничился жестом. Жестом, который, впрочем, не был ни просительным, ни сомневающимся, но, как ни странно, повелительным. Он изобразил, как человек скручивает сигарету, подносит ее к губам, затягивается.
Случилось так, что Николай, русский Stubendienst из пятьдесят шестого блока, где умирал Хальбвакс, настойчиво искавший моего расположения, — он, должно быть, считал, что небесполезно подружиться с человеком вроде меня, работающим в Arbeitsstatistik, — как раз недавно подарил мне пригоршню махорки.
Я дал юному мусульманину сигарету, предварительно раскурив. Он принял ее, и глаза его стали мокрыми от счастья.
В следующее воскресенье шел дождь. Я нашел его — внутри сортирного барака, в жаркой и зловонной сутолоке. На этот раз он снова слушал меня, не произнося ни слова. Я протянул ему две самокрутки, еще до того, как он потребовал их повелительным, почти надменным жестом.
В общем, сигаретами я платил ему за то, что он слушал, как я рассказываю ему свою жизнь. Отныне я только это и делал — моя предыдущая жизнь и Бухенвальд смешались, переплелись. Мои сны тоже. Навязчивые сны прежней жизни («порывы к солнцу женских тел с их белизною»[16]) и бухенвальдские, словно увязшие в липком присутствии смерти. Невозможно объективно оценить, пошла ли подобная терапия мне на пользу. Но сам я в этом нисколько не сомневаюсь.
В третье воскресенье мой мусульманин произнес несколько слов. Точнее, всего два, но решительно.
Я добивался ответа на уж не помню какой мой вопрос, казавшийся мне важным. Он посмотрел на меня с бесконечным сочувствием, как смотрят на идиота, на умственно отсталого ребенка.
— Говорить тяжело, — произнес он.
Голос у него был хриплый, ломкий, то низкий, то высокий, не слишком приятный. Голос одичавшего человека, который давно не разговаривал.
Потом на Бухенвальд опустилась зима: начались дожди и снежные бури. Сортир Малого лагеря стал необходимым перевалочным пунктом на дороге к пятьдесят шестому блоку, где умирал Морис Хальбвакс.
Сортир находился примерно на полпути между моим сороковым блоком (цементное двухэтажное здание на краю Малого лагеря, от которого оно было отделено колючей проволокой — без электричества, так что можно было пролезть через дырки) и пятьдесят шестым, где загибались инвалиды и доходяги. Поэтому зимой сортир становился теплым убежищем для отдыха, несмотря на шум, вонищу и постоянное зрелище человеческого вырождения.
В одно из воскресений зимы 1944 года — одной из самых холодных — в снежную бурю я обнаружил здесь своего юного мусульманина. Присев рядом с ним, я пытался согреться, чтобы продолжить путь. Мы оба молчали.
Перед нашими — ставшими совершенно равнодушными — глазами сидели в ряд на корточках испражнявшиеся заключенные. Скрюченные режущей болью. Слева, недалеко от нас, группа стариков грызлась из-за окурка, который, вероятно, передавался по кругу не вполне справедливо. Некоторые, видимо, чувствовали себя обделенными и протестовали. Но от истощения их протесты, которые в другой ситуации были бы бурными, казались пародией на спор — вялые жесты и жалобный шепот.
Я не мог совладать с искушением и продекламировал вслух стихотворение в прозе Рембо, которое частенько вспоминал, с тех пор как увидел сортир Малого лагеря:
«В пяти галереях молчала, как гиблое место, Вифезда. И звуки дождя в безмолвии черном казались мучительным стоном…»
Мой мусульманин издал что-то вроде глухого крика, внезапно очнувшись от летаргии и истощения. Я продолжал цитировать:
«На сходе к воде хромые, слепые сидели, и отсветы адской стихии…»
Пробел в памяти: как дальше, я не помнил.
И тогда он продолжил. Его голос больше не был похож на карканье, на голос чревовещателя, как мне показалось в тот день, когда он произнес всего два слова. На одном дыхании, без перерыва, без передыха — будто он одновременно обрел память и голос, все свое существо, — он процитировал продолжение:
«…небесные молньи на водном зерцале, на бельмах незрячих и ткани мерцали, покрывшей культи. О зрелище рвани, убогой оравы! О скотская баня…»
Он расплакался. Разговор стал возможен.
* * *
Я узнал о существовании мусульман — которых я тогда еще не называл этим словом — в сортире, во время карантина в шестьдесят втором блоке.
Пока я скрывался там, среди них, мне несколько раз удавалось избежать попадания на самые тяжелые работы — удел всех вновь прибывших, которых держали в карантине, пока не придет транспорт до вспомогательного лагеря или пока их не включат в рабочую систему Большого лагеря в соответствии с профессиональной квалификацией или с интересами подпольной организации. Наряды на работу для находившихся в карантине чаще всего бывали очень тяжелыми, иногда просто убийственно тяжелыми.
Все происходило по указке Scharführer, унтер-офицеров СС. Истошно вопящие, вооруженные длинными резиновыми дубинками (знаменитые Gummi на лагерном жаргоне), они появлялись в Малом лагере, чтобы выловить несколько десятков заключенных, необходимых для окончания каких-нибудь работ.
Они вваливались в барак, за несколько минут выгоняли всех ударами сапог и дубинок, вырывали тюфяки из-под тех, кто пытался — невзирая на кишмя кишевших паразитов — немного подремать.
Выстроив достаточное число заключенных перед бараком в колонну по пятеро («Zu fünf, zu fünf!» — неотступно преследующий рефрен командования СС), под окрики и удары они гнали нас на работы.
В эти минуты я про себя, по памяти старался немедля противопоставить гортанному и выродившемуся до нескольких угроз и ругательств (Los, los! Schnell! Schwein! Scheisskerl!) языку СС музыку немецкого языка, его сложную и блистательную точность.
Мне было легче абстрагироваться от окружающего хаоса, если удавалось не попасть на крайние места в колонне по пять; идеальным было место посередине, где можно было увернуться от резиновых дубинок. Тогда в гортанном рычании СС я мог вспоминать немецкий язык или безмолвно взывать к его красоте.
«Wer reitet so spät durch Nacht und Wind…», или «Ich weiss nicht was soli es bedeuten, dass ich so traurig bin…», или даже «Ein Gespenst geht um in Europa: das Gespenst des Kommunismus»[17].
Даже когда эсэсовцы не собирали заключенных сами, даже когда они приказывали старостам блоков из Малого лагеря привести в то или иное место к определенному часу определенное количество людей из карантина, сама работа происходила под их бдительным присмотром.
То есть в постоянном страхе перед самой неожиданной жестокостью.
Наряды были разнообразны, но всегда тяжелы, даже невыносимы. К тому же совершенно бессмысленны. В карьере, например, Steinbruch, надо было переносить камни с одного места на другое без какой-либо внятной причины или необходимости — по большей части они потом возвращались на то же место. Тяжеленные камни буквально дробили плечо, на которое я их взваливал. Переносить их надо было бегом. Рядом с нами бежали эсэсовцы, старающиеся посильнее ударить дубинкой по спине, и собаки, изводящие нас лаем и норовившие укусить за ноги.
Худшими — и при этом наименее бессмысленными, единственными, к которым можно было приложить категорию смысла, — были наряды в Gärtnerei. То есть наряды на работы в саду. Мы называли их — да они ими и были — «дерьмовыми работами». Так как речь шла о том, чтобы перетаскивать натуральные удобрения из канализации Бухенвальда в огород гарнизона эсэсовцев. Наши испражнения удобряли землю, на которой рос зеленый салат и свежие овощи для столовой СС.
Дерьмо нужно было переносить в деревянных бадьях, висевших на длинных шестах. Их носили по двое, гуськом, удерживая шест на плече. Тут главным развлечением для эсэсовцев было поставить в пару самых несхожих заключенных: доходягу и толстяка, маленького и высокого, хилого и силача, русского и поляка. Несоответствие, естественно, приводило к проблемам, порождало конфликты между двумя носильщиками, перераставшими в ненависть. Ничто так не веселило эсэсовцев, как склоки заключенных, которые они тут же прерывали ударами дубинок.
Но даже если нам удавалось уравнять шаги, подстроиться к ритму товарища, проблемы все равно оставались. Если сохранять ритм, устанавливаемый эсэсовцами, то омерзительное содержимое баков неизбежно выплескивалось на носильщиков. Тогда нас наказывали за то, что мы испачкали одежду — это было строжайше запрещено правилами гигиены. А если и удавалось избежать грязи и зловонных брызг, нас все равно наказывали — за то, что не соблюли установленного времени пробега от канализации до огорода этих господ.
Вот уж поистине дерьмовая работенка!
У подножия каменистой скалы, откуда мы брали камни (в тот день был наряд в карьер, Steinbruch), нас поджидал унтер-офицер СС. Он указывал, кому какой булыжник нести.
Моим ближайшим соседом в очереди за камнями был молодой светлоглазый русский силач. Надо сказать, все молодые русские в Бухенвальде были крепышами. Я терялся в догадках, откуда взялся этот. Во всяком случае, не из моего шестьдесят второго блока, где тогда были одни французы. Точнее, участники Сопротивления, арестованные во Франции, поэтому среди них было несколько испанцев.
Наверное, ему просто не повезло, этому странному русскому, и его схватили во время «облавы» в Малом лагере. Немного позднее, когда он спас мне жизнь (или ее подобие), я решил, что этот молодой русский — воплощение Нового Советского Человека, избавляющегося от тяжкого ига прошлого. Именно таким я его себе представлял. И не только по политическим речам, которые были слишком напыщенны, но по романам Платонова и Пильняка, по стихам Маяковского. Идиотизм, конечно, или, по меньшей мере, наивность. Слепое идеологическое неведение.
С тех пор выяснилось, что Нового Советского Человека — самую кровавую утопию века — следовало искать скорее рядом с прокурором Вышинским или Павликом Морозовым, ребенком, который выдал своих родителей, не сочувствовавших сталинской полиции, и стал за этот подвиг героем Советского Союза.
Но в тот день в бухенвальдском карьере, когда этот ниспосланный провидением русский спас мне жизнь, или ее жалкое подобие, я наделил его всеми предполагаемыми достоинствами Нового Человека — великодушием, братским чувством, самопожертвованием, подлинным гуманизмом… «Главное наше богатство — люди» — так называлась известная речь Сталина.
История доказала ошибочность моей гипотезы, так что теперь я даже не знаю, что и думать об этом молодом русском. Если он не был воплощением Нового Человека, рожденного революцией, то кем же он был? Быть может, в молодом обличье мне явился старый как мир образ ангела-хранителя? Доброго ангела, el ángel bueno, из стихов Рафаэля Альберти[18], которые я читал в юности?
В общем, этот русский взвалил себе на плечо глыбу, которую эсэсовец предназначил мне. Для меня она была слишком тяжела. Воспользовавшись тем, что унтер-садист на секунду отвлекся, русский оставил мне свой камень, гораздо легче. Только благодаря этому я дожил до конца того рабочего дня, который иначе мог бы оказаться последним.
Удивительный поступок, совершенно бескорыстный. Он меня совсем не знал, он никогда меня больше не увидит, ему нечего от меня ждать. Безымянные, бессильные лагерные плебеи, мы все были одинаково беспомощны. Так что это был просто добрый поступок, практически сверхъестественный. То есть заложенное в человеческой природе добро.
Но вернемся к исходному пункту, к подножию скалы. Унтер-офицер СС посмотрел на нас — на молодого русского и меня, — вероятно прикидывая наши силы. Мне едва исполнилось двадцать лет, я был худой, молодой, угловатый. Не очень впечатляющее зрелище, конечно, уж на здоровяка я точно не походил. Эсэсовец ничего не знал обо мне, он судил лишь по внешнему виду, по моей худобе, которую усугубили несколько месяцев тюрьмы и лагеря. По сравнению с русским я явно проигрывал в силе.
Унтер посмотрел на нас, сравнивая. На его лице заиграла улыбка. Улыбка самодовольная, жестокая — и такая человечная, даже слишком человечная. Неподражаемая улыбка злорадствующего человека.
Жестом эсэсовец указал мне на огромный кусок скалы, весивший по меньшей мере тонну. После чего кивнул на гораздо более легкий осколок серого гранита, предназначавшийся моему напарнику-атлету.
Эсэсовец улыбался, потирая руки в черных кожаных перчатках. На левой руке у него болталась длинная резиновая дубинка.
Этот подонок не знает меня, ну так я ему покажу!
Его не было той сентябрьской ночью 1943 года в Ортском лесу. Переправляя груз оружия и взрывчатки, сбрасываемых на парашюте для «Жан-Мари Аксьон», мы наткнулись на кордон военных жандармов. Из засады нас обстреляли, и нам пришлось бросить машины, так как шквальный огонь автоматов пробил шины. Главе партизанского отряда, офицеру запаса, которому предназначался груз, в ночи, в слепой стычке с немцами, удалась сложнейшая операция. Он сумел доставить на место группу прикрытия, которая продолжала перестреливаться с жандармами. Те, к счастью, остались на своих позициях, боясь, вероятно, заблудиться в густом лесу. За это время мы — те, кто не входил в группу прикрытия, — навьюченные как ослы, по ночному лесу перетаскали оружие и взрывчатку в условленное место километрах в пятнадцати.
Ни одного автомата, ни грамма взрывчатки не досталось врагу.
Когда наконец на рассвете все оружие было сложено во временном убежище — в подвале для картошки, — я вспомнил фразу из Сент-Экзюпери: в самом деле, я такое сумел, что ни одной скотине не под силу!
Я поднял тяжеленный кусок скалы, взвалил его на правое плечо. Слепая ярость толкала меня вперед, ненависть грела мне сердце. Через километр я был уже не так уверен в том, что рассчитал свои силы. Мы несли камни по дороге, огибавшей карьер. Вид открывался прекрасный — все еще заснеженный буковый лес, холм Эттерсберг, окутанный дымом крематория, вдалеке, в предгорьях — богатая и плодородная долина Тюрингии.
Самое сложное, казалось, уже позади — с этого места дорога пошла под уклон. Но я переоценил свои возможности. Камень раздирал мне плечо, давил на грудную клетку. Мне не хватало дыхания. Каждый следующий шаг требовал невероятных усилий, от которых все плыло перед глазами. Мне нужно было остановиться хотя бы на минутку, чтобы перевести дыхание.
Молодой русский следовал за мной по пятам. Он шел легко, похоже, без малейшего напряжения. Но он не обгонял меня — присматривал за мной.
Унтер-эсэсовец, покуривая, спокойно следовал за нами. Он ждал, когда же я наконец испущу дух, и продолжал безмятежно улыбаться.
В начале колонны вдруг поднялся шум. Началась суматоха, до нас доносились крики. Заключенные и эсэсовцы беспорядочно заметались.
Наш унтер выхватил пистолет из кобуры. Щелкнул затвором. И помчался к месту происшествия.
Русский догнал меня. Он произнес несколько слов, которых я не понял. По-русски я немного понимаю только ругательства, к слову сказать достаточно однообразные. Русские то и дело посылают друг друга совокупляться с родственницей, преимущественно с собственной матерью.
Но в данный момент русский не ругался. Я не разобрал ни слова «мать», ни матерного глагола.
Должно быть, он давал мне совет. Или, скорее, инструктировал. Я не понимал слов, только жесты. Я усек, что он хочет забрать камень, который я тащил, и дать мне свой. Он тут же перешел к делу — взвалил на плечо камень, пригибавший меня к земле, буквально душивший меня. Взамен я взял его ношу. Мне захотелось кричать от радости, таким легким, как перышко, как бабочка, как женская улыбка, как ватное облачко в голубом небе, был этот «камешек»!
— Быстро, быстро! — крикнул русский.
Это-то я хорошо понял. Он хотел, чтоб я поторопился, потому что унтер скоро вернется. Мы спускались вниз по дороге. Теперь мне было легко, я рысцой трусил под уклон. Русский шел так же быстро, как я, несмотря на тяжесть, которую он теперь тащил, — природная силища.
Мы сгрузили свою поклажу на кучу камней, которую другие заключенные следующим нарядом — может быть, даже завтра или попозже — перенесут на прежнее место, чтобы не нарушать порядок ненужных работ. Бессмысленных, но обучающих. Точнее, переобучающих. Не забудем, что Бухенвальд в нацистской системе назывался «исправительно-трудовым лагерем», Umschulungslager.
Русский посмотрел на меня, свеженький, как огурчик, явно довольный шуткой, которую он сыграл с унтером СС. Он что-то сказал мне, и я различил в его речи знакомый глагол. Не услышав слова «мать», которое обычно шло в паре с этим глаголом, я заключил, что на этот раз он выражает радость по поводу того, что удалось «поиметь» эсэсовца.
Как будто этого ему показалось мало, он решил разделить со мной половину самокрутки. Мы курили, веяло весной, и казалось, жизнь продолжается.
Протягивая мне сигарету, он назвал меня «товарищ». В тот момент это окончательно убедило меня в том, что передо мной Новый Советский Человек. Теперь нужны другие гипотезы.
«Товарищ» — он был просто товарищем.
После этого я, естественно, старался избегать работ в карантине.
Я не мог постоянно полагаться на удачу, которая, казалось, сопутствовала мне. Которая, во всяком случае, меня не оставляла. В Испании, десять лет спустя, в антифранкистском подполье удача все еще была со мной. И там мне говорили, что я везучий, как когда-то заметил Каминский тем давним воскресным днем в Бухенвальде. Но на моем родном языке метафора, обозначающая везение, более телесная, плотская. «Tu si que has naciso con una flor en el culo!» — восклицают испанцы. По-французски — родиться причесанным или с серебряной ложкой во рту; по-испански то же самое — с цветком в заднице. Наверное, можно было бы долго рассуждать о семиотической разнице между этими двумя выражениями, сделать выводы об оральных и анальных тенденциях в этих двух языках. Но пожалуй, не время.
Идея создать группу самозащиты возникла однажды вечером в сортире, после вечернего супа, но еще до комендантского часа. Насколько я помню, нас было трое — Ив Дарье, Серж Миллер и я. Клода Франсис-Бева привел Ив. А Миллер привел Амлена. И только я не привел никого, ведь я никого не знал.
Принцип действия системы самозащиты был прост: надо было всего лишь стараться, чтобы эсэсовцы не застали нас врасплох, когда им приходило в голову сформировать «рабочие» колонны, узнать об этом хотя бы за несколько минут, чтобы успеть укрыться в сортире.
Для этого каждый из нас по очереди нес вахту перед шестьдесят вторым блоком. Прибытие эсэсовцев не могло пройти незамеченным. Еще издали нам было видно, как они собираются на плацу на вершине холма Эттерсберг, на котором раскинулся лагерь. Естественно, отряды эсэсовцев появлялись в лагере не только для того, чтобы выловить заключенных и отправить их на работы. Они приходили, чтобы устроить карательные экспедиции — все более и более редкие, — прочесать бараки, убедиться, что нет симулянтов и сачков. На всякий случай, однако, дозорный всегда сообщал нам о появлении эсэсовцев, и мы спешили укрыться в сортирном бараке. Здесь мы были в безопасности.
Санитарный барак действительно был укрытием и пользовался странным статусом нейтральной территории. Эсэсовцы никогда не преступали его порог. Равно как и капо, насколько я могу судить по своему личному опыту. Только один раз я видел капо — впрочем, это был политзаключенный, «красный треугольник», — прогуливающимся по проходам вдоль сточной канавы, но причины его появления в бараке были особенными.
Этого заключенного-немца, занимавшего важный пост во внутренней администрации, отстранили от любой политической ответственности в подпольной организации лагеря, потому что он был «пылким» педерастом. Прилагательное — leidenschaftlich — употребил сам Зайферт, капо Arbeitsstatistik, когда этот «красный треугольник» явился к нам в контору по каком-то делу. Зайферт отметил своеобразные склонности этого типа с удивлением и уважением одновременно. Я догадался, что капо любит мальчиков совершенной, бескорыстной любовью, что он готов пожертвовать всем ради этой страсти. Он уже пожертвовал членством в компартии, принимая все последствия, которые это могло иметь в Бухенвальде.
Уважение Зайферта, его восхищенное удивление, которое проглядывало в том, как он рассказывал эту историю, имело под собой реальную основу. Зайферт уважал, конечно, не нравы этого капо. Трудно было ожидать понимания или снисходительности, тем более — уважения по такому поводу от ветерана-коммуниста.
Но, как выяснилось, Капо — если я и знал его имя, то совершенно забыл, так что пусть остается Капо с большой буквы, как имя собственное, — несколькими годами ранее вел себя очень мужественно. Около 1942 года, после того как нацисты напали на Советский Союз, некий Вольф, бывший офицер вермахта, стал старшиной лагеря, Lagerältester — самый высокий пост, на который могли рассчитывать заключенные-немцы во внутренней администрации. В тот момент красных в очередной раз потеснили зеленые — уголовники, которые снова вошли в доверие у эсэсовцев.
Отъявленный гомосексуалист, Вольф во всем подчинялся своему молодому любовнику-поляку из ультраправых, ксенофобу и антисемиту. И когда Вольф со своими прихвостнями и милашками пошел войной на красных, чтобы изгнать их со всех важных постов, К. — капо, так и не могу вспомнить его имени! — проявил небывалую храбрость, защищая своих политических соратников от клана Вольфа, и потерял таким образом — из-за приверженности своим взглядам, а вовсе не пристрастиям — всякую надежду получить место во внутренней администрации или хотя бы там удержаться.
Как бы то ни было, правдива легенда Бухенвальда или нет, К. был единственным красным капо, которого я видел однажды прогуливающимся по сортиру в Малом лагере. Он шел по проходу вдоль сточной канавы, разглядывая полуголые тела — все эти бедра, задницы и члены, открытые взгляду.
Сортир посещали не только инвалиды, старики и мусульмане, негодные к работе или полностью изможденные непосильным трудом, сгруженные в бараки для умирающих, из которых пятьдесят шестой блок был, вероятно, самым характерным. В сортире были и лагерные новички из так называемого карантина, то есть заключенные, только что вырванные из мира по ту сторону колючей проволоки, из прежней жизни. В общем, еще сохранившие свежесть. Аппетитные для тех, чей аппетит распространялся на мужские тела.
К. искал добычу, покорную жертву или партнера среди самых молодых. В этом не было ничего невозможного: ищущий взгляд, подаренная или проданная нежность, безнадежность, которую хотелось с кем-то разделить.
Неожиданно мы оказались лицом к лицу. Ему было лет сорок, может, больше. Жгучий брюнет с тусклым цветом лица. Синяки под глазами и пустой взгляд наводили на мысль о внутреннем разладе — результате тщетных поисков. Он увидел меня, узнал. По крайней мере, узнал во мне человека, работающего в Arbeit, которого он уже видел рядом с Зайфертом, военным вельможей в бухенвальдских джунглях.
Что-то мелькнуло в его взгляде. Сначала удивление. Потом понимание — может, я нахожусь здесь по тем же причинам, что и он? И тут же этот понимающий взгляд прорезало черное подозрение — не конкурент ли я на рынке мальчиков?
Я жестом успокоил его. Нет, я здесь не охочусь, ему нечего меня опасаться.
Красные капо в Бухенвальде избегали сортирного барака Малого лагеря — этого двора чудес, купальни Вифезды, базара, где можно обменять все что угодно. Им претило зловоние «скотской бани», «убогой оравы», худющие, покрытые язвами тела вповалку, в униформе из лохмотьев, выпученные глаза на посеревших, изборожденных непомерным страданием лицах.
— Однажды, — говорил мне ошарашенный Каминский, когда узнал, что по воскресеньям я иногда захожу туда, по дороге или после визита к Хальбваксу в пятьдесят шестой блок, — однажды они соберутся все вместе, набросятся на тебя и отберут носки и куртку Prominent. Что ты там забыл, черт возьми?
Объяснять ему было бесполезно.
Я и в самом деле пытался найти то, что его так пугало, ужасало: гротескный, волнующий и жаркий жизненный хаос смерти, с которым нам пришлось столкнуться. Ее прямо-таки осязаемое движение делало этих несчастных близкими и родными. Это мы сами умрем от истощения и дерьма в этой вонище. Это здесь мы можем обрести опыт чужой смерти для расширения собственного кругозора — быть-вместе-в-смерти, Mitsein zum Tode.
Можно, однако, понять, почему красные капо избегали этого барака.
То было единственное место в Бухенвальде, на которое им не удалось распространить свое влияние, куда не протянула свои щупальца созданная ими система сопротивления. Ведь происходившее здесь указывало на то, что их провал всегда возможен. Что им всегда угрожает поражение. Они знали, что их власть, в сущности, хрупка и беззащитна перед капризами и непредвиденными вывертами берлинской политики подавления.
И мусульмане олицетворяли собой возможность поражения, неудачи сопротивления, которой красные капо всегда боялись. Самим своим существованием мусульмане словно предупреждали, что победа эсэсовцев вполне возможна. Они ведь считали нас дерьмом, меньше-чем-ничто, недочеловеками? Вид мусульман лучше всего мог убедить их в этом.
И именно поэтому совершенно непонятно, почему эсэсовцы также чурались сортира Малого лагеря, до такой степени, что сделали из него — естественно, сами того не желая — прибежище свободы. Почему это, интересно, эсэсовцы избегали зрелища, которое должно было бы их радовать и вдохновлять, — зрелища сломленных врагов?
В сортире Малого лагеря в Бухенвальде они могли бы наслаждаться видом недочеловеков, существование которых оправдывало их идеологическую и расистскую надменность. Но нет, они остерегались сюда заходить — парадоксальным образом это место, где так наглядно демонстрировалась их возможная победа, было проклято. Как ели бы СС — в таком случае это было последним сигналом, последним проблеском их человечности (несомненно, год в Бухенвальде наглядно объяснил мне учение Канта о том, что Зло не бесчеловечно, а, напротив того, крайнее выражение человеческой свободы), так вот, как если бы СС закрыло глаза на свою собственную победу, не выдержав картины мира, который они хотели установить с помощью тысячелетнего рейха.
* * *
— Как ты думаешь, удержатся американцы в Бастони? — неожиданно спросил Вальтер.
Прошлой ночью, с субботы на воскресенье, в комендантский час я явился на работу в Arbeitsstatistik, как и было предусмотрено. Там занялся привычной работой — сначала занес в главную картотеку маршруты перемещения рабочих, о которых сообщали разные службы. Выписал имена больных, освобожденных от работы. Затем ластиком стер имена умерших — личные карточки велись карандашом. Так проще — перемещений было много, и поэтому приходилось бесконечно стирать и переписывать. Наконец я вписал имена новеньких в чистые карточки или в те, что освободились после отмучившихся.
Через некоторое время я присоединился к Вальтеру в задней комнате Arbeitsstatistik. «Старина Вальтер», — подумал я. В сущности, стариком он не был. Просто состарился раньше времени. Он застал первые годы в Бухенвальде — сейчас это и представить себе невозможно. Тогда лагерь еще не был санаторием. В 1934 году, когда его арестовали, на допросе в гестапо ему сломали челюсть.
Он до сих пор страдал от болей и совсем не мог жевать. Каждый день ему приходилось таскаться в Revier за плошкой кашеобразного сладкого супа.
Вальтер был одним из немногих немецких коммунистов-ветеранов, с которым еще можно было разговаривать. Одним из тех, кто не сошел с ума. Не превратился в буйнопомешанного, во всяком случае. Я пользовался этим и расспрашивал его о том, как раньше выглядел лагерь. Он отвечал. Мои знания о прошлом Бухенвальда почерпнуты в основном из его долгих ночных рассказов.
Только об одном эпизоде мне не удалось вытянуть из него ни слова, хотя я очень настаивал. Он вообще отказывался говорить о 1939–1941 годах, периоде советско-немецкого пакта. А было бы интересно узнать, что им пришлось почувствовать в то время, им, немецким коммунистам, которых отправлял в лагерь Гитлер, союзник Сталина! Как они пережили этот разрыв? Объективно — единственный раз это нелепое наречие пришлось впору! — так вот, объективно, как повлиял этот немецко-советский пакт на Бухенвальд?
Ничего, ни единого слова, упрямое молчание, деланно тупой взгляд, как будто он не понимал моих вопросов или ему действительно нечего было сказать. Как будто вообще и не было этого дружественного пакта между Сталиным и Гитлером.
Вальтер, как и я, работал в главной картотеке, поэтому мы могли общаться. А еще мы часто одновременно попадали в ночную смену.
Он подогрел два стаканчика черноватой жидкости, которую я и дальше буду называть «кофе».
Ночь за окном была спокойной. Голубоватый снег мерцал под лучами вращающихся прожекторов, которые через регулярные промежутки времени обшаривали улицы лагеря. Но сегодня мы не услышим, как Rapportführer СС хриплым, измученным голосом приказывает выключить печи, Krematorium ausmachen. Этой ночью нечего было и надеяться на воздушную тревогу. Авиации союзников есть чем заняться в другом месте, на Арденнском фронте.
— Как ты считаешь, удержатся американцы в Бастони? — спросил Вальтер.
Можно подумать, он читал мои мысли. Впрочем, в этом не было ничего удивительного — последние несколько дней мы только об этом и говорили.
Под командованием фон Рундштедта, возродившего стратегию нацистского генерального штаба, которая стала решающей в 1940-м, немецкие войска перешли в контрнаступление на Арденнском фронте. Им удалось потеснить войска союзников — и теперь исход сражения зависел от того, выстоят ли американцы.
Бухенвальд гудел как растревоженный улей.
Никому из нас не приходило в голову, что немцам удастся выиграть эту войну. Но сама перспектива того, что они смогут ее продолжить, затянуть агонию, отсрочить победу союзников, была для нас невыносима. Если Бастонь не удержится, наши шансы на спасение уменьшатся. Силы наши были на исходе. Кто сможет выдержать в лагере еще несколько месяцев голода и изнурительной работы?
На самом деле Вальтер не спрашивал. Это были скорее мольба или пожелание. Я надеюсь, что американцы удержатся в Бастони, — был смысл его реплики.
Все, что мне оставалось, — выразить то же чувство.
— Я надеюсь, — ответил я.
Однако выяснилось, что Вальтер озабочен более сложным вопросом.
— Интересно, американцы умеют воевать? — снова заговорил он. — В самом начале японцы их неплохо прищучили.
— В самом начале и русских неплохо прищучили.
Он кивнул, признавая мою правоту, но явно остался недоволен тем, что я пытаюсь его успокоить таким доводом.
— Может, для того, чтобы уметь воевать, нужно быть немного фанатиком? — произнес Вальтер чуть позже.
Должен признаться, этот вопрос застал меня врасплох. Вальтер тем временем продолжал развивать свою мысль:
— Неужели мы, коммунисты, умеем воевать, просто потому, что мы фанатично преданы идее?
Вальтер говорил тихо-тихо, как будто боялся, что его услышат. Но, кроме нас двоих, в задней комнате Arbeitsstatistik никого не было. Возможно, он сам боялся этих слов, боялся, что кто-то способен произнести такое вслух.
Я посмотрел на старого, уже почти седого Вальтера, на его сломанную гестаповцами челюсть. И подумал о «Надежде», романе Андре Мальро. Когда речь заходит о коммунистах, все вспоминают этот роман. Особенно если только что перечитывали его — как я, всего за несколько дней до ареста в Жуаньи.
Я вспомнил о Манюэле, молодом интеллектуале-коммунисте, ушедшем в армию, который объяснял, что теряет душу, утрачивает человеческие черты ровно настолько, насколько приобретает качества хорошего коммуниста и хорошего военного.
В романе Манюэль отдает приказ о расстреле нескольких дезертиров — молодых антифашистов, добровольцев первого призыва, которые бежали с поля боя, когда на них пошли танки итальянцев-франкистов. С этого момента, понимает он, ему нужно душить в себе благородные чувства, жалость, сострадание, великодушие, умение прощать другим их слабости — чтобы стать настоящим командиром. А ведь для того, чтобы выиграть народную войну против фашизма, нужны настоящие командиры и настоящая армия.
Но не с Вальтером мне обсуждать Мальро и его «Надежду». Я бы мог поговорить об этом с Каминским, который сражался в интербригадах и не понаслышке знал многое из того, что описано в романе Мальро.
У Вальтера память забита примерами из другой эпохи, другой политической культуры, менее открытой миру, с ограниченной сектантской ориентацией, заданной Коминтерном в Германии в тридцатые годы, — класс против класса.
В общем вопрос Вальтера повис б воздухе. Однако же он был более чем уместен, он мог бы завести довольно далеко — неужели мы такие хорошие солдаты, просто потому что мы, коммунисты, — фанатики?
Тут дверь задней комнаты отворилась, и вошел Майнерс. Естественно, в его присутствии разговаривать было уже невозможно.
«Вы…? — Генри Сатпен. — Вы здесь уже…? — Четыре года. — Вы вернулись домой…? — Умирать. Да. — Умирать…? — Да. Умирать. — Вы здесь уже…? — Четыре года. — Вы…? — Генри Сатпен»[19].
Вальтер без особых церемоний повернулся к Майнерсу спиной, а я из задней комнате Arbeit вернулся к своему письменному столу, рядом с главной картотекой. Мне хотелось дочитать роман Фолкнера «Авессалом, Авессалом!».
Я взял его в библиотеке на эту неделю ночной работы.
Я нисколько не сомневаюсь в том, что у некоторых эта фраза вызовет раздражение. Или удивление, или даже тревогу — все это мне прекрасно известно. Много лет назад, когда я написал, что нашел в библиотеке Бухенвальда «Логику» Гегеля и прочел ее при сходных обстоятельствах — во время недели ночного дежурства, Nachtschicht (единственно возможные для чтения время и место, и только если работать в бюро или в обслуге командования; для тех же, например, кто работал в сборочном цехе завода Густлов в три смены, это было немыслимо), я получил несколько негодующих писем. Авторы некоторых сетовали. Как у меня язык повернулся сказать, что в Бухенвальде была библиотека? Что за нелепые выдумки? А может, я просто хочу уверить всех, что лагерь был чем-то вроде дома отдыха?
Более коварные читатели заходили с другой стороны. Ах, стало быть, в Бухенвальде была библиотека? И у вас было время читать? Ну так, значит, все было не так уж чудовищно! Не принято ли несколько преувеличивать, живописуя ужасы нацистских лагерей? А может, это вовсе и не были лагеря смерти?
Конечно, таких писем было не очень много. Само собой, я не стал отвечать ни на одно из них. Если потрясенные или ехидные читатели изначально настроены против меня, то они бы остались глухи к любым моим доводам. Если же они были вполне искренни, им самим стоит убедиться в абсолютной правдивости моего рассказа.
В Бухенвальде действительно была библиотека. Это легко проверить. Например, если у вас есть время и вы любите путешествовать, вы можете посетить Веймар. Чудесное местечко, город Гете. Повсюду видны следы пребывания здесь великого поэта. Так же как и напоминания о Шиллере, Листе, Ницше, Гропиусе — словом, обо всех титанах европейской культуры. И если погода будет солнечной — в самом деле, отчего ж не отправиться в путешествие весной или летом? — можно прогуляться по берегу реки Ильм, протекающей в окрестностях города. На краю небольшой зеленой лесистой долины виднеется летний домик Гете, Gartenhaus. Недалеко от моста через Ильм есть скамейка — потрясающее место для того, чтобы просто присесть и отдохнуть. Мысли, которые снизойдут на вас здесь, наверняка затронут самые чувствительные струны вашей души и навсегда останутся в вашей памяти.
Потому что днем раньше — или утром того же дня, если вы выбрали для прогулки к летнему домику послеобеденное время, — вы пройдете несколько километров, которые отделяют Веймар от концентрационного лагеря Бухенвальд, что на холме Эттерсберг, где и сам Гете так любил прогуливаться в компании несравненного Эккермана.
Вы посетите это место, этот памятник европейской истории позора и бесчестья. Вероятно, вы надолго задержитесь в музее Бухенвальда. Здесь хранятся все сведения о лагерной библиотеке. У вас даже будет возможность полистать тот самый экземпляр той самой «Логики» Гегеля, который я когда-то держал в руках. Зато, к моему великому сожалению, здесь больше нет романа Фолкнера, который я читал в декабре 1944 года, когда началась эта история: экземпляр из библиотеки Бухенвальда до сих пор не обнаружен.
Ну, а если у вас нет ни средств, ни желания, ни времени ехать в Веймар, достаточно пойти в книжный магазин и спросить книгу Ойгена Когона «Страна СС», опубликованную в известной серии. В ней вы найдете документальные сведения о библиотеке Бухенвальда и историю ее создания.
Под заголовком «Организованный ад» эта книга Когона была издана по-французски в 1947 году. Речь идет об очень важном во многих отношениях свидетельстве. Во-первых, потому, что Когон занимал ключевой пост во внутренней администрации Бухенвальда, что позволило ему увидеть систему концентрационных лагерей в целом. Он был помощником главврача СС Дингшулера, ответственным за блок медицинских опытов. На этом посту, проявив находчивость, отвагу и упорство, Когон здорово помог антифашистскому движению в Бухенвальде.
В то же время Ойген Когон — и это делает его свидетельство, его исследование еще более ценным — не был активным коммунистом. Христианский демократ по убеждениям, он был решительным противником марксистской идеологии, и, участвуя в движении Сопротивления в Бухенвальде, рискуя жизнью наравне со своими немецкими товарищами-коммунистами, всегда при этом сохранял моральную независимость.
Вот как объясняет Ойген Когон в своей книге происхождение бухенвальдской библиотеки:
«Библиотека для заключенных была основана в Бухенвальде в начале 1938 года. Чтобы собрать первые три тысячи томов, узникам разрешили получать посылки с книгами из дома; или они должны были внести определенную сумму денег, на которую комендатура закупала национал-социалистические произведения… Сама комендатура безвозмездно выделила библиотеке 246 книг, из которых 60 были экземплярами „Майн кампф“ Адольфа Гитлера и 60 — „Мифом двадцатого века“ Альфреда Розенберга. Все они сохранились в прекрасном состоянии, вопиюще новые, совсем нечитанные. С годами библиотека увеличилась до 13 811 книг в переплете и 2000 брошюр… Зимой 1942–1943 годов я часто добровольно записывался в ночную охрану сорок второго блока в Бухенвальде, где периодически подворовывали хлеб из шкафчиков. Я оставался один с трех до шести утра в караульном помещении — там, в этой прекрасной тишине и покое, я изучал сокровища лагерной библиотеки. Было так странно сидеть одному у занавешенной лампы и читать „Пир“ Платона или „Лебединую песню“ Голсуорси, Гейне, Клабунда или Меринга…»
Я в свою очередь — через два года — провел несколько счастливых декабрьских ночей у подножия пылающего крематория в задней комнате Arbeitsstatistik с романом Фолкнера «Авессалом, Авессалом!».
Я оставил старого Вальтера и вернулся к чтению.
Как раз в тот момент, когда вошел Майнерс, я раздумывал о том, не посоветоваться ли с Вальтером насчет касающегося меня запроса из Берлина. Интересно, что он скажет по этому поводу. В его молчании я был абсолютно уверен.
Но вошел Майнерс, и теперь уже ни о чем нельзя было поговорить.
Этот высокий, пышущий здоровьем красавец напоминал какого-то немецкого актера тридцатых годов, персонажа из комедий студии УФА. Вроде Ханса Альберса, например.
Сходство особенно бросалось в глаза из-за его манеры одеваться, которая разительно отличалась от манеры других заключенных, будь то старосты блоков или Prominenten. Надо было специально приглядываться, чтобы различить на его ладно скроенном спортивном пиджаке или на правой штанине брюк из серой фланели прямоугольник порядкового номера, отличающийся от предписанного. Так же обстояли дела и с треугольником национальной идентификации, особенно заметным на сером твиде, так как он был не кричаще-красный, а черный.
Люди типа Майнерса на административном нацистском жаргоне назывались «асоциальными типами».
Осужденный за несколько краж, мошенничеств и злоупотребление доверием, он играл важную роль в жизни лагеря в те времена, когда комендантом был офицер СС Карл Кох. Будучи ответственным за стол СС, Майнерс много путешествовал по всей Германии, закупая продукты, проворачивая всевозможные махинации и обогащаясь благодаря системе липовых счетов, двойной бухгалтерии и взяток. Своими нелегальными доходами он делился с Кохом и другими офицерами СС.
Жена Коха, Ильзе — если помните, я писал об этом в «Долгом пути», — любила заключенных-красавчиков. Она раздевала их в своей постели, чтобы натешиться с ними и посмотреть на их татуировки. А потом эти татуировки возвращались к ней после казни — из кожи заключенных она заказывала абажуры. Сам Кох стал жертвой внутренних дрязг, которые разъедали Тотенкопф — подразделение СС, специально созданное для наблюдения за концентрационными лагерями. В Польше, где он руководил лагерем, его отстранили от должности, доставили в Веймар-Бухенвальд, судили при закрытых дверях за коррупцию и расстреляли за несколько дней до освобождения лагеря американцами.
Хотя «черный треугольник» Майнерс и остался без поддержки своего сообщника Коха, его тем не менее наказали не слишком сурово — бандит всегда сгодится еще на что-нибудь. Естественно, он лишился своего места в администрации столовой СС, но был переведен в Arbeitsstatistik в качестве противовеса Зайферту, чтобы шпионить за ним и осуществлять общий присмотр.
Но это было ему не по зубам. Против Зайферта, военного вельможи в Бухенвальде, у Майнерса была кишка тонка. И через несколько месяцев, несмотря на поддержку Шварца, ответственного СС за Arbeitseinsatz (рабочую службу), Зайферт сделал из Майнерса простого статиста. Чтобы подорвать влияние красного ядра Arbeitsstatistik, нужны были люди порешительнее, посмелее, да и, кроме всего прочего, порасторопнее, чем Майнерс.
Когда испанская коммунистическая организация направила меня на работу в Arbeitsstatistik, Майнерс уже не пользовался никаким влиянием, он лишь выполнял всякие мелкие поручения. Наверняка в глубине души он был очень доволен, что ему разрешили заниматься темными делишками и при этом оставили ему статус человека привилегированного и ни за что не отвечающего.
Мы с Майнерсом друг друга ненавидели. Люто, но молча — никаких громких скандалов во время случайных разговоров, никаких стычек на людях. Но если бы одному из нас представилась возможность ликвидировать другого, думаю, ни он, ни я не колебались бы ни секунды.
Отчего я презирал его, или, скорее, ненавидел, а это была именно ненависть — безудержная, яростная, ежедневно подпитываемая, — догадаться нетрудно: Майнерс с его внешностью недалекого простачка воплощал для меня все, что я на дух не выносил. Все, что я хотел уничтожить, те гнусные черты, которые мы называем «буржуазными» и против которых я боролся. В каком-то смысле мне повезло (во всяком случае, это было удобно): прямо под рукой, перед глазами я имел доведенный до совершенства образ врага. Конечно, я не забывал, что в нынешних обстоятельствах наш главный враг — СС. Но с другой стороны, думал я, это не более чем преторианская защита эксплуататорского общества, находящегося в кризисе. Сражаться с СС, не пытаясь переделать общество целиком, казалось мне несколько поверхностным. В сущности, мне был близок лозунг некоторых подпольных движений в оккупированной Франции: «От Сопротивления к Революции».
И вот Майнерс вошел в заднюю комнату Arbeitsstatistik. Мы с Вальтером тут же примолкли.
Ему было все равно. Он уже привык к тому, что вокруг него в Arbeit образовался заговор молчания, и знал, что ему нечего рассчитывать на доброжелательный интерес к себе со стороны нашей небольшой агрессивной и космополитичной группы.
Майнерс насвистывал амурный шансон Зары Леандер, один из тех, что Rapportführer СС регулярно запускал по воскресеньям через лагерные громкоговорители. Естественно, хрипловатый голос Зары Леандер нравился мне гораздо больше, чем режущий слух свист Майнерса.
Майнерс полез в свою персональную ячейку, явно с целью подкрепиться. Он расположился на другом конце нашего с Вальтером стола со своим хозяйством — маленькая вышитая скатерка, фаянсовая тарелочка, серебряные вилка и нож. Там же он разложил куски белого хлеба, ветчину, банку паштета… Налил себе большую кружку пива.
Вдруг Майнерс — он как раз намазывал толстым слоем паштет на кусок белого хлеба с маргарином — поперхнулся, поднял голову и уставился на меня выпученными черными глазами.
Видимо, он кое-что вспомнил и ему стало не по себе.
За несколько недель до этого, тоже ночью, мы оказались с ним в задней комнате Arbeit. Вдвоем, с глазу на глаз. Та же церемония, что и сегодня: небольшая вышитая скатерка, скрывающая шершавую поверхность стола, изысканные столовые приборы, разложенная напоказ аппетитнейшая снедь.
Я, со своей стороны, цедил кофеек. Поджаренные картофельные очистки были уже съедены. Я посматривал в его сторону, и вдруг меня охватило непреодолимое желание испортить ему пиршество. «Может, хватит уже жрать свое говно у меня под носом? — взорвался я. — Воняет от твоего паштета!» Растерявшись, он сунул нос в банку с паштетом и принюхался. «Это точно дерьмо, — не унимался я. — Из чего сделан этот твой паштет? Мясо из крематория?» Но и на этом я не остановился. В конце концов Майнерса затошнило, ему явно уже было не до трапезы, и он, как ошпаренный, выскочил из задней комнаты Arbeit.
Вот тогда-то он меня и возненавидел.
Он ненавидел во мне иностранца, коммуниста, будущего победителя. Ненавидел тем сильнее, что не мог меня презирать за незнание немецкого языка. Я говорил по-немецки лучше, чем он. Во всяком случае, мой словарный запас был побогаче. Иногда, чтобы позлить его, я начинал громко декламировать немецкие стихи, о которых он не имел ни малейшего понятия. В такие моменты лицо его от ярости наливалось кровью.
Майнерс уставился на меня и уж конечно припомнил этот эпизод. И тут его понесло.
Чего это я уставился? Чего рожу скривил? Это прекрасный паштет, орал он, из столовой СС, это свиной паштет, настоящий свиной паштет. Еще немного, и он завопил бы, что его паштет judenrein, не заражен никаким еврейством. Еще чуть-чуть, и он заявил бы, что его паштет — истинный ариец, что в нем сосредоточена вся красота германской расы. А я, кто я такой, чтобы совать свой нос в его арийский паштет?
Он еще что-то бубнил, собирая свои харчи.
— Я вернусь, — заявил он, — только когда здесь будут только Reichsdeutsche!
На что я заметил ему, что здесь, в Бухенвальде, трудновато, а то и вовсе невозможно, не сталкиваться с иностранцами. И что единственное место, где можно с уверенностью сказать, что тебя окружают только Reichsdeutsche, немцы Германской империи, — это бордель. Если хочешь оказаться среди своих, придется отправиться в бордель, сообщил я ему.
Вальтер рассмеялся, а Майнерс в ярости хлопнул металлической дверцей своей ячейки.
* * *
На роман «Авессалом, Авессалом!» я наткнулся случайно в размноженном на ротаторе лагерном каталоге. Совершенно случайно, листая брошюру.
Мимо библиотечной двери я проходил по нескольку раз на дню. Впрочем, она находилась в том же бараке, что и Schreibstube, секретариат, и Arbeitsstatistik. Между двух контор, в самой середине барака. Сам барак находился в первом ряду зданий, на краю плаца, совсем рядом с крематорием, окруженным высоким забором.
В преддверии ночной смены на следующей неделе я просматривал каталог. И случайно, пролистывая книжечку, наткнулся на Фолкнера. Уже не помню, что конкретно я искал, вероятно, ничего определенного. Просто листал. На букву Г числилось невероятное количество «Mein Kampf» Адольфа Гитлера.
В этом нет ничего удивительного — когда в 1937 году создавался лагерь в Веймаре-Бухенвальде, нацисты хотели сделать из него образцово-показательный исправительно-трудовой лагерь. Для исправления, Umschulung, военных и антифашистов, заключенных на холме Эттерсберг, в лагерную библиотеку была завезена солидная коллекция нацистских шедевров.
Но цель — перековка политических противников нацистского режима — была вскоре забыта. Лагерь стал тем, чем он, собственно, и был, — местом заключения, где людей уничтожали каторжным трудом. Уничтожали не прицельно, если хотите, в том смысле, что в Бухенвальде не было газовой камеры. Так что не было систематического отбора самых молодых, самых слабых, самых обессилевших на немедленную смерть. Голодные, забитые заключенные в большинстве своем, однако, были вовлечены в систему военного производства, чей результат не мог быть равен нулю. И бесплатную рабочую силу уже нельзя было так просто уничтожать, особенно когда пространство нацистской империи начало съеживаться, точно шагреневая кожа.
Итак, «Авессалом, Авессалом!» Фолкнера.
Естественно, по-немецки. В переводе Германа Штрезау, издан в 1938 году. В марте этого года, чтобы быть абсолютно точным, тиражом четыре тысячи экземпляров.
Конечно, все эти подробности я узнал и уж тем более запомнил не в Бухенвальде. Я прочел роман за неделю ночной смены в декабре 1944 года. Далеко в Арденнах шла битва, исход которой был нам небезразличен. Но у меня в памяти не удержалось ни имени переводчика, ни количества экземпляров тиража 1938 года — года Мюнхенского сговора и Хрустальной ночи[20], которая была одним из его последствий.
Я запомнил наизусть целые куски из романа, фразы, которые я повторял как заклинание. По-немецки, конечно. Впервые я прочел «Авессалом, Авессалом!» по-немецки.
«Und Sie sind —? Henry Sutpen. Und Sie sind hier —? Vier Jahre. Und Sie kehrten zurück —? Um zu sterben. Ja. Zu sterben —? Ja. Zu sterben. Und Sie sind hier —? Vier Jahre. Und Sie sind —? Henry Sutpen».
Да, тем декабрьским днем, в воскресенье, пока Каминский искал подходящего покойника, место которого я мог бы занять, то есть мертвеца, который продолжит жить под своим собственным именем, но в моем теле и с моей душой, возможно, в тот момент когда Каминский, кажется, уже нашел мне мертвеца, необходимого, чтобы я мог продолжать жить, если запрос из Берлина окажется подозрительным — мне в который раз повезло, невероятно, парень моего возраста, с точностью до недели, студент и к тому же парижанин, невероятное везение, не так ли? — пока Каминский ликовал, что ему удалось найти подходящего, как ему казалось, покойника, который, впрочем, еще не умер, и от этого мне было не по себе, я в это время повторял, как заклинание, фразы из романа Фолкнера, когда Роза Колдфильд и Квентин Компсон обнаруживают Генри Сатпена, спрятавшегося в родном доме, куда он вернулся умирать.
За два года до этого — целую жизнь назад, за много смертей до этого — одна девушка дала мне почитать роман Уильяма Фолкнера «Сарторис». И моя жизнь изменилась. Я имею в виду — та жизнь, о которой я только мечтал, пока еще только воображаемая жизнь писателя.
Совсем молодая девушка открыла мне Уильяма Фолкнера.
Это произошло в суровом и братском оккупированном Париже в кафе в Сен-Жермен-де-Пре. Мне уже доводилось упоминать о призраке этой молодой девушки с голубыми глазами… (Я вдруг пожалел, что не могу сменить язык и рассказать о ней по-испански; насколько это было бы лучше, если бы я мог вспоминать о ней по-испански или хотя бы смешать два языка, но при этом не слишком заморочить голову читателям! Ведь писатель может заставить читателя перескакивать с одной истории на другую, гладить его против шерсти, провоцировать на размышления или на самые глубинные реакции; естественно, он может даже оставить читателя холодным, проявить к нему невнимание, сделать так, чтобы тому недоставало писателя. Но ни в коем случае нельзя, мы просто не имеем права сбивать читателя с толку, с пути, никак нельзя допустить, чтобы читатель не знал, где он находится, на какой дороге, даже если он не знает, куда эта дорога ведет. Мне бы двуязычных читателей, которые бы могли перескакивать с языка на язык, с французского на испанский и обратно, не только не напрягаясь, но с радостью, наслаждаясь игрой языков и слов! Короче, если бы я мог вспомнить по-испански об этой девушке, я бы сказал, что она tenía duende — похожа на призрак, что она tenía ángel — похожа на ангела. Какой другой язык вы можете вспомнить, где, когда речь заходит об очаровании женщины, говорят, что она похожа на призрак или на ангела?)
В других местах, в других рассказах я иногда называл эту девушку ее настоящим именем, иногда скрывал ее за разными романными именами — все годилось, все шло в ход, искренность, хитрость рассказчика, предлог или прихоть писателя, лишь бы она появилась между строк памяти, в стуке взволнованного сердца.
Однако, естественно, не в Бухенвальде я запомнил имя переводчика «Авессалом, Авессалом!» — Герман Штрезау, — как и то, что первый тираж немецкого перевода, вышедшего в марте 1938-го, был четыре тысячи экземпляров.
Эти детали я узнал в Мюнхене у Ханса Магнуса Энценсбергера. Через пятьдесят с лишним лет, в 1999 году, в конце века, полного шума и ярости, но также роз и вина.
Я приехал в Мюнхен на симпозиум, конференцию или что-то в этом духе. Помню, что погода была хорошая: вероятно, стоял май или июнь. В тот день я обедал с Хансом Магнусом. Пить кофе мы пошли к нему. Точнее, к нему на работу: огромное просторное светлое помещение, заполненное книгами и украшенное кое-какими редкими ценностями. Достаточно редкими, очень ценными. Например, двумя или тремя небольшими фламандскими полотнами периода расцвета, загадочно мерцавшими синевой Патинира[21].
Вечером у меня был Lesung — чтение, странная и приятная немецкая традиция. Люди покупают билеты, приходят в театр, чтобы послушать, как писатель читает отрывки из своего произведения. Я читал по-немецки, так что необходимости в переводчике не было.
Для того вечера я подготовил коллаж, или монтаж, из фрагментов трех рассказов о моем бухенвальдском опыте. Между собой они связаны напряженной, бесконечной и тяжкой работой памяти.
Шаря по полкам, я неожиданно обнаружил желтые книги в твердом переплете — произведения Фолкнера, опубликованные в издательстве «Ро вольт».
Я обычно разглядываю книги в тех домах, куда меня приглашают. Меня иногда укоряют за это, потому что, похоже, я делаю это порой слишком бесцеремонно, слишком откровенно или пристально. Но библиотеки меня притягивают, ведь через них можно понять человека. Симптоматично и отсутствие библиотеки, отсутствие книг в доме, который без них становится мертвым.
Я разглядывал библиотеку Энценсбергера, очень, кстати, хорошо организованную. Тематически, в алфавитном порядке внутри каждого раздела.
И неожиданно — романы Уильяма Фолкнера. С сильно бьющимся сердцем я снял с полки «Авессалом, Авессалом!».
Листая книгу, я искал заключительные фразы, заклинание, оставшееся в памяти полвека назад, в ту декабрьскую ночь в Бухенвальде (Und Sie sind? Henry Sutpen. Und Sie sind hier —? Vier Jahre. Und Sie kehrten zurück —? Um zu sterben. Ja.). Разыскивая этот пассаж, я рассказывал Хансу Магнусу о том, как прочел роман Фолкнера в Бухенвальде той давней зимой.
И тогда, удостоверившись, что это точно тот самый перевод, который был у меня в руках, перевод Германа Штрезау — другого-то и не было — 1938 года издания, сообщив мне, что второе издание 1948 года вышло тиражом четыре тысячи экземпляров, а в 1958 году — еще одно тем же тиражом, то есть всего двенадцать тысяч экземпляров, Ханс Магнус Энценсбергер подарил мне свой.
На всякий случай я держу его под рукой.
В память об Энценсбергере и о наших общих воспоминаниях. Больше трех десятков лет общих воспоминаний, начиная с Кубы в 1968 году, когда мы оба участвовали в создании Фиделем Кастро коммунистической партии ленинского типа, необходимой ему, чтобы превратить демократическую революцию — которая прекрасно обошлась без этой партии для победы над диктатором Батистой — в систему реального социализма.
В память о чтении Фолкнера давным-давно в Бухенвальде декабрьскими ночами 1944 года, когда американские солдаты не отдали ни пяди земли в Бастони, хотя они и не были фанатиками.
* * *
— В шесть часов в Revier! — сказал Каминский.
Время шло к шести — было пять с четвертью. Темнело, зажигались фонари. Снег поблескивал в пучках мигающего света прожекторов, которые уже начали обшаривать лагерь.
Очень скоро я узнаю, какой мертвец поселится во мне в случае необходимости, чтобы спасти мою жизнь.
Каминский насмешливо добавил: «До шести веди себя как обычно по воскресеньям — развлекайся со своим профессором и со своими мусульманами!»
Совет совершенно излишний. Я действительно навестил Мориса Хальбвакса и снова попытался разыскать юного мусульманина в сортирном бараке.
Но до этого я вернулся в сороковой блок, где у меня была назначена встреча с соотечественниками.
В последние годы это слово практически исчезло из моего лексикона. Соотечественники? Господи, из какого отечества? С тех пор как четыре с лишним года назад в 1939 году на бульваре Сен-Мишель в Париже я твердо решил, что больше никто и никогда не примет меня за иностранца из-за акцента, с тех пор как я добился этого, мой родной язык, мои воспоминания о родине — детские, врожденные — стерлись, были вытеснены из сознания, затянуты в пучину немоты.
Иногда — но, похоже, я делал это, чтобы убедить самого себя или тех, к кому я обращался, и одновременно чтобы не вдаваться в слишком длинные и бесполезные объяснения, — я говорил, что французский язык — единственное, что похоже для меня на родину. Так что не зов земли, не голос крови, но закон желания оказался для меня решающим. Я действительно хотел не только овладеть этим языком, поддавшись его очарованию, но и надругаться над ним, изнасиловать. Язык Жида и Жироду, Бодлера и Рембо, но также — возможно, особенно по сути своей — язык Расина: совершенное сочетание прозрачного мастерства и замаскированного насилия.
Конечно, нельзя сказать, что я совсем забыл испанский. Он всегда оставался со мной, он есть, но его и нет, вроде как в коме, он виртуален, обесценен, так как говорить на нем не с кем.
Однако при насущной необходимости, мне кажется, я мог бы к нему вернуться.
Единственной тайной и сокровенной нитью, еще связывавшей язык моего детства с моей настоящей жизнью, была поэзия. Будь я верующим, эту роль, вероятно, сыграла бы молитва. В таком случае, например, странно было бы читать «Отче наш» по-французски. Но верующим я не был. Так что не о чем говорить.
Нить поэзии и еще — чуть не забыл — нить цифр и счета. Тоже из детства, как считалочки. Мне всегда приходилось вполголоса повторять цифры по-испански, чтобы удержать их в памяти. Номера домов или телефоны, даты встреч или дни рождения: мне надо было произнести их по-испански, чтобы запомнить.
Испанский также навсегда стал для меня языком подпольной жизни.
Но поэзия поддерживала во мне — на заднем плане, на глубинном уровне совершенной благости и благодати — живую связь с моим родным языком. В первые годы изгнания и оккупации я даже обогатил свой испанский поэтический багаж. Именами Луиса Сернуды и Сесара Вальехо, например, которых до этого я не знал или знал плохо, скорее по слухам, чем на слух.
В Бухенвальде ситуация неожиданно кардинально изменилась.
Я снова оказался в испаноязычной среде — во всем многообразии акцентов, музыки и словаря уроженцев разных районов Испании. Я вспоминал забытые слова, чтобы сказать: холод, голод, смерть. Чтобы сказать: братство, надежда, благодарность.
Так что в Бухенвальде, в самой дальней ссылке, на границе небытия — «östlich des Vergessens», сказал бы я по-немецки, «на востоке от забвения», перефразируя известное стихотворение Пауля Делана, — в некотором смысле почти утратив отечество, я снова обрел свои ориентиры и корни, тем более живучие, что они были обращены в будущее. Слова из моего детства не только помогли мне снова обрести национальность, утерянную или почти что стертую жизнью в изгнании, которое, в свою очередь, обогатило эту национальную идентификацию; слова испанского языка стали для меня открытием грядущего, приглашением к будущим приключениям.
Во всяком случае, именно в Бухенвальде в среде испанских коммунистов выковалась идея меня самого, которая позже привела меня в ряды подпольщиков-антифранкистов.
Итак, у меня была назначена встреча с соотечественниками-испанцами. Я снова был связан с ними сильным чувством общности.
¡Ay que la muerte me espera Antes de llegar a Córdoba! Córdoba Lejana y sola[22].Я узнал голос Себастьяна Мангляно, моего друга и соседа по нарам.
Было очень важно, может быть жизненно необходимо, делить койку, изначально предназначенную для одного заключенного — да и для одного она была маловата, — с настоящим другом.
Aunque sepa los caminos Yo nunca llegaré a Córdoba…[23]Когда я появился в столовой левого крыла, во флигеле С, на втором этаже бетонного здания сорокового блока, там шла репетиция спектакля. Мы готовили андалузский спектакль — я не решаюсь назвать его фламенко, так как среди нас не оказалось настоящего исполнителя. Доморощенные артисты разучивали тексты.
У Себастьяна был глубокий, чистый голос приятного тембра. Естественно, его пение не было безупречным. Так, ему не удавалось выжать все возможное из глухой, навязчивой музыкальности гласной «а», повторяющейся в поэтических текстах. Но нельзя требовать от него слишком многого — все-таки он был металлургом, а не профессиональным актером. Однако и он, совсем юным сражаясь в пятом корпусе республиканской армии на Эбрском фронте, лицедействовал в театральной труппе агитпропа.
Во всяком случае, произнося стихи Лорки, Мангляно удалось избежать кастильской напыщенности — естественной для этого повелительного, имперского языка с торжествующей звуковой закругленностью, которую нужно уметь сдерживать, модулировать. Иногда мне казалось, что стоит оставить его на произвол судьбы, и этот язык решит, что он — язык самовыражения Бога!
Но Себастьян Мангляно читал Лорку спокойно, без эмфазы. «¡Ay que la muerte me espera, antes de llegar a Córdoba!» Эту горькую жалобу можно было бы прочесть выспренно, напыщенно. Но мой сосед по нарам произносил ее просто и естественно. «Я со смертью встречусь прежде, чем увижу башни Кордовы», примерно так.
Так что я мог быть спокоен. Наши самодеятельные актеры выучили наизусть тексты и куплеты.
Подпольная организация испанской коммунистической партии в Бухенвальде, среди прочего, назначила меня, как мы сказали бы сегодня — довольно глупое, пожалуй, даже смешное слово, — культработником.
Эту обязанность мне нелегко было выполнять: практически невозможно организовать доклады и беседы вечерами между перекличкой и комендантским часом. Или во второй половине дня в воскресенье. Докладчиков не сыскать — мало у кого был хорошо подвешен язык.
Испанское сообщество в Бухенвальде, и так не слишком многочисленное, было точным отражением социального состава «красных испанцев» во Франции — очень мало интеллектуалов и людей свободных профессий, подавляющее большинство пролетариев.
Только не подумайте, что я жалуюсь. В самых разных подпольях моей долгой подпольной жизни я всегда ценил знакомство с пролетариями, с бойцами-рабочими. Думаю, теперь, по прошествии времени, могу сказать без иллюзий и без хвастовства, что и они ценили меня.
Из этой категории активистов, знакомства с которыми были мне интересны и полезны — общаясь с ними, я постигал таинства братской любви, — я исключаю руководителей испанской компартии. По крайней мере подавляющее большинство, за некоторыми очень редкими исключениями. Не потому, что они не были из рабочих. Они были пролетариями, и какими! Они кичились своим происхождением, которое, по их мнению, давало им право идеологической первой ночи и чувство собственной непогрешимости. Врожденная принадлежность к этому классу преобразилась в их сознании в идею, что только рабочие могут руководить социальным движением, в чувство онтологического превосходства над борцами-интеллектуалами. Не говоря уже о простых смертных.
Как бы то ни было, в испанской коммунистической организации Бухенвальда не хватало интеллектуалов. Так что совершенно невозможно было организовать какие-либо беседы или доклады. Мне оставалась только поэзия.
Поэтому я проводил долгие ночные часы — иногда и дневные, если в Arbeitsstatistik было не очень много работы, — записывая испанские стихи, какие мог вспомнить. В то время у меня была прекрасная память, я мог прочесть наизусть сколько угодно стихов самых разных поэтов, сонеты Гарсиласо или Кеведо, но особенно любил Лорку, Альберти, Мачадо и Мигеля Эрнандеса. И многих других.
На основе этих воссозданных, заново рожденных поэтических текстов, которые я читал своим товарищам и которые самые способные выучили наизусть, мы и создали два или три спектакля. Сейчас на очереди андалузский. Повторюсь — я не решаюсь сказать «фламенко», пуристы меня поймут.
Однако, несмотря на невозможность вставить туда canto hondo, благодаря текстам Лорки и нескольким народным песням, выцепленным из памяти тем или иным заключенным, нам удалось передать отчаяние и страх, вызываемые Гражданской гвардией[24] у андалузских цыган и безземельных крестьян.
¡Oh репа de los gitanos! Pena limpia y siempre sola. Oh pena de cauce oculto Y madrugada remota![25]Ну вот, я вернулся в страну, в пейзажи, в слова моего детства.
— Веди себя как обычно в воскресенье, — насмешливо напутствовал меня Каминский. — Развлекайся со своим профессором и со своими мусульманами!
Я вышел из пятьдесят шестого блока, где угасал Морис Хальбвакс. В тот день — день моего еженедельного посещения — я попытался заинтересовать его или хотя бы отвлечь от медленного умирания, от смерти, напомнив ему его же эссе «Социальные рамки памяти», которое я читал года за два до этого, когда ходил на его семинар в Сорбонне.
Эта идея пришла мне в голову с утра, когда Каминский и Ньето прервали мой сон. Хотя, возможно, все было наоборот, и настойчивые удары кулака Каминского по стойке нар оформили разрозненные и разномастные образы-воспоминания в связный сон, где стучал молоток по крышке гроба (и я знал, что это заколачивают гроб моей матери, хотя в то же время внутренний голос во сне говорил мне, что это невозможно, что гроб матери заколотили без меня, что я при этом не присутствовал; к тому же это не могло происходить в океане, окружавшем меня во сне, прерванном ударами кулака Каминского, а не, как это было на самом деле, в нашей квартире на улице Альфонса XI в Мадриде). Может быть, это удары кулака Каминского по стойке нар одновременно породили и прервали сон, придали ему ту форму, в которой я его запомнил?
Так или иначе, еще до того, как Каминский приказал мне одеваться («надо поговорить»), я успел подумать, что надо бы позже спросить об этом Хальбвакса. Эти вопросы — сны, образы-воспоминания, язык, память — он рассматривал в начале своей книги.
Но в тот день Морис Хальбвакс даже не слышал моих вопросов — разговора не получилось. Он умер через несколько месяцев, в середине марта 1945-го, но тогда, в конце декабря 1944 года, он уже потонул в дремотной, невозмутимой неподвижности.
Он проснулся всего дважды на несколько секунд. В первый раз, осознав мое присутствие, когда я стоял около нар, где он лежал в забытьи рядом с Анри Масперо. Его веки задрожали, подобие улыбки пробежало по восковому лицу.
«Потлач!»[26] — прошелестел он. Это было слово из прошлого, пароль, вызов смерти, забвению, угасанию мира. Когда я в первый раз увидел его в Бухенвальде, осенью, я напомнил ему его лекции о потлаче. Он обрадовался возможности повспоминать Сорбонну, 1942 год, свои лекции об экономике потлача.
Сегодня умирающий Хальбвакс приветствовал меня практически неслышным — но он-то наверняка прокричал его изо всех сил — возгласом «Потлач!», и этим он хотел не только показать, что он узнал меня, но и вспомнить — через одно-единственное слово — прежнюю жизнь, мир за пределами колючей проволоки, свою профессию социолога.
Немного позже, когда мы разговаривали около его нар, а он лежал с закрытыми глазами и, казалось, готов был покинуть свое бренное тело, Хальбвакс неожиданно посмотрел на нас — вероятно, искал знакомые лица, чтобы задать главный вопрос.
— Бастонь? — спросил он.
Заговорив разом — что-то сродни беспорядочному, но братскому хору, — мы заверили его, что американцы держатся в Бастони, что они не сдали ни пяди.
«Потлач» и «Бастонь» — Морису Хальбваксу хватило двух слов, чтобы доказать, вопреки пожиравшей его смерти и уже почти поглотившему его небытию, что он принадлежит миру живых.
— В шесть часов в Revier! — сказал Каминский.
Осталось чуть больше получаса.
Я только что вышел из пятьдесят шестого блока вместе с Ленуаром и Отто, которые последние несколько недель участвовали в наших воскресных беседах у нар Мориса Хальбвакса. Видимо, уж не знаю как, но среди интеллектуалов Бухенвальда пополз слушок, что по воскресеньям в пятьдесят шестом блоке вокруг профессора Сорбонны собирается кружок и можно поговорить. Там без конца появлялись все новые лица.
В то воскресенье — возможно, мое последнее воскресенье под собственным именем — я увидел там Ленуара. Или Лебрена? В любом случае это было не настоящее его имя. Он был австрийским евреем, и его фамилия была не Ленуар, не Лебрен. Если я правильно помню, его звали Киршнер, Феликс Киршнер. Во всяком случае, я уверен в том, что имя его действительно было Феликс. В остальном я уверен меньше. Его арестовали во Франции с фальшивыми документами на имя Ленуара или Лебрена — одно из двух, это точно, не Леблан, не Леру, не Легри; его фамилия точно была то ли черного, то ли коричневого цвета[27]. Под этим именем гестапо и отправило его в тюрьму, не подозревая, что под банальной французской фамилией скрывается венский еврей.
Как бы то ни было, Ленуар или Лебрен — я никак не могу выбрать — появился в Arbeitsstatistik осенью 1944 года. Я так и не узнал, направили ли его к нам в Arbeit из политических соображений. Если да, то я понятия не имею, какую компартию он представлял — французскую или австрийскую? Но может быть, его назначили просто «по профессии», потому что он говорил почти на всех европейских языках. По крайней мере, на языках тех стран, из которых формировался контингент заключенных в империи СС.
Так или иначе, Ленуар — орел или решка, выбираю Ленуара! — был человеком красноречивым и образованным. Казалось, он от души наслаждался разговором, независимо от обсуждаемой темы, и любую тему мог повернуть и так, и эдак. А у меня к нему было множество вопросов, которые я и задавал во время обеденного перерыва или вечером, после переклички.
Дело в том, что за несколько лет до этого на улице Блез-Дегофф, у Эдуарда Огюста Ф. (кажется, я уже рассказывал об этом человеке и его замечательной библиотеке) я прочел «Человека без свойств» Роберта Музиля. К тому же с 1934 года, когда рабочее ополчение было раздавлено в обеих странах реакционными правыми католическими правительствами, ставшими колыбелями фашизма, схожая печальная историческая судьба постигла Австрию и Испанию. Так что мне было интересно узнать мнение этого венского профессора, гражданина республики, расшатанной извращенным наследством музилевской Какании и стертой Гитлером с карты мира не только без сопротивления, но с мазохистским энтузиазмом большей части австрийцев в 1938 году — году всех поражений.
Уже в первом нашем разговоре обнаружилось, что я не потеряю зря времени, слушая его рассказы об Австрии. Речь шла — ни больше ни меньше! — о докладе Эдмунда Гуссерля, на котором он (Ленуар, то есть Киршнер, хотя теперь меня взяло сомнение, не был ли он на самом деле Крейшлером?) присутствовал и теперь пересказывал мне его содержание.
В 1935 году — доклад был прочитан в мае — Эдмунда Гуссерля уже выперли из немецкого университета, подчеркнул Ленуар, потому что он был евреем, и Мартин Хайдеггер уже снял посвящение с первого издания «Бытия и времени». Посвящение 1926 года теперь, после 1933 года, не казалось Хайдеггеру ни уместным, ни своевременным, тем более что там шла речь об изъявлении таких чувств, как «глубокое уважение» (Verehrung) и «дружба» (Freundschaft), которых еврей вроде Гуссерля ни в коем случае не заслуживал, во всяком случае публично.
Даже теперь, шестьдесят пять лет спустя, в наше время формирования единой Европы, мы с большой пользой для себя можем ознакомиться с текстом доклада Гуссерля, который он прочел — Ленуар помнил это точно — также и в Праге, через несколько месяцев после Вены.
Ленуар только не мог мне сказать — потому что он не знал, а может, знал, но не запомнил, — что молодого философа, который пригласил Гуссерля в Прагу звали Ян Паточка. Гораздо позже, несколько десятилетий спустя, став глашатаем Хартии 77[28], Ян Паточка умрет в Праге от остановки сердца после допроса в коммунистической полиции. Допроса наверняка очень грубого, агрессивного, жестокого. В день похорон этого великого философа — просто возмутительно, что его имя неизвестно во Франции — чешская полиция прикажет закрыть все цветочные магазины в Праге, чтобы не было на могиле Паточки моря цветов, принесенных верными ему свободными людьми.
Но Ленуар не мог рассказать мне о Яне Паточке в Бухенвальде в 1944 году. Зато я мог рассказать ему, что благодаря Гуссерлю — по крайней мере, частично, не могу же я лишать себя личных заслуг — я получил второе место по философии на конкурсе в 1941 году. Благодаря Гуссерлю и Эммануэлю Левинасу, который мне его открыл.
В 1941 году я учился в классе с углубленным изучением философии и в библиотеке Сент-Женевьев случайно наткнулся в «Философском журнале» на статью Левинаса, что-то вроде подготовки к чтению Гуссерля и Хайдеггера, введения в феноменологическую теорию, о которой нам ничего не рассказывал на уроках наш лицейский учитель, некий Бертран — прекрасный педагог, но слабый теоретик, страстный почитатель истинно французского идеализма в духе Виктора Кузена, — ну, вы понимаете, что я имею в виду!
Но, несмотря на это, Бертран сумел заразить меня страстной любовью к философии — к разным философским теориям, кроме его собственной, совершенно несостоятельной.
Напомню, это было время, когда главными фигурами университетской философии были Ле Сенн и Лавель. Жан-Поль Сартр был для нас не более чем писателем, автором «Тошноты», а основополагающее эссе Мерло-Понти «Структура поведения» еще не напечатали.
Таким образом, Эммануэль Левинас зимой 1940–1941 года открыл мне учение Гуссерля и Хайдеггера. Я прочел все их произведения, какие только смог достать, и все, что было написано о них. Очень мало! Но все-таки было «Бытие и время», которое я прочел, после долгих сомнений, потому что для этого пришлось идти в немецкую библиотеку на бульваре Сен-Мишель, а ведь я поклялся себе, что ноги моей там не будет.
Так что, когда 13 мая 1941 года я оказался в зале Экзаменационного центра на улице Аббе-де-л’Эппе на сочинении по философии на конкурсе для лицеев и коллежей и нам прочли тему — ее точная формулировка уже стерлась из памяти, но речь там шла о проблемах интуитивного познания, — я выложил все, что прочитал об этом у Гуссерля.
По этому поводу моего преподавателя Бертрана терзали разноречивые чувства. С одной стороны, он был счастлив, что один из его учеников получил премию на конкурсе. С другой — опечален тем, что я построил свои рассуждения на философских теориях, подрывающих его идеалистическое мировоззрение.
— Не умирай! — еле слышно сказала она на пороге.
И нежно, украдкой легонько погладила меня по щеке.
Мы вместе заночевали на улице Висконти, застигнутые врасплох комендантским часом. Но только утром мы в первый раз прикоснулись друг к другу — совершенно невинно, ее рука, моя щека.
Я вздрогнул. Умереть? Об этом не могло быть и речи. Той весной 1943 года я был уверен, что бессмертен. Во всяком случае, неуязвим. Почему же она сказала это? Неожиданная слабость?
Джулия — под этим именем ее знали в подполье — подготовила мою последнюю встречу с «Рабочими иммигрантами», коммунистической организацией иностранцев во Франции. Там я общался с Брюно и с Кобой. И в последнее время с Джулией. Но решение было принято: я уходил работать в «Жан-Мари Аксьон», в сеть Букмастера. Там будет оружие, а мне надо было сменить оружие критики на критику оружием.
Эту марксистскую формулу я вспомнил, только чтобы показать, какими идеями был одержим в девятнадцать лет — какая требовательность, какие иллюзии, какая горячка и желание жить.
(Умереть? О чем это она говорит? Ведь я же неуязвим!)
Итак, оружие: его сбрасывали на парашютах. Партизаны в Бургундии, «Жан-Мари Аксьон». С согласия «Рабочих иммигрантов» я перешел в сеть Букмастера. Но из соображений безопасности надо было оборвать все прежние связи. Каждый у себя, никаких встреч, губительных в случае ареста!
Уж не знаю почему — может быть, потому, что все уже было сказано, потому, что это была последняя встреча, потому, что наши дороги должны были разойтись, да, наверно, все вместе, — Джулию потянуло на откровения.
Конечно, ничего конкретного, ничего по-настоящему личного. Лишь намеки, комментарии по поводу книг, по которым можно было о чем-то догадаться, воссоздать какие-то события ее жизни. Я уже знал, что она из Австрии; из Вены; возможно, еврейка. Скорее всего, еще очень молодой — когда я с ней познакомился, ей было около тридцати лет — она работала в аппарате Коминтерна.
Я уже имел возможность оценить, насколько она подкована в теории. Но я понятия не имел о ее литературных вкусах. В частности, в поэзии. В тот вечер она рассказывала мне о Бертольде Брехте, о котором я почти ничего не знал. Она читала мне наизусть стихи Брехта. Некоторые строчки навсегда врезались в память. А я читал ей стихи Рафаэля Альберти и тут же переводил. Особенно ей понравилось слушать его по-испански — из-за звучности, музыки языка.
От стихотворения к стихотворению, от открытия к открытию, и вдруг оказалось, что уже слишком поздно и наступил комендантский час. Тем не менее я попытался уйти с улицы Висконти и добраться до своего тогдашнего жилища, прижимаясь к стенам. Напрасный труд — на улице Бонапарта ночную тишину тут же прорезали полицейские свистки.
Со всех ног я кинулся обратно.
Перед моим поспешным и неудачным уходом мы успели повздорить. Вообще-то Джулия просто хотела, чтобы я вернул ей книгу, она мне дала почитать. Точнее, дала мне возможность взять ее почитать. В последнее время раз в неделю в определенный день, в определенный час я мог приходить в богатую квартиру в седьмом округе. Дверь открывала пожилая дама, надо было сказать пароль. Хозяйка провожала меня до скрытой за тяжелым ковром двери, которая вела в комнату, полную книг.
Это была настоящая библиотека Али-Бабы: все марксистские книги, изданные к тому времени. Исключительно на немецком. Там я смог углубить свое знакомство с философскими произведениями самого Маркса и прочесть некоторые из полемических и теоретических текстов авторов, ставших с тех пор мифическими и проклятыми. Часто то и другое вместе.
Из всех этих книг самое большое впечатление на меня произвела книга Лукача «История и классовое сознание» («Geschichte und Klassenbewusstsein») — она поразила меня как гром среди ясного неба. В той подпольной библиотеке на улице Лас-Казес было два экземпляра.
Тот, который я взял почитать, и стал яблоком раздора между мной и Джулией. Она хотела, чтобы я вернул его перед тем, как оборвать все контакты. Я доказывал, что эта книга нужна мне для марксистского образования. Она говорила, что это эссе Лукача подверглось резкой критике со стороны теоретиков Коминтерна, что лучше бы не использовать столь еретическую книгу в целях теоретического образования. Я отвечал, что если Лукач еретик, то надо немедленно изъять его книгу из подпольной библиотеки, чтобы не распространять заразу среди читателей. А у меня она будет недоступна для слабых душ!
Она обозвала меня софистом, но невольно улыбнулась.
Во время спора — наконец Джулия махнула рукой и разрешила мне оставить у себя экземпляр эссе Лукача, к сожалению, он сгинул в водовороте тех лет, как и вся моя юношеская библиотека с улицы Бленвиль, — уж не знаю зачем, я рассказал ей о моих философских достижениях на конкурсе. Наверное, для того, чтобы доказать ей, что я имею полное моральное право оставить у себя эту книгу.
И тут она захотела узнать все об этой награде.
У меня перед глазами мое сочинение, написанное в мае 1941 года.
Несколько лет назад министерство национального образования в преддверии официальной церемонии по случаю юбилея создания вышеупомянутого конкурса — столетия? стопятидесятилетия? точно не помню — прислало мне этот текст.
Чествования были отменены, уж не знаю почему, может быть, просто за это время портфель министра национального образования перешел в другие руки, и я уже не помню, зачем мне прислали ксерокопию и чего от меня хотели по этому странному поводу.
Но сочинение свое я перечитал.
Все в этом тексте сбивало меня с толку, приводило в замешательство. Я не узнавал семнадцатилетнего юношу — себя тогдашнего, — который все это написал. Я не соотносил себя с ним. Я не узнавал ни почерк, ни мышление, ни метод, ни философский подход.
Что меня особенно поразило — позвольте мне это недолгое самолюбование, — в моем тексте не было ни единой цитаты. Все философские идеи — впрочем, легко расшифровываемые — были глубоко усвоены, вплетены в мой собственный дискурс. В семнадцать лет — преподаватели, долгие годы проверяющие сочинения, это знают — все пытаются нашпиговать свои сочинения цитатами или ссылками. Цитаты — это костыли для еще не оформившейся мысли.
Но я в них не нуждался, что меня и поразило!
Несмотря на все достоинства, я не узнавал этих страниц. Кто-то другой, а не я, или другой я написал все это. Любопытно.
Впрочем, я был уверен, что, прочти я эти листки в 1943 году, когда мы говорили с Джулией, я испытал бы похожее чувство остраненности.
Между этими двумя датами — 1941 и 1943 — в моей жизни произошло важное событие: я открыл для себя произведения Карла Маркса. «Манифест Коммунистической партии» настоящим ураганом пронесся над моей жизнью, моими мыслями и чувствами.
Я не знаю, как донести до нынешних молодых людей — ни даже возможно ли это или хотя бы нужно ли семнадцатилетнему юноше из философского класса, сегодня, когда коммунизм остался всего лишь дурным сном, предметом археологических раскопок, — как дать современной молодежи почувствовать всей душой, всем телом, чем стало для людей, которым было двадцать лет к моменту Сталинградской битвы, открытие Маркса.
Какой смерч! Какой шанс для ответственной и изобретательной души! Как перевернулись все ценности, когда я наткнулся на Маркса, после того как почитал Ницше — «Заратустру», «Рождение трагедии», «Генеалогию морали»… Черт, словно состарился в одночасье! Какая радость жить, рисковать, сжигать корабли, распевать ночами фразы из «Манифеста»!
Нет, вероятно, это невозможно! Забудем, завершим скорбный труд, открестимся от Маркса, погребенного марксистами под кровавым покровом или постоянным предательством. Невозможно донести знание и смысл, вкус и пламя этого открытия Маркса в семнадцать лет в оккупированном Париже, в ту безумную эпоху, когда мы толпами ходили на «Мух» Сартра, чтобы услышать призыв трагического героя к свободе, когда, начитавшись книг, хотелось взять в руки оружие.
* * *
На рассвете, когда закончился комендантский час, после всех наших ночных разговоров, мы стояли на пороге квартиры на улице Висконти.
— Только не умирай, — сказала вдруг Джулия и нежно погладила меня по щеке.
Я отпрянул — о чем это она? Что за чепуха! Как только ей в голову могло прийти, что я могу умереть?
— Пожалуйста, не умирай, — повторила она.
В Бухенвальде я вспомнил о Джулии, когда разговаривал с Ленуаром. Мы беседовали о Лукаче, и я вспоминал Джулию. Воспоминания о Джулии всегда всплывают в тот момент, когда я произношу имя Лукача. Когда я опубликовал свой первый роман «Долгий путь», немолодой уже Лукач прочел его по-немецки, заинтересовался и издал свой комментарий к роману. С тех пор — это было в середине шестидесятых годов — он регулярно направлял ко мне своих студентов и студенток из Будапешта.
Звонок в дверь, на пороге юный незнакомец. Или незнакомка. Я тотчас же узнаю взгляд этих юных незнакомцев, юношей и девушек. Этот ясный, братский взгляд, в котором читается отчаяние. Взгляд с той стороны, с Востока, из Европы, которую мы бросили варварам. Östlich der Hoffnung, на востоке надежды?
Все они были посланниками Лукача, с ними можно было поговорить — и это могло стать началом настоящей дружбы.
И всегда я вспоминал Джулию, ее руку на моей щеке, ее шепот, то утро.
— Может быть, Бог просто устал, — говорил тем временем Ленуар. — У Него больше нет сил. Он ушел из Истории, или История покинула Его. Его молчание не говорит о Его отсутствии, а служит доказательством Его слабости, Его бессилия…
Мы втроем — Ленуар, Отто и я — укрылись в сортирном бараке. На обратном пути из пятьдесят шестого блока, где остался Морис Хальбвакс, в Большой лагерь нас неожиданно застигла метель.
Отто, последний из нашей троицы, был «фиолетовым треугольником», Bibelforscher, свидетелем Иеговы. Он появился в нашем воскресном кружке две недели назад. Кто сообщил ему о наших тайных сборищах? Мы так никогда об этом и не узнали. Он сразу же покорил нас своей твердостью и радикальным мышлением.
В первый же раз он решительно прервал одного из нас, рассуждавшего о чем-то незначительном.
— Послушайте, — примерно так обратился он к нам, — мы ведь не для того собрались здесь в воскресенье — при том, что все время недосыпаем, мучаемся от голода и страха перед завтрашним днем, — чтобы повторять банальности. Если так, то давайте лучше разойдемся по своим блокам после полуденного гонга, вернемся к своему супу с лапшой и попробуем покемарить несколько лишних часов. Тем более что кто спит, тот обедает…
Последние слова он произнес по-французски, обернувшись к Ленуару, — он не мог знать, что тот из Вены, и к тому же еврей, потому что Ленуар носил красный треугольник с буквой F.
Ленуар отреагировал весьма неожиданно: он протараторил одну за другой несколько поговорок.
— Действительно, кто спит, тот обедает, — выпалил он. — Повадился кувшин по воду ходить, там ему и голову сломить. Лучше синица в руке, чем журавль в небе. Наше счастье — дождь и ненастье.
Мы с изумлением посмотрели на него.
Но Отто, свидетеля Иеговы, не так-то легко было сбить с толку.
— Есть одна тема — только одна! — которая заслуживает того, чтобы пожертвовать ради нее несколькими часами сна!
Ему удалось обратить на себя наше внимание, завладеть беседой.
— Испытание Злом. Это наше самое главное испытание в Бухенвальде… Оно даже важнее испытания смертью, которое может стать решающим…
Так случилось, что одной из последних книг, которые я читал перед арестом, было эссе Канта «Религия в пределах только разума» — в 1943 году оно было только что переведено. Гестапо наверняка обнаружило его в комнате, где я иногда ночевал, в квартире Ирен Россель, в Эпизи, пригороде Жуаньи. Книгу Канта и «Надежду» Мальро.
— Das radical Böse, радикальное испытание злом, почему бы нет, — ответил я Отто.
Тот посмотрел на меня, явно довольный:
— Ну да, вот именно! Ты был студентом философского факультета?
Его philosophiestudent что-то мне смутно напомнило. Ну конечно, слова Зайферта, когда он в первый раз принял меня в Arbeitsstatistik, в своей каптерке. «Я впервые вижу здесь студента философского факультета, — сказал он мне. — Обычно ко мне присылают рабочих». (Die Kumpel, die zu mir geschickt werden, sind Proleten.)
Но Отто считал, что нельзя ограничиваться лишь Кантом. Он настаивал, что при исследовании радикального Зла нужно также учитывать мнение Шеллинга, его «Философские исследования о сущности человеческой свободы и связанных с нею предметов».
— Я нашел в нашей чертовой библиотеке экземпляр этой книги, — добавил он.
Мой собственный экземпляр исчез после разгрома квартиры на улице Бленвиль вместе со всеми остальными книгами. Это был томик, выпущенный издательством «Ридер» в середине двадцатых годов. Перевод с немецкого Жоржа Политцера, предисловие Анри Лефевра.
Эссе Шеллинга попало мне в руки как раз из-за переводчика, впрочем, из-за автора предисловия тоже. Мой приятель по лицею — мы с ним участвовали в демонстрации 11 ноября 1940 года на Елисейских Полях и вместе ускользнули от облавы французской милиции и батальона вермахта, которые нацистское командование направило на зачистку квартала, — так вот, мой приятель, учившийся в параллельном классе (философию у него преподавал не Бертран, а Рене Моблан, учитель-марксист, — я всегда вспоминаю о нем с радостью и благодарностью), посоветовал мне прочесть Шеллинга как раз ради Политцера и Лефевра.
В общем, я прочел эссе Шеллинга, от него у меня осталось воспоминание о несомненном теоретическом блеске и жестком стержне из новаторских идей, скрытом мишурой темного, почти мистического языка.
Через несколько дней после этого воскресного разговора, который состоялся у нар Мориса Хальбвакса, Отто зашел ко мне в Arbeitsstatistik во время полуденного перерыва.
Я был в задней комнате, читал газеты. Мне поручили составить обзор нацистской прессы для тройки испанской партии — в единственном, написанном от руки экземпляре, который Ньето давал читать Фалько и Эрнандесу (под такими именами в партии были известны Лукас и Селада).
Я отбирал самые важные статьи из газеты «Völkischer Beobachter»[29] и журнала «Das Reich» и конспектировал их либо цитировал целые куски, естественно, в переводе.
В тот день у меня совсем не осталось еды — никакой. Зато была сигарета. Я курил половину бычка махорки — кажется, Зайферт подарил мне ее, — потягивая при этом фирменное бухенвальдское горячее пойло из стаканчика.
Дверь открылась, вошел Вальтер, за ним — Отто.
— К тебе гости, — сообщил Вальтер и тут же ретировался.
У Отто в руках была книга, то самое эссе Шеллинга. Он заговорил о нем, зачитывая отрывки, которые выбрал специально для меня. «Черный треугольник» Майнерс пялился на нас. Мы, естественно, повернулись к нему спиной. Но он специально пересел, чтобы наблюдать за нами, выпучив от возмущения глаза.
Отто, водя пальцем по строчкам лежащей перед нами книги, читал мне вслух выбранные отрывки из Шеллинга. Он хотел доказать мне, что концепция Зла Шеллинга неизмеримо богаче, значительнее и содержательнее концепции Канта.
«Как Бог в качестве нравственного существа относится ко злу, возможность и действительность которого зависят от самооткровения Бога? Хотел ли Бог и зла, когда он хотел откровения, и как сочетать это воление с его святостью и высшим совершенством, или, пользуясь обычным выражением, как оправдать Бога в том, что он допускает зло?»
Действительно, существенный вопрос, который все теологи, особенно томисты, пытались обойти или затемнить. Охраняя Бога, они навсегда развели его со Злом.
Я слушал, как Отто объясняет мне глубинный смысл этого отрывка, и краем глаза посматривал на Майнерса, на его ненавидящий оскал.
Отто продолжал чтение:
«Бог не препятствует воле основы или не уничтожает ее. Хотеть этого значило бы хотеть, чтобы Бог уничтожил условие своего существования, то есть уничтожил свою собственную личность. Чтобы не существовало зла, необходимо было бы, чтобы не существовало и самого Бога»[30].
Майнерс среагировал именно в этот момент. Он прорычал — невнятно, но явно что-то не слишком лестное.
Я обернулся к нему:
— Was murmelst du? Otto ist doch ein Reichsdeutscher!
«Что ты там бормочешь? — сказал я ему. — Отто ведь немец Германской империи!»
В который раз я попал в яблочко. Майнерс сгреб свои манатки и удалился, изрыгая поток ругательств.
Отто не удивился, не задал ни одного вопроса.
— Дерьмо, — только и сказал он. — Я его знаю. Надеюсь, что его засудят. Хотя на него даже пули жалко!
Библия Библией, но это не помешало Отто вынести Майнерсу недвусмысленный приговор!
Чуть позже Отто прочел мне фразу Шеллинга, которая навсегда врезалась мне в память, слово в слово. А вот из тех, что я только что процитировал, остался только общий смысл, мне пришлось восстанавливать их по книге метафизических произведений Шеллинга, опубликованной недавно в авторитетной философской серии и в более современном переводе, чем перевод Политцера.
Как бы то ни было, тогда, в задней комнате Arbeit, Отто изложил мне ключевое для Шеллинга понятие, согласно которому порядок и форма не представляют чего-то изначального, ибо космологическая и экзистенциальная сущность была образована из первозданного хаоса. И заключил формулой, которая задела во мне что-то самое сокровенное, до такой степени, что я запомнил ее навсегда: «Без предшествующего мрака нет реальности твари; тьма — ее необходимое наследие».
Не только тьма страдания, чисто пассивная, подумал я, но и тьма Зла — активный импульс изначальной свободы человека.
Так в наши разговоры, происходившие вокруг нар Мориса Хальбвакса, вторгся Бог. Как просто — воскресенье, день супа с лапшой и чудных коротких мгновений досуга, день Господа.
— Может быть, Бог утомился, выдохся, может быть, у Него больше нет сил. Тогда Его молчание — всего лишь знак Его слабости, а не отсутствия, не того, что Его нет, — это сказал Ленуар, венский еврей, в ответ на какой-то вопрос Отто.
По дороге из пятьдесят шестого блока мы втроем — Ленуар, Отто и я — завернули в сортирный барак. Была половина шестого, темнело. Скоро я узнаю, какой мертвец в случае необходимости получит мое имя, чтобы я получил его жизнь.
Мы двинулись вперед, чтобы согреться в центре барака, в горячих, зловонных испарениях. Думаю, ни один из нас не обращал никакого внимания на обычную картину: десятки заключенных со спущенными штанами испражнялись, сидя на помосте. И хотя мы говорили о молчании Бога, о Его слабости, мнимой или настоящей, урчание кишечников, терзаемых поносом, омерзительное и слишком близкое, не задевало нас — ну почти не задевало.
Нельзя сказать, что я испытывал метафизическое беспокойство по поводу молчания Бога. Действительно, чего уж в этом такого удивительного? Когда Он говорил? По поводу какой бойни Он высказался? Покарал ли Он какого-либо свирепого завоевателя или жестокого военачальника?
Если библейские рассказы для нас больше, чем просто сказки, если мы верим, что они имеют хоть какое-нибудь отношение к исторической реальности, мы увидим, что последний раз Бог разговаривал с человечеством на горе Синай. Что же удивительного в том, что Он продолжает хранить молчание? И к чему изумляться, возмущаться или приходить в ужас от этого более чем привычного молчания, такого укорененного в Истории, да что там — сотворившего нашу историю, с того момента, как она — эта История — перестала быть священной?
Что в самом деле важно, сказал я этим двоим, так это не молчание Бога, а молчание человека. По поводу нацизма, например, абсолютного Зла. Слишком долгое, слишком трусливое молчание человека.
И тут нас неожиданно прервали.
Мимо нас по направлению к выгребной яме торопился заключенный, то и дело спотыкаясь в неудобных башмаках на деревянной подошве. Он так спешил, что прямо на бегу расстегивал штаны.
Но ему не суждено было добраться до ямы. Еще до того, как он успел развернуться, чтобы рухнуть задницей на опорную перекладину, струя тошнотворной липкой жижи брызнула из его утробы, запачкав одежду трех или четырех заключенных, кружком сидевших неподалеку и куривших бычок.
Послышались возмущенные крики, брань, невольного виновника отлупили, а там и бросили в выгребную яму — пусть в дерьме поплещется. Через секунду сцепились все присутствующие.
Угодивший в дерьмо горемыка был французом, а курильщики — поляками: стычка приобрела этнический характер.
Все французы, тяжело дыша, захромали на помощь своему соотечественнику — вытащить его из ямы и наказать обидчиков-поляков. Те, в свою очередь, тоже сбились в стаю, пользуясь случаем отомстить французам — в Бухенвальде выходцы из Центральной и Восточной Европы особенно ненавидели их за позорное поражение в 1940-м от немецкой армии. Мы были бы уже свободны, если бы эти чертовы французы выстояли, — таков был общий приговор Центральной Европы.
Появление группы молодых здоровых русских из Stubendienst, которые жили в Малом лагере, положило конец драке, и все вернулись к привычным воскресным занятиям в вонючих испарениях «общей бани», «военной прачечной».
— Скажи своему раскольнику, чтоб отошел на минутку… Мне надо с тобой поговорить один на один!
Это Николай, Stubendiest из пятьдесят шестого блока.
Мы с Отто остались в сортирном бараке. Ленуар под шумок смылся: у него не было ни малейшего желания вмешиваться в драку поляков с французами. Черная буква F на красном треугольнике обязывала, но для него — венского еврея — это было бы чересчур.
Николай пальцем показал на Отто — свидетеля Иеговы. Как обычно, он говорил по-немецки, но слово «раскольник» произнес по-русски.
Мы уже выходили из сортира. Мне пора было в Revier на встречу с Каминским, чтобы узнать наконец, место какого мертвеца я должен занять. И кто, стало быть, займет мое.
Николай выглядел, как всегда, безукоризненно: блестящие, несмотря на снег и слякоть, сапоги, кавалерийские штаны, на голове фуражка советского офицера. Я сразу заметил его среди русских, которые грубо, но быстро навели порядок в сортирном бараке.
Отто махнул рукой:
— Я пошел, — и, обращаясь к Николаю, добавил: — «Раскольник» — не самый лучший перевод для Bibelforscher.
— Не такой уж плохой, раз ты меня понял!
Отто растворился в темноте.
— Ну? — спросил я Николая. — Только покороче, я тороплюсь!
— У тебя свидание?
Это меня развеселило.
— Может быть, — ответил я. — В каком-то смысле.
Мне на память пришли испанские стихи. Стихи Антонио Мачадо, написанные на расстрел Лорки. Смерть — любимая девушка. Или влюбленная. Любовница-смерть, почему бы и нет?
— Кстати, — продолжил Николай, — если хочешь отодрать мальчонку, ты только скажи!
— Спирт, кожаные сапоги, мальчики — фирма гарантирует!
— Пиво, маргарин, похабные картинки, задницы, — дополнил Николай. Его взгляд сделался жестким. — Деньги тоже. Валюта, естественно.
Он так и произнес «валюта», слово, заимствованное русскими. Германизм, между прочим.
— Даже доллары? Ведь вам нужны доллары, войну-то выиграют американцы.
Он выругался, посылая кого-то к какой-то матери. Боюсь, что меня. Но я решил не зацикливаться на этом.
Растянув губы в хищной улыбке, он обнажил острые белые зубы:
— Точно, доллары!
И схватил меня правой рукой за лацкан синей куртки. Этот жест можно было расценить как угрозу. Или как предостережение.
— Мы хотим, чтобы ты кое-что передал Аккордеонисту.
Этот переход от «я» к «мы» говорил о многом. Непрямое сообщение: он не один — это группа, шайка, банда. Сила, одним словом.
— Я слушаю.
Я не спрашивал, что за аккордеонист, — он был один на весь Бухенвальд. Во всяком случае, единственный, кто пользовался своим искусством. Француз. Он бродил между бараками до самого комендантского часа, особенно в воскресенье после обеда. Давал короткие концерты в обмен на пайку хлеба, супа или маргарина. Его привечали многие старосты блоков, это развлекало заключенных, приободряло их. Аккордеон был бесплатным заменителем опиума для народа.
Еще когда мы были в карантине в шестьдесят втором блоке, Ив Дарье познакомил меня Аккордеонистом.
— У него доллары где-то припрятаны, — продолжал Николай. — Это мы вытащили его инструмент из Effektenkammer. Если он хочет играть и дальше и зарабатывать себе на хлеб с маслом, пусть платит нам, сколько мы скажем. И пусть только попробует нас надуть. Это последнее предупреждение — дальше начнем ломать пальцы, по одному в день.
— Почему я?
— Что — почему ты?
Я уточнил:
— Почему ты выбрал именно меня…
Он не дал мне договорить:
— Мы тебя выбрали! Потому что ты знаешь его еще с карантина, потому что он знает, да и мы тоже, что у тебя в этом деле нет никакого интереса, никакой корысти. И потом, ты Prominent, на хорошем счету у Зайферта, это мы знаем, тебе можно доверять.
Я мог бы быть польщен, но почему-то не был. Только этого мне не хватало.
А может, Каминский все-таки вытащит меня из этого дерьма — ведь мне придется исчезнуть.
— Что-то мне не хочется влезать в это дерьмо, — ответил я. — Дай мне пару дней на размышление.
— Пара дней — это как?
— Это сорок восемь часов. Сегодня воскресенье, во вторник я тебе отвечу. А пока оставьте его в покое!
Он кивнул.
— Ладно, но мы пока что будем за ним приглядывать. Пусть не пытается перепрятать доллары, мы с него глаз не спустим!
Я думаю, доллары, если они и были — а они должны были быть! — хранились в самом аккордеоне, с которым он не расставался ни в тюрьмах, ни на этапах.
Но это уж не моя забота.
Николай ушел, но тотчас же вернулся.
— Твой профессор больше не открывает глаз!
— Не открывает, — согласился я. — Зато видит. Он ясно видит с закрытыми глазами.
Николай ничего не понял, ну и ладно.
— Зови своего раскольника. Но ему ни слова!
И он растворился в ночи.
— Ты обратил внимание на его фуражку? — спросил Отто через несколько минут.
Мы снова встретились. Пора было идти в Revier.
— Фуражка НКВД! Николай ею очень гордится. Фуражка офицера органов госбезопасности…
— Не меняя фуражки, — прервал меня Отто, — он мог бы сменить статус — вместо того чтобы быть заключенным в нацистском лагере, он мог бы быть охранником в советском!
Повеяло арктическим холодом.
— Что ты хочешь этим сказать, Отто?
— Только то, что сказал, — что в Советском Союзе тоже есть лагеря…
Я попытался возразить:
— Я знаю… Писатели говорили об этом… Горький писал о них в связи со строительством Беломор-канала. Уголовников отправляют в лагерь, чтоб они работали там на благо общества, вместо того чтобы попусту торчать в тюрьмах. Лагеря, где исправляют трудом…
И тут до меня дошло, что только что я произнес роковое слово из нацистского лексикона — Umschulung, исправительно-трудовой лагерь.
Отто улыбнулся:
— Ну да… Umschulung… У диктатур страсть к исправительным лагерям! Но что с тобой спорить, ты же ничего не хочешь слышать. Я могу познакомить тебя с одним русским, замечательный парень. Он как раз настоящий раскольник. Свидетель, но не только Христа… Он расскажет тебе о Сибири.
— Знаю я Сибирь! — огрызнулся я. — Я читал Толстого, Достоевского…
— То была каторга при царском режиме… Мой раскольник расскажет тебе про советскую каторгу!
У меня не было ни минуты — Каминский будет рвать и метать, если я опоздаю.
— Послушай, у меня важная встреча, прямо сейчас, в Revier… Давай в следующее воскресенье!
Отто пошел прочь, подняв воротник куртки, втянув голову в плечи, чтобы хоть как-то защититься от пронизывающего ледяного ветра.
В следующее воскресенье он ждал меня у нар Мориса Хальбвакса.
— Ну? — спросил я. — Когда я увижу твоего раскольника?
Ему было явно не по себе, он старался не встречаться со мной взглядом. Долго мялся и наконец сказал:
— Он не хочет.
Я ждал продолжения, но его все не было. Наконец Отто выпалил:
— Он не будет говорить с коммунистом, — и попытался улыбнуться. — Даже с молодым испанским коммунистом он не хочет разговаривать!
— Что за чушь?
— Ты не захочешь услышать правду. И потом, он боится, что ты расскажешь об этом своим друзьям, немецким коммунистам, у которых тут есть право приговаривать к смерти. Когда он узнал, что ты работаешь в Arbeitsstatistik, то отказался наотрез!
Я слегка растерялся и разозлился.
— И ты не пытался его разубедить? Что ты ему сказал?
Покачав головой, он положил руку мне на плечо:
— Что, скорее всего, ты ему не поверишь. Но будешь держать это при себе, никому не растреплешь.
— Странный свидетель, этот твой раскольник, — попытался отыграться я. — Тот еще храбрец…
— Он знал, что ты это скажешь, — произнес Отто. — И просил передать тебе, что дело не в храбрости, а в том, что совершенно бесполезно разговаривать с человеком, который не хочет слушать и не слышит. Он уверен, что когда-нибудь и для тебя придет время.
Мы молча стояли у нар Мориса Хальбвакса.
Это правда, я не захотел бы услышать раскольника, не смог бы к нему прислушаться. Если уж быть искренним до конца, мне кажется, я даже почувствовал некоторое облегчение, узнав о его отказе. Благодаря его молчанию я остался в уютном покое добровольной глухоты.
Часть вторая
Schön war die Zeit Da wir uns so geliebt…Я спотыкался на заснеженной дороге. Может быть, от удивления или от потрясения.
И немудрено.
Голос Зары Леандер неожиданно настиг меня, когда я бежал к рощице, где находился Revier. Он накрыл меня, горячий, волнующий, золотистый; он окутывал меня нежностью, как теплая рука на плече, как теплый шарф из мягкого шелка.
Казалось, она поет только для меня, шепча мне на ухо слова любви: «Счастливое время, когда мы так любили друг друга» — пронизывающая банальность, всеобъемлющая, ностальгическая бессодержательность.
На самом деле это репродукторы, предназначенные для громкой трансляции приказов СС, разносили по всему лагерю теплый голос Зары Леандер. Его было слышно в бараках, в столовых, в каптерках блочных старост и капо, в рабочих кабинетах внутреннего командования, равно как и на плацу. Повсюду, в самых дальних уголках Бухенвальда.
Кроме сортирного барака Малого лагеря, единственного не подключенного к системе репродукторов строения, которого не касались приказы СС.
Наверху, на сторожевой вышке, возвышавшейся над монументальным входом в лагерь, Rapportführer поставил пластинку, и по лагерю разнесся этот громовой голос, который проникал в самые дальние уголки нашего сознания, обращался к нашему одиночеству.
Мои шаги стали тверже, мысли тоже.
Когда этот голос настиг меня — голос, певший только для меня, хотя он разливался над всем холмом Эттерсберг, я был уже на краю рощицы, окружавшей барак санчасти — Revier. Здесь же было огромное помещение, служившее для разных нужд: по необходимости оно было то кинозалом, то комнатой, где собирали заключенных, которых куда-нибудь отправляли — например, на работу или на прививки.
В тот день я спешил в санчасть. У меня было свидание с Каминским — а также с подходящим для меня мертвецом.
— Надеюсь, этот сукин сын унтер поставит нам Зару Леандер, как каждое воскресенье! — воскликнул Себастьян Мангляно.
В столовой сорокового блока продолжалась репетиция. Но мы вдвоем сидели поодаль и смолили бычок махорки. Каждому по затяжке, с точностью до миллиграмма. Не было и речи о том, чтобы смухлевать, ставка была слишком высока. Дружба дружбой, но каждый придирчиво следил за продвижением горящего красного кружка по тонкому цилиндрику сигареты. Не было и речи о том, чтобы позволить другому слишком долгую затяжку.
¡Ay que trabajo me cuesta Quererte сото te quiero!В столовой снова звучали строки Лорки, но на этот раз читал их не Мангляно.
Их, впрочем, вообще никто не читал, их пели. Стихотворение Лорки, такое близкое к народной андалузской copla по внутреннему ритму, по скрытой музыкальной фразировке, очень легко было спеть.
Но пел не Мангляно. Пел Пакито, молоденький испанец.
Пакито арестовали на юге Франции, когда немецкая армия прочесывала окрестности. Уж не помню, почему — а может, и вообще не знаю — родители отдали Пакито какому-то дальнему дядюшке или старшему двоюродному брату, который работал в лагере испанских дровосеков в Арьеже. Но этот лагерь служил базой и прикрытием для отряда герильерос, так что нацистские жандармы и армия устроили облаву в том районе.
Так Пакито в шестнадцать лет оказался в Бухенвальде.
Он был грациозным и хрупким юношей. Его определили в Schneiderei, в пошивочную мастерскую, где латали наши шмотки. И где Prominent со средствами (табак, маргарин, спиртное) могли подогнать одежку по мерке.
Спасенный от голода и непосильно тяжелых работ, Пакито прославился, когда мы, испанцы, стали организовывать спектакли. Потому что он играл женские роли. Точнее, женскую роль, единственную роль вечной женщины, Ewigweibliche[31].
Худой, с тонкой талией, загримированный и в парике, одетый в андалузское платье в горошек с воланами, которое он сам сшил из обрезков шифона; добавьте к этому голос — красивый и все еще по-детски ломающийся, — такой Пакито мог хоть кого ввести в заблуждение.
Он был воплощенной иллюзией, волнующей иллюзией женственности.
Вообще-то наши спектакли были рассчитаны на небольшую испанскую общину, которой они могли бы принести ностальгическое утешение, общую память. Часто заходили заключенные-французы — нас роднила культурная и политическая близость. Особенно французы из приграничных областей — Окситании и Страны басков.
Выступления Пакито имели успех, и слух о нем быстро разлетелся по лагерю. В одночасье он стал знаменитостью. В иные воскресенья не все желающие могли попасть на представление.
Как нетрудно догадаться, его успех был довольно двусмысленным. Естественно, он объяснялся не только любовью к поэзии и народным песням. В столовых блоков, где все это происходило, или в залах побольше — в санчасти или кино, которые нам иногда предоставляла внутренняя администрация, Пакито зажигал в глазах зрителей безумный огонь желания.
Те, кто любил женщин, глядя на это мальчишеское — но при этом и женственное — лицо, испытывали острую боль, вспоминали свои неутоленные желания и свои нереализованные сны. Доступ в бордель имели только несколько сотен заключенных-немцев, тысячи остальных были обречены на воспоминания и онанизм, который скученность, истощение и отчаяние сделали практически невозможным для плебеев Бухенвальда — по крайней мере, трудно было довести дело до конца, до вспышки молнии.
Чтобы ублажать себя, требуется прежде всего одиночество. Нужна — как, впрочем, и для гомосексуальных утех, личная каптерка — рай, доступный лишь старостам блоков и капо.
Так что половая жизнь в Бухенвальде, как и все остальное, определялась классовыми различиями.
Скорее даже — кастовыми.
Те, кто никогда не любили женщин или потеряли к ним интерес, кого ураган этих желаний после долгих лет в ограниченном, грубом, безжалостном мужском мире уже не тревожил, смотрели на Пакито вытаращенными, блуждающими, печальными глазами, потирая ширинку, пытаясь угадать за женской мишурой молодое гибкое тело мальчика, являвшегося им в фантазиях.
Иногда обстановка накалялась до драматизма: дыхание зала становилось свистящим, воздух — удушливым. Кончилось тем, что Пакито испугался и решил прекратить эту игру. В последнем спектакле — в том, который мы как раз репетировали, — он неподвижно стоял на импровизированной сцене, не крутя ни бедрами, ни пышной юбкой, и просто пел a cappella несколько стихотворений Лорки.
Среди них это, которое он как раз разучивал в то декабрьское воскресенье, в дальнем конце столовой.
¡Ay que trabajo me cuesta Quererte сото te quiero! Por tu amor me duele el aire, El corazón Y el sombrero.Это стихотворение очаровало нас еще в Мадриде в эфемерном раю детских открытий. Нас заворожили эти забавные, не укладывающиеся в рамки обыденного строчки («Трудно, ах, как это трудно — / Любить тебя и не плакать! / Мне боль причиняет воздух / Сердце / И даже шляпа»[32]); к тому же мы видели Лорку у нас дома, в огромной столовой, обставленной мебелью из красного дерева и палисандра, когда он пришел на обед вместе с другими гостями. И это прибавляло прелести его стихам.
В доме Семпрунов мы читали эти стихи для красавицы кузины Мораимы — она смеялась над нашими признаниями в любви, но не могла обижаться.
Особенно нас восхищал конец стихотворения:
…у esta tristeza de hilo bianco, para hacer panuelos…Эти две последние строчки («…И белую нить печали, чтобы соткать платок») заставляли нас мечтать на пороге тайны поэзии.
Столько лет прошло, а это все еще живо.
В столовой в крыле С сорокового блока в Бухенвальде я слушал мелодичный голос Пакито, поющего стихотворение Лорки, и живой трепет прошлого заставил забыть непроницаемую усталость от жизни, тошноту, вызванную постоянным голодом, на секунду оживив душу, тело которой уже не хотело ничего, только покоя навеки.
— Надеюсь, этот сукин сын поставит нам пластинки Зары Леандер! — воскликнул Себастьян.
Я удивился. Зачем? Неужели ему не надоели вечные воскресные куплеты?
Он пожал плечами и категорично заявил:
— На слова мне наплевать! Все равно я ничего не понимаю… Зато голос возбуждает… Она помогает мне дрочить!
Себастьян Мангляно напомнил мне сорванцов из Валлекас, детей рабочих окраин или безработных, которые когда-то приходили из бедных кварталов Мадрида в сад Ретиро, чтобы помешать нам — сынкам буржуев из Саламанки — гонять мяч на зимнем солнышке под голубым небом. Как и они, Себастьян говорил о сексе с грубой простотой.
— В воскресенье после обеда, — объяснил он мне, — для меня это классно. Ты-то исчезаешь до самого отбоя, у тебя всякие там собрания, обсуждения, партия, друганы, твой старый препод — флаг тебе в руки. А я твою партию в гробу видал, плевать мне на все это пустозвонство. Пусть мне скажут, что делать, и хорош. И не надо слишком много бубнить. Помнишь песню Коминтерна? «Хлеба, и никаких рассуждений!» Это моя точка зрения. Видишь, я даже поднабрался кое-каких ваших выражений. Все просто — есть точка зрения, ее нужно отстаивать. А враг, черт возьми, тоже ясно кто — фашо…
Тут я должен сделать небольшое отступление. Что бы вы ни подумали, «Фашо» — это не анахронизм. Хотя, конечно, это известное сокращение от слова «фашисты» появилось гораздо позднее нашего разговора с Себастьяном Мангляно, но тем не менее это не анахронизм, а перевод. По-испански еще со времен Гражданской войны 1936 года фашистов называют fachas. На нашем языке Себастьян произнес: «Y el enemigo, coco, уа se sabe: los fachas!» Так что «фашо», чтобы перевести fachas. Мой собственный, вполне приемлемый вариант перевода.
— Врагов-то мы, черт возьми, знаем, — продолжал Мангляно, — фашо! Так что когда в сборочном цехе завода Густлов староста-немец, мой кореш, за спиной гражданских Meister и унтеров СС просит подпортить деталь автоматической винтовки, которые мы собираем, мне не нужно долго растолковывать! Я знаю, что он пойдет поговорить со слесарями, фрезеровщиками, и так по всей ленте, я знаю, что мы лучшие специалисты, что все мы коммунисты, каждый из нас на детали, которую он делает, допустит ошибочку на миллиметр и в конечном счете к концу ленты автомат придет негодным… Вот это я понимаю, для этого я здесь и есть, спрятался у Густлова за пазухой! Ну так вот, о чем бишь я… В воскресенье после обеда — это клево! Ты уходишь, мне одному остаются целые нары… После супа с лапшой — сиеста. Да это просто счастье, старик! И для начала — хорошая солома!
Нет, тут я оплошал. Солома — по-испански pajo. Буквальный перевод. Однако неточный. Потому что paja, hacerse ипа paja, «делать себе солому» — значит мастурбировать. Не так-то просто передать богатый народный язык Мангляно, который сказал: «Después de la sopa de pasta, una siesta: la dicha, macho. A tocarse la picha, la gran paja!»
И тут как раз является Зара Леандер. Точнее, ее голос. Мангляно находит его возбуждающим — что ж, с ним солома мягче!
Мы докуривали бычок, последняя затяжка обожгла губы. Я пожелал ему удачи — чтобы дежурным на сторожевой вышке сегодня был любитель песен Зары Леандер, чтобы его Александр был в форме. Алехандро — так Мангляно называл свой член. Когда я спросил почему, он посмотрел на меня сочувственно:
— Pero vamos: Alejandro Magno!
«Что же тут непонятного — Александр Великий!»
Мангляно совсем по-детски гордился размером своего инструмента. Хочешь не хочешь, приходилось поддерживать его в форме. В последнее время Алехандро часто давал слабину, и Себастьян страшно переживал из-за этого. Впрочем, Алехандро всегда восставал из бессилия, по крайней мере до этого декабрьского воскресенья.
Вдруг рупор в столовой глухо забулькал. И тут же послышался чистый, низкий, волнующий голос Зары Леандер:
So stelle ich mir die Liebe vor, Ich bin nicht mehr allein…— Давай, — крикнул я ему. — Давай, Себастьян! Самое время для соломы!
И он, дико захохотав, действительно помчался в барак — к приятному воскресному одиночеству на нарах.
* * *
— В шесть часов в Revier, — сказал Каминский.
Вот и я.
Заключенные толпились у входа в санитарный барак, пытаясь протиснуться внутрь. Толкались, ругались на всех возможных языках. Если немецкий — урезанный, естественно, до нескольких приказных и общеупотребительных слов — был основным языком Бухенвальда, стало быть, языком начальства, то для выражения страха или ярости, чтобы изрыгнуть проклятия, каждый переходил на свое родное наречие.
За порядком следили молодые русские санитары — пуская в ход окрики и зуботычины, они направляли поток прибывших и контролировали вход.
Не пускали в первую очередь тех, кто забыл или не смог очистить башмаки от грязного снега, который неминуемо налипал, стоило только выйти из барака. На этот счет правила СС были суровы — никто не войдет в барак в грязной обуви.
Особенно строго это правило соблюдалось в санчасти.
Revier было единственным внутрилагерным учреждением, где эсэсовцы до сих пор систематически, ежедневно устраивали проверки. Так что всегда можно было ожидать наказаний. Слишком много грязных сапог или башмаков в санитарном бараке могло иметь непредвиденные, но, естественно, неприятные последствия.
Так что тех, у кого была грязная обувь, выгоняли на улицу поскрести башмаки о железные прутья, предназначенные специально, чтобы счищать снег и глину.
Во вторую очередь русские санитары наметанным глазом вышибал из ночных клубов, казино и прочих привилегированных увеселительных заведений высматривали и выпроваживали тех, кто слишком часто заглядывал в Revier в надежде получить бумажку о Schonung — освобождении от работы.
Жестом, криком, ругательством — всегда одним и тем же: отсылали к чьей-то матери — русские выгоняли таких, едва завидев, из толпы просителей, словно опасных пройдох.
И только после этого начиналась настоящая сортировка. Вновь став санитарами, молодые русские осматривали заключенных, которые действительно пришли за медицинской помощью.
Некоторых, даже если они впервые переступили порог санчасти и были в чистых башмаках — два основных условия, чтобы обойти первое препятствие, — сразу же отсылали обратно в блок. Они не выглядели достаточно слабыми для того, чтобы позволить им отлынивать от работы, хоть и демонстрировали рубцы на коже от плохо заживших фурункулов, синяки от дубинок эсэсовских унтеров или рехнувшихся капо, разбитые от неумелого обращения с молотком или клещами пальцы — ведь они были не рабочие, а — как знать? — возможно, университетские профессора.
Этого было недостаточно — их временная нетрудоспособность была неочевидна.
Молодые русские санитары судили по внешним признакам — на глаз. В их обязанности не входило выслушивать долгие жалобы потерявших надежду людей. Можно ли вообразить себе, что один из этих русских парней на секунду перестанет раздавать направо и налево тычки, поддерживая видимость порядка, и прислушается к просьбе, которую и не выскажешь толком в этой чудовищной сутолоке?
Все, что просители могли сказать — очень быстро и на примитивном всеобщем жаргоне, — было одновременно слишком общо и слишком расплывчато. Понять их было невозможно. Они показывали разбитые пальцы или гноящиеся от непрекращающегося фурункулеза подмышки, но болело-то у них все. Все тело, отказывающееся жить в подобных условиях, уставшее от трудностей и молившее о снисхождении. День-другой Schonung’a, освобождения от работы, — все равно что утопающему высунуть голову из воды и глотнуть воздуха. Глубокий вдох, солнечный пейзаж — и вот уже появилось немного сил, чтобы продолжать борьбу против бурлящего потока. День Schonung’a — даже для человека, который не знал немецкого и не мог осознать всех лексических коннотаций[33], — несколько лишних часов сна повышали вероятность выживания. Ведь в концентрационных лагерях (я, естественно, не имею в виду лагеря в Польше с их газовыми камерами, нацеленные в первую очередь на истребление евреев) из десятков тысяч политических заключенных, участников Сопротивления из всех стран Европы, партизан из всех лесов, со всех гор большинство умирало не от избиения, пыток или массовых расстрелов. Умирали от истощения, от упадка сил, от усталости, умирали, сломленные изнеможением, медленным угасанием энергии и надежды.
Я подошел к двери Revier в надежде увидеть фигуру Каминского за живой стеной из молодых русских санитаров. Собачиться с ними, чтобы войти в барак, мне не улыбалось.
Каминский, естественно, уже был там.
Он увидел меня и сделал знак одному из русских, с которым разговаривал.
Русский растолкал разделявшую нас толпу и заорал, чтобы меня пропустили. Заключенные расступились, я прошел. Вдруг я почувствовал на себе его пристальный взгляд — он рассматривал мой номер и букву S над ним. Тихо, почти неслышно, когда я проходил мимо него, молодой русский санитар произнес:
— Der Akkordeonspieler ist da drinnen!
И кивком головы указал внутрь барака. Аккордеонист там.
Аккордеонист? Раз санитар в курсе этой истории, значит, он из банды Николая.
Я уже был рядом с Каминским, когда услышал, как кто-то окликнул меня:
— Жерар, Жерар!
Я обернулся.
В первом ряду заключенных, ломившихся в барак на консультацию, я заметил француза. Он назвал меня Жераром, значит, мог быть товарищем по партии. Но нет, их я всех помнил в лицо. Во всяком случае, лица тех, кто мог бы, обращаясь ко мне, назвать меня Жераром, тех, кто знал эту кличку из Сопротивления. Но может быть, он просто знал меня по Сопротивлению, а в партии не состоял. Из Жуаньи? Из партизанского отряда в Табу? Из тюрьмы в Осере? Я не узнал его с первого взгляда, но понемногу его образ стал всплывать со дна моей памяти, — скорее всего, я познакомился с ним в тюрьме в Осере. Да, точно, это Оливье, высокий, худой Оливье из тюрьмы в Осере, проходивший по делу братьев Орте.
Я подошел к нему. Каминский заметно нервничал, но ничего не сказал.
— Оливье! — позвал я.
Он задрожал от радости, лицо его осветилось. Измученное, старое, изрытое морщинами, измятое жизнью лицо. Потому что именно жизнь, такая жизнь, наша жизнь здесь выполняла работу смерти.
— Ты меня узнал! — воскликнул он.
Нет, я его не узнал. Узнать его было невозможно. Я обошел его, мысленно навесил на него лишние килограммы, представил себе, каким он был до лагеря. Оливье Кретте, механик в гараже в Вильнёв-сюр-Йонн, из отряда братьев Орте. Я был в Осере, в Осерской тюрьме, когда расстреляли одного из братьев Орте. Вся немецкая часть тюрьмы выкрикивала антифашистские и патриотические лозунги, пела «Марсельезу», прощаясь с самым юным из братьев Орте. Шум стоял неописуемый — крики, песни, удары плошками по решетке.
Нет, я не узнал его. Но я не мог сказать ему, насколько он изменился.
— Естественно, — ответил я. — Оливье Кретте, механик.
Бедняга расплакался. Полагаю, от радости. От радости, что он больше не одинок.
Я обернулся к Каминскому. Здесь мой друг, немец из Германской империи, Reichsdeutscher, со своей нарукавной повязкой Lagerschutz представлял реальную власть. Я обратился к нему по-испански.
— Aquel francés que entre, — сказал я ему. — Le conozco: resistente.
«Тот француз, — сказал я ему, — пусть его пропустят, я его знаю, он из Сопротивления».
— Aquel viejito?
«Тот старикашка?» — спросил он. Ну да, тот самый старикашка, Оливье Кретте, механик, ему было от силы тридцать лет.
Каминский отдал несколько коротких приказов. По-русски, для быстроты. Он как раз и произнес несколько раз слово «быстро». Санитар — тот самый, из банды Николая — пропустил Оливье через последний кордон, отделявший его от медицинской консультации.
— Спасибо, старина! — поблагодарил меня Оливье. Он внимательно посмотрел на мой номер, на букву, обозначающую национальную принадлежность. — Ты испанец? А я и не знал… Но ты принадлежишь к сливкам общества. — Он покачал головой. — Одно могу сказать: меня это не удивляет!
Загадочно. Но у меня не было времени прояснить вопрос. Как, впрочем, и желания. Каминский нетерпеливо переминался с ноги на ногу.
— Что у тебя? — спросил я Оливье.
— Понос. Я просто исхожу дерьмом, не могу больше!
— Где ты работаешь?
— То здесь, то там, по мелочи! Там, где есть свободные рабочие места или куда начальство пошлет, все решается утром на плацу…
— Разве ты не механик?
— Механик. Но кого это здесь волнует?
— Меня, — ответил я.
Он широко раскрыл глаза.
— Ладно, иди лечись. И приходи ко мне в Arbeit, я там работаю. В любой день, сразу до или после вечерней переклички.
— Спросить Жерара?
— Если наткнешься на француза, спроси Жерара, если на кого другого, спроси испанца. Не ошибешься, я всегда там, ты меня увидишь!
Каминскому надоело ждать. Он схватил Оливье за руку и потащил в приемную. Но все-таки был великодушным до конца: впихнул его в очередь к дежурившему в тот день врачу-французу — чтобы Оливье мог объясниться с ним.
Для начала Каминский отвел меня к капо санчасти Эрнсту Буссе, немецкому коммунисту. Одному из ветеранов-коммунистов в Бухенвальде, насколько я понял.
Кряжистый, бритоголовый, с квадратной челюстью — Буссе был крепышом. Я уже видел его однажды в Arbeit, когда он заходил к Зайферту. Мне врезался в память его взгляд — столько решительной, безнадежной холодности, такая ледяная проницательность.
Он не стал терять времени на болтовню.
— Мы положим тебя к безнадежным, — сказал он мне. — Рядом с твоим будущим трупом.
И махнул рукой, вроде как извиняясь. Но я понял, и он видел, что я понял, и продолжил:
— Ты родился причесанным, кстати сказать. Mit der Glückshaube bist du geboren!
Я обратил внимание, что французское выражение звучит так же, как немецкое. Но я настаиваю, что испанский «цветок в заднице» гораздо забавнее для обозначения удачи. Я тогда еще не знал, что есть и французские выражения, где упоминается задница. Им обучил меня мой друг Фернан Баризон, металлург, сражавшийся в интербригадах, здесь же, в Бухенвальде. Позднее, много позднее одна красивая, очень красивая женщина — единственная из тех, кого я знал, произносившая естественно, не жеманно и не манерно, словечки и выражения из парижского жаргона, изобретательного наречия, полного юмора и лингвистических находок, — употребила при мне это выражение, обозначавшее удачу: «У тебя задница медалями увешана!» И еще более странное и более непристойное: «У тебя вся задница в лапше!»
Как бы то ни было, но в кабинете Буссе в санчасти Бухенвальда у меня не было ни времени, ни возможности пускаться в компаративно-лингвистические отступления.
Буссе продолжал:
— Молодой француз не переживет сегодняшнюю ночь. Завтра утром у нас будет время, в зависимости от новостей из Берлина, записать смерть под его или твоим именем…
Я был в курсе, Каминский мне уже объяснил все детали. Вероятно, Эрнст Буссе хотел подчеркнуть свою роль в этом деле.
— Есть одна закавыка, — продолжал он, — сегодня в санчасти у эсэсовцев попойка. Они отмечают день рождения одного из врачей. Напьются в дымину. В таких случаях они иногда заявляются с проверкой, в любое время… Им нравится копаться в дерьме. Если что, сделаем тебе укол. Не беспокойся, у тебя просто будет сильный жар, и все. Завтра не будешь как огурчик, зато живой.
Он посмотрел на меня.
— Да, толстяком тебя не назовешь, но ты совсем не похож на умирающего, совершенно… Советую тебе в случае чего бредить. Если они придут, скажем, что в твоем случае мы опасаемся заразной болезни. Они их до ужаса боятся…
Вот и все, он жестом отпустил нас. Мы с Каминским вышли из кабинета, он повел меня по коридорам санчасти.
— Твой давешний старый француз, — вдруг сказал он. — Без толку… Он все равно не жилец!
Это было похоже на правду, но я разозлился:
— Во-первых, он не старый! И потом, никогда не знаешь, как все обернется!
Каминский пожал плечами:
— Да нет, тут все ясно, все слишком ясно… Ты видел его глаза? Он сломлен.
Да, глаза. Когда в человеке появляется трещина, когда душа погружается в уныние, мы замечаем это по глазам. Тогда взгляд тускнеет, и в нем сквозит безразличие. В нем не отражается больше ни страха, ни страдания — ничего. Этот взгляд всего лишь говорит — меня нет, я не здесь. И вот тогда уже окончательно ясно — человек сдался, в нем нет больше жажды жизни. Ты помнил, как в этих глазах мелькало любопытство, возмущение, радость, — а теперь видишь, что их обладатель, кем бы он ни был, безмолвно обрушивается в головокружительное небытие. Его нет, он поддался чарам Горгоны.
— Без толку, — повторил Каминский.
Я начал закипать. Вероятно, он был прав, но я злился.
— А для меня есть толк, — раздраженно ответил я.
Он остановился и уставился на меня, нахмурив брови.
— Что ты хочешь сказать?
— Только то, что сказал. Что для меня будет толк, если я хоть как-то ему помогу, пусть даже самую малость.
— Ты чувствуешь себя лучше, так, что ли? Может быть, ты чувствуешь себя лучше всех?
— Не в этом дело. А если и так, это что, запрещено?
— Не запрещено. Но бессмысленно. Мелкобуржуазная роскошь.
Он не сказал «kleinbürgerlich», он сказал хуже. Он произнес «spiessbürgerlich», углубив коннотации мелочности, узости мышления, эгоизма — тех качеств, которые подразумевает это прилагательное «мелкобуржуазный».
Я знал, что он имеет в виду, мы все это уже обсуждали. Для него доставить себе удовольствие, совершив доброе дело, — это мелочь, не стоит усилий. Если он и признавал что-то, то никак не жалость, не сострадание, еще меньше нравственный закон. Каминский верил только в солидарность. Солидарность в сопротивлении, естественно — это была вера в коллективное сопротивление. На время, конечно, но она налагала определенные ограничения. Она непредставима в других исторических условиях, но необходима в Бухенвальде.
— С тех пор как ты здесь, — спросил я его, — неужели тебе ни разу не приходилось делить свой кусок хлеба с товарищем, для которого было уже слишком поздно? Неужели ты никогда не совершал бессмысленных — с точки зрения выживания другого человека — поступков?
Он пожал плечами, — естественно, такое с ним случалось.
— Были другие времена… Командовали тогда «зеленые треугольники» — уголовники, у нас не было такого организованного сопротивления, как теперь. Личный поступок, личный пример был решающим…
Я перебил его:
— Организация, о которой ты говоришь, подпольная… Ее действия, какими бы эффективными они ни были, не всегда заметны — большинство заключенных не знают о ней либо понимают не так. Зато очень заметен ваш особый статус, ваши привилегии Prominenten… Один красивый бесполезный жест время от времени — никому хуже не будет…
Но мы уже дошли до конца коридора санчасти. Он показал мне дверь:
— Это там. Тебя ждут.
Он сжал мне руку.
— Ночь будет длинной среди всех этих смертников и трупаков… И потом, там смердит, воняет дерьмом и мертвечиной… О чем ты будешь думать, чтобы забыться?
Это был не вопрос — прощание. Я вошел в палату санчасти, где меня ждали.
Мне велели оставить одежду в подобии гардероба и выдали взамен узкую рубашку из грубой ткани, без воротника и слишком короткую — она не прикрывала мой срам, как я написал бы по-испански (иначе говоря, моих половых органов).
Меня уложили рядом с умирающим, место которого я должен был занять, если потребуется.
Я буду жить под его именем, а он умрет под моим. В общем, он отдаст мне свою смерть, чтобы я мог жить. Мы обменяемся именами, это к чему-то обязывает. Его сожгут под моим именем, а я выживу под его, если придется.
Холодок пробежал по спине — вдобавок я чуть не зашелся сумасшедшим, скрипучим смехом, — когда я узнал, какое имя буду носить, если запрос из Берлина в самом деле окажется серьезным.
Едва растянувшись на нарах рядом с «подходящим покойником», как сказал Каминский сегодня утром (покойник этот, впрочем, оказался всего лишь умирающим), я захотел увидеть его лицо. Законное любопытство, согласитесь.
Но он лежал ко мне спиной, худой, голый — возможно, шершавые рубашки снимали с тех, кто был уже вне этой жизни, — скелет, обтянутый серой, морщинистой кожей, бедра и ягодицы покрыты слоем жидких, уже засохших, но все еще воняющих фекалий.
Я медленно повернул к себе голый торс.
Этого можно было ожидать.
«Столько же лет, сколько тебе, почти день в день, — сказал мне Каминский сегодня утром о покойнике, который подходил мне по всем параметрам. — Невероятно, студент как и ты, и к тому же парижанин!»
Я мог бы догадаться раньше. Слишком красиво, чтобы быть правдоподобным, но оказалось правдой.
Я лежал рядом с молодым мусульманином-французом, уже два воскресенья не появлявшимся в сортирном бараке, где я встретил его впервые. Я лежал рядом с Франсуа Л.
Я ведь все-таки узнал его имя, он сам мне сказал. И именно из-за этого я готов был скрежетать зубами и ужасаться насмешке судьбы.
Потому что Франсуа, который прибыл в Бухенвальд тем же транспортом из Компьеня, что и я — его лагерный номер совсем немного отличался от моего, — был сыном — естественно, мятежным, отвергнутым, но все же сыном — одного из самых активных и гнусных главарей французской милиции[34].
В случае чего, чтобы выжить, мне придется взять имя пронацистского ополченца.
Я повернул его к себе, чтобы посмотреть на его лицо.
Не только затем, чтобы не видеть его бедер, испачканных жидким, но теперь засохшим калом. Еще и для того, чтобы уловить возможное биение жизни, если можно назвать так это короткое, почти неуловимое дыхание, это слабое пульсирование крови, эти спазматические движения.
Чтобы услышать его последние слова, если они будут.
Лежа рядом с ним, я искал на его лице последние признаки жизни.
В «Надежде» Мальро, которую я перечитал за пару недель до ареста, меня потряс один эпизод.
Подбитый во время атаки франкистов самолет интернациональной эскадрильи, созданной и руководимой Андре Мальро, в огне возвращается на базу. Охваченный пламенем, он все же приземляется. Из-под обломков самолета извлекают раненых и трупы. В том числе — труп Марселино. «Марселино был убит пулей, попавшей ему в затылок, — пишет Мальро, — потому крови вытекло немного. Несмотря на трагическую пристальность глаз, которых никто не закрыл, несмотря на мертвенное освещение, маска была красивой».
Труп Марселино уложили на стол в баре аэропорта. Глядя на него, одна из официанток-испанок сказала: «Надо подождать еще час, самое малое, только тогда начинаешь видеть душу». И Мальро чуть ниже делает вывод: «Лишь через час после смерти из-под маски человека начинает проступать его истинное лицо».
Я смотрел на Франсуа Л. и думал об этих словах из «Надежды».
Я был уверен, что душа уже покинула его. Его настоящее лицо — осунувшееся, разрушенное — уже никогда не возникнет из этой ужасной маски. Не трагической, но непристойной. Никакая безмятежность не сможет разгладить искаженные, обезображенные черты лица Франсуа. Никакой покой больше немыслим в этом взгляде — ошеломленном, возмущенном, исполненном бессмысленного гнева. Франсуа еще не умер, но уже был оставлен.
Господи Боже, кем? Душа ли покинула истерзанное, оскверненное тело — хрупкий, ломкий остов, словно мертвое дерево, которое уже совсем скоро сожгут в печи крематория? Но кто оставил эту гордую, благородную, влюбленную в справедливость душу?
Когда гестапо схватило его, рассказывал мне Франсуа, и когда они поняли, с кем имеют дело, немецкие полицейские обратились к его отцу, верному союзнику, активному коллаборационисту: как им поступить с его сыном? Освободить? Они готовы были сделать исключение. «Пусть с ним обращаются так же, как с остальными, так же, как со всеми врагами, без всякой пощады», — ответил отец, профессор филологии, страстный почитатель античности и французской литературы. «Просто потрясающе, как совершенство прозы притягивает правых!» — усмехнулся Франсуа во время нашего разговора в сортире. Это был тот самый наш единственный бесконечно долгий разговор. В тот день он рассказывал мне о Жаке Шардонне, в частности о его участии два года назад в конференции писателей под руководством Йозефа Геббельса в Веймаре. «Ты не читал текстов Шардонна в „Нувель ревю франсэз“?» — спросил меня Франсуа.
Нет, не читал, во всяком случае, не запомнил.
Отец Франсуа был сторонником Мораса, просвещенным антисемитом — я имею в виду, что в его случае уместнее отсылки к Вольтеру, чем к Селину, — он обличал «злокозненность евреев, безродных по природе своей», «неспособных к патриотизму и поклоняющихся лишь Золотому тельцу» (это были стандартные формулировки). После поражения 1940 года он примкнул к нацистам, его активность подпитывалась разрухой и антибуржуазным нигилизмом.
Культурный человек превратился в убежденного милитариста. Раз надо было сражаться, то уж на передовой, с оружием в руках и в милиции Дарнанда[35].
«Пусть с ним обращаются так же, как с остальными, так же, как со всеми врагами», — сказал отец Франсуа гестаповцам.
Возможно, ему казалось, что он следует моральным заветам стоиков.
Так что Франсуа допрашивали как всех, как любого другого — беспощадно.
Я смотрел на Франсуа Л. и думал, что так и не дождусь появления его души, его настоящего лица. Слишком поздно. Я начинал понимать, что смерть в лагере, смерть заключенных не совсем обычна. Это не просто — как любая другая смерть, как все смерти, насильственные или естественные, — скорбный или утешительный, но неизбежный конец. Смерть заключенных не приходит в конце жизни, как ее завершение. В некотором смысле после смерти на лице усопшего проявляется видимость отдыха, безмятежность. Когда умирает заключенный, не проявляется душа, не проступает истинное лицо из-под маски жизни, которую человек сам себе выбрал и которая его же раздавила. Смерть более не является ответом человека на вопрос о смысле жизни — ответом устрашающим или оскорбительным для каждого в отдельности, но понятным всем, точнее, всем, принадлежащим к роду человеческому. Потому что осознание конечности существования свойственно людям в той мере, в какой они человечны, в какой они отличаются от животного. Потому что сознание того, что жизнь конечна, и делает человека человеком. Представим себе на минуту ужас человечества, лишенного этого главного конца, обреченного на ужас бессмертия.
Смерть заключенных — например, смерть Франсуа, в эту самую минуту, совсем рядом со мной, — напротив, ставит бесконечные вопросы. Даже если она будто бы естественна — от истощения жизненных сил, она ужасающе своеобразна — и ставит под сомнение все знание человека о смерти.
Даже и сейчас — столько лет спустя, полвека! — достаточно вглядеться в фотографии, они свидетельствуют, насколько отчаянный вопрос о смерти остался без ответа.
Я посмотрел в лицо Франсуа Л., на котором так и не проявится душа, даже через час после смерти. Ни через час, никогда. Душа — то есть любопытство, страсть к риску, радость существования вместе с кем-то, жизни ради кого-то, возможность быть другим, в общем, иметь желания и планы на будущее, а также воспоминания, память о своих корнях, о своей принадлежности; одним словом — простым, расплывчатым, но понятным всем словом, — душа уже давно покинула тело Франсуа, опустошила его лицо, выела своим отсутствием глаза.
* * *
Der Wind hat mir ein Lied erzählt…Снова голос Зары Леандер. Глухой, золотистый, чувственный.
В воскресенье, сразу после дневной переклички, ее голос, словно журчание горного ручейка, неожиданно заполнил столовую крыла С сорокового блока.
«Заполнить» — не самый подходящий глагол. Скорее, ее голос окружил, пропитал, заполнил собой пространство. Все смолкли, позволяя этому голосу расположиться в наших жизнях, овладеть нашей памятью.
И снова он:
Der Wind hat mir ein Lied erzählt… Von einem Glück unsagbar schön…Слова другие, но песня — та же самая, та же любовь, та же грусть: жизнь. Настоящая жизнь за колючей проволокой, до лагеря, эти назойливые и драгоценные пустота и легкость, которые и были жизнью.
Только что Себастьян Мангляно побежал в спальный отсек барака к приятному воскресному одиночеству великой мастурбации, la gran paja.
Побежал, смеясь в предвкушении удовольствия.
Сегодня, признаюсь, голос Зары Леандер не возбуждает меня. Впрочем, у меня есть смягчающие обстоятельства.
Отдаваясь на волю этого роскошного, пленительного, шелковистого голоса, я думаю, что бы сделал Себастьян Мангляно в подобной ситуации.
Просыпаясь, он всегда давал мне отчет о поведении своего Александра Великого.
Это происходило в умывальне, во время утреннего туалета.
У нас была привычка — дисциплина для выживания — вскакивать с первым свистком, бросаться в умывальню с голым торсом, босыми, до того, как все встанут и начнется столпотворение. Вода ледяная, суррогатом мыла хорошенько не отмоешься, но ритуал необходимо было соблюсти. Надо было скрести лицо и тело, подмышки, яйца, ноги под холодной водой песчаным мылом. Долго, сильно, до красноты, чтобы смыть грязные ночные барачные запахи.
Отказаться от этого обряда, который мы тупо, даже не задумываясь, совершали каждое утро, было бы началом конца, началом ухода, первым знаком близкого поражения.
Когда мы замечали, что кто-то пренебрегает утренним туалетом и его взгляд затухает, надо было действовать немедленно. Говорить с ним, заставить его говорить, снова пробудить интерес к миру, к себе самому. Отсутствие интереса, отсутствие любви к себе, к некой идее о себе становилось первым шагом по пути, откуда не возвращаются.
Когда я оставался один, когда Мангляно, мой сосед по нарам, работал в ночную смену в сборочном цехе завода Густлов, я все равно бросался в умывальню с первым свистком, с первым ревом Stubendienst в спальном отсеке барака.
В такие дни я читал на память стихи по-французски. Очень подходящие к обстоятельствам строчки Рембо: «Под утро, летнею порой, / Спят крепко, сном любви объяты…»[36], — тешили мое неистребимое чувство юмора.
Как вел себя Мангляно, оставаясь в одиночестве на нарах, когда я работал в ночную смену в Arbeit, я, естественно, не знаю. Но когда мы просыпались вместе, когда наши часы работы совпадали, мы оба бежали в ванную. В такие дни мы во все горло орали испанские стихи гражданской войны — Рафаэля Альберти, Сесара Валльехо, Мигеля Эрнандеса. Для нас это было что-то вроде зарядки перед началом нового голодного дня на пороге смерти. Мы заряжались не только бодростью, но и гневом — а гнев согревает.
Так вот, Мангляно постоянно держал меня в курсе насчет состояния своего Алехандро. В те дни, когда он признавался мне, что ему снились богатые событиями эротические сны и Алехандро твердел, я подкалывал его, уверяя, что ничего не чувствовал, даром что ложе наше куда как узко. Он возмущался, что кто-то ставит под сомнение торжество его мужского достоинства.
— В следующий раз, когда я буду дрочить, — восклицал он, — я тебя разбужу, и ты мне отсосешь! (Te despierto у me la chupas!)
— И не мечтай, — парировал я. — Тебе не обломится! (Ni sonarlo: no te caera esa breva!)
В общем, мы оба пытались начать новый день по возможности в бодром расположении духа.
Der Wind hat mir ein Lied erzähl Von einem Herzen, das mir fehlt…Я слушал голос Зары Леандер, он убаюкивал меня, и я не противился.
Вытянувшись рядом с Франсуа Л., я готовился пережить эту ночь, которая могла стать ночью моей смерти. Я имею в виду — официальной, административной смерти, которая приведет к исчезновению моего имени. Меня волновали мысли о воскресении, о том, как вернуть мою настоящую личность после того, как я узурпирую имя Франсуа.
Обычно, когда нары были на двоих (в Малом лагере в бараках для инвалидов и мусульман иногда лежали по трое-четверо на одних-единственных нарах), мы ложились валетом. В таком положении тела лучше приспосабливались друг к другу, можно было выиграть немного места.
Но в санчасти я лег ногами в ту же сторону, что и Франсуа, чтобы видеть его лицо. Чтобы распознать на его лице знаки жизни и смерти.
Он прибыл в Бухенвальд из Компьеня с тем же конвоем, что и я. Может быть, даже в одном вагоне, в этом нет ничего невозможного. Во всяком случае, история того путешествия, которую он мне рассказал, очень походила на мою. Ничего удивительного, впрочем, все наши истории похожи. Мы все проделали один и тот же долгий путь.
Он сказал мне, что больше из его группы в том вагоне никого не было.
Большую часть его товарищей из отряда расстреляли. Его лучший друг умер под пыткой. В Компьене Франсуа остался один. И в поезде в Веймар тоже. В лагере Руальё до него дошли слухи, что им повезло — местом назначения был лагерь в лесу, очень здоровое место. Впрочем, название говорило само за себя — Бухенвальд, «буковый лес».
«Если я выдержу, — говорил он мне в сортире, — если мне удастся отсюда выйти, я обязательно напишу об этом. Уже некоторое время я об этом думаю, и этот замысел придает мне сил. Но если я когда-нибудь напишу, в рассказе я буду не один, я придумаю себе попутчика. Кого-то, с кем можно поговорить после стольких недель молчания и одиночества. В одиночке или в помещении для допросов — вот моя жизнь в последние несколько месяцев. Если я выкарабкаюсь и напишу, я вставлю тебя в свой роман. Хочешь?» — «Но ты же ничего обо мне не знаешь! — ответил я. — Зачем я тебе, это же твоя история?» Он уверил меня, что знает достаточно, чтобы слепить из меня литературного героя. «Ведь ты станешь литературным героем, старина, даже если я ничего не выдумаю!»
Через пятнадцать лет в Мадриде на конспиративной квартире я последовал его совету и начал писать «Долгий путь». Я выдумал парня из Семюра, который составил мне компанию в вагоне. В романе мы вместе проделали этот путь — так я скрыл свое реальное одиночество. Зачем писать книги, если не выдумывать правду? Или, лучше сказать, правдоподобие?
В общем, в Бухенвальд мы с Франсуа прибыли вместе. Вместе, среди такой же толпы заключенных, по воле случая собранных в душевой, мы прошли обряд дезинфекции, бритья, одевания.
Быстренько облачившись в тряпье, которое швырнули нам в лицо, пробежав по коридору Effektenkammer, мы оказались совсем рядом — наши номера тому доказательство — перед немецкими заключенными, которые заполняли наши личные карточки.
В сортирном бараке Малого лагеря в то декабрьское воскресенье, когда американцы отстаивали руины Бастони, Франсуа посмеялся моему рассказу о споре с немецким коммун истом-ветераном, так и оставшимся безымянным, который не хотел записывать меня как студента философского факультета, Philosophiestudent. «Здесь это не профессия, — сказал он мне. — Kein Beruf!» А я, высокомерный двадцатилетний идиот, кичащийся своим знанием немецкого языка, бросил ему: «Kein Beruf aber eine Berufund! He профессия, но призвание».
«Он махнул на меня рукой, — объяснил я Франсуа. — Понял, что со мной бесполезно спорить. И кажется, напечатал-таки на своей старой пишущей машинке „Philosophiestudent“». Франсуа понравилась эта история.
Сам он на традиционный вопрос о профессии ответил «student». Студент, и только — не уточняя, чему он учился. «Латинист! — воскликнул Франсуа. — Представляешь себе его рожу, если бы я сказал ему „латинист“!» Немец-заключенный, заполнявший карточку Франсуа, глянул на него, пожал плечами, но ничего не возразил.
Er weiss was meinem Herzen fehlt. Für wen es schläg und glüht…Франсуа неподвижен, глаза закрыты, жив ли он еще? Я приблизил свои губы к его, прикоснулся к ним. Да, еще жив: теплое, практически неуловимое дыхание срывалось с его губ.
Во время карантина мы были соседями: его поселили в шестьдесят первый блок, меня — в шестьдесят второй.
Но для него все сложилось не так удачно. Сначала, в первые дни карантина, его обнаружила и взяла под свое крыло группа голлистов из Сопротивления. «Впервые после ареста я был не одинок!» — все еще радостно говорил он. Эта группа вскоре получила приказ о переброске. Франсуа явился к старосте шестьдесят первого блока с просьбой внести его имя в список, к товарищам. «Да ты с ума сошел! — кричал тот. — Ты не понимаешь, что несешь! Эта колонна идет в Дору! Тебе повезло, что тебя нет в списках!»
Дора? Естественно, это женское имя ничего не говорило Франсуа. Немец в двух словах растолковал ему: Дора — это строящийся подземный завод, где нацисты начали разрабатывать секретное оружие. Он понизил голос, чтобы объяснить, что это за оружие. Raketen! Франсуа сначала не понял. Raketen? Ему пришлось поднапрячь мозги, поискать в памяти значение этого слова. Ах да, ракеты! В общем, это самый ужасный, самый чудовищный из вспомогательных лагерей Бухенвальда! Внутреннюю власть в лагере эсэсовцы доверили «зеленым треугольникам» — уголовникам. Темп работ был ужасающим, избиения — постоянными. Заключенные прокладывали туннель, работая в пыли, и гробили себе легкие. По сравнению с этим Бухенвальд действительно был санаторием.
И тем не менее Франсуа настаивал, чтобы его имя внесли в список. Какими бы ни были ужасы Доры, там он будет не один — он нашел настоящих борцов, вновь обрел своих, ему было с кем поговорить, помечтать.
Староста шестьдесят первого блока смерил взглядом Франсуа — по виду хрупкого юношу из хорошей семьи. «Слушай, — сказал он, протягивая ему половину сигареты, — ты отлично шпаришь по-немецки, ты и здесь найдешь какую-нибудь непыльную, кабинетную работенку. Сейчас все больше заключенных ненемцев, нам тут нужны иностранцы, которые хорошо говорят на государственном языке».
Франсуа подумал, что официальный язык уже давно урезан до нескольких злобных команд: «Los, los! Schnell! Scheisse, Scheisskerl! Du Schwein! Zu fünf!» Но может быть, в кабинетах говорят на другом языке, может, там говорят на настоящем немецком?
Через несколько дней Франсуа получил наряд в карьер, Steinbruch. Но ему не повезло так, как мне: ему не встретился русский ангел-хранитель. Никто не помог ему тащить тяжеленный камень, к которому приставил его эсэсовский унтер. Никто не назвал его товарищем. Scharführer так отдубасил его, что Франсуа даже приняли в санчасти с многочисленными ранами и ушибами.
И с этого начались его несчастья.
Его выход из Revier совпал с окончанием карантина, и он оказался в Большом лагере. Но так как он был очень слаб, почти инвалид, ему не нашлось места в лагерной системе. На заре он оставался на плацу среди нескольких сотен заключенных, у которых не было постоянных должностей, и каждый день они ждали новых нарядов. Капо приходили искать в этой безымянной массе работников, которые были нужны в данный момент, чтобы заменить отсутствующих, умерших или освобожденных от работы билетиками Schonung. Остальных отправляли на временные работы, не требующие особой квалификации, — убирать мусор или просто рыть землю.
В общем, все, что могло достаться Франсуа, — это как раз работы, требующие физической силы и здоровья. Несколько дней в одном из таких нарядов только доканывали его физически и морально.
Через два месяца невзгод и одиночества Франсуа отправили в Малый лагерь, в один из бараков, где умирали инвалиды и парии, изгнанные из общества, не вынесшие каторжных работ, — мусульмане.
* * *
Der Wind hat mir ein Lied erzählt Von einem Glück unsagbar schön. Er weiss was meinem Herzen fehlt…Вдруг я узнал слова.
Зато мелодия ускользала от меня, я ее не узнавал. Надо сказать, что слуха у меня никакого — я не могу ни запомнить, ни узнать мелодию. И напеть тем более. Фальшивлю, как расстроенное пианино! Когда мы были молодыми — много веков назад, много ночей, много смертей и жизней назад — и распевали хором «La jeune garde», или «Le temps des cerises», или «El ejército del Ebro»[37], всегда кто-нибудь в ужасе затыкал уши: я портил песню, ее гармонию.
Так что мелодию я не узнал, но слова вдруг показались мне знакомыми. «Der Wind», ну конечно, «Der Wind hat mir ein Lied erzählt»!
Это не Зара Леандер, это Ингрид Кавен 28 ноября 2000 года на сцене парижского театра «Одеон».
Двигаясь одновременно мягко и ритмично, плавно и угловато, она завладела всем пространством сцены. Она словно обжила ее огромную пустоту, обозначила территорию своим танцующим, кошачьим, но и властным шагом. Вокруг нее образовалась чувственная аура непреодолимого обаяния.
Поначалу я едва обратил внимание на ее голос, точнее, ее манеру ломать мелодию, вторгаться в ее ритм, в рутину песни, оживлять ее своим контральто. Меня просто заворожила ее способность жить в этом пространстве, заполнять его собой, делать живым.
Мягкой поступью хищницы она прокралась на сцену — рыжая красотка, переживающая осень своей жизни, — и за несколько секунд на глазах сбросила годы и завоевала зал, сделала его своим логовом; воздух наполнился истомой, тоской по прошлому, обещавшей будущее.
А потом ее голос заполнил все вокруг.
Голос, способный ворковать, расцветать всеми цветами радуги в глиссандо, обострявшийся на высоких и низких нотах, ломающийся или сладострастно угасающий и тут же дерзко возрождающийся.
И слова, откуда ни возьмись, слова тех давних бухенвальдских воскресений.
А ведь, казалось бы, ни одно место на Земле не подходило для больной памяти меньше, чем этот роскошный зал «Одеона» 28 ноября 2000 года.
Если не считать того, что на заднем плане была Германия.
— Deutschland, bleiche Mutter, — сказал я себе, услышав первые немецкие песенки в исполнении Ингрид Кавен. — Германия, бледная мать!
И тут же я вспомнил Джулию на улице Висконти. Той давней ночью Джулия рассказывала мне о Брехте. В «Одеоне» я подумал, что Ингрид Кавен могла бы — но мне ли ее учить! — составить концерт из одних только стихов Брехта. Стихи Брехта с их яростью, нежностью и насмешкой были словно написаны специально для нее: нежной, яростной, насмешливой.
Я вспомнил стихи Брехта, которые когда-то прочла мне Джулия: «Deutschland, du blondes, bleiches, / Wildwolkiges mit sanfler Stirn…»
О белокурой Германии с бледным, как в фильмах неоэкспрессионистов, лицом, о юной Германии с безмятежным челом, коронованным тяжелыми грозовыми тучами, я подумал в тот вечер, слушая Ингрид Кавен, поющую песни из прошлого, песни Зары Леандер из репродукторов Бухенвальда в воскресенье.
За несколько лет до этого Клаус Михаэль Грубер попросил меня написать пьесу о немецкой памяти: скорбная память и память о скорби. Я назвал ее «Bleiche Mutter, zarte Schwester» («Бледная мать, нежная сестра»). Она была выстроена вокруг фигуры Каролы Нехер, которую я нашел в стихотворении Брехта. Светловолосая бледная красавица Карола Нехер, звезда двадцатых годов в Германии, была выслана после прихода Гитлера к власти, арестована в Москве во время сталинских чисток в середине тридцатых годов (Säuberung, «чистка», ключевое слово двадцатого века, будь то политическая или этническая чистка) и сгинула в ГУЛАГе. Карола Нехер — как и Маргарет Бубер-Нойман, например, — олицетворяла для меня судьбу Германии.
Ханна Шигула играла роль Каролы Нехер в этой пьесе, которую Грубер репетировал для представлений под открытым небом, на закате, среди могил старого советского военного кладбища в Веймаре у подножия замка Бельведер.
Немецкая песня в исполнении Ингрид Кавен была не такой мелодичной и слащавой, как у Зары Леандер, она тревожила и терзала нутро памяти. Из позолоты «Одеона» слова этой песни перенесли меня в то давнее воскресенье в санчасти в Бухенвальде.
Оттуда я вернулся, но в этом мире я одинок, вокруг меня — пустота.
Наверное, в тот вечер в том месте я был единственным человеком с такой памятью. В вихре возникающие образы подпитывали и пожирали меня. Мне дорога эта исключительность, эта привилегия, даже если она меня разрушает. Потому что эта песня напоминает не только о юношеских страстях — неагрессивно, нежно и с улыбкой напоминает она о близости смерти.
Allein bin ich in der Nacht, Meine Seele wacht…Это действительно так: я одинок в ночи, моя душа не дремлет.
* * *
Через некоторое время после того, как я устроился на нарах, Франсуа резко дернулся и открыл глаза.
Между нашими лицами было всего несколько сантиметров. Он узнал меня не сразу.
— Нет, только не ты, — еле слышно произнес он.
Нет, Франсуа, я не умру. Во всяком случае, не сегодня ночью, я обещаю. Я переживу эту ночь, я постараюсь пережить много других ночей, чтобы помнить.
Возможно — и я заранее прошу у тебя прощения, — я буду иногда забывать. Я не смогу все время жить, помня об этом, Франсуа, — ты сам знаешь, что такая память смертоносна. Но я буду возвращаться к этому воспоминанию, как возвращаются к жизни. Парадоксально — но только на первый взгляд, — я сознательно буду возвращаться к этому воспоминанию в те минуты, когда мне надо будет снова обрести твердую почву под ногами, пересмотреть свое представление о мире и о себе самом в этом мире, начать с чистого листа, набраться сил, иссякших под напором непроницаемой незначительности жизни. Я буду возвращаться к этому воспоминанию о доме смертников в Бухенвальде, чтобы снова обрести вкус к жизни.
Я постараюсь выжить, чтобы помнить о тебе. Чтобы помнить о книгах, которые ты читал и о которых рассказывал мне в сортире Малого лагеря.
Впрочем, это будет не так уж трудно. Мы читали одно и то же, одно и то же любили. В последнем порыве интеллектуального кокетства ты хотел поразить меня, упомянув Бланшо. Но я к тому времени уже открыл для себя «Аминадаба» и «Фому Темного». Что до Камю, бесспорно — его «Посторонний» потряс нас обоих как гром среди ясного неба. И так как разговор о Камю был невозможен без экскурсов в метафизику, мы тут же пришли к согласию в основополагающем вопросе: из всех ныне живущих французских философов наиболее оригинален Мерло-Понти. В его «Структуре поведения» были совершенно по-новому расставлены акценты, он отводил особое место телу, его органической материальности, его рефлексивной сложности, это была новая струя в феноменологических исследованиях.
Только о двух писателях мы не сошлись во мнении в тот вечер. Это Жан Жироду и Уильям Фолкнер.
Франсуа находил первого слишком манерным, слишком претенциозным. Я помнил наизусть много кусков из его произведений и читал их ему. Но мои тирады только еще больше настроили Франсуа против Жироду. Меня же они, напротив, еще больше воодушевляли. Видя, что он не сможет переубедить меня в том, что касается романов Жироду, Франсуа взялся за его драматургию. Он с пафосом провозгласил, что отдаст все пьесы Жироду за одну «Антигону» Ануя. «Когда в сентябре 1943 года в Жуаньи меня арестовало гестапо, больше всего меня разозлило, что из-за этого я пропущу премьеру „Содома и Гоморры“!» — ответил я высокопарностью на высокопарность.
Поняв, что ему меня не переубедить, Франсуа выложил последний козырь: антисемитизм — наверняка поверхностный и неискренний и тем не менее неоспоримый — некоторых текстов Жироду.
Я раздраженно возразил ему, что если он не любит Жироду, то не из-за его антисемитизма, а вероятно, потому, что, как и все правые, он очень ценил глянцевую, подстриженную, словно английский газон, культурненькую, красивенькую прозу Жака Шардонна, в отличие от буйства прозы Жироду.
В общем, мы так и не договорились.
Насчет Фолкнера тоже.
Но с Фолкнером было сложнее, к нашим литературным разногласиям примешивалось личное. Ни он, ни я не сформулировали этого вслух, это так и осталось намеком, на зыбкой границе невысказанного.
Франсуа вполне мог знать Жаклин Б., девушку, которая познакомила меня с романами Фолкнера. В какой-то момент она появилась в его рассказе. Во всяком случае, молодая девушка, удивительно на нее похожая, — те же синие глаза, длинные черные волосы рассыпаны по плечам, стройный стан, летящая походка.
В рассказе Франсуа она гуляла босиком под летним ливнем на площади Фюрстенберг. Естественно, не она, эта девушка, похожая на призрак, открыла ему Фолкнера — к тому времени Франсуа уже прочел романы американца. Жаклин Б. — это могла быть только она: летом она действительно любила разгуливать босиком, подставив лицо дождю, наверняка она, — так вот, Жаклин открыла Франсуа поэзию Жака Превера. Как и мне — мне тоже Жаклин приносила напечатанные на машинки стихи Превера, разлетающиеся листки поэзии повседневности.
Я так и не спросил у Франсуа, как звали девушку, то и дело появлявшуюся в его рассказах. Я слишком боялся, что он назовет имя Жаклин, Жаклин Б. Однажды в разговоре он намекнул, что у него был с ней роман, с этой незнакомкой, неназванной и для меня неназываемой. Хотя, может, я фантазирую. Но мысль о том, что Франсуа мог обнимать Жаклин Б., была для меня невыносима.
Я выбрал неведенье.
Эта недоговоренность вторгалась в наши литературные дискуссии о романах Фолкнера, которые Франсуа казались слишком сложными, замысловатыми, слишком произвольно выстроенными, — короче говоря, они его раздражали. А я вспоминал, с каким пылом Жаклин говорила мне о «Сарторисе». Что ж, значит, с Франсуа они не во всем сходились. Какое-никакое, а утешение.
Несколько месяцев спустя, в первые дни чудесного мая 1945 года, на адрес моей семьи (47, улица Огюста Рея, Грос-Нуаэ-Сен-При, Сена-и-Уаза) пришло письмо от Жаклин.
Я только что вернулся из Бухенвальда. Как раз успел увидеть, как падает снег — вдруг налетевшая снежная буря — на знамена первомайской демонстрации. Как раз успел понять, какая она странная — настоящая жизнь, и насколько тяжело мне будет к ней приспособиться. Или придумать ее заново.
Почему мы расстались? — спрашивала себя и меня Жаклин Б. Да, мы и в самом деле расстались. Мы ведь чуть не расстались с жизнью. Однако это легко объяснить. С некоторых пор работа в «Жан-Мари Аксьон» заставила меня забыть все прежние знакомства.
Жаклин дала мне адрес, где я могу ее найти, если захочу снова увидеть. Конечно, я хотел. Она жила на улице Клода Бернара, в доме с нечетным номером. В этом я уверен, потому что спустился по улице Гей-Люссака и оказался на правом тротуаре. Мелочь ведь, какая разница? Легко можно представить себе рассказ, в котором эта несущественная деталь была бы забыта. Ее можно опустить, чтобы сюжет тек быстрее. Но май сорок пятого года был временем колебаний в моей жизни, и я не слишком понимал, кто я, почему, зачем. Так что воспоминание о мелочах, о маленьких островках уверенности укрепляет меня в спорной, хрупкой мысли о том, что я жив.
Это точно я, я действительно существую, мир тоже, он обитаем, по меньшей мере транзитом, потому что я помнил, что пришел на улицу Гей-Люссака, что тротуар, где стояли нечетные дома, начала накрывать тень — в Париже в том мае было солнечно, — потому что я помнил, как дрожал от возбуждения при мысли, что снова увижу ее.
Она жила на первом этаже, между двором и садом, все в той же семье, которая приютила ее три года назад, когда мы познакомились в Сорбонне. Впрочем, я никогда точно не знал, что за отношения связывают ее с вышеназванной — точнее, неназванной — семьей, по прямой линии восходящей к знаменитому королевскому хирургу XVIII века, который был также одним из основателей экономической школы физиократов.
Может быть, Жаклин была компаньонкой матери семейства? (Никакого отца на горизонте не наблюдалось.) Или гувернанткой самой младшей из сестер? Или подругой одного из братьев?
Как бы то ни было, мы возобновили наши бесконечные разговоры за стаканом воды и чашкой кофе с молоком, мы снова гуляли по Парижу. Она не задала мне ни единого вопроса о двух годах, проведенных в Бухенвальде. Вероятно, поняла, что я не отвечу.
Как-то в середине лета мы вышли из кинотеатра на площади Сен-Сюльпис. Прошел ливень, после тяжелой жары посвежело, по желобам тротуара еще текла вода. Жаклин, смеясь, скинула туфли на низком каблуке и пошла босиком.
Я смотрел на нее, словно громом пораженный, вспомнив рассказ Франсуа Л. Не ее ли он когда-то сжимал в объятиях?
Так Жаклин и стояла на площади Сен-Сюльпис — босоногая, в мужской рубашке военного покроя с засученными рукавами, в развевающейся широкой юбке из сурового полотна, талия перехвачена широким кожаным ремнем. Она запрокинула голову к небу в ожидании нового ливня.
За полгода до этого, в декабре, в тот день, когда американцы не отдали ни пяди солдатам фон Рундстеда в Бастони, я ловил на изможденном, почти прозрачном лице Франсуа Л. последнее движение. Подстерегал его последний вздох, может быть, последнее слово. Даже воспоминание о Жаклин Б. не смогло бы его утешить, заставить улыбнуться, подарить ему малейшую надежду. Я всматривался в его лицо в нескольких сантиметрах от моего. Я знал, что душа уже давно покинула его, что она больше не наложит на его черты, через час после смерти, неосязаемый покров безмятежности, внутреннего благородства, возвращения к себе.
В этом зале ожидания смерти хрипы, стоны, слабые испуганные крики стихали, угасали один за другим. Вокруг меня были одни трупы: мясо для крематория.
Дернувшись всем телом, Франсуа открыл глаза и заговорил.
Это был иностранный язык, несколько коротких слов. Только потом я сообразил, что это латынь: два раза он произнес nihil, в этом я уверен.
Он говорил очень быстро, еле слышно, и, кроме этого повторенного «ничто» или «небытие», я не разобрал его последних слов.
Вскоре его тело застыло окончательно.
Последние слова Франсуа Л. надолго остались тайной. Ни у Горация, ни у Вергилия, которых он цитировал наизусть, как я — стихи Бодлера или Рембо, я не нашел текста, где бы слово «nihil» — ничто, небытие — повторялось дважды.
Десятки лет спустя, через полвека после той ночи, когда Франсуа Л. умер рядом со мной, в последних судорогах произнеся несколько слов, которых я не понял, но был уверен, что это латынь из-за повторения слова nihil, я работал над адаптацией «Троянок» Сенеки.
Это был новый перевод на испанский, который я взялся сделать для Андалузского театрального центра. Режиссер, предложивший мне поучаствовать в этой авантюре, был французом — Даниэль Бенуан, директор Театра комедии в Сент-Этьене.
Я работал одновременно с латинским текстом, подготовленным Леоном Эррманном для французской «Университетской серии», более известной под названием серии Бюдэ, и испанским переводом, слишком буквальным и лишенным трагического дыхания.
Однажды, закончив перевод кульминационной сцены с участием сына Ахилла Пирра и Агамемнона, я приступил к длинному хору троянок. Переводя лежащий передо мной латинский текст, я написал по-испански: «Tras la muerte no hay nada у la muerte non es nada…»
Внезапно, вероятно, потому, что повторение слова nada навеяло мне глубоко запрятанное, еще смутное, но жуткое воспоминание, я вернулся к латинскому тексту: «Post mortem nihil est ipsaque mors nihil…»
Таким образом, более полувека спустя после смерти Франсуа Л. в Бухенвальде слепой случай, превратности литературного труда вывели меня на его последние слова: «После смерти — ничто, смерть и сама ничто»[38]. Я совершенно уверен: это были последние слова Франсуа.
В июле сорок пятого года, тем летом, когда я вернулся, на площади Сен-Сюльпис я этого еще не знал.
Я посмотрел на Жаклин Б. — босая на мокром асфальте, в руках туфли. Казалось, она ждала, запрокинув голову, небесной влаги, и дождь снова полился как из ведра.
Она укрылась в моих объятиях, намокшая рубашка тут же обрисовала грудь.
Мне бы прошептать ей на ухо мое сокровенное желание. Сказать ей, как часто и как отчаянно я думал о ней. Мои сны в Бухенвальде были полны ею: мне снилось ее неизведанное, угадываемое, иногда подсмотренное в небрежно развевающейся летней одежде тело.
Под горячей водой в душе (привилегированном душе для Prominent у нас в Arbeit был гораздо больший выбор дня и часа, чем у простых смертных, у которых, впрочем, не было вообще никакого выбора, — обязательный еженедельный душ в установленное время; к тому же нас, в отличие от прочих смертных, не заталкивали гуртом в душевую, мы частенько бывали всего вчетвером-впятером в огромном квадратном помещении), так вот, под горячим душем в лучшие дни воспоминание о ее теле еще могло заставить кровь течь быстрее, воплощая сны.
Но я, естественно, ничего не сказал, ничего не прошептал ей на ухо. Только обнимал, пытаясь защитить от ливня. Дождь кончился, мои руки раскрылись, она отдалилась, ее грудь дразнила под намокшей рубашкой.
Через год я женился на девушке, которая до странности походила на нее. И конечно, ничего хорошего из этого не вышло.
* * *
Внезапно в глубине моего сна раздались глухие настойчивые удары. Сон свернулся вокруг этого шума: где-то в его глубине, слева, забивали гвозди в крышку гроба, на темной территории сна.
Я знал, что это сон, знал, что за гроб заколачивают в этом сне — гроб моей матери. Я знал, что это ошибка, недоразумение, какая-то путаница. Я знал, что моя мать не могла быть похоронена в таком пейзаже: на кладбище на берегу океана под равномерные взмахи крыльев чаек. Я знал, что это не так, но был уверен, что хоронят именно мою мать.
Я знал также, что скоро проснусь, что усиливающиеся удары (молотка по крышке гроба?) разбудят меня через минуту-другую.
Ужас этого сна был невыносим. Не только потому, что забивали гроб моей матери. От этого знания, каким бы точным оно ни было, как ни странно, мне не было тягостно. Наоборот. Я слышал удары молотка по крышке гроба моей матери, но виделись мне не похороны, мне снились какие-то торжествующие, или нежные, или трогательные образы. Так что ужас был не отсюда. Ужас проистекал из другого знания.
Я был уверен, что уже видел этот сон, что однажды уже проснулся от этого сна, вот оно что. Я отчетливо и ясно помнил мгновение после того первого сна, первого пробуждения: Каминский и Ньето, подходящий покойник, Франсуа Л. в бараке для доходяг.
Ужаснула меня именно эта уверенность, мысль о том, что придется еще раз пережить то, что я уже пережил за последние сорок восемь часов.
Нехотя я открыл глаза.
На этот раз вовсе не Каминский, а Эрнст Буссе колотил кулаком по стойке нар.
Ужас отступил, все встало на свои места: я был готов.
— Ты, я смотрю, не волнуешься! Как ты можешь спать?
Тон Буссе был полуворчливый-полувосхищенный.
Я не успел сказать, что умудряюсь спать в любых обстоятельствах, даже в перерыве между двумя допросами в гестапо.
— Пять минут назад ты спал так крепко, — усмехнулся Буссе, — что Leichenträger, трупоносцы, чуть не забрали тебя в крематорий.
Он кинул на нары мою одежду. Я стащил с себя рубашку и быстро оделся.
Помещение санчасти, где я провел ночь, опустело. Можно принимать новую партию умирающих.
Я видел, как умирал Франсуа, но не видел, как его увезли в крематорий.
— Забавно, — добавил Буссе, — если бы ты проснулся в последнюю минуту на горе трупов, которые везут в печь!
Действительно, обхохочешься.
Ночью, сразу после того, как Франсуа произнес несколько слов, которые мне показались похожими на латынь из-за повторенного дважды слова nihil, к моей койке подошел санитар. Со шприцем в руке. Он тихо заговорил со мной по-русски. Я понял, что он хочет сделать мне укол, и вспомнил, что говорил Буссе: от инъекции у меня поднимется температура — на тот случай, если эсэсовцы решат закончить праздник прогулкой по санчасти.
Когда молодой санитар склонился надо мной, ища вену, чтобы воткнуть иглу, мне показалось, что я его узнал. Мне показалось, что это тот самый русский, который спас меня в карьере девять месяцев назад.
Но мне не пришлось проверить свою догадку — вбежал Эрнст Буссе. Он удержал руку санитара.
— В последний момент, — прошептал он, — они передумали. Решили закончить попойку в борделе!
И увел санитара, оставив меня в одиночестве рядом с Франсуа Л.
Что ж, я не проснулся на горе трупов во дворе крематория. На этот раз из повторяющегося сна, в котором забивали гроб моей матери, меня вырвал Буссе.
Какой-то другой звук накладывался в моем сне на стук молотка по крышке гроба. Идя за Буссе, на выходе из барака для умирающих я понял, что это за звук.
В моей детской памяти сохранилось воспоминание о том дне — 14 апреля 1931 года, — когда в Испании была провозглашена республика и когда младший брат моей матери Мигель Маура вышел из мадридской тюрьмы «Cárcel Modelo», чтобы стать министром внутренних дел в новом правительстве, мать вывесила на балконе нашей квартиры на улице Альфонса XI — где она и умерла несколько месяцев спустя — трехцветные знамена. Цвета республики — красный, золотой, фиолетовый.
Как только эти знамена затрепетали на весеннем ветру на одной из самых зажиточных и спокойных улиц буржуазного квартала, тут же все соседи захлопали ставнями, чтобы не видеть этого невыносимого зрелища прямо под носом.
Стук деревянных ставен, закрываемых с размаху, накладывался на стук молотка по крышке гроба — стук жизни на стук смерти.
В этой первичной, по Фрейду, сцене — а именно такой она казалась — не было половых проблем. Не было там и отца. Только мать — юная, торжествующая красавица, стоит, запрокинув голову, и вызывающе хохочет. И республиканские знамена.
Я шел за Буссе по лабиринту коридоров санчасти.
Из репродукторов доносились шумы с плаца, приказы эсэсовских унтеров, разговоры заключенных, собиравшихся в рабочие группы после переклички.
В этот бурный, глубокий, безбрежный гул врывались звуки лагерного оркестра, играющего бравурные марши, — традиционное сопровождение утреннего выхода на работы.
Это была официальная музыка в исполнении Lagerkapelle; музыканты, одетые по-цирковому — красные галифе и куртки, обшитые зеленым шнуром (или наоборот, я и не подумаю уточнять эти детали), — ежедневно выходили на плац утром и вечером, оживляя выход на работы и возвращение отрядов.
Впрочем, это не было настоящей музыкой Бухенвальда.
Настоящей, по крайней мере для меня, была другая музыка, часто сентиментальная и ностальгическая, которую транслировали через репродукторы эсэсовские унтеры. Воскресные мелодии, песни Зары Леандер — вот это была музыка Бухенвальда.
И еще музыка подпольного джазового оркестра Юрия Зака.
В прошлое воскресенье я сквозь привычную декабрьскую снежную бурю пробирался в кинозал. Юрий Зак, чешский знакомец из Schreibstube, секретариата, назначил мне встречу.
— Приходи, — пригласил он меня во время полуденной переклички. — Приходи в кинозал. Я нашел нового трубача. Студент из Норвегии, просто класс, сам увидишь! Я попрошу его сыграть кусок из Армстронга… А потом у нас будет время потолковать — у меня есть для тебя новости от Пепику!
Трогательное прозвище Пепику носил Йозеф. А Йозеф — это Франк, Йозеф Франк. Он, как и я, работал в Arbeitsstatistik, так что мог поговорить со мной без посредников когда угодно. Вероятно, он не хотел, чтобы нас слишком часто видели вместе.
Я действительно попросил его помочь мне в одной щекотливой проблеме, настолько конфиденциальной, что не стоило посвящать в нее даже подпольщиков. Речь шла о подготовке побега для члена французской компартии.
От имени Марселя Поля ко мне обратился Пьер Д. Я не говорил об этом с Зайфертом, слишком уж тесно он был связан с педантичной бюрократией немецкой коммунистической организации. Зайферт не поверил бы мне на слово. И не потому, что не доверял мне. Но он был обязан, по своему положению в подпольной иерархии, передать это вышестоящим органам, которые через ФКП выяснили бы всю подноготную Марселя Поля.
Правда ли, что он собирается бежать? Действительно ли он общался со мной на эту тему? Верное ли это решение? Можно ли его принять, не согласовывая с интернациональным комитетом, учитывая, к каким последствиям может привести возможный провал?
Короче, завязалась бы дискуссия, начали бы переливать из пустого в порожнее. Слишком много народу оказалось бы в курсе дела, которое должно было остаться суперконфиденциальным, тайным даже для интернациональной коммунистической организации в Бухенвальде.
В этом деле лучше действовать методами французских партизан, сказал бы Даниэль Анкер. A la guerrillera, сказал бы я по-испански. В таком деле партия могла все только испортить.
Так что я решил обратиться к Йозефу Франку. Я знал, что он ответит мне «да» или «нет» без предварительной консультации с шефом. Он ведь сам был шефом! И это меня устраивало.
Франк был важной шишкой в Arbeit, наравне с Зайфертом. В его обязанности входило набирать специалистов — техников и квалифицированных рабочих, он направлял их на разные заводы по изготовлению оружия в Бухенвальде — Густлов, DAW и прочие.
Это была, скажем так, его официальная работа, о которой он мог бы дать отчет в случае необходимости командованию СС. За этим фасадом — использование на благо революции всех легальных возможностей деятельности, бесспорно, является одним из наиболее распространенных и убедительных методов большевиков — Франк по поручению подпольной организации должен был отбирать испытанных бойцов для работы, необходимой в секторе.
Общая стратегия подпольной коммунистической организации состояла в том, чтобы контролировать по мере сил производственную систему Бухенвальда с двойной целью: сохранить рабочие кадры, в основном бойцов-антифашистов, назначая их на самые лучшие рабочие места, а во-вторых, нажимая на них, организовать систематическое замедление работ и иногда саботаж производства оружия.
Йозеф Франк, как и большинство его соотечественников из протектората Богемии — Моравии, был из Prominenten, красной аристократии Бухенвальда. Но в отличие от других капо-коммунистов это был спокойный, внимательный, порой даже вежливый человек. Никогда он не вел себя надменно или грубо, никогда ругательства не засоряли его изысканный немецкий язык.
Правда, его нелегко было вызвать на откровенность, он не сходился близко ни с кем, держал дистанцию.
Я могу его понять.
Постоянная и неизбежная скученность была одним из самый ужасающих бедствий в повседневной жизни Бухенвальда. Если мы опросим выживших — к счастью, немногочисленных! Ведь скоро мы дойдем до идеальной ситуации, к которой так стремятся историки: больше не будет свидетелей, или, точнее, останутся одни «настоящие, достойные доверия свидетели», то есть мертвые; скоро некому будет докучать экспертам своим «неудобным» опытом, Erlebnis, vivencia[39], своей смертью, которую они почти пережили, так что это скорее уже просто призраки, чем живые люди, — так вот, если мы спросим выживших или призраков, во всяком случае, тех, кто еще способен на ясный, не замутненный привычной жалостью к себе взгляд, возможно, голод, холод и недосып будут стоять на первом месте в категорической, безоговорочной классификации страданий.
Мне, однако, кажется, что те же выжившие, если привлечь их внимание к этой проблеме и оживить их память, согласятся, что скученность в бараках приводила к чудовищным последствиям. Она была скрытым посягательством на неприкосновенность личности, на внутреннюю свободу человека, хотя, наверное, менее грубым, менее очевидным, чем постоянные побои. Часто проявлялись гротескные, порой даже забавные стороны этой скученности, и это сбивало с толку, не позволяя до конца осознать ее ужасные последствия.
Я не знаю, как можно объективно измерить данную величину. Как просчитать последствия того факта, что любое проявление частной жизни осуществлялось не иначе как под взглядами других. И не важно, что взгляд этот, смотря по обстоятельствам, был то братским, то сочувствующим, — сам взгляд был невыносим. Нет ничего хуже жизни за стеклом, где каждый становится big brother другому.
Заснуть в этом всеобщем сопении, в миазмах дурного сна, храпе и стонах, в урчании желудков; испражняться на глазах десятков людей, так же как и ты, сидящих на корточках в сортире, — ни единого мгновения интимности, вся жизнь на виду, под пристальным взглядом чужих глаз.
В Бухенвальде, если вы были частью плебса во всем, что касалось повседневной жизни — как я, например, — было два способа отвлечься или на время смягчить невольную, конечно, но неизбежную агрессивность этого взгляда.
Во-первых, сбежать в мимолетное блаженство одинокой прогулки.
Это можно было себе позволить, когда кончилась зима, прошли снежные бури и дожди, — и в определенные часы. Во время полуденного перерыва, например. Или после вечерней переклички и до комендантского часа. Ну и конечно, после обеда в воскресенье.
Были любимые маршруты. Например, рощица вокруг бараков санчасти. Или широкая эспланада между кухнями и Effektenkammer, дарившая возможность полюбоваться деревом Гете, дубом, под которым, по концлагерному преданию, поэт любил отдыхать с этим идиотом Эккерманом и который эсэсовцы сохранили, чтобы подчеркнуть свое уважение к немецкой культуре!
Гулять следовало вдали от мест — какими бы обширными и приятными они ни казались, — слишком открытых взглядам часовых СС, которые стояли по периметру колючей проволоки на сторожевых вышках. Нужно было также избегать аллеи — хотя она и была хорошо укрыта от взглядов нацистов, — идущей вдоль крематория: в этом месте практически неизбежно эфемерное счастье одиночества, возвращения к себе разбивалось от встречи с тележкой, на которой перевозились трупы умерших за день.
Не то чтобы эта встреча удивляла: мы уже привыкли и к трупам, и к постоянному запаху крематория. В смерти для нас больше не было секрета, не было тайны. Никакой тайны, кроме самой банальной, известной во все времена и все же непостижимой тайны самой смерти, этого невыносимого (во всех смыслах) ухода.
Но зачем эти напоминания о постоянном присутствии смерти? Лучше уж прогуляться где-нибудь в другом месте.
Кроме прогулки, было только одно средство обмануть липкий страх постоянной скученности: читать наизусть стихи, громко или вполголоса.
Это средство имело большое преимущество перед моционом, хотя тот, несомненно, был гораздо полезнее для истощенного организма. Зато читать стихи можно всегда, в любую погоду, в любом месте, в любое время суток.
Достаточно всего лишь хорошей памяти.
Даже сидя на подпорке в сортире Малого лагеря; или проснувшись от наполненного стонами шума в спальном отсеке барака; или стоя в строю заключенных перед унтером-эсэсовцем, выкрикивающим имена; или в ожидании, пока староста барака стальной проволокой отрежет тонюсенький ломтик ежедневного маргарина, — в любых обстоятельствах можно было абстрагироваться от нынешней враждебности мира и забыться в музыке стихотворения.
В сортире, несмотря на зловоние и шумное опорожнение кишок вокруг, ничто не запрещало шептать утешительные строки Поля Валери.
«Ты, спокойный, будь — спокойный, / Груз познай ты пальмы стройной / С изобилием ее!»[40] или же «Какая сладость! Слава Богу, / Что ты лишь поступь тени, но / Ведь только так, на босу ногу, / Любое благо мне дано»[41].
Я не знаю, как Йозеф Франк боролся с ужасающими последствиями тесноты, с ее неизменными спутниками — непристойностью, вульгарностью, унижением. Он умел сохранить дистанцию, не впадая при этом в надменную грубость, как многие другие капо и Prominenten.
Именно его я попросил помочь нам в организации побега Марселя Поля. Он согласился.
— Но это останется между нами, — сказал он мне.
Между нами — отлично, это меня устраивало. Мне очень нравилась работа по-партизански.
— У меня есть для тебя новости от Пепику!
Юрий Зак пришел за мной во время переклички в предыдущее воскресенье.
Всего один коридор отделял Schreibstube, где он работал, от Arbeitsstatistik. В секретариате Зак был помощником капо, немецкого коммуниста. Тот часто болел, и Зак фактически руководил службой.
Это был молодой, высокий, слегка сутулый чех. За очками в стальной оправе прятался исключительно внимательный и умный взгляд. Все чехи в Бухенвальде были чем-то похожи между собой. По крайней мере те, кого я знал, на ответственных постах. Спокойные, внимательные, ровные. К тому же образованные, интересующиеся миром, происходящими вокруг событиями. Интересующиеся другими людьми, что встречалось еще реже.
Страстью Юрия Зака был джаз.
Ему удалось собрать небольшую группу музыкантов разных национальностей. Инструменты для оркестра нашли среди сокровищ Effertenkammer, главного склада, куда в течение многих лет попадало содержимое багажа заключенных из всех уголков Европы.
Со всей Европы, кроме, конечно, Великобритании, избежавшей, благодаря островному расположению и смелости, бедствий оккупации. Кроме Советской России, но совсем по другим причинам: невозможно было себе представить, чтобы у русского заключенного был хоть какой-нибудь багаж! Единственным багажом русских парней была поразительная жизнестойкость и порой спасительная дикость: мятеж в чистом виде против абсурдной низости положения вещей, иногда принимавший криминальные, мафиозные обличья.
Джазовый оркестр, созданный Юрием Заком, его концерты, или, гораздо чаще, что-то вроде джазовых импровизаций для своих, как правило, в воскресенье после обеда, стали для меня одним из самых чудесных, самых удивительных и драгоценных подарков судьбы.
Эта музыка, между прочим, была подпольной вдвойне.
Общавшиеся с заключенными унтеры СС смотрели сквозь пальцы на культурную самодеятельность, организованную заключенными разных национальностей по воскресеньям, а вот запретить джазовые импровизации им ничего не стоило — это же музыка негров!
Немецкие ветераны-коммунисты со своей стороны не отрицали, что им не нравится эта вырожденческая — утверждали они, — типичная для эпохи распада капитализма музыка. Может быть, они бы ее и запретили, если бы действительно были в курсе. Но Юрию Заку, который старался избежать конфликтов и бессмысленных споров, удалось устроить так, чтобы джазовые концерты проходили на границе законной системы — если так можно сказать! — культурной деятельности.
Конечно, не труба Луи Армстронга, но это было неплохо. Совсем неплохо, честное слово.
Когда я вошел в кинозал в воскресенье, за восемь дней до того, как происходили описываемые события, студент-норвежец начал первое соло «In the Shade of the Old Apple Tree». Вокруг него царило веселье. Маркович стал наяривать на саксофоне, ударник тоже разошелся. Они вступали каждый в свою очередь, принимали ритм и ограничения темы, тут же освобождались в согласованной импровизации, безостановочно ломая заданные изначально аккорды.
Юрий Зак был на седьмом небе от счастья, глаза его блестели за стеклами очков в стальной оправе.
Я вошел в это веселье, в это чувство безудержной свободы, которую давала мне — и до сих пор дает — джазовая музыка.
Увидев меня, Зак оставил музыкантов и направился ко мне.
Когда я вспоминаю его, сквозь толщу времени пытаясь возродить его образ, его черты, вызвать в памяти его фигуру, взгляд, походку, всегда всплывает именно этот миг: огромный, пустой, наполненный звуками джаза кинозал, несколько заключенных в углу, полукругом около юного трубача-норвежца — в Бухенвальде был блок, где жили студенты, попавшиеся во время облавы в Норвегии, я уж не знаю за что, их поселили отдельно от остальных заключенных и не гоняли на работы — вместе заиграли музыкальные темы; и высоченный Юрий Зак, сутулясь, идет ко мне.
А ведь я часто видел его в Бухенвальде и после того воскресенья.
Я снова встретил его много лет спустя, весной 1969 года. Я приехал в Прагу с Коста-Гаврасом, который все еще хотел снять «Признание» в Чехословакии. Шли споры, обсуждения: вскоре стало ясно, что съемки там невозможны. Жизнь постепенно устаканивалась — восстанавливали порядок после вторжения советских войск.
Я попросил друзей-киношников — тех, что еще не уехали за границу, — разыскать Юрия Зака. Они его нашли. Однажды вернувшись в гостиницу, я обнаружил записку: Зак будет ждать меня в таком-то месте в такое-то время. Это была квартира, окнами выходившая на Вацлавскую площадь. Зак поседел, но его взгляд не изменился, да и походка тоже. Его сопровождала невысокая, пожилая женщина, с лицом, похожим на печеное яблоко, — вдова Йозефа Франка, Пепику, нашего друга по Бухенвальду. Тот по возвращении из лагеря стал заместителем генерального секретаря Коммунистической партии Чехословакии и угодил в мясорубку сталинских процессов пятидесятых годов. Его обвинили в пособничестве гестапо. Под какими пытками он «сознался»? Его повесили вместе со Сланским, Геминдером и десятком других осужденных. Их прах был развеян на пустынной, заснеженной дороге — ни следа, ни могилы, ни памятника не должно было остаться.
В тот день в Праге весной 1969 года я напомнил Заку репетицию его джазового оркестра в бухенвальдском кинозале в декабрьское воскресенье 1944 года. Он вспомнил молодого норвежского трубача, но тему Армстронга забыл. «In the Shade of the Old Apple Tree»? Нет, он не помнил. Наверное, эта музыкальная тема не стала центром его воспоминаний, сердцевиной его жизни.
В отличие от меня.
В тот день в Праге в 1969 году я мог бы рассказать Юрию Заку всю свою жизнь вокруг этого отрывка из Луи Армстронга.
Летом 1943 года, когда мне исполнилось девятнадцать лет, я начал участвовать в подпольных акциях сети Фраже — «Жан-Мари Аксьон». Тогда я еще не жил в Жуаньи, не был постоянным членом сети. По нескольку дней я проводил в Йонне или Кот-д’Ор, где устраивал встречи и раздавал оружие, которое сбрасывали на парашютах англичане, или приводил в действие планы диверсии телефонных линий, железных дорог, шлюза на Бургундском канале. Потом возвращался в Париж.
Иногда мне случалось возвращаться всего на день, на какую-нибудь дружескую вечеринку. В велосипедной сумке, в которой я возил по местным дорогам свои рабочие инструменты, я прятал фальшивые бумаги на имя Жерара Сореля, садовника, родившегося в Вильнев-сюр-Йонне, брал настоящие документы испанца, проживающего во Франции, студента Сорбонны, и появлялся на празднике. Когда я входил, мои самые близкие друзья останавливали патефон и, на удивление обнявшимся парочкам, ставили пластинку Армстронга «In the Shade of the Old Apple Tree». Это было как приветствие, дружеский жест, понятный немногим.
Позднее в Мадриде, в антифранкистском подполье этот отрывок из Луи Армстронга тоже оказался связанным с важными эпизодами.
Но тогда в Праге в 1969 году, когда в чешском обществе после вступления советских войск начиналось новое похолодание, ничего этого я не рассказал Юрию Заку. Поэтому нет никакого повода рассказывать здесь все, что зашевелилось в моей памяти, в моей душе — если это не одно и то же — при воспоминании о Луи Армстронге.
Так вот, в кинозале, едва затихли вариации, импровизации на тему «Old Apple Tree», Юрий Зак пошел мне навстречу. У него было для меня сообщение от Франка.
Тот велел мне передать, что через несколько недель эсэсовцы создадут новую команду. Отряд для ремонта железных дорог, разбомбленных союзниками, заключенных будут перевозить на поезде. Эта мобильная группа будет работать на открытом пространстве, за ней будет тяжело уследить, ее невозможно по-настоящему оградить, так что, очевидно, этот отряд лучше любого другого подходит для серьезного плана побега.
Если французская компартия согласится на это предложение, надо немедленно принять меры, чтобы Марсель Поль и товарищи из его группы были включены в списки заключенных, которых должен был отобрать Франк.
Ладно, я передам это сообщение и ответ на него.
Норвежский студент начал другое соло для трубы. У него и в самом деле был талант.
Из всех возможных образов Юрия Зака, молодого чешского коммуниста в Бухенвальде, умершего на чужбине, в Гамбурге — установление сталинского режима заставило его покинуть Прагу вскоре после нашей последней встречи, — из всех возможных образов моя память всегда выбирает образ из того декабрьского воскресенья в кинозале в лагере, в тот день, когда мы слушали молодого норвежского трубача, отважившегося сыграть соло из Армстронга.
Но не слышно было «In the Shade of the Old Apple Tree», пока я брел по коридорам Revier следом за Эрнстом Буссе. Ни даже «On the Sunny Side of the Street». Это был даже не голос Зары Леандер с «Der Wind hat mir ein Lied erzählt…». Мы слышали только глухой шум плаца, звуки лагерного оркестра, резкие команды унтеров СС.
* * *
— Ты знаешь посла Франко в Париже? — сухо спросил Вальтер Бартель.
Естественно, вопрос застал меня врасплох — даже челюсть отвисла. Но одновременно в мозгу что-то щелкнуло: кажется, я догадался, к чему он клонит.
Эрнст Буссе привел меня в свой кабинет в Revier. Бартель уже был там, сидел за столом. Буссе присоединился к нему. Был и третий стул, наверное, чтобы получилась традиционная тройка, коминтерновская святая троица. Но он остался пустым.
Трибунал. Эта мысль вполне естественно пришла мне в голову, особенно когда Бартель властным жестом приказал мне сесть на табурет напротив них.
И только тогда я заметил в кабинете Каминского и Ньето.
Каминский пытался держаться непринужденно, словно случайно попал сюда. Он мог бы читать газету, если бы где-нибудь поблизости завалялся номер «Völkischer Beobachter», чтобы подчеркнуть свою незаинтересованность. Что же до Хаиме Ньето — старосты подпольной организации испанской компартии в Бухенвальде, — у него был недовольный вид. Я не мог угадать, был ли он недоволен тем, что его подчеркнуто оттеснили на второй план, усадили отдельно от Бартеля и Буссе, или просто тем, что оказался здесь.
Допрос начал Вальтер Бартель. Естественно, ведь он был главным.
О Бартеле я должен сказать пару слов.
Мне случается иногда выдумывать героев своих книг. Или — если это реальные люди — давать им в своих произведениях вымышленные имена. Причины на это разные, но они всегда оправданы литературной необходимостью, соотношением правды и правдоподобия.
Так, Каминский — имя вымышленное. Однако герой этот наполовину реален. Возможно, в главном. Немец из Силезии, со славянской фамилией (я изменил его собственную на Каминский из-за «Черной крови» Гийу[42]), бывший боец интербригад, интернированный в лагерь в Гюре в 1940 году и выданный нацистской Германии правительством Виши, — это все правда. Но к этой правде я добавил биографических и психологических элементов от других людей, других немецких заключенных, которых я знал.
Мне казалось неприличным сохранить его настоящее имя, тогда как в моем романе он говорит слова, которых никогда не произносил, по моей воле высказывает мнения, которых никогда не разделял. Я должен был, по крайней мере, сохранить его свободу, его право отмежеваться от этого персонажа, если он еще жив.
В этом случае вымышленное имя Каминский до некоторой степени защитит его, если он не узнает или не захочет узнать себя в этом портрете.
В случае с Вальтером Бартелем и Эрнстом Буссе дело обстоит иначе.
Мне было совершенно необходимо сохранить их настоящие фамилии и подлинные имена. Каким бы ни было их место в повествовании, в данном случае меня интересует историческая правда. Потому что Бартель и Буссе — реальные лица. Исследователи, специалисты по истории концентрационных лагерей вообще и Бухенвальда в частности уже наткнулись или скоро наткнутся на их имена. Архивные документы, где они упоминаются, уже опубликованы, другие наверняка будут опубликованы позднее. Исследователям еще предстоит определить их роль в истории Бухенвальда и в коммунистическом режиме Восточной Германии.
Даже если сцена, о которой я вспоминаю, будет рассказана со всей возможной точностью, глубинная правда была бы разрушена или подпорчена, если бы я по недосмотру или легкомыслию дал Бартелю и Буссе вымышленные имена. Или побоялся бы взять на себя ответственность включить их под настоящими именами в рассказ о событиях, доказательств которых я не могу привести, так как все свидетели мертвы.
Все, кроме меня, естественно. Во всяком случае, сейчас, когда я пишу эти строки, я еще жив — пятьдесят шесть лет спустя после описываемых событий, почти день в день.
Впервые Бартель говорил со мной.
Естественно, я знал его в лицо. Он иногда заходил поговорить с Зайфертом с глазу на глаз в его небольшую каптерку в Arbeit. Это был невысокий блондин лет сорока с румяным, подвижным лицом, полным жизненной силы. Он не носил ни одну из нарукавных повязок, отличавших высших чинов из внутренней администрации лагеря. Ни капо, ни Vorarbeiter, ни Lagerschutz. Наверняка формально он был прикомандирован к какому-нибудь общему отряду по снабжению, поэтому беспрепятственно ходил по всему лагерю.
Даже без внешних признаков власти его полномочия были очевидны.
Именно он начал допрос — так как, похоже, речь шла именно о допросе.
— Ты знаешь посла Франко в Париже? — без предисловий спросил он.
— Я с ним не знаком, — ответил я, едва придя в себя от изумления. — Но я его знаю!
— Какая разница? — рявкнул он, пожав плечами.
— Огромная, — уточнил я. — Ни один из вас, конечно, не знаком в Риббентропом… Но вы все его знаете!
Взгляд Вальтера Бартеля потемнел. Он не любил таких шуток.
Краем глаза я наблюдал за остальными. Ньето одобрительно кивнул. Каминский старался казаться безразличным, но в его взгляде сквозило дружелюбие. А Эрнст Буссе вообще не проявлял интереса к происходящему.
— Вот именно, Риббентроп! — вскричал Бартель.
Это восклицание повисло в воздухе. Бартель вернулся к своей мысли:
— Стало быть, ты знаешь посла Франко в Париже!
— Я знаю, кто это, вот и все! Хосе Феликс де Лекверика. Баск, католик, франкист. Мой отец тоже католик, но антифранкист, левый либерал, дипломат Республики. Хосе Мария де Семпрун Гурреа! До гражданской войны, возможно, наши семьи общались. По крайней мере, знали друг друга. Наверное, встречались, вполне возможно.
Бартель увидел в моем ответе лишь подтверждение своей идеи.
— Так ты знаешь семью франкистского посла?
Смутно помню, что я раздраженно пожал плечами.
— Не я, мой отец! Может быть… И это было до гражданской войны!
— Не ты, твой отец! — взорвался Бартель. — Это тобой интересуется франкистский посол в Париже!
Я и так уже почти догадался, о чем идет речь. В том запросе из Берлина, который они смогли прочесть целиком только сегодня утром, до того как отправить в гестапо Бухенвальда, требовали сведений обо мне от имени посла Франко в Париже Хосе Феликса де Лекверики.
Я прекрасно представлял себе, как это произошло.
Волнуясь, что не получает от меня писем (вся переписка с родными, разрешенная раз в месяц, исключительно по-немецки и с цензурой была прервана с освобождением Франции в августе 1944 года), мой отец наверняка пытался связаться со своим старым знакомым — ныне послом Хосе Феликсом де Лекверикой. И тот, в течение войны склонившийся на сторону союзников, счел небесполезным и вполне уместным пойти навстречу моему отцу и разузнать обо мне по дипломатическим каналам.
— Итак, — мягко произнес Бартель, — тебя не удивляет, что франкистский посол интересуется тобой?
Он так просто от меня не отстанет, понял я.
— Меня не удивляет, что мои родные пытаются узнать, что со мной!
Но Вальтер Бартель не давал сбить себя с намеченного пути:
— Что фашистский посол наводит справки о здоровье коммуниста — это тебя не удивляет?
— Если его попросил разузнать обо мне мой отец, то он наверняка не сказал послу, что я коммунист… Он, скорее всего, говорил о Сопротивлении вообще. И потом, моя сеть даже не голлистская, она зависит от британских служб…
Сказать ему такое было ошибкой, я тут же прикусил язык. Невольно я дал новый повод для тревог и подозрений.
Неожиданно Бартель взорвался:
— Британских? Так ты британский агент?
Но тут решительно вмешался Хаиме Ньето.
Каминский подтверждал его слова. Они просили не терять времени: все эти вопросы мне уже задавали, когда я только прибыл в Бухенвальд. Все было тщательно проверено: мои связи с подпольной испанской компартией в Париже, контроль «Рабочих иммигрантов» за моей деятельностью и прочее.
Вальтера Бартеля это не удовлетворило. Кажется, он предпочел бы поглубже вникнуть в эту тему.
— Итак, мы установили, что твой отец общается с фашистским дипломатом в Париже!
Я пожал плечами: действительно, установили. Мой отец — или кто-то от его имени — связался с Хосе Феликсом де Лекверикой, чтобы попросить его вмешаться, постараться узнать что-нибудь обо мне. Мне не хотелось спорить с Бартелем. Я вспомнил более чем скромную, едва пригодную для жилья, в некотором роде вредную для здоровья квартирку, где жил мой отец в Сен-При «на холме, соединяющем Молиньон и Сен-Лё». Я вспомнил, что этот «буржуй» кое-как перебивался уроками, которые давал в религиозном колледже неподалеку. Я вспомнил трехцветный флажок Испанской республики, висевший на стене в его комнате.
В конце концов после очередного вмешательства Хаиме Ньето Бартель признал, что меня нельзя считать ответственным за то, что мой отец, вероятно, обратился к Хосе Феликсу де Лекверике.
Допрос был окончен. Меня отправили обратно в лагерную жизнь.
Вальтер Бартель язвительно бросил напоследок:
— Подумать только, мы пошли на риск, чтобы защитить тебя! Мы даже нашли подходящего покойника… И все из-за чего? Из-за запроса франкистского посла в Париже, адресованного Риббентропу!
Тут уж мне было что ответить.
Я напомнил ему, что это немецкая партия решила спрятать меня в санчасти. Если бы меня послушали, если бы мы дождались сегодняшнего дня, понедельника, чтобы узнать целиком содержание запроса из Берлина, никакой проблемы бы не было. Я же сказал, что не может быть ничего серьезного!
На это он не смог возразить. Заседание было окончено.
Эпилог
Тот вечер мы провели с Юрием Заком. Вдова Йозефа Франка ушла. Мы слышали ее шаги, удаляющиеся в сторону трамвайной остановки на Вацлавской площади. Она была невысокая, хрупкая, почти седая — тень среди теней.
Стояла весна, Прага была красива.
Прага всегда красива, в любое время года, это общеизвестно. Но ее весенняя красота — особенная. Несмотря на вторжение советских войск, постепенное, систематическое установление режима, воздух свободы еще ощущался на улицах, в цветущих садах.
И пока еще на лицах. Особенно на лицах женщин.
Воздух свободы, вызова — может быть, последнее дуновение.
Я зашел в гостиницу оставить записку Коста-Гаврасу и Бертрану Жавалю, продюсеру «Признания»: встретимся завтра. Должны были состояться окончательные переговоры с директором студии «Барандов».
Потом мы с Заком долго гуляли по Праге.
Под вечер мы присели выпить пива и поесть жареных колбасок на свежем воздухе, на берегу реки.
Нет, Зак не помнил о Луи Армстронге. Я хочу сказать, он не помнил, что именно отрывок из Луи Армстронга играл норвежский студент в то далекое воскресенье.
«In the Shade of the Old Apple Tree».
Напоминание о бухенвальдском кинозале, о трубе Армстронга навело его на мысль. Он пригласил меня в кабачок в Старом городе, где играли хороший джаз. Уже стемнело, мы выпили пльзенского, потом сливовицы. Пить водку Зак отказался.
Позже пришли музыканты, все здоровались с Юрием Заком. Интересно, знали ли они о существовании оркестра в Бухенвальде? Скорее всего, нет, Зак был человеком сдержанным. Они начали играть. Сначала каждый сам по себе, разогревались они медленно.
С первыми чуть более слаженными аккордами Зак напомнил мне о ночи, которую я провел в Revier в декабре 1944 года.
В понедельник вечером, когда я занял свое место в главной картотеке в Arbeitsstatistik, в конце барачного коридора из Schreibstube появился Зак.
— У меня завтра встреча с лейтенантом СС в Politische Abteilung, — сообщил он мне. — По поводу тебя!
— Я даже знаю почему!
Он удивился, я рассказал ему свою не слишком длинную историю: запрос из Берлина, решение партии, с которым я не был согласен, ночь, проведенная рядом с Франсуа Л. Я довольно долго рассказывал ему о Франсуа. И чем все закончилось — история про подозрения Бартеля его позабавила.
— И ведь он совсем не идиот, далеко не идиот! — воскликнул Зак. — Заметь, его удивление по поводу того, что испанского посла волнует твоя судьба, вполне понятно!
— Его не волнует, — возразил я. — Он просто сослужил службу человеку из противоположного лагеря! Но этот противоположный лагерь скоро выиграет войну…
В общем, я объяснил ему конкретные обстоятельства. Зак остановил меня:
— Да брось ты! Что я, не понимаю, что ли? Конкретные обстоятельства, что тут непонятного!
Двадцать пять лет — четверть века — спустя в Праге нас интересовали другие вопросы.
— Ты не знаешь, что сталось с Эрнстом Буссе и Вальтером Бартелем?
Он мрачно посмотрел на меня и вдруг словно языка лишился.
Время шло, молчание начало меня тяготить. Я хочу сказать, молчание между нами, потому что kavárna уже была полна народу, дыма, музыки.
— Ты не знаешь? — наконец спросил он.
После очень долгой паузы.
Нет, я не знал, откуда мне было знать?
В начале пятидесятых годов Эрнста Буссе и Вальтера Бартеля засосала убийственная круговерть последних сталинских процессов. После того как в Праге Йозефа Франка приговорили к смертной казни, снова были открыты процессы бухенвальдских коммунистов. Советские чиновники, рассматривавшие подобные дела в «братских странах», признали выживших в лагере виновными. Главным пунктом в официальном обвинении шло «сотрудничество с врагом». Так, Йозефа Франка заставили «признаться», что в Бухенвальде он сотрудничал с гестапо. Однако эти люди были виновны в другом преступлении: в европейских движениях Сопротивления, начиная с гражданской войны в Испании, они жили, боролись, совершали поступки на свой страх и риск, без советов Москвы.
Эрнсту Буссе не повезло. Процесс вели советские оккупационные власти. Он признал военные преступления против русских заключенных, которые совершил, воспользовавшись своим положением в санчасти. Он был осужден, отправлен в ГУЛАГ. Умер в Воркуте в 1952 году.
Вальтеру Бартелю повезло больше. Прежде всего потому, что его процесс вели не советские власти, а органы госбезопасности ГДР. А главное, потому, что Бартель упрямо отказывался сотрудничать со своими обвинителями, партийными инквизиторами. Он последовательно защищал свои политические взгляды, соглашаясь, что допускал ошибки, но не признавая ни одного преступления, в которых его обвиняли.
— А сейчас, — сказал мне в заключение Юрий Зак той весенней ночью в Праге 1969 года, — он преподает современную историю в Университете Гумбольдта!
И тогда в шуме и сигаретном дыму джазового кабачка мы подняли стаканы и чокнулись за здоровье Вальтера Бартеля.
— Рот фронт! — воскликнул Юрий Зак.
И я ответил ему:
— Рот фронт!
«Красный фронт»! Когда-то, в великую и жалкую пору восторженности и фанатизма, это был лозунг немецких коммунистов, призыв к последнему и решительному бою, апокалиптический приказ: класс против класса!
За соседним столиком очень молодая девушка, очень белокурая и очень красивая, бросала на нас возмущенные взгляды. Она обратилась к Заку. Тот ответил ей спокойным, медленным, хорошо поставленным голосом педагога, бойца, выжившего в Бухенвальде. Наверно, он объяснил ей, почему мы кричим «красный фронт».
И она подняла свой стакан и чокнулась с нами. Правда, настоящая красавица.
Гораздо позднее, когда мы уже изрядно набрались — а музыка становилась все лучше, исполнение все более мастерским и одновременно более спонтанным, — Юрий Зак, с которым так приятно выпить и повспоминать, наклонился ко мне:
— Вот ты писатель, написал бы продолжение «Долгого пути»…
Он, естественно, произнес «Grosse Reise» — мы говорили по-немецки. И книгу мою он читал по-немецки.
— Рассказал бы об этой ночи в Revier, которую ты провел рядом со своим мусульманином. И обо всем, что происходило вокруг… И про Буссе с Бартелем тоже!
Может быть, я много выпил тогда, но мне показалось, что это мысль.
Примечания
1
Внутренняя полиция лагеря, выбранная из заключенных-немцев. (Здесь и далее примеч. переводчика).
(обратно)2
Невероятно (нем.).
(обратно)3
Невероятно (исп.).
(обратно)4
Санчасть (нем.).
(обратно)5
Рабочая статистика (нем.).
(обратно)6
В 1939 году в связи с возобновлением массовых арестов количество лагерей было увеличено за счет создания так называемых «вспомогательных лагерей» или «внешних командировок», административно подчинявшихся главным лагерям. К Бухенвальду было приписано около 80 лагерей. Вспомогательные лагеря часто находились довольно далеко от главного.
(обратно)7
Анри Фраже в декабре 1942 года создал ячейку «Жан-Мари Аксьон» в сети «Букмастер», которой руководил до своего ареста 2 июля 1944 года. Отправлен в Бухенвальд, расстрелян 4 октября 1944 года.
(обратно)8
Одна из ячеек «Букмастера». В 1940 году по предложению Черчилля было создано «Исполнение спец-операций» (Special Operation Executive, SOE) — организация, которая должна была организовывать саботажи и помогать партизанам на оккупированных нацистами территориях. «Букмастер» — французское отделение SOE, которым руководил полковник Морис Букмастер.
(обратно)9
«Букмастер», в свою очередь, подразделялся на три типа ячеек — «действие», «информация» и «побег».
(обратно)10
MOI (Main d’Oeuvre Immigrée) — объединение коммунистов-иностранцев во Франции.
(обратно)11
Авторитет — лагерный термин по отношению к тем, кто добился привилегированного положения (нем.).
(обратно)12
Морис Хальбвакс (1877–1945) — французский математик и социолог.
(обратно)13
Анри Масперо (1883–1945) — французский синолог.
(обратно)14
Строки из стихотворения в прозе Рембо из цикла «Proses évangéliques», пер. Е. Кассировой.
(обратно)15
Склад одежды (нем.).
(обратно)16
Артюр Рембо, «Воспоминание».
(обратно)17
Строки из «Лесного царя» Гете, «Лорелеи» Гейне и «Манифеста Коммунистической партии».
(обратно)18
Испанский поэт и художник (р.1902).
(обратно)19
У. Фолкнер, «Авессалом, Авессалом!», пер. М. Беккер.
(обратно)20
Ночь с 9 на 10 ноября 1938 года, когда по всей Германии прокатилась волна спровоцированных нацистами еврейских погромов.
(обратно)21
Иоахим Патинир (или Патеньер, ок. 1480–1524) — нидерландский художник.
(обратно)22
Я со смертью встречусь прежде, / Чем увижу башни Кордовы. Кордова / одна на свете.
(обратно)23
Хоть известен путь, а все же / Не добраться мне до Кордовы. (Ф. Г. Лорка, «Песня всадника», пер. Я. Серпина).
(обратно)24
Гражданская гвардия — жандармерия, созданная в Испании в 1844 году для поддержания порядка в сельской местности.
(обратно)25
Тоска цыганского сердца, / Усни, сиротство изведав. / Тоска заглохших истоков / И позабытых рассветов… (Ф. Г. Лорка, «Романс о черной тоске», пер. А. Гелескула).
(обратно)26
Празднество с раздачей подарков у американских индейцев.
(обратно)27
Игра слов: распространенные французские фамилии, произошедшие от цветов: noir — черный, brun— коричневый, blanc — белый, roux — рыжий, gris — серый.
(обратно)28
Манифест, опубликованный 1 января 1977 года гражданами Чехословакии в защиту прав человека в стране.
(обратно)29
Народный обозреватель (нем.).
(обратно)30
Пер. Л. Мееровича.
(обратно)31
Вечная женственность (нем.).
(обратно)32
Лорка, «Это правда», пер. В. Столбова.
(обратно)33
Schonung — пощада, бережное отношение (нем.).
(обратно)34
Военное ополчение, созданное в январе 1943 г. правительством Виши.
(обратно)35
Жозеф Дарнанд — с 1943 г. глава вишистской милиции.
(обратно)36
«Добрые мысли поутру», пер. Н. Банникова.
(обратно)37
«Молодая гвардия», «Вишня в цвету» (.фр.), «Войско у берегов Эбро» (исп.).
(обратно)38
Пер. С. А. Ошерова.
(обратно)39
Пережитое (нем., исп.).
(обратно)40
«Пальма», пер. С. Шервинского.
(обратно)41
«Шаги», пер. С. Петрова.
(обратно)42
Роман французского писателя Луи Гийу (1899–1980) «Черная кровь» (1935) посвящен Первой мировой войне.
(обратно)

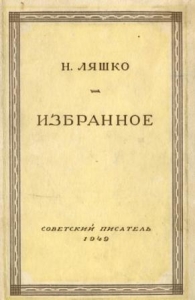

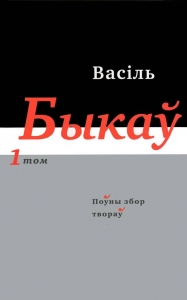



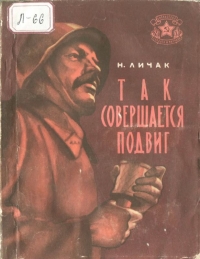

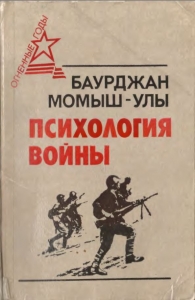


Комментарии к книге «Подходящий покойник», Хорхе Семпрун
Всего 0 комментариев